Рэй Брэдбери Полуночный танец дракона
Посвящения
Дональду Харкинсу – моему дорогому другу,
которого всегда люблю и помню.
Также посвящаю эту книгу
ФОРРЕСТУ ДЖ. ЭКЕРМАНУ,
который в далеком 1937 году выгнал меня из колледжа,
вынудив заняться писательством.
Первый день
Заветное число настигло Чарльза Дугласа за завтраком – когда он заглянул в газету. Он откусил тост, на всякий случай вгляделся в число еще раз – и медленно опустил газету на стол.
– Ну, надо же! – сказал он.
– Что такое? – слегка вздрогнув, отозвалась его жена Элис.
– Сегодня то самое число. Четырнадцатое сентября.
– Что значит – то самое? – спросила она.
– Первый день занятий в колледже!
– И что дальше?
– Первый день… Когда все встречаются после каникул.
Элис настороженно следила за тем, как он встает из-за стола.
– И что?
– Да-да, все правильно – сегодня первый день…
– А мы-то тут при чем? – спросила она. – Детей у нас нет, знакомых учителей тоже… Даже друзей, у которых есть дети, тоже нет.
– Да-да, конечно. Просто… – Голос Чарли дрогнул, он снова взял газету в руки. – Я обещал…
– Что обещал? Кому?
– Нашей компашке обещал, – сказал он, – давно, много лет назад… Сколько сейчас времени?
– Полвосьмого.
– Надо спешить, – сказал он. – А то опоздаю.
– Кофе еще будешь? По-моему, ты слишком разволновался. В зеркало посмотри на себя…
– Надо же, я все-таки вспомнил! – Он смотрел, как кофе льется в его чашку, наполняя ее до самых краев. – Вспомнил про наш уговор. Росс Симпсон, Джек Смит, Гордон Хайнс… Мы же все поклялись – чуть ли не на крови. Что встретимся в первый день через пятьдесят лет после окончания колледжа.
Жена выпрямилась и наконец-то оставила в покое кофейник.
– Что, прямо в сентябре 1938 года поклялись?
– Да, прямо 38-го.
– И что же, эти Росс, Джек и… как его?
– Гордон!
– Просто вот так взяли и…
– Нет, не просто. Мы же знали, что разлетимся по свету и, может быть, встретимся только через много лет, а может, вообще никогда не встретимся… И мы все торжественно поклялись, что, несмотря ни на какие преграды, обязательно вспомним и приедем, пусть даже для этого придется пересечь весь земной шар… И встретимся на школьном дворе, возле флагштока, в 1988 году.
– И что, вы все прямо дали друг другу такое обещание?
– Не просто обещание – клятву… Господи, что же я тут сижу – я ведь уже давно должен быть в машине.
– Чарли, – сказала Элис, – ты хоть понимаешь, что до твоего колледжа отсюда – километров шестьдесят?
– Пятьдесят.
– Ну, пятьдесят. Допустим, ты выезжаешь сейчас, и…
– К полудню уже буду на месте. Или даже раньше.
– Знаешь, как это выглядит со стороны, Чарли?
– Ну, давай, давай, – сказал он, – расскажи мне, ты же, как всегда, знаешь все наперед.
– А представь, вот ты припрешься туда – а там никого нет?
– То есть как это никого? – срывающимся голосом воскликнул он.
– Так это – никого! Вдруг ты один такой идиот, который принял все это всерьез и…
– Не может быть, они обещали! – оборвал ее он.
– Но с тех пор прошла целая жизнь!
– Они – обещали!
– А если они передумали – или просто забыли?
– Они не могут забыть.
– Почему это?
– Потому что это были самые лучшие на свете парни, это были лучшие мои друзья, навсегда. Ни у кого в мире нет и не было больше таких друзей.
– Ах ты господи, боже мой! – пропела она. – Святая простота.
– Это я – святая простота? Но, послушай, ведь я-то вспомнил – и они, между прочим, тоже могли вспомнить!
– Нет, не могли. Для этого надо быть таким же чокнутым на всю голову, как ты!
– Спасибо за комплимент.
– А что, скажешь, я неправа? Да ты зайди к себе в кабинет… Паровозики «Lionel», машинки «Mr. Machines», мягкие игрушки, постеры!
– И что?
– А папки с письмами? Это у меня письма 60-х, это – 50-х, это – 40-х… Господи, когда ты только соберешься их выкинуть…
– Это не просто письма.
– Это тебе они – не просто. А все эти твои друзья и незнакомцы по переписке – думаешь, они тоже хранят твои письма, так же как ты – их?
– Я, между прочим, пишу интересные письма.
– Да, да, очень интересные. А ты попробуй, обзвони своих адресатов – и попроси переслать их тебе обратно, хотя бы одно. Как ты думаешь, сколько тебе пришлют?
Он молчал.
– Правильно: ни хрена не пришлют! – сказала она.
– Совсем не обязательно так выражаться, – заметил он.
– А что, «хрен» – это теперь ругательство?
– В твоем исполнении – да.
– Чарли!
– И не «чарли» меня!
– А тридцатилетний юбилей театральной студии, на который ты поперся, чтобы встретиться с какой-то там Салли – или еще черт знает с кем? А эта чувырла даже не вспомнила, кто ты такой!
– Ну, давай вытащи теперь все… – сказал он.
– Господи боже мой! – вздохнула она. – Нет, ты, пожалуйста, не подумай, что я решила испортить тебе праздник. Просто… не хочу, чтобы ты опять страдал.
– Ничего, у меня толстая кожа.
– Знаю, знаю… Строишь из себя слона, а сам охотишься на стрекозок.
Он уже стоял на изготовку. С каждой ее новой фразой он как будто становился выше ростом.
– Это будет славная охота… – сказал он.
– Ну-ну… – то ли со вздохом, то ли со всхлипом отозвалась она. – Значит, поедешь.
– Да, мне пора.
Она посмотрела на него долгим взглядом.
– Ладно, я пошел.
И дверь закрылась.
Почему-то у него было чувство, будто скоро Новый год.
Он рванул с места, потом опомнился, отпустил газ – и стал жать постепенно, пытаясь синхронизировать шум мотора с шумом в голове.
…Или – как будто только что закончился Хеллоуин и все разъезжаются по домам после вечеринки.
Очень странное ощущение.
Он ехал в хорошем темпе, но при этом то и дело посматривал на часы. Времени был еще вагон, он прекрасно успевал до обеда.
А почему, собственно, до обеда? Зачем? Может, Элис права? Сорвался, как мальчишка, неизвестно куда, неизвестно зачем. «Я обещал, мы поклялись…» Кто они мне, собственно говоря? Какие-то далекие персонажи из детства. Что с ними стало сейчас, вообще непонятно. За столько лет – ни писем, ни телефонных звонков, ни случайных встреч в стиле «мир тесен», ни сообщений о кончине… Хотя это как раз интригует! Ради этого стоит давить на газ. И умирать от нетерпения. Он хохотнул вслух. «Ну, когда же… ну, когда же?!» В детстве они постоянно так говорили. Тогда было много поводов умирать от нетерпения. Например, каждый раз – ждать миллиарды лет до Рождества. Или до Пасхи… Хотя до Пасхи – нет, всего пара миллионов, не больше. А Хеллоуин? Старый добрый Хеллоуин – кругом тыквы, все бегают, орут, долбят друг другу в окна, звонят в звонки, а ты дышишь в горячую маску, и она пахнет картоном. День Всех Святых! Самый любимый. Когда-то. А как мы ждали Четвертое июля – надо было раньше всех проснуться, раньше всех кое-как что-то на себя нацепить, первыми выбежать на лужайку и взорвать к чертовой матери весь город с помощью шестидюймовых фейерверочных шаров… Да, все-таки Четвертое июля. Оно – самое крутое! Самое-пресамое – ну, когда же.
Хотя, наверное, в те времена все дни были такие – «ну, когда же». И дни рождения, и поездки на озеро, и фильмы с Лоном Чейни[1]. И горбун Квазимодо, и Призрак оперы… Все такое, что «ну, когда же, когда же?!». Я и сейчас бы не отказался копать в овраге землянки. И чтобы фокусники приезжали каждый год. Прямо сейчас рванул бы жечь бенгальские огни. Вот прямо в эту же секунду! Ну, когда же?!
Он сбавил ход, чтобы лучше рассмотреть Время, сквозь которое ехал.
Теперь уже недалеко. Недолго осталось. Старина Росс! Дружище Джек! Гордон… ну, это Гордон. Мы же банда. Кто на нас? Настоящие три мушкетера. Нет, даже не три – четыре, если вместе со мной.
Мысленно он огласил весь почетный список. Первым в нем шел, конечно, Росс: он считался старшим, хотя все мы были одного возраста. Этот был уж точно самый шустрый щенок в нашем помете. И самая светлая голова. По учебе шел лучше всех, при этом никогда не задавался. Читал все подряд. По средам слушал шоу Фреда Аллена[2], а наутро пересказывал нам лучшие шутки. Несмотря на бедность, любил красивую одежду. У него был всего один галстук, один ремень, один пиджак, одна пара брюк, но все всегда отличного качества. И всегда чистое и выглаженное. Это по поводу Росса.
Дальше Джек – будущий писатель, который типа собирался завоевать весь мир и стать величайшим в истории. Так, во всяком случае, он провозглашал, а точнее, вопил на всех углах. Таскал в карманах пиджака не меньше шести ручек и знаменитый желтый блокнот, благодаря которому «Стейнбек однажды перестанет быть Стейнбеком». Вот такой был Джек.
Ну, и Гордон, который перемещался по кампусу исключительно по штабелям девиц, визжащих от восторга, не прикладывая для этого никаких усилий. Ему достаточно было мигнуть – и они падали под ноги, как перезрелые яблоки.
Росс, Джек, Гордон – привет, друганы!
Он разогнался было, но снова притормозил.
Интересно, а что они подумают про меня? О, братец, да ты крут! А насколько я крут – и крут ли я вообще? Девяносто рассказов, шесть романов, один фильм, пять пьес – в принципе не так уж и плохо… Да нет, к черту, лучше вообще не буду ничего им рассказывать, вот еще – пусть про себя рассказывают, а я послушаю.
Ну, вот, допустим, встретились мы у флагштока. И что мы друг другу скажем? Привет! Здорово! Боже, какая встреча! Мы все-таки собрались! Как сам, как здоровье, что нового? Давай колись: что у тебя там? Жены, дети, внуки, фотки и все такое…
А, да ты писатель? Давай-ка изобрази нам что-нибудь, приличествующее моменту. Стишок какой-нибудь. Хотя нет, стихи – вряд ли это теперь актуально. Ну да, пожалуй, это было бы слишком. «Я вас люблю – всех вас троих…» Или что-нибудь типа: «Я бесконечно вас люблю…»
Он еще сильнее сбросил скорость, вглядываясь вперед, в призрачные тени за ветровым стеклом.
А если они вообще не приедут? Да нет, вряд ли. Должны. Нет, они все будут на месте, и все будет хорошо. Я понимаю, если бы жизнь у них не удалась – какие-нибудь там несчастливые браки и все прочее, – тогда бы они не приехали. Такие парни, как они – точно нет. Ну а если все хорошо, даже не просто хорошо, а классно – почему бы и не приехать? Хотя бы для того, чтобы доказать: вот смотрите, у меня все хорошо, я все вспомнил и приехал. Веришь не веришь? Верю!
Он снова решительно надавил на газ – надо спешить, раз все уже собрались. Потом опять притормозил – в приступе ужаса, что там его никто не ждет. Потом еще раз газанул. Черт знает что. Это просто черт знает что!
И так въехал во двор колледжа. Как ни парадоксально, там даже нашлось место для парковки. У флагштока толклись студенты, но их было до обидного мало. Явно недостаточно, чтобы затеряться и сделать вид, что никто тут и не собирался никому назначать встречу. Ведь его друзьям-старперам вряд ли хотелось бы приехать и торчать тут у всех на виду? По крайней мере ему уж точно не хотелось. Гораздо лучше лениво разгрести толпу и явиться на место последним: встречайте, главная интрига нашего праздника!
Он отсиживался в машине до тех пор, пока из колледжа не высыпала толпа девушек и молодых людей, которые все одновременно что-то болтали. Они, о счастье, остановились как раз возле флагштока, а значит, теперь все вновь прибывшие – неважно, какого возраста, – могли незаметно затесаться в их ряды. Он вылез из машины и некоторое время боялся смотреть в сторону флагштока. А вдруг там никого нет? Никто не приехал, никто ни о чем не вспомнил. Это было бы так тупо… Он с трудом удержал себя от соблазна запрыгнуть обратно в машину и уехать.
Под самим флагштоком никого не было. Студенты толпились вдоль, поперек и вокруг него, но прямо под ним – никого.
Некоторое время он гипнотизировал флагшток взглядом, как будто это могло заставить кого-нибудь сдвинуться с места и подойти к нему поближе. Сердце почти не билось. Он зажмурился и почувствовал острое желание немедленно уехать.
Как вдруг от края толпы отделился какой-то человек. Это был явно не молодой человек, судя по походке, цвету лица и абсолютно седой голове. Да, это был старик.
А потом еще два – примерно таких же.
Господи, неужели это они? Значит, все-таки вспомнили… И что теперь делать?
Так они и стояли широким кругом, отдельно друг от друга – молча, не двигаясь и пряча взгляды. Стояли, казалось, целую вечность.
Росс, Матерь Божья, неужели это ты? А вот этот, кажется, Джек… А тот, еще один, значит, Гордон?
У всех троих было примерно одно и то же выражение лица – как будто всех одновременно посетили одни и те мысли.
Чарли чуть подался вперед. И все остальные чуть подались вперед. Чарли сделал крохотный шажок. И остальные трое сделали. Чарли со всеми переглянулся. И все остальные обменялись взглядами. А потом…
Чарли сделал еще один шаг. Назад. И все остальные, не сразу, но тоже сделали. Чарли замер, как будто чего-то ждал. И старички тоже ждали. Глядя, как на высоком шпиле полощется флаг.
Где-то в глубине школы прозвенел звонок. Это закончился перерыв на ланч – студентам пора было расходиться на уроки. За пару минут их как волной смыло.
Как только из сквера схлынула толпа, служившая друзьям маскировочным укрытием, они остались стоять вчетвером, метрах в пятнадцати друг от друга. Как будто посреди освещенного солнцем осеннего двора расположился огромный компас с центром в виде флагштока и четырьмя полюсами в виде людей.
Так они и стояли: один облизывал губы, другой щурился, третий переминался с ноги на ногу. И было видно, как ветер теребит их седые шевелюры – тот же ветер, который едва не срывал с флагштока флаг. Наконец в здании школы прозвенел еще один звонок. И по звуку он был какой-то очень… последний.
Чарльза так и подмывало что-нибудь сказать. Но он молчал. А губы, независимо от его воли, шептали их имена. Эти дивные, эти любимые имена, которые, конечно, никто, кроме него, не услышал…
Ему не хватало решимости. Поэтому, стоило нижней части туловища сделать поползновение к отступлению, ноги тут же последовали за ней. В итоге он весь, целиком, развернулся и вышел за пределы компаса.
Следом за ним стоявшие под ветром пришельцы на других полюсах тоже зашевелились: один за другим, они тоже отступили на шаг и заняли выжидательную позицию.
Его раздираемое сомнениями тело тянулось то к флагштоку, то к спасительному автомобилю. Но он так не решился. А в это время ботинки, воспользовавшись ситуацией, под шумок окончательно вывели его из зоны действий.
Точно так же поступили тела, ноги и ботинки всех остальных.
И вот он уже шагал прочь, и старички тоже шагали – все в разных направлениях. Шли медленно, изредка бросая назад осторожные взгляды. Туда, где в опустевшем сквере остался одинокий флагшток с обиженно поникшим флагом. Где из окон слышались голоса, смех и звук задвигаемых стульев.
Все шли – и друг на друга оглядывались.
В какой-то момент Чарли остановился, потому что ноги вдруг отказались идти. Он бросил еще один долгий взгляд через плечо, в последний раз. И вдруг ощутил в правой руке какой-то странный зуд, как будто кто-то тянет ее наверх. И увидел, как она сама собой начинает приподниматься.
Несмотря на то что они уже на полсотни метров разбрелись в стороны от флагштока, было отчетливо видно, как один из пришельцев поднял руку и слегка помахал. Потом и другой старикан заметил и помахал тоже. А за ним и третий.
Он посмотрел на свою руку, как она медленно поднимается и пальцы делают в воздухе короткий прощальный жест. А потом бросил взгляд вдаль – на старичков.
Черт возьми, кажется, я ошибся, подумал он. Никакой это не первый день. Это – последний.
Судя по запаху, доносящемуся с кухни, Элис жарила что-то очень аппетитное.
Он долго не мог заставить себя войти.
– Хватит уже стоять на пороге, – сказала она, – в ногах правды нет.
– Это точно, – сказал он и прошел к обеденному столу, где его ждали праздничная скатерть, нарядные салфетки, столовое серебро и зажженные свечи, которые они обычно зажигали, если ужинали под вечер.
Элис поджидала его у входа на кухню.
– Откуда ты узнала, что я вернусь так рано? – спросил он.
– Ничего я не узнавала, – сказала она, – просто увидела, как ты подъехал. Будешь яичницу с беконом? Сейчас принесу. Ты пока садись.
– Отлично. – Он взялся за спинку стула и окинул взглядом столовые приборы. – Сажусь.
Он сел. Элис подошла, чмокнула его в лоб и отправилась за яичницей.
– Ну и что? – крикнула она с кухни.
– Что – что?
– Как все прошло?
– Что – прошло?
– Ты сам знаешь что, – сказала она. – Твой знаменательный день. Клятвы и все такое. Кто-нибудь приехал?
– Конечно, – сказал он, – все приехали.
– А можно отсюда поподробнее?
Она стояла в дверях кухни со сковородкой в руках и буквально сверлила его взглядом.
– Вы же о чем-то говорили?
– В смысле? – Он наклонился и почти лег грудью на стол. – Ну да.
– Ну и как, хорошо поговорили?
– Понимаешь, мы…
– Да неужели?
Перед глазами у него маячила пустая тарелка.
И прямо в нее стали капать слезы.
– Да хорошо, хорошо мы поговорили! – проорал он. – Легче сдохнуть – как хорошо мы поговорили…
Пересадка сердца
– Что? – рассеянно переспросил он, лежа на спине и глядя в потолок.
– Что слышал, – ответила она, лежа на спине рядом с ним и держа его за руку, при этом не просто глядя в потолок, а уставившись в него с таким видом, как будто там действительно что-то было. – Понятно?
– Ну ладно, повтори еще раз, – сказал он в темноту.
– Я спросила, смог бы ты… заново влюбиться в свою жену, – выдержав долгую паузу, сказала она. – Вернее, хотел бы – или нет?
– Странный какой-то вопрос.
– Ничего странного. Все очень даже логично. Ведь это самое ценное, что может быть в жизни – когда жизнь складывается так, как и должна складываться жизнь. А тогда почему бы людям не влюбляться снова и снова в одного человека, чтобы продлить свое счастье? Ведь у вас с Анной была такая любовь…
– Ну да, была.
– Такое ведь не забывается.
– Это уж точно.
– Тогда скажи, только честно: ты бы хотел это повторить?
– Спроси лучше, мог ли бы я…
– Мог не мог, сейчас не об этом. Представь, что обстоятельства изменились наилучшим образом, что твоя жена вдруг стала опять такой же идеальной, какой была раньше, как ты ее описывал. А не как сейчас. Тогда – хотел бы?
Он повернулся и даже привстал на локте.
– Странная ты какая-то сегодня. Что-то случилось?
– Не знаю… Наверное, ничего – кроме того, что завтра мне исполняется сорок лет. А тебе через месяц – сорок два. Я слышала, что в сорок два года у всех мужиков едет крыша. Значит, у женщин она начинает ехать на два года раньше. Знаешь, я вдруг поняла, что мне ужасно стыдно. Стыдно за нас – и вообще за всех. Ну почему люди – такие сволочи? Почему они не могут просто любить одного и того же человека всю жизнь? Как им только совесть позволяет сначала любить одних, потом находить других – и с ними опять смеяться, и плакать, и все вообще, ну как?
Он протянул руку и дотронулся до ее щеки – она была влажной.
– Ты что, плачешь?
– Ничего я не плачу. Грустно все это – вот что я тебе скажу. И очень жалко людей. Нас жалко. И их жалко. И вообще всех. Неужели вот так было всегда?
– Думаю, да. Просто обычно об этом никто не говорит.
– А знаешь, я завидую тем, кто жил сто лет назад…
– Не завидуй тому, не зная чему. Думаю, сто лет назад крыша ехала у людей еще похлеще, только под маской благопристойности.
Он наклонился и поцеловал ее прямо в слезы, катившиеся из глаз.
– И все-таки – что же у нас такое приключилось?
Она села в кровати. Почему-то у нее было такое чувство, что ей некуда девать руки.
– Черт знает что… – сказала она. – Во всех романах и фильмах герои, когда лежат в постели, всегда прикуривают сигареты. А мы, как назло, оба некурящие… – Она наконец пристроила руки, скрестив их на груди. – А Роберт? – вдруг сказала она. – Ведь когда-то я по нему с ума сходила, а теперь что? Теперь я лежу здесь с тобой и занимаюсь любовью, хотя должна быть сейчас дома, рядом с ним. Со своим мужем, который в свои тридцать семь – хуже ребенка. Господи, бедный Боб…
– Ну, что ж поделать…
– И Анна тоже. Она же такая классная… Ты хоть понимаешь, насколько она классная?
– Да, конечно. Но я стараюсь не думать об этом, зачем? В любом случае она – не ты.
– А что, если бы вдруг… – Она обхватила колени руками и устремила на него взгляд безупречно синих глаз. – Если бы она вдруг стала мной?
– Не понял? Переведи… – Он зажмурился и потряс головой.
– Если бы те хорошие качества, которые ты всегда ценил в ней, чудесным образом соединились с теми, которые ты нашел во мне, – и соединились в ней одной? Вот тогда ты захотел бы? Смог бы полюбить ее снова?
– Так, еще немного – и я тоже начну жалеть, что я не курю! – Он спустил ноги на пол и уставился в окно. – Какой смысл задавать вопросы, на которые не может быть ответа?
– Почему это не может? – Теперь она обращалась к его спине. – У тебя есть то, чего нет у моего мужа, а у меня – то, чего нет у твоей жены. В чем проблема? Двойная пересадка души… ну, в смысле сердца… туда-сюда и все дела! – Она хихикнула, но смех получился больше похожим на всхлип.
– Слушай, прямо готовый сюжет для рассказа. Или даже романа. Ну, или для сценария кино…
– С той разницей, что этот сценарий – про нашу жизнь. И мы уже так завязли в нем, что мама не горюй. Остается только…
– Что?
Она встала и принялась ходить по комнате кругами и в конце концов остановилась у окна, за которым было видно звездное летнее небо.
– Знаешь, в чем весь ужас? Последнее время Боб стал относиться ко мне… так же, как в прежние времена. Он просто нереально нежен со мной. Вот уже месяц.
– О да, это, конечно, ужасно… – Он вздохнул и закрыл глаза.
– Да, ужасно!
Повисло долгое молчание. Наконец он подал голос:
– Ты знаешь… И Анна тоже стала гораздо лучше ко мне относиться.
– Ужасно… – шепотом повторила она и на некоторое время закрыла глаза.
Потом открыла, посмотрела на звезды за окном и повернулась к нему:
– Помнишь такую поговорку: «Если превратить все «хочу» в лошадей, на земле не будет пеших людей»?
– Опять ты говоришь загадками. Может, хватит уже…
Она подошла, села перед ним на колени – прямо на пол, и, взяв его руки в свои, заглянула ему в глаза.
– Послушай… Мой муж, твоя жена – оба сейчас в отъезде. В разных городах, далеко друг от друга: один в Нью-Йорке, другая – в Сан-Франциско. Так? А ты тут, в номере, спишь со мной, у нас свидание, и мы будем вместе до утра. Знаешь, у меня есть идея. А давай… – Она запнулась, как будто на ходу придумывала, что сказать. – Давай перед сном сильно-сильно захотим… кое-что.
– Как-как ты сказала – кое-что? – Он многозначительно ухмыльнулся.
– Не смейся! – Она шлепнула его по руке и продолжала: – Кое-что, которое с божьей помощью – или нет, с помощью всех муз, граций и богинь, и колдовства, и магии, и черт знает чего еще, – но только обязательно сбудется. Чтобы к утру мы с тобой оба… – Она снова взяла паузу на обдумывание. – Чтобы мы оба влюбились – ты в свою жену, а я в своего мужа.
Ответа не последовало.
– Ну так что? – сказала она.
Он изогнулся, нащупал на прикроватной тумбочке спички, зажег одну и поднес к ее лицу, чтобы осветить его. В ее глазах горел огонь. Он вздохнул. И спичка погасла.
– Вот беда… – шепотом произнес он, – а я-то надеялся, что это шутка.
– Напрасно надеялся. Лучше признайся: ты же хочешь… попробовать?
– Господи, укрепи меня…
– При чем тут господи? Хватит говорить со мной, как с влюбленной дурой!
– Но послушай…
– Нет, это ты послушай… – Она встряхнула его руки и крепко сжала ладони. – Себя послушай. Или хотя бы меня. Для меня ты можешь это сделать? А я сделаю для тебя.
– Просто загадать желание?
– Ну да, помнишь, как в детстве? Все так делали. И у некоторых сбывалось. Говорят, надо только помолиться посильнее.
Он опустил глаза.
– Я не молился уже лет сто.
– А сколько раз ты мечтал вернуть медовый месяц? И думал, что это несбыточные мечты, что можно и не пытаться?
Он посмотрел на нее и несколько раз судорожно сглотнул.
– Нет, подожди, не говори ничего, – сказала она.
– Почему?
– Потому что ты пока не знаешь, что сказать.
– О’кей, молчу. Включаю мозг. Но ты точно хочешь, чтобы я это для тебя загадал?
Она обиженно отодвинулась и села на полу, обхватив колени и закрыв глаза. По ее щекам одна за другой беззвучно сбегали слезы.
– Ну, перестань, ну, пожалуйста… Хватит… – ласково сказал он.
Было уже три часа ночи, разговор был окончен, они заказали в номер горячего молока, выпили его и почистили зубы. Когда он вышел из ванной, то увидел, что она расправляет одеяло, раскладывает и взбивает подушки, как будто готовит декорации для нового спектакля.
– И что мне уготовано на сей раз? – спросил он.
Она обернулась.
– Было время, когда у нас таких вопросов не возникало… Но, видно, прошло. Просто иди и ложись вот сюда… – Она похлопала ладонью по его половине постели.
Он обошел кровать.
– Чувствую себя полным идиотом.
– Знаешь, иногда стоит почувствовать себя идиотом. Без «плохо» и «хорошо» не бывает. – Она снова указала ему на постель.
Он старательно лег головой на взбитую подушку, натянул до груди одеяло, а руки аккуратно сложил поверх.
– Так нормально? – спросил он.
– Просто отлично.
Она выключила свет, скользнула под одеяло со своей стороны, взяла его руку и тоже легла головой точно в середину подушки.
– Устал, хочешь спать?
– Пожалуй, да, – сказал он.
– Ну, хорошо. А теперь сосредоточься. Говорить ничего не надо. Только думай. Ты сам знаешь о чем.
– Знаю.
– Закрой глаза. Вот так. Хорошо.
Она тоже закрыла глаза, и теперь они оба лежали, скрестив руки поверх одеяла и отчетливо слыша собственное дыхание.
– Глубоко вдохни… – прошептала она.
Он сделал вдох.
– Теперь выдохни.
Он выдохнул.
И она тоже.
– Вот теперь можно, – тихо сказала она, – загадывай.
В тишине часы отмерили тридцать секунд.
– Загадал? – почти шепотом спросила она.
– Загадываю, – негромко отозвался он.
– Молодец, – шепнула она. – Спокойной ночи.
Прошло около минуты, и он почти беззвучно ответил из темноты:
– Прощай.
Он толком не понял, от чего проснулся. Наверное, увидел что-то во сне. Например, что под ним разверзлась земля или где-то случилось землетрясение или второе пришествие Христа, которое никто не заметил… А может, просто луна залетела в комнату, покружила над ними, быстренько заколдовала всю мебель и обстановку, дала им другие лица, заменила плоть на их скелетах, а потом внезапно повисла в тишине – и вот как раз в этот момент он открыл глаза. Открыл – и прислушался. Нет, на улице точно не было дождя. Может, это чей-то плач…
Так он некоторое время лежал, пока вдруг не понял, что загаданное желание каким-то неведомым образом сбылось.
Конечно, это дошло до него не сразу. Сначала он ощутил в воздухе незнакомое тепло – оно исходило от прекрасной женщины, которая лежала рядом.
Потом уловил ее чистое, размеренное и безмятежное дыхание. Неужели это правда: пока она спала, волшебное заклинание вступило в свои права и начало действовать? Она сама еще не знает об этом, а оно уже проникло к ней в кровь и празднует там победу. И в сон к ней оно проникло тоже и теперь шепчет свой секрет с каждым вздохом…
Он привстал на локте, боясь поверить собственной догадке.
Склонился и заглянул ей в лицо – еще никогда оно не казалась ему таким красивым.
В этом лице было все: и мир, и покой, и высшая истина. Она улыбалась во сне. Открой она сейчас глаза – они бы зажглись светом изнутри.
Ну, проснись – так и хотелось сказать… Вот же твое счастье. Ты можешь взять его. Только проснись…
Он протянул руку, чтобы дотронуться до ее щеки, но отдернул ее, потому что в этот момент ее веки вздрогнули… А губы приоткрылись.
В одну секунду он оказался на своей половине кровати – и замер там, притаившись и выжидая.
Наконец он услышал, что она поднялась и села на кровати. После этого она вдруг вскрикнула – как будто кто-то шутливо пихнул ее в бок, повернулась к нему, потрогала, поняла, что он еще спит, – и села рядом, пытаясь осознать то, что он уже осознал.
С закрытыми глазами он слышал, как она встала и принялась порхать по комнате, словно птица, которая хочет вырваться на волю. Подошла к нему, поцеловала его в щеку, убежала, опять подошла, опять поцеловала, а потом с тихим смехом убежала в гостиную. Он услышал, как она набирает длинный междугородний номер, и зажмурился.
– Роберт? – произнес ее голос. – Боб? Ты где? То есть, ой, извини… Что это я… Я же знаю, где ты. Роберт… Боб, о господи, скажи: можно я сегодня к тебе прилечу? Ты будешь на месте, ты меня встретишь – сегодня вечером? Это ничего?.. Не спрашивай. Не знаю, что на меня нашло. Так я приеду? Да? Скажи: да? Ну, классно… Пока!
Он услышал, как она положила трубку.
А через пару минут высморкалась и вошла в комнату. Села рядом с ним на кровать – прямо в первый рассветный луч. И начала стремительно одеваться. На этот раз он протянул к ней руку и тронул ее за плечо.
– Что-то такое произошло… – прошептал он.
– Да.
– Желание сбылось?
– Да. Я знаю, что этого не может быть. Но это так и есть! Как это получилось? Ну, скажи – как?
– Наверное, потому что мы оба в это поверили… – тихо сказал он. – Я очень-очень сильно тебе это пожелал.
– А я – тебе. Боже, как это здорово, что у нас все получилось, у обоих… Что мы оба изменились – прямо за одну ночь! Ведь это было бы так ужасно, если бы один из нас изменился, а другой так и остался прежним…
– О да, ужасно, – подтвердил я.
– Ну правда же это чудо? – продолжала она. – Чудо, что мы просто сильно-сильно захотели и кто-то, или что-то, или Бог, или, я не знаю кто, нас услышал? И вернул нам нашу старую любовь, чтобы мы стали лучше и чище душой, чтобы мы жили правильно… Наверное, такое возможно только один раз. Больше уже ведь никогда ничего не исполнится, как ты думаешь?
– Не знаю. А ты как думаешь?
– Слушай, а может, это наши внутренние голоса нам сказали: все, ваше время истекло, теперь приходит другое время, а вам обоим пора закругляться, – может, в этом все дело?
– Да какая разница. Главное – это, что я слышал, как ты звонила. И как только ты уйдешь, я тоже позвоню. Анне.
– Правда позвонишь?
– Правда.
– Господи, как же я рада – за тебя, за себя и вообще – за нас!
– Ну все, теперь можешь уходить. Давай иди. Зеркалом дорога. Приятного полета.
Она вскочила, как по команде, решительно вставила в волосы гребень и тут же вытащила обратно.
– Ладно, плевать – пойду лохматая, – сказала она и нервно засмеялась.
– Ничего не лохматая – очень даже красивая.
– Для тебя, может, и красивая.
– Для всех и всегда.
Она наклонилась и поцеловала его, проглотив слезы.
– Это что – наш последний поцелуй?
– Ну да… – Он задумался. – Получается, что последний.
– Тогда… еще один.
– Но только один.
Она взяла в ладони его лицо и посмотрела ему прямо в глаза.
– Спасибо тебе за твое пожелание, – сказала она.
– А тебе – за твое.
– Ты прямо сейчас будешь звонить Анне?
– Прямо сейчас.
– Передавай ей привет.
– А ты – Бобу. Ну, с богом, дорогая. До свидания.
Она вышла сначала из комнаты, потом и из номера, а потом за ней захлопнулась дверь. Было слышно, как в гулкой тишине цокают ее каблуки, пока она идет по коридору к лифту.
Он сидел, тупо уставившись на телефон, но не двигался с места.
Потом взглянул в зеркало и обнаружил, что из глаз у него ручьями текут слезы.
– Ну что? – спросил он у своего отражения. – Допрыгался? Трепло… – И, помолчав, уточнил: – Поганое трепло…
Он снова лег на кровать, вытянул руку и потрогал ладонью пустую соседнюю подушку.
Quid pro quo[3]
Трудно сконструировать Машину времени, если вы не определились с пунктом назначения. Куда вы хотите попасть? В Каир нашей эры, после Рождества Христова? В Македонию времен до Мафусаила? Или в Хиросиму, еще до того? Нужны конкретные пункты назначения, города, события…
А вот мне удалось построить Машину времени просто по наитию, без всяких маршрутов, направлений и дат, не думая, куда я прибываю, когда отбываю…
Я сконструировал свой «Аппарат для дальних путешествий» из фрагментов паутины нервного узла, отвечающего за восприятие и интуитивное мышление. Пристроил его к внутренней поверхности medulla oblongata[4] и выступам позади зрительного нерва. А потом между участком мозга, отвечающим за скрытые намерения, и невидимым радаром ганглия внедрил перцептор, распознающий прошлое и будущее – и, что характерно, без всякой привязки к названиям мест или эпохальным событиям. А также применил еще одно мое изобретение, правда, столетней давности. Часы с микроволновыми антеннами, которые безошибочно делают нравственный выбор в ситуациях, когда человеческий разум бессилен.
В итоге у меня получилась машина, которая просчитывала и подводила к некоему общему знаменателю всю цепь взлетов и падений человечества, а потом сама выбирала, куда ей отправиться. При этом я выступал у нее чем-то вроде багажа.
Знал ли я, что получится, в тот момент, когда склеивал, свинчивал и спаивал сие весьма странное на вид механическое детище? Отвечаю: нет, не знал. Я просто тасовал, как карты, понятия, потребности, суждения, предсказания, успехи и неудачи… И в конце концов обнаружил себя с удивлением взирающим на плоды своего творчества.
Теперь у меня на чердаке стоял странный объект, сверкающий всеми своими углами и гранями, который урчал в предвкушении путешествий. Достаточно было снять его со «стопа» и нажать на «старт». Всего одну кнопку – никаких маршрутов и направлений. Главное – вовремя передать сенсорам свое настроение, то есть «излучение души».
И вот тогда он взмоет ввысь и помчится бог знает куда. В прямом смысле этого слова. Потому что о том, куда он прибудет, действительно знает только Бог.
А нам будет даровано узнать лишь по прибытии.
Собственно, отсюда и начинается мой рассказ.
Вот оно, притаилось в сумраке чердака – затаив дыхание, трепеща всеми своими паутинками – неведомое чудище с двумя сиденьями для Туристов…
Почему на чердаке?
Ну, так ведь это не летательный аппарат для затяжных прыжков, а устройство для погружений в глубины Времени.
Просто – Машина времени. На чердаке. Стоит и ждет. Остается только выяснить – чего?
Дело было в крохотном книжном магазинчике в Санта-Барбаре. Я подписывал книжки жалкой кучке поклонников – ну, собственно, каков роман, столько и почитателей… И вдруг – взрыв. Нет, даже не взрыв – этого мало, чтобы описать, с какой силой я отшатнулся.
Меня прямо впечатало в стену – ровно в ту секунду, как я поднял взгляд и увидел в дверях древнего, немощного старика, который стоял, покачиваясь и не решаясь войти. Он был прямо как ходячая смерть: все лицо в морщинах, мутные, абсолютно остекленевшие глаза, губы трясутся, из угла рта стекает слюна… При виде меня он тоже вздрогнул, как будто его поразила молния, и стал хватать воздух ртом.
Я вернулся было к своим автографам, как вдруг в голове у меня что-то щелкнуло. Я снова взглянул на старика.
Тот все так же стоял в дверном проеме – шатаясь, как пугало на ветру, вытянув шею вперед и мучительно напрягая взгляд.
Я так и похолодел. Прямо сидел и чувствовал, как в жилах стынет кровь. А потом у меня из пальцев вообще выскользнула ручка, потому что патлатая ходячая смерть вдруг покачнулась, загоготала и с вытянутыми руками двинулась ко мне.
– Вы… вы помните меня? – неистово хохоча, выкрикнула она.
Я последовательно оглядел его с головы до ног – седые волосы, паклей висевшие вдоль лица, серую щетину на щеках, выгоревшую добела рубашку, грязные джинсы, из которых торчали костлявые ноги в сандалиях, – а затем снова перехватил полубезумный взгляд.
– Ну же? – Он расплылся в улыбке.
– Не думаю…
– Это же я – Саймон, Кросс! – выпалил он.
– Кто?
– Ну, Кросс! – с мольбой в голосе повторил он. – Саймон Кросс!
– Саймон Кросс?! – Я подскочил так, что у меня упал стул.
Да что стул – мои поклонники с книгами тоже чуть не попадали в обморок. А старик прикрыл глаза и беззвучно затрясся.
– Ах ты, подонок! – Слезы в одну секунду подступили у меня к глазам. – Это ты – Саймон Кросс? Господи, что же ты с собой сделал?
Крепко зажмурив глаза, он поднял руки, как будто пытался защититься от моих воплей. Жалкие, дрожащие, узловатые руки.
– Боже праведный, как это возможно? – воскликнул я. – Как ты смог сотворить такое со своей жизнью?
Одним ударом небо разверзлось у меня над головой – и я переместился на сорок лет назад, в свои тридцать три, в самое начало своей карьеры.
Передо мной стоял Саймон Кросс, девятнадцати лет от роду – ослепительно красивый, с невинным взором ясных глаз, – он весь словно светился изнутри, как будто у него в тело была встроена стоваттная лампочка. В руках он держал толстую пачку рукописей.
– Сестра сказала, что… – радостно начал он.
– Знаю, знаю… – перебил его я. – Я прочел вчера ваши рассказы – те, что она мне давала. Вы – гений.
– Ну, я так не считаю… – сказал Саймон Кросс.
– А я считаю. Приносите еще рассказов, да побольше. Я готов продать их все до одного прямо не глядя. Это я вам, как друг гения, говорю, а не как литературный агент.
– Ну, зачем вы так… – смутился Саймон Кросс.
– А что тут еще скажешь? Такие, как вы, встречаются раз в жизни.
Я бегло просмотрел его новые рассказы.
– Черт меня возьми… Да. Да! Это великолепно. Я продам это все до строчки, и без всякой комиссии.
– Будь я проклят!
– Не проклят, а благословлен свыше. Да ты уже благословлен – генетически.
– Я не хожу в церковь.
– А тебе и не надо, – сказал я. – Ну, все, можешь быть свободен. Мне нужно немного прийти в себя. Нельзя быть таким гениальным – это богохульство. Рядом с тобой я чувствую себя каким-то дворовым псом. И восхищаюсь, и завидую. И почти ненавижу. В общем, катись к чертовой матери!
Саймон Кросс ошалело улыбнулся и вышел, а я остался сидеть – и пачка обычной белой бумаги буквально жгла мне пальцы. Не прошло и двух недель, как я продал эти сказки – все до одной. Сказки, написанные девятнадцатилетним мужчиной-ребенком, который при помощи обычных слов мог и ходить по воде, и свободно парить в воздухе.
Сказать, что они потрясли всю страну – это не сказать ничего.
– Где ты откопал этого писателя? – спрашивали меня.
– Да это же просто внебрачный сын Эмили Дикинсон от Скотта Фицджеральда[5]. Ты – его агент?
– Нет. Ему не нужен агент.
После этого Саймон Кросс написал еще с десяток рассказов, которые сразу с конвейера ушли в печать и тоже получили признание критики.
Саймон Кросс. Саймон Кросс. Саймон Кросс…
Я был его отцом-прародителем, его живым первооткрывателем. Я был его завистником – и другом, который прощал ему все.
Саймон Кросс.
А потом случилась… Корея.
Я помню, как он стоял на крыльце моего дома в белой морской униформе, загорелый, пока еще не бритый под ноль, и, казалось, глазами готов был выпить весь этот мир до дна. В руках он сжимал свой последний рассказ.
– Возвращайся скорей, милое дитя, – сказал я.
– Какое я вам дитя?
– Вечное дитя Господа, вечный его свет. Ты должен жить. Не поддавайся славе.
– Ладно, не буду. – Он обнял меня и убежал.
Саймон Кросс. Саймон Кросс.
Война закончилась, время ушло – и он пропал. Неподражаемый гений, чудо-ребенок… Пропал на десять лет, потом – еще на двадцать. И все это время – только слухи. Говорили разное. Что он осел где-то в Испании. Женился на хозяйке замка. Стал чемпионом в стрельбе по голубям. Кто-то клялся, что видел его в Марокко или в Марракеше… И вот пролетает еще десяток лет – и после сорокалетнего молчания он вдруг вырастает на пороге 1998 года, пугая моих охотников за автографами – и словно издеваясь над самим фактом существования моей Машины времени. Пусть даже она бесцельно простаивает на чердаке, питая меня иллюзиями о том, что Время у меня в руках.
Саймон Кросс, мать его. Саймон Кросс…
– А ну, пошел отсюда, урод! – проорал я на весь магазин.
Ходячая смерть испуганно отпрянула – и инстинктивно закрыла руками лицо.
– Какого черта – где ты пропадал все это время?! – продолжал вопить я. – Как ты вообще до такого докатился? Господи, ты только посмотри, что с тобой стало… Ну-ка, выпрямись! Это вообще ты?
– Да я, я – только…
– Заткнись, ничтожество! Лучше скажи, что ты сделал с тем прекрасным юношей? Мерзкая ты харя…
– Каким еще… юношей? – прошамкала ходячая смерть.
– С собой – с каким же еще! Ты же был – гений. Весь мир валялся у твоих ног. Ты мог писать вверх ногами и задом наперед – из-под твоего пера выходили только перлы! Жемчуга самой высокой пробы! Ты хоть сам понимаешь, что ты наделал?
– Ничего не наделал…
– Ничего… Вот именно, что ничего! Да тебе достаточно было только свистнуть, только мигнуть – и у тебя бы было все!
– Не бейте меня!
– Не бить? Да тебя убить мало! Не бейте! Врезать бы тебе как следует!
Я огляделся в поисках тупого тяжелого предмета. Но обнаружил только собственные кулаки. Бросив на них отчаянный взгляд, я уронил руки.
– Да ты… ты вообще знаешь, что такое жизнь, ты, безмозглый придурок? – выпалил я.
– Жизнь? – выдохнул старец.
– Да, да – жизнь. Это сделка. Сделка, которую ты заключаешь с Богом. Он дает тебе жизнь, а ты должен что-то отдать взамен. Это не подарок, нет. Это – кредит. Ты не можешь только брать, ты должен и отдавать. Quid pro quo!
– Кви – про что?
– Pro quo! Рука руку моет. Берешь в долг – и платишь по счетам. Что взял, то и отдал. А ты, сволочь! Пустил все с молотка! Боже мой, тысячи людей отдали бы все, чтобы им достался такой талант… Умерли бы за то, чтобы на минуту стать такими, как ты! Каким ты был раньше, не сейчас! Господи! Да лучше бы ты мне отдал свое тело, свой мозг: тебе они все равно не пригодились… Но нет! Нет, ты предпочел превратить их в хлам. Потерять все – и навсегда… Ну, как ты мог? Что это вообще? Убийство – самоубийство? Или – и то, и другое вместе? Тьфу… Будь ты проклят! Ненавижу тебя!
– Меня? – едва не задохнулся старец.
– Посмотри сюда! – выкрикнул я и повернул его лицом к зеркалу. – Смотри! Что это такое?
– Это я… – проблеял он.
– Нет, это не ты. Это юноша, которого ты, скотина, загубил.
Я уже занес кулак, чтобы врезать ему, – и вдруг меня самого как током ударило. Перед глазами всплыл чердак, на чердаке – машина, ожидающая неизвестно чего и созданная неизвестно зачем. С двумя сиденьями для путешественников неизвестно куда…
Кулак застыл в воздухе, как будто воспоминание о чердаке образумило его. Я увидел на столике вино и схватился за бутылку.
– Вы… ты что, будешь меня бить? – зажмурив глаза, спросила ходячая смерть.
– Нет! Пей.
Старик открыл глаза и обнаружил у себя в руке стакан.
– А я от этого уменьшусь или подрасту? – с умалишенным видом спросил он.
Тоже мне – Алиса в кроличьей норе. Нашла бутылочку с надписью «Выпей меня» и ждет, в кого ей превращаться – в великана или в карлика…
– Или еще что-нибудь? – уточнил он.
– Пей давай!
Он выпил, а я налил ему еще, до краев. Дивясь милости, которая столь внезапно сменила мой гнев, он выпил и второй стакан, и третий, пока его не прошибла слеза.
– А зачем?
– А затем! – сказал я, после чего решительно выволок на улицу это пугало и, едва не покалечив, запихнул его в свой автомобиль.
Всю дорогу я мрачно молчал, а Саймон Кросс, этот мерзкий недоносок, постоянно что-то бубнил.
– А куда?
– На кудыкину гору!
Мы свернули к моему дому. Я забросил его тело внутрь и сразу потащил его на чердак, старясь по дороге не сломать ему шею.
Наконец мы оба, покачиваясь, стояли перед моей Машиной времени.
– Теперь я знаю, для чего я все это строил, – сказал я.
– Что строил? – выкрикнул Саймон Кросс.
– Закрой рот и залезай!
– Это что – электрический стул?
– Кому как. Лезь давай!
Он влез на сиденье, я пристегнул его, а сам занял соседнее место. И поднял рычаг.
– Это что? – спросил Саймон Кросс.
– Не что, а куда! – ответил я.
После этого я стремительно ввел в машину год/месяц/день/час/минуту, потом еще быстрей – страну/город/улицу/квартал/дом/квартиру, а затем установил переключатель в режим туда/обратно.
И мы сразу тронулись – закрутились датчики скорости, отматывая назад годы, солнца, луны… Мы даже оглянуться не успели, как наша машина растворилась в тишине. Приехали.
Саймон Кросс посмотрел вокруг ничего не понимающим взглядом.
– Где мы? – промычал он. – Это вроде мой дом?
– Да, твой.
Я вытащил его и поставил на лужайку перед домом.
– А теперь посмотри вон туда, – сказал я.
На крыльце стоял молодой красавец в белой морской униформе, который сжимал в руке пачку рукописей.
– Это же я! – воскликнула ходячая смерть.
– Вот именно. Ты! Саймон Кросс.
– Здравствуйте! – крикнул нам с крыльца молодой человек в новенькой униформе и нахмурил лоб, пытаясь понять, что со мной не так. – Как-то вы сегодня… странно выглядите, – после чего с опаской указал на постаревшего себя. – А это – кто?
– Это – Саймон Кросс.
Они молча посмотрели друг на друга – старый и молодой.
– Это не Саймон Кросс, – сказал юноша.
– Это точно не я, – сказал старец.
– Точно.
И они оба медленно перевели взгляд на меня.
– Я ничего не понимаю, – сказал девятнадцатилетний Саймон Кросс.
– Верните меня обратно! – взмолился старый.
– Куда?
– Туда, откуда мы пришли, где бы это ни было! – в ужасе прокричал он.
– Уходите… – сказал молодой человек и попытался ретироваться.
– Нет уж, ты погоди, – сказал я. – Лучше присмотрись хорошенько. Вот во что ты превратишься, если потеряешь сам себя! Это ведь действительно Саймон Кросс. Только сорок лет спустя.
Юный моряк внимательно оглядел старика сначала сверху вниз, потом снизу вверх. Потом посмотрел ему в глаза – и весь покраснел от злости. Руки его сами собой сжались в кулаки. И разжались – и снова сжались. Некоторое время между двумя Кроссами происходил какой-то незримый диалог – на уровне энергий и вибраций. Потом тот, что моложе, очнулся.
– Так кто ты? – спросил он.
– Саймон Кросс, – прошамкала ходячая смерть.
– Ах ты, подонок! Чтоб ты сдох! – воскликнул юноша и со всего размаху ударил его по лицу, а потом еще раз и еще…
Крепко зажмурив глаза, старик стоял под градом ударов, как под освежающим ливнем, словно наслаждался стихией насилия. И вскоре упал на землю – прямо под ноги себе молодому.
– Он что, умер? – спросил юноша, тупо уставившись на тело.
– Ты убил его.
– Туда ему и дорога.
– Пожалуй.
Молодой человек поднял на меня взгляд.
– Я тоже умер?
– Ты – нет. Но только если ты действительно хочешь жить.
– Я хочу жить. Хочу!
– Тогда уезжай отсюда. А я заберу его обратно – туда, откуда мы пришли.
– Почему вы делаете все это? – спросил меня Саймон Кросс, девятнадцати лет от роду.
– Потому что ты – гений.
– Вы все время так говорите.
– Это так и есть. А теперь беги. Иди.
Он прошел несколько шагов и обернулся.
– Это мой второй шанс? – спросил он.
– Будем надеяться, – сказал я, а потом добавил: – Только помни об этом. Не поселяйся в Испании и не становись чемпионом стрельбы по голубям в Мадриде.
– Клянусь, что не буду чемпионом стрельбы по голубям нигде!
– Точно не будешь?
– Нет.
– И никогда не превратишься в ходячую смерть? И мне не придется тащить тебя сквозь время, чтобы ты встретился с собой молодым?
– Нет! Никогда.
– И будешь помнить об этом всю жизнь?
– Буду.
Он повернулся и зашагал по улице.
– Ну, пошли, – сказал я, обращаясь к лежащему на земле телу, а вернее, к бесполезной куче тряпья. – Сейчас засунем тебя в машину, подберем тебе подходящую могилку…
Уже сидя в машине, я бросил прощальный взгляд на улицу.
– Удачи тебе, Саймон Кросс, – прошептал я.
Потом нажал на пуск – и исчез в будущем.
После бала
Огни над зданием с облупившейся вывеской «Танцевальный зал Майрона» замигали, готовясь погаснуть, крошечный оркестрик заиграл «Good night, Ladies»[6], послышались вздохи разочарования, которые тут же переросли в гул голосов: из выходов с шуршанием и шарканьем потянулись на улицу черные тени, музыка смолкла, огни мигнули в последний раз и погасли.
Затем распахнулась дверь черного хода, из нее появилась группа из пяти или шести музыкантов, которые, сгибаясь под тяжестью неподъемных под конец дня инструментов, быстро разбрелись по машинам, чтобы не вливаться в галдящую толпу на лестнице. Пока бальные танцоры – примерно шестьдесят женщин глубоко «за…» и почти столько же мужчин – перемещались вниз, машины с музыкантами уже уехали в ночной туман, ползущий одновременно с моря и с гор.
Внизу праздничная толпа разделилась на две части: человек тридцать выстроились в очередь на южной стороне улицы, чтобы уехать на трамвае местных линий, а остальные, почему-то гораздо более шумные и веселые, перешли на другую сторону ждать трамвая дальнего следования, который должен был перебросить их на Тихоокеанское побережье.
Дрожа от ночного холода, который обычно в Калифорнии сменяет дневную тридцатиградусную жару, мужчины бормотали себе под нос ругательства, а дамы в разноцветных вечерних платьях старательно вглядывались в убегающие вдаль рельсы, как будто это могло ускорить прибытие транспорта.
И в конце концов каким-то загадочным образом ускорило.
– Идет! Идет! – вскричали дамы.
– Не прошло и года… – поддержали разговор кавалеры.
И те, и другие почему-то избегали друг на друга смотреть. Даже когда, рассыпая искрами и выпуская пар, прибыл огромный, как трансконтинентальный экспресс, сдвоенный трамвай и кавалеры в мятых пропотевших смокингах стали подсаживать нарядных дам на подножку, они старались не пересекаться с ними взглядами.
– Алле – гоп!
– Большое вам мерси!
– Все для вас, все для вас!
Сами мужчины запрыгнули в вагон в последний момент, как в шлюпку при кораблекрушении.
И вот, звякнув колокольчиком и издав клаксонный гудок, трансконтинентальный экспресс, который сегодня – чисто по случайности – шел только до Вениса (отсюда – всего километров пятьдесят), сдвинулся с места и пошлепал к месту своего прибытия в час ночи.
Это вызвало бурный восторг как у утомленных недорогими удовольствиями дам, так и у мужчин, мечтавших поскорее отстегнуть накрахмаленные белые манишки и ослабить галстуки.
– Вы не откроете окошко: что-то так душно…
– Ой, вы не закроете окошко, а то я замерзла!
Разделившись таким образом на жителей Арктики и уроженцев экватора, престарелые и запоздалые дети субботы пустились в свое безопасное плавание без айсбергов – к берегам непуганых надежд.
Двое из них – мужчина и женщина – сидели в первом вагоне, прямо за спиной машиниста, и, словно завороженные, смотрели, как он размашистыми движениями дирижера двигает медные рычаги и напряженно всматривается в туман, из которого в любой момент могла выскочить причина крушения.
Некоторое время они сидели молча и только покачивались, в то время как трамвай, оглушительно грохоча железом по железу, мчал их из царства Майрона[7] в царство Нептуна[8].
Наконец дама произнесла:
– Вы не против, если я сяду у окна?
– Да-да, конечно… Я как раз хотел вам предложить.
По гладкой деревянной скамье она переползла на место возле окна и тут же уткнулась взглядом в проплывающие в темноте дома и деревья – и ночное, но совсем не звездное небо, на котором маячила одинокая двурогая луна…
– О чем вы думаете? – спросил он.
Проходит все… проходит все… проходит все…
– Вы никогда не думали, что… – вполголоса проговорила она, не отрывая взгляда от своего прозрачного отражения в оконном стекле, – что когда эта старая громыхающая груда железа тащит нас за собой по рельсам, то мы и вообще вся земля… все мы движемся как бы внутри времени, причем не вперед, а назад…
– Нет, не думал, – сказал он, едва не свернув шею, чтобы заглянуть ей в лицо, в то время как она сидела, уставившись в окно, как будто за ним был телевизор, на экране которого шел сериал из трамвайных станций. – Никогда не думал, – добавил он и принялся рассматривать свои руки в белых перчатках.
– А вы подумайте, – еле слышно продолжала она.
– Что?
– Задумайтесь об этом, – с нажимом повторила она.
– И не только об этом, – тихо добавила она, продолжая просмотр ночного канала заоконного телевидения. – Есть еще кое-что, не связанное с перемещением во времени и пространстве. Во всяком случае, я это чувствую.
– Что?
– Мне кажется, что когда я еду… я таю, теряю вес. Чем дальше и чем дольше мы едем, тем легче я становлюсь. Это очень странно. У вас нет таких ощущений?
– Ну, как вам сказать…
– А вы попробуйте, прислушайтесь к себе. Надо только расслабиться. Сначала вы ощутите это в ступнях, потом – в икрах, потом – в коленях… Как невесомость. Как будто вы висите внутри одежды.
Он озадаченно замолчал, предпринимая новые попытки заглянуть ей за плечо и разглядеть ее размытое отражение в стекле.
– Ну же, – все так же тихо сказала она. – Расслабьтесь. Отпустите себя. Не напрягайтесь. Чувствуете?
– Как будто бы да… – Он откинулся, опустил голову и принялся рассматривать свои колени и торчащие из-под пальто обшлага рубашки.
– Не отвечайте сразу, лишь бы что-нибудь сказать, – не поворачиваясь, сказала она. – Попробуйте еще раз, у вас получится.
– Так я уже… – Он вскинул руки в белых перчатках, после чего вцепился себе в колени. – Почти.
– Не врите.
– А я и не вру, – скороговоркой пробормотал он. – С чего мне врать?
– Мужчины всегда врут. Кто-кто, а они это умеют. Оттачивают это мастерство всю жизнь… Может, когда-нибудь надо остановиться?
– Да нет же, – сказал он, – я и вправду это чувствую…
– Умничка, – сказала она. – А теперь помолчите и прочувствуйте это как следует. Во-от. Вот так. Чувствуете?
Он кивнул в ответ.
Красный трансконтинентальный экспресс прогрохотал сквозь очередной приморский поселок, миновал пустырь, потом несколько детских садов – и выехал на открытое пространство.
– Нет, вы просто неподражаемы! – громко сказал он, наклонившись к ее уху.
– Тш-ш… – прошептала она.
– Не спорьте, – шепотом продолжал он. – Вы были сегодня душой компании. Столько интересных историй, столько новых идей… Все слушали вас, открыв рот, что бы вы ни говорили. Скажете им «сделайте то» – и они делают, скажете «сделайте это» – и они опять делают. Даже в сон впадали по вашей команде… Теперь вот и я теряю вес, прямо как вы.
– Я очень рада… – сказала она. – Только т-ш-ш…
Он с беспокойством оглянулся на других ночных пассажиров, которые мерно покачивались в такт движению, совершая долгий забег на короткую дистанцию.
– А вы заметили, что все без исключения – и мужчины, и женщины, – явились на бал в белых перчатках? – спросил он. – И вы, и я – все?
– Да, это интересно… – еще сильнее отвернувшись, сказала она. – И как вы думаете, почему?
– Я думал, вы мне скажете…
Трамвай врезался в новое облако тумана, а он все так же сидел, раскачиваясь взад-вперед и глядя на ее собранные сзади волосы и тоненький темный завиток, дрожавший на шее.
– Простите, а как вас зовут? – сказал он наконец. – Вы говорили там, на балу, но оркестр так громко играл…
Ее губы что-то произнесли.
– Простите, не расслышал?
Ее губы пошевелились еще раз.
И еще.
– Кажется, мы приехали, – сказала она, на этот раз вполне отчетливо.
– А теперь моя очередь представиться, – начал он. – Меня зовут…
– Точно, приехали, – сказала она и проворно поднялась. Пока он сообразил, что трамвай останавливается и она собирается сойти – она уже вовсю шагала по проходу.
Увы, он уже не успевал броситься вперед и опередить ее, чтобы галантно помочь ей сойти с подножки, потому что за окнами промелькнули огни и двери с шипением разъехались. Когда он выскользнул следом за ней в темноту, огромный межконтинентальный трамвай звякнул колокольчиком, прогудел клаксоном и был таков. А она осталась неподвижно стоять на дороге, глядя в ночное небо.
– Думаю, нам лучше уйти с проезжей части, – сказал он. – Тут все-таки движение.
– Какое движение, машин же нет, – пожала плечами она и решительно зашагала через улицу.
Примерно на середине он догнал ее.
– Я хотел сказать, что…
– Надо же, сегодня нет луны, – перебила его она. – Но это даже к лучшему. Настоящая романтика. Зачем нам луна?
– А мне всегда казалось, что луна и лунный свет – это как раз… – начал он.
Но она снова перебила его.
– Никаких лун. Свет нам ни к чему.
Она перешагнула через бордюр и двинулась по дорожке к двухэтажному дому, где занимала одну из четырех квартир.
– Проходим тихо как мыши, – шепотом сказала она.
– Конечно!
– Даже еще тише…
– Слушаюсь, – еле слышно прошептал он.
Они вошли в подъезд и стали подниматься по лестнице – и тут он увидел, что она снимает туфли и делает ему знак глазами, чтобы он снял свои. Несколько ступенек они шли молча, потом она обернулась, чтобы удостовериться, что он не выронил ее туфли, и еще раз прошептала:
– Как мыши…
С этими словами она оставила его одного на темной лестнице, а сама бесшумно проскользнула наверх. Когда он ощупью добрался до площадки, она была уже дома. Ее квартира вмещала в себя одну просторную комнату с двуспальной кроватью посередине, а также небольшую столовую и кухню. С его появлением дверь в ванную бесшумно закрылась, но он все равно услышал.
Через некоторое время оттуда раздалось:
– Ну, что вы стоите? – И он воспринял это как предложение снять смокинг.
После недолгого колебания он снял также манишку, воротник, отстегнул подтяжки – и вместе с брюками повесил их на спинку стула, который обнаружил в сумраке, в глубине комнаты, освещенной лишь ночником и прикроватной лампой. Стоя посреди комнаты в черных носках, майке и кальсонах, он чувствовал себя полностью дезориентированным. То ли ему ложиться в постель, то ли не ложиться? И как вообще следует вести себя в подобных ситуациях?
– Вы уже там, где должны быть? – вполголоса спросила она из-за двери.
Он бросил взгляд на кровать.
– Да или нет? – еле слышно повторила она.
Он подошел к кровати и произнес:
– Наверное, да.
Вслед за этим жалобно скрипнули пружины.
– Понятно, – сказала.
Дверь ванной распахнулась – и в проеме показался высокий силуэт. Однако разглядеть его как следует он не успел: свет погас, и в комнату прошла уже бестелесная тень.
– У вас закрыты глаза?
Он молча кивнул. Он не услышал, а ощутил, как ее тело коснулось кровати и с легким шорохом скользнуло под одеяло.
– Теперь можете открывать.
Он открыл, но ничего нового, кроме того, что маячило у него перед глазами в трамвае, не увидел – тот же силуэт фигуры без подробностей. Нет, сейчас она была повернута к нему лицом, но хитро поставленный ночник подсвечивал ее сзади и превращал в черную тень. Сколько ни пытался он разглядеть черты ее лица – в том месте тени, где оно предполагалось, это было невозможно.
– Добрый вечер, – сказала она.
– Добрый.
Потом оба глубоко вздохнули, и она сказала:
– Долго же мы ехали.
– Слишком долго. Я так ждал этого момен…
– Не надо, не говорите, – сказала она.
Он снова вгляделся в тень, в верхней части которой читалось тонкое бледное лицо.
– Но…
– Не надо.
Он задержал дыхание, потому что был точно уверен, что через десять секунд она заговорит сама. Так и случилось.
– Меня учили: если начинаешь писать рассказ, никогда не надо заранее придумывать название. Надо просто писать его – и все. Вот когда закончишь, тогда и станет понятно, как его лучше назвать. В общем… лучше помолчим.
Пожалуй, это была самая мудрая мысль, которую она высказала за весь вечер. Она замолчала и, кажется, окончательно превратилась в тень. Даже ночник погас вдруг сам собой, как будто бы без ее участия. После этого в темноте что-то пошевелилось – и на пол рядом с кроватью с ее стороны еле слышно упало что-то мягкое. Внезапно до него дошло, что это было. Перчатки. Она сняла их.
Каково же было его удивление, когда он вдруг осознал, что единственной деталью одежды, которая осталась на его теле, тоже были перчатки… Правда, когда он попытался их снять, выяснилось, что на каком-то этапе он уже их утратил – наверное, тоже уронил за борт, в темноту. Теперь он был полностью гол и беззащитен.
Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но она прервала его:
– Нет-нет, ничего не говорите.
Он почувствовал, что она придвинулась к нему поближе.
– Скажите мне только одну вещь.
Он кивнул, недоумевая, что это может быть.
– Скажите… – очень тихо сказала она.
Ему по-прежнему было не видно ее лица – его черты расплывались, как в окне трамвая, несущегося от станции к станции в бесконечном телевизионном сериале.
– Скажите мне… – повторила она. И он снова кивнул. – Сколько вам лет?
От неожиданности у него отвисла челюсть. Мозг в панике забился, пытаясь отыскать нужный ответ. Она повторила свой вопрос – и явно ждала от него чего-то определенного… И вдруг ему открылась эта абсолютная и удивительная истина. Он закрыл глаза, откашлялся и, наконец, обрел дар речи.
– Мне… – начал он.
– Ну же…
– Мне – восемнадцать. В августе исполнится девятнадцать, рост – метр семьдесят три, вес – шестьдесят восемь, темный шатен, глаза голубые. Свободен.
Ему показалось, он слышал, как она шепотом повторяет за ним каждое слово.
И чувствовал, как ее потерявшее вес тело придвигается к нему все ближе и ближе.
– А теперь скажи это еще раз, – прошептала она.
In memoriam[9]
В тот осенний вечер он ехал по извилистым улочкам, наслаждался погодой и любовался покрывшим все газоны фиолетовым снегом из лепестков палисандровых деревьев. Конечно, исподволь, боковым зрением он замечал их, эти штуки, прибитые возле каждого гаража. Про себя он даже никак не называл их – да и, собственно, к чему ему было про них думать?
Ну, баскетбольные щиты с кольцами. Ну, висят возле гаражей.
Ничего особенного. Никакого скрытого подтекста.
До тех пор, пока не подъехал к своему дому и не обнаружил на тротуаре жену, которая стояла, сложив руки, и наблюдала за неким молодым человеком, который лез на стремянку с отверткой и молотком в руках. Оба были так увлечены, что не замечали его – до тех пор, пока он не хлопнул дверцей машины. Как только молодой человек и жена обернулись, он тут же потребовал объяснений.
– Очень интересно… И что здесь происходит? – резко спросил он, с трудом узнавая собственный голос.
Жена, впрочем, была абсолютно невозмутима.
– Да ничего особенного, – сказала она, – мы просто хотим ее снять. Висит тут непонятно зачем, вот мы и…
Муж снова перевел взгляд на стремянку.
– А ну, слезай оттуда, – сказал он.
– Это почему еще? – спросила жена.
– По кочану – понятно? Слезай – и все!
Молодой человек нервно закатил глаза, но потом кивнул и начал спускаться.
– А теперь отнеси стремянку на место! – сказал муж.
– С каких это пор ты стал набрасываться на людей? И перестань кричать, в конце концов! – сказала жена.
– Я – кричу? О’кей. Пожалуйста, уж будьте добры, уберите отсюда стремянку… Большое вам спасибо.
– Ну, вот так-то получше, – сказала она.
Молодой человек занес лестницу в гараж, после чего молча сел в машину и уехал.
Муж и жена остались стоять посреди дороги – и при этом оба, не отрываясь, смотрели на баскетбольный щит.
– Ну, и что все это значит? – спросила она, когда машина скрылась за поворотом.
– А то ты не знаешь! – выкрикнул он, но тут же сбавил тон. – Ну вот, опять… – Он вдруг понял, что не может удержаться от слез. – Просто черт знает что!
– Черт, может, и знает. А ты сам – не очень-то. Да еще требуешь от других, – сказала она, смягчаясь. – Пойдем-ка лучше домой.
– Нет, мы еще не закончили.
– А что тут заканчивать? Стремянки все равно нет, кольцо висит на своем месте. Во всяком случае, пока.
– Что значит – пока? – вскипел он. – Не пока, а навсегда.
– Но зачем?
– Пусть будет. На всякий случай.
– На какой случай?
– Черт возьми, ну должно же быть на этой гребаной планете хоть одно место – чисто его! Оно же отсутствует, как класс. Его нет – ни на кладбище, ни вообще хоть где-нибудь. Тем более в Сайгоне… Когда я смотрю на него, здесь… ну, в общем, ты понимаешь.
Она подняла взгляд и посмотрела на баскетбольную сетку и кольцо.
– Да-да, понимаю. Потом ты начнешь приносить сюда цветы…
– Плохая шутка!
– Прости. Просто я вижу, ты никак не можешь это отпустить.
– А почему я должен это отпускать?
– Тебе же самому легче будет.
– А ему?
– Ну, это уж я не знаю. И ты тоже не знаешь.
– Неважно. Надоело. Где эта гребаная лестница? Сейчас раздолбаю ее к чертовой матери…
Он зашел в гараж, откопал в завалах старых газет баскетбольный мяч, выглянул наружу, бросил взгляд на кольцо и вдруг… успокоился.
– Голодный? – спросила жена, обращаясь к темноте внутри гаража.
– Никакой я не голодный, – устало сказал он.
– Пойду что-нибудь приготовлю.
Из гаража ему было слышно, как она поднялась на крыльцо и закрыла за собой дверь.
– Спасибо, – сказал он.
Он вышел и немного постоял под кольцом, глядя, как ветер треплет сетку.
– Почему? – еле слышно произнес он. – Ну почему?
Он посмотрел на ряды гаражей вдоль улицы – сначала в одну сторону, потом в другую. Там было полно баскетбольных щитов с кольцами – и тот же самый ветер теребил на них сетки. Никому не приходило в голову их снимать. У каждого находилась своя причина. Чтобы не снимать.
Он насчитал два щита на одной стороне улицы и три на другой.
И подумал, что по щитам можно сразу очень многое понять про людей, которые там живут.
Он стоял бы так и еще, если бы не заметил шевеление за стеклом входной двери – это была жена. Тогда он запер гараж и пошел в дом.
На столе он увидел вино – такое случалось нечасто. Она наполнила до краев два бокала.
– Ладно, прости, – сказала она. – Но тебе просто необходимо было это осознать… Что он не вернется. Больше никогда.
– Нет! – Он вскочил, опрокинул стул и швырнул на скатерть нож и вилку. – Не говори так!
– Кто-то же должен был произнести это вслух.
– Нет!
– Тем более что все уже давно говорено-переговорено. Столько лет прошло.
– Какая разница, сколько лет…
Она уткнулась в свою тарелку и сказала:
– Ладно, пей вино.
– Не командуй, что мне делать. – Хотя и не сразу, но он все же поднял свой бокал. – Спасибо тебе за все. – Он выпил.
Повисло долгое молчание, после чего она сказала:
– Сколько это еще будет продолжаться?
– Так ты сама первая начала.
– Ничего я не начинала. Я просто нашла стремянку и вызвала мастера.
– Просто нашла… Даже слишком просто.
– Но ты же не спишь ночами. С этим надо что-то делать, как-то приводить тебя в норму. И я подумала, что если я… Я ничего плохого не имела в виду. Ты посмотри на себя – ты ведь уже еле ходишь.
– Я? – Он почувствовал, как у него затряслись коленки. – Хотя… да, ты права, – кивнул он.
– Такое ощущение, – помолчав, продолжала она, – что ты ждешь чего-то. Но чего?
– Если бы я сам знал. – Он взял в руки вилку, но есть не стал. – Вчера всю ночь лежал и слушал. И позавчера тоже.
– Что слушал?
– Не знаю. Просто лежал и прислушивался. Но так ничего и не услышал.
– Ешь давай. А то ведь в обморок свалишься от голода.
– Хорошо бы.
– Ладно, уймись. И допивай вино.
Перед сном она сказала:
– А теперь постарайся уснуть.
– Как, по-твоему, я должен стараться? Это же происходит само собой.
– Ну, уж как-нибудь постарайся, – сказала она. – Меня очень беспокоит твое состояние… – Она поцеловала его в щеку и направилась к двери.
– Ладно, сейчас приду, – сказал он.
Издалека послышался бой университетских часов – они пробили полночь. Потом они пробили час ночи, потом два. А он все так же сидел с книгой на коленях и бутылкой вина под боком. Глаза его были прикрыты. Он ждал. И слушал, как за окном шумит ветер.
Когда часы вдалеке пробили три, он встал, вышел из дома и открыл гараж. Там он долго смотрел на баскетбольный мяч. Но потом все-таки не стал выносить его из темницы на свет. Просто оставил ворота открытыми.
Самое трудное было заставить себя не смотреть на баскетбольную корзину. Просто не замечать, как будто ее нет. Кто знает, может, это сработает?
Стоя в лунном свете, он закрыл глаза и весь превратился в слух. До умопомрачения, до боли в ушах – так, что стали отказывать ноги. Только не смотреть на щит, на кольцо, на сетку… Только не открывать глаза…
Сильный порыв ветра прошелестел по деревьям.
Кажется, началось, подумал он.
С царапаньем через дорогу перелетел пожухлый лист.
Ну, точно.
В шуме ветра ему послышался звук дальних шагов, как будто кто-то бежал к дому, потом перешел на шаг – и остановился…
Через мгновение движение возобновилось – теперь звуки перемещались по кругу, то медленнее, то быстрее.
Господи, да оно прямо здесь…
Не открывая глаз, он вытянул вперед руки, пытаясь нащупать что-нибудь в воздухе. Но там ничего не было. Только ветер и лунный свет.
Вот теперь – да.
И прямо сейчас.
Мысленно он произнес это еще раз и еще раз.
Да.
На рассвете он проснулся оттого, что жена присела на краешек его постели.
– Ее там нет, – сказала она.
– Кого?
Она кивнула в сторону окна.
Он медленно поднялся с постели, подошел к окну и посмотрел вниз.
На стене гаража не было ни щита, ни кольца, ни сетки.
– Что это значит? – спросила она.
– Что-то это явно значит…
– Что?
– Не знаю… Это все ветер. И луна. Луна же всегда влияет. Или что-то еще. Не знаю. Просто я… Не знаю.
Он замолчал. Жена сидела и ждала.
– Ладно уж, рассказывай, – сказала она наконец.
– Ну, хорошо. Я сказал ему: я не знаю, кто ты или что ты, только ответь мне: а что, если мы сыграем еще одну, последнюю игру – тогда я смогу нормально спать по ночам? Самую-самую последнюю? Вот так я спросил. И представляешь, ветер ответил мне. Я почувствовал, как он подул мне на лицо и на руки. И луна мне тоже ответила. Сначала она зашла за тучу, а потом сразу вышла. Я знаю: это точно был знак. Я специально пошевелился – и ветер опять мне ответил.
– И что дальше?
– А дальше – мы сыграли эту последнюю игру.
– Мне кажется, я слышала сквозь сон… – Она вздохнула. – Ну, и кто же победил?
– Победили оба, – сказал он.
– Оба не могут победить.
– Могут. Если постараться.
– Оба?
– Оба.
Она подошла к окну и вместе с ним посмотрела на опустевшую стену гаража.
– Это ты все снял?
– Нет, чужой дядя.
– Я не слышала, как ты доставал лестницу…
– Старался. Еле влез на нее, а уж спускаться – это вообще караул. Все глаза пылью засыпало. Под конец вообще ничего не видел.
– И куда ты все это засунул?
– Понятия не имею. Потом где-нибудь выскочит.
– Слава богу, что все закончилось.
– Да. Но это не главное.
– А что главное?
– Мы сыграли вничью, – сказал он. – Понимаешь – вничью…
Tête-à-tête
Летним вечером мы с моим приятелем Сидом шли по дощатому настилу Океанского парка, как вдруг на одной из скамеек, почти у самой воды, я заметил знакомую картину.
– Погоди, – тихо сказал я, – притормози-ка…
Мы остановились и прислушались.
На скамейке сидела старая еврейская чета, ему я дал бы лет семьдесят, ей – лет шестьдесят пять. Оба что-то непрерывно говорили и размахивали руками, при этом никто никого не слушал.
– Сколько можно повторять одно и то же! – сказал он.
– Ой, извини, ты что-то говорил? А я и не заметила! – огрызнулась она.
– Вот именно – что-то! Я всю жизнь тебе что-то говорю! И таки не самую последнюю чушь, если бы ты хоть раз соизволила подумать!
– Ой, ой, вы только послушайте его! – бешено вращая глазами, сказала она. – Всю жизнь! Может, перескажешь все по списку?
– С удовольствием, могу начать прямо со свадьбы.
– С какой еще свадьбы?
– С той самой. С этого дурдома, за который я выложил кругленькую…
– Ой-ой… Это кто это выложил?!
– Да я тебе в два счета докажу, что…
– Ой, я тебя умоляю – кто таки станет тебя слушать…
Et cetera, et cetera…[10]
– Жалко, что нет диктофона, – сказал я.
– А зачем? – пожал плечами Сид. – Я и так все запомнил. Можешь разбудить меня ночью – и я воспроизведу тебе их разговор слово в слово.
Мы двинулись дальше.
– Можешь себе представить, – сказал я, – они сидят на этой самой скамейке каждый вечер, и так – уже много-много лет!
– Ого, – протянул Сид. – Да они комики со стажем.
– Не говори так. Это совсем не смешно. Скорее грустно.
– Что? Грустно? Да брось ты! По-моему, их хоть завтра можно выпускать на сцену – играть водевили в «Орфеуме»![11]
– Но разве это не грустно?
– Да ладно тебе, расслабься. Готов поспорить, что они вместе уже лет пятьдесят. Этот бред они начали нести еще до свадьбы – и несут по сей день, с тех пор как кончился их медовый месяц.
– Но они ведь совсем не слушают друг друга!
– Ну и что, они же соблюдают очередь. Сначала она его не слушает, потом он ее. А послушали бы – так все бы и закончилось. Сразу бы охладели друг к другу. Это их возбуждает, понимаешь – по Фрейду.
– Но с чего ты это взял?
– Да они просто все выплескивают – все недовольство, все страхи. Спорим, они и в постели не прекращают свою перебранку, а через пару минут оба засыпают с блаженной улыбкой на устах!
– Ты правда так думаешь?
– Не думаю, а знаю. Мои дядя и тетя вели себя примерно так же. На самом деле взвешенная доза взаимных оскорблений продлевает жизнь.
– И сколько же они прожили?
– Тетя Фанни и дядя Эйза? Восемьдесят и восемьдесят девять.
– Так долго?
– Особая словесная диета, постоянно держали себя в тонусе. Это такой еврейский бадминтон: он подает – она отбивает, она подает – он отбивает. Никто не выигрывает, но ведь, черт возьми, никто и не проигрывает!
– Никогда не думал об этом в таком разрезе.
– Ну, так подумай. Пошли назад, пора бы и перекусить.
На обратном пути мы снова поравнялись с местом романтических летних рандеву.
– И еще кое-что! – кипятился старик.
– Кое-что! Да тут не кое-что… Тут тридцать кое-что!
– А ты прямо подсчитала!
– Да, подсчитала! Господи, да куда девался этот список?
– Какой еще список? Кому они нужны – твои списки…
– Мне нужны! Тебе не нужны, а мне нужны!
– Дай мне договорить! Я не закончил…
– Как можно закончить нескончаемое? – философски заметил Сид, в то время как мы покинули зону слышимости, так и не выслушав главные аргументы.
Через пару дней он позвонил мне.
– Я нашел диктофон.
– Зачем?
– Ты – писатель. Я – писатель. Почему бы не подсобрать топлива для наших мельниц?
– Ну, давай…
– Тогда будь готов, заеду прямо сейчас.
И мы пошли. Опять был чудесный теплый вечер, какие часто случаются в Калифорнии и о которых лучше не рассказывать родственникам с восточного побережья, а то те поверят и тут же нагрянут в гости.
– Ничего не хочу слышать! – говорил он.
– Нет уж, ты послушай! – вторила она.
– Спасайте, люди добрые! – Я зажмурился. – Действие второе. Те же. Партия продолжается, волан в игре. Проигравших нет. Ты что, правда собрался включать диктофон?
– Даже Дик Трейси[12] им пользовался, а мы что, хуже?
Мы подошли поближе, и я услышал легкий щелчок включаемого устройства.
– Как же его звали? Ах да, Айзек!
– Никакой не Айзек!
– Нет, Айзек!
– Да Аарон же его звали!
– Какой еще Аарон! Аарон – это старший!
– Нет, младший!
– Да какой дурак тебе это сказал?
– Какой, какой… Ты сам и сказал!
– Попрошу без оскорблений.
– Что, правда глаза колет?
– Да я тебе в два счета докажу, что…
– Отлично, с пылу с жару! – сказал Сид, когда мы тихо ретировались, унося с собой в кармане их голоса.
Дело пошло – на следующий день мы записали их еще раз, потом – еще раз и еще.
А потом вдруг скамейка опустела. Они не пришли один вечер, другой…
Когда я не обнаружил их и в третий раз, я зашел в небольшой кошерный магазинчик по соседству и, указав на скамейку, спросил, куда пропали ее завсегдатаи – я ведь не знал их имен. Конечно, знаем, сказали мне. Это Роза и Эл, Эл и Роза Штайн. Да, они ходили сюда много лет, ни одного вечера не пропустили. Но теперь – все. Эл больше не придет. Такие вот дела. Во вторник его не стало. Опустела теперь скамейка – очень непривычно. Ну да что тут сделаешь?
Я сделал то, что я мог сделать, внезапно обнаружив, что я действительно грущу о них – об этих двух совершенно незнакомых мне людях, вдруг ставших знакомыми. В маленькой местной синагоге я узнал название крошечного кладбища и однажды вечером отправился туда, сам не зная зачем. При этом я чувствовал себя так же, как когда-то давно, когда мне было лет двенадцать и я – гой – решился заглянуть в синагогу в центре Лос-Анджелеса, чтобы послушать, как поют и молятся все эти дядьки в шляпах.
Конечно, эта женщина была там, на кладбище. Сидела возле камня, на котором было вырезано его имя, и говорила, говорила, говорила – и иногда трогала камень рукой.
А что же он? А он, как всегда, ее не слышал.
Некоторое время я постоял там с закрытыми глазами и послушал. Потом ушел.
Когда солнце совсем село и спустился туман, я отправился в парк, к заветной скамейке. Она по-прежнему пустовала, и это выглядело ужасно.
Но что еще я мог сделать?
Я позвонил Сиду.
– Я по поводу диктофона. У тебя сохранились… те пленки?
В один из последних летних вечеров мы с Сидом, как обычно, прошли через кошерный рынок на площади, где продавалась знатная пастрома[13] и фирменные ватрушки «Эмпориум», и вырулили на променад с рядами скамеек вдоль моря. И вдруг Сид сказал:
– Интересно, интересно…
– Что тебе интересно? – спросил я и увидел, что он смотрит в сторону той самой скамейки. К тому времени она пустовала уже неделю.
– Смотри… – Он тронул меня за локоть. – Там, кажется, та самая бабуля.
– Ну и что?
– Все-таки вернулась! А я думал, заболела или еще что. А она – вот.
– А я знаю, – улыбнулся я.
– Да откуда тебе знать? А это точно та же скамейка? Ну да. Да и тетка вроде та же – болтает без умолку, как ненормальная…
– Та же, та же.
Мы подошли уже совсем близко.
– Слушай, – прошептал он еле слышно. – Но ведь рядом никого нет. Похоже, она разговаривает сама с собой!
– Это только так кажется, – совсем тихо сказал я, потому что мы подошли уже вплотную. – Ты послушай.
– Ой, ну не морочь мне голову! Кому нужны твои смешные аргументы? – говорила бабуля, с горящим взглядом обращаясь к пустой половине скамейки. – Аргументы у него! Да если надо, я их тебе хоть тысячу приведу!
И вдруг случилась еще более странная вещь.
– Это ты-то? – произнес в ответ чей-то голос. – Нечего сказать, дожили!
– Это же тот самый голос! – воскликнул Сид, потом спохватился и добавил шепотом: – Его голос… Но ведь он же умер!
– Да, умер, – отозвался я.
– Но это еще ладно, – продолжала бабуля, – ты посмотри, как ты ешь. Просто понаблюдай!
– Легко тебе говорить… – Голос старика вдруг стал звучать тише.
– А тебе-то кто мешает? Говори!
Послышался щелчок. Сид скользнул взглядом вниз и увидел в руках у бабули… свой диктофон.
– И еще кое-что, – сказала она вживую.
Щелк.
– С какой стати я должен все это терпеть?! – проорал голос в записи.
Щелк.
– Да-да, у меня есть для тебя кое-что, что тебе не понравится! – выкрикнула она вживую.
Сид внимательно посмотрел на меня.
– Это ты? – спросил он.
– Ну, я… – сказал я.
– Но как?
– Взял все записи со всех вечеров. Потом переписал на отдельную кассету все его реплики и оставил между ними паузы, чтобы она успевала что-нибудь прошамкать в ответ. В некоторых местах записал чисто его вопли, когда ответ не нужен. А если что, она может остановить диктофон и проораться сама. А потом уже включать дальше…
– Но… как тебе это пришло в голову?
– Увидел ее на кладбище, – сказал я, – и сам чуть не умер. Представляешь, она разговаривала с холодным куском мрамора. В полной тишине. И вот тогда я переписал твои пленки, все эти его вопли и причитания, и вечером опять пришел на кладбище. Она, конечно, была там – думаю, она собиралась остаться там навечно и умереть с голоду. Ведь мрамор ей не отвечал. А ответ всегда нужен, даже если ты его не слушаешь или думаешь, что не слушаешь. Поэтому я подошел к могиле, включил диктофон, убедился, что из него доносятся выкрики старика, и отдал ей прямо в руки. И не смотрел, что будет дальше, станет ли она что-нибудь орать ему в ответ или нет. Просто ушел – и все. Только он и она. Она и он. Высокий голос, низкий голос. Низкий, высокий… В общем, ушел. А уже вчера вечером она сидела здесь на скамейке и ела ватрушку. Думаю, теперь она собирается жить дальше. Ну разве это не классно?
Сид прислушался к возмущенному голосу старика:
– С какой стати я должен все это терпеть? Кто-нибудь мне скажет? Я жду. А?
– С превеликим удовольствием! – кричала в ответ бабуля.
Мы с Сидом двинулись к выходу. Позади нас таяли в летних сумерках два голоса – ее высокий и его низкий.
По дороге Сид проникновенно взял меня под руку.
– Хоть ты и гой, – сказал он, – но здесь поступил как истинный еврей. Так и хочется сделать для тебя что-нибудь хорошее… Только вот не знаю что.
– Может, по пастроме? Под водочку, а?
Полуночный танец дракона
Помните, какое прозвище было у Аарона Штолица? Еще давно, раньше? «Продюсер, летящий на крыльях ночи»… А те две студии – кто-нибудь помнит? Одна – размером с рояль, другая – вообще как коробка из-под печенья? Я тогда там работал – первая дверь слева от входа на кладбище Санта-Моника. Бывало, стучится к нам покойник, а мы ему – ой, извините, вы, кажется, ошиблись дверью!
Чем я там занимался? Плагиатом, конечно. Перелицовывал чужие сценарии, крал музыку – и из всего этого мы монтировали фильмы. Например, такие, как «Монстр в парадной» (эту ленту очень любила моя мама, она напоминала ей о детстве в родительском доме), «Заводной мамонт», «Чокнутая бацилла» или «Нашествие тлей-гигантов»… И все это мы снимали исключительно по ночам – между заходом и восходом солнца.
А потом одним разом все изменилось. Ту страшную и прекрасную ночь, после которой Аарон Штолиц проснулся богатым и знаменитым, я помню едва не по минутам…
Все началось в жаркий сентябрьский вечер, когда в студии зазвонил телефон. Как сейчас помню, Аарон сидел в своем «офисе» метр на метр, скрываясь от назойливых, как мухи, полицейских. Я в соседней комнате монтировал на ворованном оборудовании очередную «нетленку»… И вдруг тишину прорезал истошный звонок. От неожиданности мы даже подпрыгнули, будто это был не обычный телефонный сигнал, а настигший нас из глубины веков вопль обманутых жен.
В конце концов пришлось подойти.
– Привет! – произнес голос в трубке. – Это Джо Самасуку – из кинотеатра «Самурай Самасуку»! Выручайте: у нас по расписанию на восемь тридцать назначена премьера – настоящий фильм о самураях от японской киностудии. Но пленка застряла где-то на фестивале – не то в Пакойме, не то в Сан-Луис-Обиспо… Так вот. Нет ли у вас какого-нибудь широкоэкранного фильма на девяносто минут – или о самураях, или типа какой-нибудь китайской сказки? Плачу пятьдесят баксов сразу. Можешь назвать мне навскидку несколько названий, из последних? Что-нибудь о крутых парнях, которые сухими выходят из воды?
– «Остров бешеных обезьян»…
Повисшая пауза говорила сама за себя.
– «Две тонны кошмара»…
Судя по выразительному шуршанию, хозяин кинотеатра «Самурай Самасуку» уже готов был нажать на рычаг, но тут…
– «Полуночный танец дракона»! – поспешно выкрикнул я.
– А вот это ничего… – Голос на том конце провода выдохнул сигаретный дым. – Дракон нам подойдет… Сможете закончить монтаж и озвучку часа через… ну хотя бы часа через полтора?
– Да не вопрос! – сказал я и повесил трубку.
– Как ты сказал – «Полуночный танец дракона»? – переспросил Аарон, появляясь в дверях. – У нас что, есть такой фильм?
– Будет! – Я выложил перед камерой ряд из заглавных букв. – Внимание! Остров бешеных обезьян превращается… в танец – в какой-нибудь там танец дракона…
Я поменял в титрах название, быстренько разобрался с музыкой, прокрутив задом наперед какие-то старые записи Леонарда Бернстайна[14], после чего перекидал все двадцать четыре бобины с пленкой в наш «Фольксваген». Должен сказать, что обычно такое количество бобин требуется только на стадии монтажа: для показа фильм перегоняют на девять, и он прекрасно на них умещается. Но у меня уже не было времени на перемотку. Поэтому я справедливо заключил, что самурай Самасука переживет и так. В конце концов это форс-мажорная ситуация – можно и повозиться с монтажными катушками.
Чуть не врезавшись в ограду, мы подкатили к кинотеатру и срочно потащили бобины наверх, в киноаппаратную. Там нас с мрачным сопением уже поджидал какой-то Кинг-Конг, который, судя по запаху, уже изрядно накачался шерри. Ни слова не говоря, он сгреб разом все бобины, затащил в свою будку и захлопнул за собой тяжелую металлическую дверь.
– Э-э-э! – с тревогой выкрикнул Аарон.
– Пошли скорей, надо забрать наши пятьдесят баксов! – сказал я. – А то после фильма – как бы не было поздно…
Мы побежали обратно. И услышали крики, которые доносились снизу:
– Я разорен! Я разорен!
Там стоял Джо Самасуку и буквально рвал на себе волосы, глядя на огромную толпу перед входом в зал.
– Джо! – воскликнули мы в один голос.
– Вы только посмотрите вот на это… – простонал он. – Я же всем разослал телеграммы, что премьеры не будет, а они все равно приперлись! Все, как один, тут: и «Variety», и «Saturday Review», и «Sight and Sound», и «Manchester Guardian», и «Avant-Garde Cinema Review»… О нет, я этого не вынесу! Пойду сожру какой-нибудь несъедобной американской еды…
– Без паники, – сказал Аарон, – в конце концов не такой уж у нас и тупой фильм…
– Разве? – с сомнением в голосе сказал я. – Для этих-то суперснобов? Ох, боюсь, как бы не пришлось после этого показа переименовать фирму в «Харакири Продакшн»…
– Я сказал – без паники, – с невозмутимым видом произнес Аарон, – спокойно и организованно перемещаемся в соседний бар.
Фильм начинался с мощного замеса опусов Дмитрия Темкина[15], которые были пущены задом наперед, поставлены с ног на голову и вывернуты наизнанку. Музыка грянула.
И мы отправились в бар. Однако не успели мы принять двойную порцию покоя и умиротворения, как за стенкой послышались раскатистые звуки морского прибоя. Это означало, что публика в зале дружно охает и вздыхает.
Мы с Аароном срочно метнулись обратно в кинотеатр – проверить, что за коленца там выкидывает наш танцующий дракон.
Увиденное вызвало у меня невольный стон. Развернувшись на месте, я срочно рванул наверх в аппаратную и, встретив на своем пути запертую металлическую дверь, принялся колотить по ней своими субтильными кулачками.
– Эй ты, гнида! Ты же перепутал катушки! Слышишь, придурок! Вместо второй поставил четвертую!
Прибежал запыхавшийся Аарон и прислонился к запертой двери ухом.
– Нет, ты только послушай, – сказал он.
Из аппаратной доносилось мелодичное звяканье льда, который бросали явно не просто в воду.
– Он же пьет…
– Да он и был-то хорош!
– Ладно, хрен с ним… – сказал я, чувствуя, как меня прошибает холодный пот. – В одной катушке всего пять минут. Может, никто ничего и не заметит… Эй ты! Там! – проорал я, изо всех сил пнув по двери ногой. – Считай, что мы тебя предупредили! Расставь бобины по порядку, придурок! Пошли, Аарон… – С этими словами я схватил его и поволок вниз по лестнице. – Нам надо срочно купить еще немного покоя и умиротворения.
Едва мы покончили со вторым мартини, как в зале зашумел не то что прибой, а целое цунами.
Я бросился обратно в кинотеатр, взбежал наверх к аппаратной, встал под металлической дверью и принялся орать в дырку от замка:
– Ты, маньяк! Истребитель всего живого! Ты зачем поставил шестую катушку? Когда надо третью! Или ты живо откроешь мне дверь, или я придушу тебя собственными руками!
Конечно, он открыл. Очередную бутылку. Урод. Мне было отлично слышно, как он шарахается по аппаратной, то и дело пиная жестяные коробки с фильмом.
На несколько секунд я перевоплотился в Медею, которая рвет на себе волосы от горя, но потом взял себя в руки и из последних сил приполз обратно в бар. Там я обнаружил Аарона, внимательно изучающего глубины своего стакана.
– Интересно, все киномеханики так по-черному пьют? – задумчиво спросил он.
– Все ли киты плавают под водой или какая-то часть идет на дно? – продекламировал я, не открывая глаз. – Видел ли ты тонущего в океане левиафана?
– Да ты, брат, поэт… – с почтением заметил Аарон. – Давай-ка задвинь еще что-нибудь.
– Мой шурин пятнадцать лет проработал киномехаником в «TriLux Studio», – сказал я, – и все пятнадцать не просыхал.
– Это наводит на размышления…
– Еще как наводит. Представь себе, что тебе пятнадцать лет подряд пришлось бы изо дня в день раз по сто крутить какое-нибудь «Седло греха», в миллионный раз пересматривать «Любовное гнездышко» или возиться с перемонтированными «Сетями страсти». Да от одних только звуков можно уже свихнуться. А если это кинотеатр с безостановочным показом? Даже подумать страшно. Ты бы смог девяносто раз подряд смотреть «Харлоу» с Кэрролл Бейкер?[16] Это же верное безумие. Впору на стенку лезть. Дальше – больше. Бессонница, импотенция… И как тут, скажи, не запить? Вполне понятно, почему, как только приходит вечер, по всей Америке – от маленьких поселков и фортов до больших неоновых городов – все киномеханики напиваются в стельку… Да-да, Аарон, они просто надираются в хлам, как последние забулдыги. Все без исключения. В сиську, в дрова, в муку – как хочешь. И у них нет другого выхода…
После моей речи мы оба погрузились в нелегкие размышления. Потягивая свой мартини, я пытался представить себе тысячи разбросанных по всему континенту киномехаников, и в глазах у меня стояли слезы.
Но тут в зале опять поднялся гвалт.
– Пойди глянь, что этот придурок выкинул на этот раз, – сказал Аарон.
– Я боюсь.
Теперь кинотеатр буквально содрогался от шквала эмоций. Сидеть в баре стало как-то неуютно, и мы побежали в зал.
– Всего у него там двадцать четыре бобины, так? – сказал я, бросив недобрый взгляд на окошко аппаратной. – Аарон, ты хорошо считаешь? Прикинь, сколько возможно комбинаций подбора этих чертовых катушек? Допустим, девятая вместо пятой. Одиннадцатая вместо шестнадцатой. Восьмая вместо двадцатой. Тринадцатая вместо…
– Хватит! – простонал Аарон и схватился за голову.
Мы принялись нарезать круги вокруг квартала, и я бы никак не назвал это прогулкой. Скорее, это были нервные пробежки. Мы сделали кругов шесть – и с каждым разом вопли и свист в зале становились все громче, пока не переросли в один сплошной рев.
– Господи, кажется, они ломают под собой сиденья…
– Да нет, не может быть.
– А если они решили сами свергнуть себя с престола? И уничтожить свой род до десятого колена!
– Кто – кинокритики? Ты думаешь, у них есть понятие о родовой чести? Не смеши меня. Там в ходу совсем другие ценности, эполеты, ленточки в петлице… Пять раз в неделю – тренажерный зал. По выходным – пойти попускать кораблики. Военные модели, конечно… А ты – уничтожить свой род… Вот переломать коллегам кости в области запястья – другое дело.
В это время публика в зале подняла такой шум и свист, что, казалось, еще минута – и полуночный дракон разнесет к чертям этот памятник калифорнийской архитектуры вместе с храмом киноискусства.
Я приоткрыл дверь – проверить, что происходит на экране. И тут же закрыл обратно.
– Теперь девятнадцатая вместо десятой.
В это мгновенье из кинотеатра выбежал хозяин – белый, как японская лилия. По щекам его текли слезы. Похоже, он окончательно слетел с катушек.
– Что вы наделали! Вы видели, что там творится? – визжал он. – Мошенники! Ублюдки! Тунеядцы! Вы уничтожили мой театр! «Самурая Джо Самасуку» больше нет!
При этом он пытался броситься на меня – так, что мне приходилось уворачиваться.
– Ну, будет тебе, Джо, – пытался успокоить его я. – Не надо говорить заранее…
Между тем музыка все нарастала. Казалось, что публика надувает ее, как шар, с каждым новым вздохом. И что вот-вот разразится взрыв, в результате которого материя отделится от сознания, как мясо от костей…
Джо Самасуку вдруг застыл, как будто в него попала пуля. Потом сунул мне в руку какой-то ключ и со словами: «Вызовешь полицию, пригласишь уборщиков, запрешь двери, если будет, что запирать, мне не звони – позвоню сам!» – в ту же секунду испарился.
Мы уже готовы были броситься за ним в погоню, чтобы не дать ему улизнуть со двора и затеряться в трущобах. Но в этот момент раздались пронзительные звуки финала, в которых я узнал фигурную нарезку из произведений Берлиоза, щедро украшенную литаврами, позаимствованными у Бетховена…
После этого повисла гробовая тишина.
Мы с Аароном в ужасе уставились на плотно запертые двери.
Всего через несколько секунд они со стуком распахнулись, и оттуда с дикими воплями вырвалась наружу совершенно обезумевшая толпа. А еще через секунду мы осознали, что этот огромный копошащийся зверь, состоящий из множества глаз, множества рук и множества ног в туфлях, движется прямо на нас.
– Черт, умирать-то как не хочется… – вздохнул Аарон.
– Думать надо было, прежде чем лезть в эту задницу, – сказал я.
Зверь остановился, словно принюхиваясь. И мы посмотрели ему в глаза. А он – нам.
– Это они! – истошно заорал кто-то в толпе. – Продюсер и постановщик!
– Прощай, Аарон, – сказал я.
– С богом, – сказал Аарон.
Тысячеголовый зверь с утробным рычанием набросился на нас и вдруг… поднял нас на руки и принялся качать. В следующую секунду мы буквально утонули в море ликования и восторга – все вокруг пели, веселились, хлопали нас по плечу. Нас трижды обнесли по внутреннему дворику, потом вытащили на улицу, потом втащили обратно…
– Смотри, Аарон!
Вглядевшись в бурлящее под нами море блаженных улыбок, я обнаружил там довольного как никогда обозревателя «Manchester Guardian». Потом – критика из «Greenwich Village Avanti», в обычной жизни известного как злобный тип, страдающий диспепсией. Неподалеку от них резвились в экстазе второразрядные обозреватели из «Saturday Review», «The Nation» и «The New Republic». А от самых дальних берегов приветственно махали радостные представители всяких там «Partisan Review», «Sight and Sound», «Cinema» и черт его знает чего еще.
– Это невероятно! – выкрикивали они. – Потрясающе! Это даже круче, чем «Хиросима, любовь моя»![17] И в десять раз круче, чем «Прошлым летом в Мариенбаде»![18] И уж точно в сто раз круче «Алчности»![19] Гениально! Классика! Фильм-шедевр! Хваленый «Гигант» Стивенса[20] по сравнению с ним – просто жалкий карлик! К нам пришла новая американская волна! Расскажите, как вам это удалось?
– Что нам удалось? – крикнул я Аарону, глядя, как его заносят на четвертый круг.
– Закрой рот, а не то вылетишь из седла! – отозвался Аарон, проплывая мимо по волнам бескрайнего океана человеколюбия.
Я зажмурился, пытаясь подавить непрошеные слезы. И вдруг заметил, как из темноты окошка аппаратной вылезло нечто. Свесившись, оно изумленно вытаращило глаза на происходящее внизу буйство. Потом ощупало свое лицо, как бы проверяя, на месте ли оно. После чего, посмотрев на бутылку, зажатую в другой руке, скрылось в темноте – я и рта не успел раскрыть.
Когда всем этим гоблинам с газелями надоело скакать, хихикать и выкрикивать комплименты, нас с Аароном торжественно поставили на землю и объявили вердикт:
– Это величайший авангардный фильм всех времен и народов!
– Мы на это и рассчитывали, – со спокойным достоинством отреагировал я.
Мой ответ утонул в криках:
– Бесподобная работа оператора! Гениальный монтаж! Обратная временная перспектива!
– Мы старались, – скромно потупившись, произнес Аарон.
– Скажите, вы представите картину на Эдинбургском фестивале, не так ли?
– Не так! – ляпнул совершенно ошалевший Аарон.
– Думаю, сначала мы покажем ее на Каннском кинофестивале, – закончил за него я.
Наконец отщелкали вспышки фотоаппаратов, и толпа, словно под действием торнадо, унесшего Дороти в страну Оз, стремительно рассосалась, напоследок загрузив нас обещаниями явиться на коктейльные вечеринки, дать интервью и написать статьи – ну конечно, прямо завтра, буквально через неделю, непременно через месяц, только не забудьте!
Во внутреннем дворике наступила тишина. Было слышно, как изо рта сатира, одиноко торчащего в наполовину пересохшем фонтане, срываются капли воды. Довольно долго Аарон стоял, уставившись взглядом в никуда. Потом умылся и обрел дар речи.
– Механик! – осенило его.
В несколько прыжков мы взбежали по лестнице и остановились возле железной двери. На этот раз мы не колотили по ней, а ласково скреблись, как голодные котята.
После долгого молчания из-за двери послышалось:
– Может, не надо? Я же не нарочно. Я готов извиниться.
– Не нарочно, говоришь? Вот и отлично, давай открывай! Считай, что мы тебя уже простили, – сказал Аарон.
– Не-е, ну вас на фиг, – отозвался голос. – Идите уже.
– Нет уж, радость ты наша, мы уйдем только с тобой вместе. Мы ведь так нежно тебя любим. Правда, Сэм?
Я согласно кивнул.
– Нежнее не бывает.
– Вы что, совсем того-этого?
Судя по звукам, киномеханик форсировал завалы из жестяных коробок, после чего дверь распахнулась.
У него было красное, как у рака, лицо и такие красные же глаза.
– Ну, бейте, – сквозь зубы сказал он, – ну, убейте меня теперь.
– Убить? Тебя?! То есть на наших глазах происходит единственный случай в истории, когда мясо сбегает из банки с консервами… а ты предлагаешь нам его съесть? Нет уж, бесценный ты наш!
Аарон проворно подскочил к киномеханику и запечатлел у него на щеке звонкий поцелуй. Тот в ужасе попятился и замахал руками так, словно пытался отбиться от стаи ос.
– Не надо, ребята, я все разложу, как было… – Он наклонился с намерением немедленно разворошить клубок змей, который когда-то был ровными стопками бобин с нашим фильмом. – Я разберусь…
– Стоять! – гаркнул Аарон.
Механик замер.
– Ты, главное, ничего здесь не трогай, – заботливо, как врач, продолжал Аарон, – Сэм… Будешь за ним записывать. Карандаш есть? Отлично… Ну-с… и как же нас зовут?
– Уиллис Хорнбек.
– Уиллис, значит. Очень хорошо. Ну, давай, Вилли, колись, в каком порядке ты ставил пленки? Выкладывай. Первую, вторую, третью – и дальше, все, что ты там переставлял, менял и ставил раком.
– Вы хотите сказать, что… – ошалело заморгал киномеханик.
– Да-да, нам нужна схема сегодняшнего показа. Если ты не в курсе – сегодня вечером ты показал публике лучший авангардный фильм всех времен и народов.
– Ну и дела! – Уиллис нервно хохотнул и закашлялся, пытаясь охватить взором фрагменты своего «шедевра», ровным слоем покрывающие весь пол.
– Уиллис, детка, – сказал Аарон, – знаешь, как ты будешь называться после своего беспрецедентного творческого выброса?
– Засранец? – Хорнбек прищурил один глаз.
– Первый помощник главного продюсера компании «Hasurai Production», не хочешь? Да что там – сделаем тебя режиссером монтажа, редактором, да хоть главным! Все у тебя будет: и контракт сроком на десять лет, и карьерный рост, и особые условия, и участие в капитале, и проценты… А пока – к делу. Сэм, ты нашел карандаш? Итак, Уиллис. Расскажи, как ты все это делал?
– Но я… – произнес Уиллис Хорнбек, – …ничего не помню.
У Аарона вырвался смешок.
– То есть как это – не помнишь?
– Я же пьяный был… А сейчас протрезвел. Я всегда, когда выпью, потом не помню ни хера…
Мы с Аароном обменялись взглядами, полными отчаяния. Но потом я заметил кое-что на полу, и у меня появилась идея.
– Так-так… – сказал я и наклонился.
Когда я разогнулся, в руке у меня была бутылка. Вернее, полбутылки шерри.
– Итак, Уиллис… – сказал Аарон.
– Да, сэр?
– Дорогой Уиллис…
– Да, сэр?
– Несравненный Уиллис. Сейчас я включу проектор…
– И что?
– И ты, Уиллис, будешь пить. Ты будешь пить, пока не допьешь весь свой – что у тебя там в бутылке… Понял?
– Да, сэр.
– А ты, Сэм…
– Слушаю, сэр! – сказал я, взяв под козырек.
– Ты, Сэм, – продолжил свою мысль Аарон, одним щелчком выпуская из проектора светлый луч надежды, – запри, пожалуйста, хорошенько эту замечательную, очень надежную дверь.
В темноте опустевшего зала вспыхнуло полотно экрана, белое и чистое, как холст, на котором вот-вот появится творение гениального мастера.
Я захлопнул тяжелую кованную железом дверь и запер ее на ключ…
Наш дракон со своим полуночным танцем проскакал по всем кинофестивалям планеты. Мы приручили льва на Венецианском кинофестивале, удостоились главного приза Нью-Йоркского фестиваля и специального приза Всемирного фестиваля кино в Бразилии. А потом понеслось… На волне успеха мы настряпали пять новых шедевров. Фильм «Мерзости» стал второй сенсацией в рейтинге нашего международного признания – сразу после «Дракона». А следом за ним, в порядке очереди, триумф настиг и остальные наши ленты. «Мистер Монстр», «Наезд», «Хлыст» и «Просто ужас».
Теперь имена Аарона Штолица и Уиллиса Хорнбека произносили с придыханием прокатчики всего мира.
Вы спросите, как нам удалось изготовить еще пять безусловных хитов?
Отвечу: ровно по тому же рецепту.
Закончив съемки очередного фильма, мы арендовали на всю ночь кинотеатр «Самасуку», хватали за шкирку Уиллиса, вливали ему в глотку бутылку первоклассного шерри, давали в руки катушки с фильмом, включали проектор и запирали дверь.
За ночь причудливый гений Уиллиса, который базировался явно не в верхней части туловища, успевал мелко порубить, поджарить, посолить и приправить остреньким безвкусное содержимое наших пленок. А уже к утру аппетитное блюдо из монстров, которого с таким нетерпением ждали киногурманы Калькутты и Фар-Рокауэя, было готово к подаче. О, эти дивные бессонные ночи в киноаппаратной… Они всегда будут жить в моих воспоминаниях и скрашивать унылые дни! И Уиллис, который носится с бобинами по аппаратной, и стрекочущий звук проектора, и тени на потолке, и первые утренние лучи во внутреннем дворике – золотые, как символ нашего финансового успеха…
Наши дела шли отлично: мы снимали ленту за лентой, нам вручали все больше растений и животных, рубли и песо текли к нам рекой. А уж когда Аарон и Уиллис получили «Оскара» в номинации «Экспериментальное кино», мы пересели в самые дорогие «Ягуары». Казалось, счастье должно было длиться вечно.
Но не тут-то было.
Прошло всего три года с тех пор, как мы оседлали нашего авангардного конька, три чудесных, блистательных года. И вот…
Однажды, в один непрекрасный день, когда Аарон, радостно потирая ручки, любовался своим банковским счетом, в его кабинет вошел мрачный Уиллис Хорнбек. Подойдя к большому панорамному окну, из которого открывался вид на гигантскую съемочную площадку «Hasurai Production», он закрыл глаза. А потом набрал побольше воздуху и, бия себя в грудь (впрочем, весьма деликатно) и пытаясь оторвать себе манжеты (тоже без особого фанатизма), тихо сказал:
– Я – алкоголик… Жалкий алкаш. Пьянь подзаборная. Пропойца. Забулдыга. Я пью спирт для компрессов. Мне уже все равно, что пить. Одеколон? Пожалуйста. Скипидар? Палубный лак? Не вопрос. Жидкость для снятия лака? Запросто. И каждый раз – в говно, каждый раз до потери пульса… И я спросил себя: может быть, хватит? Ты что, хочешь сдохнуть, Уиллис Хорнбек? Пора завязывать пить, урод. Пора уходить в завязку…
В ужасе мы с Аароном бросились к нашему сокровищу, пытаясь привести его в чувство.
– Уиллис! Уиллис! Что с тобой?
– Ничего. Со мной все в порядке. – Когда он открыл глаза, в них стояли слезы. – Ребята, поймите, я не хочу подставлять вас. Вы такие хорошие… Но вчера вечером… – Он сжал нам руки.
– Что – вчера вечером? – упавшим голосом произнес Аарон.
– Вчера вечером я вступил в Общество анонимных алкоголиков.
– Что?! – сорвался в фальцет Аарон.
– Я говорю – в Общество анонимных алкоголиков. Вступил.
– Нет, ты не мог этого сделать! – Аарон сел на стул, потом вскочил, а потом опять сел. – Ведь ты же – наше сердце. Наша душа. Наши легкие и глаза… Ты и есть «Hasurai Production»!
– А думаешь, кем я сам себя считаю? – с невинным видом произнес Уиллис.
– И что? Тебе так сильно не нравится быть гением? А, Вилли? – все сильнее заводился Аарон. – Не нравится, что тебя узнают на улицах. Что ты – мировая знаменитость, важная персона… Тебе что, этого всего мало? Теперь еще приспичило бросить пить?
– Да мы тут все – мировые знаменитости, – сказал Уиллис. – Нас все любят, у нас все хорошо. С чего мне теперь пить? В меня просто не лезет никакой алкоголь…
– Не лезет? – крикнул Аарон. – Так пихай его силой!
– Ты что, шутишь? – сказал Уиллис. – Это что же получается – раньше я пил, потому что был полным ничтожеством. А теперь если я брошу пить, то из-за этого целая огромная студия накроется медным тазом. Хорошенькое дело!
– Но ты подписывал контракт! – вставил я.
Уиллис взглянул на меня так, как будто я нанес ему ножевое ранение.
– А я и не собираюсь его нарушать. Только покажите мне пункт в контракте, где черным по белому написано, что я должен напиваться на работе?
У меня подкосились ноги. Потом у Аарона подкосились ноги.
А Уиллис проникновенно продолжал:
– Я, конечно, готов работать с вами и дальше. Но вы же понимаете – и мы все понимаем, – что в трезвом виде это будет, мягко говоря, не то же самое.
– Уиллис, – Аарон рухнул на стул и некоторое время потратил на то, чтобы взять себя в руки, – ну, может, хотя бы одну ночь в году, а?
– Извините, мистер Штолиц, я завязал. Теперь – ни капли. Ни одного раза в году. Даже ради самых близких и любимых друзей.
– Тоже мне – святой Моисей… – проворчал Аарон.
– Между прочим, тонко подмечено… – сказал я. – Правда, мы дошли только до середины Красного моря – теперь его воды сомкнутся…[21]
Когда мы оба опомнились, Уиллиса Хорнбека в комнате уже не было.
Я подумал, вот, оказывается, как это бывает – сумерки богов[22]… Или когда карета превращается в тыкву – и от нее остаются только пищащие мыши. Да-да, это я про нас.
Едва закончилась первая истерика, Аарон вскочил и принялся недвусмысленно прогуливаться рядом с баром. А потом… робко протянул к нему руку.
– Аарон! – окликнул его я. – Уж не собираешься ли ты…
– Что? – сказал Аарон.
– Сам монтировать наш очередной авангард? «В постели с местью»?
Аарон достал бутылку, откупорил ее. И отхлебнул.
– Вот именно, – сказал он, – собираюсь…
Но не тут-то было.
Спасительная ракета взорвалась прямо на старте. Это были уже даже не сумерки богов. Это были тяжелые бессонные ночи богов – и к четырем утра смерть казалась им избавлением.
Пить пробовали все. Пил Аарон. Пил я. И даже его шурин…
Да все без толку: темпераментная алкоголическая муза, которая охотно бегала на свидания к Уиллису Хорнбеку, никому из нас не уступила и поцелуя. Алкоголь не рождал в нашей крови даже крохотного зародыша интуиции. Что трезвые, что пьяные, мы были жалкими импотентами. Только Уиллис – этот праздный любимец прессы – мог с завязанными глазами войти в творческий террариум, кишащий гадами. Или прямо на глазах у изумленной публики один на один сразиться с воображаемым крокодилом и одержать феерическую победу…
На старых дрожжах мы с Аароном ухватили еще несколько кинофестивалей. Но это была уже агония. Последние три киноэпопеи не принесли нам ни цента, зато подъели все наши запасы. Подделку распознавали по первым титрам. В итоге компания «Хасураи Продакшн» прекратила существование, и весь пакет был продан образовательному телеканалу.
Вы спросите: что стало с Уиллисом Хорнбеком? Да ничего. Живет себе в типовом доме в Монтерей-Парке[23], водит детишек в воскресную школу. И почти не вспоминает о своей спящей, как вулкан, гениальности. Разве что занесет нелегкая какого-нибудь кинокритика из Глазго или из Парижа на интервью, но они обычно сразу просекают, что вместо «правильного» Уиллиса им подсунули добропорядочного зануду и трезвенника, и быстро делают ноги.
Чем занимаемся теперь мы с Аароном? Тоже живем помаленьку. У нас есть студия – на этот раз размером с обувную коробку – и еще на несколько метров ближе ко входу на кладбище. Фильмы снимаем совсем небольшие, прибыль от них – и того меньше. Но держим их всегда строго на двадцати четырех бобинах, чтобы как только – так сразу броситься на штурм любой из премьер от Калифорнии до Мексики. Наше оружие должно быть всегда готово к бою. Ведь в зоне поражения – триста кинотеатров с тремястами киномеханиками. И только сто двадцать из них проверены премьерными показами наших монстров… В такие жаркие вечера, как этот, мы сидим, умираем от жары – и молимся, чтобы это случилось. Чтобы тишину прорезал телефонный звонок и Аарон, после недолгих переговоров, заорал дурным голосом:
– Есть! Кинотеатр – «Аркадия Барселона»! Срочно требуется премьерный фильм! Бегом!
И тогда мы скатимся по лестнице и, весело смеясь, побежим мимо кладбища с полными руками бобин – прямо в светлое будущее, где в какой-нибудь аппаратной, за железной дверью, нас поджидает новый красноглазый киномеханик с бутылкой шерри и спящим внутри зародышем гения…
– Погоди! – крикну я, едва мы вырулим на шоссе. – Кажется, я забыл бобину номер семь!
– Да и хрен с ней! Все равно никто ничего не заметит… – скажет Аарон и нажмет на газ. – Ну, давай, Уиллис Хорнбек-младший! Или Уиллис Второй, как там тебя! Давай уже, появляйся! А ты подпевай, Сэм, на мотив «Тебя найду я…»[24] – «Наш новый Уи-иллис…»!
Девятнадцатая лунка
День клонился к закату, когда я ехал по Мотор-авеню и заметил на противоположной стороне улицы старика, который собирал улетевшие с поля мячики для гольфа.
При виде его я затормозил так резко, что чуть не врезался головой в лобовое стекло.
Некоторое время я так и стоял посреди улицы (хорошо, что следом никто не ехал), а потом стал медленно сдавать назад (благо машин по-прежнему не было), пока не вырулил поближе к проволочному ограждению, вдоль которого тянулась дренажная канава. Оттуда было хорошо видно поле для гольфа и старика, который как раз поднимал с земли очередной мячик, чтобы положить его в свою корзину.
Да нет, не может быть. Хотя… Нет, вряд ли…
Я свернул к обочине, припарковался и какое-то время сидел в машине, не зная, что делать и как справиться со слезами, которые так и хлынули из глаз. В конце концов я вышел из машины, переждал светофор, затем перешел на другую сторону, спустился в канаву и двинулся по ней на юг – прямо навстречу старику.
Шагов через пятьдесят мы встретились.
– Добрый вечер, – кивнул мне он.
– Добрый вечер.
– Действительно, добрый, – сказал он, бросив выразительный взгляд сначала на поле, а затем на свою корзинку, наполовину заполненную мячиками.
– Что, богатый улов? – спросил я.
– Вот, смотрите… – Он взвесил корзину на руках.
– Очень даже ничего. Хотите – могу помочь…
– Искать мячи? – удивился он. – Да нет, не надо…
– Почему, мне же нетрудно. А то через пять минут стемнеет – и все.
– Это уж точно. – Старик поглядел на меня с искренним любопытством. – А почему вы вдруг решили помочь?
– Когда-то давно сюда ходил мой отец, – ответил я. – Просто подрабатывал – находил укатившиеся мячи и продавал. Деньги ведь лишними никогда не бывают.
– Вы знаете, у меня та же история, – сказал старик. – Хожу сюда примерно два раза в неделю. Вот на прошлой неделе повезло – насобирал на поход с женой в ресторан.
– Известное дело… – сказал я.
– В смысле?
– Да нет, я просто… Вон мячик! А вон под забором – еще один! Погодите, сейчас достану.
Я спустился в канаву, подобрал мяч и вернулся обратно.
– А почему вы плачете? – спросил старик, который все это время внимательно следил за моим лицом.
– Я – плачу? – переспросил я. – А, вы про это… Это у меня аллергия. Наверное, опять что-то цветет.
– Мы что, знакомы? – неожиданно спросил он.
– Возможно.
Я назвал ему свое имя и фамилию.
– Ну, надо же, – расплылся в улыбке он. – У вас такая же фамилия, как и у меня. Впрочем, вряд ли мы родственники.
– Ну да, вряд ли… – сказал я.
– Если бы мы были родственники, я бы точно помнил… Или хотя бы знакомые.
Боже милостивый… Так вот в чем дело. Болезнь Альцгеймера. Это когда ты теряешь память. Ну, примерно так, как будто ты уже умер. Ведь, насколько я понимаю, мертвым память ни к чему…
Старик заметил мое замешательство и попытался сгладить неловкость.
– Спасибо, – сказал он, взяв у меня из рук мяч и бросив его в корзину.
– Вы по-прежнему ходите сюда? – спросил я.
– В смысле – по-прежнему? Ну да, по-прежнему. А почему бы нет?
– Да нет, я не так выразился… Я имел в виду, застану ли я вас, если мне тоже захочется выйти на охоту за мячами? Просто за азарт. Вдвоем-то веселее?
– Это уж точно, – подтвердил старик.
И снова вгляделся в мое лицо.
– Знаете… А ведь у меня когда-то был сын. Очень хороший парень. Но потом он уехал куда-то. И с тех пор о нем ничего не слышно.
Известное дело… Только это ведь не «он уехал». Это ты «уехал»… Мы почему-то привыкли думать, что уходит только тот, кто прощается. На самом деле те, кто остается, тоже уходят. А не только тот, кто сказал «до свидания» и исчез за горизонтом. Или растаял в дымке…
Солнце совсем скрылось, и теперь мы шагали почти в темноте, освещенные только прожектором с улицы. Я увидел еще один мячик – прямо под левой ногой у старика и кивнул ему. Он наклонился и поднял.
– Ну, этот, наверное, последний, – сказал он и перехватил мой взгляд. – А вы сейчас куда?
Я лихорадочно собрал разбредающиеся мысли и сказал, вглядываясь куда-то вперед:
– Кажется, при гольф-клубе всегда бывает «девятнадцатая лунка», не так ли?[25]
Старик тоже вгляделся в темноту впереди.
– Ну да… Разумеется. Где-то здесь тоже наверняка есть.
– Позвольте, я угощу вас стаканчиком вина.
– Это, конечно, очень мило с вашей стороны, – сказал он, отводя глаза, – но, честно говоря, я…
– Мы только по одному, – настаивал я.
– Да нет, наверное, поздновато, – покачал головой он, – мне пора идти…
– Куда? – спросил я, но этот вопрос явно оказался неуместным.
Старик стал суетливо озираться по сторонам, словно пытался отыскать в темноте хоть какой-нибудь захудалый ответ.
– Вы понимаете, – начал он, – дело в том, что…
– Да нет же, не надо, не отвечайте. Эта моя дурацкая привычка – совать нос не в свое дело…
– Ничего страшного. Ну, так что, я пойду?
Он протянул мне руку, чтобы попрощаться, но когда я дал ему свою, вдруг вцепился в нее и горячо посмотрел мне в глаза.
– Скажите, мы ведь знаем друг друга, правда?
– Да, – сказал я.
– Но откуда? И как давно?
– Это долгая история…
Он по-прежнему не выпускал моей руки, как будто держался за нее, боясь упасть.
– Как, вы сказали, вас зовут?
Я назвал себя еще раз.
– Ну, надо же… – воскликнул он и продолжил, чуть тише: – Такая же фамилия, как и у меня. Бывает же такое! И чтобы вот так вот встретиться. С такой же фамилией…
– Да всякое бывает…
Я попытался вырвать у него руку, но не тут-то было. Когда же мне это наконец удалось, я вдруг неожиданно схватился за его руку сам – почти такой же мертвой хваткой.
– А давайте в следующий раз – у «девятнадцатой лунки»!
– Договорились, у девятнадцатой, – сказал он. – А вы что, собираетесь завернуть в эти края еще раз?
– Теперь, когда я знаю, где вас найти… Как-нибудь вечерком обязательно заеду. Погулять и пособирать мячики. Хорошее тут местечко.
– Если честно, тут кроме меня… – Он оглянулся назад и окинул взглядом дорожку. – Больше уже никого и не осталось.
– Постараюсь приезжать почаще, – сказал я.
– Вы так только говорите…
– Да нет же! Богом клянусь.
– Ну, если Богом. Тогда это серьезно.
– Еще как серьезно.
– Ладно… – На этот раз ему пришлось вырывать у меня свою руку. – Пойду, а то ведь здесь ничего не ходит. – Старик потер ладонь, чтобы восстановить кровообращение.
И быстро зашагал вперед. Пройдя метра три, он заметил еще один, последний мячик и, подняв его с земли, бросил мне в руки.
– Значит, у девятнадцатой, – тихо сказал он.
– Однозначно, – так же тихо отозвался я.
После этого он очень быстро исчез в темноте.
А я еще долго стоял на том же месте – и слезы ручьями текли у меня по щекам. Мячик для гольфа лежал у меня в нагрудном кармане и давил на грудь.
И я был не уверен, что он не исчезнет к завтрашнему утру…
Животные
Все началось с того, что за обедом Смит и Конвей вдруг разговорились о добре и зле. Смит представлял в этом споре силы зла.
– Тебя когда-нибудь молнией било? – спросил он.
– Нет, – ответил Конвей.
– А знаешь кого-нибудь, кого било?
– Нет, – сказал Конвей.
– А между тем таких случаев совсем немало. Примерно сто тысяч в год. И из них тысяча – со смертельным исходом. Говорят, у них даже деньги в карманах плавятся… Но вот что интересно: при этом почему-то все, как один, уверены, что уж в них-то молния точно никогда не ударит. Они же истинные христиане, все из себя такие добродетельные…
– Какое отношение это имеет к теме нашего разговора? – сухо спросил Конвей.
– А очень простое… – Смит прикурил от зажигалки и сощурился на пламя. – Ты же никак не хочешь согласиться с тем, что зло в мире преобладает? Вот я и привожу тебе аналогию с молнией, которая ясно доказывает обратное.
– Какой толк с того, что я признаю зло, если ты не принимаешь добра?
– Ну, отчего же – я принимаю. Но! – Смит опять сделал выразительную паузу. – До тех пор, пока люди не начнут признавать и то, и другое, мир будет с гиканьем катиться в преисподнюю. Это – главное, что мы должны понять. В каждом добропорядочном человеке живет отраженный злодей. И наоборот: в душе каждого грешника есть что-то доброе. А если мы запираем человека в рамках той или иной категории, мы фактически вершим беззаконие. Признай человека праведником – и ты нарушишь его право на двойственность. Признай его злодеем – как тогда быть со святостью? А ведь большинство людей – это и святые, и грешники в одном лице. Например, Швейцер[26], которого мы считаем почти святым. На самом деле он – всего лишь тот, кому удалось загнать своего внутреннего беса в бутылку, ну, или взять его на короткий поводок. А Гитлер, которого обычно представляют чуть ли не самим Люцифером? Разве где-то глубоко внутри у него не жил невинный ребенок, которому было страшно и все время хотелось убежать? И который в итоге так вместе с самим Гитлером и сгорел? Но нет, нам ведь нужно на каждый комплект костей приляпать ярлык…
– Извини, это как-то очень издалека. Можно поконкретнее? – сказал Конвей.
– Отчего же – можно и поконкретнее, – ухмыльнулся Смит. – Вот ты, например! С виду – такой весь белый и пушистый, прямо как свадебный торт. Но мы-то знаем, что где-то внутри, под этими слоями белоснежной глазури, прячется твое второе нутро. Там сидит твое внутреннее животное – черное, мохнатое и всегда готовое к прыжку. Как взведенная часовая пружина. И если ты не приручишь его, то однажды эта пружина раскроется и разнесет тебя в клочья…
Это было настолько неожиданно, что Конвей прыснул от смеха.
– Ну ты наплел! – сказал он, демонстративно хватаясь за живот. – Давно я так не смеялся!
– Не вижу ничего смешного.
– Извини… – сказал Конвей, вытирая слезы. – Не хотел обидеть…
– Вообще-то ты не меня – ты себя обижаешь, – сказал Смит. – И лишаешь возможности начать новую жизнь.
– Что-что? Как ты сказал? – сквозь хохот проговорил Конвей. – Новую жизнь?
Смит молча поднялся из-за стола. Лицо его побагровело.
– Эй, эй, ты чего? – опомнился Конвей. – Ну, ладно тебе, не злись, ты куда собрался?
– А я и не злюсь, – процедил Смит.
– Просто то, что ты говоришь – это, ну, мягко говоря… старо как мир.
– Как известно, все новое – это хорошо забытое старое, – не унимался Смит. – Мы всегда думаем, что достигли самого дна истины, а сами лишь скользим по поверхности…
– Ой, ну только вот, пожалуйста, не начинай… – сказал Конвей. – Давай обойдемся без твоих теорий…
– Это не теории, а открытия! – поправил его Смит. – А если не понимаешь – лучше помолчи!
– Да куда уж нам, сирым. Мы же работаем, не то что некоторые.
– И ходим в церковь по воскресеньям? И слушаем своего проповедника, который потом отмоет нас перед доставкой на небеса? А хочешь, я окажу тебе одну услугу? Открою тебе глаза. Запиши-ка телефон – PL8—9775.
– Зачем?
– Вечером на него позвонишь. А потом еще раз – завтра и послезавтра. А в пятницу встречаемся, здесь же.
– В пятницу?
– Только ты обязательно позвони.
– А кто там?
Смит улыбнулся.
– Животные… – сказал он.
И ушел.
Конвей усмехнулся и покачал головой. Потом оплатил счет, вышел на улицу и бодро зашагал по тротуару, любуясь хорошей погодой.
– Ну, допустим, звоню я, набираю PL8—9775… – размышлял он, – и вежливо говорю: «Здравствуйте, господа Животные!»
Вечером он поужинал со своей женой Нормой, пожелал ей спокойной ночи и, сев в кресло, погрузился в сюжет кровавого детектива, забыв как о споре, так и о своих обещаниях. Но ровно в полночь вдруг зазвонил телефон.
– Ставлю на все, что это ты, – сняв трубку, произнес он.
– Ты поразительно догадлив! – сказал Смит.
– Что, хочешь узнать, звонил я по телефону PL8—9775 или нет?
– Да я по голосу слышу, что не звонил – и никаких молний в тебя не ударяло. Давай уже, звони. Пора.
Как же, жди – побежал. Не буду я никуда звонить!
В час ночи вновь раздался телефонный звонок. Интересно, кто бы это мог быть? Звонки шли и шли. Это в такую-то поздноту? Надо же, звонит и звонит… Вот кто может мне сейчас звонить? Звонит и звонит… Черт знает что! Телефон все не унимался. Он протянул к нему руку. Телефон звонил. Он накрыл его рукой. Он все равно звонил! Прижал посильнее – звонит! Заткнись же! Сколько можно звонить!
Наконец, с опаской глядя на телефон, как будто это было какое-то гигантское жужжащее насекомое, он снял трубку и, держа ее на вытянутой руке, послушал. Оттуда доносился какой-то шепот… Или чьи-то вздохи? Щелк! Он резко нажал на рычаг. Что за идиотские шутки!
И он швырнул телефон на ковер. Да… Нервы явно ни к черту. Аппарат-то в чем провинился?
Оставив телефон валяться на полу посреди комнаты, он поплелся в кровать.
Лег, прислушался. За стенкой раздавались жалобные гудки, как будто телефон звал на помощь. Пришлось снова вылезать. Подойдя к аппарату, он, не глядя, впечатал трубку в рычаг.
Ну, вот, наконец-то. Как будто ничего и не было. А может, и правда ничего не было? А если кто-то и был, то этот кто-то — Смит? Он выключил свет. Все хорошо – одна только маленькая неувязочка. Смит не смог бы шептать сразу несколькими голосами. А их точно было несколько.
Он с опаской посмотрел в дверной проем.
Телефон, слава тебе господи, молчал.
Но ему все равно казалось, что он что-то слышит.
И это что-то заставляло его покрываться испариной.
Так он и пролежал, не смыкая глаз – до тех пор, пока…
…каминные часы не пробили три. Три часа ночи – полночь души. Время, когда те, кому суждено умереть, испускают дух…
Проклятье!
Он поднялся с кровати и ощупью прокрался в комнату, которая по милости Смита превратилась в эпицентр ночных приключений.
Часы показывали пятнадцать минут четвертого. Он поднял с пола трубку и послушал, есть ли гудок. Потом сел в кресло и поставил аппарат себе на колени. Собрался с духом. И наконец медленно набрал ненавистный номер.
Он ожидал, что услышит женский голос – голос какой-нибудь сообщницы Смита. Но из телефона опять полезли какие-то охи, вздохи и потусторонние голоса. Их там был целый хор, как будто он подслушивал несколько телефонных разговоров одновременно.
Вот черт. Может, что-нибудь не так соединилось? Трясущимися руками он нажал на рычаг и набрал номер еще раз. Все то же самое – какие-то звуки, похожие на шум прибоя, и чьи-то смутные голоса, непонятно, мужские или женские… Обрывки фраз, просьбы, протесты, требования, мольбы… И все те же странные…
Вздохи?
Или это не вздохи? Он крепко сжимал трубку в руках, но на всякий случай держал подальше от уха. Ну точно – кто-то дышит. Вдох-выдох, вдох-выдох… Не может же сам телефон делать вдох-выдох, он же не живой?
Смит, я знаю, это ты, грязный недоносок!
Или не ты?
Черт, какое-то очень подозрительное дыхание…
Что бы это могло быть?
Медленно, нерешительно он поднес трубку к уху.
Голоса звучали откуда-то издалека, и они были какие-то… запыхавшиеся. Как будто задыхались после долгой пробежки. Господи, чем они там все занимаются? Может, у них – бег на месте? И все вот эти уважаемые, судя по голосам, люди: мужчины и женщины, и стар и млад – все взяли в руки телефонные трубки и с ними бегают на месте? Или, может, прыгают на месте? Или скачут с ними рысью? Делают наклоны и приседания? Господи, ну что за бред…
Он вновь прислушался. Охи и вздохи в трубке стали еще натужнее, а возгласы стали временами срываться в крик.
Его бросило в жар, на подбородке выступили капли пота. Господи, спаси меня, подумал он.
И трубка выпала у него из рук.
Но тут, на его счастье, хлопнула дверь спальни.
Было полпятого утра, когда на лоб ему легла рука Нормы Конвей.
– Хорошенькое дело, – воскликнула она. – Да у тебя же температура!
– Нет у меня никакой температуры… Спи… – уставившись в потолок, ответил он.
– Но ты ведь…
– Я же говорю: со мной все в порядке. Разве что…
– Что?
– Иди ко мне.
– Это с такой-то температурой?
– Да нет у меня температуры…
– Может, лучше я все-таки принесу что-нибудь жаропонижающее?
– Да нет, ничего не надо… Или ладно, принеси что-нибудь.
Дыхнув на нее жаром, как из топки, он отвернулся к стене. Ему явно требовалось что-нибудь. А еще лучше – все сразу.
За завтраком он был готов съесть целого слона. Норма потрогала его лоб и ахнула:
– Надо же – все прошло!
– Прошло? – переспросил он, поддевая на вилку яичницу с беконом.
– Температура прошла. Ночью ты был как печка. А теперь вон голодный как волк – метешь все подряд. Ну и ну…
Он посмотрел на свою пустую тарелку.
– Кажется, да… – сказал он. – Извини. Доставил я тебе ночью хлопот.
– Да ладно, не бери в голову… – улыбнулась Норма. – Не могла же я дать тебе умереть? Смотри-ка, уже девять. Давай быстрей. А что у нас с телефоном?
Он замер в дверях.
– С телефоном?
– Розетка, что ли, сломалась? Может, вызвать мастера?
Он посмотрел на телефон, который с ночи валялся на полу.
– Да нет, не надо, – сказал он.
В полдень, сидя у себя в кабинете, он достал из кармана мятый листочек.
– Тупость какая-то… – пробормотал он.
И опять набрал этот чертов номер.
После двух гудков раздался голос оператора: «Набранный вами номер больше не существует».
– Как не существует?!
Почти в ту же секунду заработал факс и, напечатав всего одну строчку, заткнулся.
PL4—4559.
И ни подписи, ни обратного адреса.
Он позвонил Смиту.
– Слушай ты, красавец! Ты что это там мутишь?
– Да ничего… – Смит явно был доволен произведенным эффектом. – Просто тот номер уже не действителен. Один номер годится только на один раз. Сегодня будешь звонить вот по этому. А сейчас предлагаю встретиться в кафешке. Посидим, выпьем, помолчим…
– Придурок! – рявкнул Конвей и повесил трубку.
После чего послушно отправился на обед – выпивать и молчать.
– Можешь называть меня и на «х», и на «п»… – голосом доброго доктора сказал Смит. – Садись. Вот твой мартини, вставляй соломинку…
Конвей перегнулся через обеденный стол и сжал кулаки.
– Да ладно тебе, сядь… – проворчал Смит.
Конвей залпом опрокинул мартини.
– О, какая сильная у нас жажда… – Смит налег локтями на стол. – Выпил? Ну, а теперь вываливай. Папа ждет подробностей. Давай исповедуйся.
– Обойдемся без исповедей.
– Как скажешь… Будем считать, оно почти произошло. Так ты виновен, или – невиновен, или – просишь пощады? А?
– Заткнись и пей свое пойло.
– С удовольствием выпью. За успехи.
– Какие еще успехи?
– Ну, хотя бы за то, что у тебя теперь есть новый номер. Старый-то тебе достался бесплатно. А вот за новый, если ты захочешь им воспользоваться, тебе придется выложить пятьдесят баксов. А завтра номер опять поменяется и будет стоить уже не пятьдесят, а двести баксов…
– С чего это вдруг?
– Интрига, мой друг, интрига. Ты уже на крючке. А остановиться трудно… Через неделю будет уже восемьсот. И заплатишь, как миленький.
– Размечтался! – хмыкнул Конвей.
– А я говорю – как миленький. Это только невинность ездит даром. А за грехи надо платить. Твоя жена очень удивится, когда узнает о состоянии твоего банковского счета…
– Не удивится. Потому что ничего этого не будет!
– Да ты уже одержим, как Жанна д’Арк. Эта дама ведь, кажется, тоже слышала голоса?
– Не дама, а дева. И это были Голоса свыше, а не какой-то там шепот в стиле секс по телефону!
– Что-то не очень-то спасли ее эти голоса… Официант! Принесите нам еще мартини! Ты не против?
Конвей отчаянно замотал головой.
– Боже мой, сколько эмоций… – сказал Смит. – Мы еще даже не начали обедать, а ты уже…
– Вообще-то я надеялся услышать что-нибудь более дельное! – заметил Конвей.
– Ладно, уговорил. Ты уже готов слушать?
Взяв в руки нож в качестве инструмента для черчения на скатерти, Смит наконец-то начал говорить по существу.
– Ты ведь слышал о системе ливневой канализации под Лос-Анджелесом? Я имею в виду дренажные туннели, которые защищают его от потопа во время сильных дождей?
– Допустим.
– Если ты откроешь любой канализационный люк на какой-нибудь магистральной улице и спустишься вниз, ты попадешь в систему туннелей протяженностью более тридцати километров – и все они ведут к морю. В годы, когда идет мало дождей, там сухо, как в пустыне. Как-нибудь мы обязательно погуляем там, внизу, под цивилизованным миром, и я выведу тебя по этим туннелям к океану. Эй, ты слушаешь?
– Продолжай, – сухо сказал Конвей.
– Секунду… – Смит смочил губы мартини. – А теперь представь: если бы каждую ночь, ровно в три часа, двери всех домов во всех кварталах и на всех улицах открывались, из них выходили бы вполне взрослые, зрелые мужчины – и, как зомби, шагали в темноте к этим люкам… И вот они открывают крышки и спускаются вниз, прямо в самую черноту, представляешь? И, пробираясь на ощупь под домами, идут к морю, которое, они знают, есть где-то там впереди – просто пока его не слышно… И с каждым километром шум прибоя все ближе, а этих зомби все больше, и дышат они все чаще и что-то выкрикивают, а от лиц у них исходит такой жар, что хоть дорогу освещай в темноте. Представляешь? А город спит и даже не подозревает, что в это самое время под землей, в водостоке, вместо воды к морю текут толпы людей, буквально изнывающих от желания, готовых любить все, что движется… Я бы сравнил это с Интернетом – только здесь все из плоти и крови. И абсолютно без мозгов.
– То, что без мозгов, – это я уже понял. Но при чем тут Интернет?
– Хорошо, не Интернет. И даже не фильм в ноутбуке. Главное – что все это происходит реально! В режиме онлайн. Их невозможно увидеть, но они есть – тысячи изголодавшихся людей, которые, шумно дыша, пихая друг друга локтями, шаркая ботинками по цементу, бредут в черных туннелях к своему спасительному берегу. И не нужна им ни романтическая луна, ни рассвет – никакая другая служба спасения, которая прибывает с неба через миллионы миль. Никто не хочет спасаться – всем нужно только это жаркое море. Хотя бы постоять на берегу, глядя на волны вулканической страсти, от которых плавится даже песок…
– Так что они там делают? – спросил Конвей.
– Что делают? Ну, я же говорю: ныряют в водоворот страсти и там тонут. Что делают… Вот это самое и делают – вдох-выдох, вдох-выдох… Ты же слышал, ночью. Думаю, тебя это хорошенько подзавело. А? Признайся: волосы на голове шевелились? А как насчет металлического вкуса во рту? Или, может, ты изрыгал огонь?
– Нет!
– Врешь!
– Хватит… – сказал Конвей. – Чьи это были голоса?
– Голоса невостребованных либидо. Стосковавшихся по любви маньяков…
– Какой любви? Каких маньяков?
– Нормальной любви. – Смит мизинцем помешал свой мартини. – Такой, когда сливаются в экстазе.
– То есть?
– А ты по телефону не понял? Я бы назвал это сборище пропащих душ. Душ, готовых броситься в пучину сладострастия… Ты когда-нибудь читал Торо?[27] Он писал, что большинство мужиков всю жизнь только и делают, что мучаются и терпят.
– Звучит печально…
– И не только звучит. Это действительно печально – это когда из водостока прямо на берег Вениса[28] выливаются грязные потоки мужской похоти. Помнишь, был такой комикс – «Амброз-великомученик»? Таких Амброзов в мире – через одного. Все только и делают, что хотят и не получают, хотят и не получают. И не могут уснуть всю ночь. Разве это не мучение? Тело говорит одно, разум – другое. Мужчина говорит – дай! Женщина – не дам… Тебе ведь когда-то было четырнадцать? Или уже не было?
– Ну, допустим было… И даже не один год.
– Touche![29] Ты помнишь, как в тебе проснулся яростный зов плоти? И сколько долгих лет прошло, прежде чем ты впервые коснулся чьей-то руки? Познал чьи-то плечи, губы?
– Помню – шесть лет.
– Это же целая вечность! Тысячи одиноких ночей! Миражи в зеркалах. Сражения с подушкой. Черт знает что еще! В общем, звони по новому номеру. А завтра встречаемся на том же месте.
– Ты так ничего мне и не рассказал.
– Я рассказал тебе все. Вперед! Если ты пропустишь сейчас, то в следующий раз соединение с голосами будет стоить тебе уже шестьсот!
– С чего ты взял, что будет какой-то «следующий раз»?
– С того, что ты грохнул свой телефон, и только из-за того, что кто-то слишком громко дышал в трубке. Кстати, компания «Bell» его уже починила.
– А ты-то откуда все это знаешь?
– Извини, на сей раз без комментариев.
– Смит…
Но Смит только загадочно улыбался.
– Не пойму, ты – ангел божий или ангел падший? – спросил Конвей.
– Да, – ответил Смит и удалился.
Конвей позвонил Норме и попросил ее вызвать мастера, который отключает телефоны.
– Это еще зачем? – удивилась Норма.
– Просто чтобы телефона у нас не было. Я понятно говорю?
– Дурдом какой-то… – сказала она и повесила трубку.
В пять часов он был уже дома. Норма с тревогой пыталась заглянуть ему в глаза.
– Не понял… – нахмурился Конвей. – Почему в библиотеке стоит телефон? Я же…
Он заглянул в спальню – и там тоже был телефон!
– Это что, еще один аппарат? Они что, его установили?
– Они сказали, что это ты так захотел… Разве это не ты поменял в заказе графу «отключить» на «подключить»?
– О господи, конечно же, нет! – Он с ненавистью посмотрел на новый аппарат. – Что я – идиот?
Перед сном он выдернул из розеток оба телефонных штекера. После чего, злобно взбив подушку, лег и закрыл глаза.
Ровно в три оба телефона очнулись и зазвонили: видимо, это Норма подключила их обратно.
Они так трезвонили, что в конце концов она тоже заворочалась.
– Ну ладно, давай подниму я! – сказала она и, зажмурив глаза, села в кровати.
– Нет! – неожиданно громко вскричал он.
– Ты чего?
– Я сам! – еще громче рявкнул он.
– А чего так орать-то?
– Никто и не орет!
Он схватил звонивший прямо у него в руках телефон и, волоча за собой длинный шнур, понес его в гости к его собрату в библиотеке, который трезвонил с не меньшей силой. Дверь в спальню осталась открытой.
– Вот оно что: мы, оказывается, ждем звонка… – усмехнулась Норма из-за двери.
Но ему было не до нее. Держа жужжащий аппарат в руках, он слегка приподнял трубку над рычагом. Послышался знакомый шепот.
Норма в комнате все не унималась.
– Ну-ну. Значит, приватные беседы ведем, да? Что, какая-нибудь мужеподобная сучка в климаксе?
– Нет, – сказал он, – и даже не ужеподобная штучка в кампусе!
Каламбур так рассмешил Норму, что она заботливо прикрыла дверь.
Но ведь это чистая правда… Здесь вам не сучки – и не штучки. Только вот… что? Голоса из страны грез? Репортаж с тонущей любовной лодки? Одиночество, граничащее с безумием? Рвотные позывы? Или чьи-то чистосердечные признания? А может, вечный глас природы, зовущий лососей вверх по течению? Прямо в никуда?
– Черт знает что… – Он открыл дверь спальни и обвел взглядом холодную постель, которая своей слепящей белизной напоминала арктическую пустыню.
За дверью ванной комнаты послышалась какая-то возня – судя по звукам, Норма открыла кран, налила воды в стакан – и бросила в него таблетку аспирина.
Он снова взглянул на кровать, от которой веяло холодом вечных льдов, – и его пробрала дрожь.
Свет в ванной погас. Конвей повернулся и вышел из спальни.
Целый час он просто молча сидел. А потом набрал новый телефон.
Не сразу, но номер все же ответил. И тут началось…
На этот раз шепот и вздохи были такие, что смогли бы разбудить и мертвого. Чувственные придыхания множились и наслаивались… Сначала один голос, потом – два, потом – три, четыре, и десять, и двадцать переплетались между собой и перебивали друг друга.
Здесь были голоса всех девушек и женщин, которых он всегда желал и никогда не имел. И тех, которых сначала желал, а потом уже и не желал. И все они вздыхали, стонали, и плакали, и смеялись, и насмехались…
Как ни странно, ему слышался шум моря, но не тот, мирный, когда легкий прибой встречается с приливом. Это был совсем другой шум, как будто вместо ливневых вод из водостока прямо в океан хлещет поток человеческих тел… Воображение рисовало ему, как они сталкиваются, бьются друг о друга и падают… Потом встают – и снова падают, и что-то шепчут, как в бреду, и опять поднимаются, и продолжают свой безумный бег с препятствиями. И с каждым разом их падение все ниже и ниже… А в самом конце его – бурлящее варево из тел, в котором все стонут, мечутся, срываясь, карабкаются по головам и в экстазе хватаются за чьи-то конечности, как будто это ноги воздушных гимнастов, извивающихся на своих трапециях и выделывающих в ночи свои акробатические этюды… О, эти сладкие качели, эти туда-сюда-обратно, эти взлеты, падения и прыжки из-под самого купола… Когда ныряешь на самую глубину, телом прокладывая себе путь, расталкивая чьи-то руки, ноги и туловища! О, этот безумный плотский хор… Эти пальцы, извлекающие музыку из самых сокровенных струн, рожденные, чтобы лапать, щупать и обнимать… И наконец – тысячи воплей освобождения. Трюмы разгружены, все падают на освежающие простыни и лежат, подставив себя ночной прохладе. И наступает полная тишина – по крайней мере для людей. Потому что собаки всегда в ней что-то находят и с самым серьезным видом гавкают…
В этот момент прозвенел звонок.
– Оплата наличными!
– Это ты Смит, грязный подонок! – сказал Конвей.
– Уж какой есть. Ну, что скажешь?
– Нет уж, это ты скажи мне наконец, чьи это были голоса?
– Да ничьи. Вернее, всех подряд – далеких и близких, высоких и низких. Вспомни свое провинциальное детство, когда соседи пыхтели и стонали за стенкой, а ты лежал и слушал.
– Но почему все они на связи одновременно?
– Да потому что трусы и хлюпики всего боятся. Особенно собственной жадности и ненасытности. Это про них – дистанционная борьба сумо, кикбоксинг и массажные матрасы… А еще – потная галерка субботних шоу, кинотеатры под открытым небом, выключенные моторы, машины, которые раскачиваются и скрипят, как пружинные кровати, – и натужное кряхтение, и изнасилованные старлетки…
Конвей молчал.
– Ну, и что ты молчишь, как рыба об лед? Думаешь, как бы незаметно свалить с вечеринки?
– Какой еще вечеринки?
– А такой, на которой все могут говорить и делать все, что хотят, и при этом никто их не видит. Здесь все равны: и старая дева из Вермонта, и алкаш из Рено, и пастор из Ванкувера, и звонарь из Майами, и стриптизерша из Провиденса, и директор колледжа из Канкаки…
Конвей молчал.
– Ну, что ты скис? Пасуешь перед фактами? Пытаешься уйти от реальности? Впрочем, не хочешь – не плати. Но тогда клади трубку!
Конвей все молчал.
– Эй! Пока! Отключайся. Можешь обругать меня напоследок – и быстро в койку, мять жену! Как, ты еще до сих пор на проводе? Все-таки не дают покоя пикантные деликатесы свободной любви? Весь горишь, температура под сорок? Смотри, считаю до трех… После этого – тройной тариф. За ночной-то сеанс. Один… Два…
Конвей прикусил губу.
– Ага, попался? – глумливо проблеял Смит. – Попался! А ну, посмотри на себя в зеркало!
Конвей повернулся к висевшему на стене зеркалу и увидел там чье-то красное, потное лицо с глазами, вылезающими из орбит.
– Ну что, хорош? – рявкнула трубка. – Морда – хоть прикуривай, челюсть – набок, сам весь в поту, глаза – как на параде в честь Дня независимости!
Конвей вздохнул.
– Так да или нет? – проорал Смит. – Последний раз спрашиваю! Или вешай трубку, или твоя постель сгорит в огненной лаве Кракатау! Да или нет? Рожай!
– То есть ты хочешь сказать, что несколько десятков человек одновременно находятся на связи?
– Бери больше – тысячи! И с каждым днем их количество растет. Одни рассказывают другим – и все это нарастает как снежный ком. Не знаю уж, кто там рулит этим ночным беспределом, но, согласись, идея неплоха – запустить всех в одну большую ванну, причем вместе с деньгами. Всех полуночников с голодными глазками, всех брошенных любовников и тайных эротоманов… Ведь ты никогда не узнаешь, с кем говоришь. Вот эта дама, тетка или девица, которая кричит сейчас в экстазе, может, она вообще старая дева, какая-нибудь школьная училка? Или твоя вечно унылая тетя, которая, как только муж заснет, сразу шасть – и за телефон! Или твой любящий папаша, да еще как любящий, самый примерный «ночной семьянин»… Ведь «ночная семья» – это дело серьезное. Попробуй-ка вопить, стонать, выплевывать чьи-то волосы и истязать матрас всю ночь до самого рассвета… И так каждую ночь. Ты только представь! Десять тысяч единиц свежей христианской плоти, слегка надкушенной Фрейдом, – и ее с хрустом пожирают львы, пантеры и оцелоты быстрых свиданий… Привет-пока – и никаких обязательств! А пожираемые сами кричат и просят: съешьте нас, убейте, залюбите до смерти! Умоляем – убейте! О, спасибо, еще… Ты слушаешь?
– Да, слушаю, – шепотом сказал Конвей. – А они когда-нибудь встречаются?
– Никогда. Разве что случайно.
– А где?
– Как говорят: где есть мыши, там есть и кошки… Другое дело, что они действительно не хотят встречаться. Знаешь ли, там творятся такие страсти-мордасти, что их с трудом выдерживают железные провода! Они же, как животные. Ты только послушай, как они воют – не хуже шакалов…
Из трубки донеслись звуки безумного вакхического хора: «Да, да… Еще! О! Да-а!»
– Что, хороши яблочки? – вклинился Смит. – Налетай – прямые поставки из рая. Свежие яблоки «От Змея». По ночному тарифу… Гони монету – и ты в виртуальных садах Эдема…
– Перестань! – сказал Конвей.
– В смысле – еще немного оттянуть удовольствие? Еще сильнее раззадорить твой ненасытный пах? А ты приползешь потом на карачках благодарить старого греховодника?
– Нет, все-таки я убью тебя…
– А вот и не убьешь. Я увернусь быстрее, чем ты выстрелишь… Уважаемый клиент! Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Приятного отдыха. Чао!
Щелк! И Смит отключился. Вместо него в уши ему ворвался раскаленный вихрь страсти, от которого плавился мозг. Теперь ему казалось, что вокруг него ритмично вздыхает весь мир.
Он поднял взгляд и обнаружил, что жар его пылающих щек бросает отсвет на стены.
Трубка выпала у него из рук и осталась лежать, издавая свои недвусмысленные охи и вздохи, а сам он, пошатываясь, поплелся к постели. Лицо его горело так, что свет можно было не включать.
Он лег на кровать и зажмурился, чтобы выбросить из головы все эти навязчивые «О-о-о…» и «А-а-а», но, как только ему удалось немного провалиться в сон, он услышал, как вдалеке звякнула металлическая крышка канализационного люка… В ту же секунду он открыл глаза и повернул голову на звук.
В соседней комнате он увидел Норму, которая стояла, прижав к уху телефонную трубку. Лицо ее было белым как мел, глаза зажмурены, как будто она испытывала страшную физическую боль. Ее уже качало, а она, затаив дыхание, все слушала и слушала…
Он приподнялся в кровати, чтобы позвать ее, но в этот момент Норма схватила телефонный шнур и вслепую, прямо не открывая глаз, выдернула из розетки все охи вместе со вздохами…
Сонно пошатываясь, она добрела до ванной. Он услышал, как она встряхнула пузырек с таблетками аспирина, а потом ссыпала всю упаковку в унитаз и бросила на пол пустую склянку. После этого она три раза спустила воду. Потом подошла к постели и, немного постояв, забралась под одеяло.
Прошла целая вечность, прежде чем она тронула его за локоть. И еще одна вечность – до того момента, как она вздохнула. Вздохнула!
– Ты не спишь? – прошептала она.
Он молча кивнул в темноте.
– А может быть… – еще тише прошептала она.
Он лежал и ждал.
– Иди ко мне! – совсем еле слышно шепнула она, и он услышал, как шумно она дышит…
Осенний день
– Как же тоскливо осенью разбирать чердак… – Мисс Элизабет Симмонс покачала седой головой. – Не люблю я октябрь. Деревья облетают. Небо какое-то блеклое, как будто выгорело… – Она стояла у подножия лестницы, и весь ее вид выражал сомнение и нерешительность. – Только тут уж ничего не попишешь: октябрь все равно приходит, а сентябрь надо вырывать из календаря…
– А можно я оставлю его себе? – спросила Джульетта – темноволосая девочка, племянница мисс Симмонс, которая как раз держала в руках вырванный месяц.
– Интересно, интересно, что же ты собралась с ним делать… – сказала мисс Элизабет Симмонс.
– Потому что если говорить взаправду, то сентябрь не прошел, да и вообще никогда не пройдет… – Девочка подняла календарь над головой. – Я ведь про каждый день помню, что когда было.
– Ну, если так судить, то он прошел, еще даже не начавшись, – поджав губы, сказала мисс Элизабет Симмонс, и ее выцветшие серые глаза подернулись дымкой. – Я-то вот вообще ни про что не помню.
– Значит, так… В понедельник я каталась на роликах в Шахматном парке, во вторник ела шоколадный торт у Патрисии Энн, в среду получила восемьдесят девять баллов за диктант… – Джульетта засунула листок от календаря в карман блузки. – Это было на этой неделе. А на прошлой поймала в ручье рака, качалась на лиане, поранила руку гвоздем и свалилась с забора. И это все я успела сделать до пятницы!
– Какая ты молодец, все успеваешь, – сказала Элизабет Симмонс.
– А я и сегодняшний день запомню, – прищурилась Джульетта. – Сегодня листья на всех дубах начали краснеть и желтеть…
– Ну, хорошо, беги, поиграй, – сказала тетушка. – А я пойду все-таки разберу наверху.
Тяжело вздыхая и отдуваясь, она поднялась на затхлый чердак.
– Ведь еще весной собиралась, – сокрушалась по дороге она. – Глянь – а уже и зима на носу. А ну как снег выпадет – тогда мне и вовсе не разгрести этот хлам…
Вглядевшись в густой полумрак, она обнаружила там затянутые паутиной ржавые сундуки, стопки старых газет и еще много чего. В нос ударил застоявшийся запах плесени и старых деревянных стропил.
Она открыла грязное окно, выходившее в яблоневый сад, и оттуда сразу пахнуло осенней прохладой.
– Поберегись! – крикнула мисс Элизабет Симмонс и принялась выбрасывать во двор старые журналы и пожелтевшие от времени газеты. – Все лучше-то, чем стаскивать все это вниз по лестнице… – бормотала она, с трудом просовывая в окно охапки ненужного хлама.
Туда же отправились старые манекены с проволочным каркасом, давно опустевшие птичьи клетки и потрепанные энциклопедии, от которых поднялась такая пылища, что у нее закружилась голова. Пришлось и присесть на один из сундуков. Эх, старость не радость…
– Матерь Божья! И откуда только взялся весь этот хлам! – покачала головой она. – Ну вот что это такое? Для чего?
Она схватила в руки первую попавшуюся коробку и вытряхнула ее содержимое на крышку сундука. Немного порывшись, среди газетных вырезок и некрологов она вдруг обнаружила подборки старых календарей, скрепленные в три аккуратных книжечки.
– Надо же, и здесь успела, – хмыкнула она. – Ох уж мне эта Джульетта! Кругом у нее сплошные календари…
Открыв одну их книжечек наугад, она вдруг прочла: «Октябрь 1887». Вверху красовалось несколько восклицательных знаков. Некоторые даты были обведены красным. А к некоторым что-нибудь приписано, явно детской рукой. Например: «Очень важный день!» или «Сегодня был красивый закат!».
Она принялась лихорадочно перелистывать календарные листки – от волнения пальцы почти не слушались. В тусклом свете чердака ей было почти ничего не видно, но, согнувшись в три погибели и изо всех сил прищурив глаза, она все-таки разобрала мелкие буквы на обороте: «Элизабет Симмонс, десять лет, средняя классическая школа, пятый класс первого уровня».
Совершенно ледяными пальцами она пролистала одну за другой все выцветшие страницы. Просмотрела все даты, все восклицательные знаки, все красные кружочки вокруг знаменательных событий… И с каждой страницей ее брови все сильнее ползли к переносице, а взгляд становился все более рассеянным, пока совсем не потух. Она так устала, что слегка прилегла на сундук и стала смотреть за окно на осеннее небо. Странички календаря выпали у нее из рук и теперь лежали на коленях, пожелтевшие и выцветшие.
8 июля 1889 года – обведено в красный кружок. Ну, и что же такого в тот день произошло? 28 августа 1892 года – стоит синий восклицательный знак. А это что значит? И вообще, все эти даты, пометки, месяцы, кружочки, годы… К чему это все?
Она закрыла глаза и немного подышала ртом, чтобы успокоить бьющееся сердце. Было слышно, как где-то внизу, на высохшей осенней лужайке, резвится Джульетта и что-то весело напевает себе под нос.
Мисс Элизабет Симмонс долго собиралась с силами. Потом поднялась с сундука и медленно подошла к открытому окну. Несколько минут она просто стояла там и смотрела, как Джульетта играет среди красных и желтых деревьев. Затем несколько раз кашлянула, чтобы прочистить горло, и крикнула:
– Джульетта!
– Ой, тетя Элизабет! – Девочка подняла голову. – Ты там, на чердаке, такая смешная!
– Джульетта, я хотела попросить тебя об одном одолжении.
– О каком?
– Милая моя, мне так хочется, чтобы ты выбросила тот старый дурацкий листок от календаря… Ну зачем он тебе?
– Не знаю… А что такого? – заморгала глазами Джульетта.
– Не надо хранить у себя всякую ерунду, – сказала тетушка. – Потом тебе же самой станет неприятно на нее смотреть.
– Потом? Когда это – потом? Почему?! – подняла крик Джульетта. – Нетушки, я все хочу сохранить! Каждую неделю, каждый месяц! Столько же всего происходит – того, что я ни за что на свете не хочу забывать!
Мисс Элизабет вгляделась сквозь яблоневые ветки в ее кругленькое, еще совсем детское лицо.
– Ну, хорошо, как знаешь… – со вздохом сказала она, после чего высунулась из окошка и бросила вниз ненужную коробку, которая, просвистев в осеннем воздухе, с глухим стуком шлепнулась на землю. – Собирай, что тебе нравится, – как видно, нет смысла тебя отговаривать…
– Спасибо, тетушка! Спасибо! – Джульетта схватилась рукой за карман, в котором в сложенном виде помещался весь огромный сентябрь. – И этот сегодняшний день я тоже никогда не забуду! Я буду его всегда помнить, слышишь, – всегда!
Мисс Элизабет смотрела вниз сквозь переплетение ветвей – осенние листья на них слегка подрагивали от ветра.
– Ну, конечно, детка, – сказала она. – Конечно, будешь…
Меньше народу – больше кислороду
Дорога, ведущая в пустой город, оказалась не менее пустой. Проследовав по ней вдоль пустынного берега, джип въехал в бухту, в которой тоже было пусто, если не считать останков полузатонувших кораблей, торчащих из воды везде, куда хватало взгляда… Мимо проплывали мрачные здания верфи с пустыми окнами и гигантские бронтозавры доисторических подъемников и транспортеров… Судя по ржавчине, которая сыпалась с них, когда крюки, цепи и прочие суставы с клешнями качались от ветра, в этих позах они замерли лет сто назад. А судя по тому, что в пустых доках не лазили кошки, здесь не было даже крыс.
Картина запустения была столь всеобъемлющей, что парень за рулем джипа невольно сбавил ход, глядя на огромные неподвижные агрегаты и безжизненный берег, который обходили стороной даже волны океана.
Небо над морем тоже было совершенно пустым: видимо, чайки, в связи с отсутствием прибоя и прилагающейся к нему живности, давно улетели на север – подальше от этого гиблого места с ржавыми скелетами и домами, похожими на склепы.
И тишина… Она здесь была такая, что даже джип в ней застревал и двигался медленно, как будто в толще воды.
– Господи, спаси… – прошептал он. – И правда, мертвый город…
Странное место, обитатели которого встали рано утром, тихо собрались и ушли и не обещали вернуться…
В конце концов, джип остановился перед зданием, на вывеске которого было написано «Бар Гомеса». Над входом его лениво колыхались несколько флажков, судя по цветам, мексиканских.
Парень вышел из джипа и уже направился в сторону бара, как навстречу ему вышел крупный мужчина с неприветливым смуглым лицом, над которым кустилась шапка кудрявых седых волос. Белая форменная одежда, полотенце, перекинутое через левую руку, бокал со спиртным в другой руке – все говорило о том, что это бармен. Встав у входа, он сначала смерил недобрым взглядом джип, как будто его появление здесь было для него оскорблением, потом – его хозяина.
– Обычно никто не ездит сюда… – сказал он густым басом.
– Я, это… – замялся парень.
– Уже лет шестьдесят не было ни одной живой души…
– Это заметно… – Парень бросил выразительный взгляд в сторону моря, пустых доков и неба без чаек.
– Наверное, вы не ожидали здесь никого встретить… – Это был не вопрос, а утверждение.
– Не ожидал, – подтвердил парень. – Но вы-то здесь.
– А почему бы мне здесь не быть? С тысяча девятьсот тридцать второго года этот город – полностью мой и бухта – моя. И площадь – моя. И бар… Это все давняя история. Знаете небось, что случилось там, на море?
– Вы имеете в виду мель?
– Это сейчас там мель. Когда-то давно ее там не было. А потом появилась, прямо в одночасье. И корабли не успели уйти. Вон видите сколько их? Стоят теперь и ржавеют.
– Неужели за сколько лет не могли расчистить фарватер?
– Пытались… Это же был крупнейший порт в Мексике. Перспективы и все такое. Оперный театр, роскошные магазины – сплошь мозаика да золото… Всем пришлось уехать.
– Выходит, песок дороже золота, – сказал парень.
– Так и есть. Из маленькой песчинки вырастает большая гора…
– И что, здесь совсем никто не живет?
– Ну, почему совсем – есть тут один, – усмехнулся старик, – Гомес его зовут.
– Сеньор Гомес? – Парень приветственно кивнул. – А меня зовут Джеймс Клейтон.
– Значит, Джеймс Клейтон…
Гомес подошел ближе, по-прежнему держа в руке бокал.
– И вот все вот это… – Джеймс Клейтон окинул взглядом площадь, город и бухту, – называется Santa-Domingo?[30]
– А вы как бы это назвали?
– Честно говоря, больше бы подошло El Silencio…[31] Или Abandonado[32], крупнейший могильник мира… Обитель духов…
– И то верно…
– Прямо Город Одиночества… Ни разу в жизни не ощущал такого одиночества, как здесь. Я еще только подъезжал к окраине, а на сердце уже скребли кошки. Даже всплакнул. Помню, когда-то давно был на одном американском кладбище во Франции. Вообще-то я не очень верю во всяких там духов, но там меня прямо скрутило… Что-то такое там было в самом воздухе – у меня чуть сердце не остановилось. Вот и здесь – то же самое. Хотя вроде здесь никто не похоронен…
– Здесь похоронено Прошлое, – сказал Гомес.
– Ну, прошлое ведь не может вам ничего сделать.
– Не может, конечно, но все время пытается…
Гомес посмотрел на бокал, который приготовил для гостя, как будто и сам был не прочь его осушить. Но Джеймс Клейтон перехватил его взгляд.
– Текила? – спросил он.
– А что еще можно предложить мужчине?
– Мужчины – они ведь тоже разные бывают… Gracias![33]
– Давайте – одним рывком. Убивает прямо на месте!
Парень опрокинул в себя текилу – и едва не задохнулся. Кровь мгновенно бросилась ему в лицо.
– Уже, убила! – прохрипел он.
– Значит, надо повторить, – сказал Гомес и исчез за дверью.
Джеймс Клейтон вошел следом за ним и сразу ощутил прохладу после жаркого солнца. Внутри он увидел длинную барную стойку. Конечно, не такую длинную, как в Тихуане[34], где сразу девяносто посетителей могут одновременно замышлять убийства, гоготать, устраивать перестрелку и умирать со стаканом в руке, чтобы потом воскреснуть, с удивлением обнаруживая свой лик в засиженных мухами зеркалах… Нет, здесь стойка была всего чуть больше двадцати метров и вся уставлена стопками старых пожелтевших газет, разложенных по годам. Сверху висели ряды перевернутых хрустальных бокалов. А на зеркальных полках в глубине стояли навытяжку, как солдаты в карауле, целые эскадроны разноцветных бутылок с выпивкой. Но это было еще не все… Дальше начинался зал, в котором заманчиво поблескивали столовыми приборами штук двадцать, а то и больше, столов, накрытых белоснежными скатертями. И на каждом из них, несмотря на дневное время, горели свечи.
Гомес уже стоял за стойкой и наливал еще одну порцию убийственной текилы. Ну вот, юноша, все готово для самоубийства, медленного или быстрого, это уж как хотите. Если, конечно, юноша желает… Юноша желал.
Вооружившись текилой, парень перевел взгляд на скатерти, стулья, сверкающее столовое серебро и зажженные свечи.
– Вы что, кого-то ждете?
– Конечно, жду, – сказал Гомес. – Когда-нибудь они все вернутся. Так говорит Бог. А Бог никогда не обманывает.
– И когда же вы принимали последних посетителей? Уж извините за любопытство… – спросил Джеймс Клейтон.
– А вы посмотрите, там в меню написано.
Отхлебнув глоточек текилы, Клейтон взял со стойки меню и прочел вслух:
– «Cinco de Mayo»… Боже мой, это что же, май тридцать второго года? Это тогда здесь обедали ваши последние клиенты?
– Клиентка… – поправил его Гомес. – Уже в самом конце, когда город умер и его похоронили, здесь оставалась одна женщина. Держалась до последнего – в смысле до тех пор, пока отсюда не уехал последний мужчина. Дальше тянуть ей уже не было резона… А вы знаете, что до сих пор номера всех отелей в округе завалены всякими накидками, вечерними платьями и нарядами для выхода в оперу? Видите, вон там, через площадь – здание с золотыми богами и богинями на крыше? Не золотыми, конечно, позолоченными, иначе бы их тогда же и вывезли. Это – оперный театр, в котором за день до отъезда пела Кармен и прямо во время действия сворачивала на коленке сигары…[35] А уже на следующий день музыка выехала – и город сразу умер.
– И что, никому тогда не удалось уплыть по морю?
– Ну что вы! Мель… Там, за оперным театром, есть железная дорога. Оттуда и уезжали. Последний поезд отходил уже ночью, и артисты пели прямо в вагоне. Помню, я долго бежал за поездом, махал пухленьким красоткам и сыпал им вслед конфетти… А когда последний вагон пропал между деревьями, лег на рельсы, приложил ухо и слушал стук колес, весь в соплях и слезах, как последний estupido…[36] С тех пор по вечерам я частенько хожу туда – прикладываюсь к рельсам, закрываю глаза и слушаю. Послушаю – все тихо… Ну, и что еще старому дураку остается? Иду домой и напиваюсь. И каждый день твержу: manana, завтра… Завтра кто-нибудь приедет! Ну вот, вы и приехали.
– Сомнительная радость…
– Да нет, почему – самое оно! – Гомес выхватил из стопки старую пожелтевшую газету. – Отгадайте, какой это год?
– Тридцать второй? – улыбнулся Клейтон, кивнув на газету.
– Тридцать второй… Прекрасный год, самый лучший. Других для меня просто не существует… Самолеты не летают. Туристы не шастают. Военные корабли в гавань не заходят. Кто такой Гитлер, вообще никто понятия не имеет. Муссолини тоже никакой не злодей, а вполне себе ничего парень. Даже с Великой депрессией все в порядке – говорят, к Рождеству закончится. Лично господин Гувер обещал![37] Я тут каждый день газеты читаю. Беру из стопки по одной штуке – и перечитываю. Тридцать второй год. А кто же мне запретит?
– Я уж точно не буду, сеньор Гомес.
– Предлагаю за это выпить.
Они выпили еще по стаканчику текилы, и Клейтон вытер салфеткой рот.
– А хотите, я расскажу вам, что происходит в мире сейчас?
– Это еще зачем? У меня же есть газеты. Каждый день – по газете. Через десять лет я доберусь до сорок второго года. Через шестнадцать – до сорок восьмого… правда, боюсь, к тому времени мне уже будет не так интересно. Друзья привозят мне сюда газеты два раза в год, а я просто складываю их стопками на барную стойку. Должен вам заметить, этот ваш господин Гувер под текилу так хорошо идет!
– Он что, еще жив? – улыбнулся Клейтон.
– Сегодня принял важное решение насчет импорта зарубежной продукции.
– Может, все-таки рассказать вам, что с ним было дальше?
– Ну вот еще – даже слышать об этом не хочу!
– Ладно, считайте, что я пошутил.
– Предлагаю за это выпить.
Они выпили еще по одной. Помолчали.
– Вас, наверное, удивляет, что я сюда приехал, – сказал наконец Клейтон.
Гомес пожал плечами.
– Мне-то что за дело…
– Просто мне нравятся пустынные места, где мало народа. В них можно по-настоящему прочувствовать жизнь – не то что в городе, где живут миллионы. Здесь все можно потрогать, взять в руки, посмотреть, как оно устроено, и никто не будет следить за тобой и говорить под руку…
– Как говорится, меньше народу – больше кислороду… – сказал Гомес. – А ну, пошли выйдем-ка на свежий воздух.
Не дожидаясь ответа, Гомес бодрым шагом вышел из бара – и уже через несколько секунд его мощная фигура возвышалась рядом с джипом. Заглянув внутрь, он увидел множество сумок и чехлов, коими было завалено все заднее сиденье.
– «Life»… – прочел он на наклейках.
И посмотрел на Клейтона.
– Что-то название больно знакомое. Даже я его знаю, хотя в город езжу только за провизией и по сторонам обычно не смотрю. И к брехне по радио в магазинах не прислушиваюсь… Постой-ка, кажется, это слово я встречал на обложках толстых журналов. Это журнал? «Life»?
Клейтон скромно кивнул.
Гомес с недовольным видом уставился на поблескивающие в машине черные штуковины.
– Фотоаппараты, значит…
Клейтон снова кивнул.
– А почему валяются открытыми? Ты что, возишь их вот так, без чехлов?
– Вытаскивал по дороге, чтобы поснимать виды, и не убрал обратно.
– Это какие ж такие виды? – нахмурился Гомес. – С чего бы это молодому парню ехать из благодатных краев, где есть все, туда, где нет ничего, nada[38]? Неужто для того, чтобы снимать виды этого гигантского кладбища? Нет, дружок, сдается мне, что ты явился сюда не для этого…
– Почему вы так решили?
– А что это ты все время мнешься? Прямо минуты постоять спокойно не можешь. На небо зачем-то все время поглядываешь. За солнцем, что ли, следишь – так оно и без твоей помощи сядет… Может, у тебя тут свидание назначено? Вон фотоаппаратов навез, а сам еще ни одного кадра не сделал. Или виды моей текилы для тебя не годятся?
– Я… – начал Клейтон, но так и не успел ничего сказать.
Тут-то оно и началось.
Гомес сначала замер и прислушался, а потом рывком повернул голову в сторону гор.
– Что это?
Клейтон молчал.
– Ты слышишь?! – вскричал Гомес и бросился через площадь к небольшому строению, к которому была прислонена деревянная лестница.
Забравшись на нее, он хмуро уставился в сторону гор, прикрываясь рукой от солнца.
– Там же уже сто лет никто не ездит! Что молчишь?
Клейтон покраснел. Он не знал, что сказать.
Гомес на крыше все больше распалялся.
– Твои дружки небось? Да?
Клейтон поспешно покачал головой.
– А что же, недруги, что ли?
Клейтон согласно кивнул.
– Тоже с фотоаппаратами? Соперники?
– Да…
– Говори громче!
– Да! – крикнул Клейтон.
– Они что, сюда для того же самого едут, что и ты? Ты, правда, мне так и не сказал – для чего! – прокричал с крыши Гомес, неотрывно глядя в сторону гор и прислушиваясь к доносившемуся оттуда реву моторов.
– Я приехал раньше, чтобы их опередить, – сказал Клейтон. – Я…
В эту секунду раздался звук, как будто небо раскололось на две части, и в воздухе над Санто-Доминго появилась эскадрилья реактивных самолетов. А в следующую секунду они выплюнули из себя целую бурю белых бумажек, которые полетели на землю, кружась на ветру, как стая снежинок. Гомес тут же спустился вниз и принялся изо всех махать руками.
– Эй, вы, там! – бешено заорал он. – Какого черта!
Порхая, как белая голубка, одна из листовок приземлилась прямо ему в руки, но он с отвращением швырнул ее на землю, где уже и так было полно мусора. Клейтон бросил на Гомеса осторожный взгляд.
– Читай! – сказал он.
Но Клейтон все медлил.
– Там что-то на двух языках… – пробормотал он.
– Читай, я сказал! – рявкнул Гомес.
Клейтон поднял одну из листовок. Там было написано следующее:
«ВТОРОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
13 ИЮЛЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ ГОРОД САНТО-ДОМИНГО БУДЕТ ПОДВЕРГНУТ ФОТОАТАКЕ С ВОЗДУХА! У НАС ЕСТЬ ПИСЬМЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЧТО ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ЭВАКУИРОВАНО. ТАКИМ ОБРАЗОМ, РОВНО В 13.45 МЫ ПРИСТУПАЕМ К СЪЕМКАМ ФИЛЬМА «ПАНЧО!».
СТЕРЛИНГ ХАНТ, РЕЖИССЕР».– Какая еще атака с воздуха? – ошарашенно пробормотал Гомес. – Какой Панчо? Какой, к черту, режиссер? Это что же, Калифорния, испаноязычный штат, осмелится бомбить Санто-Доминго? Нет уж! – Гомес порвал листовку сначала на половинки, а потом на четвертинки. – Никакой атаки не будет! Это вам заявляет сам Мануэль Ортиз Гонсалес Гомес! Еще посмотрим, кто кого!
Некоторое время Гомес метал гром и молнии уже после того, как затих гром на небесах. Потом напоследок метнул на Клейтона убийственный взгляд и быстро зашагал через площадь в сторону бара. Клейтон едва за ним поспевал. После яркого света казалось, что в баре царит полная темнота. На ощупь пробравшись к стойке, Гомес двинулся вдоль нее, яростно считая по головам аккуратные стопки газет.
– Думаю, это где-нибудь здесь. Взгляни-ка…
Клейтон склонился к стопке газет.
– Ну, что там? – спросил Гомес.
– Первое объявление появилось примерно месяц назад. Если бы вы хоть иногда утруждали себя просматривать свежие газеты…
– Давай уже читай! – перебил его Гомес.
– Здесь говорится, что… – Клейтон прищурился и поднес газету поближе к свету. – Первого июля девяносто восьмого года… Правительство Мексики продало…
– Продало?! Что это оно продало?
– Город Санто-Доминго… – Клейтон прочел строчку заново. – Правительство Мексики продало город Санто-Доминго компании…
– Что?!
– Компании «Crossroads Films», Голливуд, штат Калифорния.
– Каким-то киношникам! – вскричал Гомес. – Из Калифорнии!
– Нет, этого не может быть! – Клейтон поднял газету еще выше, к свету. – Сумма сделки составила…
– Ну, говори!
– Просто умереть и не встать! – Клейтон закрыл глаза. – Один миллион двести тысяч песо.
– Что?! Всего один миллион двести тысяч песо? Да это же курам на смех!
– Да-а, куры бы просто передохли от смеха!
Гомес прищурился на газетный текст.
– Вот черт, ведь были же у меня когда-то очки – покупал как-то раз в Мехико. Но потом разбились. А другие покупать не стал. Подумал – зачем? Ради одной газеты в день? Нет… Ну, это ж надо – жил себе спокойно… Все кругом мое, пустота, свобода, ни души: иди, куда хочешь, хоть прямо, хоть налево, хоть наперекосяк, все равно никого не встретишь. А тут – на тебе! – Он щелкнул пальцами по газете. – Ну, что там еще? Давай уж читай до конца!
– Дальше про голливудскую кинокомпанию «Crossroads Films». Что они решили снять ремейк «Viva Villa!»[39]– это фильм о вашем знаменитом повстанце или как там его правильно… Новая картина будет называться «Панчо!». Так, что еще… Листовки на город сбрасывали для очистки совести: по официальной версии, город мертв, и там никто не живет вот уже в течение шести сроков американских и двух сроков мексиканских президентов, но слухи упорно опровергают эту версию…
– Слухи? Какие еще слухи?
– Слухи… – Клейтон просмотрел еще несколько газет. – Ну вот, например. «Давно покинутый жителями город Санто-Доминго стал местом, где скрываются воры, убийцы и беглые преступники. Также есть подозрение, что в городе процветает контрабанда наркотиков. Правительство Мексики создает специальную комиссию для расследования».
– Воры, убийцы и беглые преступники! Ой, я сейчас упаду! – Гомес захохотал, пытаясь схватиться руками за воздух. – Я что, похож на вора, убийцу и торговца наркотиками? И кому, интересно, я их тут продаю? Рыб, что ли, в море кокаином подкармливаю? И где я тут выращиваю марихуану? Брешут сами не знают что! – Гомес скомкал газету в руке. – Закопай это в землю – и через неделю тебе вырастет новая брехня, еще хлеще прежней. Ну, что там еще? Читай!
Клейтон прочел:
– «О предстоящих съемках город был оповещен заранее. 9 мая над Санто-Доминго были разбросаны листовки с предупреждением. При этом никаких признаков жизни в городе замечено не было. Кинокомпания анонсировала, что после окончания съемок «Панчо!» в руинах Санта-Доминго предположительно будет снят еще один фильм – с рабочим названием «Землетрясение».
– Что-то не видел я здесь в мае никаких листовок. Если они их и сбрасывали, то прямехонько в море, на прочтение акулам. Знаем мы этих мексиканских летчиков… Ладно, все ясно!
Гомес одним широким жестом смахнул со стойки газеты и вышел из темноты обратно на солнце. По дороге он прихватил со стены ружье и патронташ. Зарядив его, он направил дуло в сторону площади.
– Тащи свой фотоаппарат, gringo[40], – прохрипел он. – ¡Y ándale![41]
Клейтон достал из джипа свою лучшую «лейку» и тут же нацелил ее объектив на Гомеса, который уже стоял с дежурной улыбкой и с винтовкой наперевес.
– Ну, как я смотрюсь?
– Настоящий диктатор – вам бы не городом управлять, а страной!
– А так? – Гомес встал по стойке «смирно» и вытянул шею. – Пойдет?
– Пойдет! – засмеялся Клейтон и щелкнул «лейкой».
– А теперь еще вот так, – сказал Гомес, прицелившись в небо. – Во сколько у нас там прибывает враг? В четыре?
– В пять! – сказал Клейтон и снова щелкнул затвором.
– Так-так, чуть-чуть повыше, теперь чуть-чуть пониже… – Гомес долго целился, а потом действительно выстрелил.
От выстрела из крон деревьев выпорхнули разноцветные облачка галдящих птиц. Особенно сильно возмущалось семейство попугаев. Гомес выстрелил еще раз.
– Ну что, теперь ты доволен, брехун с камерой? – ворчал себе под нос он. – Хороши кадры? Все вы там, в Калифорнии, такие… Хотите войнушку? Будет вам войнушка! Мало не покажется! Мне-то что, я ведь сбрешу – недорого возьму…
– Не шевелитесь, вот так, – сказал Клейтон, – и не смешите меня, а то объектив трясется!
– Человека можно убить только смехом. Теперь ваша очередь, сеньор. Вставайте… – сказал Гомес и направил дуло на Клейтона.
– Эй, эй!
Раздался холостой щелчок ружья.
– Извини, патроны кончились, – сказал Гомес. – Ну что, хватит снимков для твоего журнала? «ГЕНЕРАЛ ГОМЕС НА ПЕРЕДОВОЙ». «ГОМЕС С БОЯМИ ОТБИВАЕТ САНТО-ДОМИНГО». «ГОМЕС ВЫХОДИТ НА ТРОПУ ВОЙНЫ»…
На этот раз вхолостую щелкнул фотоаппарат.
– Все. Теперь и у меня патроны кончились – в смысле пленка, – сказал Клейтон.
Они принялись все подряд перезаряжать. Ружье – патронами, фотоаппарат – пленкой. Главное – не перепутать, верно?
– А вы-то зачем еще раз заряжаете? – как бы невзначай поинтересовался парень.
– Когда эти жалкие недоноски начнут тут летать со скоростью света, мне придется побегать, чтобы поймать их на мушку. И тогда уж ты фиг что снимешь – кадры получатся размытыми. Давай лучше ты снимешь все сейчас, пока их нет, а потом смонтируешь из этого любую брехню, какую тебе надо. А может, я вообще умру, не дождавшись, пока они прилетят? Сердечко-то пошаливает, говорит, мол, чувак, надо полежать, отдохнуть… А вот хрен вам! Слышите: не дождетесь! Никаких «полежать» – по мне, так лучше уж сдохнуть! Слава богу, площадь свободна – места для маневра сколько хочешь. Бегай себе и стреляй, хоть обстреляйся! Как думаешь, в сколько метров надо взять упреждение[42], чтобы сбить хотя бы одну суку?
– По-моему, это вообще нереально…
Гомес презрительно сплюнул.
– Метр хватит? Или метр двадцать? Или, может, полтора?
– Скорее, полтора, – сказал Клейтон.
– Отлично. Вот увидишь – собью.
– И получите в награду уши и хвост[43].
– Я только одно знаю, – сказал Гомес. – Живьем я им не дамся, драться буду до конца, пусть даже эта битва будет последней. Лучше уж быть похороненным в руинах – они же все равно превратят здесь все в руины…
– Боюсь, других вариантов нет.
– Тогда давай еще серию, поживее. Я буду бежать и отстреливаться, потом опять бежать, брать на мушку и стрелять в цель… Ты готов?
– Готов.
Гомес отбегал задуманный сценарий и остановился, хватая ртом воздух.
– Принеси текилы… – прохрипел он.
Клейтон принес, и они выпили еще.
– Хорошая была войнушка, – сказал Гомес. – Брехня, конечно, все не взаправду, но никто же об этом не узнает? Ты же у нас самый хитрый брехун из всех… Обещай мне, что фотоотчет про войну за Санто-Доминго Великого Гомеса будет опубликован не менее чем в трех номерах!
– Обещаю! Клянусь! Но…
– А на сейчас какие у тебя планы? – перебил его Гомес. – Поедешь или будешь дожидаться врагов?
– Зачем мне их дожидаться? Я свое уже отснял. Им такого в жизни не заполучить. Гомес-победитель на центральной площади. Гомес – героический защитник Санто-Доминго…
– Хорошо брешешь, гладко… – сказал Гомес. – Давай парадное фото на прощанье.
Он перевесил винтовку на левую сторону, задрал повыше подбородок, а правую руку заложил за борт пиджака.
– Внимание, снимаю!
– Ну, а теперь, – Гомес бросил взгляд через площадь, где поблескивали железнодорожные пути, – рвем туда!
Он нырнул в джип и следом втащил ружье. Как только они переехали площадь, Гомес выпрыгнул из машины и улегся возле путей.
– Что вы делаете? – воскликнул Клейтон.
Гомес улыбнулся и положил голову на рельс.
– Я знал, что они вернутся по железной дороге. Не по воздуху, не по шоссе – это все отвлекающие маневры. Вот послушай! – С абсолютно счастливым видом он приложил ухо к раскаленному рельсу. – Меня не проведешь. Нет, не на самолетах, не на машинах. Как уезжали, так и приедут… Si![44] Я их уже слышу!
Клейтон не сдвинулся с места.
– Нет, ты послушай! – закрыв глаза, настаивал Гомес.
Клейтон на всякий случай посмотрел на небо и только после этого опустился на колени.
– Ну, вот, так-то оно лучше… – прошептал старик. – Теперь слышишь?
Горячий рельс обжигал Клейтону ухо.
– Слышишь? Они еще далеко… Но все равно приближаются.
Клейтон так и не смог понять, слышит он что-нибудь или нет.
– Вот теперь уже ближе, – радостно бормотал Гомес. – Наконец-то время пришло, si… Шестьдесят лет ждал. Какой у нас сейчас год? И сколько времени вообще?
Клейтон кусал губы.
– Ладно уж, говори.
– Тринадцатое…
– Что значит – «тринадцатое»?
– Тринадцатое июля тысяча девятьсот… – Он запнулся.
– Ну? Тысяча девятьсот?..
– Тысяча девятьсот девяносто восьмого! – выпалил Клейтон.
– Значит, тринадцатое июля тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Вот оно и пришло… И даже уже почти закончилось. Судя по тому, как гудят рельсы…
Клейтон налег на рельс всем телом и закрыл глаза. Он пытался понять, откуда идет гул – из земли или все-таки с неба? Или это стук его сердца? А гул все приближался, нарастал, пронизывая все его тело… И тогда он еще раз произнес, уже шепотом:
– Тринадцатое июля девяносто восьмого года…
– Ну вот, я и узнал, какой сейчас год… – сказал Гомес, который все так же лежал ухом на рельсе, прикрыв глаза и блаженно улыбаясь. – Это был смелый поступок. А теперь, сеньор, ты свободен.
– Но я не могу вас здесь так бросить!
– А мен¡я здесь и нет! У вас сейчас что – июль девяносто восьмого? А у меня – пятое мая тридцать второго! Прекрасный год, самый лучший! Здесь они точно меня не найдут! Так что иди. ¡Y ándale!
Клейтон поднялся на ноги и посмотрел на Гомеса, который по-прежнему лежал головой на рельсе.
– Сеньор Гомес…
– Я же сказал – его нет. Поезжай себе с богом.
– Может быть, я…
– Меньше народу – больше кислороду… – сказал голос Гомеса. – Давай уже вали, а то дышать нечем…
Клейтон сел за руль и включил зажигание.
– Гомес… – тихо позвал он.
Но на рельсах лежало только тело Гомеса – сам он переселился в другое время. Туда, где больше кислорода…
И Клейтон уехал, не дожидаясь, пока над городом грянет прощальный гром.
Театр одной актрисы
– Ну и каково же это быть женатым на женщине, которая является всеми женщинами сразу? – спросил Леверинг.
– Ну… приятно… – сказал мистер Томас.
– Как вы можете так говорить – приятно! Приятно – это водички попить!
Томас посмотрел на критика, продолжая разливать по чашкам кофе.
– Да нет, я ничего такого не имел в виду… Конечно, Эллен – потрясающая женщина. С этим никто не спорит.
– Боже мой, если бы вы только знали, что было вчера… – мечтательно произнес Леверинг. – Какое это было представление! Ее же буквально не отпускали со сцены! Это был настоящий триумф красоты! Адский пламень! Розы фламбе! Лилии в лучах восходящего солнца! Весь зал, в едином порыве, вдыхал этот тончайший букет! Как будто кто-то приоткрыл нам дверь, ведущую в весенний сад!
– Будете кофе? – спросил мистер Томас, он же муж Эллен.
– Понимаете… В жизни любого мужчины случаются всего три-четыре вещи, способные по-настоящему свести с ума, и то если очень повезет. Это музыка, живопись и женщина, ну, может быть, пара женщин. За всю жизнь! Так вот, меня – а я, между прочим, критик – меня так сильно не цепляло еще никогда!
– Через полчаса мы едем в театр.
– Прекрасно! Вы что, встречаете ее после каждого представления?
– Да, это абсолютная необходимость. И вы очень скоро поймете почему.
– Не скрою, я пришел сюда прежде всего затем, чтобы увидеть супруга Эллен Томас – счастливейшего из мужчин на земле. Вы каждый вечер ждете ее в этом отеле?
– Да нет, почему. Иногда еще гуляю по Центральному парку. Или езжу на метро до Гринвича. Или разглядываю витрины на Пятой авеню.
– А сами часто ходите на ее спектакли?
– Боюсь, что не видел ее на сцене уже больше года.
– Это она вас об этом попросила?
– Да нет, ну что вы.
– Вам просто надоело смотреть одно и то же?
– Опять не угадали… – Томас достал из пачки новую сигарету и прикурил ее от предыдущей.
– А, кажется, я понял. Вы же и так можете наблюдать ее каждый день. Зачем вам еще театр? У вас дома свой собственный театр, и вы в нем – единственный счастливый зритель… Вчера вечером я беседовал с Аттерсоном, и мы как раз об этом с ним говорили. Может ли в принципе мужчина мечтать о чем-то большем? Чем вы, например. Вы, кто женат на женщине редкого таланта, которая способна один час быть французской кокоткой, другой час – английской шлюхой, третий час – шведской швеей… Да кем угодно: Марией Стюарт, Жанной д’Арк, Флоренс Найтингейл[45], Мод Адамс[46] или китайской принцессой. Сказать честно, я вас ненавижу.
Мистер Томас скромно молчал.
А Леверинг продолжил:
– В душе любой мужчина завидует вам – по крайней мере, в той ее части, где расположено либидо и любовное разнообразие! Вас потянуло на сторону? Не спешите менять жену – она легко может изменяться сама. Presto![47] Она ведь как хрустальная люстра с разными режимами освещения! Каждый раз комната, в которую она входит, расцветает новыми красками! Такое пламя может согревать мужчину даже не всю жизнь – две жизни. И прощай, скука!
– Моя жена была бы польщена.
– Но разве не об этом мечтает каждый женатый мужчина? Разве не ждет он от своей супруги чудес и превращений? А что получает в реальности? Вместо калейдоскопа эмоций – алмаз с одной-единственной гранью. Да, она блестит и переливается. Какое-то время. Но, согласитесь, после тысячного прослушивания даже гениальная Девятая симфония Бетховена звучит как пустое сотрясание воздуха!
– Лет девять назад, когда мы с Эллен еще ездили в отпуск… – сказал ее супруг, доставая последнюю сигарету из пачки и наливая себе пятую чашку кофе. – Хотя бы раз в год выбирались на месяц в Швейцарию… – В этом месте он улыбнулся, в первый раз за все время их разговора, и откинулся на спинку стула. – Тогда еще имело смысл брать у нас интервью.
– Ладно уж, не преувеличивайте. Доверьтесь моему чутью… – Леверинг встал из-за стола, накинул пальто и энергично взмахнул рукой с часами. – Ну что, кажется, нам пора?
– Боюсь, что да… – сказал Томас, с тяжелым вздохом поднимаясь с кресла.
– Друг мой, побольше энтузиазма в голосе… Ведь вы едете не за кем-нибудь, а за самой Эллен Томас!
– Ну, если вы лично гарантируете мне, что это будет именно она… – Томас вышел, чтобы надеть шляпу.
Вернувшись, он спросил, улыбнувшись краешком губ:
– Ну, как я вам? Достоин ли я быть оправой для этого бриллианта? Ну, или, может быть, сгожусь на роль сценического задника?
– Я все понял: вы не Томас, вы – мистер Невозмутимость! Мрамор, гранит, железо и сталь в одном лице! Словно в противоположность ее утонченному, неуловимому аромату – сродни тому, что исходит из склянки, в которой когда-то были духи, но теперь почти испарились!
– Красиво говорите…
– Это да, иногда слушаю и сам себе изумляюсь. На том стоим… – Леверинг подмигнул Томасу и похлопал его по плечу. – А как насчет того, чтобы нанять экипаж, распрячь лошадей и прокатить супругу с ветерком вокруг парка? Пару кружочков?
– Думаю, хватило бы и одного…
Они вышли на улицу.
Такси затормозило перед совершенно пустым театральным подъездом.
– Кажется, мы прибыли слишком рано! – радостно вскричал Леверинг. – А тогда пойдемте и посмотрим финал!
– Нет-нет, спасибо.
– Как? Вы не хотите посмотреть на свою жену?
– Уж простите меня, нет.
– Но это же оскорбление! Прежде всего – для нее! Если вы не пойдете со мной в зал, я буду вынужден применить силу!
– Ну, пожалуйста, не заставляйте меня насильно…
Тем не менее Леверинг схватил Томаса за руку и потащил его за собой.
– Мы только тихонько посмотрим… – сказал он, во всю ширь распахивая вход в бельэтаж.
Билетеры всполошились было впотьмах, но, узнав Томаса, сразу успокоились. По контрасту с темнотой зала сцена, на которой по всей ширине были расставлены шесть коринфских колонн, сверкала иллюминацией цвета роз, лаванды и первой весенней зелени. Публика сидела так тихо, что, казалось, в зале никто не дышит.
– Ну, пожалуйста, можно я выйду? – прошептал Томас.
– Тсс! Это неуважение! – прошипел в ответ Леверинг.
И вот началось. Женщина на сцене (или, правильнее сказать, женщины?) то исчезала в тени, то вновь выходила на свет, то исчезала, то выходила… И именно в этом состоял грандиозный замысел финального аккорда. Под тихие звуки оркестра одинокая женская фигурка начинала вальсировать в правом углу сцены, словно оставляя за собой в темноте светящуюся дорожку… И вдруг она вскидывает руки и поворачивает к публике лицо, освещенное лучом прожектора, и все понимают, что это Золушка, которая радостно кружится на балу, и, кажется, этому счастливому кружению не будет конца… Но неожиданно она скрывается за белой колонной… И уже через миг с другой стороны появляется совсем другая женщина. В ее лице – аристократическая бледность. Она все еще кружится, но уже без особого энтузиазма: это не Золушка, это светская дама, познавшая в этой жизни и тоску, и смертельную скуку… Она как будто вальсирует с кем-то невидимым, понимая, что он давно стал ей чужим… И музыка, кружа, несет ее дальше – к следующей колонне, заставляя Леверинга еще сильнее вжиматься в бархатное заграждение. И вот из-за колонны выпархивает новая женщина. Она еще печальнее предыдущей, сверкающий шлейф погас, лоска поубавилось… Бог мой, да это же уличная девка, вульгарная, пошлая, блестящие красные губы распялены в отвратительной улыбке – пошатываясь и пытаясь сохранить равновесие, она бредет под музыку к следующей колонне. И исчезает за ней! Потом – точно так же четвертая женщина, и пятая, и шестая! А музыка все громче, свет все ярче… Горничная… Официантка… И, наконец, уже у самого края сцены – старая седая ведьма, на чреслах которой еще болтаются остатки мишуры, а в глазах еще теплится слабый уголек жизни… Шамкая что-то сморщенными губами, она мечется по сцене, цепляясь скрюченными пальцами за темноту, и оглядывается назад, пытаясь разглядеть что-то сквозь толщу прожитых лет, сквозь бездну… Измученное, почти ископаемое древнее животное, жизнь закончена, ноги вот-вот должны подкоситься, но нет… Они упрямо продолжают танцевать этот танец жизни, которому нет конца!
Конечно же, на этом действие не могло закончиться – зритель не понял бы, если бы ему не вернули красоту. Поэтому в какой-то момент старуха застыла и через всю сцену устремила взгляд к самой первой колонне, той, из-за которой много лет назад появилась прекрасная дева. Вскрикнув беззвучным криком, она закрыла глаза и невероятным усилием воли попыталась переместиться в другой конец сцены, к своему призрачному видению. В этом порыве было столько силы, что в темноте никто и не заметил, как она ровно на пять секунд исчезла со сцены… И вот с новым взрывом света, словно промчавшись обратно сквозь время, юная и прекрасная, она возрождается у первой колонны! Она появляется словно из самой весны – и парит, как будто не касаясь этого мира, купаясь в дожде из снежинок и цветов, потому что настоящая красота не может никуда исчезнуть… Занавес.
Леверинг выглядел совершенно сраженным.
– Боже мой, боже мой! – качая головой, шептал он. – Понимаю ведь, что все это сентиментальная чушь, опереточное шоу… Но ничего не могу с собой поделать! Боже, какая женщина!
Готовый вступить в словесную баталию, он повернулся к Томасу, но тот продолжал молча смотреть на сцену, вцепившись руками в обитые бархатом перила. И вот на полотнище занавеса вновь появился кружок света… Зал взорвался аплодисментами – и занавес поднялся еще раз. И все увидели, что на сцене, среди сугробов из хрустальных снежинок все так же неутомимо кружится в танце блистательная прима… Теперь занавес то поднимался, то опускался – уже без музыки, только под гром аплодисментов, – а она все кружилась и кружилась в снегу, и с каждым разом эта картина выглядела все более зловещей.
По щекам Томаса катились слезы. Чем дольше он смотрел на поднимающийся и опускающийся занавес, за которым бесновалось белое привидение, тем слезы лились сильней. Леверинг заботливо взял его под руку.
– Ну-ну, будет вам! – сказал он.
Наконец, занавес поднялся-опустился в последний раз – и в зале приглушили свет. Примолкшие и потрясенные зрители стали потихоньку расходиться. Леверинг и Томас молча перемещались к выходу.
Потом они долго стояли возле служебного входа и ждали – до тех пор, пока где-то внутри здания не зазвонил звонок. Услышав его, Томас открыл дверь и проскользнул в совершенно пустой и темный театр. А уже через минуту вышел, ведя под руку валившуюся с ног маленькую женщину в мешковатом пальто и темном платке, надвинутом на самые глаза. На ее усталом и изможденном лице не было ни грамма косметики, под глазами пролегали огромные темные круги… Женщина не то чтобы не заметила стоявшего возле двери Леверинга – она попыталась пройти сквозь него.
– Дорогая, позволь представить тебе господина Леверинга, он – театральный критик. Может, припоминаешь?
– Боже, какой успех! – воскликнул Леверинг. – Это было великолепно!
Эллен стояла, опершись на руку своего супруга, а он в это время шептал ей на ухо:
– Сейчас в теплую ванну, разотрешься полотенцем – и баиньки… В двенадцать я тебя разбужу.
Она посмотрела на Леверинга, пряча на плече у мужа усталое лицо, на котором не было ни помады, ни теней, ни румян. Но взгляд ее, казалось, прошел сквозь него и без остатка растворился в темноте.
Кажется, она что-то произнесла, но так тихо, что было не разобрать. Тогда он вгляделся в ее блеклое, без косметики лицо в надежде понять хоть что-то по движению губ. Нет, давайте потом, чуть слышно лепетала она. Не сегодня, пожалуйста… Возможно, как-нибудь в другой раз, но только не сегодня… Не сейчас… Чтобы расслышать это, ему пришлось наклониться прямо к ее лицу, хотя они стояли в тихом и совершенно пустынном переулке. Она очень признательна ему за внимание и за терпение… И очень извиняется за то, что ему пришлось так долго ждать ее здесь, под дверью… О! Кажется, у нее появилась идея. Может быть, вот это поможет хоть как-то ее оправдать… И как бы в подкрепление к своим извинениям, она вложила ему в руку какой-то мягкий предмет. При этом, о счастье, прима даже заглянула ему в глаза!
После этого ее внимание моментально переключилось на ожидавшее у подъезда такси, которое уже манило огнями, мягкими сиденьями, уютной темнотой, а главное – надеждой на то, что все это наконец закончится. Не обращая внимания на Леверинга, супруг почти волоком подтащил ее к машине, и едва успел затолкать внутрь, как мотор тихо заурчал. В этот момент Томас все-таки вспомнил про критика и, обернувшись на него, сморщил лицо в вопросительной гримасе.
Критик кивнул и махнул ему рукой – мол, езжайте с богом. Томас коротко кивнул в ответ и, усевшись в такси, аккуратно прикрыл дверцу. Машина еле слышно тронулась и невероятно медленно, в щадящем режиме, двинулась по переулку. Кажется, она выезжала из него минут пять.
Все еще стоя возле служебного входа, критик решил наконец рассмотреть, что за подарок вручила ему актриса в качестве оправдания.
Это оказалось… полотенце. Не больше и не меньше.
Полотенце. Но только – мокрое насквозь. Осторожно поднеся его к лицу, он почувствовал слабый запах – оно было буквально пропитано потом.
– Да… Как-нибудь в другой раз… – вздохнул Леверинг.
Да что там другой! И третий раз, и четвертый он был готов приходить сюда хоть каждый день. И пусть она опять и опять откладывает встречу и вручает ему в оправдание такие подарки…
«Но этот, муженек ее, тоже хорош! – подумал он. – Сразу не мог, что ли, сказать? Ну, да бог с ним. Как вышло – так и вышло».
Леверинг бережно сложил полотенце и, перекинув его через одну руку, другой стал ловить такси до дома.
По дороге он вдруг решил заговорить с таксистом.
– Вот скажи, если бы у тебя был сад, в котором бы тебе не разрешалось рвать цветы?
Водитель дал себе время подумать, пока вписывался в поворот, а потом выдал исчерпывающий ответ:
– А на кой хрен он тогда мне сдался?
– Правильно, – согласился Леверинг. – На хрен он никому не сдался…
Уже глубокой ночью такси прибыло на место. Критик расплатился с водителем и пошел домой, трепетно сжимая в руке заветное полотенце.
Спрашивается, на кой хрен оно ему сдалось?
Прощальное турне Лорела и Гарди на планету Альфы Центавра[48]
Они были уже двести лет как мертвы.
И тем не менее они были живы.
Совершенно непонятно, как смогли они долететь до двенадцатой планеты системы Альфа Центавра. Тем не менее они долетели.
Нет, никакого ажиотажа не было.
Ну, разве что часов в пять утра собралась конгрегация, чтобы, так сказать, освятить чудо, рожденное в результате причудливой игры генов и поправшее смерть во имя поддержания уровня смеха на отдаленных планетах…
Ну, пришли на Альфа-космодром двадцать тысяч заплаканных фанатов, которым вчера просто показали 24-часовой фильм с участием этих двух святых, после чего все захотели лично увидеть их сошествие с пылающего небосвода и заодно немного согреться душой…
А так – нет, никакого ажиотажа.
Все замерли в ожидании.
И вот наконец после эффектного технологического шоу теней, лазерных граффити, зеркал и египетских воскурений в клубах огня и дыма материализовался долгожданный космический корабль «Альфа», который на поверку оказался… стареньким «Фордом» модели «Т» 1925 года выпуска. И в этом вот, извините, аккордеоне на колесах сидели двое мужчин – один толстый, другой тонкий, – которые яростно махали шляпами.
Приветствие, впрочем, продолжалось недолго: буквально через несколько секунд «Форд» модели «Т» взорвался, а его пассажиры – толстый и тонкий – каким-то непостижимым образом успели выпрыгнуть.
– Опять ты втянул меня в какую-то идиотскую историю! – воскликнул толстяк, хлопнув свой котелок об землю. – Чтоб я еще раз с тобой куда-нибудь поехал!
После этого под громкие раскаты смеха, изображая поочередно то похороны, то коронацию, парочка триумфально вошла в город.
– ПРИВЕТ, СТЭН! ПРИВЕТ, ОЛЛИ! – зазвучало с телеэкранов.
– Интересно, когда это они успели ожить? – удивленно спросил Уилл Граймз, мой бармен.
– Да они, собственно, и не оживали – они и так были живы… черт, даже не знаю, как тебе это объяснить, – сказал я, не отрывая глаз от телевизора в гостиничном баре.
– Что, какие-нибудь чудеса медицины конца двадцатого века, которые позволяют человеку жить до девяноста девяти лет?
– Нет.
– Виртуальная реальность? Волоконная оптика на службе исполнения желаний?
– Теплее…
– Возрожденные с помощью генной инженерии птеродактили, которых впоследствии перестреляли и отправили назад в прошлое по распоряжению Верховного суда?
– Ну, допустим, это не… – начал я.
И в это мгновенье в бар вразвалочку вошли и, семеня, вбежали… Стэн Лорел и Оливер Гарди. Все так и ахнули. А Олли окинул взором собравшихся и торжественно объявил:
– Нам, пожалуйста, две чашки двойного…
– Джина! – нашелся Стэнли.
– Пожалуй… – повел бровью Олли.
– Послушайте, а вы точно настоящие? – спросил Уилл Граймз, мой бармен.
– Я бы сказал, даже более, чем настоящие… – Гарди с высокопарным видом постучал себя по груди.
– А что, не похожи? – вякнул Стэн.
– Ну, как вам сказать… – сказал Уилл Граймз, разливая напитки. – Какие-то вы… черно-белые, как в ваших старых короткометражках. Не цветные, короче.
– Так оно ж и понятно… – лучезарно улыбнулся Стэн.
Но Олли не дал ему договорить.
– Помолчи, Стэнли. Видите ли, сэр, когда нас только создали, мы были вполне себе полноцветными. Но все почему-то в один голос сказали – нет, нет и нет! Мол, никакие это не Стэн и Олли! И тогда нас отправили обратно в лабораторию – отбеливать и перекрашивать…
– В заслуженный черно-белый, – подмигнул Стэн.
– Ну, а кожа? – воскликнул я. – Почему у вас светится кожа?
– Обычная компьютерная косметика!
– И все-таки… – не унимался я. – Как вам удалось попасть сюда спустя двести лет после того, как вы… умерли?
– А никто и не умирал! – вякнул Стэн.
– Спасибо… Стэнли! Это действительно так. Мы никогда не жили, поэтому не можем и умереть. Могут ли умереть, например, электрическая лампа, телефон, игральные автоматы «Penny Arcade», беспроволочный телеграф, радиолампа, телевизионный транзистор, факс, электронная почта или Интернет? Или какой-нибудь там… метод внутриэмбрионального расщепления атома ДНК трехвалентной вакцины Солка? Или, скажем, Шалтай-Болтай? Шалтай-Болтай уж точно не может умереть. Он же сидит на стене! Так же и мы. Сидим себе на стене научной лаборатории… А все потому, что среди ученых нашлись безумцы, которые решили, что надо реинкарнировать не динозавров, а…
– …двух придурков, за которыми по лестнице гонится пианино?
– Touche!
– …двух продавцов новогодних елок, которые умудрились разрушить дом?
– Точно!
– …и которые в спальне увидели гориллу, танцующую в балетной пачке?
– Это мы! Это мы! – радостно проблеял Стэн.
– И при этом вы – живые и настоящие? – уточнил я.
– Нас… зародили, причем по необходимости. Вы что-нибудь слышали об Одиночестве, сэр?
– Очень давно. Насколько я знаю, эту болезнь удалось победить, она лечится.
– Так нами ее и лечат! – снова встрял Лорел.
– Стэнли! – прикрикнул Гарди и елейно добавил: – Еще по чашечке бомбейского зелья, сэр! Так вот, про эту болезнь – Одиночество. Никто даже и не думал, что такая болезнь может появиться. В лабораториях изучали все, что угодно, включая влияние нулевой гравитации на кровообращение. Но никого не интересовало, как воздействуют на организм время, пространство и расстояние. Смогут ли люди выжить, находясь вдали от Земли – вдали от всех своих корней, от привычного окружения? Насколько их хватит – на сто лет? Или всего лет на десять? И чем окажется для них космос? Домом? Или тюрьмой? А может, вообще полным дурдомом? Этого тогда никто не знал…
– Прозрение произошло уже позже – сумрачным утром на некой планете в девяноста годах от Земли. Некий молодой человек начал вдруг рыдать и не мог остановиться. Причина? Оказывается, Земля была слишком далеко. Земли не было в поле видимости – и это почему-то оказалось за гранью понимания!
– Такого поворота не ожидал никто… Это был удар под дых, если бывает психологический дых!
– Дальше – хуже. Плач и рыдания начали распространяться, причем с бешеной скоростью. Это ведь очень опасная инфекция! По принципу действия она как хохот на старых пластинках времен после Первой мировой войны: стоит послушать, и тоже начинаешь смеяться!
– Очень скоро печаль начала принимать масштабы эпидемии. Случаев Одиночества с каждым днем было все больше. Люди только и делали, что хоронили и оплакивали свои мечты. Плач и вой стояли повсюду!
– Ученые срочно взялись за разработку лекарства. В какой-то момент выяснилось, что неплохо помогают старые фильмы и видео. Но для больных это были, по сути, спиритические сеансы. Ведь все эти актеры умерли задолго до того, как первая ракета достигла Плутона. Нужны были не призраки, а настоящие человеческие особи!
– И вот тогда зародили нас… – сказал Оливер Гарди. – Не возродили, а именно зародили – с нуля, независимо от нашего естественного рождения или смерти. И не надо говорить, что это было «Второе пришествие»… Самое что ни на есть первое.
– Нас собрали из отдельных волокон, нервных окончаний и ганглия. Внедрили туда ДНК-имплантаты и хромосомы, которые удалось добыть на кладбищах в Глендейле и в Санта-Монике. Потом в нужных местах вырастили подкожный жирок, встроили электрическую дыхательную систему и – voila![49]
– Лорел и Гарди! – воскликнул я.
– Однозначно! – смеясь, подтвердил Гарди. – Уже после первого нашего появления на Луне, а тем более после водевильного турне по лучшим сценам Марса все слезы высохли… Все рыдания сняло как рукой! Люди снова обрели смех! Нам удалось победить и утренний, и ночной синдром… А кроме того, мы дали путевку в жизнь Франкенштейнам – разработке из Калтеха:[50] со смехом человечество смогло спокойно продолжить проект «освоения миров», чтобы обеспечить свое бессмертие! А все мы – неподражаемые Лорел и Гарди! Уж извините за нескромность…
В этот момент Уилл принес новую порцию зелья.
– Угощаю! – сказал он. – А можете сказать, только честно: вы живые или нет?
– Нет.
– То есть вы – мертвые?
– И это нет… – покачал головой Стэн.
– Мы – Непостижимые для понимания, – важно провозгласил Гарди.
– Да уж ладно… – сказал я. – Пожмите-ка мне руку. Ну? Какие же вы непостижимые!
– Вы не поняли, – скромно опустил глазки Гарди. – Сама Вселенная в принципе непостижима для понимания. Ну и мы тоже как ее продолжение…
– Да скажи ты им, Олли… – протараторил Стэн.
– Спасибо… Стэнли! – Олли надулся и заложил пухлые пальцы за лацканы пиджака. – О’кей. Когда меня спрашивают, верите ли вы в теорию Дарвина, я отвечаю – да. А в теорию Ламарка?[51] Да. А в Ветхий Завет? Ну конечно! Как же вы можете одновременно верить и Дарвину, и Ламарку, и Богу, который якобы сказал: «Да будет свет»? – Оливер Гарди по очереди поднял три толстых пальца. – Верю! Потому что ни Дарвин, ни Ламарк, ни Ветхий Завет не дали мне ни одного доказательства! Они все равны. Было ли сотворение мира? Был ли Большой взрыв? Да ничего подобного! Вселенная, хоть это и невозможно представить, существовала всегда – миллиарды световых лет, в одну и в другую сторону. У нее нет ни начала, ни конца… Она просто бесконечна – что во времени, что в пространстве. «Ну, как же так? – рыдая, спросите вы. – Должна же она была когда-то начаться!» – «Увы, – отвечаю я. – Она существовала всегда…» – «Но как, как вы себе это представляете?!» – «Да никак. Такая уж у нас Вселенная – непостижимая для понимания. Поэтому просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы – непостижимые, мы – непостижимые, все – непостижимые. Ну, может, мы чуть больше – из-за нашей черно-белости…»
– Честно говоря, вы меня потрясли, – сказал Уилл, мой бармен.
– Прекрасно. Именно с потрясения начался этот мир. Это случилось примерно миллиард миллиардов несуществующих лет назад. Можете повесить себе этот календарь на стену – туда, где нет стен…
– И что дальше? – спросил я.
– Все! – Оливер Гарди степенно развел руками. – Я все сказал. Ни Стэн, ни я никогда не рождались и никогда не умирали. Мы просто есть. И, должен вам заметить, это очень роднит нас с Вселенной!
– Вот-вот! – ввернул Стэн.
В этот момент стоявший в дальнем углу паба телевизор очнулся, издал мучительный стон – и его экран озарился цветом.
– Обновление в базе плохих новостей, – сообщил похоронный голос. – Прибыли Истребители.
– Истребители? – удивился я. – И кого они истребляют?
– Нас, – ответил Олли, постучав себя по груди.
– Но почему кому-то понадобилось вас истреблять?
Приглядевшись к экрану, мы увидели вход в наш отель, возле которого стояла толпа каких-то мрачных личностей. А потом и без всякого телевизора стало слышно, как они входят в вестибюль и поднимаются по лестнице.
Точно так же молча, без возгласов и воплей, шайка вошла в бар. Глаза у них горели, но они сдерживались и просто сканировали помещение на предмет каких-нибудь киношных язычников, библейских выродков и богохульников, передавая друг другу карточки с именами Врагов.
На мгновение меня охватила паника. Мне показалось, что еще немного – и эти люди порвут Стэна и Олли на целлулоидные полоски.
Но Лорел и Гарди… растворились в воздухе.
– Вот черт, куда это они… – послышался у меня над ухом шепот Уилла.
– Да я и сам не понял…
Пока я изо всех сил вглядывался в пустое место, толпа быстро прочесала бар и, оставив на стойке штук сто каких-то брошюрок, засобиралась на выход. Не успел я прочитать их названия (например, «НЕТ ЦИФРОВЫМ ДУХАМ!», «ПУСТЬ МЕРТВЫЕ ХОРОНЯТ СВОИХ МЕРТВЕЦОВ», «ВОН, ДНК-НЕЧИСТЬ!», «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ – ТОЛЬКО ИИСУС!» и т. п.), как толпа с разочарованным гомоном удалилась, пройдя прямо сквозь пустоту.
А Лорел и Гарди тут же материализовались вновь.
– Ну что, как вам эти фрукты? – как ни в чем не бывало спросил Оливер Гарди.
– Но… где вы были?
– Здесь! – радостно тряхнув чубчиком, сообщил Стэн.
И тут же на глазах у всех исчез, появился, потом снова растворился и снова воскрес.
– Цифровая штора? – предположил я.
– Ну да, что-то вроде того… – кивнул Стэн.
– Стэнли! – укоризненно сказал Гарди. – Скажите, сэр, у вас была в детстве пластиковая линейка, помните, такая с динозаврами?
– Ну да.
– Крутили ее в руках? Помните, что делалось с динозаврами?
– Конечно, помню. Они мигали – то исчезали, то появлялись… Вот черт! Вы хотите сказать, что с вами это происходит примерно так же?
– Ну… примерно, – кивнул Гарди. – Можно сказать, что мы отпечатаны на особых атмосферных двояковыпуклых жалюзи. Если смотреть на нас прямо, нас видно, а если сбоку, то раз! – и уже нет. Voila! – Гарди несколько раз показательно исчез и появился.
– Ох и ни фига ж себе! – сказал Уилл.
– Значит, мы смотрели на вас под правильным утлом, а Истребители – под неправильным?
– Точно! Мы же никогда не прилетали и не улетали. Никогда не рождались и никогда не умрем… Хотите знать, за что меня и Стэнли так ненавидят Истребители?
– За что же?
– Эти религиозные мстители никак не могут простить нам того, что мы считаем Вселенную непостижимой для понимания… – Олли помешал пальцем джин. – Они-то убеждены, что все началось с того, что Творец поджег фитиль и устроил Большой взрыв. Но мы, клянусь вам, за миллиарды световых лет не видели даже ничего похожего, и…
– И поэтому они хотят нас истребить! – Стэн носом написал в воздухе свое имя и перечеркнул его в области «Т».
– А заодно и Джина Келли[52], и Гарбо… – скорбно вздохнул Олли.
– Джин Келли! – вскричал Уилл. – Грета Гарбо? Ниночка?![53]
– Гарбо смеется! И кстати, тоже собирается к вам.
– Скажите, а много еще у вас… таких… – Я запнулся, где зная, как сказать.
– Есть ли еще где-нибудь другие Лорелы и Гарди? Как вам сказать… И да, и нет.
– И да, и нет?
– Скажем так: они могли бы быть. Уж поверьте на слово: пара десятков Стэнов и Олли нашему мирозданию не помешают…
– Ну уж! – сказал Уилл.
– И никаких «ну уж», сэр… – Олли с благоговением посмотрел на свой котелок, как будто это был магический хрустальный шар. – Знали бы вы, сколько еще осталось в других мирах непролеченной меланхолии! Уверяю вас, пара десятков Стэнов и Олли – это просто прожиточный минимум. В противном случае тотальное Одиночество может вернуться и снова начать собирать миллионы жертв.
– Понятно! – сказал Уилл.
– Что вам понятно, сэр? Слушайте и не перебивайте… Когда скептики спрашивают нас о наших генетических корнях, мы, конечно, все отрицаем. Говорим, что мы – черно-белые привидения из Интернета и что мы воскресли, как Лазарь…
– Как две горошины в одном стручке! – вставил Стэн.
– И все же в это трудно поверить… – начал я, но Лорел меня перебил:
– А в это и не надо верить, сэр… Это надо знать! Возьмите гусениц и бабочек. Кажется, между ними нет ничего общего, но вы-то знаете, что это не так. А как вообще возникла Жизнь на Земле? Почему мертвый камень ожил, когда в него ударила молния? Как случилось, что электрические разряды в облаках привели к зарождению жизни – живой, копошащейся, да еще и пытающейся познать саму себя? Да фиг его знает как, говорят ученые. Случилось – и случилось. Науке об этом ничего не известно. Так же и мы. Появились – и появились. Ни начала, ни конца – не гусеница, не бабочка…
– Я вам больше скажу… – свистящим шепотом сообщил Стэн. – Олли и я, то есть я и Олли, мы будем жить вечно.
– Вечно? – переспросил я.
– Разве не об этом вы все когда-то мечтали? Помню, когда мы ставили водевили в Лондоне и Дублине, зрители хором кричали: «Стэн! Олли! Пожалуйста, не умирайте никогда!» Ну вот, кажется, оно сбылось… – Стэн сморгнул слезинку из глаза. – Мы отправились в свое последнее прощальное турне, и по условиям контракта оно будет длиться… вечно! – захлебнувшимся фальцетом закончил он.
– Вечно… – эхом отозвался чей-то шепот.
– И куда же вы отправитесь теперь? – спросил я.
– В системе Альфы еще много планет. По крайней мере восемь из них – обитаемые, на семи есть небольшие поселения. Это тысячи больных Одиночеством, которые ждут, когда же к ним прибудут спасители цивилизации и привезут хоть немного веселья. И они нас дождутся!
– Я понял, вы – родные братья Иисуса Христа, только без распятия… Любимые межгалактические сыновья Господа… – прочувствованно сказал Уилл.
– Говорите, говорите! – воскликнул Стэн. – Как жаль, что мы не знали раньше, кто мы: я бы стал еще сильнее дурачиться, а Олли – еще сильнее надувать щеки!
– Что за чушь! – возмутился Олли.
– Это не чушь! – сказал Стэн.
– Ну, все! – Олли раздраженно замахал руками. – Говори пока-пока – и уходим. Местным ирландским сироткам пора на ужин. А Стэна и Олли ждет «Destruction Derby»[54]. Не правда ли, Стэнли?
– Вы что, никогда не отдыхаете и не спите? – спросил я.
– Извините, слишком много дел.
– Пока-пока!
– Подождите!
Я вышел из-за стойки, чтобы пожать их черно-белые руки – и они оказались теплыми.
– Удачи! – сказал я.
И они направились к выходу – вразвалочку, кувырком, семеня и подпрыгивая одновременно.
Остаток вечера они провели, подвиснув в лазерных лучах Виртуальных Реальностей, где их ждала богатая культурная программа, включающая:
1. Встречу с гориллой на шатком мостике через глубокое ущелье.
2. Чудесную возможность увязнуть в цементе и утонуть в пучине.
3. Бегство от сумасшедшего, который кричал, что поотрывает им головы, а ноги завяжет узлом.
4. Два прыжка через забор – удачный для Лорела и неудачный для Гарди и самого забора.
В финале этого действа очень серьезный и исполненный достоинства Оливер Гарди появился вверху парадной лестницы, держа в руках огромный торт, утыканный горящими свечками. Увы, в таком виде ему удалось просуществовать лишь одну ступеньку – уже на второй он споткнулся, и вся конструкция, включающая торт, свечки и самого Олли в сопровождении диких воплей, рухнула вниз, после чего, пролетев, как в замедленном кино, всю лестницу, приземлилась прямо на обеденный стол, где состоялась дружеская встреча лица Олли с тортом. Далее события развивались следующим образом: не выдержав накала страстей, стол проломился, торт и Олли свалились на пол, на них со стен посыпались картины, затем с потолка на все это упала люстра – и уже сверху приземлились горящие свечки! И вдруг – раз! Картины прыгнули обратно на стены, люстра вознеслась к потолку, торт снова стал тортом, а Олли, пятясь задом, вновь оказался на верхней ступеньке с тортом в руках. Весь его невинный вид словно говорил: ну, мы-то с вами понимаем, что это все была неправда, а вот сейчас я пройду по-настоящему, без всяких там падений и воплей… Внимание! И он снова отправился вниз – уверенной походкой человека, которого всегда окружают шаткие столы, ненадежно закрепленные картины и люстры с дополнительной функцией гильотины…
Альфа Центавра буквально потонула в аплодисментах.
– Ну, когда же, когда вы приедете к нам еще? – спросил я.
– Как только вы почувствуете, что мы вам опять нужны, – сказал Олли. – Когда вам уже невмочь пересилить Беду, когда подступает Отчаяние… Ну что ж, друзья, теперь уж нам точно пора? Кто помнит волшебное слово? Что сказал постовой, когда мы застряли на нашей колымаге прямо посреди улицы?
Стэн и Олли взяли в руки котелки.
– Олли, ты сейчас должен теребить галстук, – напомнил я.
Олли стал теребить галстук.
– Стэн, а ты должен поправить чубчик.
Стэн послушно встряхнул головой.
И тогда, набрав в легкие побольше воздуха, я проорал:
– А ну, валите отсюда, живо, пока я вам штраф не впаял за создание помех на дороге!
После этого, подпрыгивая и нахлобучивая на ходу свои котелки, Лорел и Гарди скрылись из виду.
Не скрою: слезы отпустили нас только на третьей порции бомбейского джина…
Объедки
С весьма недовольным видом Ральф Фентрисс повесил телефонную трубку.
Его жена Эмили, мирно читавшая за завтраком утреннюю газету, подняла глаза и отвела от губ кофейную чашку.
– С кем это ты говорил? – спросила она.
– С Берил, – хмуро пробурчал он.
– С Берил?
– Ты должна ее помнить. Подруга Сэма. Даже, скорее, гражданская жена. В смысле была. Берил… Берил… нет, фамилию не помню.
– А я помню… – сказала Эмили Фентрисс, намазывая на тост масло. – Кажется, ее звали Берил Вероника Глас. Ну да, Вероника… Эй, что с тобой? Голова?
Ральф Фентрисс потрогал рукой свой недовольно нахмуренный лоб.
– Вот ведь не было печали! – проворчал он. – И как только она на нас вышла?
– А что ей надо-то, этой Берил Веронике Глас?
– Нас ей надо, – сказал он, потирая рукой брови.
– Нас? – Эмили отложила свой тост.
– Приглашает нас вместе пообедать.
– Ну и дела!
– И не говори.
– Сколько уже лет-то прошло? Когда Сэм умер, не помнишь?
– Да уже года три назад. Или четыре. Наверное, все-таки четыре.
– А может, мы можем не пойти? В смысле обедать с ней?
– Интересно, как ты это себе представляешь?
– Да… Ну и дела… – вздохнула Эмили Фентрисс.
– И чего они мне названивают? – проворчал Ральф Фентрисс, усаживаясь за столик в ресторане. – Какие-то бесконечные бывшие, старые подружки дочерей и их любовники, чокнутые поклонники, не очень близкие приятельницы, друзья друзей и родные знакомых… Вот скажи: что мы с тобой вообще здесь делаем? Где эта Берил?
– Если я правильно помню, – сказала Эмили Фентрисс, которая между делом допивала уже второй бокал шампанского, – она никогда не отличалась пунктуальностью. А по поводу того, почему все тебе названивают, так это потому, что ты всегда отвечаешь на приглашения.
– Но я же не могу просто бросить трубку!
– Да ладно, делов-то: говоришь, что перезвонишь потом, а сам не перезваниваешь.
– Не, я так не умею…
– А не умеешь, так неси свой крест спокойно и не возникай.
– Ладно уж, кто бы говорил… Ты сама-то часто людям не перезваниваешь?
– Знаешь, я как-то попроще на все это смотрю. Нет, у меня, конечно, тоже где-то глубоко внутри спрятано «доброе сердце». Но сверху я толстокожая, как бегемот.
– Это ты-то?
– А что? Стоит только дать слабину – и все алкаши в баре будут воспринимать твое появление как Второе пришествие Христа… Каждый бомж будет уверен, что твой священный долг – спасти его заблудшую душу… Проститутки станут требовать, чтобы ты вытащил их из бездны порока, политики – вешать тебе на уши какую-нибудь кисло-сладкую лапшу, а бармены – рассказывать тебе историю своей жизни, вместо того чтобы выслушивать твою… Знаешь, таким обалдуям даже полицейские не выписывают штраф – из жалости. Да что там полицейские – раввины приглашают их к себе на пятницу, не смущаясь тем, что они баптисты…
– Может, хватит уже? – сказал он.
– Должна же я была выпустить пар! Это ведь ты у нас… кто ты там у нас?
– Лауреат ежегодной премии «Доброе сердце», учрежденной Обществом Красного Креста…
– Вот и радуйся! Ой… Кажется, это она.
– А-а, Берил Вероника! – с фальшивой радостью воскликнул Ральф Фентрисс.
– Можно просто Берил, – тихо отозвалась вновь прибывшая, которая, следует признать, была очень молода и очень хороша собой.
– Ну, присаживайся, присаживайся…
– Присаживаюсь, как видишь. Что у вас тут – шампанское? Бокал, конечно, мог бы быть и побольше… Ну, чего ты ждешь? Наливай.
Он доверху наполнил ее бокал, так что вино едва не перелилось через край.
Мгновенно опрокинув его, она сказала на выдохе:
– Еще, пожалуйста!
– Кажется, вечеринка обещает быть долгой… – процедила сквозь зубы Эмили Фентрисс.
– Извини, если что не так… – сказала Берил Вероника Глас.
– Да чего уж там – наливай. И мне тоже.
С улыбкой, в большей степени напоминавшей оскал смерти, Ральф Фентрисс наполнил бокалы им обеим.
– Здорово, что все мы опять собрались, – кисло сказал он.
– Все, да не все… – вздохнула Берил Вероника Глас.
– Сколько уже прошло?
– Четыре года один месяц и три дня, – ответила она.
– Это со дня нашей последней встречи?
– Нет, со дня его смерти.
– Ты о Сэме?
– Не спрашивай. Лучше налей мне еще…
Он налил.
– Что, все еще не отпустило? Ну, Сэм?
– Сэм никогда меня не отпустит.
– Но он ведь уже давно…
– Знаешь, у меня полное ощущение, что смерть тут не при делах. Вот скажи: можно ли привлечь покойников к суду за приставания?
– Не знаю, как-то не думал об этом. Сэм – он же всегда был живчик, наверное, остался таким и после смерти. Но, собственно… – Фентрисс взглянул на часы. – Почему ты позвонила именно нам?
– Потому что у меня появился новый бойфренд.
– Что ж, я рад за тебя!
– Да нечему пока радоваться. Мы с ним уже больше года друг друга мучаем. Мы как будто стоим на краю обрыва и никак не решаемся спрыгнуть. Тянемся, тянемся друг к другу… Год прошел, и еще два месяца. И все одно и то же: только посмотрю на него – и сразу реветь. Это точно Сэм. Я знаю, это его штучки…
Ральф Фентрисс основательно отхлебнул шампанского и вкрадчиво сказал:
– Хочешь, я дам тебе совет? Твоему новому другу надо просто… чтобы ты ему отдалась, и тогда есть шансы, что эта… гм… эта крышка гроба захлопнется.
– В смысле?!
– Ну, если ты отдашься ему, займешься с ним любовью – в самом прямом библейском смысле, то только тогда Самуил, Сэмми, Сэм и иже с ними… сможет умереть. Ибо сколько же можно… – добавил он.
Некоторое время Берил Вероника Глас пыталась испепелить Ральфа Фентрисса взглядом, а он при этом сидел, напряженно уставившись в тарелку.
Потом она зарыдала.
– Только не это, пожалуйста… – попросил он.
– Ладно, не буду… – давясь, сказала она, при этом слезы продолжали беззвучно капать у нее из глаз.
Наконец она успокоилась и опустила глаза в тарелку.
– Боже, что стало с моим салатом!
– Ну, его и так не мешало бы подсолить… – натянуто улыбнулся он.
– Наверное, – сказала она, – а некоторым не мешало бы и добавить перцу…
– Это ты про кого?
– Про своего нового бойфренда. С которым мы так ни разу и не…
Фентрисс заказал бутылку хорошего вина, дождался, пока ее откроют и разольют, и сказал:
– Пора!
– Наверное.
– Да что я тебе говорю – ты же сама все понимаешь. Пора заколотить крышку и засыпать могилу.
– Не-е-т! – Берил завыла, и из глаз у нее снова потекли слезы.
– Прости, я не хотел… – сказал он.
– Нет, не извиняйся! Кто-то должен был мне это сказать. А ты правда думаешь, что это нормально?
– Ты о чем?
– Если я ему отдамся? Ты же был его лучшим другом. Поэтому у тебя я и прошу разрешения…
– Какого еще разрешения?! Тебе не требуется никакое разрешение!
– Нет-нет, я так не могу, как ты не понимаешь! Сэм ведь так тебя любил, и ты его тоже, вы столько времени провели вместе, вы все друг о друге знали с тех пор, как пошли в школу… И бизнес у вас был общий, и женщины вам нравились одни и те же, ну, ты же сам все знаешь! Ты был Сэму вместо семьи! У кого еще, скажи, мне просить… развода?
Фентрисс в изнеможении откинулся на спинку стула.
– И это после стольких лет? Ты хочешь не просто расстаться или разъехаться, а обязательно развестись и развенчаться?
– Да, именно развенчаться! Мы все: и он, и вы, и я – мы были как будто повенчаны друг с другом. Невозможно поверить, что этого больше нет. Это как наваждение… Иногда часа в три ночи у меня звонит телефон, и я боюсь подходить. Мне кажется, что это он. Звонит, чтобы сказать: я люблю тебя…
– Но это не может быть он.
– Откуда ты знаешь, а вдруг может? И утром, когда завтракаю, я тоже никогда не беру трубку! Завтраки – это… У нас были такие удивительные завтраки… Такие обеды… Мы шли в «Grand Cascade» или ехали куда-нибудь за город – в «Hotellerie du Basbreau» или даже в «Pierrefonds», где дают только сэндвичи, но у нас всегда было с собой такое хорошее вино, что с ним даже простые сэндвичи шли на ура… А еще «Hotel de la Poste» – в Авиньоне, кажется… Или нет? Где еще может быть во Франции «Hotel de la Poste»?
– Я не… – попытался вклиниться Ральф Фентрисс. Но она продолжала:
– Ну, неважно… Помнишь тот потрясающий томатный суп? Сэм еще придумал класть на него сверху плоский сухарик, как будто это лед, а потом ложкой прорубать прорубь, чтобы прорваться внутрь… Как-то раз мы заказывали его три раза подряд и после каждого выпивали по бутылке «Le Corton». Нам тогда очень повезло, что в отеле нашелся свободный номер; возвращаться в Париж мы были уже не в состоянии. Ты еще тогда лег спать в ванной…
– Просто не хотел вам мешать…
– Сэм тогда сказал тебе: давай ложись с нами – только отвернись…
– Эх, старина Сэм…
– Он – такой…
– И не говори. Эмили, дорогая, кажется, это было еще до тебя.
– Да ладно придумывать… – поджала губы супруга. – Это было шесть лет назад. Уилме тогда только исполнилось четырнадцать.
– Хм…
– Не бери в голову. Я же сама тебя отпустила. Сэму всегда было позволено все…
– Эх, старина Сэм… Но я, кстати, честно просидел всю ночь в ванной – не только «отвернулся», но и заткнул салфетками уши.
– Надеюсь, мы ничем не задели твое самолюбие…
– Знаешь, от стонов и воплей в постели еще никто не умирал.
Он в очередной раз наполнил бокалы.
– А помнишь, как Сэм предложил мэру Парижа перекрасить Эйфелеву башню в другой цвет? И они ее перекрасили. Вот это было круто! Особенно когда они установили освещение – в такой чудесной теплой гамме, повторяющей оттенки мрамора на облицовке большинства парижских домов… А еще он пытался отстоять старые обшарпанные автобусы с открытыми задними площадками – с них было так удобно окликать девушек, проезжая по улицам Парижа…
– Вот это точно!
– А ты помнишь, что именно он и никто другой – и даже не Общество любителей Хемингуэя – именно он убедил журнал «Weekly Tour» включить в список достопримечательностей бар Гарри на маленькой улочке возле «L’Opera». Там были отличные хот-доги и очень дешевое пиво, но главное – там работал бармен, который лично помнил Папашу… А потом ему удалось обработать управляющего отеля «Ритц», что неподалеку за углом, на Place Vendome, чтобы он восстановил там бар «Хемингуэй» – с тем же мягким освещением в теплых, почти тропических тонах, с большим портретом Папаши, с его книжками на полках и с непременной граппой в меню, которую вряд ли бы стал кто заказывать, если бы это не был любимый напиток Папаши! А помнишь, как Сэм выиграл конкурс в «International Herald Tribune» – «КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОХОРОНЕН В МОГИЛЕ НАПОЛЕОНА?», доказав, что это генерал Грант?[55] А еще он…
– Ну, хватит, хватит… – сказал Ральф Фентрисс. – А то сейчас охрипнешь. Надо промочить горло.
Она вдруг с удивлением заметила, что на бутылке, из которой он разливал, написано… «Le Corton».
– Это же то самое вино, которое мы пили в Авиньоне!
Не веря своим глазам, он уставился на этикетку.
– Интересно, и как это я умудрился заказать именно его?
По ее щеке сбежала одинокая слезинка.
– Знаешь, что я думаю? – сказал он.
– Что?
– Сдается мне, что ты действительно любила Сэма.
– Да! И теперь мне нужна помощь. Помоги мне его изгнать! Расскажи мне о нем что-нибудь ужасное – такое, чтобы я сначала перестала его уважать, потом он перестал бы мне нравиться, а в конечном итоге я бы, может, возненавидела его и послала к чертям!
– Сейчас подумаем… Значит, вспомнить что-нибудь реально мерзкое, за гранью добра и зла… Сейчас… М-м-м… Э-э-э…
– Ну и?..
– Ты знаешь, ничего не придумывается! Сэм, конечно, был тот еще фрукт. Хам, грубиян и бабник – все при нем. Но все эти недостатки выглядели в его исполнении едва ли большим преступлением, чем, скажем, надеть гетры, охотничью шляпу или яркие туфли к строгому офисному костюму. Какую бы гадость он ни сделал, все сходило ему с рук. Все только говорили: ну, Сэм, ну поросенок! Нет, вы слышали? Он неисправим… Вот черт, я бы так не смог. Из любой фигни он мог сделать произведение искусства. Или выдать ее за новый проект. Вы застукали его, как он писает с крыши? Ну что вы, как вы могли такое подумать – это он определяет, какая будет завтра погода. А ты – обнаружил его в постели со своей любовницей? Подумаешь! Подмигнет тебе, как четырнадцатилетний пацан, и скажет: ну ты че, чувак, я же просто хотел выяснить, что ты в ней нашел. Все нормально, чувак, я проверил! Одобряю! И сделает ручкой. А ты будешь смеяться, просто стоять и ржать, и тут же забудешь, что только что был готов его убить… А помнишь, как на 200-летие Французской революции он специально приперся во Францию, чтобы ходить там по парижским друзьям и всем сообщать, все Революции начиная с первой – сплошной провал? А потом, чтобы его не убили сразу на месте, перечислял по пунктам аргументы: а) Французская революция закончилась террором и Наполеоном, так? б) монархия пришла и ушла, так? в) в 1870 году парижские коммунары за городом сражались с пруссаками, а в городе воевали друг с другом, было? г) 1914-й? Опять поражение! А кто спас Францию? Мы! д) 1940-й, 1944-й? Опять мы воевали, и мы привели Де Голля в Париж. А? Что скажете? Поражение за поражением! При этих словах его парижские друзья уже начинали хвататься за ножи, как вдруг он говорил: и что же, скажите, сделали французы после всех этих поражений? А? Они создали самую удивительную страну на земле! И самый красивый город, который только был в истории – Париж! После чего друзья, конечно, прятали свои ножи и с криками «Сэм! Сэм!» бросались его целовать! Эх!
Теперь уже слезы бежали по его щекам. А она сказала ему его же словами:
– Знаешь что? Сдается мне, что ты тоже его любил!
– Не то слово – я даже ревновал его к тебе. Только не говорите никому…
– Ну что ты – рот зашьем на замок… – ехидно сказала Эмили Фентрисс, наливая себе еще вина.
Берил Вероника Глас допила свой бокал, потом облизала губы и, перегнувшись через стол, чмокнула Ральфа в щеку.
– Спасибо за вечер… – Она встала и попыталась открыть кошелек.
– Да не надо! – сказал Ральф, – Лучше скажи, что сейчас будешь делать?
– Прямо сейчас позвоню своему бойфренду.
– И что скажешь?
– Скажу про то, о чем мы сегодня говорили. Что хочу ему отдаться.
– А если это все-таки не поможет?
– И я буду все равно бояться взять трубку в три часа ночи?
– Хотя бы…
– Ну, тогда… – протянула она. – Хоть я и ненавижу кого-то о чем-то просить, мне придется опять звонить вам. И просить вас со мной встретиться… Например, пойти вместе пообедать. Или если это слишком долго, хотя бы на ланч. А может, просто устроим выпивон…
– Ну да, выпивон… – сказал Ральф Фентрисс. – Плавно переходящий в обед.
Глаза ее снова наполнились слезами.
– Ладно, иди уже отсюда! – сказал Ральф Фентрисс.
– Уже ушла… – сказала она.
Поцеловав Ральфа и его супругу, она вышла из зала.
– А ты почему еще здесь? – спросил Ральф у женщины, сидевшей напротив него за столом.
– А разве я здесь? – сказала Эмили Фентрисс.
На ступеньках их дома сидел какой-то молодой человек – совсем еще мальчик. Он даже не пошевелился, когда Ральф и Эмили Фентрисс остановились возле крыльца. Им пришлось изрядно постоять, прежде чем он почувствовал их присутствие и устало поднял голову – глаза у него были как две полноводные слезные реки.
– Батеньки мои… – сказал Фентрисс. – Да ты ли это, Уилли Армстронг?
Уилли покачал головой.
– Вроде как должен быть я…
– А погромче можешь? Ничего не слышно.
– Я уже и не знаю, кто я теперь! – сказал юноша, на глазах превращаясь в обиженного ребенка. – Уилма даже разговаривать со мной не хочет.
– Вы же не встречались уже месяцев шесть.
– Да, не встречались, – сказал Уилли Армстронг, опустив голову и закрыв руками лицо, так что голос звучал как сквозь вату. – Но она вообще мне не отвечает! Звоню каждый день, а она сразу бросает трубку!
Фентрисс задумался.
– А может, это о чем-то говорит?
– Наверное, да, – проговорил голос сквозь вату. – О том, что она не хочет со мной разговаривать! – В этот момент Уилли озарила какая-то мысль, и он поднял голову. – А может, вы со мною поговорите? Можно я зайду хотя бы на минутку?
– Уилли, а ты знаешь, сколько сейчас времени?
– Я потерял свои часы. Я все потерял! Ну, пожалуйста, я только на пять минут, я вам обещаю!
– Уилли, уже первый час ночи. Если хочешь поговорить, говори прямо здесь. Мы тебя слушаем.
– Ладно… – Уилли вытер нос тыльной стороной ладони. – Дело в том, что…
– Пойду-ка я, у вас тут явно мужской разговор. – Эмили Фентрисс просочилась мимо мужа. – Спокойной ночи, Уилли. Ральф, только, пожалуйста, недолго.
Ральф Фентрисс протянул руку, чтобы задержать ее, но дверь закрылась, и он остался наедине с Уилли.
– Давайте присядем, мистер Фентрисс. – Уилли похлопал рукой по ступеньке рядом с собой.
– Если пять минут, я могу и постоять.
– Ну, может, не пять, а десять, мистер Фентрисс… – шмыгая носом, сказал Уилли Армстронг.
Фентрисс взглянул на ступеньку.
– Ладно, давай сяду…
Он сел.
– Ну так вот, – сказал Уилли, – все началось с того, что Уилма…
Ральф Фентрисс вошел в спальню, волоча за собою пальто и развязывая на ходу галстук.
– Вот и протрезвел, – сказал он.
Переворачивая страницу, жена подняла глаза от книги.
– А что такой вид, как будто с похорон вернулся?
– Пообещал уговорить Уилму ответить ему по телефону. Что читаешь?
– Да какой-то дурацкий роман. Зато очень жизненный.
– А это что? – Он кивнул на обрывки почтовой бумаги, лежавшие на бюро.
– Телефонные сообщения. Я их даже не просматривала – оставила для тебя.
Он взял в руки одну из бумажек.
– «Срочно. Боско». Кто такой Боско?
– Фамилию история умалчивает. Один из парней Тины – тот, который постоянно смотрит телик и, кажется, мечтает выжить нас из дома.
– Так-так. Боско… – Он взял другую бумажку. – А вот это Арни Эймз. «Immediamente pronto[56], или я покончу с собой!» Как думаешь, покончит?
– Почему бы и нет? Он вполне ничего, болтает только многовато.
– Да уж, язык как помело… А вот еще… Бад интересуется, что случилось с Эмили-младшей. А что, собственно, случилось с Эмили-младшей?
– Ничего, кроме того, что это твоя дочь, которая сейчас находится в Нью-Йорке и пишет там мыльные оперы! Вспомнил?
– Да-да-да. Эмили-младшая… Уехала, потому что там лучше платят… Вот черт, теперь у меня сушняк! Не знаешь, в ящике со льдом случайно нет пива?
– Господи, какой еще ящик со льдом? Мы его уж сто лет как выкинули. У нас теперь холодильник.
– Действительно… – Он бросил бумажки обратно на стол. – Может, ты все-таки поможешь мне разобрать этот поток сигналов бедствия? Поделим их по справедливости – половину мне, а половину тебе? Идет?
– Не идет.
– А как же – «будем делить все – и в радости, и в горе»?
– Угу-угу… – Она снова опустила глаза в книгу. – Черт, где я остановилась…
Поворошив записки рукой, Ральф Фентрисс усталым жестом крупье сгреб их в одну охапку, после чего, пошатываясь, побрел с ними на кухню. Чтобы попасть туда, ему пришлось пройти мимо трех пустых комнат – сначала Эмили-младшей, потом Тины, а потом Уилмы. Добравшись до кухни, он старательно развесил все бумажки на дверце холодильника, прикрепив их на магнитики с Микки-Маусами, и только потом заглянул внутрь.
– Боже, какой подарок! – воскликнул он. – Целых две банки пива! О, даже не две, а три!
Минут пятнадцать холодильник стоял открытым, освещая абсолютно счастливое лицо мужчины сорока с небольшим лет, который в каждой руке держал по банке пива…
Но вот, уже через пару минут послышалось шарканье ног по коридору, и в дверном проеме выросла Эмили Фентрисс в ночнушке и потертых домашних тапочках.
Некоторое время она стояла там и с удивлением смотрела на своего супруга, который занимался тем, что рылся в недрах холодильника, доставал оттуда различные продукты, бегло осматривал их, после чего отправлял в раскрытый мешок для мусора, который стоял рядом.
Остатки зеленого горошка в маленькой миске. Полбанки кукурузы. Кусочек ветчины и ломтик солонины. Холодное картофельное пюре. Луковый соус.
Мусорный мешок быстро наполнялся.
Стоящая в дверях Эмили Фентрисс угрожающе наклонилась вперед и уперла руки в бока.
– Ты вообще хоть немного соображаешь, что делаешь? – сказала она.
– Вот решил немного разгрести наш ящик со льдом… э-э-э… холодильник.
– Ты выбрасываешь совершенно нормальные продукты!
– А по-моему, – он понюхал пучок зеленого лука и тут же бросил его в мешок, – по-моему, эти продукты очень далеки от совершенства. Это просто… – Он запнулся.
– Ну, ну, говори! Что? – Она стояла, не шелохнувшись.
Он заглянул в мусорный мешок и некоторое время молча изучал его содержимое.
– Объедки… – сказал он, пожимая плечами.
И захлопнул дверцу холодильника, как будто закрыл светящееся окно.
– Просто объедки.
На дорожку…
Секретарша просунула голову в дверь и, обращаясь к возведенной на моем столе баррикаде из книг и писем, спросила:
– Вы у себя?
– Вы прекрасно знаете, что да и у меня куча работы, – отозвался я. – Что у вас там?
– Да тут какой-то маньяк – хочет, чтобы мы его издали, и утверждает, что написал – или напишет – самый длинный роман в мире.
– А я думал, Томас Вульф уже умер[57], – сказал я.
– Этот тип притащил четыре хозяйственные сумки, набитые какой-то… щепой для растопки, – сказала Эльза, – и на каждой деревяшке написано какое-нибудь слово. А потом из них получается «Ночь была темная, грозовая»[58]. Или «Кругом валялись трупы»…
Это было настолько неожиданно, что я даже вылез из своей бумажной крепости и подошел к двери, чтобы взглянуть на маньяка лично. Действительно, сидит в приемной. Рядом – сумки с деревяшками. И на них точно что-то написано.
– Пусть войдет, – услышал я собственный голос.
– Но не собираетесь же вы…
– Собираюсь, – окончательно проснувшись, сказал я, – или вы не слышали ничего о нарративных крючках?[59]
– Каких-каких крючках?
– Тех самых, на которые ловится читатель и с которых должен начинаться каждый роман. Идите, идите… Эльза.
Эльза пошла.
И через несколько секунд завела в мой кабинет… карлика. Ну да, это был сущий карлик – метра полтора ростом, что, впрочем, ничуть не мешало ему с легкостью перетаскивать огромные сумки, полные слов. Сначала он принес две, потом сбегал еще за двумя. И наконец смиренно сел посреди своего богатства, в то время как Эльза, драматически закатывая глаза, закрыла за собой дверь.
– Итак, мистер?..
– Дж. Ф. Бреддок! Автор и создатель так называемого бреда Бреддока. И это сногсшибательное произведение у меня с собой…
Он выразительно пнул сумки.
– Не скрою, мистер… Бред, вы меня заинтриговали, – сказал я.
Пропустив мою «случайную» оговорку мимо ушей, он с нежностью посмотрел на свое творение.
– Спасибо, тронут. Обычно редакторы либо придумывают отговорки, либо в открытую меня избегают. И вообще, сэр, я здесь не случайно… – Он сделал паузу, во время которой смерил меня взглядом с головы до ног. – Мы с вами одного возраста, а значит, вы должны помнить тридцатые – славные времена, когда туристы путешествовали на машинах через всю Америку…
Он снова сделал паузу, чтобы дать мне время покопаться в памяти. Я покопался и коротко кивнул.
– Вот здесь… – Он снова указал ногой на сумки, полные слов, – находится одна очень старая идея, которую самое время возродить. Пожалуйста, вспомните нескончаемую трассу номер шестьдесят шесть, по которой вы с родителями ездили на запад. Чем вы занимались в дороге, чтобы не умереть со скуки, а заодно довести родителей до белого каления?
– До белого, говорите? – повторил я машинально, в то время как мой мозг лихорадочно перебирал карточки в картотеках памяти.
– А! Вы имеете в виду Burma Shave?[60] – воскликнул я, как только мозг добрался до правильного ответа.
И тут же спохватился, вспомнив, что редакторы не должны демонстрировать энтузиазм, чтобы потом не пришлось платить автору больше:
– Ну да, Burma Shave…
– В точку! – воскликнул Бред. – Вы, наверное, в то время еще даже и не брились, но ведь вспомнили же! Рекламные щиты с B. S. стояли по всем дорогам Америки, и эти дурацкие стишки развлекали народ по дороге от Падуки до Потаватоми, от Тонопы до Томстоуна, от Гила-Галч до Грасс…
– Ну, хорошо, хорошо, допустим… – нетерпеливо перебил его я. – Дальше-то что?
– Помните:
Больше нет у нас нужды Быть рабами бороды! Burma Shave – волшебный крем Применил – и нет проблем!..– Ну, конечно, помню! Забудешь такое, пожалуй! – расплылся в улыбке я.
– То-то и оно… – сказал Бред.
– А еще вот это, помните:
Вылезайте из пещер — Покупайте Burma Shave! —с пафосом продекламировал я.
– Вот это память! – искренне одобрил Бред.
Я бросил взгляд на загадочные сумки.
– А какое отношение все это имеет к…
– Я рад, что вы задали этот вопрос… – Он по очереди вытряхнул на пол содержимое двух сумок, из которых с бряцаньем посыпались прилагательные, существительные и глаголы. – Вот, пожалуйста… Burma Shave 1999 года… Диккенс 2000-го… Шекспир 2001-го…
– И эти тоже?! На деревяшках? – вскинул брови я.
– Ну что вы, никаких вымерших динозавров. Автор жив и здравствует. Ваш покорный слуга! – Проворно ползая по полу на коленках, он принялся двигать дощечки по ковру. – Ну что, готовы опубликовать самый первый и самый длинный трансконтинентальный роман, действие которого охватывает все штаты, последовательно объезжает все захолустья и окраины мегаполисов, а потом неожиданно заруливает в Сиэтл, куда вообще-то никто не собирался, но надо же в конце концов узнать, чем же закончится Роман века? Что скажете?
Я наклонился, чтобы прочесть выложенную им цепочку из дощечек, которая брала начало возле моего стола и заканчивалась у самой стены.
– Моя секретарша что-то там говорила насчет темной грозовой ночи…
– А, это приманка! – Бред расхохотался. – Обыкновенный нарративный крючок! Знаете про нарративные крючки?
Я прикусил язык.
– А вот здесь – феерическое начало моего magnum opus[61].
Я прочитал: «Близился конец света…» И дальше: «У Алека Джонса оставалось всего шесть часов на то, чтобы спасти Землю!»
– И что, вот этой фразой вы собираетесь начать свой эпохальный бестселлер?
– А вы можете предложить что-то другое?
– Как вам сказать…
– Но это же только самое начало! – перебил он меня. – Чуть-чуть потерпите – и все будет! И тогда вы уже просто не сможете не подписать договор!
Он энергично доставал из сумки все новые и новые порции щепы, пока на полу не оказались разложены штук шестьдесят словоформ, которые полностью блокировали проход к двери.
– Понимаю, у вас возникает справедливый вопрос: почему я решил, что время для такой книги пришло именно сейчас? Отвечаю. А вы задумывались когда-нибудь, что осталось на обочинах американских дорог, после того как рекламные стишки Burma Shave выпали оттуда, как расшатавшиеся зубы? Так вот, на их месте остались зиять пустые дупла! Или скажете, не так?
– Да нет, не скажу… Мы действительно скучаем по чему-нибудь этакому…
– Согласитесь, сегодня человеку в дороге и посмотреть-то не на что: машины несутся со страшной скоростью, рекламные щиты запрещены… В общем, полная пустота и скукотища. Но все можно изменить! Мы с вами начнем с совсем небольших, второстепенных дорог, например, из Мейна в Миссулу или из Де-Плейна в Денвер. Посеем там наши первые семена мини-метафор, чтобы они пустили корни в душах простых американцев. А дальше – уже дело техники. Бросим аппетитный кусок телевизионщикам. Туристы клюнут и, прочитав начало где-нибудь в Канкаки, Кеноше или Канзасе, будут жать на газ, как сумасшедшие, чтобы добраться до финала в Сок-Сентре или в Сиэтле. Ну, а потом, сэр, вы и оглянуться не успеете, как наш роман с божьей помощью станет книгой месяца и его издадут в твердом кожаном переплете, закаленном в бурях дорожных приключений! Вы только себе это представьте!
– Ничего не скажешь, Бред, перспектива впечатляет… – сказал я.
– Еще бы! Такое впечатлит любого! – двинулся в наступление он. – Вы смотрите не зевайте, а то ведь я быстро переметнусь к другому издателю, который с руками отхватит мои революционные плакаты, несущие грамотность в самые темные закоулки континента!
– Вы думаете, ими могут заинтересоваться и учителя…
– Да они будут кушать их вместо завтрака, обеда и ужина! Это будет главное блюдо их компьютерного меню! Когда мы охватим библиодорогами все штаты, то даже самая распоследняя дыра станет у нас целебным интеллектуальным источником. Профессора станут умолять нас поставить щитки возле их кафедр английского. Рекламные агентства будут бороться за право попасть на наши дальнобойные лингвамаршруты, но тщетно! Мой роман помчится вперед один, бросаясь во все стороны своими яркими героями и безумными поворотами. Да, сэр, я думаю, время пришло! Новое – это хорошо забытое старое! В общем, я пошел! Счастливо оставаться!
Он поднялся с колен и принялся сгребать обратно свои существительные и глаголы.
– Но подождите! – воскликнул я, провожая глазами бесчисленные вводные фразы. – Это – то, что пойдет, так сказать, на закуску, ну а… дальше-то что?
– А дальше – все как в сказке! Стоит им только вступить на этот путь – и они уже не смогут остановиться. Это ведь как жареные фисташки. Съешь хотя бы один – и ты пропал…
– Почему я должен вам верить…
– Ну, вы же верите в Бога, сэр, так поверьте и в интуицию. Бред ока – как он есть божий посланник… Я выверю и взвешу сюжетные повороты всех дорог от Скенектеди до Саскачевана – час за часом, день за днем. Мой внутренний голос подскажет мне, где ставить щиты и что на них писать, все до последней закорючки! И мне, черт возьми, самому интересно, что там будет дальше, там, за горизонтом трассы Шестьдесят шесть? О чем жужжат пчелы в этом диком улье под названием моя голова? И что за мед они нам сварганят из моих грез? А?
Он достал из сумки еще с десяток дощечек и бросил на них долгий мечтательный взгляд…
– Ну что, понеслась душа в рай? – воскликнул он.
– По рукам! – сказал я. – Эльза!
– Да, сэр? – Она просунула в дверь голову и с подозрением оглядела деревяшки на полу.
– Ну, помогай господь! – прошептал я себе под нос, а вслух сказал: – Принесите мне бланки договора. Какого договора? Книжного. Да-да, книжного!
Она принесла бланки, и, пока Бред расписывался, я тронул его за рукав:
– И все же: почему вы пришли именно ко мне?
– Сэр, – сказал Бред, – просто у вас выражение лица, как у пубертатного победителя библиотечного конкурса произношения слов по буквам, которому в качестве приза вручили десять взрослых книжек, а он на следующий день прибежал за новой партией!
– Господи, это-то вы откуда знаете?!
– Если бы у меня о вас были другие сведения, вы бы никогда не стали литературным редактором моего праздника на колесах! Кстати, самое время поговорить о финансовых аспектах этого поистине толстовского путешествия!
– Не сомневаюсь, что…
– И это правильно! Прочь все сомнения. Дощечки и столбики нам сделают лесопилки, причем совершенно безвозмездно в качестве рекламы… Библиотекарей заманим шикарными кадрами с молотком в руках, где они будут забивать столбики или писать на дощечках текст… Бойскаутам тоже работа найдется… В общем, расходы – нулевые!
– Отлично!
– Не то слово! Вдоль Кингс-Хайвей мы понаставим ярких магазинчиков, в которых девушки с голубыми волосами станут продавать открытки для рождений, свадеб и похорон. А заодно привечать начинающих литературных критиков – тех, кто приедет лично поучаствовать в извержении вулкана…
– Бинго!
– Да это просто какое-то вечное бинго! Университетские ребята будут рвать нас на части!
– А им-то зачем?
– Это же настоящая Мекка для авторов, которых никто не печатает! У каждого из них в столе по неоконченному роману! Нас просто завалят идеями по поводу пунктуации, персонажей драматических ходов и свежих сюжетных линий!
– И каков же план?
– Тупо из конца в конец – Филадельфия, Сан-Франциско, Лос-Анджелес! Парад старинных автомобилей через предместья… Классические машины в арьергарде… Губернаторы, встречающие нас с шампанским на границах штатов…
– Гениально!
– О, этот источник неиссякаем, сэр. А если вам нужна конкретика, то расклад примерно такой: двадцать тысяч столбиков и двадцать тысяч табличек для наших… хокку-предсказаний. На скоростных трассах будем ставить их через каждые сто метров, на обычных – через пятьдесят. Угу… Вот этот экземпляр договора – вам, этот остается у меня… А что насчет наличных?
– Возьмите!
– Отлично. Пачка генералов Грантов и еще в придачу приятель Линкольна… Что ж, в этой чудесной компании я и отправлюсь в малярный цех при складе лесоматериалов. А уже завтра в полдень на федеральной трассе Шестьдесят шесть состоится премьера беспрецедентного литературно-дорожного шоу! И вы лично забьете в землю первый столбик!
– Это огромная честь…
– Так что не опаздывайте!
Это было невероятно – он вытянул из меня деньги с той же легкостью, с которой пылесос высасывает пыль из ковра. После чего, весело насвистывая и громыхая щепками для растопки, стремительно удалился.
Эльза смерила меня долгим взглядом.
– Как вы могли?! – воскликнула она.
– Не знаю, что-то нашло. Какое-то безумие, фантомы из детства… – Я потрогал свое тело, руки и лицо. – В какой-то момент я вдруг представил, что мне тринадцать, нет, даже двенадцать, десять… и мы несемся по дороге, чуть не срываясь в пропасть, – ветер свистит в ушах, мимо нас пролетают щиты B. S., и я выкрикиваю вслух эти дурацкие стишки, и вместе со мной их орет мой младший брат… И кажется, так было – и будет всегда. А потом вдруг раз – и полная пустота! И ни одного придорожного щита, как будто их повыкорчевал какой-то сумасшедший дантист… И нечего больше декламировать по дороге из Туляремии в Таос… И не на что пустить струю, напившись по дороге шипучки… У нас с братом всегда было разделение: я целился в слово «Burma», а он – в «Shave»…
– Фу! – сказала Эльза.
– Тем не менее… – Я прислушался к тающему вдали громыханью сумок, груженных живым литературным словом. – Просто умираю, как хочу дожить до этого момента… – шепотом сказал я. – Хочу! Хочу эту чертову темную грозовую ночь!
– Понятно… – сказала Эльза.
Как там принято говорить, гора родила мышь? Представить сложно, но примерно так оно и вышло. То, что на старте было подобно ракете из фильма Сесила Б. Демилля[62], в итоге обернулось позорным пшиком сырой петарды, неудачно запущенной в День независимости.
Да, мы запустили беспрецедентный литературно-дорожный проект Бреда, получивший название «По дороге кто куда». Как и предполагалось, я забил первый столбик, ознаменовавший начало самого длинного романа со времен Аппоматокса[63]. Интрига была строго соблюдена. Следующие главы ожидались на дорогах, ведущих в Кансил-Блаффс и Хила-Бенд. Повествование было прервано прямо на точке кипения. Вернее, на палочке с точкой, коей является восклицательный знак…
Первое время – ноль эмоций. А потом вдруг – целый взрыв!
Толпы путешественников, как цунами, хлынули по дорогам Америки вдогонку за романом Бреда, декламируя фразы и разыгрывая сцены, едва за нашей командой успевала осесть пыль. Каждый день появлялись все новые и новые щитки, неся одним персонажам лютую погибель, а другим – небывалые успехи…
У Бреда даже брал интервью один критик из «Chicago Times», правда, впоследствии оно пало жертвой кровожадного редактора, который оказался исследователем творчества Йейтса[64] и Поупа[65]. Но, как бы там ни было, главное свершилось: трасса Шестьдесят шесть обрела свою былую славу. Продажи авиабилетов резко упали: люди массово пересели с самолетов на автобусы. Автозаправочные станции вырастали как грибы после дождя. Мотели не успевали повышать цены. Нескончаемый поток домиков на колесах, набитых потенциальными покупателями поздравительных открыток, послушно змеился из Омахи в Угалугу… Появились даже CliffNotes[66] с кратким содержанием этого безостановочного придорожного повествования, ведущего вон от того столба – и до воскресенья…
И вдруг – катастрофа! Примерно на полпути между перевалом Доннера и Долиной смерти живительный литературный источник внезапно иссяк…
Волшебные струи мгновенно превратились в едкую щелочную пыль.
По всей земле, как обглоданные кости, белели никому не нужные дощечки с существительными, глаголами и прилагательными.
Я уже подумывал о том, чтобы купить билет на самолет или срочно угнать какой-нибудь грузовик, как тут дверь моего кабинета со стуком распахнулась. На пороге стоял Бред, вернее, то, что от него осталось. Бледный, с трагически сцепленными зубами – и с двумя огромными сумками, оттягивающими ему руки чуть ли не до самого пола.
– Бред! – воскликнул я.
– Вот именно, – сказал он, – Бред… По-другому не скажешь.
– Заходите скорее! Что случилось?
– Вы уже сказали все сами.
– Это ваш роман? – спросил я, указывая на сумки.
– Скорее, его останки, – слабеющим голосом сказал он и высыпал содержимое сумок на пол.
Это были опилки! Килограммов пятнадцать мелких древесных опилок.
– Ничего не получилось, – вздохнул он.
– Что, вас покинуло вдохновение? Затор в мозгах?
– Вы угадали – затор! – сказал он. – Но не в мозгах, а на дороге…
Он перевернул над моим столом одну из сумок, чтобы вытряхнуть остатки со дна. На некоторых плохо перемолотых кусочках можно было прочесть отдельные буквы, а на одной даже целый предлог «над»…
– Затор? На дороге? – тихо переспросил я, машинально отряхивая древесную пыль с подлокотника кресла.
– Мне и в голову не могло прийти, что кому-то могут не понравиться яркие всполохи моих мыслей, расцветающие прямо на обочине… – патетическим шепотом сказал Бред. – Из-за этой вкусовщины мне приходилось пропускать целые участки с фермами, а кое-где и целые графства! Местные шерифы тоже не отличались тягой к чтению и требовали немедленно убрать щиты. А еще всякие женские общественные организации, которые вопили, что мой опус ipso facto[67] является чудовищным преступлением… Что это якобы «секс к чаю» и «сплошные булочки да батоны». Ладно бы просто говорили! Эти доморощенные цензоры вероломно выдергивали мои столбики целыми пачками… Но даже это не самое страшное. Появились плагиаторы, которые просто воровали мой роман по кускам!
– Плагиаторы?!
– Они крали все: идеи, замысел, фрагменты текста! В Талсе однажды ночью тиснули сразу километров восемь, а на следующий день это все загадочным образом всплыло в Талахасси, к радости местных аллигаторов! В результате шериф города Талахасси, который украл этот кусок, стал супезвездой! Он попал в шоу Опры! И как я теперь докажу, что он украл это у меня? Я попытался отбить похищенное, но поборники книжной нравственности прострелили мне покрышки! Тогда я сказал им, чтобы они засунули себе эти дощечки в… в общем, сами знаете!
Голос его сорвался.
– А еще – этот… разбой на большой дороге. Это откровенное убийство… – шепотом сказал он.
– Убийство?! – воскликнул я.
– Да! Этот чертов Интернет, который убивает буквально все на своем пути! Как бы быстро я ни взращивал свое детище, урожай все равно доставался ему… Они все время опережали меня: бежали впереди, как Страус-бегун, а мне, жалкому Койоту[68], оставалось только тащиться следом сквозь электронный смог! Они же на посту днем и ночью, и им достаточно одного выстрела, чтобы попасть сразу в миллионы экранов. Это как Каспаров, играющий в шахматы с Big Blue[69]. «Компьютер победил чемпиона мира по шахматам!» – вопили на всех углах. И что тут удивительного, если эта их IBM-машина была набита десятками мозгов высочайшего IQ-уровня! Целое осиное гнездо гениев против одного несчастного русского! Со мной получилась примерно та же фигня. Жалкий Хемингуэй-недоучка вышел один против Всемирной паутины. Пришлось срочно собирать манатки и сваливать… Такая вот история. – Он развел руками. – Не знаю, может, отыщется смельчак, который допишет финал – прикончит всех плохих и с почестями похоронит хороших… Лично я – пас. Мне больше сказать нечего.
– Надеюсь, вы сможете найти себе новую работу, – сказал я.
– Ага, заместителем плотника на лесопилке. Иисусу бы точно понравилось… Но долг я вам в любом случае верну – буду высылать чеки каждый месяц…
– А что прикажете делать вот с этим? – спросил я, почувствовав, что вот-вот начну чихать от древесной пыли.
– Набейте подушку. Или откройте муравьиную ферму.
– Да-а… Это был самый длинный, самый захватывающий, самый прекрасный и самый ужасающий роман в истории! – сказал я.
– Жаль, что мы так и не узнаем, чем он закончился…
– Если к вам вдруг придет среди ночи озарение насчет концовки, звоните.
– Не дождетесь! Всего хорошего.
И он ушел, оставив мне два мешка тщательно гранулированного opus magnum.
Сразу после этого в кабинет заглянула Эльза.
– И что мы будем со всем этим делать? – поинтересовалась она.
Я чихнул. Потом чихнул еще раз. И еще.
Стол заметно очистился, зато в воздухе зажглись искрящиеся снежинки.
– «Унесенные ветром»[70]… – сказала Эльза, которой, судя по всему, еще не доводилось видеть романов, летающих по комнате.
– Скорее уж, Джек Керуак – «В дороге»[71]… – Я еще раз чихнул. – Несите веник.
Мандарин
Это было примерно год тому назад. Как-то раз поздним вечером я ужинал в хорошем ресторане – в полном одиночестве, в прекрасном расположении духа, абсолютно довольный собой и своим местом в этом мире (что, согласитесь, совсем неплохо, если вам перевалило за семьдесят). И вот в какой-то момент, когда я уже приканчивал второй бокал вина, мой взгляд вдруг упал на официанта. До этого он не попадал в поле зрения, потому что сновал где-то вдалеке или у меня за спиной.
Мне показалось, что я перестал дышать… Это было как в кино, когда в проекторе застревает пленка и изображение замирает на выхваченном кадре.
Я узнал его, хотя мы не виделись, наверное, целую вечность. Он был того же возраста, что и я, но нет – я не мог ошибиться – это точно был он. Поэтому, когда он подошел к столику, чтобы долить вином мой бокал, я решился с ним заговорить.
– Мне кажется, мы знакомы… – начал я.
Официант вгляделся в мое лицо.
– Да нет, не думаю… – сказал он.
Теперь, вблизи, это было очевидно: тот же лоб, та же стрижка, те же глаза… Прошло уже полвека, а он почти не изменился.
– Это было еще до войны, пятьдесят семь лет назад.
Официант посмотрел в потолок, потом снова на меня.
– Да нет, вряд ли…
– Ну же, тридцать девятый год, – сказал я. – Мне было тогда девятнадцать. Вам, наверное, столько же.
– Тридцать девятый? – Официант еще раз последовательно оглядел мои брови, уши, нос и рот. – Нет, все равно не узнаю…
– Попробуйте представить меня со светлыми волосами и худее килограмм на двадцать. Денег на приличную одежду у меня тогда еще не было. В город выбирался только по субботам, вечером, и обычно ходил слушать уличных ораторов в парке. Там всегда были такие баталии…
– А, Першинг-сквер… – Официант кивнул и слегка улыбнулся. – Да, да, помню. Я тоже частенько туда похаживал. Точно. Лето тридцать девятого. Першинг-сквер…
– Мы были тогда такие юные, почти дети… И все такие несчастные и одинокие.
– В девятнадцать-то лет чего только не сделаешь, только бы не быть одному! Пойдешь, как миленький, слушать любую чушь…
– Да уж, этого добра там хватало… – Кажется, мне удалось его зацепить. – Помните, у нас была команда – ну, не команда, а так… Человек пять-шесть – все молодые, все без денег… Обычно просто шлялись по городу, иногда заходили в пивнушку. Правда, пиво там продавали только по удостоверению личности, поэтому нам приходилось довольствоваться кока-колой. Кажется, она стоила двадцать пять центов, или что-то около этого. Растягивали ее на час, а сами сидели за барной стойкой и разглядывали посетителей…
– Вы имеете в виду бар «Петрелли»… – Сказав это, официант дотронулся до губ, как будто произнес что-то неприличное. – Лучше не вспоминать это место. И все-таки… вас в этой компании я что-то не припомню… – пряча глаза, заметил он. – Как, вы говорите, ваше имя?
– Да вы и в те поры не знали моего имени. Мы же не называли друг друга по именам. Только «привет» или «слушай, ты». Ну, или придумывали какие-нибудь прозвища. Карл… Дуг… Или Малой… А вас, если мне не изменяет память, мы называли… Рамоном.
Официант принялся нервно мять свое полотенце.
– Откуда вы знаете? Наверное, вы слышали об этом от…
– Да я просто помню! Значит, Рамон, я правильно вспомнил?
– Говорите потише.
– Так да или нет? – тихо спросил я.
Он коротко кивнул.
– Мне было очень приятно с вами побеседовать, но я… – натянуто сказал он.
Ему явно хотелось уйти, но я все не унимался.
– А помните, как-то раз мы шатались по городу – впятером или вшестером, не помню точно – и кто-то из ребят предложил зайти в сэндвич-бар «French Dip», ну, тот, что рядом с мэрией? Вроде как он всех угощает… Как же его звали, он еще пел постоянно? Или ржал. Или и то, и другое вместе…
– Сонни… – сказал официант, – кажется, его звали Сонни. И он всегда пел одну и ту же песню, ну, помните… По десять раз за вечер. Все лето…
– «Мандарин»? – сказал я.
– Вот это память!
– Точно, «Мандарин»…
Песня Джонни Мерсера[72]. Именно ее пел этот Сонни.
Мы весь вечер ходили за ним по улицам – всей толпой, человек шесть-семь.
– Мандарин…
Собственно, мы так и звали его – Мандарин. В то лето это была его любимая песня, он пел ее постоянно, пока мы все не ушли на войну. Да-да, Мандарин. Мы ничего про него не знали: ни фамилию, ни адрес, ни откуда он взялся… Пересекались с ним только по пятницам и субботам. Обычно он приезжал позже всех, особенно в субботу. И спускался с подножки трамвая с таким видом, как будто он – это не он, а какая-нибудь примадонна: ах, что-то сегодня так мало цветов – могло бы быть и побольше…
Мандарин. Сонни. Фамилия неизвестна. Для нашего поколения он был довольно высокого роста – где-то метр восемьдесят или даже выше. И при этом худее всех нас. Правда, он всегда говорил: я не худой, а стройный… У него были тонкие руки с бледными пальцами, и он сжимал в них длинный мундштук, которым во время разговора указывал на предметы, дома, деревья или на кого-нибудь из нас. Помню, в какой-то из вечеров ему якобы удалось одним взмахом руки изменить погоду. И еще ему все, что ни возьми, казалось почему-то ужасно смешным, он смеялся буквально над всем подряд… А мы, чтобы один не подумал про другого, будто у него нет чувства юмора, начинали смеяться вместе с ним. И такая классная сразу становилась жизнь – преображалась прямо на глазах…
Мандарин. Сонни. Величавый, как герцогиня, он выходил из своего королевского трамвая и шествовал по парку, собирая по дороге всех праздно шатающихся одиночек, и они шли за ним, как завороженные, открыв рты и не сводя с него восхищенных глаз.
Мы все как будто ждали чего-то от этого лета. Нам казалось, что-нибудь обязательно должно произойти. Что-то очень важное… Кто-то должен прийти и сказать нам наконец, кто мы, где мы и куда нам следует двигаться. Сонни становился в центре площади, вымощенной красным кирпичом, и с презрительным видом тыкал мундштуком то в одного, то в другого оратора независимо от того, чьи добродетели они пытались воспеть – Сталина или Гитлера. Оба, мол, хороши.
Нет, Сонни никогда не был одинок на этом торжестве шума и ярости[73]. За ним всегда тянулся целый хвост последователей. При этом он относился к ним как к наряду, который полагается носить, ну, скажем, в оперу. Это, конечно, была несколько странная «опера», но он всегда слушал ее, многозначительно прикрыв глаза. А все остальные копировали его и делали то же самое. Включая меня, разумеется.
Я уже говорил, у нас не было принято обращаться друг к другу по именам. Конечно, всех как-то звали – Пит, Том или Джим, – но это было совершенно неважно. Однажды, правда, какой-то придурок решил выпендриться и сказал, что его зовут Г. Бедфорд Джонс[74]. Но я-то знал, что он врет. Г. Бедфорд Джонс – это писатель. Я сам лично читал его в «Argosy»[75], когда мне было лет десять.
Да и потом, кому были нужны все эти имена, если Сонни сам давал нам прозвища? И каждый уикенд – новые. Так на одни выходные кто-то становился Шприцем, кто-то – Малюткой, кто-то – Старейшиной, а еще кто-то – точнее, я – существом с другой планеты… Кем мы только не были на этих ночных парадах! И «воинами», и «корешами», и «крутыми парнями», и «одинокими сердцами».
Я ничего не знал об этих своих друзьях, да они, в общем-то, никогда и не были мне друзьями. Просто случайные люди из разных городов, которые иногда встречались и вместе проводили время. Потом, спустя много лет, я писал о Лос-Анджелесе и его многочисленных окрестностях, представляя все это как восемьдесят пять апельсинов, среди которых есть один, и именно он – сердце. Так вот, в 1939 году таким сердцем могли бы стать только два места: политически взрывоопасный Першинг-сквер или бурлящий в непрерывном поиске любовных связей Голливуд, ни дать ни взять эктоплазма[76], которая все время тает на глазах, даже не успевая обрести какую-то форму.
Вот таким был довоенный Лос-Анджелес… Толпы безлошадных юнцов, каждый из которых пребывал в счастливой уверенности, что еще до наступления темноты он будет захвачен в сладкий плен какой-нибудь неземной красавицей с уютной квартиркой, чего, естественно, никогда не случалось.
Это, впрочем, нисколько не мешало всем начинать следующий уикенд с пения перед зеркалом оптимистического припева «Сегодня в ночь»[77], эффективность которого заканчивалась, стоило только выйти из поля отражения. В общем, что тут говорить – нашу компанию объединял не интеллект, а голые инстинкты…
Ну и, конечно, Сонни.
Его зеркало не менее старательно, чем наши, отражало все эти обещания скорой победы в виде идеально завязанных галстуков и чистых воротничков. С другой стороны, что такое зеркала? По сути, это ведь то же, что и тесты Роршаха…[78] Будучи реально близоруким или находясь во власти собственных страхов, в них можно разглядеть все, что угодно… Впрочем, хотя бы в одном ценность зеркал была бесспорной: каждый раз, собираясь на гулянку в субботу, ты мог подойти и проверить, существуешь ли ты в принципе…
О, эти долгие субботние вечера, когда мы бродили по городу и Сонни шел впереди, распушив хвост, как павлин, и угощал нас сосисками и колой в барах, заполненных странными мужчинами и еще более странными женщинами. Руки у этих мужчин, казалось, были сломаны в районе запястья. А женщины почему-то все, как одна, были с голыми бицепсами… Не в силах оторваться от этого удивительного зрелища, мы умудрялись пить колу часами – до тех пор, пока нас не начинали выгонять.
– Ну и пожалуйста! – выкрикивал тогда Сонни, уже в дверях. – Если вы так настаиваете, мы можем уйти!
– Да, вот именно, настаиваем, – обычно отвечал хозяин.
– Пойдемте, девочки! – возмущенно говорил Сонни.
– Ты что, совсем рехнулся? – шипел на него я.
– Ой, прости, брат, оговорился… Шабаш, мужики! По домам!
Впрочем, бывало и так, что наши субботние прогулки заканчивались раньше обычного. Сонни куда-то исчезал, а без него наша компашка тут же распадалась. Без него нам просто не о чем было говорить. Никто из нас не знал, куда именно уходит Сонни, но однажды мы видели, как парень, похожий на него, зашел в дешевый отель на Мейн-стрит с неким убеленным сединами джентльменом. Мы, конечно, тут же забежали следом, но в вестибюле уже никого не было. В другой раз мы заметили Сонни в автобусе, проезд на котором стоил десять центов, хотя рядом стоял троллейбус, на котором можно было преспокойно проехать за семь. Он оживленно болтал с каким-то худеньким цветным парнем. Потом троллейбус ушел, и на этом все закончилось. Мы сказали друг другу «пока» и уехали – каждый по своему никому не известному адресу.
А однажды так случилось, что на весь вечер зарядил дождь, и, поскольку у большинства не было денег, чтобы отсиживаться в барах, все очень рано разъехались по домам. Мы с Сонни остались вдвоем.
– Ну что, Питер Пен, пробовал когда-нибудь настоящую выпивку? – вдруг спросил меня он. – Нормальное бухло: самогон, вискарь, винище?
– Неа.
– Ну, тогда пошли!
Он затащил меня в ближайший бар, заказал мне двойной дюбонне с колой и, эффектно проехавшись бокалом по стойке, придвинул его мне.
– На-ка, попробуй.
Я отпил, и на лице у меня против моей воли появилась довольная улыбка.
– А, черт возьми, совсем недурно! – сказал я.
– Еще бы это было дурно!
– Вспомнил: когда мне было девять лет, мы с папой давили сок из этого винограда и потом добавляли много сахара. Дюбонне!
– Ах, боже мой, как это мило! Вундеркинд делится воспоминаниями о том, как он впервые попробовал выпивку… Может, хватит уже строить из себя Орлеанскую деву?
– По-моему, ты что-то путаешь… Я – кузнец, который ковал для нее доспехи!
– А ну-ка, дай сюда бокал! – Сонни одним махом высосал мой дюбонне до самого дна. – Кузнец Жанны д’Арк, надо же такое придумать! Ладно, пошли!
Сонни расплатился, и мы вышли на улицу, как вдруг он замер, покачиваясь на бордюре и глядя куда-то на другую сторону улицы.
Я проследил за его взглядом и увидел ее. Это была женщина, я бы сказал, средних лет – не красавица, но весьма и весьма привлекательная особа, – с аккуратно зачесанными назад и собранными в пучок волосами. Скрестив руки на груди, она стояла под дождем – прямо так, без шляпы, и капли струями стекали по ее лицу на черный плащ. Заметив нас, она подняла было руку, как будто собиралась нам помахать, но так и не решилась.
– О господи… – со вздохом сказал Сонни, даже не думая кивать ей в ответ. – Так, стоп, погоди-ка! – Он занырнул в бар, однако уже через минуту вышел, вытирая рукой губы. – Принял еще – для храбрости…
Не знаю, уж зачем ему нужна была эта храбрость… Ведь он так и стоял, старательно делая вид, что не узнает ее – не то что подходить. И она тоже стояла на месте, эта привлекательная особа средних лет, и тыкала в глаза платком.
– Так вы знакомы… – сказал я.
– Не твое дело.
– Но ты же сам чуть не плачешь!
– Правда, что ли? – Он коснулся рукой уголка глаза и увидел, что кончик пальца мокрый. – Вот свинство.
– Она плачет, ты плачешь. Что, кто-то умер?
– Да, но это было давно.
– Она что, твоя родственница?
– Нет. Она просто дура. Чокнутая.
– А чего она хочет?
Сонни рассмеялся – каким-то безумным срывающимся смехом.
– Меня.
– В смысле?
– В прямом смысле! Меня. Меня! Что тут непонятного? Она хотела меня – прошедшее время. Она хочет меня – настоящее время. Она будет хотеть меня завтра. И послезавтра. Шутка!
– Но ты же ведь не такая сволочь… – сбивчиво пробормотал я.
– Не какая?
– Не такая сволочь, как ты сам про себя думаешь, – отводя взгляд, сказал я.
– Да что ты вообще обо мне знаешь!
– Я знаю, что без тебя наша команда всегда разваливается. Сразу, как только ты уходишь.
– Что ты называешь командой? Эту толпу вечно голодных якобы интеллектуалов, а на самом деле – жалких, ни на что не способных дурачков, у которых нет ничего за душой? Которые только и могут, что таскаться за мной, как собачонки, и соревноваться, кто лучше нассыт на пожарный кран?
– А что, хоть какое-то занятие. Если уж на то пошло, ты сам это и придумал…
– А зачем, как ты думаешь?
– Наверное, чтобы быть лидером.
– Сам-то понял, что сказал?
– А что? Разве ты не лидер?
– А ну, посмотри сюда… – Он схватил меня за подбородок – так, что едва не свернул мне шею. – По-моему, у тебя что-то не в порядке с головой.
– Ты, конечно, можешь считать нас психами, – сказал я, несмотря на то, что его пальцы продолжали сжимать мне подбородок. – Но, если бы тебя здесь не было, мы бы все так и сидели по домам. Это ты собираешь нас, ведешь за собой, а значит, ты смог бы командовать и другими. Где угодно и кем угодно. С тобой весело. Ты – артист. И ты никогда не кичишься ни перед кем, какой ты на самом деле умный…
– Это я-то – умный?
– Я уверен, что ты учился в колледже и вылетел по какой-то нелепой случайности. Физкультуру не сдал или что-нибудь в этом роде. Что, угадал?
– Надо же, какие мы догадливые…
– А почему ты не стал восстанавливаться?
– Меня больше не принимали…
– А что, если тебе пойти в какой-нибудь другой колледж?
– Шутишь? На дворе тридцать девятый год. Вот-вот начнется война. Меня проверят и выяснят, что я пользуюсь духами и брею подмышки. И все сразу начнут орать – вон, вон из армии! Нам тут такие не нужны! А в колледже еще догонят и добавят… Скажут: нам только эльфов здесь не хватало – в нашем ботаническом саду…
– Не называй себя так!
– Так я и не называю – это они называют…
Я бросил взгляд на противоположную сторону улицы. Заметив это, женщина в черном плаще едва заметно махнула мне рукой и улыбнулась, как будто догадывалась, о чем у нас идет речь. Ну же – словно гипнотизировала меня она, – давай, скажи ему!
– А что ты подразумевал, когда говорил, «она хочет меня»?
– Что она предлагает на ней жениться!
– А почему бы тебе не ответить «да»?
– Это что, допрос в полиции? И детектор лжи уже включен?
– Конечно. Мне же ты врать не будешь!
– Это еще почему?
– Потому что… я тебе нравлюсь, а ты нравишься мне. – Я перевел дыхание и продолжал: – Одним словом, ты хочешь сказать, что если ты сейчас перейдешь улицу, то она сразу потащит тебя к себе домой и заставит жениться?
– А чего еще ждать от этой дуры!
– Да ты сам тот еще придурок!
Сонни вытер глаза тыльной стороной ладони.
– Та-ак… А я-то думал, ты мне друг.
– Я и есть друг!
– А знаешь ты, что если я перейду на ту сторону, то ты меня больше не увидишь? И не будет у вас никакой команды.
– Да и хрен бы с ней, с командой! Ты, главное, иди!
– Слишком поздно… – Сонни сделал шаг назад, не сводя взгляда с другой стороны улицы. – Я тону. Да что там – уже утонул. В третий раз.
– Нет!
– К тому же если я на ней женюсь, то она подхватит мою простуду. А я уже много лет не могу выздороветь…
– Ну, хочешь, я сам поговорю с ней? – вдруг выпалил я.
– С ума сошел, тебе-то это зачем?
– А затем, что я не могу смотреть, как ты катишься по наклонной. Ты только подумай, как ты живешь!
– Зачем ты тогда вообще со мной общаешься?
Если бы я сам это знал…
– Просто так, от нечего делать. Но это же не будет длиться вечно. Через год я уеду.
– И станешь знаменитым писателем?
– Ну, хотя бы и так.
Он бросил на меня оценивающий взгляд.
– Сукин ты сын… А ведь как пить дать станешь.
– Ну, так чего ты ждешь? Пошли! – Я кивнул головой на другую сторону улицы. – Я тоже пойду!
– Слепой ведет слепого? И почему ты всегда так уверен в своей правоте?
– Не знаю. Просто говорю то, что срывается с языка, и потом сам этому удивляюсь…
– И сам веришь в свою же собственную чушь?
– А как не верить? Иначе б я не жил…
– Ну, тогда и иди к ней сам. Можешь проводить ее до дому! Я слишком стар – и для нее, и для тебя, и вообще для всех.
– А сколько тебе лет?
– Двадцать шесть.
– Тоже мне, старость…
– Да, старость. А что же это еще, когда у тебя за плечами уже тысяча мужиков? Поживу еще годика четыре, и хватит.
– Но тебе же будет всего тридцать!
– Проснись! Кому нужны отставные тридцатилетние эльфы?
– Но что, черт возьми, может с тобой случиться через четыре года?! – проорал я.
Сонни застыл на месте и, не глядя на меня, процедил:
– Терпеть не могу, когда кто-то сует свой нос в то, что со мной может случиться!
– Но я не просто спрашиваю. Я спрашиваю, как друг!
– А ну, посмотрите сюда… Боже мой, сейчас заплачу – он и вправду считает себя моим другом… – Сонни поднял глаза к небу, с которого все еще падал дождь. – Так вот, знай: как только мне стукнет тридцать – три-ноль, – я сразу куплю крысиного яда…
– Нет!
– Другой вариант – пистолет. Или нет. Лучше – дефенестрация. Правда, красивое слово? Это значит выпрыгнуть из окна. Вот так – раз, и дефенестрация!
– Но зачем тебе это нужно?
– Ты слишком глупый и зеленый, чтобы это понять… Для таких, как я, после тридцати лет жизнь кончена! Все. Финиш. Помнишь песенку: «Кому ты нужен, старый и седой»?
– Но тридцать лет – это еще совсем не старость!
– Это что, тебе бабушка сказала? Так вот, знай: тридцать лет – это тот возраст, когда ты начинаешь за все платить. За все, что раньше получал за так… То – раньше. А теперь, извини, будь добр залезть в кошелек и отслюнить зелени! Да я лучше сдохну, чем стану расплачиваться за то, что принадлежит мне по божественному праву!
– Думаю, лет в пять ты говорил то же самое.
– Да я это говорил сразу, как только родился! Такой уж я по жизни – не дурак поговорить. И есть только один способ, чтоб меня заткнуть. В окошко!
– Но у тебя еще вся жизнь впереди!
– Это у тебя, дружище. Но только не у девицы, которая сидит за роялем в баре и поет блюз. Да у меня все тело в отпечатках пальцев. Не найдешь и сантиметра, чтобы на нем не отметились какие-нибудь хамоватые ублюдки со стенда «Их разыскивает ФБР», а то и вовсе – психи, опасные для общества.
– Я тебе не верю!
– Какой же ты все-таки наивный! – Он покачал головой и ласково потрепал меня по подбородку. – Ты когда-нибудь целовался с мужчиной?
– Неа.
– Черт, ты прямо меня искушаешь… – Он наклонился к самому моему лицу, но в ту же секунду отпрянул. – Нет, я так не могу!
Я вновь посмотрел на женщину в черном плаще – и теперь мне показалось, что она где-то далеко-далеко.
– А ты давно ее знаешь?
– Еще с института. Она там преподавала…
– Ого…
– Только не надо вот этого – ого… Я был у нее в любимчиках. Не она у меня, а я у нее. Она говорила, что меня ждет блестящее будущее… Ну да, как же, ждет не дождется. Уже дождалось. Блестящее шатание по городу субботними вечерами в компании малолетних бездельников…
– А ты хоть раз пытался как-нибудь это изменить?
– Я тебя умоляю!
– Пытался или нет?
– Что именно – пытался или не пытался? Стать актером, писателем, художником или танцовщиком?
– Да ты мог стать кем угодно!
– Между прочим, она мне то же самое говорила. Но меня в то время больше интересовали пьяные оргии где-нибудь в Малибу или в Лагуне. Кстати, она до сих пор в меня верит. Вон смотри – еще не ушла… А вид как у побитой собаки.
– Мне лично она совсем не кажется побитой собакой.
– Не кажется? Так, стоп, погоди…
Я видел через окно бара, как он заказал себе еще один дюбонне и позвонил куда-то по телефону. Потом вернулся и сказал:
– Только что говорил с Лоренцо Медичи. Слышал что-нибудь о семействе Медичи?
– Это который из Венеции? Основатель первой банковской системы? Друг Боттиччели? Враг Савонаролы?
– Хм… Это был явно лишний вопрос. Так вот, я говорил с одним из его прапраправнуков. Он предлагал мне пожить в сентябре в его пентхаусе в Манхэттене. Поработать секретарем. И немного по хозяйству. По четвергам – выходной. Уикенды на Файер-Айленде.
– Поедешь?
– Туда она уж точно за мной не попрется. Ладно, я пошел!
Сонни решительно зашагал прочь.
Я посмотрел на женщину на другой стороне улицы. Теперь, после получасового стояния под дождем, она явно выглядела старше.
Я сошел с бордюра, и она тут же это заметила. А уже через пару секунд я увидел, как она скрылась за ближайшим поворотом.
Лето кончилось.
Правда, в Лос-Анджелесе никогда нельзя утверждать это с уверенностью. Не успеешь подумать, что оно кончилось, как оно опять жарит на полную мощность в День благодарения, а потом портит еще и Хеллоуин, вклиниваясь в дожди со своей дурацкой сорокаградусной жарой, и уж совсем некстати заявляется в рождественское утро, чтобы растопить снег (если он, бедный, вообще успеет выпасть) и окончательно превратить Новый год в праздник «4 июля, День независимости».
И все-таки лето кончилось. Кончилось просто в одно мгновенье, как только все стали разъезжаться, паковать узлы, прятать семейные фотографии, готовясь к тому, чтобы исчезнуть в жерле войны, уже вовсю прочищавшей глотку по ту сторону океана… Кончилось, судя по тому, как звучали голоса друзей, которых мне суждено было потерять прямо сейчас – и уже не встретить больше никогда… И как я давился их именами, которых, в сущности, у них никогда и не было… Никто из нас не произносил слова «до свиданья» или «прощай». Только «пока» или «увидимся», но даже они звучали с какой-то отчаянной грустью. Все понимали, что, на каком бы автобусе или трамвае каждый из нас ни уехал, мы можем никогда не вернуться.
Поздно вечером, в самую последнюю субботу, мы с Сонни шли по опустевшему парку к его трамвайной остановке. Не глядя на меня, Сонни спросил:
– Поедешь со мной?
– Куда? – спросил я.
– Ко мне домой, дурашка.
– Ты никогда не приглашал меня к себе…
– А теперь приглашаю. Ну, так что, поедешь?
Я посмотрел на его профиль, освещенный луной – бледные впалые щеки, ровный нос и поблескивающие брови. Почувствовав на себе мой изучающий взгляд, он тоже повернулся и глянул на меня так, как будто раньше никогда не видел.
– Спасибо за приглашение, – сказал я, отводя взгляд, – но, правда, не стоит, Сонни.
Сонни вздохнул.
– Ну вот, меня отверг даже Марсианин!
– Это ты обо мне?
– А то о ком же… – Сонни, как всегда, заржал. – Ну, ничего, ничего. Найдешь себе Марсианку, женишься – и нарожаете вы с ней кучу детишек, на радость повелителю Марса Джону Картеру…[79]
– Все правильно, так и будет, – сказал я.
– Вот беда… Ну, что ж, тогда поеду один в свою одинокую постель, а завтра утром – сразу к Медичи… Точно не передумал?
– Нет, спасибо.
Подъехал трамвай. Сонни вспрыгнул на подножку и в последний раз окинул взглядом остановку, парк, силуэты домов, словно пытался втянуть все это в себя и сохранить там навсегда.
– Сонни! – окликнул его я.
Он посмотрел мне прямо в глаза.
– Храни тебя Господь! – горячо прошептал я.
– Да уж, это бы не помешало… – сказал он.
Трамвай тронулся с места. Стоя в открытых дверях, Сонни помахал мне на прощание своим мундштуком и кивнул, вздернув вверх острый подбородок.
– Как в песне было, помнишь? – успел прокричать он, и трамвай с грохотом исчез в темноте.
– «Мандарин»? Главный шлягер того лета? Песенка на слова Джонни Мерсера… Да-да, «Мандарин»… – вдруг прорезался из другого времени голос старого официанта. – Конечно, этот Сонни был немного странный… Но голос у него действительно был хорош – такой высокий, почти сопрано. Этот голос до сих пор как будто звучит у меня в ушах. И смех тоже… – Было такое ощущение, что память пишет на его лице, как на чистом бланке. – Спрашивается, чего мы за ним таскались? Хотя… Когда у тебя ни денег, ни работы, ни личной жизни… Что еще остается? Так и шатались по городу каждую субботу. А тут тебе он поет, хохочет, вот нас к нему и тянуло. Сонни и «Мандарин». «Мандарин» и Сонни…
Официант смущенно замолчал.
Я допил свое вино.
– А вы случайно не знаете… – спросил я, – что с ним стало потом? С Мандарином?
Официант покачал головой, но потом вдруг закрыл глаза, как будто пытался поймать какую-то ускользающую мысль.
– Погодите-погодите… Кажется, я вспомнил. Сразу после войны, году в сорок седьмом, мне довелось встретиться с одним из этих парней – ну, из той дурацкой компании. И он сказал мне, что слышал от кого-то, будто этот Сонни вроде бы… покончил с собой.
В этот момент я пожалел о том, что уже допил свое вино.
– В свой день рождения?
– Что?
– Он покончил с собой в день своего тридцатилетия?
– А вы откуда знаете? Кажется, да. Застрелился.
– Ну, слава богу, значит, все-таки пистолет…
– Простите?
– Да нет. Это я так. Рамон…
Официант уже собрался идти за моим счетом, но вдруг остановился и спросил:
– А вы не помните ту песню, которую он все время напевал? Какие там были слова?
Некоторое время я молча вглядывался в его лицо – может, все-таки вспомнит сам? Но он, похоже, ничего не помнил…
Музыка вдруг сама собой, независимо от моей воли, зазвучала у меня голове. Вся песня – со всеми словами, от первого до последнего[80].
– Эх, лучше не спрашивайте… – сказал я.
С улыбкой шириною в лето
– Эй… Ну, э-эй! Подождите!
Кричать здорово, потому что эхо. Крикнешь – и сразу эхо. А потом все тише, тише… И затихает.
Эти проклятые мальчишки все бегут и бегут. И топают своими босыми ногами с таким звуком, какой бывает, когда на землю рассыпаются яблоки…
Уильям Сит тоже бежит следом за всеми. Он прекрасно знает, что не сможет никого догнать. Но все равно бежит, потому что ни за что не хочет признавать тот факт, что его ноги слишком малы и из-за этого желания, мягко говоря, не совпадают с возможностями.
В самом центре Гринтауна есть глубокий овраг. Очень классно сбегать в него с пронзительным воплем, а потом носиться внизу и, откидывая болтающиеся на ветру дверки из мешковины, заглядывать в шалаши на деревьях: а вдруг кто-нибудь спрятался внутри? А еще в склоне есть земляные пещеры – в них можно поискать остатки жаренных на костре пастилок маршмеллоу[81]. А еще – переходить вброд ручей и смотреть, как раки убегают, испугавшись твоей тени, и зарываются в песок, устраивая в нем взрывы, отчего вода становится мутной, как молоко…
– Ах так! Ну, погодите! Скоро я стану старше, чем вы, – вот тогда посмотрим!
– …посмотрим… посмотрим… – повторил за ним бездонный туннель, проходящий под улицей Вязов.
После этого обессилевший Уилл кульком рухнул на землю. Ну вот, каждое лето – одно и то же. Бежишь, бежишь что есть мочи, и так никого и не догоняешь… Как это может быть, чтобы во всем городе не было ни одного мальчика с такой же длиной тени, как у него! И которому тоже шесть лет… Ну, почему половина его знакомых – трехлетние салаги? Такие маленькие, что их почти не видно? А другая половина – те, которым уже по девять? Эти, наоборот, высоченные, как горы. Снег на вершинах не тает даже летом. Вот и бежишь, как дурак, одновременно пытаясь догнать великанов и не попасть в лапы лилипутам…
Он сидел на камне и тихо бубнил, размазывая по лицу слезы.
– Очень они мне нужны! И совсем даже не нужны! И вообще…
Как вдруг сквозь толщу полуденного зноя до него донеслись звуки какой-то веселой возни… Он прислушался: шумели где-то неподалеку. И он, конечно же, туда пошел. Некоторое время ему удавалось, прячась в тени деревьев, двигаться вдоль ручья, но потом пришлось забрать наверх и ползти под кустами. Наконец, заняв удобную позицию, он решился посмотреть вниз…
И увидел, как на небольшой полянке в самом центре оврага играют несколько мальчиков. Он посчитал – их было девять!
Что они делали? Носились кругами, ходили на голове, орали – и им в ответ тут же орало эхо, крутились на месте, падали, кувыркались, прыгали, как какая-то живность, которая выползла на свет и радуется летнему теплу…
Они не видели Уильяма, поэтому он мог спокойно рассмотреть их и вспомнить, где он мог видеть их раньше. Вот этот, кажется, жил в доме на улице Вязов, вон того он видел в сапожной мастерской на Кленовой аллее, а этот встречался ему возле почтового ящика у здания театра «Elite»… Он не знал, как кого зовут, да это было и не важно. Их было целых девять человек, они играли и бесились, как ненормальные… И – о чудо! – все они были приблизительно его возраста!
– Эй! – крикнул Уилл.
Возня тут же прекратилась. Мальчишки выстроились в ряд и во все глаза уставились на него. Кто-то – прищурившись, кто-то, наоборот, – с опаской. Шумно дыша, они ждали, что он скажет им дальше.
– А можно… – тихо спросил он. – Можно мне с вами?
В ту же секунду их глаза заблестели, как шоколадное драже. А потом на лицах, как по команде, появились белые полоски улыбок. И это были улыбки – каждая шириною в целое лето…
Уилл взял палку и, размахнувшись, кинул ее вдоль оврага.
– Апорт! – крикнул он.
И мальчишки с воплями сорвались за ней, поднимая в воздух клубы пыли, которая тут же вспыхивала в косых лучах солнца.
Вскоре один прибежал обратно – палка у него была вставлена прямо в зубастую улыбку. Поклонившись, он положил ее к ногам Уилла.
– Спасибо, – сказал Уилл.
Тут прибежали остальные и запрыгали, требуя, чтобы он бросил палку опять. Да, наверное, это правда – то, что он всегда думал… Что девочки – это кошки. А мальчики – собаки. Теперь, когда они столпились тут, на пороге лета, готовые к прыжку, в этом не было никакого сомнения. Конечно же, они – собаки.
Лают, как собаки. И улыбаются, как собаки.
– Давайте дружить… – сказал он. – И каждый день гулять вместе.
Они помахали хвостами и заскулили.
– Ура! Забег на приз «Bisquits and Bones»![82] – выкрикнул он.
Мальчишки изобразили нетерпеливую дрожь в лапах.
– «Bisquits and Bones»!
Теперь он зашвырнул палку как минимум на десять миллионов миль. Мальчики бросились за ней, и в этот момент он подумал, что да, конечно, у собак бывают щенки, но, даже несмотря на это, все собаки все равно мальчики. Потому что никакое другое животное на свете не похоже так сильно на него, на его папу, на всех его дедов… От этой мысли он вдруг тоже сорвался с места и то с тявканьем, то с лаем побежал следом за всеми, взбивая ногами пыль и перепрыгивая через гнилые пни. Теперь их было десять, в едином гавкающем порыве мчавшихся в неведомые дебри…
Возле деревянной железнодорожной эстакады им пришлось остановиться, потому что по ней – прямо над ними, рядом с ними и сквозь них – с грохотом несся поезд… Пронесся – и снова тишина. Как будто какой-то очень грозный стальной бог выплеснул на них свой гнев, а потом стремительно умчался прочь. И никто не мог понять, почему от его грохочущего голоса так сладко ноют кости…
Теперь они стояли на пустых путях и пытались представить себе, как здесь было раньше, еще до того, как тысячи Смоляных чучелок[83] растаяли от жары и превратились в черные лужицы. Солнце било им прямо в глаза – его новым друзьям, которые были начиная от сегодня и на все лето. Они показывали друг другу языки, свисавшие изо рта, как длинные розовые галстуки…
Неподалеку стояла огромная башня электропередачи, от которой на север и юг разбегались провода, вспыхивающие на солнце голубыми искрами. Башня гудела – так, как будто в ней летал целый рой насекомых.
Уилл взобрался на нее, докуда смог, и посмотрел вниз.
Там никого не было!
Тогда Уилл крикнул: «Эй!»
И получил ответ: «Гав!»
Они пошли купаться – понарошку, в бассейне из густой прохладной тени, раскинувшей крылья под деревом, как огромная бабочка. Сначала они просто лежали в ней, не заходя за края, и слушали ленивый шелест листвы. А потом стали ползать на животах, раскинув ноги во всех направлениях, и часто-часто лаять, представляя, что они собаки-пулеметы.
– Заряжай! – крикнул им Уилл, спрыгивая с башни.
Отряхиваясь и отдуваясь, мальчишки вылезли из тени и всей толпой побежали к телеграфному столбу, после чего каждый, подняв ногу, расстрелял его янтарной струей. Когда миссия была выполнена, они выстроились в колонну и, прыгая на одной ноге, поскакали купаться – теперь уже по-настоящему.
Плавали они по-собачьи – конечно, по-собачьи, а как же еще? И очень тихо, как будто боялись нарушить висевшую над озером тишину, такую густую, что, если прислушаться, можно было услышать, как у кромки воды лопаются пузырьки пены… А наплававшись, вышли на берег – прямо по небу, которое отражалось в озере, и легли на горячий песок греться.
Уилл лежал и думал о том, что, конечно же, вне всякого сомнения, это самое лучшее лето в его жизни. Ничего подобного больше не повторится. Может, для его новых летних друзей все будет так же и следующим летом, и позаследующим: вода в озере не станет менее прохладной, а солнце – менее жарким… Но вот он сам, Уилл, через год станет намного старше – и, скорее всего, у него появятся другие, настоящие друзья, с которыми уже не получится вот так, просто ничего не делать, валять дурака, без начала и без конца, не думая о том, сколько прошло времени… Когда просто лежишь на пляже, и нет никакой школы, и не надо никаких слов, чтобы понять и принять друг друга. Ты – просто мальчишка, вечный ребенок и вечно куда-то бежишь по самому краю земли, и так и будешь бежать – до тех пор, пока эта земля вертится. И он, Уилл, тоже бежал в этой толпе, он даже видел себя, но только не дальше завтрашнего дня…
Согревшись, мальчишки опять пошли задирать ноги, как псы, теперь к деревьям. Уильям встал следом за ними, но в этот раз решил выпендриться и поразить всех изысканностью манер и стиля. Направив свою янтарную струю на песок, он принялся писать ею свое имя.
– А девочки… так… не могут… – приговаривал он, старательно выводя изгибы букв.
В довершение каллиграфических успехов летние друзья, не переставая громко лаять, украсили его еще теплый автограф красивыми узорами из песка, после чего все, не сговариваясь, побежали в сторону города. Солнце уже почти скрылось за крышами, когда компания подрулила к его дому. Поднявшись на крыльцо, он обернулся к ним – к этим свободным волонтерам, этим бродячим экскурсантам, которые, сбившись в плотную стайку, стояли на лужайке.
– Вот здесь я живу, запомнили? – сказал он. – Завтра опять идем вместе гулять!
Стоя у дверей, Уилл в одной руке держал кеды, а в другой, как казалось, всю свою жизнь, такую прозрачную и легкую, что ее перевешивала даже пара детской обуви. Он искренне верил, что от него пахнет псиной. Хотя на самом деле от всех от них пахло только мальчишками…
– Пока! До завтра! – сказали они.
И именно в эту секунду мимо них прошмыгнул воображаемый кролик. Собачья стая с лаем подняла хвосты и стремглав унеслась прочь.
– До завтра! – крикнул он им вслед.
И до завтра, и до послезавтра, и до послепослезавтра…
Ему казалось, что в тени деревьев все еще светятся их улыбки.
И он вдруг понял, что носить на лице улыбку, какой бы огромной она ни была – пусть даже шириной в целое лето, – так же легко, как в одной руке держать свои кеды, а в другой – всю жизнь. А еще он понял, что счастье – чтобы оно ненароком не угасло – нужно как следует накормить. И тут же отправился в темную и холодную кладовку с припасами – кормить свое счастье.
Смешение времен
Была уже глубокая ночь, когда старик вышел из дома с фонариком и спросил у стайки мальчишек, что это они так расшумелись. Ему никто не ответил: не обращая никакого внимания на старика, мальчишки продолжали самозабвенно возиться в кучах опавших листьев.
Тогда он вернулся в дом, сел в кресло и принялся переживать.
Часы показывали три… Он посмотрел на свои бледные усохшие руки, которые беспомощно тряслись на коленях. Потом поднял взгляд и поймал в зеркале над каминной полкой свое отражение: оттуда на него глянул ходячий скелет, который, казалось, вот-вот исчезнет – стоит лишь хорошенько дунуть.
С улицы вновь послышался детский смех.
Старик выключил фонарь и теперь сидел в темноте. В конце концов, какое ему дело до этих чужих мальчишек? Играют и играют. Хотя, конечно, если по уму, три часа ночи – не слишком подходящее время для игр… Он зябко поежился.
И вдруг услышал, как в замке входной двери ворочается ключ! Старик тут же встал и пошел выяснять, кого это принесло среди ночи. Дверь открылась, и в дом вошел какой-то импозантный молодой мужчина. С ним была женщина, они держались за руки и бросали друг на друга недвусмысленные нежные взгляды. При виде этой картины старик пришел в негодование.
– Что вам нужно в моем доме?! – выкрикнул он.
– О господи, кто это?! – воскликнули в свою очередь молодые люди. – Что вы тут делаете – в нашем доме? А ну-ка, убирайтесь!
Мужчина схватил старика под локоть, бегло обыскал его на предмет украденных вещей и, вытолкав за дверь, тут же запер ее на ключ.
– Но это мой дом! – продолжал шуметь старик. – Вы не имеете права выгонять меня на улицу!
Некоторое время он колотил в дверь, потом отошел от входа и посмотрел наверх – на окна второго этажа. В них горел свет, и, между прочим, было тепло… Потом за шторами мелькнули тени – и свет погас. Пытаясь согреться, старик зашагал вниз по улице – и шел, пока она не кончилась. Тогда он двинулся обратно к дому. По дороге ему опять попались мальчишки, которые все так же кувыркались в листве – уже заиндевевшей от утреннего холода – и все так же не замечали его, как будто и не видели вовсе.
Старик остановился напротив дома: теперь свет в окнах то зажигался, то снова гас. То зажигался, то гас… От нечего делать он принялся, бормоча себе под нос, считать, сколько же раз свет выключится и включится опять.
Когда счет перевалил за несколько тысяч, к дому подбежал мальчик лет четырнадцати с футбольным мячом в руках. Открыл дверь, не отпирая ее ключом, и быстро зашел внутрь. Дверь снова закрылась.
А через полчаса, когда уже начало светать и откуда ни возьмись налетел порывистый ветер, возле дома притормозил автомобиль. Из него вышла какая-то полная женщина, которая вела за руку мальчика лет трех и прямо по мокрой от росы лужайке направилась к входной двери.
– Это вы, мистер Терл? – обратилась она к старику.
– Да, – машинально брякнул тот из темноты, хотя это была неправда.
На самом деле он никогда не был мистером Терлом. Мистер Терл жил на другом конце улицы… Но почему-то он решил, что другой ответ мог бы ее напугать.
В окнах дома снова начал туда-сюда мигать свет.
Дети все так же возились в листьях…
И вот в тот момент, когда свет мигнул приблизительно в тысячный раз, с другой стороны улицы принесло какого-то семнадцатилетнего юнца, отчаянно воняющего помадой и с ее же следами на щеках. Промчавшись мимо на бреющем полете, он едва не сбил старика с ног.
– Простите! – прокричал он на ходу, после чего, стремительно взбежав на крыльцо, скрылся за дверью.
Старик огляделся: теперь его окружали темные окна с мирно сопящими за ними обитателями, а сквозь кроны зимних деревьев тихо поблескивали звезды. Город спал.
– Но это же мой дом! – выкрикнул старик, обращаясь к резвящимся детям. – Почему в него постоянно заходят какие-то люди?!
А ветер срывал с голых деревьев последние остатки листвы…
Кажется, это было в 1923-м, свет в доме не горел. К входу подъехала машина, из нее вышла мама. За руку она вела трехлетнего мальчика – своего сына Уильяма, который смотрел на дом в серых утренних сумерках и думал о том, что мама ведет его домой. Когда они поравнялись с большим дубом, в ветвях которого шумел ветер, мама вдруг заговорила.
– Это вы, господин Терл? – спросила она, и Уильям увидел под деревом старика.
Старик сказал:
– Да.
Потом закрылась дверь.
А в 1934-м, летом, Уильям бежал домой по ночному городу, сжимая в руках футбольный мяч, и смотрел, как тротуар убегает у него из-под ног. Прямо возле дома, в темноте, он даже не разглядел, а просто почуял стоявшего у крыльца старика. Оба не произнесли ни слова – и уже в следующую секунду Уильям вбежал в дом…
А в 1937-м огромными антилопьими прыжками несся через улицу, весь пропахший губной помадой и еще чем-то юным и прекрасным, весь в мыслях о любви и о том, что, черт возьми, уже такая позднотища и его сейчас точно убьют… Едва не сбив с ног какого-то прохожего у крыльца, он выкрикнул «Простите!» и дернул входную дверь.
А вот это было уже в 1947 году: возле дома остановился автомобиль, в котором сидели Уильям в дорогом твидовом костюме и его молодая жена. Было уже очень поздно. Оба падали с ног от усталости, от обоих несло спиртными напитками, которые, судя по всему, предлагались в этот вечер в изобилии – и в том же объеме и употреблялись. Некоторое время парочка сидела, прислушиваясь к шуму ветра и собираясь с силами. Потом они все-таки вышли из машины и принялись копаться ключом в замке входной двери. Но едва они переступили порог своего дома, навстречу им из гостиной вышел какой-то незнакомый старик.
– Что вам нужно в моем доме?! – возмущенно прокричал он.
– О господи, кто это? – воскликнул Уильям. – Что вы тут делаете – в нашем доме? А ну-ка, убирайтесь!
После чего, недоумевая, почему же этот старик вызывает у него такие странные чувства – вплоть до тошноты и озноба, – Уильям обыскал его и, вытолкав из дома, запер на ключ дверь.
С улицы тут же послышались крики:
– Это мой дом! Вы не имеете права выгонять меня на улицу!
Но они легли спать и выключили свет.
Кажется, в 1928 году Уильям вместе с другой ребятней кувыркался в листьях на лужайке перед домом. Была уже глубокая ночь. Мальчишки караулили рассвет, чтобы не пропустить момент, когда к станции прямо по рельсам (которые утром бывают такого красивого голубого цвета) подъедет с пыхтением настоящий цирковой поезд… И это было так здорово – возиться, хохотать и устраивать потасовки в кучах сухих листьев, да еще ночью, – что, когда к ним подошел старик с фонариком в руках, они даже не обратили на него внимания.
– Что это вы тут устраиваете среди ночи у меня на газоне? – поинтересовался старик.
– А вы, вообще, кто? – вынырнув на секунду из-под куча-мала, спросил его Уильям.
Некоторое время старик стоял и молча смотрел на детей, которые продолжали самозабвенно возиться в листьях. А потом у него из рук вдруг выпал фонарик.
– Мальчик, а мальчик! – Старик наклонился и тронул за плечо того, кто ему отвечал. – Я, кажется, понял! Я – это ты, а ты – это я! Боже мой, как же все это… Я так тебя люблю! А хочешь, я расскажу тебе, что с тобой будет потом, через много лет? Если б ты только знал! Меня ведь тоже зовут Уильям, как и тебя! И все эти, которые заходили сейчас в дом, они тоже Уильямы. Вернее, один и тот же Уильям. Тот же, что и ты – тот же, что и я! – Его трясло. – Понимаешь, все время собралось здесь… Много, много лет сразу!
– Дядя, ты чего, совсем чокнулся? – сказал мальчик. – Уходи!
– Но…
– Не приближайся ко мне, ты, псих ненормальный! А то сейчас папу позову!
Старик попятился назад и скрылся в темноте.
Свет в доме то зажигался, то снова гас. Мальчишки молча возились в опавших листьях. А старик все стоял и стоял под деревом на лужайке…
В 1947 году Уильям Лэттинг лежал в своей спальне на втором этаже и никак не мог уснуть. В конце концов он встал с кровати, закурил и подошел к окну.
– Ты чего? – спросила его жена.
– Кажется, этот старик так и стоит под нашим дубом.
– Да нет, тебе показалось… – сказала жена.
Уильям сделал глубокую затяжку и задумчиво кивнул.
– А что это там за дети? – спросил он.
– Какие еще дети? Где?
– Да вон, на лужайке, валяются в листьях. Тоже мне, нашли время для игр!
– Может, это дети Моранов?
– В такое время, прямо среди ночи? Не смеши меня. Это точно не они.
Все так же стоя у окна, он закрыл глаза и прислушался.
– Слышишь? – спросил он жену.
– Что?
– Ребенок где-то плачет…
– Нет, я ничего такого не слышу, – сказала она и еще раз прислушалась.
И тут они оба явственно услышали, как кто-то подбежал к дому и повернул дверную ручку. Уильям Лэттинг вышел в коридор и посмотрел вниз. В прихожей никого не было.
А в 1937 году Уильям открыл входную дверь и увидел, что с лестницы, со второго этажа на него смотрит какой-то мужчина, в халате и с сигаретой.
– Пап, это ты? – спросил он.
Мужчина в халате ничего не ответил – просто вздохнул и скрылся в темноте. А Уильям отправился на кухню, чтобы провести небольшую ревизию в ящике со льдом.
А мальчишки все так же кувыркались в перине из сухих листьев.
Уильям Лэттинг снова насторожился.
– А теперь – слышишь?
Они прислушались.
– Это тот самый старик. Он плачет.
– Почему плачет? – спросила жена.
– Почему люди плачут? Наверное, от того, что плохо…
– Если к утру он не уйдет, придется вызывать полицию, – проговорил в темноте голос жены.
Уильям Лэттинг отвернулся от окна, затушил сигарету и вернулся в кровать. Некоторое время он лежал и молча смотрел в потолок, на котором мелькали отблески огней. Когда они мелькнули в тысячный раз, он сказал:
– Нет, полицию я вызывать не буду. Даже если он не уйдет.
– Это почему?
– Просто не хочу… – почти шепотом ответил он. – Не хочу и не могу.
Они лежали, а за окном шумел ветер и слышался чей-то плач, и Уильям Лэттинг знал, что где-то там, на лужайке, возятся в заиндевевшей листве мальчишки и он тотчас же увидит их, стоит только протянуть руку и откинуть штору.
Он знал, что они будут возиться там еще долго, пока на востоке не забрезжит рассвет. И ему вдруг до слез, до дрожи, до спазма сосудов захотелось оказаться там, среди них, и тоже кататься по этим сухим листьям, и закапываться в них – так, чтобы они забивались в рот, а потом выплевывать и снова закапываться… Надо только встать и спуститься на лужайку.
Вместо этого он повернулся на бок и снова попытался уснуть. Только вот глаза все не хотели и не хотели закрываться…
Враг в мирных хлебах
Глубокой ночью, когда все уже спали, на пшеничное поле возле дома внедрился враг.
Это случилось в полночь. Объясняю: еще недавно километрах в восьмидесяти отсюда полыхал огонь войны. Сегодня, к счастью, она почти закончилась – после того, как два несчастных крохотных государства, которые воевали друг с другом не один год, сказали друг другу: «Слушайте, может, хватит уже валять дурака, не пора ли опять становиться людьми?»
И вот, представьте, на фоне всех этих событий в ночном небе вдруг раздался характерный вой, а следом за ним и свист! Все семейство так и подскочило в своих кроватях – все стали в ужасе хвататься друг за друга… И тут – бумс! – на поле возле дома с глухим стуком что-то упало. Бомба! Прямо в зрелый урожай пшеницы.
И тишина.
Через некоторое время, привстав в кровати, отец сказал жене шепотом, но достаточно громко, чтобы его было слышно во всем доме:
– Вот черт, кажется, она не разорвалась! Слышишь? Она там тикает. Тик, тик! Да лучше бы нам всем сразу на воздух взлететь, чем вот это вот – тик-тик-тик!
– Что-то я не слышу никакого «тик-тик», – пожала плечами жена. – Давай уже ложись. А бомбу завтра поищешь. Тем более что она явно приземлилась где-то в стороне. Даже если и взорвется, ну, максимум пара картин упадет со стены – и все.
– Да как ты можешь такое говорить! Да если она взорвется, от нас и мокрого места не останется!
Отец накинул халат и, стремительно сбежав по лестнице, поспешил на поле.
– Я слышал, раскаленный металл можно учуять по запаху! – на ходу крикнул он, шумно втягивая носом воздух. – Значит, надо торопиться, пока она не остыла! Вот черт, принесла же нелегкая!
– Что нелегкая, пап? Бомба? – раздался голос Тони – младшего сына, который был уже тут как тут с фонариком в руках.
Отец злобно сверкнул на него глазами.
– Кто тебя просил тащить сюда фонарь?
– Просто я не хотел, чтобы ты споткнулся о бомбу…
– Да я с помощью одного своего носа найду больше бомб, чем целая бригада с миллионом фонарей! – С этими словами отец, не дожидаясь, пока отвергнутый сын уйдет обратно в дом, забрал у него фонарик. – Нет, ты слышал, как бабахнуло? Бабах! Небось все деревья в округе с корнем повырывало!
– Да нет, пап, не все – вот, например, дерево… Смотри не споткнись, – сказал Тони.
Отец в изнеможении закатил глаза.
– Давай уже иди в дом, а то сейчас как продует… насмерть! Мало не покажется.
– Не продует: ночь же теплая… – сказал сын.
– И вообще, еще лето! – завопили остальные дети, гурьбой выбегая на поле.
– А ну-ка, брысь! – прикрикнул на них отец. – Если уж кто-то и взлетит на воздух, то это буду я!
Сыновья вернулись в дом, но дверь кухни оставили открытой.
– И дверь закройте! – гаркнул отец.
После чего, принюхиваясь и размахивая фонарем, словно это была дирижерская палочка, отправился прочесывать поле.
Когда он вернулся, халат его был густо усеян налипшими колосками и колючками.
Вся семья в полном составе ждала его внизу.
– Как?! Вы еще до сих пор не спите? – проорал он.
– Да уж какой там сон! – сказала жена. – Ты же носился, как целое стадо слонов – небось потоптал всю нашу пшеницу!
– Это я – как стадо слонов? Я потоптал пшеницу?!
– Смотрите, – сказал Тони, указывая пальцем за дверь, – в пшенице остались дорожки, там, где пробегал папа. А он там здорово пробежался: и вдоль и поперек, и на запад и на восток!
– О господи, скорей бы уж ты вырос и стал писателем… – вздохнул отец.
Чуть только на востоке забрезжил свет, он был уже в пшенице. Глаза его бешено сверкали. Вытянув вперед дрожащие руки и широко открыв рот, он то бесстрашно бросался в самую гущу, то крался на цыпочках, осторожно прокладывая себе путь через ниву… А то молча стоял посередине, слушая, как шелестят на ветру колосья, скрывающие теперь великую тайну. Ну, где же она? Где?
Только голод смог заставить его уйти с поля в районе полудня. Впрочем, ненадолго – уже через пару минут, вооружившись бутербродом, он снова вернулся к поискам, все с тем же сложным выражением лица, объединяющим, казалось бы, несовместимые вещи: ужас и блаженство, воодушевление и уныние, аргументы и контраргументы… Временами он останавливался, весь в поту, и восклицал, обращаясь то ли к пшенице, то ли к Господу Богу, то ли к собственным протянутым рукам:
– Нет, вы это слышали? Бабах! Еще ни разу ни в одну войну снаряды и близко не подлетали к нашим фермам! Эй, жена! Принеси мне суп!
– Иди в дом, тогда и получишь! – отвечала жена.
– Господи, ну когда же… – бормотал себе под нос он. – Где эта чертова воронка? Ну, где-то ведь он должен был войти в землю. А значит, ему хватит даже легкого ветерка – муравей пробежит или муха сядет, пусть даже через тридцать лет… И тогда – все! Привет! Хорошее же наследство я оставлю детям… Врага, который будет сидеть в засаде, чтобы лет через сто здесь все взлетело на воздух! Вы только представьте… Кончилась война. Герои вернулись домой. Прошли годы. И вот однажды герой решает вспахать свое поле и тут… Бумс! И все на куски!
– А может, она все-таки упала не на наше поле? – с кроткой улыбкой сказал Тони, который откуда-то взялся рядом и теперь деловито почесывал в затылке.
– Ну, конечно! Ты что, не видел вспышку? Вон даже трава пожелтела!
– Вообще-то, трава еще вчера была желтая.
– Да я сам видел, как она летела по небу, огромная и раскаленная, как печь…
– Если что, окна нашей спальни выходят на другую сторону, – сказала мать, которая как раз подруливала к полю с тарелкой горячего супа.
– Допустим, – сказал отец. – А звук? Вот этот вот – бумс! Это же был точно центр моего пшеничного поля! Господи спаси…
– Мы тоже хотим искать! – закричали подоспевшие дети.
Отец переглянулся с женой.
– Похоже, у твоих ребятишек не все дома… – сказал он, после чего одним кивком головы подозвал детей и, как выводок цыплят, повел их на всполье. – Дети мои! Не думайте даже приближаться к полю, хоть бы эту чертову бомбу пришлось искать все сорок лет! Вы слышите? Кто знает, когда она рванет? Через два года, через четыре или через все восемь… А может, вообще сегодня!
После этих слов повисла гробовая тишина, все застыли на солнцепеке, мучительно вслушиваясь в тихий шелест колосьев.
– Тик… Тик… Тик… Тик… – сказал вдруг Тони.
Отец бросил на него уничтожающий взгляд.
– А ну, давай дуй к соседям! И чтоб всем рассказал про бомбу… Живо!
Тони убежал.
– По уму, нам надо съехать отсюда на время и обратиться к представителям власти, чтобы они организовали официальные поиски этой предполагаемой бомбы, – спокойно сказала мать.
– К кому?! К представителям власти? Да от одного их вида у нас загнется весь урожай! – Отец замычал и схватился за голову. – А впрочем, ладно. Бери детей, бабулю и переезжайте в деревню. А я останусь. Столоваться буду у соседей. Мне и тут нестрашно.
– Да и мне, в общем-то, не страшно.
– Да нет, я правда могу остаться – мне все равно!
– Ну, если уж на то пошло, тогда и я останусь, – сказала жена, – при условии, что ты не будешь приманивать детей к своей дурацкой бомбе.
– Это почему это она моя?
– Так, кажется, соседи идут, – сказала жена, прислушиваясь. – Пойду-ка я открою вино…
– Я как раз об этом тебе хотел сказать…
Отец поспешил к входной двери. А со всех окрестных лугов к их дому уже стекались доблестные соседские мужи, делая на ходу всякие жесты, означающие, что «мы, мол, еще повоюем» и «есть еще порох в пороховницах».
– Надо же, почти одни мужики, – покачала головой жена. – Правильно говорят: дурная голова ногам покоя не дает!
Остаток дня соседи, в большинстве своем мужчины, провели, стоя у кромки пшеничного поля и почтительно внимая местному фермеру-герою, который начиная с этого дня имел все шансы вместо пшеницы собрать кровавый урожай.
– А может, это пальнули из той самой большой пушки, про которую все говорят, вон оттуда… – сказал отец, показывая рукой куда-то вдаль.
– «Tall Tom»…[84]– подсказал младшенький, Тони.
Рука отца замерла в воздухе. Одновременно с этим он прищурился, судорожно сглотнул и на глазах начал багроветь, как будто в его голову медленно заливали красное вино.
– Эта пушка стреляет на сорок миль… – продолжил свою мысль он.
– «Tall Tom» называется! – с радостной улыбкой повторил Тони.
– Так… – сказал отец, – и почему, интересно знать, ты до сих пор не в школе?
– Ты же сам сказал, чтобы мы остались дома, – ответил Тони, – а то мы пропустим страшный взрыв, который поубивает всех наших коров…
– Ну, ладно… Тогда иди и принеси нам еще пару бутылочек вина! И чтоб самого лучшего! – Отец повернулся к гостям. – А вы вот знаете, например, что после Первой мировой десять тысяч фермеров – вы только вдумайтесь – десять тысяч… отправились таким образом к праотцам? Просто так, споткнувшись о мины, не заметив старые бомбы?
Все закивали с самыми серьезными и просветленными лицами.
– Да что там, иногда одного маленького шороха достаточно, и сразу – бабах! – шепотом продолжал отец.
– Даже стука сердца? – тихо спросил кто-то.
– Да, даже стука сердца…
Но тут патетический момент был нарушен появлением Тони, который гаркнул так, что все едва не подпрыгнули:
– Вот ваше вино!
– Тш-ш-ш! Ради всего святого, ты можешь не орать?
– Ну, вот же, я же принес! – Тони протягивал две большие бутылки.
Отец, прищурившись, посмотрел на этикетки.
– Что это ты притащил?! – проревел он. – Я же просил тебя принести самое лучшее!
– А мама сказала, что на халяву и такое сойдет… – невинным голосом пояснил Тони.
Не самое лучшее вино открывали и разливали в скорбном молчании. Впрочем, очень быстро оно сменилось на благодушный смех и дружеское похлопывание по плечам ровно в тот момент, как по жилам побежало знакомое тепло.
– Прямо не жена, а катастрофа какая-то, – оправдывался отец. – Да и дети явно не в себе после этой бессонной ночи…
Соседи, как по команде, повернули головы и посмотрели в сторону дома. Через открытую дверь кухни было видно, как супруга хозяина преспокойно помешивает суп, напевая при этом какую-то легкомысленную песенку.
– Эй, закрой дверь! – крикнул ей отец, но, повернувшись к друзьям, спохватился и опять перешел на шепот. – Так вот, о чем я говорил? Бывают такие страшные бомбы, что…
– А может, хватит уже? – перебил его сосед по участку, Питер. – Может, пойдемте уже, обыщем поле?
– Ни в коем случае! – воскликнул отец.
– Но нельзя же ее там так просто оставлять!
– Да, она может взорваться, – с нескрываемой гордостью сказал отец. – А я не хочу, чтобы моих дорогих соседей разорвало в клочья! К тому же я уже придумал свою стратегию. И, в конце концов, я смогу в одиночку обезвредить это адское устройство. Главное – не торопиться…
– О, смотрите, Джозеф несет металлоискатель… – сказал Питер.
Отец в ужасе замахал руками.
– Нет-нет-нет! – вскричал он. – Даже не думайте!
Джозеф задорно поднял металлоискатель.
– Да я только пройдусь немного по полю и сразу…
– Бабах! – продолжил за него кто-то.
– Ну, или давай сам… – Джозеф протянул свою машину отцу.
– Только не торопи его, – сказал Питер, – пусть сначала все взвесит.
– И вообще, надо бы поосторожней… – сказал другой сосед.
– Ну, и где же самое лучшее вино? – поинтересовался третий.
Вино играло на солнце, свежий ветерок шевелил колосья, а на всполье, сбившись в тесный кружок, стояли и шумно галдели уже изрядно поддатые мужички, и было им очень хорошо и весело. И отец уже сейчас представлял и предвкушал, каким чудесным будет отныне каждое его утро… Вот он просыпается и сразу, почти не одеваясь, вприпрыжку бежит на поле, там обходит дозором свой диковинный урожай, вдыхая утреннюю прохладу, напоенную ароматом тайны, в ожидании новых, столь удачно приобретенных друзей, готовых бесконечно обсуждать с ним различные аспекты стратегии и тактики…
Конечно, не обойдется и без праздных зевак с их язвительными заявлениями, вроде:
– О, я слышал, ваша ферма стала кладбищем!
Или:
– А вы застрахованы? Когда планируете в бега? А правда, что эта ваша бомба размером с силосную яму?
– Нет, неправда, – ответит тогда отец. – Она гораздо больше! Она такая большая, что каждый день мы лежим в своих кроватях и трясемся от страха, потому что одному Богу известно, в какой момент она рванет и отправит нас всех прямиком в царствие небесное!
– Боже, какой кошмар!
– И не говорите!
С покровительственной улыбкой он будет наблюдать, как люди ходят кругами вокруг его поля и рисуют какие-то карты, а потом ему придется послать в город за хлебом и сыром, потому что вся дорога будет уставлена лошадьми тех, кто ехал мимо и из любопытства решил заглянуть на его ферму…
И вот в самый разгар его пьяных мечтаний и братаний откуда-то из глубины поля донесся громкий крик. Это был малолетний Тони. Он стоял прямо посередине поля и вопил что есть мочи:
– Эй! Пап! Па-ап!
– Тони! – диким голосом заорал отец.
В этот момент Тони подпрыгнул на месте.
– Бумс! – прокричал он, после чего сделал еще несколько прыжков в длину и один кувырок. – Бумс! Бу-бумс!
– Беги оттуда скорее, придурок! Тебя же разорвет на куски!
– Бу-бумс! Баба-ах! – Теперь Тони стоял на месте, хохотал и изо всей силы топал ногами о землю.
Фермеры с подозрением прищурились.
– Что за дела… – сказали они, – там, вообще, бомба-то есть? Вон смотри, твой сынок ничуточки не боится!
– Просто Господь… напрочь отнял кое у кого… все мозги!!! – громко прокричал отец. – А ну, марш с поля, идиот!
Как всегда, сияя улыбкой, Тони наконец покинул пшеницу.
– Ну и что ты, скажи на милость, всем этим хотел изобразить? – накинулся на него отец.
– Просто хотел взорваться… – ответил Тони и тут же убежал, прикрывая ладонью рот.
Шел уже четвертый вечер после падения бомбы, когда мать подошла к окну и в глубокой задумчивости уставилась на целое поле зрелой пшеницы, которую ласково теребил ветерок.
– То есть ты собираешься прямо вот так и бросить весь наш урожай на поле? – спросила она.
– А что, я должен нанять жнецов, а потом оплачивать для них гробы и свечи?
– Еще пара дней – и убирать будет поздно. Я, конечно, все понимаю: вино, гости, разговоры, опять вино… – С этими словами она вышла из дома и решительно направилась через двор прямо к пшеничному полю.
– А ну, вернись! – крикнул он ей вдогонку.
Вернулась жена примерно через час. Смерив его долгим и выразительным взглядом, она сказала:
– Завтра же начинаем уборку пшеницы.
– Но если мы начнем на поле уборку, то тогда…
– То тогда никто не поверит, что там вообще когда-либо была бомба. Это ты хочешь сказать? Так вот, там действительно нет никакой бомбы. Я лично протопала ногами все поле сантиметр за сантиметром – и, как видишь, жива. Так что завтра. И без всяких разговоров…
В ту ночь отец спал очень плохо. Ворочался, просыпался и бросал злобные взгляды то на мирно спящую жену, то в сторону детской, где спал Тони.
– Тоже мне, придурок заговоренный… – ворчал он. – Это ж надо такое придумать – скакать на бомбе!
Так и лежал он, а по пшеничному полю с шумом гулял ветер, а по небу неспешно плыли звезды… «Ну, что за жизнь? – думалось ему. – Вот прибежишь в деревню, крикнешь радостно: «А у меня жена дочь родила!» – и тут же найдется какая-нибудь зараза, которая скажет: «Подумаешь! Вот моя-то – да, она подарила мне сына». Хорошо, придешь, объявишь, что жена родила сына, а тебе тут же: «Мелко плаваешь – у жены Роберто родилась двойня!» Скажешь: «Моя жена заболела!» – а тебе в ответ: «Так моя вообще умерла…» И опять вся жизнь мимо тебя. Ну, хоть бы раз, для приличия, пшеница сгнила или какой сарай рухнул! У других и силос горит, и родного деда молнией насмерть убивает… Об этом же потом можно до конца жизни с дружками перетирать, да еще и детям останется. А у него что? «Ах, не припомните ли вы то славное лето, когда у меня так ничего и не сгорело?» – «Не, не припомним!»
Теперь вот та же история с пшеницей. Она что, у него какая-то особенная? Сильно крупная или сильно мелкая? Нет, совершенно обычная, нормальная пшеница, как у всех. И вот представьте, именно теперь, когда привалило такое счастье, на их участок упала бомба, и можно было бы со спокойной совестью весь завтрашний день пить вино и разговаривать всякие приятные разговоры, вдруг, откуда ни возьмись, приходит жена и начинает вопить: «Ах, пшеница! А как же наш драгоценный урожай!» – и при этом размахивает серпом и вращает глазами. Ладно, ладно, еще посмотрим, чья возьмет… И, собрав всю волю в кулак, он оборвал поток черных мыслей и затушил тлеющий в голове огонек бессонницы.
…А ровно в шесть утра раздался взрыв.
– Что-то как-то слабовато, – привставая в кровати, сказала жена.
– Ну да, чуть полдома не снесло, а так все в порядке!
Уже через пару секунд он стоял во дворе.
В небе вился дымок. А со всех сторон, даже из самых дальних уголков деревни, к пшеничному полю уже бежали люди.
– Ага, это там!
– Да нет же, дым идет вон оттуда!
– А еще здесь посмотри!
В конце концов, когда они излазили все пшеничное поле вдоль и поперек, Питер сказал:
– Значит, это где-то за забором.
– Ну вот еще! – прошипел отец. – То же мне, умник нашелся… Будем искать здесь!
Из дома выбежали дети, прямо в ночных рубашках.
– Да вон там был взрыв! – прокричал Тони, указывая куда-то за забор. – Питер правильно говорит!
Вскоре метрах в сорока от пшеничного поля, на берегу небольшого ручья, была обнаружена свежая воронка, из которой еще тянулся легкий дымок.
Отец, не отрываясь, смотрел на нее, и во взгляде его сквозило отчаяние.
– Надо же, какая маленькая… – проговорил Тони.
– И ничего не маленькая! – упрямо возразил отец.
– Не больше моей головы! – сказал Тони.
Соседи с криками продолжали сбегаться к воронке, а отец все стоял и смотрел на нее, и глаза его как будто отказывались видеть очевидное.
– Да нет, она же была огромная, как печь… – пробормотал он себе под нос, а потом добавил: – Получается, что это вообще не моя бомба!
– Как это?! – воскликнули все.
– А вот так, не моя! – отрезал отец. – Моя бомба упала на мое поле. Огромная, как паровоз. Я сам лично все видел: колеса, искры и даже паровой свисток. Только что машинист из окошка не махал… Вот какая была моя бомба!
– Но тогда выходит, снарядов было два!
– Один, два – какая, к черту, разница? – сказал отец. – Они просто приземлились одновременно! Только у меня бомба – так уж бомба! А это – так, жалкая хлопушка… И к моему участку вообще никакого отношения не имеет!
– Всего-то метрах в пятнадцати от нас упала! – сказал Тони.
– Да хоть миллион!
– Странновато как-то получается. Сколько мы здесь живем, никогда ничего не падало, а тут – бомбы, и сразу две!
– Тем не менее факт остается фактом: моя спелая нива скрывает опасного врага…
– Пап! – шепнул Тони, показывая куда-то рукой.
Все дружно повернули головы.
По золотому пшеничному полю степенно шагала мама и что-то несла в руках. Молча кивнув соседям, она подошла к отцу и точно так же, не произнося ни слова, протянула ему то, что несла. Это был серп.
Прошло уже много лет, а отец по-прежнему, сидя в баре деревенской гостиницы, брал в руки пустой стакан и после серии выразительных вздохов и придыханий бросал рассеянный взгляд на какого-нибудь проезжего незнакомца. А потом, выдержав многозначительную паузу, изрекал:
– Слышали небось про гигантскую бомбу, которая упала на мое пшеничное поле и лежит там, в земле, вот уже много лет? Лежит и тикает… – После этого обычно следовал вздох, полный неподдельной скорби. – Посмотрите, сколько у меня на голове седых волос. Если бы вы только знали, каково это – жить бок о бок с самим дьяволом, который спрятался в ваших колосьях и улыбается вам оттуда своей дьявольской улыбкой… Да от этого любой состарится раньше срока. Вон гляньте на меня – сплошные морщины! А все потому, что живешь и не знаешь, в какой момент тебя разорвет на куски – то ли когда ты выйдешь пахать это чертово поле, то ли среди ночи, прямо во сне!
На это собеседники, как правило, отвечали одно и то же:
– Но тогда почему бы вам просто не переехать отсюда?
– Я что, похож на труса? – мгновенно вспыхивал отец. – Нет уж, не дождетесь! Нас голыми руками не возьмешь. С места не сойдем, так и будем жить здесь столько, сколько нам отпущено Богом. И пахать будем, и сеять, и урожай собирать… А однажды утром вы откроете газету и увидите там мое имя. Оно будет там среди других имен запоздалых жертв войны, которая давно закончилась, но мы-то с вами знаем: враг все равно не дремлет и до сих пор наносит свои коварные удары, притаившись в наших мирных хлебах… Да-да, спасибо, я с удовольствием выпью с вами еще стаканчик.
Уже сгорели в топке десятки календарей, дети давно выросли и разъехались, а отец все так же недолюбливал Тони: и лицо-то у него чересчур учтивое, и руки слишком белые да изящные. А эти его письма, которые он исправно слал родителям то из Лондона, то из Парижа, то из Будапешта? В каждом из них сквозь аккуратный почерк так и проглядывала эта его фирменная невинная улыбочка то ли Мадонны, то ли младенца. Да еще эта его дурацкая манера – в конце письма, там, где люди обычно пишут «целую» или «всего наилучшего», зачем-то писать слово «бабах»…
Поберегись!
Солнце стремительно садилось, и, как только оно тронуло краем горизонт, под деревьями стало совсем темно. Игроки, как по команде, зачехлили свои клюшки, побросали в сумки мячи для гольфа, сняли темные очки и направились к стоянке. Уже через минуту солнце совсем скрылось, а вместе с ним и все машины. Парковка опустела, на поле для гольфа никого не осталось. Вернее, почти никого.
Гленн Форей сверял какие-то цифры, сидя за компьютером в своем кабинете возле старта, когда до него донеслись звуки ударов. Один мяч, второй, третий.
Чпок. Чпок. Чпок.
Хорошие такие, мощные удары.
Даже интересно, кто бы это мог быть в такое-то время.
Гленн Форей выглянул в окно.
В дальнем левом углу площадки, возле стартовой метки, он увидел мужчину в клетчатой кепке, надвинутой по самые брови, и с длинной старомодной клюшкой в руках. Он узнал его: этот игрок ходил сюда уже несколько лет. Склонившись над полем, мужчина выложил на траву еще три мяча – так быстро, как будто его кто-то подгонял. Потом выпрямился, взял поудобнее клюшку и опять – чпок, чпок, чпок.
Между тем солнце уже село. Гленн Форей посмотрел в сторону стоянки и обнаружил, что на ней стоят всего две машины: одна – его, другая – запоздалого игрока. Интересно, интересно… Он вышел из-за стола и выглянул за дверь.
Процедура повторилась. Один мяч, второй, третий. Чпок. Чпок. Чпок. И все по новой. Когда Гленн Форей подошел к нему справа, мужчина даже этого не заметил и тремя сильнейшими ударами отправил вдоль зеленой трассы еще три мяча.
Форей проводил их взглядом, после чего сказал:
– Вечер добрый, господин Гингрич. Хорошо у вас, однако, пошло.
– Да? Вы полагаете? Вам правда так кажется? – зачастил Гингрич, которому, судя по всему, было глубоко все равно, насколько далеко залетают его мячи. – Хотя да. Конечно. Добрый вечер, да. Что, уже пора заканчивать?
Форей подождал, пока Гингрич выложит очередные три мяча.
Нет, с ним явно творится что-то не то… Достаточно взглянуть на его лицо. И на то, как он резко выпрямляет руку. И с какой силой сжимает клюшку – вон аж все костяшки побелели… Какой уж там заканчивать.
– Как вы сказали – заканчивать? Да нет, пока еще не пора.
Гингрич, не отрываясь, смотрел на подготовленные для удара мячи.
– Рад это слышать. Значит, у меня еще есть немного времени?
– Да почему – у вас полно времени, – сказал Форей. – Играйте на здоровье. Мне все равно надо закончить с расчетами. А это еще как минимум на полчаса.
– Отличная новость… – Гингрич как следует размахнулся и – чпок! Один удар, второй, третий. – Извините, я знаю, это не входит в круг ваших обязанностей. Но не могли бы вы принести мне еще две-три корзинки?
– Да не вопрос. – Форей сходил и принес ему целых три контейнера, до краев наполненных мячами. – Вот, пользуйтесь.
– Благодарю вас… – сказал Гингрич, даже не подняв на него глаза, поскольку всецело был поглощен подготовкой новых меток. Щеки его пылали, в глазах горел спортивный азарт, как будто он играл с самим собой и все никак не мог у себя выиграть. – Вы необычайно… любезны! – вместе с очередным ударом выкрикнул он.
Прежде чем вернуться в кабинет, Форей прослушал еще три сочных «чпока» и проследил взглядом за тремя длинными траекториями полета.
Через открытую дверь ему было видно, как Гингрич методично наносит удар за ударом, словно бьет не по мячам, а по чему-то еще… Интересно, что бы это могло быть? Неприятности на работе? Сильный соперник? Предательство друга? Форей поймал себя на том, что даже думает уже сериями по три мысли – чпок, чпок, чпок, – и ему стало смешно…
Он попытался сосредоточиться на расчетах, но звуки ударов отвлекали его. За окном уже почти стемнело, над полем зажглись фонари. Да, это выглядело по меньшей мере странно, в воскресный вечер, когда площадка закрывается раньше обычного, какой-то человек с красным лицом и бешеным взором кидает мячики один за другим и готовит метку для следующего, пока предыдущий еще не упал.
Вскоре мячи у игрока кончились, и Форею пришлось вынести на поле еще два контейнера. Он тихонько подставил их Гингричу, и тот, посчитав это проявлением дружелюбия, кивнул в знак благодарности. При этом он не переставал делать взмахи клюшкой, как запрограммированный робот. Раз, два, три. Раз два, три. Раз… Некоторое время Форей наблюдал за этим молча. А потом спросил:
– У вас все в порядке, мистер Гингрич?
Гингрич запустил в космос еще три мяча и только после этого поднял на него взгляд.
– А что у меня может быть не в порядке… – выдавил он.
В глазах у него стояли слезы.
Форей почувствовал, что не может даже говорить: слова разом застряли у него в горле. Наконец ему удалось взять себя в руки, и он сказал, при этом стараясь не смотреть на пунцовые щеки и горящие глаза Гингрича:
– Ну, если все в порядке, тогда конечно…
Гингрич коротко кивнул и опустил голову. Из глаз его выкатилось несколько слезинок.
– А вообще… – сказал Форей. – Работы у меня еще минут на сорок, если не на час. Вы можете уйти вместе со мной.
– Это меня более чем устраивает. Более чем! – сказал Гингрич.
После чего в три приема выдрал из земли несколько кусков дерна.
Удары были такой силы, что у Форея возникла полная иллюзия, что он только что три раза получил клюшкой под дых. Все происходило, как в старом кино с ускоренным изображением: мячи взлетали один за другим, и казалось, что в воздухе, на фоне ночных деревьев, непрерывно парит стая каких-то маленьких белых птичек.
Форей поднялся к себе в кабинет, но в дверях снова остановился, пытаясь понять и не понимая, что же все-таки на самом деле происходит на площадке для гольфа.
– И чего я всегда лезу не в свое дело… – проворчал он, однако, едва сев за компьютер, открыл страницу со списками завсегдатаев клуба: Гален, Галледжер, Гарнс… Ага, вот он.
«Чпок, чпок, чпок», – донеслось с поля.
«Гингрич, Уильям. 2344 Патриция-авеню, Лос-Анджелес, 90064. Жена (Элеонора). Занятия с инструктором. Повторный курс через несколько месяцев. Постоянный игрок». Все это он забивал в компьютер собственноручно.
Форей выглянул в окно: как там этот маньяк? Подтащить ему, что ли, еще мячей? Он вынес на поле еще несколько контейнеров. На этот раз Гингрич не только не кивнул ему, но даже не посмотрел в его сторону.
Плохо соображая, что он делает, а главное, зачем, Форей на абсолютно ватных ногах направился к своему открытому спортивному автомобилю. Сев в него, он послушал еще немного доносящийся с площадки чпок-чпок-чпок и полюбовался полетом белых летающих объектов на фоне торжественно всходящей луны. После чего нажал на газ.
И что, интересно, я ей скажу? Миссис Гингрич, приезжайте и заберите своего мужа с площадки для гольфа?
Прибыв по адресу 2344 на Патриция-авеню, он обнаружил там большой дом в георгианском стиле, в окнах которого – надо заметить, не во всех – горел свет. Там явно происходила какая-то бурная жизнь: мелькали тени, слышалась музыка и чей-то мелодичный смех.
Господи, куда я, вообще, лезу? Кретин! Он резко нажал на газ и уже почти тронулся, чтобы ехать обратно, но тут в голове у него опять зазвучало троекратное «чпок, чпок, чпок»… Пришлось дать по тормозам и припарковаться у тротуара. Некоторое время он сидел в машине, в задумчивости кусая нижнюю губу и периодически матерясь себе под нос. Потом все-таки вылез и подошел к подъезду. Еще пару минут он простоял перед входной дверью, покачиваясь с пятки на носок и слушая доносящиеся из дома голоса и музыку. После чего надавил на кнопку звонка почти с той же страстью, с какой его одинокий игрок лупил по мячам. Ответом ему была тишина. Он позвонил еще раз. Тишина, если вообще такое бывает, усилилась. Тогда он позвонил троекратно: раз, два, три. Прозвучали три звонка – один громче другого.
И вот после долгой паузы дверь наконец открылась и из-за нее выглянула женщина. Вид у нее был растрепанный и взмокший. Скользнув глазами по лицу Форея, она проговорила:
– Простите?
– Миссис Гингрич? – спросил он.
– Что вы сказали, простите?
Она явно выглядела смущенной и постоянно оглядывалась куда-то через плечо. И Форей очень быстро понял куда. В дверном проеме в глубине коридора он разглядел силуэт мужчины, во всяком случае, ему так показалось.
– Так что вы хотели? – скороговоркой переспросила она.
Он снова стал раскачиваться с пятки на носок. Раз, два, три. Чпок-чпок-чпок. Хренак, хренак, хренак! Проклятые звуки так и прыгали у него в ушах… И вдруг, неожиданно для самого себя, Форей облизнул пересохшие губы, прищурился и выпалил:
– Я – Гингрич.
– Как вы сказали? – испуганно пробормотала она.
– Гингрич! Уильям Гингрич! – отчетливо и громко произнес он.
– Но вы же не мой муж!
– Был не ваш, а теперь ваш!
С этими словами он размахнулся и ударил ее кулаком в лицо. Прикрыв рукой разбитые губы, она рухнула навзничь, а он крикнул в глубину коридора:
– Если кому-то еще охота получить люлей, подходите, не стесняйтесь!
Силуэт в дверном проеме не сдвинулся с места. Тогда Форей повернулся и точно так же, на ватных ногах, добрел до своей машины и уехал.
На площадке для гольфа все было по-прежнему: робот с клюшкой, в котором при желании можно было узнать Гингрича, без остановки запускал в космос белые летающие объекты. Замахнулся – ударил, замахнулся – ударил, замахнулся – ударил…
На этот раз Форей вышел на поле с сумкой для клюшек.
Гингрич на секунду отвлекся.
– Что, пора? – спросил он, указывая взглядом на сумку.
– Не хотите партию напоследок? – предложил Форей.
Гингрич посмотрел на сетчатое заграждение, за которым начинался старт.
– А не поздно?
– Лучше поздно, чем никогда. Я понесу клюшки.
– Чтоб мне сдохнуть! – сказал Гингрич.
– Ну уж нет, этого я не допущу. – сказал Форей.
– Не видно же ни черта… – пробормотал Гингрич.
– Ничего, что-нибудь увидим! – Форей кивнул на небо, на котором уже вовсю хозяйничала полная луна, освещая лужайки с лунками и отражаясь в водах небольшого озерца.
В верхушках дубов шумел ветер.
– Чтоб мне сдохнуть! – шепотом повторил Гингрич.
Форей провел его через заграждение к первой позиции.
– Вы начинаете, – сказал он и выставил для него мяч и метку.
Все это время Гингрич не сводил с него глаз.
Наконец Форей отошел, а Гингрич встал в стойку, замахнулся своей длинной клюшкой и шарахнул так, что задрожала земля.
Мяч взмыл в небо, как будто у него выросли крылья, и, судя по всему, минуя фервей, залетел сразу в грин[85].
– Ах ты ж, сука! – восхищенно воскликнул Гингрич. – Жеваный карась!
– Эй, там, поберегись! – крикнул Форей, хотя впереди не было никого, кому следовало бы поберечься.
А может, кто-то и был. Какой-нибудь… силуэт.
– Поберегись!
Мой сын Макс
Так уж случилось, что я умею читать по губам. Этому искусству я научился еще в детстве, когда рос вместе со своими двоюродными братьями. Оба они от природы плохо слышали, и для них это был просто «язык». Лет в девять мне казалось, что мы с ними самые крутые ребята из всех, ведь это давало нам возможность считывать любые секреты. Уже тогда я мог без труда улавливать речь, находясь в другом конце комнаты, а говорящий об этом даже не подозревал!
Разумеется, я всегда хранил это умение в тайне от всех. Не стану же я кому-то рассказывать о том, что мне доступен каждый слог, который срывается с губ у любого, кто попадает в пределы моей видимости? А пределы эти, поверьте, достаточно велики, наверное, метров семьдесят. Люди могут вообще ничего не произносить вслух – просто беззвучно сболтнуть что-нибудь себе под нос, но мне-то все равно видно. И поверьте, всегда есть повод повеселиться.
Будучи вооружен таким умением, я могу совершенно один сидеть в ресторане и при этом чувствовать себя так, как будто я обедаю в кругу семьи. На кого ни бросишь взгляд, при условии, что он повернут к тебе лицом, он сразу становится или твоим братом, или сестрой, или отцом, или матерью, или какой-нибудь пожилой незамужней тетушкой… Ну, а если не хочешь никого «слушать», пожалуйста. Просто ни на кого не смотри. Сиди себе любуйся вином в бокале, бифштексом, столовыми приборами или, к примеру, люстрой на потолке.
Впрочем, в тот вечер мне было явно не до люстры.
Официант как раз закончил принимать у меня заказ, когда за столик напротив уселось одно семейство – так близко от меня, что даже если бы мне было не видно, что там льется у них изо рта – мед или яд, – то при желании я смог бы это расслышать.
Это была красивая семейная пара, в возрасте уже за сорок, и с ними их двадцатилетний сын, который был не просто им под стать, а намного превосходил их красотой черт. То есть настолько хорош, что при виде его сразу же думалось: да, этот разобьет еще немало сердец, причем не только женских, но и мужских. Такие создания для того и являются на эту землю, чтобы все сходили по ним с ума.
Не знаю уж, что у них там произошло, но на них было грустно смотреть: и родители, и их ангелоподобный сынок сидели, уткнувшись в свои меню, с таким видом, как будто там были изложены их ближайшие планы на жизнь. Мать держалась спокойно, чего нельзя было сказать об отце семейства: он выглядел сильно подавленным и даже внутренне сломленным. Особенно впечатлял его потухший взгляд, в котором не было уже места ни упреку, ни недовольству – осталось одно лишь горькое смирение…
Не сразу, но я все-таки понял, в чем дело. Проблема была в том, что сын – а это был их единственный сын – не собирается когда-либо жениться. Вообще. Это означало, что у него никогда не будет детей и их род никогда не получит продолжения. Все так и закончится здесь, за этим столиком, отныне и навсегда. И им придется смириться с тем, что их отпрыск, столь обожаемый всеми, абсолютно несостоятелен и не приспособлен к нормальной жизни. Да, наверное, другой отец в такой ситуации сказал бы сыну «я прокляну тебя навеки» или вообще выгнал его из дома. Но этот был явно не из таких. Он просто целиком погрузился в отчаяние и, кажется, не собирался оттуда выныривать. Это выглядело как крах всех надежд и ожиданий. Похоже, все, что ему нужно было от сына – это семья. Неважно, хорошая или плохая – просто полноценная семья…
Они заказали вино, наполнили бокалы и принялись молча пить. В этот момент я смог рассмотреть их получше.
И вдруг меня осенило. Я же уже видел их здесь! Боже мой, ну, конечно, это было примерно год назад. И они так же разговаривали, а я «слушал». Значит, это вторая серия – той, прошлогодней истории. И теперь я узнаю, что успело произойти за этот год! Надо сказать, по части семейных драм они остались верны себе. Правда, если мне не изменяла память, в прошлом году драматизма было на порядок больше.
Расположившись поудобнее, как в театральном партере, я весь превратился во внимание. Я смотрел на их губы, ловил случайно долетавшие слова и вскоре восстановил в памяти всю картину их жизни – вместе с тем чудовищным недоеденным обедом, который случился тут год назад. Когда отец в гневе выскочил из-за стола и, на глазах покрываясь пятнами всех цветов и оттенков, зашагал к выходу, а мать бросилась за ним вдогонку, умоляя вернуться. А потом оставшийся в гордом одиночестве сын еще долго сидел и допивал свое вино, после чего заплатил по счету и поспешил как можно более незаметно уйти.
Мне показалось, что по сравнению с прошлым январем все Робинсоны – насколько я слышал, именно так обращался к ним метрдотель – выглядели намного лучше и свежее. Наверное, год назад удар был слишком для них велик. Состояние шока, немой ужас, недоверие и гнев, переходящий в бешенство, еще никогда никого не украшали, а именно все вышеперечисленное творилось с отцом во время исповеди, которую устроил тогда их сын. Картина дополнялась тем, что лицо отца с каждым новым признанием становилось все более красным, при этом жена его синхронно с ним бледнела, а сын в своем смущении умудрялся совмещать оба эти процесса.
Когда юноша понял, что его исповедь как-то не очень сильно приносит пользу душе, было уже слишком поздно. Его честный рассказ, в котором он правдиво изложил подробности своей тайной жизни, не только не возымел никакого положительного эффекта, но и привел родителей в состояние, близкое к коме…
И вот теперь я сидел и ждал, а они все пили и пили. Ради интереса я стал считать количество бокалов вина, которые выпил отец, видимо, таким образом пытаясь набраться решимости и развязать себе язык. Судя по всему, ему это удалось, потому что, когда он начал говорить, вид у него был почти что радостный. И он очень четко выговаривал все слова, как будто специально, чтобы мне было легче их читать.
– Ну, а теперь послушайте меня, – подавшись всем телом вперед, весомо произнес он. – Я должен кое-что вам рассказать. – Он налил им еще вина. – Кажется, это было совсем недавно – когда мы обедали здесь на прошлый Новый год… И вот уже опять почти Рождество. Считай, год прошел с того дня, как ты, Рональд, посвятил нас в подробности своей интимной жизни и этим, мягко говоря… привел нас в замешательство. Мягко говоря! Не скрою, мы и сами что-то подозревали, но, по вполне понятным причинам, предпочитали жить «в неведении». Пребывать в иллюзиях о том, что в нашей семье такие вещи невозможны. Но когда мы познакомились с некоторыми из твоих друзей, вот это уже был настоящий удар. Мы чувствовали себя так, как будто по нам проехал каток! Мы были полностью раздавлены. Мне трудно тебе в этом признаваться, но это правда. Мне тогда понадобился месяц, чтобы хоть как-то прийти в себя – целый месяц бессонных ночей и тревожных мыслей. Ну, а теперь – о главном. В конце марта у меня случился еще один… каток. Но на этот раз эффект был обратным – у меня словно выросли крылья. Признаюсь, до этого я чувствовал себя, как крыса, запертая в лабиринте, из которого нет выхода. Ты ведь наш единственный сын. И в какой-то момент я понял, что это бесполезное занятие – пытаться убедить тебя, что тебе надо стать таким, как все… Жениться хотя бы для вида и завести детей… Не знаю, каков процент таких случаев в законных браках. Но они точно есть – просто мы не знаем об этом, – или горькая правда вскрывается уже после развода. В общем, после нескольких неудачных попыток с тобой договориться я понял, что полагаться на тебя в плане будущего не стоит. Ты просто не хотел меня слышать…
Молодой человек со стуком поставил на стол пустой бокал.
– Папа, ради бога, давай уже к делу!
– А я что, по-твоему, говорю не дело? – сказал отец, слыша себя и не веря своим ушам.
– Можно, и правда, немного поближе к существу вопроса? – мягко заметила супруга. – К чему ты все это ведешь?
Отец опустил голову в некотором смущении. Потом снова поднял ее, увидел, что бокалы пусты, и снова налил всем вина.
– Так вот. Ты помнишь мою секретаршу мисс Гилхэм?
– Такая симпатичная, с длинными ногами? – уточнила жена.
– Заметила, значит… – Отец снова опустил голову и слегка покраснел.
– Кажется, я понял, куда ты клонишь! – сказал молодой человек.
– Боюсь, что ты неправильно понял.
– А вот я поняла все правильно! – сказала жена.
– Не думаю. Тут все гораздо сложней. И одновременно проще. В общем, я предоставил ей годичный отпуск с сохранением содержания.
– Для чего? – настороженно спросила жена.
– По уходу за ребенком. Моим.
– Так-так, очень интересно! – воскликнула жена. – Ну, и что же дальше?
Вместо ответа он вышел из-за стола и, сказав «Сейчас приду…», бодро направился в сторону туалета. Наверное, чтобы дать жене и сыну время прийти в себя после очередного «катка».
– О господи, – пробормотал молодой человек. – Похоже, он совсем спятил.
– Если бы… – сказала мать.
После этого они сидели молча и ждали, пока отец вернется. Он вернулся, сел за стол, выпил еще вина и сказал, стараясь не смотреть им в глаза:
– Ну?
– Что – ну? – спросил сын. – Подкинул нам бомбу, а сам сбежал в туалет? Что за странные шутки? Довольно жестоко с твоей стороны так делать. Даже если бы ты решил разыграть таким образом кого-то одного из нас, это был бы уже перебор. Но сразу двоих – это просто за гранью!
– Уж извините, по-другому я не мог, – сказал отец. – Сидеть и рассказывать все это каждому из вас наедине – это было бы слишком. А теперь, пока вы не наговорили мне чего-нибудь еще…
– Вообще-то пока что мы не сказали тебе ни слова… – заметила жена.
– Но я не собираюсь уходить из дома… – продолжал муж. – И не хочу с тобой разводиться. Я по-прежнему очень тебя люблю. И у меня больше нет нужды встречаться с ней… в смысле с секретаршей. Только раз в неделю, чтобы передать чек…
– Извини, я тебе не верю, – сказала жена.
– Я же сказал, у меня с ней больше ничего не будет. Никогда. Просто на Рождество у нее родится мой ребенок. По-моему, прекрасное время для появления на свет. А самое прекрасное и самое главное – что это будет мальчик!
Он откинулся на спинку стула и обвел всех сияющим взором, как будто ожидал, что они тоже разделят с ним эту радость.
Вопреки его ожиданиям, жена только глубоко вздохнула и с мрачным видом ушла в себя, явно решив воздержаться от комментариев.
А сын резко встал из-за стола и швырнул в тарелку скомканную салфетку.
– Что, придумал хороший способ, чтобы меня задеть? – сказал он.
– Да нет, это всего лишь ответная реакция, – пожал плечами отец. – Невозможно жить вообще без будущего. Я чувствовал, что это меня убивает. Надо было что-то с этим делать. И вдруг, в один прекрасный день, все встало на свои места… Я понял, что надо просто начать все сначала. Найти подходящую женщину, которая родит мне мальчика, и дать ему свою фамилию. И тогда лет через двадцать – бац! Готово бессмертие! У нового поколения родятся дети, а у них – еще дети… И может быть, тогда, с божьей помощью, в мире опять наступит порядок!
– А эта дура на все согласилась! – воскликнул сын. – На все твои безумные затеи!
– Не такая уж она и дура: она все отлично понимает. Просто она – очень хороший человек. Про нее все так и говорят – muy simpatica [86]. Она же видела меня каждый день, в какой я пребываю депрессии. Что я живу как на кладбище, потому что мой вполне живой на первый взгляд сын – на самом деле мертв! Она сама догадалась, как крикнуть Лазарю: «Иди вон!» И вот теперь я снова среди живых. Через двадцать лет мне будет… ну, где-то под семьдесят. А разве это плохо – быть счастливым в семьдесят лет? Мальчик будет носить нашу фамилию. Встречаться с ним тебе не придется – об этом можешь не беспокоиться. Осталось понять главное: сможем ли мы все жить после этого так же, как прежде? Будет ли меня любить моя жена, несмотря на все это безумие? Не перестанет ли со мной общаться мой старший сын? Я очень надеюсь найти в ваших сердцах пусть и самое худое, кривенькое и косенькое, но понимание. И, несмотря ни на что, любовь… А вот и тележка с десертом. Очень вовремя!
Пока отец выбирал для них клубничные пирожные, сын наклонился и угрожающе навис над столом.
– И как же ты хочешь назвать этого… этого… – Он запнулся и покраснел.
– Ублюдка?
– Нет!
– Ты хотел сказать – «ублюдка». Так говори, не стесняйся.
– Ну, хорошо – ублюдка!
– Полегчало? Да, я уже придумал для него имя. Его будут звать – Максимилиан…
– Максимилиан?!
– Сокращенно Макс. Мой сын Макс. По-моему, совсем неплохо звучит. А? Как думаешь? Даже есть что-то царственное. Мой сын – Макс…
– И что, как только я съеду из своей комнаты, он сразу же в ней поселится?
– А зачем тебе съезжать из своей комнаты? В этом нет никакой необходимости. Кроме того, в мои планы совсем не входило вешать на твою мать такое бремя. Моя секретарша всегда мечтала о радостях материнства: она готова тетешкаться с младенцем хоть все двадцать лет. Конечно, я буду навещать его на неделе – раз шесть или семь, как получится – и забирать на прогулку. Должен же быть у ребенка нормальный отец…
Подошел официант и поставил на стол три чашечки кофе. И после этого надолго воцарилось молчание.
– Мама! – Первым не выдержал Рональд. – Неужели ты так ничего и не скажешь?
– Да-да, конечно… – Она нахмурилась, как будто пыталась подобрать слова, а потом выпалила: – А! Гори оно все огнем…
На этот раз из ресторана выскочил в гневе уже не отец, а сын. Он несся, как корабль на всех парусах, разрезая пространство своим безупречно красивым носом. Мать, разумеется, побежала за ним вдогонку.
А отец, напротив, остался сидеть на месте. Сначала он не спеша, обстоятельно оплатил счет, потом неторопливо допил оставшееся вино и только после этого встал и направился к выходу. Проходя мимо меня, он остановился и, не поворачиваясь, тихо спросил:
– Вы что, умеете читать по губам?
– Что вы сказали?
Он обернулся и посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. Я заметил, что у него серые глаза.
– Вы, наверное, выросли в семье глухонемых? – спросил он.
– Что-то вроде того, – с неохотой подтвердил я.
– Все понятно. Вы, наверное, писатель?
– Как вы догадались?
– Ну, а кому же еще может это понадобиться – смотреть на губы и считывать с них сюжеты из реальной жизни? Ну, и как вам, кстати, вся эта история?
– Если честно, я не все разобрал, – соврал я.
Отец засмеялся и покачал головой.
– Да все вы прекрасно разобрали… Но не переживайте, все в порядке. В том, что я говорил, нет ни слова правды.
Я чуть не выронил десертную ложку.
– То есть?!
– Ну, должен же я был что-то придумать. Целый год ломал голову, что же мне такое придумать, чтобы его зацепило. А сегодня вдруг – бац! Все и придумалось. А вы что, правда напишете об этом рассказ?
– Да нет… Хотя… Может, и напишу. Не знаю. А вообще…
– Что – вообще?
Я проглотил комок.
– Жаль. Мне искренне жаль, что все это неправда…
Он вытащил из нагрудного кармана сигару и сначала долго смотрел на нее. Потом долго искал зажигалку. Потом наконец закурил и, выпустив огромное облако дыма, долго наблюдал за тем, как оно висит в воздухе, постепенно меняя свои очертания. В конце концов оно совсем исчезло, а у него на глазах появились слезы.
– А мне-то как жаль, сынок… – Он вздохнул и направился к выходу. – Если б ты только знал…
Через некоторое время я попросил официанта открыть мне еще одну бутылку вина. Разливая ее, он спросил:
– Вы думаете, вам удастся все это выпить в одиночку?
– Во всяком случае, я попробую, – сказал я. – Дайте мне такую возможность.
Аккумулятор Скотта Фицджеральда/Толстого/ Ахава[87]
– А с чего это вдруг ты решил все перебрать, пересмотреть и перестроить? – спросил меня мой приятель Билли Барлоу, имея в виду мою Машину времени.
– Во-первых, – ответил я, – я хочу пройти сквозь время и пространство – найти там Мелвилла[88], По[89], Уайльда[90], когда они уже лежат на смертном одре, и показать им современные издания их книг, чтобы они узнали о своей славе до того, как умрут… А во-вторых, я хочу разыскать всех этих несчастных, пока они еще молоды, и попытаться сделать их счастливыми. Ты только представь себе, сколько их было за все время, талантливых, одним взмахом пера создающих шедевры и при этом прозябающих в нищете!
– О чем ты говоришь – писатели почти все такие… – сказал Билли. – Талантливые и прозябающие в нищете.
– Вот как раз над этим я и собираюсь работать!
– Не смеши меня, – скривился Билли. – Интересно, с помощью каких таких божьих чудес ты собираешься это делать? Или, может, попросишь гения из волшебной лампы, чтобы выполнил три желания? Или…
– Ладно, замолчи уже. Видел машину, которая стоит в библиотеке?
– Это которая в виде гигантской бабочки? Может, она у тебя и крыльями машет?
– Нет, просто делает ж-ж-ж и исчезает.
– И чем громче ж-ж-ж, тем дальше залетает в Прошлое?
– Именно так. А вот список. Заблудших душ.
Билли с недовольным видом уставился в список.
– Хемингуэй?[91] Мелвилл? Эти уж точно безнадежны… Толстой? Он-то что здесь делает? Фрэнсис Скотт Фицджеральд со своей Зельдой?[92] Эти алкаши?
– Дай сюда! – Я выхватил у него список, сел в машину, поднял рычаг и сказал: – Все, меня нет.
Машина зажужжала.
И меня точно уже не было. Во всяком случае, там, где я был секунду назад.
Большая целлофановая бабочка спланировала возле дома Папаши – в Айдахо[93]. При этом я не имел ни малейшего представления о том, что я ему скажу…
Я освободился из-под вибрирующих золотистых крыльев и поднялся по ступенькам. Но не успел я постучать, как дверь распахнулась сама. На пороге стоял Хемингуэй.
Вид у него был такой, как будто он не спал всю ночь. Более того, на его широком бледном лице можно было прочесть даже, что он ожидал чего-то подобного. В смысле – моего появления.
Ни слова не говоря, он прошел в холл, сел за свой стол, а мне кивнул на соседнее кресло. Еще издали я заметил на столе блестящий металлический предмет, который вблизи оказался африканским стальным охотничьим ружьем, видимо, тем самым, что когда-то перекликалось с эхом на склонах Килиманджаро и стреляло в белых, как кенийская пыль, слонов[94]. Рядом с ним лежал скромный двуствольный дробовик.
Кроме того, на столе я заметил два стакана с неразбавленной граппой. Я протянул руку, чтобы взять один из них – в это время Папаша уже опрокинул свой, прямо не запивая.
– Ну, так и что? – сказал он.
– Не делайте этого… – Я демонстративно отвел взгляд от стола.
– Чего – «этого»?
– Вы знаете, о чем я…
– Да я ничего такого и не собирался, – сказал Папаша.
– Но вы же… думали об этом.
– Вы что, умеете читать мысли?
– Нет. Просто я читал ваши рассказы. В одном из них был доктор, это же ваш отец, верно? Ни для кого не секрет, что с ним произошло.
– Ну, допустим, не секрет.
– А вы, насколько мне известно, держите у себя его ружье.
– Ну да, где-то валяется, и что с того?
– О’кей, скажу прямо, без фигур речи. Если вы сделаете эту… очевидную глупость, люди все неправильно поймут и безбожно переврут все причины.
– Причины и не столь важны, если уходить действительно пора.
– Это не ваши мысли. Это то, что потом напишут исследователи вашего творчества. Те самые, которые сначала нассут на вашу могилу, а потом изменят название вашего романа на «Солнце не встает никогда»[95].
– Нет, они не смогут. Так же нельзя… Что сделано, то сделано. Я, конечно, не хвастаюсь, но…
– Ничего, хвастайтесь, вам можно… Вы же Папаша.
Папаша едва улыбнулся краем губ и закурил сигарету.
– И давно вы меня читаете?
– Класса с восьмого. Помню, я прятал вас под учебником алгебры.
– Прекрасное место, я польщен! И чем же вам приглянулось «Солнце…»?
– Это было так, как будто тебе открыли дверь… даже нет, распахнули ворота, а за ними – огромный удивительный мир, который так и хлынул тебе навстречу. Мир, полный красивых женщин и тореадоров с породистыми спинами… Мир, в котором надо еще суметь выжить, когда ты уже перестал быть мужчиной…
– Нечего сказать, важная информация для ребенка.
– Тогда она мне была нужна позарез… Но вы не уводите от темы. Если вы сейчас уйдете…
– Я еще пока никуда не ушел.
– Я говорю: если вы уйдете, они съедят вас с потрохами!
– Пусть сначала попробуют до них добраться.
– Будьте спокойны – доберутся. Сожрут все, вплоть до кишок, проблюются – а потом сожрут по второму разу!
– Но мужское достоинство-то хотя бы не тронут?
– Какой там – оно будет съедено в первую очередь…
– Да что они, гиены, что ли?
– А также дикие собаки, грифы и акулы в одном лице!
– Весь Гарвард?
– А к нему в придачу весь университет штата Огайо!
– Солидный список… – Папаша бросил на меня внимательный взгляд. – А вам-то что за дело до всего этого? Зачем вы сюда явились? Может быть, вы просто псих?
– Нет, просто поклонник.
– Врете и не краснеете.
– А чего мне краснеть, если это правда.
– Истинно верующий в меня, значит. Ну-ну.
– Просто люблю, когда кто-то хорошо пишет. Нет, не гениально – просто хорошо.
– Да, это как раз про меня… – вздохнул Папаша.
– Вы и сейчас могли бы хорошо писать!
– Ну, конечно… С разрывом селезенки, двумя сломанными ребрами, раздробленной берцовой костью и проломленным черепом.
– Вот именно! Ваше дело – только допустить до себя врачей. Пусть займутся вами хорошенько и вылечат наконец ваши ребра, ногу и голову. Поверьте, как только они подлатают вам тело, и нервы придут в порядок, и боль пройдет. И тогда уже точно…
– Я снова смогу нормально писать?
– Сможете!
– Не думаю, что у меня хватит сил этого дождаться… – сказал он. – Вам не понять, насколько это мерзко: когда ты встаешь рано утром, садишься за машинку и работаешь, работаешь, а потом видишь, что написал полную чушь, и тут же присасываешься к бутылке… Да и кому, в сущности, все это нужно?
– Вам! Нет, мне! Да-да, мне, черт возьми!
– А вы эгоист, я погляжу.
– Уж какой есть.
Он прищурился на меня.
– Вам бы философские трактаты писать.
– При чем тут философия? Речь об элементарной гигиене…
Папаша бросил выразительный взгляд на дверь.
– Знаете что, идите-ка отсюда, а?
– Сначала отдайте мне свои ружья.
– Вы что, совсем спятили?
– Нет, это вы спятили. Просто обезумели от постоянной боли. А вовсе не стали хуже писать. Да-да, вы просто сильно больны. Скажите, как может человек думать, когда у него все болит? Это все равно что писать в состоянии тяжелого похмелья. Критики, которые ругают ваши последние вещи, почему-то напрочь забывают о той авиакатастрофе в Африке. Это же после нее все началось: и боли, и помешательство… А может, всего через неделю вы проснетесь, а в груди ничего не колет, с ногой все в порядке, голова не болит… И тогда вы скажете себе: господи, что за безумие со мной было!
– А сейчас я, по-вашему, безумен?
– Да. И я здесь для того, чтобы вам об этом сказать.
– Ну что, сказали?
– Так сказал, что едва на ногах держусь… Папаша, имейте в виду: если вы сделаете это, они переназовут ваш рассказ в «Недолгое НЕсчастье Фрэнсиса Макомбера»[96]. А также издадут роман «По ком НЕ звонит колокол». Это вы понимаете?
– Да, пожалуй, после такого третья авиакатастрофа уже не понадобится…
– Ну, тогда, значит… – Я потянулся за ружьями.
– Не стоит, – покачал головой Папаша, – я найду другой способ.
– Лучше примите четыре таблетки аспирина, – сказал я, – чтобы унять боль. А я вам завтра позвоню.
Я направился к входной двери.
– Как вас зовут? – спросил он.
Я сказал.
– Живите счастливо.
– Нет, это вы – вы живите счастливо!
С этими словами я вышел за дверь.
Я успел отойти от дома метра на полтора, не больше – и тут же раздался громкий хлопок. Я зажмурился и побежал.
Гигантская данаида-монарх с шуршаньем сложила крылья и замерла.
Сквозь стеклянную дверь я увидел следующее: пасмурное небо, офис таможенного склада Нантакета, там сидит старик и непрерывно ставит штемпели на бланках.
Я подошел и спросил:
– Мистер Мелвилл?
Он взглянул на меня подслеповатыми глазами старой морской черепахи.
– Что вам угодно, сэр? – спросил он.
– Не хотите немного перекусить… сэр?
Старик прислушался к себе, пытаясь понять, насколько он голоден. А я продолжил свою мысль:
– Можно сначала пообедать, а потом прогуляться по причалу… – Чтобы придать своим словам вес, я вытянул вперед обе руки: в одной был пакет с яблоками и апельсинами, а в другой – книга без названия.
После просмотра книги дело сдвинулось: ценой невероятных усилий он засунул себя в пальто, и мы вместе вышли на улицу, которая из-за пасмурной погоды казалась погруженной в сумрак. Повернувшись к морю спиной, старик спросил:
– Вы что, критик? Из Бостона?
– Нет, – сказал я. – Я – просто читатель.
– Не бывает «просто читателей», – сказал старик, – бывают библиотечные люди или не библиотечные. Ведь там, в библиотеках, особый воздух. У того, кто им дышит, и кости крепче, и глаза ярче, и слух острее. И с каждым новым вдохом организм обновляется. И хочется заплыть на самую глубину – туда, где все существа слепые. Чтобы они затащили тебя еще глубже, несмотря на то что разум шепчет тебе: пора наверх… Ты утонешь, но останешься жив, потому что сам превратишься в остров, и безбрежное море будет плескаться прямо вокруг тебя… Нет, не бывает «просто читателей». Бывают те, кому удалось уцелеть в этих волнах, путешествуя вместе с прибоем к берегам Шекспира, Поупа, Мольера… К этим могучим маякам, дающим ориентиры всему нашему существованию. Помогающим нам пережить самые страшные бури… Все! Замолкаю! – спохватился он. – А то с таким потоком красноречия на чтение и времени не останется. – Он улыбнулся краешками губ. – Лучше скажите, зачем вы привели меня на причал?
– Я хотел кое-что сказать вам, сэр. Посмотрите туда. Вот оно перед вами – море. И ваше место там, а не на суше! Вы должны жить в море!
– И обогнуть мыс Доброй Надежды? И неожиданно вырулить в Китай? – усмехнулся он.
– Почему бы и нет?
– Посмотрите на мои стариковские руки, видите? У меня уже тремор от этой чертовой таможенной печати…
– Нет, я вижу совсем другое! – сказал я. – Я вижу морского волка, стоящего на борту корабля. Рядом с ним – темнокожий островитянин, весь в татуировках, и растерянный первый помощник капитана… Да-да, капитана – этого безумца, который не боится ни бога, ни черта! Боже мой, Мелвилл! Что вы делаете тут, на суше? Вам же принадлежит море! Вы как тот античный бог, которого невозможно убить, пока он на земле. Достаточно ему коснуться ее – и он воскресает снова. Но отнимите землю у него из-под ног – и его сила тут же уйдет. Вы – такой же, только наоборот. Ваша сила не в земле, а в воде! Так поднимите же якоря, станьте опять морским волком, бороздящим океанские просторы, раскиньте руки навстречу штормам, которые гонят своими хвостами белые киты! Брейтесь при свете огней святого Эльма! Оставьте сушу, забудьте берег… К черту это огромное кладбище с городами вместо могил, с домами вместо гробов! К черту эту вонючую пристань, где никогда не бывает солнца… Вы же сами роете себе здесь могилу! Бегите отсюда, выкиньте вашу дурацкую таможенную печать, станьте снова молодым, ныряйте в море прямо с мачты, плавайте до ночи, мечтайте о сказочных островах! Собственно, это все, что я хотел вам сказать.
– Начитались Шекспира?
– Простите, если что не так.
– В таком случае вы тоже меня простите: это ведь я надоумил людей освещать города, сжигая в фонарях жир Белого Кита… Вы христианин?
– Все мы ходим под Богом.
– Тогда попрошу вас запастись ненадолго христианским смирением: я должен решить судьбы кораблей и угадать время приливов и отливов…
Некоторое время старик Мелвилл смотрел вдаль, затем перевел взгляд на стены таможни, насквозь пропитанные морской солью, но никогда не слыхавшие ничего, кроме стука штемпеля, который ставится на формуляры всех уплывающих и приплывающих кораблей.
– А как же Джек? – прошептал я, и Мелвилл невольно вздрогнул.
Джек – славный парень, прекрасный и телом, и лицом. Молодой Христос, который никогда не был в Галилее. Ну, конечно, Джек… Лучшего попутчика для плавания, чем он, просто не может быть. Только разве что утреннее солнце. А еще Готорн[97]. Надо обязательно выкрасть из Времени и его. С ним уж точно будет о чем поговорить! Да, пожалуй, без Готорна настоящего праздника Времени не получится. У каждого из этих двоих – своя роль… Готорн – для громких будней. Джек, наоборот, – для тишины. Он умеет молчать, он смотрит на тебя так, что сжимается сердце и к глазам подступают слезы. С ним так хорошо ночью сидеть на палубе и слушать плеск волн. Или встречать рассвет…
– Джек? – шепотом повторил Герман Мелвилл. – Разве он еще жив?
– Я мог бы его оживить.
– А что у вас за машина? Она от бога или от дьявола? Или Время в ней, как истинный атеист, свободно от всего?
– Боюсь, сэр, это невозможно объяснить. Считайте, что это центрифуга, которая крутится и отшвыривает от себя годы, возвращая нам молодость.
– И вы действительно смогли бы это делать?
– И даже получить корону короля Ричарда!
Мелвилл попытался сдвинуться с места.
– Вот черт… – проворчал он. – Кажется, я не могу идти…
– Ну, попробуйте еще раз!
– Поздно, – сказал он. – Я уже ни туда ни сюда. Ни рыба ни мясо… На суше – Стоунхендж, в море – тону. Может быть, есть что-нибудь, что «между»?
– Есть, – сказал я и коснулся своей головы. – Оно вот здесь. И здесь, – добавил я, коснувшись сердца.
В глазах старика блеснули слезы.
– Если бы только можно было поселиться в чьей-то голове и в чьем-то сердце!
– Считайте, что вы уже там.
– Тогда, с вашего позволения, перекантуюсь там один денек. – Он всхлипнул.
– Нет уж, капитан «Пекода»[98], так не пойдет, – сказал я. – Как минимум тысячу дней!
– Держите меня, а то меня сейчас от радости хватит удар…
Я подхватил его под трясущиеся локти.
– Ох, как будто зашел в библиотеку и подышал целебным Прошлым! – сказал он. – А все благодаря вам. Посмотрите-ка, может, я правда стал выше ростом? Обновился? Или, может, голос стал звонче?
– Намного звонче.
– А руки?
– Как у юнги.
– И что, прямо вот так, взять и сняться с якоря?
– Прямо вот так.
– Что и говорить, это было бы неплохо… Только вот, боюсь, с таких якорей уже не получится сняться… – Он показал рукой на свои ноги. – В любом случае спасибо вам огромное. Пусть даже это чудо останется на словах – для меня это все равно настоящее чудо. Спасибо…
И старик поплелся обратно по направлению к своему таможенному складу.
Мне казалось, что я вижу его в тысяче километров отсюда – и он все по-прежнему сидит в сумраке, и рука со штемпелем то взлетает, то падает, то вверх, то вниз. А потом еще дальше – и там он все так же ставит и ставит печать на таможенные бланки, уже с закрытыми глазами, уже почти ослепнув, и все ставит, и ставит… Так я и шагал задом наперед, не отрывая взгляда от этой картины, пока не почувствовал, как к шее прикоснулось трепещущее крыло. Я повернулся, и супербабочка приняла меня на борт.
– Герман, идите в море! – крикнул я напоследок, но таможня уже исчезла из виду.
В одну секунду меня крутануло и выбросило в другом времени. Передо мной, впуская меня, открылась дверь большого дома, а когда она закрылась, я обнаружил, что напротив меня стоит какой-то плотный коренастый мужчина.
– Как вы сюда вошли? – спросил он.
– Спустился по печной трубе… Пролез под дверью. Простите, а кто вы?
– Граф Лев Толстой!
– Автор «Войны и мира»?
– А что, есть еще какой-нибудь? – возмущенно воскликнул он. – И все-таки, как вы сюда вошли, а главное – что вам здесь нужно?
– Я хочу помочь вам бежать отсюда!
– Бежать?!
– Да, бежать из дома. Здесь вы медленно сходите с ума. Потому что у вашей жены – бред ревности…
Граф Лев Толстой так и похолодел.
– Но откуда вы это…
– Прочитал в книгах.
– Каких еще книгах? Таких книг нет!
– Сейчас нет, но скоро они появятся! И их авторы будут утверждать, что ваша супруга предъявляла обвинения горничным, кухаркам, дочкам садовника, любовнице вашего счетовода, жене молочника и вашей племяннице!
– Прекратите! – вскричал граф Лев Толстой. – Я не желаю слушать этот вздор!
– Это неправда?
– Какая разница, правда это или нет – как вы вообще смеете об этом спрашивать!
– Но ведь ваша жена дошла уже до того, что грозится порвать все простыни, поджечь кровать, запереть вас на ключ и даже укоротить ваш modus operandi…[99]
– Правда, неправда… Виновен, невиновен… Ну, виновен, и что с того? Такая вот у меня жена! Что ж мне теперь? А кстати… что вы там советовали?
– Побег! Сбежать из дома.
– Так поступают только сопливые мальчишки…
– Ну и что?
– То есть вы предлагаете мне уподобиться малолетнему отроку? По-моему, надо быть вконец сумасшедшим, чтобы всерьез рассматривать такие предложения.
– Но это в любом случае лучше, чем быть мальчиком для битья… у маньячки.
– Говорите потише! – прошипел граф. – Она в соседней комнате!
– Ну, так идемте же скорей!
– Она спрятала мое белье!
– Ничего, постираетесь по дороге.
– По дороге куда?
– Да хоть куда-нибудь!
– И долго мне придется так прятаться?
– Пока ее не хватит кондрашка!
– Прекрасно! Но кто вы?
– Единственный человек на земле, который прочел роман «Война и мир» и запомнил имена всех персонажей! Хотите перечислю?
В этот момент кто-то начал ломиться в дальнюю дверь.
– Ваше счастье, что она заперта! – сказал я.
– А что мне взять с собой в дорогу?
– Зубную щетку! Быстро!
Я распахнул входную дверь. Граф Лев Толстой выглянул наружу.
– Там какая-то огромная бабочка из прозрачных листьев… – сказал он. – Что это?
– Спасение!
– Красивое, однако, спасение…
Теперь дверь сотрясалась так, как будто в нее ломилось стадо слонов.
– Вот ведь маньячка! – воскликнул граф.
– Ну что, надели свои… туфли для бега?
– Да у меня…
– Бегите!
Он бросился к машине, и она укрыла его внутри.
В этот момент дверь библиотеки распахнулась, и я увидел красное, как перекаленная сковородка, лицо разгневанной фурии.
– Где он?! – выкрикнула она.
– Кто? – спросил я. И тут же исчез.
Не знаю, то ли это я материализовался перед Билли Барлоу, то ли он материализовался передо мной? Но каким-то образом моя машина внедрилась на свое место в библиотеке, где как раз сидел Билли и бегло пролистывал произведения Толстого, Мелвилла и Папаши.
– Два поражения и одна победа! – сообщил я.
Захлопнув Мелвилла и закрыв Папашу, Билли улыбнулся Толстому.
– Я все-таки уговорил графа сбежать от мадам, – сказал я.
– Ну и как, она не перевоплотилась после этого в Анну Каренину?
– В смысле не бросилась ли она под поезд? Да нет…
– Какая жалость… Ну, и куда ты теперь? Может, смотаешься в Белый дом апреля 1865-го и выкрадешь у Мэри Тодд Линкольн билеты в театр?[100]
– Чтобы она мне выцарапала глаза? Нет уж. Отдать швартовы!
И уже через секунду золотистые крылья окунулись в облако брызг мраморного фонтана возле отеля «Plaza». В то время как его струи мирно били в ночное летнее небо, внутри, едва не по пояс в воде, разгуливали красивый мужчина в смокинге и не менее эффектная женщина в серебристом вечернем платье. Они то и дело падали, хохотали, что-то выкрикивали и поднимали вверх бокалы с мартини…
– Эй! – окликнул их я. – Зельда! Скотти! На выход! Ваше время истекло!
Ну, и что ты можешь сказать в свое оправдание?
– Ну, и что ты можешь сказать в свое оправдание?
Он оторвал от уха трубку, которую только что поднял, посмотрел на нее и снова поднес к уху.
– Ты знаешь, сколько сейчас времени? – спросил он.
– У тебя что, нет часов?
– Есть, на тумбочке возле кровати.
– Сейчас шесть тридцать пять.
– О господи… И ты звонишь мне в такую рань, чтобы спросить, что я могу сказать в свое оправдание? Я еще и проснуться-то толком не успел.
– Свари себе кофе. Отель-то хоть ничего?
– Знаешь, в шесть тридцать пять мне как-то все равно, какой у меня отель. И вообще, я не люблю отели. Уже три ночи не могу здесь нормально уснуть…
– Думаешь, я тут хорошо сплю?
– Послушай, – сказал он, – я только что поднялся с постели, дай мне хотя бы надеть очки, взглянуть на часы, а потом уже продолжим, а?
– Что продолжим?
– Ты спросила, что я могу сказать, – и я готов сказать.
– Ну, так говори.
– Не по телефону же. И вообще, вот так, в двух словах, я не умею. Это займет какое-то время. Полчаса… Ну, или хотя бы минут пятнадцать… Хорошо, десять.
– Пять, – сказала она и повесила трубку.
В десять минут девятого она разлила кофе по чашкам, проследила, чтобы он взял свою, и приняла позу ожидания, глядя в потолок и скрестив на груди руки.
– Пять минут уже прошло, а мы успели только разлить кофе, – сказал он.
Она молча посмотрела на часы.
– Ну, хорошо, хорошо… – Он глотнул горячий кофе, обжегся, вытер рот, после чего закрыл глаза и сложил руки так, словно собирался молиться.
– И чего мы ждем? – спросила она.
– Вот только не надо меня торопить, – не открывая глаз, сказал он. – Сейчас я буду готов. Итак, мужчины. Начать с того, что все мужчины одинаковы…
– Можешь повторить это еще раз?
Он посидел с закрытыми глазами, выжидая, не захочет ли она развить свою мысль, а потом сказал:
– Отлично, хоть в чем-то мы с тобой сходимся. Итак, все мужчины одинаковы. То есть я похож на любого другого мужчину на этой планете. И все другие мужчины, рождавшиеся во все времена, похожи на меня. Так всегда было и так всегда будет. Это закон, данный нам свыше. Основа всего, генетический код…
– При чем здесь генетика?
Усилием воли он заставил себя сохранять самообладание и терпеливо пояснил:
– Создав Адама, Бог положил начало генетике. Извини, можно я продолжу?
Ее мрачное молчание было расценено им как знак согласия.
– Я предлагаю условно принять предположение – отложив дискуссию на другой раз – о том, что все миллиарды мужчин, которые когда-либо обитали на этой Земле – суетились, кричали, совершали всякие безумства, – что все они ничем не отличались друг от друга, кроме роста и массы тела. И я всего лишь один из них… – Он сделал паузу, но, поскольку комментариев не последовало, снова закрыл глаза, молитвенно сцепил пальцы и продолжал: – Случилось так, что наряду с этими цирковыми животными на Земле появились и другие человеческие существа, намного более достойные называться людьми, которые вынуждены были мириться с этим зверинцем, чистить клетки, приводить в порядок пещеры, гостиные, воспитывать детей, выходить из себя, входить обратно, потом опять выходить – и так до бесконечности…
– Ты вообще следишь за временем?
– Сейчас только восемь пятнадцать. Ради бога, дай мне время хотя бы до полдевятого. Ну, пожалуйста.
Она снова промолчала, значит, можно было продолжать.
– На самом деле люди вышли из пещер и перешли от охоты к оседлой жизни всего несколько сотен тысяч лет назад. То есть достаточно недавно. Сейчас я как раз пишу об этом эссе под рабочим названием «От пещер – к звездам: в начале пути»… – Она все молчала. – Впрочем, это к делу не относится. Суть в том, что за десять тысяч лет, пока человечество переживало детсадовский период, женщины перестали быть похожими на тех забитых существ, которых в случае чего можно поколотить и оттаскать за волосы. И вот в один прекрасный день они заявили мужчинам: «Довольно! А ну-ка, все встали ровно, сели рядком, подтянули носки и извольте слушать, что вам говорят!» И мужчины – которые, по сравнению с дико-пещерным уровнем тоже успели слегка, немного так, измениться, – послушно сели рядком, подтянули свои грязные носки и изволили слушать. И как ты думаешь, что они услышали?
Она все так же сидела молча, скрестив на груди руки.
– То, что они услышали, поразило их до глубины души. Речь шла о свадебной церемонии. Именно так! Сначала в общих чертах, потом все с большим количеством подробностей, и чем дальше, тем ярче и увлекательнее… Мужчины слушали и буквально теряли дар речи. Сперва просто из любопытства, потом уже с неподдельным интересом. Никто же не говорит, что надо так делать, но послушать-то незазорно… И видно, что-то такое в этом было – что-то, способное пробиться даже к сердцам этих зверей, разгуливающих без клетки. И вот уже кое-кто из них начал кивать: а почему бы, собственно, и нет? А следом за ними и все остальные: а чего, мужики, давайте, может, попробуем… Наверное, это был правильный ход. Универсальный способ заставить нас успокоиться и начать вести себя по-человечески. Поначалу добровольцев было немного, но потом все стало нарастать как снежный ком. За десятками следовали сотни, за ними – тысячи, а потом – миллионы брызжущих семенем молодых самцов, бодро отвечающих «да», при этом не имея ни малейшего представления о том, на что они соглашаются и как вообще будут жить со всем этим. Со всеми этими комплиментами, сантиментами и рыдающими невестами, за спиной которых возвышаются их отцы, подобно Великой Китайской стене, сложенной из сомнений и надежд…
Он набрал воздуха и продолжал:
– Я помню, как я стоял рядом с тобой и думал: «Господи, ну что за бред… Зачем все это? Все равно ведь надолго меня не хватит… Да, конечно, я люблю ее, очень люблю, но однажды, никому не известно где, когда и почему, я стану таким же, как и все – сойду с рельсов и, как последний кобель, отправлюсь искать на задницу приключений… И потом буду дрожать в надежде, что она не узнает, а если узнает, то сделает вид, что не знает, а если не сделает вид, то просто не придаст значения…» И каждое новое «да!», сказанное в ответ, рождало у меня в мозгу десять новых вопросов, а следующее, что я помню, – это как мы выходим и нас осыпают рисом…
Он вдруг обнаружил, что его руки, до этого судорожно сжатые у груди, теперь обращены к миру ладонями вверх, как будто готовы что-то от него принять, правда, пока неизвестно, что именно.
– Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Могу только добавить, что, сколько бы ни прошло лет – пятьсот, тысяча или миллион, неважно, – люди все равно не изменятся. Они могут переселиться на Луну, построить колонии на Марсе или в системе Альфы Центавра, но никакие высокие цели и устремления не изменят их сути. Мужчины всегда будут оставаться мужчинами – тупыми, надутыми, упрямыми, безрассудными, жестокими, агрессивными… И точно так же среди них вдруг будут рождаться книжники, поэты, воздухоплаватели, мальчишки, которые видят животных в облаках, как будто они племянники Роберта Фроста[101] или Шекспира, хотя это, конечно, ни при чем… Иной раз под толстой кожей у них спрятано мягкое сердце: они могут заплакать, если при них умирают дети или просто если кончается чья-то жизнь. Но при этом им всегда будет казаться, что в соседнем дворе и трава зеленее, и молоко гуще, даже если они доберутся до кратеров Луны и спутников Сатурна… Поверь мне, ничего не изменилось в этом мире. С одной стороны – дикие звери, которые полмиллиона лет назад с бессмысленными воплями вылезли из пещер и с тех пор очень мало изменились. С другой – представительницы другой половины человеческой расы, которые продолжают втирать им про всякие брачные ритуалы, и они все так же слушают, правда, теперь уже вполуха, вполсердца и далеко не всегда…
Ее молчание настораживало и пугало его. Поэтому ему ничего не оставалось, как продолжать:
– Вот у тебя так не бывает – каждое утро, когда я еду на работу мимо домов на нашем склоне, я почему-то думаю о людях, которые там живут… Я их совсем не знаю, но в глубине души я надеюсь, что у них все хорошо, что они счастливы, что у них в домах не пусто и не тихо. А потом, когда еду с работы вечером мимо тех же домов, то опять думаю, как они там, что делают, все ли у них в порядке… Я знаю, если перед домом прибит баскетбольный щит, это значит, здесь растет сын. А если на дорожке возле дома разбросан рис, значит, здесь дочь, и она уже выросла и, скорее всего, счастлива, но этого никогда не узнать наверняка… Остается только надеяться. И вот так каждое утро я про них думаю. И каждое утро надеюсь, что они счастливы, и прошу Господа, чтоб так и было!
Он окончательно выдохся и замолчал, снова закрыв глаза.
– Значит, в твоем представлении ты – такой? – сказала она.
– Ну да, примерно.
– И все другие мужчины мира тоже?
– Да… Как говорится, всех времен и народов.
– Надеешься укрыться за их спинами?
– А чего нам укрываться? Мы ни от кого не прячемся.
– И даже не маскируетесь?
– Нисколько.
– И прямо-таки все одинаковые?
– Все.
– То есть, по-твоему, у нас, у женщин, вообще нет никакого выбора…
– Почему? Есть, но очень небольшой. Либо вы получаете нас такими, какие мы есть, либо не получаете совсем. Просто вы – совсем другие. В вас мы видим и подруг, и любовниц, и жен, и матерей, и учительниц, и нянек. Вы очень разносторонние! Не то что мы, мужчины. У нас сторона всегда одна – работа. И то если повезет…
Он снова замолчал и все так же сидел, не открывая глаз.
– Ну, теперь – все? – спросила она.
– Думаю, да… Да.
Повисла пауза, после которой она спросила:
– Это что, такая форма извинения?
– Нет.
– Попытка рационального подхода?
– Не думаю.
– Коллективное алиби?
– Да нет же!
– Ну, тогда, может быть, ты ищешь понимания?
– А вот это уже ближе…
– И сочувствия?
– Ни в коем случае.
– И сострадания?
– О чем ты, вообще!
– А может, сопереживания?
– Господи, зачем столько пафоса?
– Тогда чего же ты хотел?!
– Я хотел, чтобы ты меня выслушала!
– Я это уже сделала.
– Ну, спасибо.
Он открыл глаза и обнаружил, что теперь с закрытыми глазами сидит она. И руки у нее больше не сцеплены на груди, а свободно висят вдоль тела.
В полной тишине он поднялся со стула, подошел к двери, открыл ее и вышел.
Едва он успел прийти в свой номер, как зазвонил телефон. Некоторое время он стоял над ним, пытаясь придать мыслям хоть какое-нибудь единое направление и только после четвертого или пятого звонка решился наконец поднять трубку.
– Крысеныш ты – вот ты кто! – донеслось оттуда.
– Знаю… – сказал он.
– И сволочь!
– Не без этого.
– А еще – невежа и хам!
– Разумеется.
– И сукин сын!
– Само собой.
– Но… – Он замер, и в трубке стало слышно, как шумно она дышит. – Я все равно тебя люблю!
– Есть! – прошептал он.
– Давай скорее приезжай домой… – сказала она.
– Уже еду!
– Только, пожалуйста, без рыданий! Терпеть не могу мужиков, которые ноют!
– Ладно, не буду…
– И еще – когда будешь заходить…
– Что?
– Не забудь запереть дверь…
– Считай, что я ее уже запер, – сказал он.
Диана де Форе
Это было осенью 1989-го. Как-то вечером, когда кладбище уже закрывалось и смотрители выгоняли загулявших посетителей, я умудрился остаться незамеченным и уже в сумерках набрел на мраморное надгробие некой Дианы де Форе, что в переводе означает «Диана лесная». И оно оказалось настолько прекрасным, что все это – крики охранников, скрип закрывающихся ворот и даже перспектива оказаться запертым на ночь на кладбище Пер-Лашез – в одну секунду померкло по сравнению с его удивительной мраморной резьбой. Я стоял потрясенный и не мог сдвинуться с места. Это было самое красивое захоронение, которое я когда-либо видел в жизни.
На мраморной плите длиной около двух метров и высотой чуть меньше полуметра в тончайших складках мрамора вырисовывалась женская фигура просто сказочной красоты. Это была юная девушка, лет восемнадцати, со сложенными на груди изящными руками, с тонким изгибом бровей и высокими скулами. Но больше всего меня поразила улыбка, которая играла у нее на губах. Едва уловимая, как будто не имеющая отношения ни к этому месту, ни к времени, ни к погоде…
Так я и стоял, пребывая в состоянии, про которое у живых людей принято говорить – у него начался приступ. Правда, обычно, если говорят «приступ», то это бывает «приступ страха», «приступ ненависти», «приступ веселья»… Но я-то знаю, что на самом деле причина любого приступа – это всегда любовь…
Все, что происходит внутри нас – все химические реакции, все это, по сути, один и тот же таинственный процесс. Нам только кажется, что у нас есть какие-то отдельные чувства, что их может быть несколько или что они могут быть смешанными… На самом деле все происходит одновременно и само собой, от нас тут ничего не зависит. Все, что нам дано – это наслаждаться результатом. Или не принимать его и бросаться на поиск новых источников для наших эмоций.
О, этот новый источник! Я склонился над ним так низко, что стоял, качаясь и едва не падая, только бы получше разглядеть ускользающую в последних лучах солнца небесную красоту, столь внезапно явившуюся мне из прошлого. От напряжения у меня даже закружилась голова.
Я прочитал надпись сверху:
«ДИАНА ДЕ ФОРЕ, 1800–1818»
– Господи, – прошептал я. – Она же умерла, когда я еще не родился…
Далее следовали высеченные на мраморе строки:
Столь скор был бег ее, что только Смерть
Догнать ее смогла.
Мне ж повезло узнать ее на час
И полюбить навек.
Под этим стояли инициалы Р. С. и постскриптум:
«Тот, кто память о ней
воплотил в камне».
Так их было двое! Двое влюбленных. Невеста – юная, как дитя. И ее возлюбленный, тот самый скульптор, который вытащил все это из холодного камня – вот эту девичью грудь, эти руки, это спящее лицо… Господи, сколько же лет он потом приходил сюда и лил слезы, разговаривая с тишиной? Этого уже не узнать.
Я склонился прямо над ее лицом, чтобы рассмотреть и запомнить каждую его деталь: волосинки в бровях, дырочки в ноздрях, ямочки в уголках губ, где притаилась улыбка… Все, что удивительным образом оказалось не подвластно ни времени, ни дождям, ни ветру.
Через какое-то время я обнаружил, что глаза мне застилает густая пелена слез – они стали капать прямо на мраморное лицо. Точеные черты начали расплываться, и мне вдруг показалось, что ее лицо… оживает. Я уже был готов в ужасе от него отпрянуть, но потом решил, что это просто иллюзия, обман зрения.
Или нет? Теперь, когда капли моих слез были у нее и на глазах, и под глазами, мне вдруг стало казаться, что это плачет она сама. И что это уже не мои, а ее собственные слезы катятся у нее по щекам и стекают в уголки губ… А в следующую секунду я увидел то, что заставило меня усомниться в собственном рассудке. Мне показалось, что под действием моих слез мраморные губы зашевелились! И я услышал слабый шепот:
– Что со мной?
Я так и замер.
– Кто здесь? – прошептали губы.
«Нет! – подумал я. – Этого не может быть!»
– Кто? – повторили губы, мокрые от моих слез.
И у меня вдруг вырвалось:
– Это – я.
– Если это правда ты, где же ты был все это время?
– Я…
– А я ведь тебя ждала.
– Мне… – снова запнулся я.
– Долго ждала! – прошептал голос, идущий откуда-то изнутри камня. – Почему ты меня бросил?
«Извини, это слишком сложно, – подумал я. – Тебе этого точно не понять. Сначала нас разлучила твоя смерть. Потом – его смерть. Твоего возлюбленного. И все это было уже сто лет назад».
– Не знаю, что и сказать… – пробормотал я.
– Скажи хоть что-нибудь, – шевельнулись ее губы.
– Ну, вот я пришел.
– Значит, Бог услышал меня!
– Ты меня простишь?
С дерева сорвался сухой лист и, прикоснувшись к ее щеке, улетел дальше.
– Конечно, прощу! Ты же снова со мной. Какая теперь разница, сколько прошло лет. Говори еще. Все говори. Что хочешь, говори…
Тогда я набрал побольше воздуха и сказал:
– Я люблю тебя.
– Наконец-то! – Это был уже не шепот, а вскрик, и я подумал, что мраморная плита сейчас треснет пополам, а оттуда, как из кокона, вылетит на волю женщина-бабочка. – Значит, я все-таки не напрасно ждала! Повтори это еще раз…
– Я люблю тебя! – отчетливо произнес я, и это была чистая правда.
– Боже! – почти простонала она. – Когда ты сказал это первый раз, я подумала: а вдруг случайно вырвалось? Но ты повторил. Значит, это правда? Спасибо. Теперь можно и отдать душу Господу… С такой правдой хорошо умирать!
– Но ведь… – начал я и осекся.
А мысленно докончил: «…ты и так уже умерла».
– Мне кажется, на свете нет ничего прекраснее любви, – продолжал вдохновенный голос из глубины мраморной плиты. – Если ты любишь, ты будешь жить вечно, потому что, даже если ты умрешь, любовь все равно останется в твоих воспоминаниях. Она не может надоесть, от нее нельзя устать. Пожалуйста, скажи мне еще раз, что ты меня любишь…
– Я люблю тебя! – сказал я.
И мне показалось, что я услышал, как там, под тяжелой плитой, затрепетало ее сердце.
– Ну вот, а теперь, – тихо сказала она, – можно поговорить и о чем-нибудь другом. Когда мы общались с тобой последний раз?
Кажется, сто семьдесят один год назад, мысленно подсчитал я.
– Это было очень давно. Прости меня…
– Куда же ты пропал тогда? Без тебя мне даже не хотелось жить… Ты что, поехал путешествовать по миру, много всего увидел… и забыл меня?
– Ну да, а когда вернулся, ты уже лежала здесь – и тогда я сделал этот памятник…
– А чем ты занимаешься сейчас?
– Я – писатель, – сказал я. – Вот собираюсь написать рассказ о старом кладбище и о красавице, к которой вернулся ее пропавший возлюбленный.
– А почему действие у тебя происходит… на кладбище? Может, лучше перенести его куда-нибудь еще?
– Я подумаю над этим.
– Боже мой, любовь моя, – прошептал голос. – Ну откуда столько печали? Иди сюда, я попробую тебя утешить.
Я сел на краешек могильной плиты.
– Вот так, – прошептала она. – А теперь возьми меня за руку.
Я накрыл рукой ее изящно сложенные мраморные руки.
– Боже, какие у тебя холодные руки! – сказала она. – Как же мне их согреть?
– Просто скажи мне то же самое, что говорил тебе я!
– Я тебя люблю?
– Да.
– Сейчас попробую… Я тебя люблю! – сказала она и немного подождала. – Слушай, они и правда становятся теплее! И все-таки мне кажется, ты что-то от меня скрываешь. А ну-ка, быстро говори!
И я сказал.
– Когда-то давно тебе было восемнадцать лет. После этого прошло больше ста лет, но тебе по-прежнему восемнадцать.
– Но как такое может быть?! Восемнадцать?
– Просто там, где ты сейчас, нет ни возраста, ни времени. Там ты всегда будешь молодой.
– Что же это за место, которое сохраняет молодость?
Я уже почти задыхался от слез, но все равно продолжал:
– Посмотри наверх, вниз, по сторонам. И тебе все станет ясно.
Повисло молчание. И я увидел, как кладбище Пер-Лашез покидает последний луч солнца. В тишине было слышно, как с деревьев падают листья.
Стук сердца под плитой стал как будто тише, и голос, когда она заговорила, тоже был совсем другим.
– О нет! – со стоном сказала она. – Это что, правда?
– Правда.
– Но ты ведь сможешь меня спасти? Ты же для этого сюда пришел?
– Нет, милая моя Диана де Форе. Я пришел просто повидаться…
– Ты же говорил, что любишь меня!
– Я и люблю. Правда, очень люблю.
– Так что же ты?!
– Как тебе объяснить… Понимаешь, я – не тот, за кого ты меня приняла. Но я действительно люблю тебя. Потому что ты – девушка, о которой я мечтал всю свою жизнь.
– Не ври, так не бывает!
– В том-то и дело, что бывает, как бы странно это ни звучало.
– Значит, все эти годы ты ждал нашей встречи точно так же, как ждала я?
– Выходит, что так.
– И ты не жалеешь о том, что ждал?
– Не жалею. Хотя, если честно, мне было одиноко…
– А теперь?
– А что теперь? Ты ведь даже не представляешь, сколько мне лет…
– Господи, какое это для нас имеет значение?
– Мне ведь уже… – Я запнулся. – Семьдесят три…
– Так много?
– Так много… – сказал я.
– Но у тебя такой молодой голос!
– Это потому, что я говорю с тобой…
Мне показалось, что прямо у меня под рукой что-то происходит – оттуда шли какие-то странные звуки. Может, она… плакала? Я молчал.
– Господи, как же все это странно… – сказала она наконец. – Милый мой, хороший… Мы с тобой как будто сидим на качалке. Когда моя сторона поднимается – ты опускаешься, когда я опускаюсь – ты поднимаешься. Неужели мы так никогда и не сможем встретиться… по-настоящему?
– Только здесь, – ответил я.
– Значит, ты еще придешь? Правда придешь – не обманешь? Не бросишь меня еще раз? – торопливо проговорила она.
– Нет. Обещаю.
– Подойди поближе, – прошептала она. – А то мне трудно говорить. Помоги мне.
Я склонил голову, и мои слезы вновь упали на ее мраморное лицо. И это действительно помогло – ее голос стал звучать громче.
– Наверное, нам уже надо прощаться, пока у тебя не кончились слезы… – сказала она.
– Прощаться?
– Сколько, ты говоришь, тебе – семьдесят три? А у тебя там кто-нибудь есть – за оградой?
– Нет. К сожалению.
– Ну, тогда ты точно придешь. И наверное, опять будешь лить слезы.
– Конечно, буду. Сплошным потоком…
– Приходи поскорее. Я должна столько всего тебе рассказать.
– Про смерть?
– Нет, милый… Про вечность! Смерти же нет. Это – просто вечность. Я научу тебя. Чтобы ты не лил больше слезы. Ну, все, пока. До встречи.
Я поднялся.
– Прощай, Диана де Форе, – сказал я.
На ее лицо спланировал сухой лист. Прощай.
И я побежал рваться в закрытые ворота и звать охранников, чтобы меня выпустили наружу. Конечно, где-то в глубине души теплилась надежда, что никто меня не услышит и я останусь на этом кладбище навсегда…
Но охранники, конечно, вышли. И открыли мне ворота.
Сверчок
Хлопнула входная дверь, и Джон Мартин, на ходу сбрасывая с себя пальто и шляпу, проворно, как фокусник, проскочил мимо жены, после чего, вынув из кармана свежую хрустящую газету, сунул пальто в шкаф, как будто это был призрак, от которого он хотел избавиться, и устремился в гостиную, на ходу успевая бегло просмотреть новости, определить по запаху степень готовности ужина и бросить через плечо пару фраз супруге, которая все это время пыталась за ним угнаться. Ему казалось, что вокруг него все еще витает еле уловимый запах поезда и зимней ночи. И только очутившись с газетой в кресле, он вдруг понял, что в доме стоит какая-то… странная тишина. Как если бы над гнездом каких-нибудь воробьев, малиновок или пеночек нависла зловещая тень ястреба и они испуганно примолкли.
Только сейчас он заметил, что в дверях комнаты, застыв, словно изваяние, стоит жена.
– Ты чего? Проходи, садись… – сказал Джон Мартин. – Да что случилось-то? Смотришь на меня так, как будто я уже покойник! Или ты из-за этих новостей? По-моему, так ничего нового. Чего еще можно было ожидать от этих уродов из городского совета? Конечно, опять повысили налоги, тарифы и все, что только можно…
– Не надо, Джон! – крикнула вдруг жена. – Не говори так!
– В смысле?
– Ты не должен все это говорить. Это… небезопасно!
– Что?! Что значит – небезопасно? Мы что, в России? Или, может быть, все-таки у себя дома?
– Не… не совсем.
– То есть как это – не совсем?
– У нас в доме – жучок! – свистящим шепотом сказала она.
– Жучок?! – От возмущения Джон Мартин подался всем телом вперед.
– Ну, ты понимаешь, о чем я… Подслушивающее устройство. Это когда куда-нибудь прячут микрофон. Это у них так называется – жучок… – добавила она еле слышно.
– Слушай, не сходи с ума…
– Легко сказать, не сходи с ума. Мне тут миссис Томас такое рассказала… – Она наклонилась и принялась шептать ему в самое ухо. – Оказывается, вчера, когда у нас никого не было дома, они пришли, взяли у нее ключи от гаража и установили там какие-то приборы, а провода подвели к нашему дому! Теперь у нас в доме в какой-то из комнат стоит жучок, а может, и во всех…
Джон Мартин в изнеможении откинулся на спинку кресла.
– Нет, этого не может быть.
– Может!
– Но ведь мы ничего такого не совершали…
– Говори потише! – шепотом сказала она.
– Нет уж! – прошипел он, поочередно краснея, бледнея и опять краснея. – Пошли лучше на веранду!
Выйдя на веранду, он на всякий случай выглянул во двор и наконец дал волю эмоциям:
– А теперь, пожалуйста, объясни мне по-человечески, что значит весь этот бред?! То есть ты хочешь сказать, что они спрятали свою аппаратуру в соседском гараже? В смысле – ФБР? Я правильно тебя понял?
– Да, да, правильно! Джон, я боюсь! Я даже звонить никому не хочу: мне кажется, они прослушивают наш телефон…
– Вот сволочи! Ну, ничего, я им устрою!
– Что ты собираешься делать?!
– Ничего особенного! Просто выломаю к чертовой матери все их гребаные устройства! Нет, мне даже интересно: что мы такого натворили?
– Только, пожалуйста, не надо ничего трогать! – Жена с силой сжала его руку. – Иначе у нас точно будут неприятности. А так, может, послушают несколько дней, поймут, что с нами все в порядке, и отстанут…
– Но это – оскорбление! Грубый произвол! По-другому не скажешь… Что они о себе возомнили? Это что, у них теперь политика такая? Не понимаю, чем мы могли вызвать у них такой интерес… Тем, что у нас есть близкие друзья на студии? Тем, что я имею неосторожность писать рассказы? Или, может, работа продюсера стала теперь вне закона? Остается только предположить, что нас взяли под колпак за преступную дружбу с иностранцем – китайцем Томом Ли… Черт знает что!
– А может, им поступил ложный сигнал и они его проверяют? В таком случае, если они действительно подозревают, что мы опасны, мы не должны их осуждать.
– Ну что ты! Как можно! – с сарказмом воскликнул он. – Если бы только все это не выглядело так смехотворно… Скажи кому, ведь не поверят. Мы опасны! Звучит просто как анекдот… Ну, и что нам теперь делать? Выломать этот долбаный микрофон? Переехать в гостиницу? Или, может быть, свалить в другой город?
– Да нет, я думаю, надо просто жить, как жили, – и все. В конце концов, что нам скрывать? Давай вести себя так, как будто их нет.
– И это ты мне говоришь? А кто не далее как полчаса назад кричал: «Ты не должен это говорить!» Стоило мне слегка зацепить в разговоре политику…
– Ладно, пошли в дом, а то уже холодно. Постарайся держать себя в руках. Думаю, через несколько дней все закончится само собой. В конце концов, им же нечего нам предъявить…
– О’кей, уговорила. Хотя, будь моя воля, раздолбал бы к чертовой матери все их погремушки – и дело с концом!
Вернувшись с веранды, они робко встали в прихожей, как будто пришли не к себе домой, а к кому-то в гости. Оба понимали, что надо срочно изобразить какой-нибудь правдоподобный, подходящий случаю разговор, но почему-то продолжали молчать. Как в каком-нибудь дешевом провинциальном театре, когда осветитель уже включил софиты, публика уже заждалась начала спектакля и вот-вот встанет со своих мест и уйдет, а актеры-любители с растерянным видом стоят на сцене и никак не могут вспомнить свои роли…
В конце концов он прошел в гостиную, сел в кресло и попытался почитать новости спорта, пока супруга накрывала на стол. Но тут выяснилось, что в доме каким-то загадочным образом поменялась акустика. Газета теперь перелистывалась с хрустом, который обычно производит, пробираясь по лесу, низовой пожар. Акт раскуривания трубки был подобен завыванию ветра в органной трубе. Кресло не просто скрипело от каждого движения, а издавало звуки, напоминающие собачий храп. Брючины терлись друг о друга с таким скрежетом, как будто они были сделаны не из твида, а из наждачной бумаги. Грохот кастрюль и мисок на кухне напоминал репетицию группы ударных инструментов. Печная заслонка открывалась с леденящим душу скрипом, а потом захлопывалась со звуком пистолетного выстрела. Было слышно даже, как по трубе с шипением течет газ, после чего вспыхивает синим пламенем и начинает медленно пробуждать к жизни холодную еду – и еда просыпается с таким бульканьем, будто действие происходит не в кастрюле, а как минимум в кратере вулкана…
Они по-прежнему не произносили ни слова. Оба. Супруга зашла в гостиную, постояла в дверях, бросила на мужа выразительный взгляд, отметила про себя, что неплохо бы сделать в комнате косметический ремонт, но так ничего и не сказала. А он молча перелистнул газету с футбола на борьбу и продолжил чтение между строк, машинально фиксируя каждое пятнышко в белой бумажной массе.
Теперь, кроме всех прочих звуков, ему слышался мерный шум прибоя – прямо здесь, в гостиной. И этот шум постепенно начинал приобретать какую-то предштормовую окраску, грозясь обрушиться на скалы девятым валом. Вскоре уже волны одна за другой взрывались у него в ушах, не давая ему никакой передышки. «Надеюсь, хотя бы это-то они не слышат, как бьется мое сердце!» – подумал он.
В этот момент жена кивнула ему, чтобы он шел есть, и он, оглушительно шурша, сложил газету, затем со звуком небольшого взрыва бросил ее в кресло, после чего, громко топая, прошел по ковру в столовую и с визгом отодвинул от стола стоящий на голом полу стул. За это время супруга со звоном и лязганьем разложила на столе столовое серебро, принесла клокочущий, как раскаленная лава, суп и кофейник с фильтром, который тоже что-то непрерывно бормотал. И тут оба они осознали, что смотрят на этот агрегат чуть ли не с завистью, потому что, в отличие от них, он мог позволить себе открыто выбулькивать все, что накопилось в его стеклянном горле… После этого они начали есть, точнее, скрежетать по тарелкам ножами и вилками.
Наконец он решился что-то сказать, но тут же подавился куском еды и, вытаращив глаза, замолчал. Супруга некоторое время тоже сидела с вытаращенными глазами, а потом встала, сходила на кухню и, взяв там листок бумаги и карандаш, написала: «Скажи хоть что-нибудь!» И положила прямо перед его носом. Он тут же нацарапал ответ: «Что сказать?» «Да что угодно! Нельзя же все время молчать. Так они могут заподозрить неладное», – приписала она.
Некоторое время они оба напряженно смотрели на свои каракули. Потом он вдруг поднял голову, многозначительно улыбнулся и подмигнул ей. Она непонимающе нахмурилась.
– Могла бы и сказать что-нибудь… – произнес он.
– Что? – спросила она.
– Да ты уже весь вечер молчишь! Опять не в настроении? Или все продолжаешь дуться на меня из-за этой шубы? Так вот, имей в виду: я все равно тебе ее не куплю. И это вопрос решенный!
– Да я и не хочу… – попыталась возразить она, но он молча замахал на нее руками.
– Слушай, лучше не начинай, а? – строго сказал он. – И не зли меня. Ты прекрасно знаешь, что норка нам не по карману. Если ты будешь продолжать меня продавливать, так лучше молчи, как молчала!
Некоторое время она смотрела на него, прищурившись. А потом вдруг улыбнулась и понимающе подмигнула ему в ответ.
– А что я, по-твоему, буду носить?! – подхватила она.
– Я сказал – не начинай! – прорычал он.
– Ты никогда мне ничего не покупаешь! – истерично выкрикнула она.
– Хватит! – сорвался в визг он. – Мне надоел этот бред!
После этого они замолчали и настороженно прислушались. Кажется, благодаря их воплям звуки в доме немного пришли в норму. Теперь и кофейник журчал не так громко, и вилки с ножами скреблись более деликатно.
– Знаешь что, – сказал он. – Я думаю, будет лучше, если ты действительно помолчишь! Хотя бы сегодня вечером… Налей мне кофе!
В ответ она только презрительно фыркнула.
К половине девятого тишина в доме вновь стала нестерпимой. Супруги сидели в гостиной и напряженно молчали. Она пыталась читать недавно взятую в библиотеке книгу, он занимался подготовкой мушек к воскресной рыбалке. Несколько раз они переглядывались и открывали рот, чтобы заговорить, но тут же закрывали его с таким видом, как будто завидели в дверях комнаты тещу.
Без пяти девять он сказал:
– Может, выберемся куда-нибудь?
– Так поздно?
– Ну да. А что такого?
– Просто ты всегда говоришь, что устал, когда я предлагаю тебе выйти погулять в будний день… Лично я-то всегда готова – и так целый день торчу дома и занимаюсь уборкой.
– Ну, так поехали!
– А я думала, ты на меня сердишься…
– Обещай мне, что про норку больше ни слова – и мир. Давай одевайся.
– Ну, ладно…
На сборы ей хватило пяти минут, после чего довольные и улыбающиеся супруги вышли на улицу. Уже отъезжая, они обернулись и посмотрели на свой дом, освещенный уличными фонарями.
– Ну, пока, домик, счастливо оставаться! – сказал он. – Не знаю, вернемся мы к тебе или нет… Слушай, а может, и правда уедем насовсем?
– Ну, знаешь, это как-то…
– Тогда давай переночуем в каком-нибудь мотеле, который загубит нашу честную репутацию! – предложил он.
– Нет, так не годится. В любом случае надо вернуться сегодня. Если мы проведем ночь вне дома, это может вызвать у них подозрение.
– Да пошли они! Чувствуешь себя каким-то идиотом, сидя в собственном доме… Хрен его знает, где там этот их… сверчок!
– Жучок.
– Какая разница – жучок, сверчок… Кстати, когда я был еще совсем пацан, у нас в доме какое-то время жил сверчок. Днем он молчал, а вот по вечерам начинал безбожно скрипеть. Сколько мы ни пытались его найти, это было невозможно. Похоже, он прятался где-то в щели между половицами или за камином. В первые дни, когда он только появился, мы вообще не могли уснуть из-за его скрипа, потом как-то привыкли. Полгода он у нас прожил, не меньше. А однажды вечером, когда уже все легли, кто-то из нас спросил: «Вам не кажется, что в доме как-то слишком… шумно?» Мы все сели в кроватях и прислушались. А потом отец сказал: «Я понял. Это просто стало тихо – без сверчка». То ли он ушел куда-то от нас, то ли умер. И почему-то так грустно без него стало, так одиноко. И звуки в доме стали совсем другие…
Они ехали по ночному шоссе.
– Мне кажется, нам надо что-то со всем этим делать, – сказала она.
– Давай снимем другой дом.
– Как ты себе это представляешь?
– Ну, хорошо, давай съездим на выходные в Энсенаду. Мы уже столько лет туда собираемся, это отличный повод. Не попрутся же они следом за нами, чтобы ставить своих жучков в номере отеля…
– Ну да, а потом вернемся, а дома – все то же самое… Нет, единственное правильное решение – это жить точно так же, как до того, как мы узнали про чертов микрофон.
– А я уже и не помню, как это было. Просто жили себе – и все. Когда живешь, ты же не задумываешься, как именно это происходит… Мы женаты с тобой уже десять лет, и все вечера у нас похожи один на другой – в хорошем смысле, разумеется. Я приезжаю с работы, мы ужинаем, потом читаем или слушаем радио – телевизор не смотрим… Потом ложимся спать.
– Так вот, послушаешь со стороны – до чего же унылая у нас жизнь…
– Что, прямо совсем унылая? – спросил он вдруг. – Ты правда так думаешь?
Она взяла его за руку.
– Нет, конечно. Хотя было бы лучше, если бы мы почаще куда-нибудь выбирались…
– Я подумаю над этим. А для начала предлагаю спокойно разговаривать дома на любые темы – политические, социальные и нравственные. Нам абсолютно нечего скрывать. В детстве мы оба были скаутами. Никогда не замышляли ничего антиправительственного. Так что не комплексуй… А вот и кинотеатр.
Они припарковались и пошли в кино.
Когда они вернулись, было уже около полуночи. Некоторое время они молча сидели в машине перед домом и готовились к «выходу на большую сцену».
– Ну, что? – сказал он наконец. – Пойдем поздороваемся с нашим сверчком?
Они поставили машину в гараж и, держась за руки, обошли дом, чтобы зайти с главного входа. Стоило им открыть входную дверь, как оттуда будто пахнуло атмосферой напряженного ожидания. У них было полное ощущение, что там сидят в засаде не меньше тысячи человек, которые все превратились в слух.
– Вот мы и дома! – громко произнес муж.
– Какой все-таки замечательный фильм! – сказала жена. – Тебе понравилось?
На самом деле кино было просто отвратное.
– Какая там музыка! – подхватил тему он.
Ничего более банального и подражательного они еще не слышали.
– А помнишь, как умопомрачительно она танцевала!
При этом оба состроили рожи, адресуя их стенам. Потому что на самом деле танцовщица была кривоногой малолеткой с вызывающе низким IQ.
– Дорогая! – сказал вдруг он. – А что, если нам смотаться на выходные в Сан-Диего?
– Ты так думаешь… А как же твоя воскресная рыбалка? Друзья-рыбаки не обидятся?
– Ничего, в этот раз пропущу. Я же люблю только тебя! – громко сказал он, а про себя подумал: «Да-а, дуэт «Галлахер и Шин» отдыхает…[102] На что только не пойдешь, чтобы хоть как-то разрядить обстановку».
Они еще долго сновали по дому, пытаясь что-то прибирать: вытряхивали пепельницы, хлопали дверцами шкафов, стелили постель… При этом он фальшивым, но очень бодрым баритоном напевал куплеты из какого-то навязшего в зубах мюзикла, а она временами жалобно ему подвывала.
Как только они легли в постель и выключили свет, она прижалась к нему всем телом, и они незаметно для себя вдруг начали целоваться. Сначала просто поцеловались. Потом еще раз просто поцеловались. А потом внезапно вошли во вкус. «Ишь ты, как оно…» – подумал он, не прерывая поцелуя и прижимаясь к ней все теснее. И вот, когда его рука принялась нежно скользить по ее спине, он почувствовал, что она в одну секунду вся словно подобралась изнутри.
«Господи… – обреченно подумал он. – Что на этот раз?»
Втиснувшись губами в самое его ухо, она прошептала:
– А вдруг… А вдруг этот сверчок спрятан у нас в кровати?
– Что?! – вскричал он. – Да как бы они посмели!
– Тс-с-с!
– Да они бы просто не посмели это сделать! – злобно прошипел он. – Как ты могла такое подумать!
Но она уже отстранилась. А когда он попытался вернуть ее обратно, вырвалась, отползла подальше и повернулась к нему спиной.
– Это как раз очень на них похоже… – донесся до него ее шепот.
Волна страсти отхлынула, и он остался лежать на холодном простынном берегу.
«Ну, сверчок… – подумал он. – Вот этого я тебе никогда не прощу!»
На следующий день был вторник, он поехал на студию, проработал там целый день, а вечером, нигде не задерживаясь, прибыл домой. Рывком распахнув входную дверь, он весело прокричал:
– Э-эй! Зайка моя! Где ты?
Когда жена вышла к нему, он крепко поцеловал ее в губы, похлопал по попе, потом погладил вверх-вниз по спине, еще раз поцеловал и после этого вручил ей огромный букет розовых гвоздик.
– Это – мне? – спросила она.
– Тебе! – ответил он.
– У нас сегодня какой-то юбилей?
– Да почему обязательно юбилей! Просто шел и купил…
– У меня нет слов! – Она даже слегка прослезилась. – Ты уже так давно не дарил мне цветы!
– Правда? Хотя да. Наверное…
– Я тебя люблю, – сказала она.
– Я тебя тоже люблю. – Он снова ее поцеловал, после чего, не расцепляя рук, они направились в гостиную.
– Что-то ты сегодня так рано, – сказала она. – Обычно ты куда-нибудь заезжал – пропустить с приятелями по рюмочке.
– Да пошли они на фиг, эти приятели! Знаешь, дорогая, куда мы пойдем с тобой в субботу? Вместо того, чтобы загорать в шезлонге? Я поведу тебя на показ мод!
– По-моему, ты всегда терпеть не мог эти…
– Ну и что… Ради тебя, моя прелесть, я готов на все. Я сказал им, что не смогу поехать на рыбалку в это воскресенье. И, по-моему, они решили, что я… того. А кстати, что у нас сегодня на ужин?
Заговорщицки улыбаясь, он прокрался на кухню и, вооружившись сразу половником и ложкой, принялся все подряд нюхать, помешивать и пробовать.
– Боже! Пастуший пирог! – воскликнул он, открывая дверцу духовки. – Мой любимый! Ты не делала его с июня прошлого года!
– Я подумала, тебе понравится!
Он с наслаждением принялся есть, сопровождая трапезу веселыми прибаутками. На столе горели свечи, в вазе стояли розовые гвоздики, наполняя комнату пряным ароматом. Ужин был превосходным, а в довершение его из холодильника на стол перекочевал черничный пай со взбитыми сливками.
– О, это же черничный пай! Надо быть гением и потратить кучу времени, чтобы черничный пай действительно получился…
– Я рада, что тебе понравилось, дорогой.
После ужина он помог ей убрать со стола и помыть посуду. Потом они перешли в гостиную и, усевшись прямо на ковре, устроили совместное прослушивание любимых симфоний и даже немного потанцевали под тему из «Rosenkavalier» Штрауса. В конце танца он поцеловал ее и, похлопав по попе, шепнул ей на ухо:
– Сегодня ночью. И никаких сверчков!
Вновь заиграла музыка, и они закачались в медленном танце.
– А ты случайно не нашла его? – спросил он шепотом.
– Кажется, нашла. По-моему, он вон там – под окном, которое рядом с камином.
Они подтанцевали к камину. Он наклонился, осторожно отодвинул штору и действительно обнаружил на полу какой-то черный кругляшок, величиной с ноготь. Некоторое время они оба смотрели на него, а потом так же, танцуя, отошли.
После этого он открыл бутылку шампанского, они хорошенько выпили и снова пошли танцевать.
Музыка играла так громко, что казалось, содрогаются стены, а звук проникает в тело до самых костей. Поэтому, чтобы слышать друг друга, им приходилось шептать в самое ухо.
– А тебе-то удалось что-нибудь выяснить? – спросила она.
– Не знаю… На студии все говорят – сидите и не рыпайтесь. Типа эти уроды устроили тотальную слежку. Осталось только ввести прослушку в зоопарке.
– То есть это как бы нормально?
– Ну да. Говорят, надо сидеть и не рыпаться. И ни в коем случае не ломать их аппаратуру. А то могут обвинить в порче государственного имущества.
В ту ночь они легли спать очень рано, обмениваясь многозначительными улыбками.
А в среду вечером он принес ей розы, и их поцелуй возле входной двери длился не меньше минуты. А потом они прошлись по телефонной книжке и пригласили в гости своих самых блестящих и остроумных друзей, зная наверняка, что от репертуара этой парочки свихнется любой сверчок. А в четверг он позвонил жене с работы, чего уже не делал несколько месяцев, а вечером подарил ей орхидею, еще один букет роз, шарфик, который случайно заметил в витрине во время обеденного перерыва, и два билета в театр… Что касается жены, то она в среду приготовила шоколадный торт по рецепту его матери, а в четверг испекла печенье с начинкой и лимонный торт со взбитыми сливками и еще – заштопала все его носки, отутюжила брюки и отнесла в химчистку то, что уже давно собиралась. Вечером того же дня они ходили в театр, а после спектакля решили еще погулять. Когда они дошли пешком до дома, была уже глубокая ночь, тем не менее они еще долго читали друг другу вслух Еврипида, а потом, с теми же многозначительными улыбками, отправились в постель. В результате утром они встали так поздно, что ему пришлось звонить на студию и отпрашиваться до обеда, прикидываясь больным…
Спустя полчаса он вышел из дома, чтобы ехать на работу, как вдруг повернул назад с одной-единственной мыслью: «Нет, так больше продолжаться не может!» Подойдя к сверчку, который по-прежнему сидел под шторой возле камина, он склонился прямо над ним и отчетливо произнес:
– Проверка связи. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка связи. Как меня слышно?
– Что ты делаешь?! – появляясь в дверях, воскликнула жена.
– Вызываю все машины! Вызываю все машины! – мрачно произнес муж, лицо которого после бессонной ночи имело землистый цвет, а под глазами пролегали темные круги. – Это я – вы знаете, кто я. Мы уже давно поняли, что вы здесь. Так что проваливайте. Забирайте свой микрофон и катитесь к чертовой матери. Смею вас уверить: у нас вы не услышите ничего интересного. У меня – все. Привет Джону Эдгару![103] Конец связи.
После этого он протиснулся мимо стоявшей в дверях, бледной от ужаса супруги, кивнул ей на прощание и решительно вышел.
Она позвонила ему ровно в три.
– Дорогой, – сказала она. – Они его забрали!
– Сверчка?
– Ну да! Пришли и забрали. Какой-то мужчина вежливо постучал к нам и попросил впустить его. Потом буквально за минуту отвинтил сверчка и унес с собой. И даже не возмущался…
– Ну, слава богу! – выдохнул муж.
– Только сделал ручкой на прощанье и сказал мне спасибо.
– Чертовски мило с его стороны, – сказал муж. – Ну, давай, до скорого!
В пятницу Джон вернулся с работы только в шесть тридцать, потому что по дороге домой заглянул в бар, чтобы опрокинуть рюмочку с приятелями. Не выпуская газеты из рук, он быстро проскочил мимо жены, сбросил с себя пальто и шляпу, не глядя, сунул их в шкаф, после чего, минуя кухню и даже не пытаясь втянуть носом воздух, прошел в гостиную и вплоть до ужина читал новости спорта. На ужин был подан обычный ростбиф, фасоль, яблочный сок и легкий десерт из нарезанного дольками апельсина. За едой Джон сообщил жене, что заехал по дороге в театральную кассу и сдал обратно все билеты – и на сегодняшний вечер, и на завтрашний. А на показ мод посоветовал сходить с подругами, потому что он хочет немного позагорать в шезлонге на заднем дворе…
– Ну вот, сегодня совсем другое дело! – сказал он уже около десяти часов вечера. – Я про дом.
– Да, пожалуй.
– Как же хорошо без сверчка… Можно никуда не ходить.
– Это уж точно… – сказала она.
Они посидели молча.
– А знаешь, – сказала она вдруг. – Я даже немножко по нему скучаю… Думаю, а может, сделать что-нибудь такое предосудительное, чтобы они поставили его назад?
– В смысле? – сказал он, наматывая леску для своих снастей, которые уже сейчас готовил для воскресной рыбалки.
– Да шучу я, шучу… – сказала она. – Пойдем спать.
И первой отправилась в спальню. Минут через десять, зевая, пришел и он и сразу выключил свет. Быстро разделся впотьмах и бросил взгляд на жену. Она лежала с закрытыми глазами. «Ну вот, уже уснула…» – подумал он.
Послесловие: метафоры, завтрак для чемпионов
Каждый год, когда я прилетаю в Париж, по дороге из аэропорта всегда прошу водителя заехать на площадь Трокадеро, с широкой эспланады которой открывается панорама всего города с шикарным видом на Эйфелеву башню.
Выхожу на площадь, поднимаю руки и мысленно кричу: «Париж, я снова дома!»
А потом, когда спустя несколько недель еду обратно, опять заезжаю туда и говорю, уже со слезами: «До свидания, Париж».
Однажды, несколько лет назад, мы приехали на эспланаду, и на улице вдруг начался ливень, но я все равно пошел на площадь прямо под дождем. И тогда мой водитель догнал меня и раскрыл надо мной свой зонтик. Знаете, что я ему сказал?
– Неужели вы не понимаете? Я хочу промокнуть!
Вот с этими моими рассказами – та же история. Сейчас, на склоне лет, я вдруг понял, что всю жизнь я как будто проходил сквозь строй, а на меня изливался поток… образов и метафор. И сколько ни пытались мои знакомые вытащить меня из этого странного водоворота, я все время сопротивлялся. «Да не надо меня спасать! – говорил я. – Может быть, я хочу утонуть!»
Наверное, благодаря этому я никогда в жизни не работал. Это делали за меня метафоры, которые обрушивались на меня сами собой, а я об этом даже не задумывался.
Мысль о том, что я, по сути, устройство по переработке метафор, пришла ко мне уже позднее, когда я вдруг обнаружил, что мои рассказы на девяносто девять процентов являются чистым вымыслом, вызванным к жизни фильмами, комиксами, стихами, эссе… Или эхом какой-нибудь страны Оз, Тарзана, Жюля Верна, фараона Тутанхамона. Или же иллюстрациями всего этого.
Просматривая этот сборник, я вновь подумал о том, как же мне повезло в жизни: образы и метафоры всегда сами шли ко мне в руки.
Мне все время задают один и тот же вопрос: откуда вы берете свои сюжеты? Или, вернее, как эти сюжеты приходят к вам?
Много лет тому назад я участвовал в создании общества сценаристов кино не для всех. Одним из первых фильмов, которые мы смотрели, был авангардный «Прошлым летом в Мариенбаде»[104]. История его появления весьма необычна. Во время просмотра фильма киномеханик каким-то образом перепутал катушки и поставил десятую бобину после пятой. Никто ничего не заметил, а кто-то даже сказал, что фильм стал лучше, чем при первом показе две недели назад. Стоит ли говорить, что я тут же засел за «Полуночный танец дракона» и за пару часов живописал всю эту свистопляску с перепутанными бобинами?
Рассказ «Quid pro quo» – почти реальная история. Это действительно было в моей жизни: спустя сорок лет после встречи с молодым, красивым и невероятно талантливым писателем я столкнулся с ним еще раз и с трудом его узнал. За эти годы он умудрился превратиться в какого-то полусумасшедшего бомжа, абсолютно лишенного всяких талантов и уставшего от жизни. Меня настолько взбесила эта его полнейшая деградация и саморазрушение, что я сел и всего за несколько часов написал «Quid pro quo».
А как-то раз я написал стихотворение под названием «Мои дочери оставляют меня в наследство», в котором сетовал, что все «бывшие» моих дочерей – бойфренды, любовники и женихи – продолжают общаться со мной после того, как они с ними расстались. Впоследствии это стихотворение легло в основу рассказа «Объедки».
«Девятнадцатая лунка» – дань любви к моему отцу, который, выйдя на пенсию, пять дней в неделю играл в гольф. Однажды вечером я встретил его там – он шел вдоль площадки и собирал в корзину потерянные мячи. Эта сцена преследовала меня многие годы. А год назад призрак отца явился мне вновь, и я решил, что должен дать ему покой.
В 1946 году я почти каждый вечер субботы ездил на трамвае, идущем в Венис, и обычно на остановке, где располагался танцевальный зал Майрона, в него подсаживались седые старички в смокингах и старушки в вечерних платьях – участники еженедельного бала, которым было ехать в сторону моря. Кто-то выходил на остановке один.
А некоторые исчезали в ночи парами. Спустя пятьдесят пять лет, став таким же седым и старым, я отправился следом за такой парочкой в рассказе «После бала» и описал, как бы они могли провести остаток ночи.
В университете, когда ко мне попадали номера «неоренессансного» журнала «Coronet» (покупать его было слишком дорого), я вырывал оттуда фотографии Штиглица[105], Карша[106], всех остальных и посвящал им стихи. Что это было, я не знаю – наверное, просто акт преклонения перед чистым искусством.
Лон Чейни стал моим кумиром, когда мне было года три – именно тогда я увидел его в фильме «Горбун с Нотр-Дама». А потом я пошел на этот фильм еще раз, уже в возрасте семнадцати лет, и заявил друзьям, что все помню со времен первого просмотра. Они подняли меня на смех. «Ах, не верите? Ну, хорошо же… – сказал я. – Там была такая сцена – и такая, и такая, и вот такая… А теперь пошли и проверим». И мы пошли и проверили. И там были все сцены, которые я запомнил в возрасте трех лет.
Похожие отношения складывались у меня и с «Призраком оперы», и с «Затерянным миром». Можно сказать, что все мое детство прошло под знаком призрака Чейни и динозавров Уиллиса О’Брайена[107].
Чейни умер, когда мне шел десятый год, и его могила стала для меня символом Смерти. Поэтому, когда в том же году «Призрак» решили снова выпустить на экраны, я так распереживался, что у меня начались боли в животе, и я подумал, что это аппендицит. Разумеется, я все равно пошел в кино – прямо с этой адской болью. Я скорее допустил бы мысль о том, что я умру, чем о том, что я не посмотрю этот фильм еще раз. К счастью, я выжил – чтобы потом весь остаток жизни питаться сытными и полезными метафорами Чейни.
Через несколько лет я сдружился на всю жизнь с Рэем Харрихаузеном[108], который разрабатывал образы динозавров прямо у себя в гараже, а впоследствии стал крупнейшим мастером техники мультипликации стоп-моушн. Вся наша дружба с ним была одной сплошной метафорой!
Лорел и Гарди становились героями моих произведений трижды. Когда в октябре 1953 года я был в Дублине, то увидел в «Irish Times» такое объявление:
«Только сегодня
Живая легенда
в театре «Олимпия»
Лорел и Гарди»
– Черт возьми! – воскликнул я. – Мы обязательно должны на них сходить!
И моя жена великодушно сказала:
– Пойдешь – ты!
Просто оставался всего один билет – первый ряд, середина.
Я сидел там и плакал – глядя, как Стэн и Олли разыгрывают сцены из разных лет моей собственной жизни…
А потом через открытую дверь гримерки я видел, как они болтают со своими друзьями. Я не стал встревать – чтобы не нарушать атмосферу. И просто ушел.
Их души навсегда останутся со мной. Когда-то раньше я уже посвятил им два рассказа, а для этой книги написал еще один.
Другими словами, то, что однажды стало метафорой, остается метафорой навсегда.
Много интересного о своем внутреннем «я» мне довелось узнать от кинорежиссера Сэма Пекинпа, который вечно подливал мне в пиво водку и собирался экранизировать мои романы.
– Сэм, – спросил я у него однажды, – и как же ты собираешься их экранизировать?
– Буду выдирать из твоих книжек странички и по очереди запихивать их в камеру! – ответил он.
Так я узнал, что для человека, который всю свою жизнь только и делает, что смотрит километры безумного кино, безумные страницы моих романов – это всего лишь чередование крупных и общих планов.
Позже, когда я вел на телевидении программу «Театр Рэя Брэдбери», я с легкостью переделывал свои рассказы в телевизионные сценарии. При этом в ушах у меня всегда звучал голос Сэма: «Просто запихивай все это постранично в камеру!»
Так я, сам того не ведая, освоил и кинометафоры, которые в дальнейшем перекочевали в конкретные фильмы.
А напоследок скажу, что никогда не завидовал другим писателям – наоборот, мне хотелось за них заступиться. Слишком уж у многих моих любимых авторов была по-настоящему несчастная жизнь, а у некоторых из них она и вовсе закончилась трагически. Именно для этого мне пришлось изобретать машины, с помощью которых можно пройти сквозь время и попытаться хоть как-то защитить их или хотя бы сказать им «я люблю вас». И эти машины вы найдете здесь.
И еще – тот самый ливень, под который попадает человек, идущий по жизни без зонтика, свободно подставляя себя образам и сюжетам, откуда бы они на него ни сыпались: из старых фотографий, фильмов, мультиков или случайных встреч.
И, конечно, меня – того самого счастливчика, который прошел сквозь все эти ливни, грозы и бури, вернулся – категорически промокший, но зато живой – и дописал до конца эту книгу.
Рэй Брэдбери. Лос-Анджелес, апрель 20011
Лон Чейни – выдающийся американский актер немого кино, который прославился способностью до неузнаваемости изменять свою внешность, за что получил прозвище «Человек тысячи лиц».
(обратно)2
Фред Аллен (1894–1956) – американский комик, чье абсурдное шоу на радио сделало его одним из самых популярных юмористов.
(обратно)3
От лат. – Услуга за услугу (лат.).
(обратно)4
Продолговатого мозга.
(обратно)5
Эмили Дикинсон (1830–1886) – авангардная для своего времени американская поэтесса.
Скотт Фицджеральд (1896–1940) – известный американский писатель, автор романа «Великий Гэтсби».
(обратно)6
«Спокойной ночи, дамы» – популярная американская песня, обычно исполняемая в финале менестрель-шоу.
(обратно)7
Очевидно, имеется в виду Майрон Хили (1923–2005) – известный американский актер, родом из Калифорнии, игравший в фильмах в жанре вестерн.
(обратно)8
То есть на море.
(обратно)9
В память (лат.).
(обратно)10
И так далее, и тому подобное. (Прим. ред.)
(обратно)11
«Орфеум» – театр в Мемфисе, бывший Оперный дом, в котором в начале XX века шли популярные водевили.
(обратно)12
Дик Трейси – главный герой серии комиксов Честера Гулда, сыщик-любитель.
(обратно)13
Пастрома – мясной деликатес из говядины, блюдо еврейской кухни тюркского происхождения.
(обратно)14
Леонард Бернстайн (1918–1990) – американский композитор, пианист и дирижер.
(обратно)15
Дмитрий Темкин (1894–1979) – американский композитор российского происхождения, внес большой вклад в развитие жанра киномузыки, четырехкратный обладатель премии «Оскар».
(обратно)16
«Харлоу» (1965) – американский фильм-биография об актрисе Джин Харлоу, роль которой исполняет Кэрролл Бейкер (1931–2003) – американская актриса и секс-символ, ставшая популярной благодаря своим драматическим ролям в 1960-х годах.
(обратно)17
«Хиросима, любовь моя» (1959) – первый игровой фильм французского режиссера Алена Рене, родоначальника кинематографа «новой волны».
(обратно)18
«Прошлым летом в Мариенбаде» (1961) – фильм французского режиссера Алена Рене, получивший «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
(обратно)19
«Алчность» (1924) – американский фильм Эриха фон Штрогейма, который входит в Национальный реестр фильмов.
(обратно)20
«Гигант» (1956) – эпическая кинодрама американского режиссера Джорджа Стивенса. Десять номинаций и «Оскар» за лучшую режиссуру. Признан одним из величайших кинофильмов в истории, входит в Национальный реестр фильмов.
(обратно)21
Здесь упоминается библейская история об исходе евреев из Египта: Господь позволил Моисею провести евреев через Красное море – его воды расступились, а когда следом пошли их преследователи египтяне, то они дошли лишь до середины – и воды снова сомкнулись, утопив все войско.
(обратно)22
То же, что и Рагнарек. В скандинавской мифологии – конец света. (Прим. ред.)
(обратно)23
Монтерей-Парк – небольшой город в Калифорнии.
(обратно)24
«Someday I’ll Find You» – популярная в 30-е годы песня из кинофильма «Частная жизнь».
(обратно)25
Девятнадцатая лунка (американский сленг) – павильон с баром при гольф-клубе, изначально – одна из самых сложных лунок во всем мире, которая находится в ЮАР, в гольф-клубе на территории заповедника Энтабени.
(обратно)26
Имеется в виду Альберт Швейцер (1875–1965) – немецкий и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира 1952 г.
(обратно)27
Генри Дэвид Торо (1817–1862) – американский писатель, мыслитель, натуралист и общественный деятель, критиковал современную цивилизацию и выступал за возврат к природе.
(обратно)28
Венис – район на западе Лос-Анджелеса, курортное место Венис-Бич.
(обратно)29
Touche! (фр.) здесь: «Уел!», или «Принимается!», или «1:0 в твою пользу!», изначально «туше» – термин в фехтовании, означающий удар, нанесенный в соответствии с правилами.
(обратно)30
Святое Воскресенье (исп.).
(обратно)31
Тишина (исп.).
(обратно)32
Покинутый (исп.).
(обратно)33
Спасибо (исп.).
(обратно)34
Тихуана – город на северо-западе Мексики, известный криминальными разборками между различными преступными группировками.
(обратно)35
Это самый распространенный миф о сигарах: якобы лучшие сигары знойные мулатки скручивают на своих обнаженных коленях, и его автором считается сам Проспер Мериме, у которого была личная история незадолго до написания «Кармен».
(обратно)36
Придурок, идиот (исп.).
(обратно)37
Герберт Кларк Гувер (1874–1964) – 31-й президент США с 1929-го по 1933 год.
(обратно)38
Ничто (исп.). (Прим. ред.)
(обратно)39
«Viva Villa!» – американский фильм 1934 года, беллетрированная кинобиография знаменитого лидера повстанцев во время мексиканской революции Панчо Вилья.
(обратно)40
Гринго, иностранец (исп.).
(обратно)41
И все дела! (исп.).
(обратно)42
Вынесение точки прицела несколько вперед при стрельбе по движущейся цели (воен., спорт.) (исп.).
(обратно)43
Традиция в испанской корриде. Победителю достаются уши и хвост убитого быка (исп.).
(обратно)44
Да! (исп.)
(обратно)45
Флоренс Найтингейл (1820–1910) – сестра милосердия и общественный деятель Великобритании.
(обратно)46
Мод Адамс (1872–1953) – американская театральная актриса.
(обратно)47
Быстро, здесь: Вуаля!
(обратно)48
Стэн Лорел и Оливер Гарди – знаменитый американский кинодуэт, созданный в 1927 году, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино.
(обратно)49
Вот! (фр.)
(обратно)50
Калтех – аббревиатура Калифорнийского технологического института, одного из ста лучших университетов мира в области точных и естественных наук.
(обратно)51
Жан Батист Ламарк (1744–1829) – французский ученый-естествоиспытатель, автор первой теории эволюции живого мира.
(обратно)52
Джин Келли (1912–1996) – американский актер, хореограф, режиссер, певец и продюсер, звезда Голливуда 40–50-х гг.
(обратно)53
Грета Гарбо (1905–1990), знаменитая голливудская актриса, «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства, «Ниночка» – комедийный фильм Эрнста Любича, который вышел в прокат со слоганом «Гарбо смеется!».
(обратно)54
Известная видеоигра – гонки на машинах.
(обратно)55
Улисс Симпсон Грант (1822–1885) – американский политический и военный деятель, генерал армии, 18-й президент США, который, как известно, не отличался высоким ростом.
(обратно)56
Срочно, немедленно (исп.).
(обратно)57
Томас Вульф (1900–1938) – американский писатель, представитель так называемого «потерянного поколения», писал очень длинные романы в эпическом стиле.
(обратно)58
Знаменитая, часто упоминаемая в пародиях вступительная фраза из романа «Пол Клиффорд», написанного в 1830 году английским писателем Эдвардом Булвером-Литтоном – родоначальником жанра криминальной беллетристики.
(обратно)59
Возможно, здесь автор использует терминологию философов-постмодернистов, авторов нарративной теории, которые считали, что слова – это «крючки, которые затягиваются в языковую реальность», а одной из важных черт современной литературы является ее фрагментарность.
(обратно)60
«Burma Shave» – крем для бритья без использования помазка, который в 1925 году изобрела семья предпринимателей Оделл из США, знаменитая история, когда оригинальная рекламная кампания на рекламных щитах вдоль дорог стала ключом к успеху.
(обратно)61
Мagnum opus (лат. «великая работа») – лучшая, наиболее амбициозная работа писателя, художника или композитора.
(обратно)62
Сесил Блаунт Демилль – (1881–1959) – известный американский кинорежиссер и продюсер, автор зрелищных фильмов с большими батальными сценами, богатыми интерьерами, восточными дворцами и т. п., в том числе оскароносной картины 1952 года «Величайшее шоу мира».
(обратно)63
Имеется в виду сражение при Аппоматоксе 1865 года, которое считается последним сражением американской Гражданской войны 1861–1865 годов.
(обратно)64
Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) – ирландский англоязычный поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года.
(обратно)65
Александр Поуп (1688–1744) – английский поэт XVIII века, один из крупнейших авторов британского классицизма, реформатор английского стихосложения, который разработал т. н. александрийский стих – «героический куплет».
(обратно)66
Известная в США серия студенческих учебных пособий, в которых в форме дайджеста представлены различные литературные произведения и научные работы.
(обратно)67
В силу самого факта, по факту (лат.).
(обратно)68
Страус-бегун (Roadrunner) и Хитрый Койот (the Coyote) – известные персонажи американского мультсериала.
(обратно)69
Big Blue – прозвище, которое дали компании IBМ, разработавшей шахматный суперкомпьютер, выигравший в 1997 году матч из 6 партий у чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
(обратно)70
«Унесенные ветром» – знаменитый роман американской писательницы Маргарет Митчелл.
(обратно)71
«В дороге» – роман-бестселлер американского писателя Джека Керуака, входящий в сотню лучших романов всех времен и народов.
(обратно)72
Джонни Мерсер (1909–1976) – американский певец, композитор и поэт-песенник, соавтор многих бродвейских и голливудских мюзиклов.
(обратно)73
Здесь очевидна аллюзия на роман американского писателя Уильяма Фолкнера «Шум и ярость» (1929) либо же на цитату из шекспировского «Макбета», которая вынесена в его название.
(обратно)74
Генри Джеймс О'Брайен Бедфорд-Джонс (1887–1949) – американский писатель канадского происхождения, автор более ста романов-боевиков в жанре исторической, приключенческой и научной фантастики, заслуживший прозвище Короля криминального чтива.
(обратно)75
«Argosy» – самый популярный в Америке журнал дешевой массовой литературы.
(обратно)76
Эктоплазма – в оккультизме и парапсихологии вязкая субстанция загадочного происхождения, которая якобы выделяется организмом медиума и служит затем основой для дальнейшего процесса материализации – конечностей, лиц, фигур и т. д.
(обратно)77
Песня из одноименной английской кинокомедии 1934 года «Сегодня в ночь» – «Tonight’s the Night».
(обратно)78
Тест Роршаха, известный также под названием «Пятна Роршаха», – психодиагностический тест для исследования личности, опубликованный в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом для исследования психики и ее нарушений путем анализа свободных ассоциаций при просмотре испытуемыми десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс.
(обратно)79
Джон Картер – главный герой первого фантастического романа популярного марсианского цикла американского писателя Эдгара Берроуза «Принцесса Марса», оказавшего воздействие на многих писателей-фантастов, включая самого Рэя Брэдбери.
(обратно)80
«Мандарин… Она лучше всех… Ночь в ее глазах, а губы – как огонь. Мандарин… Танцы до утра… Сеньориты – эй, все кабальеро там… Всех милей… В Аргентине всей… За тебя мы пьем, красотка Мандарин…»
(обратно)81
Маршмеллоу – зефироподобные конфеты, состоящие из сахара или кукурузного сиропа, желатина, размягченного в горячей воде, декстрозы и ароматизаторов, взбитых до состояния губки. В США есть традиция жарить пастилки маршмеллоу на костре во время лесных пикников.
(обратно)82
«Bisquits and Bones» – компания, выпускающая печенье для собак в виде косточек.
(обратно)83
Смоляное чучелко – персонаж «Сказок дядюшки Римуса», записанных и обработанных американским писателем-фольклористом Джоэлем Чандлером Харрисом (1848–1908) на основе негритянского фольклора.
(обратно)84
Буквально – «Длинный Том», где Tom – специальный термин, обозначающий название большого «колокола» в коническом стволе орудия.
(обратно)85
Фервей – это основная зона площадки для гольфа; грин – специальная зона с низкой травой и вырезанной в ней лункой.
(обратно)86
Muy simpatica – приятная, симпатичная (исп.).
(обратно)87
Ахав – один из героев знаменитого романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит», капитан китобойного судна «Пекод».
(обратно)88
Герман Мелвилл (1819–1891) – американский писатель и моряк, автор знаменитого романа «Моби Дик, или Белый кит».
(обратно)89
Эдгар Аллан По (1809–1849) – американский писатель, представитель американского романтизма, создатель формы современного детектива.
(обратно)90
Оскар Уайльд (1854–1900) – ирландский философ, эстет, писатель, поэт, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода.
(обратно)91
Эрнест Хемингуэй (1899–1961) – американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.
(обратно)92
Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896–1940) – американский писатель, крупнейший представитель так называемого потерянного поколения в литературе, автор знаменитого романа «Великий Гэтсби», Зельда Сейр Фицджеральд (1900–1948) – американская писательница, жена Фицджеральда.
(обратно)93
Папаша – прозвище американского писателя Эрнеста Хемингуэя.
(обратно)94
Кенийская пыль – здесь имеется в виду особая белая пыль-пудра, которая витает в воздухе и покрывает буквально все в окрестностях горы Килиманджаро и озера Амбосель: его название так и переводится – «соленая пыль».
(обратно)95
Имеется в виду известный роман Эрнеста Хемингуэя «The Sun Also Rises» – «Солнце тоже встает», написанный в 1926 году.
(обратно)96
«Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» – The Short Happy Life of Francis Macomber – рассказ Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1936 году.
(обратно)97
Натаниэль Готорн (1804–1864) – американский писатель-романтик, близкий друг писателя Германа Мелвилла, которому он посвятил свой знаменитый роман «Моби Дик, или Белый кит».
(обратно)98
«Пекод» – китобойное судно, на котором происходит действие романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».
(обратно)99
Modus operandi (лат.) – фраза, которая обычно переводится как «образ действия» и используется в юриспруденции для описания способа совершения преступления.
(обратно)100
Имеется в виду 14 апреля 1865 года, когда спустя пять дней после окончания Гражданской войны Авраам Линкольн был застрелен на спектакле в театре Форда, где он был вместе со своей женой Мэри Тодд.
(обратно)101
Роберт Ли Фрост (1874–1963) – один из крупнейших поэтов в истории США, четырежды лауреат Пулитцеровской премии.
(обратно)102
Галлахер и Шин – знаменитый в 1910-е и 1920-е годы бродвейский комический дуэт.
(обратно)103
Джон Эдгар Гувер (1895–1972) – американский государственный деятель, занимавший пост директора Федерального бюро расследований с 1924-го по 1972 год.
(обратно)104
Фильм французского режиссера Алена Рене (1961), знаменитый своей загадочной структурой повествования, в которой трудно различить правду и вымысел, а временные и пространственные взаимоотношения событий остаются неопределенными, был удостоен «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии Французского синдиката кинокритиков, премии БАФТА и номинации на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
(обратно)105
Альфред Штиглиц (1864–1946) – американский фотограф, издатель, владелец галерей.
(обратно)106
Юсуф Карш (1908–2002) – один из величайших мастеров портретной фотографии.
(обратно)107
Уиллис Гарольд О'Брайен (1886–1962) – американский кинорежиссер, один из первых постановщиков спецэффектов в кино, автор таких известных фильмов, как «Затерянный мир» (1925), «Кинг-Конг» (1933) и «Могучий Джо Янг» (1949), «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
(обратно)108
Рэй Харрихаузен (1920–2013) – американский кинопродюсер, сценарист, постановщик спецэффектов, автор кинотрилогии про путешествия Синдбада: «Седьмое путешествие Синдбада» (1958), «Золотое путешествие Синдбада» (1974) и «Синдбад и Глаз тигра» (1977).
(обратно)
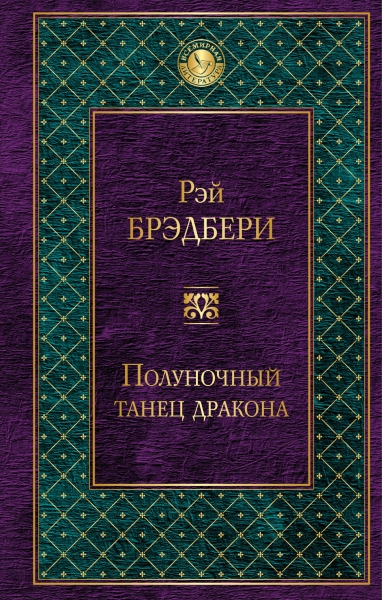



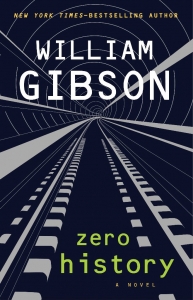
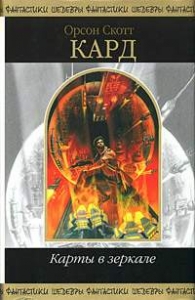



Комментарии к книге «Полуночный танец дракона», Рэй Брэдбери
Всего 0 комментариев