Владимир Куличенко Клуб города N
Клуб города N
Мистическая повесть
Эта история случилась накануне Первой мировой войны. Закончив с похвальной аттестацией Петербургскую военно–медицинскую академию, я несколько лет практиковал в Кронштадтском гарнизонном госпитале в качестве ординатора неврологического отделения, после чего вышел в отставку. Не стану распространяться о причинах своего решения — они сугубо лирического свойства: здесь и непринятие атрибутов воинской жизни, столь милых сердцу служаки, скука и почти повальная страсть к горячительным напиткам в среде офицерства, отсутствие всякой видимой карьеры. Словом, причины были из рода тех, что побуждают неискушенного, не лишенного искры честолюбия молодого человека, верящего в свое, пусть неопределенное, но несомненно высокое предназначение, с порывистой душой и благородными надеждами, совершать поступки, резонность коих поначалу представляется неоспоримой, а по прошествии короткого времени — весьма и весьма сомнительной, после чего лишь остается сожалеть, что таким огорчительным образом познается поучительный опыт жизни.
Итак, передо мной простиралась новая жизнь, и колебаний не было: задушевный приятель зазывал меня к себе в губернский город N. Приятель был сибарит, хлебосол, имел влиятельные связи и четыре тысячи ежегодного дохода. Кроме того, иные обстоятельства повлияли на мой выбор: я чувствовал в ту пору, что должен не только переменить образ жизни, но и совершить поступок (эта поездка и дальнейшее жизненное устройство в провинции виделись мне таким поступком); я был обязан совершить некое деяние для укрепления веры в себя, для устранения тех мучительных вопросов, что неотступно терзают душу на жизненном переломе. Я должен был уехать из Кронштадта, но не к зазывным, как болотные светляки, сумеречным огням Петербурга, а туда, где возможно, как мне представлялось, истинно глубокое постижение смысла своего бытия.
Был декабрь. На дорогах мело. Город N встретил меня покосившейся сторожевой будкой у въезда. Я заночевал на постоялом дворе, а поутру нанял извозчика и отправился к приятелю.
— Послушай, не знакомо ли тебе имя господина Н.А.? — спросил я извозчика.
— Как не знать, ваша милость! Их, почитай, все в городе знают: гуляка видный! Намедни половина ихнего дома пошла с молотка… Оно и понятно никаких денег не напасешься, ежели так кутить!
Эти слова смутили меня. Когда розвальни свернули в переулок, я увидел в самом его конце арочный портал темного мрамора с дубовыми дверями. Раздетые до косовороток мужики выносили из дома мебель и утварь, у крыльца расхаживал помощник пристава. Я велел извозчику подождать и вбежал в дом.
В полутемной, выходящей во двор комнате второго этажа, раскинулся навзничь на смятой постели Н.А. Голова со всклокоченными кудрями безжизненно свисала с кровати, рука тянула край простыни; в ногах сидела некая юная особа в ночной сорочке и, склонившись, закрыв лицо завесой волос, меланхолически водила по ним гребнем. На низком столике подле кровати высились початые бутыли, ваза с фруктовыми огрызками и табачным пеплом.
Н.А. постанывал, вскрикивал. Когда я подошел ближе, его веки вдруг замедленно приподнялись, оголив налитые кровью белки, с губ сорвался бредовый шепот. Состояние моего приятеля представлялось столь очевидным, что я посчитал за пустое какие–либо обращения и, нахмурясь, покинул здание.
Я горько усмехнулся в душе, ощущая себя оскорбленным и обманутым в одно время, но с той же ироничной и ядовитой усмешкой сознавал, что в который раз в большей мере сам обманулся, нежели меня обманули.
По выходе в отставку мне был определен пенсион; кроме того, имелись кое–какие сбережения, и выходило, что я был худо–бедно обеспечен на обозримую будущность. Однако сия констатация принадлежала разуму, слабая моя душа твердила иное: по заведенной привычке мнилось, что я беден, жалок, несчастен, — если не в сию минуту, то стану таковым совсем скоро. По временам представлялось, что я немедля должен нечто предпринять, дабы избегнуть грозящего пагубного положения /и отчего столь непоколебимо уверовал я в безрадостный исход?/. Разные предположения являлись на ум, но как выбрать из них путное? Возвращаться назад, к тому, что, как я полагал, было безвозвратно и навсегда покинуто?.. Уехать отсюда, из города, который я был готов хоть в сей миг оставить без малейшего сожаления? Но куда уезжать? Кто укажет место на земле, где меня ждут? В какую сторону обратить свои гаснущие надежды? Или же оставить упования, рассудительно обратить взор на жизнь и принять ее таковой, какой она меня принимает? В самом деле, когда я покидал Кронштадт, надеялся слабо — ведь мне было ведомо, что Н.А. пьет; но я не желал помнить об этом его изъяне, не считал это помехой, не думал, что так все обернется, я все–таки надеялся, следует признать. И почему у меня вошло в обыкновение опираться на чье–либо плечо, искать поддержку? Вот и теперь, когда я остался один, — постыдно сознавать, но я решительно ни к чему не способен прийти сам, ничего не могу решить, распутать…
Вместе с тем, когда еще ничего не прояснилось для моего сознания, исподволь я уже ощущал итог недолгой душевной маяты: более не отважусь я на перемены, переустройство, и дай Господь, чтобы я не переустроил, а попросту устроил свое существование. Так–то…
Добрые люди подсказали, как найти дом, в котором сдавались меблированные комнаты. Место было никудышное — на городской окраине, у речной пристани, неподалеку трактир, лавки барышников, склады, курные избы на береговом откосе. Чисто, бело, снежно, но весной здесь угадывались мокрядь, грязь…
Дом был старой кладки темно–ржавых кирпичей, перила еловой лестницы скрипели под рукой. Комната опрятная, выметенная, с сатиновыми занавесками на окне, печью в лазоревых изразцах и накрахмаленным рушником у зеркала в тяжелом дубовом окладе. Провел меня в комнату дворовый — высоченный малый без шапки, в туго подпоясанной чуйке и в валенках. Ненадолго оставив меня, он вскоре вновь появился с ведром угля. Я справился, сколько ему полагается за хлопоты.
— Ежели вдобавок воду таскать велите, то, почитай, целковый в месяц выйдет, — осклабился в незлобивой ухмылке Ермил /так его звали/ и стал вынимать из карманов чуйки щепу.
Когда он ушел, я затопил печь и принялся разбирать содержимое чемоданов, в коем занятии и пребывал до вечера, покуда не подивился, случайно глянув в окно, подступившей гробовой темени. Я ворошил угли, задумчиво следя, как вспучивается под кочергой пышущее жаром багрово–алое крошево, затем ополоснул водой распаленные щеки и лоб и лег в постель… Лежа в безмолвии, в необыкновенно остро осязаемой тишине, я вдруг явственно увидел каменные форты Кронштадта, свинцовую гладь аванпорта, вознесенные над заливом жерла береговых орудий и, уже во дворе госпиталя, — матросов в замусоленных робах, оглушенных, ошалело жавшихся друг к другу: на эсминце взорвался погреб с боеприпасами, и на лицах контуженных застыл ужас. Помню, глядя на этих несчастных, мне явилось безотрадное сопоставление — ведь и все мы так же грудимся в жалкой попытке ухватиться один за другого, спрятаться, устоять перед чьим–то смертоносным прищуром… В свете этой фаталистической мысли судьба моя была предрешена, не подлежала сомнению печальная ирония того выбора, согласно которому я самонадеянно вступил в касту врачевателей, тогда как не иных страждущих, а себя самого, свою душу надлежало пользовать, себя следовало спасать первым… Стукнула дверь подъезда, кто–то с глухим покашливанием поднялся по ступеням — верно, припозднился жилец с нижнего этажа, потом донесся ворчливый женский голос, и все стихло.
Поутру непроглядным сделалось оконце — белая, истонченная листва диковинного папоротника залепила его, но к полудню морозец спал, я собрался и вышел на улицу.
За трактиром работники выплескивали из ведер дымящееся варево, возле склада неспешно прохаживался караульщик в тулупе, ниже изогнулся рукав руки в снежно–ледовых гребнях, и к нему с берега спускались стежки.
Я направился к центру города мимо рынка, мимо здания губернской библиотеки, церкви с пристроенной к ней трапезной со скорбными фигурами побирушек на ступенях божьего храма — к земству, к городской думе, где расхаживали гражданские чины, толкался мелкий служивый народ, зазывали газетчики, лоточники выставляли горки ситников, кренделей, леденцовых рыбок и едва ли не на проезжую часть выступали массивные колонны почтамта. Дальше тянулись ряды лавок мастеровых; на спуске улочка сужалась, теснимая неказистыми бревенчатыми пятистенками, и вновь уводила к реке, к затянутым ледком прорубям.
Вернулся я часа через два, надышавшись студеного воздуха, принеся газеты и кулек пышек; растопил печь, улегся под стеганое ватное одеяло, взял было газету, но не сумел одолеть подступившую немощь, задремал, разомлев в тепле, и пробудился, когда уже смеркалось. Покуда заваривался чай в жестяном чайнике, я смотрел в окно. Мысли мои витали далеко от насущных забот. Я родом из–под Пскова, и мне вспомнились конные прогулки по тамошним привольным лугам, утиная охота, когда, невидимый в осоке, берешь навскидку ружье и замираешь в ожидании выстрела напарника, и все чувства в душе сливаются в одно — необъяснимое, всепоглощающее, и ничто в мире более не существует, все исчезло, кроме этой страстной жажды сухого хлопка. Вспомнился дом с высокой — шалашом — крышей под соснами, с белым резным крыльцом, отцовская псарня, пруд, в котором бабы стирали белье и водились золотые караси, гульбища в ригах, ночные костры на пастбищах. Но там же, в доме с видным за много верст горластым деревянным петухом на коньке крыши, зародилась и оттуда пришла слабость души, болезненная неуверенность, неизбывная тоска; стала при волнении подергиваться рука — вот и в сию минуту, когда она тянется к кисету, пальцы с дрожью захватывают щепоть ядовито–сладкой, перечно–душистой травы. Уже тогда, юношей, еще не покинувшим отчего крова, пребывая в ежечасном избытке чувств, я терзался неуемной тревогой за близких /мать на моей памяти никогда не улыбалась/ и за себя. Уже в ту пору красота и страсть к упоению жизнью представлялись роковыми, гибельными, ежели им доверяться без остатка, но и не отдаваться им было невозможно, — вот откуда проистекает моя ущербная раздвоенность, нервозность и раздражительность. Сладость моей юности была отравлена сердечным разладом, в одну минуту я был и не я, всегда как бы заступал за нечто — со страхом заступал, не веря в возвращение…
Я набил трубку, поднес в щипцах потрескивавший уголек — белесая прядка, колеблясь, потянулась вверх… Человек способен жить, памятуя ежеминутно о бренности собственного творения, и жизнь с холодной скрупулезностью свидетельствует об его обреченности. Человек стремится к бессмертию, а умирает от закупорки мельчайшего, с волос, сосуда — здесь заключаются противоестественность всякого устремления, изначальная пагубность существования, ибо мы беззащитны, немощны перед теми испытаниями, что посылает нам природа, мы наделены лишь даром агонизировать, иезуитски хитроумными хирургическими приемами продлевать агонию. Нет спасения ни в слабости, ни в готовности принять новые несчастья от этого мира, ни в наивном извечном поиске человеческими сердцами радости.
____________
Минула неделя. Ударили морозы, я не выходил во двор, читал до ломоты в затылке, отбрасывал книгу, ворочался на кровати, зевал, а когда скука донимала нестерпимо, прерывал добровольное заточение и спускался к Леонтию, чтобы совершенно бездарно потратить время за картами или игрой в орлянку.
Комнаты внизу снимали некий господин с семейством, служивший в земской кредитной кассе, и молодой щеголь Леонтий — гувернер младшей дочери одной богатой местной вдовушки; беловолосый, с тонким подвижным лицом, имевший привычку при разговоре уводить взгляд в сторону. Ермил отзывался о нем неодобрительно: «Неудельный малый''. Я же был доволен новым знакомцем, правда, однажды невзначай выказал недоумение — мол, где видано, чтобы гувернер не проживал под одной крышей с воспитанниками? Позже, когда отношения между нами сделались по–братски доверительными, Леонтий приоткрыл загадку — еще при жизни супруга полковничиха имела адюльтер с гувернером, а когда овдовела, стала не таясь волочиться за ним, не желая, впрочем, узаконить связь. Произошла ссора, после которой Леонтий оказался на улице, но оставлен великодушно при прежнем занятии, что давало лазейку для восстановления отношений. Однако никто из любовников не выказывал намерения делать первым шаг к примирению: полковничиха, по всей очевидности, желала, чтобы строптивый юнец тверже усвоил преподанный урок, а Леонтий радовался свободе и тому, что исправно получал жалованье.
Комната у него была меблирована наподобие моей, без изыска; и мы порой просиживали дни напролет в табачном дыму, раскладывая карты, посылали Ермила в трактир или к бабке–шинкарке за водкой. Часто выходило, что я в изрядном хмелю подымался к себе уже за полночь… И вот как–то поутру, скажу вам, пробудился я невесело, хлебнул воды из чайника, поворотил тяжеленную голову и вижу в каком–то размытом свете на истертом половике возле двери почтовый конверт. Я поверил собственному зрению лишь потому, что тотчас узнал этот конверт из плотной желтоватой бумаги с крупными корявыми буквами. Хмель испарился, а в душе возродился слабый ропот. Я сел на мятую постель и утомленно опустил руки — ради всего святого, оставьте меня в покое. Как вы меня нашли, зачем я вам нужен? Почему вы упорно стремитесь к тому, чтобы наши дороги пересеклись? Чья рука начертала эти уродливо–слоновьи буквы?
Я вынул из конверта листок, дабы удостовериться в неизменности доносимой им фразы: «Спасите нас! Терпящие страдания взывают о вашей помощи! Клуб города N». Подобные необъяснимые воззвания я получал еще находясь на службе в Кронштадте и верил, что с переездом моя связь с таинственным отправителем писем расторгнется. Об этих письмах было бы опрометчиво думать как о розыгрыше, ибо розыгрыш чрезмерно затянулся, а тот, кто пожелал бы насмехаться надо мной, наверняка бы нашел иную форму, иной способ, иные словеса, поскольку на роль спасителя я никак не годился. По прошествии времени я перестал гадать, махнул рукой и оставлял конверты невскрытыми. В ту пору иное захватило меня — нахлынула волна болезненных и мучительных самонаблюдений. В значительной мере я был отторжен от реального мира, много больше принадлежал себе, а не ему, жил той жизнью, в которой не было войн, любви, криков о помощи, голубиного полета, дубовой рощи на холмистом склоне. Я сторонился внешнего мира, в нем таилась угроза, вероятная боль, я уходил нет, не в себя, а к себе. Я никогда не понимал внешнего мира и чувствовал всегда, что ему не принадлежу, что по недоразумению, должному некогда разрешиться, соприкасаюсь с ним, что моя плоть единственно связывает меня с ним тонкой пуповиной. Я участвовал в событиях собственной жизни механически, бездумно, как марионетка, подвешенная на нитях судьбы; находил фальшь в своих устремлениях к медицинским наукам, образованию, положению в обществе, истинное мое «Я» лежало вне всяческих устремлений. Мне представлялось, что мое «Я» находится в подчиненной зависимости от того, что пребывает вне меня, не сразу я осознал, что путь к самому себе — единственный путь к свободе и спасению. Однако мне никак не удается распутать путы окружения, я чрезмерно горяч, спешу принять правила игры, прежде чем понимаю, что эта игра меня вовсе не касается. Может статься, я интуитивно пытаюсь соединить эти миры, порой подозреваю, что мне мало одного моего внутреннего мира, я ему не всецело принадлежу, как и тому, что вне меня, — но чему тогда принадлежу я конце концов? Кто ответит?
_____________
Зима, казавшаяся нескончаемой, как лента Мебиуса, внезапно исчерпала себя — как будто что–то сломалось, оборвалось в отлаженном за тысячелетия механизме природы: налетели стаей теплые ветры, разогнали холодные туманы, просели побуревшие снега, слились с землей на пригорках, застыли в низинах лужинами; ледовую рубаху на реке разорвали трещины. В три искрометных солнечных дня очистилась улица, стала голая, неезженая, тихая, застеленная черными тенями. Ермил разболтал в ведре сажу в постном масле и мазал оплетенную кованой лозой ограду во дворе, а отощавший за зиму подвальный кот позевывал на прогнившей приступке крыльца.
Поутру я выходил во двор, здоровался с Ермилом, шел на берег реки или, по настроению, садился в вагонную конку, запряженную постовыми лошадьми, и ехал через весь город. Столовался я в трактире, где можно было угоститься не только румяной гусятиной с молодым вином, которое в крепких бочонках доставляли с речных складов, но и спросить самовар, что я и делал с неизменным постоянством.
У трактира на грязных досках толкались юродивые, христарадники с котомками, заглядывали ладные парни в сафьяновых сапожках, смешливые молодухи из окрестных деревень; пили березовый квас из ушата по двугривенному за кружку, а по вечерам то и дело отпахивалась дверь под литым плечом какого–нибудь шатко переступавшего грузчика–ломовика и на улицу вырывался хмельной распев:
— Жареная рыбка, маленький карась,
Где твоя улыбка, что была вчерась…
А ночами, пробудившись с необъяснимым беспричинным волнением, я подходил к окну и видел в южной стороне неба созвездие Льва с яркой звездой Регул…
Стремглав, в один день, нарушилась весенняя тишь — с руганью и криками затопил берег рабочий люд, приволокли на канатах лязгающие металлом машины и стали копать да с мерным стуком сотрясать землю: забивали сваи под древесный склад для некоего самарского купца, удлиняли пристань.
И под этот неумолчный грохот вошли перемены в мою жизнь, которая только–только началась налаживаться — не в смысле быта, обыденности, а в смысле обретения душевной гармонии, успокоения. Я стал подумывать о том, чтобы подыскать работу. В ту пору явственно ощущалось дыхание надвигавшейся войны, повсеместно создавались курсы сестер милосердия, и эти веяния не минули город N. Подал и я прошение о зачислении меня в качестве преподавателя на сестринские курсы и уже имел разговор с советником, осуществлявшим от лица земства надзор и попечительство над училищами, и разговор этот для меня был благоприятен. Главное же, я вдруг начал чувствовать, как здоровею душой, как всевозможные сомнения, что преследовали меня неотступно, разрешатся сами собой. Я начинал понимать, что мною довлели не здоровые прагматические сомнения, а болезненные рефлексии, рожденные моей роковой раздвоенностью. Дуализм моей души представляйся трагическим; я сам по собственной воле пытался поставить себе подножку, толкнуть в яму, в месиво. «Но враг ли я себе? Нет, тысячу раз нет!» — так сказал бы каждый, так говорил я и верил, что выкарабкаюсь, избавлюсь от своей половины своего мучителя, — вдохну всей грудью благостный воздух очищения.
Помнится, сразу после Пасхи я вновь обнаружил под дверью конверт. Я воспринял его как новое предостережение тех сил, что не хотели уступить, и от чьей цепкой хватки я силился избавиться. Медля, не решаясь вскрыть конверт, я спустился под лестницу в дворницкую и спросил Ермила, не приметил ли он того, кто поднимался поутру. Малый испуганно осенил себе крестным знамением: «Вот–те Никола Угодник! Никого не было слыхать, барин!».
Развернув сложенный вчетверо лист бумаги, я прочел: «Милостивый государь! Настал час раскрыть инкогнито. Ждем Вас пополудни третьего дня в саду у Никитского спуска. Клуб города N».
«Не идти? — сразу решилось. — Скажу как на духу, почтенные господа, — я вас не знаю и знать не желаю!»
В назначенный день я долго собирался, раздумывал, но знал, что пойду. Не прийти — означало отложить разрешение загадки, и без того безмерно затянувшейся, оставить не проясненными вопросы и не сказать тому или тем навязчивым шутникам, что я покорнейше прошу оставить меня в покое.
Было мглисто. В парке над аллеей клонились мокрые ветви. Я рассеянно прохаживался у чугунных ворот, по временам отжимая крышку хронометра, — я намеревался ждать не дольше пяти минут. Неожиданно над самым ухом оглушил зычный голос:
— День добрый!
Я оборотился и произнес с неудовольствием и пренебрежением, которых не хотел скрывать:
— Это вы мне, сударь?
— Вам, Павел Дмитриевич, — ответил гренадерского роста черноусый мужчина с пунцовым набрякшим лицом.
Тон его голоса был грубоватый, глаза стальные, не лишенные живого блеска, смотрели настороженно, затаенно. Одет он был не то чтобы нелепо, неряшливо, а попросту курьезно: бобриковое, в сальных потертостях, пальто, распираемое вислым животом, крохотный клоунский котелок на макушке, галоши, натянутые поверх лакированных туфель, довершала несуразный наряд трость, казавшаяся хворостинкой в могучей руке. Вяло ухмыльнувшись, господин дал понять, что он плевать хотел на то, какое произвел впечатление.
— С кем имею честь?
— Ну, имя мое вам, видать, ничего не скажет, а ежели вам так желается, — Трубников Иван Демьянович, здешний мещанин, православный, 43–х лет, а больше вам про меня ничего не надобно ведать, — он пожевал толстыми губами, вызывающе усмехнулся.
— Не испытываю интереса к вашей персоне, — произнес я с известной резкостью, — однако хотел бы разузнать причину, по которой столь длительное время…
— Понятно, — отозвался он. — Вы не серчайте, Павел Дмитриевич, тут дело сурьезное: больные люди на свидание с вами меня отрядили.
Я вскинул брови.
— Что за люди?
— Из клуба больных контрактурами, — он замолк.
После паузы я, пребывая в той стадии изумления, которая граничит с растерянностью, пробормотал:
— Впервые слышу о таком клубе… К тому же, сдается… — и неуверенно глянул на него.
— Здоров, — подтвердил он, мотнул головой и прихлопнул ладонью съехавший на ухо котелок. — Здоров как греческий Геракл, но близкие мне люди, чьи судьбы связаны с моей, имеют несчастье быть в числе тех, кого поразила ужасная хворь. Помня о милосердии и сострадании, я не мог отказать им в участии. Надеюсь, Павел Дмитриевич, не откажете и вы.
— Что имеется в виду?
— Мы читали вашу статью в «Военно–медицинском журнале» и наслышаны о вашем методе.
— Это не метод, а всего только опыт, если ходите, наблюдение, из которого следует довольно спорное предположение, — пояснил я, начиная подозревать, что увалень в потешном котелке метит далеко. «И что у него за странная манера выражаться — переходя с просторечия на высокий штиль, и наоборот?» — подумал я.
— Статья совершенно изумительна и исключительна по глубине научного поиска… Такую статью написать — не блинов напечь. В вашем распоряжении, Павел Дмитриевич, будут сотни пациентов, верящих в чудодейственную, исцеляющую силу вашего метода, вы должны им помочь — на небесах вам воздается за доброту.
— Не думаю, — не удержался я от ироничной нотки. — Должен сказать, что никогда не отказываю в помощи, если вижу, что могу вправду помочь. Ныне я без работы, у меня отсутствуют всякие условия для практики…
— Нам известны ваши затруднения…
— В любом случае обязан вас разочаровать — едва ли кто из медиков решится применять мой метод, и даже я, автор, не буду исключением.
— Что же вас останавливает? В чем закавыка?
— Повторяю — метод мало опробован, риск не оправдан. Врач не имеет права ступать по тонкому льду.
— Как вам будет угодно, — Трубников неожиданно дал понять, что не прочь завершить беседу. — Рад был знакомству! Ежели чего не того сказал, извиняйте, мы люди дремучие. Оно понятно — не всем же мед кушать, да еще и ложкой!
«К чему он это сказал, про мед?» — спросил я себя, глядя, как этот увалень вперевалку пошагал в конец аллеи и через десяток шагов отбросил, видно, машинально, как ненужный предмет, трость, снял котелок, огладил ладонью затылок…
Что еще за клуб больных контрактурами? Бред! Ахинея! Я чувствовал себя невольным участником мистификации. Вечером я перечитал свою статью в «Военно–медицинском журнале», которую, впрочем, помнил почти дословно. Мною описывались клинические проявления так называемого феномена «головы и глаз куклы» больных в состоянии комы с прогрессирующим параличом лицевого нерва, в большинстве своем это были моряки, спасенные после кораблекрушений, среди них женщина средних лет, повариха. У нее диагносцировалась ярко выраженная невропатия лицевого нерва, глубокий паралич с утратой мышечного тонуса правой половины лица, отчего оно было перекошено, веки правого глаза не смыкались, из глаза текла слеза. Не имелось сомнений, что заболевание наступило вследствие переохлаждения, вызванного пребыванием в воде, и перенесенного шока. Консервативное медикаментозное лечение, как часто бывает в подобных случаях, пользы не дало. Женщина ужасалась, видя себя в зеркале, депрессия усугублялась, порой переходя в психоз. Однажды в состоянии полнейшего беспамятства она выбросилась из окна. Палата находилась на втором этаже — в ту ночь я нес дежурство, — и когда раздался истошный крик, стремглав выбежал во двор. Женщина изогнулась на брусчатке, нога ее была неестественно вывернута, кусок берцовой кости прорвал чулок. Санитары уложили ее на носилки и внесли в приемный покой. Несчастная уже не стонала, ее лицо, облитое слезами, просветлело; на нем читались умиротворение и покой, оно разгладилось, помолодело, мимика полностью восстановилась, и не было никаких следов ужасной маски паралича. Я смотрел на больную и не верил своим глазам. «Почему вы так на меня смотрите, доктор?» — устало выговорила она, вздохнула, сомкнула веки и заснула глубоким сном… Этот случай из моей практики и лег в основу статьи, где я высказал предположение о лечении контрактуры лицевого нерва методом болевого шока. Как и другие мои работы, статья эта осталась незамеченной в медицинских кругах.
В ту ночь я не заснул — не потому, что мне совсем не понравились многозначительные ухмылочки господина Трубникова, его подчеркнуто фамильярный тон; я внезапно понял истоки поведения этого господина — они знают, с кем имеют дело. Я остро ощутил собственное безволие, нараставшую абулию, невозможность сопротивления неведомой силе, которую, вполне вероятно, представлял явившийся на встречу аляповато обряженный здешний мещанин. Я тотчас уловил дыхание той силы, едва он обратился ко мне, — но та сила не была смерть. За годы работы я привык к явлению смерти: у нее обыденное, хлопотливое, вовсе не безносое лицо пустоголовой деревенской бабенки, явившейся на ярмарку и озабоченной тем, чтобы поспеть повсюду и ухватить свой товар. В смерти нет тайны, а в той силе, которую, повторюсь, возможно, бессознательно представлял грузный господин, тайна присутствовала. Я затруднялся дать рассудочное объяснение своим чувствованиям, и мое беспокойство множилось.
Поутру я сходил в баню, надел чистое белье, а после направился в губернскую библиотеку, где абонировался на чтение книг, выпил три стакана чаю в трактире и вернулся в свою келью. Я еще что–то пытался сделать, помню, раскрыл роман, но тут меня свалил сон…
Когда я пробудился, услышал слабый аромат — дверь была приотворена, однако этот запах не шел с улицы, и в комнате не имелось предмета, который мог бы его издавать; женские духи пахнут сладостней, выразительней, пожалуй, его могут оставить лесные цветы, но, оглядевшись, я нигде не приметил букета, или же его кто–то убрал незадолго перед моим пробуждением…
Днем я побывал в приземистом, с обветшавшими стенами, здании за железнодорожной веткой, где размещалась курсы. Распорядитель встретил меня весьма любезно, показал классы, провел по кабинетам, подолгу отвечая на мои редкие вопросы, и вел себя так, словно я уже был зачислен в когорту преподавателей. Заминка заключалась в том, что находилось в отъезде одно важное лицо, подпись которого была совершенно необходима для решения моего дела. Возвращения этой персоны ожидали со дня на день. Составив нужные бумаги, я простился с распорядителем и направился назад окольными путями. За железнодорожным переездом громоздились навалы мокрого прошлогоднего угля, в раскисшей земле вязли сапоги, но я упрямо брел по бездорожью…
Так я вышел к реке — освобожденная ото льда, она еще не пробудилась от зимнего гипноза; воды текли слабосильно, астенично, затапливая в низинах берега. Вековечный пейзаж пробуждающейся природы западал в душу, наблюдаемая мною картина — низкое небо, облака, застывшие в безветрии над бурой степью, в куцых перелесках, — была совершенна своим естеством, но в основе ее гармонии лежала еще одна, едва ли не главенствующая, причина: картина была бестелесна, абрисы человеческой фигуры не разрушали ее соразмерность. «Человек является губителем вселенского порядка, — подумалось мне, — уродует красоту мира, и потому природа отторгает, изгоняет его из своего круга; ей чужды его страсти, она не внемлет метаниям его истерзанного духа, она сторонится своего буйнопомешанного сына…» В тиши на берегу я остро переживал изначальную тщетность всяких попыток слияния с миром, условность и, если угодно, нелепость собственного бытия. Но как найти смысл, истинную меру справедливости, куда обращено возглавье того камня, в котором сходятся судьбы Вселенной, человечества и моя судьба? Говорят, существуют два мира видимый и незримый, неосязаемый, — и есть люди, одаренные способностью свободного перемещения из одного мира в другой. Может быть, мне так тесно, так неуютно в этом мире потому, что ему не принадлежу, что он послан мне лишь как испытание, а принадлежу я иному миру? Но о том, другом мире, я ничего не знаю, а в этом, осязаемом, нахожу одно дурное — или тот мир, к которому слепо простираю руки, в самом деле лежит во мне?
Ночью я проснулся — внизу раздавались приглушенные шаги, падала посуда: верно, Леонтий вернулся навеселе. В окне было темно и звездно. Я вспомнил толстомясого господина в курьезном котелке набекрень — единственное, в чем можно было ему верить, так в том, что он действительно кого–то представлял, кем–то был отряжен на встречу со мной. Едва ли моя статья заинтересовала их в той мере, как он утверждал; я подозревал, что подлинная причина была сокрыта в ином? В чем?
Наутро, когда я заканчивал бритье, дверь в комнату приотворила скромно одетая девушка в темном плисовом капоте, отороченном сереньким мехом, в просторно ниспадавшей до щиколоток юбке и в ботинках — походила она на курсистку из бедной мещанской семьи.
Мне подумалось, что девица, верно, ошиблась, и ей нужен кто–то иной. Я ополоснул лицо, похлопал по щекам концом полотенца и только затем вновь оборотил взор на дверь: незнакомка оставалась недвижима за порогом.
— Вы ко мне? — я не сомневался в происходящем недоразумении.
Она негромко отозвалась.
— Ежели ко мне, тогда милости просим, — пытаясь за шутливым тоном скрыть известное удивление, откликнулся я и осекся, едва она сделала шаг из полутьмы коридора.
Она остановилась, невесело наблюдая, как я, пораженный, не могу оторвать от нее взгляд, — похоже, в подобных сценах ей доводилось участвовать не впервой. Сказать, что она была красива, значило бы не сказать ничего. Ни милая сердцу веселость румянощекой крестьянки, ни змеиная грация танцовщицы, ни томно слабеющий взмах руки куртизанки, ни очарование увядающего осеннего сада, ни закат, раскинутый пурпурным плащом над озером, — ни одна из этих красок не понадобилась бы для написания ее портрета. Живописец изобразил бы бескровный лик статуи, алебастровую маску классически соразмерных форм, на котором не жило чувство, ни чем не выдавалось дыхание трепетной человеческой души. Ее непроницаемое лицо гипнотически притягивало и необычным совершенством, и трагической окаменелостью. Добавлю — на нем никак не выражалось присутствие души, но было явственно запечатлено дыхание вечности.
— Вам желается знать, кто я? — произнесла гостья глуховато, размеренно, глядя на меня ничего не выражавшими, будто бы подслеповатыми глазами. — Я из здешнего клуба больных контрактурами…
— Уже наслышан, — отупело пробормотал я, помог гостье снять капот и провел ее к табурету.
— Вам, по всей очевидности, не следует разъяснять цель моего визита? справилась она, обратив безучастный взор не на меня, а в окно.
— Догадался и вынужден вас огорчить: я не практикую, mademoiselle…
— Юлия, — назвалась она и неожиданно повернула ко мне лицо–маску с выраженными височными артериями.
— После ваших слов ничего другого не остается, как встать и уйти, рассудила она, обращаясь как бы к себе самой. — Однако, в таком случае, не будет ли вас мучить совесть?
— Возможно, — неловко улыбнулся я, — но принужден напомнить первую заповедь врача: не навреди. Поверьте, лекари как никто остро чувствуют относительность и несовершенство человеческого знания, получая каждодневные тому подтверждения. Не должен подобное говорить, но не хочу лицемерить. Я бы мог, разумеется, обследовать вас, назначить лечение, но, повторюсь, не имею намерения обманывать ни вас, ни себя.
От нее исходил тончайший аромат резеды и ландышевого мыла.
— Вы уже бывали у меня?
— Я заходила к вам намедни, но вы почивали.
О чем она думала, глядя в окно? Она принудила меня оправдываться, чувствовать за собой вину — вину, которую я не мог признать. И кого винить? Несправедливость и жестокость природы? Не слишком ли распространенное обвинение и заодно оправдание? Я полагал, что она заплачет, но вместо этой естественной женской реакции, произнесла не изменившимся голосом:
— Желается вам знать, что я — необычная пациентка. Когда я вижу в зеркале свое лишенное красок и теплоты жизни лицо, я нахожу себя словно полумертвой, то есть я не живу, не существую в той мере, в какой, например, существуете вы. Мне известно о непознанных мною безднах радости, счастья, полноты чувств, и я надеюсь, что стоит мне избавиться от моего уродства, как я познаю их. Вы слышите, господин доктор? — неожиданно добавила она и продолжила, не дожидаясь моего ответа. — Но вслед за тем я прихожу к совершенно противоположному подозрению: уродливо ли мое лицо? Ведь многие находят его изыскано красивым… К тому же, есть ли в жизни те бездны счастья, о которых столь часто и надоедливо разглагольствуют люди? И почему та, кто обладает пусть редкой, холодной, но красотой, никогда не чувствовал себя счастливой? — она опять на мгновенье умолкла. — Говорят, что моя красота леденит душу. Вы не находите?
— Вы явились ко мне за тем, чтобы я выписал рецепт счастья?
— Я не столь наивна, но… — она запнулась, — но я должна была к вам прийти, — тотчас барышня с лицом деревянной куклы встала и, чуть сутулясь, по–старчески засеменила, не попрощавшись, к двери. — Позже вы поймете меня…
За окном усыпал дорогу куцый весенний снежок. У меня осталось грустное чувство после ее ухода — не потому, что я узрел еще один из нескончаемой череды ему подобных пример бездушия природы, но потому, что девица несла с собой боль, к виду которой мое сердце не очерствело. Я сознавал, что ничем не мог ей помочь, и в этом смысле был честен перед собой, однако признание собственного бессилия не утешало, а унижало меня. Наблюдая мысленно свою гостью, я находил и у себя ущербность. Она сказала, что она полумертвая, а ведь и я — живу ли? Да и другие — живут ли? Мы все пригнетены необходимостью, наш дух, по сути, умерщвлен, мы существуем рефлекторно… А у нее, неожиданно подумалось, верно, двусторонняя контрактура лица, сильно поражены лобные и скуловые мышцы — с медицинского угла зрения, вероятно, было бы любопытно ее наблюдать. Впрочем, она заинтересовала бы не только невропатолога, но и антрополога: какой–то и вправду необычный человеческий тип, некое неизъяснимое притяжение было в чертах лица сутулой курсистки.
Я заварил чай в облупленном фаянсовом чайнике, поднес к губам чашку, подул, разгоняя горьковатый парок… Вот ведь что непостижимо — минуту назад она сидела передо мной на стуле, и вот ее уже нет, точно не было никогда. Нечто подобное описывал Беркли, этакий незамысловатый философский этюд: слышишь, как едет карета по мостовой, значит, карета существует, и существует до той поры, пока доносится перестук колес… Мы все неспешно уходим, погружаемся в небытие: я со своими рефлексиями, опухший от пьянства Н.А., Леонтий в объятиях похотливой вдовушки, Юлия… Но ее лицо — «уродливо прекрасное» — в отличие от бесчисленного множества иных не исчезло во мраке, а проплыло и начало, напротив, ярче вырисовываться перед моим мысленным взором; ее образ как бы противился погружению во тьму.
Я спустился к Леонтию, — он спал в батистовой сорочке, и на голове белел вольтеровский колпак, старивший его. Я не решился будить гувернера посидел у кровати, меланхолически оглядывая комнату, видя в окне все те же крупицы замедленно падающего снега, слыша, как Леонтий причмокивает во сне. Шумно выдохнув, он повернулся на бок, и старческий колпак съехал с его головы, после чего светлые волосы разметались веером, усыпали подушку. На полу под кроватью стояли початая бутыль и высокий фужер с засохшей на дне каплей красного вина. По стенкам фужера ползала муха, — я спугнул ее, брызнул струей, наполняя фужер до краев, и в три глотка осушил его. Затем поднялся к себе, переоделся и вышел на улицу.
Я не знал, куда шел, — машинально переставлял ноги. Помалу шаг мой убыстрялся, мостовая клонилась, падала со взгорка, и я вышел к реке. В заводи, в подкове низкого глинистого лысого бережка была недвижима лодка, точно впаянная в воду. «Желается, господин почтенный?» — поднял голову сидевший в лодке старик в солдатской шинели и взялся обматывать тряпьем культю, что была взамен правой ноги. Я неопределенно махнул рукой: «На тот берег». — «В какую деревеньку — в Касьяновку, Заболотово иль Ивановское?» «Ты меня на тот берег перевези, а там я сам дойду». — «Как угодно вашей милости».
Я прыгнул в лодку и уселся на дощатую перекладину. Лодочник с удовольствием на небритом морщинистом лице огладил повязку на культе, поплевал на ладони и взялся за весла. Греб он неспешно, умело, ладно, долгими пружинистыми гребками, с тихим плеском погружая лопасти весел. На середине реки мне вдруг стало страшно — конечно, страх этот имел причину, я представил, какая толща воды подо мной, но причина эта была не единственной. Нечто недружелюбное, угрюмо–зловещее присутствовало в пейзаже сонной природы окрест, в надвигавшемся крепостной стеной обрыве берега, да и в самой фигуре лодочника, с хитроватым испытывающим прищуром поглядывавшего на меня. «Что ему надобно? Почему он так смотрит?» — думал я с усиливавшимся беспокойством. Облегчение не пришло и тогда, когда лодка уткнулась в прибрежную полоску земли. Я отсчитал старику несколько монет, спрыгнул и быстро пошагал, удаляясь от берега, затем вскарабкался на обрыв, не найдя тропки, и ступил в степь — пустынно–голую, неприютную. Ветер пронизывал мои одежды; вороны отчаянно взмахивали крыльями, борясь с воздушными потоками. Дуло столь свирепо, что представилось, как меня сорвет с обрыва и понесет.
Я направился по самой кромке обрыва, рискуя сорваться, через какое–то время повернул в степь и упал грудью на пригорок, уткнувшись лицом в пучок куцых трав. Земля была холодна и безучастна. Я ничего не хотел сказать ей, лежал, закрыв глаза, слыша, как завывает вихорь, и как бы медленно уходил прочь от самого себя, к неведомому горизонту. Более ничего не осталось в моей жизни, кроме этого призрачного горизонта, до которого у меня не достало бы сил дойти, и ноги мои с неизбежностью подкосились бы…
Тот же одноногий лодочник переправил меня назад, и я, озябший, забежал в трактир, присел возле очага и попросил горячего вина с корицей и перцем. Прислуживал сам хозяин — чернобородый, степенный, всегда трезвый мужик, относившейся к посетителям с отцовской снисходительностью. Я сидел, протянув ноги к огню, мелкими глотками отпивал обжигающий губы напиток,
Хлопнула дверь, и молодая женщина с претензией на элегантность в облезлом меховом манто, в мятой шляпке направилась к стойке. Трактирщик налил ей водки, но денег не взял — верно, он хорошо знавал эту особу. Она лихо запрокинула рюмку, промокнула губы платочком, что–то весело шепнула ему и деланно засмеялась.
Когда я вышел, сразу обратил внимание на эту дамочку — со скучающим видом она стояла на тротуаре неподалеку.
— Гуляете? — справился я невзначай.
— Гуляю.
— Отчего же одна?
— Так веселей.
— Вы, верно, любите юмор?
— По всякому бывает, — неумно отозвалась она.
Я чувствовал всю лживость своего заигрывания, но уже знал определенно, что не могу не пригласить к себе эту тротуарную девку…
Она вошла, рассеянно оглядела комнату: «Как здесь пусто», — опустилась на стул. Я должен был сказать любезность, угостить шампанским, но не нашел ничего лучшего, как неловко напомнить:
— Вы забыли снять манто.
— Я не забыла, — недовольно произнесла она, — тут зябко, а я привыкшая к теплу, — и завела прядку волос за крохотное ушко. Личико у нее было чистое, молодое, бездумное, с легким румянцем, но какое–то заспанное и как будто по этой причине слегка сердитое.
— Чаю с сухарями желаете?
— Вы и дальше будете болтать?! — раздраженно и с оттенком недоумения отозвалась гостья.
Она бросила на сиденье стула манто, расстегнула ворот и сняла платье через голову, оставшись в застиранных панталонах, плотных шерстяных чулках и в лифе. Разделся и я и лег под одеяло. Меня всегда занимала эта особенность человеческого поведения, несоответствие между тем, что указывает тебе разум и тем, что ты делаешь на самом деле. Сейчас я с удовольствием бы раскрыл страницы книги, но почему–то взамен этого тупо ожидал, когда стянет чулок неизвестная мне скучная глуповатая дамочка. С большой долей вероятности можно было сказать, что и она едва ли думала обо мне, а скорей о каком–нибудь дырявом чайнике, который нынче вечером ей предстояло отнести лудильщику. Единственное, что нас сближало, — наша нелепая случайная встреча сегодня.
Она обхватила плечи, выставив худые острые локти, пробежала на цыпочках, забралась под одеяло, порывисто прижалась ко мне, ища тепла.
Я всегда верил, что женщина необыкновенное, возвышенное создание, почти божество, даже в падении ей свойственно очарование, что само падение только от ее слабости, а не от врожденной низости, — можно ли представить, сколь часто доводилось мне испытывать разочарование?
— Ты бывала прежде в этом доме?
Она помолчала, настороженно выжидая, что последует за моим вопросом, и после призналась:
— Никак доводилось.
— Ермила ублажала?
— А вам должно быть без разницы…
«Верно, — помыслил я, — мне должно быть без разницы». Она начала осторожно ласкать меня привычными к мужскому телу пальцами, а я, будучи не в силах побороть отвращения, резко отбросил ее руку, досадуя, что затеял эту неуклюжую забаву, встал, отыскал трубку…
— Ради Бога, собирайся наскоро и уходи — вот деньги, — я положил на стол купюру и бросил кулем одежду на кровать.
Мадмуазель стремглав вынеслась из комнаты, наверняка опасаясь, что я могу раздумать и отобрать деньги.
Через какое–то время я спустился во двор, сел на скамью под липой, ветви которой ложились на скат крыши. Ни души не было во дворе, только пара голодных котов выбежали в надежде заполучить от меня кусок. Двор с внутренней стороны ограждал накренившийся забор из темных рассохшихся досок, за ним тянулась межа в пожухлом бурьяне, разделенная дорожкой к лавке керосинщика, за лавкой легли огороды, посадки деревьев, лепились избы. Дымок из трубки щекотал ноздри, я вяло помахивал рукой перед лицом, разгоняя клубы дыма; обернулся, когда с улицы донеслись пьяные голоса. Я различил за углом очертания силуэта, бывшего мне знакомым, как показалось. Я поднял голову девичий абрис, вознесенный на конек крыши, с руками, простертыми к зовущим небесам… Таким прихотливым и мимолетным образом соткался табачный дымок, но силуэт исчез не сразу, когда я в душевном напряжении отвел в сторону руку, а мгновением позже, побыв ровно столько, чтобы я убедился в его реальности. Вслед за этим вспомнилась шутливая строка: «Что за странный домовой пролетел над головой?» — я посмеялся над собой и вечером того же дня сходил в синематограф, где чудесно отдохнул.
__________
Читатель, возможно, уже составил представление о характере моей жизни, и не следует разъяснять, что мое существование, внешне незаметное, размеренное, требовало значительных духовных сил. Признаюсь, я сам себя всегда плохо понимал. Смешно говорить о моем авантаже перед кем–либо. Я не стремился к раздолью, которым прельщаются в мои годы, не искал богатства; помыслы о признании и известности в мире медицинской науки были давно похоронены. Я избегал соблазнов, подстерегавших и разбивших судьбы многих: гордыни, сребролюбия, тщеславия, — и все же необходимость жизни отнимала у меня все жизненные соки. Я радовался, как ребенок, провожая прошедший день, и просыпался с камнем на душе, с щемящим сознанием некоей своей вины. Вероятно, мысль моя еще слаба, чтобы пролить свет на происхождение моей хандры; частенько я был вял, как занедуживший старик. И раньше я не видел себя участником людского хоровода, однако не сторонился, не тяготился им так, как ныне. Порой мнилось, что и без пищи я способен обходиться вполне, и в самом деле сутками напролет не вставал с кровати — я не находил ни в чем смысла, не видел ни в чем нужды; обычной слабостью, переживаемой весной, это не объяснялось. Я никогда не видел себя участником жизни, но отчего столь остро, столь настоятельно я ощущал себя неудачником, несчастливцем? Здесь был какой–то знак, я верил.
Непонятно почему вставала перед взором некая женщина. Облик ее не проступал на темном, усыпанном звездами полотне; сия мечтательность и необъяснимая страсть узреть ее не были прекраснодушны, поверхностны, тяга сделалась почти необоримой — я жаждал как бы спасительного видения, терзался, и в один миг резко проступила недвижимые алебастровые губы. Взгляд ее был направлен прямо на меня, был строг, назидателен и звал куда–то. Ведение явилось столь явственно, выпукло, осязаемо, что я невольно вскрикнул и закрылся рукой, словно защищаясь от устремленного сквозь меня всепроникающего взора. Протяжно запели петли отворяемой двери, но я не сомневался, что этот звук ирреален, и только когда послышался шелест ткани, я опустил руку, дабы удостовериться. Девушка с застывшим в параличе лицом остановилась у стола, положив на него завязанный узлом матерчатый куль.
— Принесла вам еду, Павел Дмитриевич, — буднично известила она.
Чувствовала ли она всю неловкость положения, застав меня в смятении, обнаружив на моем лице следы приступа отчаяния?
— Очень мило с вашей стороны, — отозвался я с нарочитой иронией, тщетно пытаясь совладать с собой. — Позвольте полюбопытствовать, чем вызвана столь трогательная забота?
— Вы уже два дня никуда не выходите.
— Ошибаетесь, не далее как вчерашним днем я сиживал во дворе.
— Вам не здоровится…
— А почем вы знаете, что мне не здоровится?
Я в раздражении отвернулся, сознавая, что не могу встать (не показывать же ей подштанники?), но было бы форменным свинством продолжать разговор лежа. Когда я оторвал голову от подушки, то обнаружил, что гостьи нет в комнате. Узел с едой покоился на столе. «Черт побери, как это она так ловко выскользнула? — с каким–то нехорошим удивлением подумалось. — Зачем она вообще явилась? Неужто завсегдатаи этого дурацкого клуба больных контрактурами отрядили ее ко мне с угощением?» Подзуживаемый голодом, я развязал тряпицу и выставил на стол чугунок с еще теплыми картофелинами, прикрытыми сверху ломтем сала. Отрывистыми, поспешными движениями пальцев стал срывать шкурку с картофелины, и тут девичья рука поставила рядом солонку. Я застыл с картошкой, поднесенной ко рту, замедленно оборотил голову:
— Прошу прощения, мне подумалось, что вы ушли, — пробормотал я растерянно.
— Ушла? — повторила она с ударением, как бы впервые слыша, открывая для себя это слово.
— Вправду маковой росинки два дня не едал…
Она походила на человека, находящегося в оркестровой яме среди оставленных музыкантами инструментов и затаенно ощущающего, как инструменты вот–вот оживут, из них польются звуки. Мне представлялось, что она смотрела на меня как на такой инструмент, а слова, мною изрекаемые, были, сказать правду, как бы лишенными смысла для нее, но несли чарующее звучание… Она заворожено, почти неслышно, повторила: «Маковая росинка».
— Садитесь, Юлия, — пригласил я ее. — Покорнейше прошу извинить мой непотребный вид.
Она примостилась на краешке табурета:
— Я чуть побуду и уйду.
— М–le, я не прогоняю вас! Напротив, огорчительно, что в прошлый раз был голоден и резок. Посидите со мной, разделите трапезу. Прошу вас, поведайте местные новости.
— О чем вам рассказать?
— Ну, к примеру, о вашем клубе.
— Я же говорила, что вы совестливый человек, — произнесла она в своей обычной манере, как бы вслух обращаясь к себе самой.
— Не только совестливый, — улыбнулся я. — У меня хоть отбавляй иных достоинств.
— О нашем клубе… — повторила она. — Что ж, если вам угодно… Там собрались люди, идущие поддержки друг у друга. Только человек, испытавший равную с нами боль, способен нас понять и проникнуться нелицемерным участием. Мы знаем цену так называемой общественной заботы и сострадания и потому верим словам утешения, произносимым только нашими устами. Мы воспринимаем общество как скопление людей, враждебных нам, и враждебных друг другу. Неправда, что наш клуб — обитель несчастий. Нам больно и мучительно лицезреть друг друга и вместе с тем мы сознаем, что наш клуб — единственное место на земле, где нам не солгут, где нас покидают тягостные думы о своем уродстве и где нечасто, но все же можно услышать несмелые, оживленно–радостные восклицания одного из нас.
Я сочувственно кивал, и меня не покидало ощущение, что некогда, давным–давно, я где–то встречал эту печальную особу.
— Наша болезнь — неизбывная крестная мука, но сердца наши не очерствели. Мы занимаемся благотворительностью, помогаем нищим и сиротам, среди нас есть состоятельные люди. Они оплачивают услуги известных врачей, имеющих намерение нам помочь.
— Поясните, будьте так добры, — обратился я к Юлии. — Вы в своем рассказе часто упоминаете слово «боль». Не считаете ли вы, что испытываемая вами душевная мука влияет на развитие и течение вашего заболевания?
— Я ожидала услышать эти слова от вас, Павел Дмитриевич, милейший! Ведь именно данный тезис доминирует в вашей незаурядной статье! — с ударением произнесла она. — И предполагаете, что применением болевого шока возможно добиться успеха в лечении.
— Метод весьма рискован и не отработан, — напомнил я–Представляется более, что вы скорей страдаете дисморфофобией, то есть своеобразной болезненной реакцией на любые проявления своего… — у меня чуть было не вырвалось кошмарное словцо «уродства», но я поспешно добавил - …своего несовершенства. Я полагаю, что частые посещения клуба могут быть вам вредны.
— Вы, Павел Дмитриевич, требуете невозможного. Я не смогу не ходить туда, — прошептала она.
— Не в моей привычке настаивать, — поступайте, как вам заблагорассудится. Однако я хотел бы знать, как вы заболели?
— Как заболела? — повторила барышня. — Беда пришла ко мне в пору раннего детства, ни отца, ни матери своей я не помню; ими была для меня в одном лице воспитательница сиротского приюта. Приют расположен неподалеку от железнодорожного вокзала. Может быть, вы обратили внимание на это неприглядное желтое строение?
— Не доводилось…
— Я покажу вам, я часто бываю на том месте…
Ее намерение весьма меня удивило, но я промолчал.
— Однажды смотрительница переводила нас через полотно железной дороги; я стояла в числе последних детей, почти все перешли, как тут из–за водокачки вынесся паровоз. Я растерялась: бежать вперед или же стоять? Паровоз стремительно приближался с адским перестуком колес; я вдруг решилась, кинулась с места, но подружка, бывшая рядом, схватила меня за руку. От рывка я потеряла равновесие, упала навзничь, ударилась головой о гравий насыпи; тотчас мрак застил мои глаза, и этот мир ушел от меня, — проговорила она с необъяснимым отчуждением во взгляде.
— Рана черепа оказалась открытой? — проницательно спросил я.
— Да, — сказала Юлия. — С тех пор каждый год в тот день я прихожу на то трагическое место, и мне все трудней удерживать себя, чтобы не броситься под колеса проходящего поезда.
— Паралич лица развился мгновенно?
— Да, — вновь кратко молвила она.
Далее расспрашивать о симптомах заболевания, представлявшемся очевидным, было бы опрометчиво, поскольку, сам того не желая, я зародил бы в ее сердце надежды, которым не суждено было бы сбыться. Утешить, сказать доброе слово — но разве за словами утешения пришла она сюда? Но я не мог ей отказать в сострадании.
— Увы, возможности мои невелики, — развел я руками. — В вашем случае топический диагноз поставить нетрудно, гораздо сложнее исправить нарушения двигательных рефлексов. Подозреваю, когда вы обращались к врачам, вам рекомендовали операцию, не суля, впрочем, полного излечения.
— Я никогда на нее не соглашусь! — ни один мускул не дрогнул на суровом лике девицы.
— И правильно поступите! Хирургия является в значительной мере ремесленничеством, тогда как подобную операцию должны творить руки художника. Больше того, чрезвычайную сложность составляет определение точной локализации поражения отдела нервной системы.
— Позвольте мне изредка навещать вас, Павел Дмитриевич, — вдруг смиренно попросила она.
— Разумеется, — чуть растерялся я. — Буду рад быть полезным вам.
Я проводил ее до ворот на улицу, и меня удивило, что она, меланхолически попрощавшись, не остановила извозчика, а пошагала вдоль домов, замедляя порой шаги, чтобы подобрать юбку и обойти лужицы талого снега. Я вспомнил тон ее голоса, каким она испрашивала позволения навещать меня, — в нем звучала уверенность в моем согласии. В ее поведении сквозило пренебрежение условностями общежития, что было неожиданно для провинциалки. У меня даже зародилось подозрение, не революционерка ли она, не состоит ли в тайном кружке низвергателей столпов державы? Я усмехнулся, глянул вновь на улицу и уже не приметил тонкой девичьей фигурка, — похоже, Юлия свернула в одну из подворотен…
____________
Вскоре решилось мое дело — я был зачислен преподавателем общей неврологии на курсы сестер милосердия. Распорядитель курсов представил меня общему собранию педагогов, а уже на следующий день я должен был читать. Не скажу, чтобы я испытывал кипучую радость от очередной перемены своего жизненного пути, еще недавно представлявшейся столь желанной, и не только потому, что коллеги — в большинстве своем чопорные дамы — встречали меня с надменной холодностью, не столько потому, что я в значительной мере свыкся с тем образом времяпрепровождения (а говорить точнее, полнейшим бездельем). Ведь я вновь вступил в общественную игру, от которой я сам себя самонадеянно освободил некогда (читатель уже догадался, что эти курсы представлялись мне такой игрой), я вновь принужден был жить по тем уничижительным правилам, согласно которым существует людской род и которые вызывали равнодушие и непонимание в моем сердце. В этом принуждении я видел еще одно напоминание о своем месте под солнцем и уже знал наверно, что смирюсь в который раз безропотно.
Дорога к зданию, где помещались курсы, вела мимо ремесленного училища и заброшенного кладбища. Зимой я не приметил его, занесенного снегом, а когда сугробы просели, выступили черные надгробья. Над погостом обыкновенно простирается особенная торжественная тишина, свидетельствующая о бренности жизни, и я, не воспитанный, но воспитавший себя в атеистической вере, всякий раз торопливо крестился, проходя поодаль.
Однажды меня окликнули. Это была Юлия. Она стояла у кладбищенских ворот.
— Что вас привело сюда? — помимо воли вырвалось у меня.
— Я прогуливалась и вот вижу — спешите… Любопытно знать — куда же?
— Не стану утаивать — в библиотеку, где должен дополнить конспект завтрашней лекции.
— Позвольте проводить вас — мне одной скучно.
— Не смею ответить отказом, — я учтиво склонился.
Мы прошли несколько шагов, и я спросил:
— Отчего же вам скучно, Юлия? Отчего вы прогуливаетесь одна?
— Нынче Иван Демьянович занят допоздна, в театре репетиция, а более никого нет, кто составил бы мне компанию.
— А кто он, этот Иван Демьянович? Неужто актерствует?
— Да нет же, — в глазах ее скользнуло подобие улыбки, — он работник сцены. Да вы виделись с ним давеча в парке…
— Этот… — я поостерегся произносить уже готовое сорваться с языка фамильярное словцо, боясь затронуть чувства девушки. — А–а! Помню, помню весьма колоритный господин. Так вы с ним в дружбе?
— Все полагают, что он мой муж.
— Вот как, — осекся я.
Машинально поддерживая разговор, я думал о другом. Вспомнилось, когда я выходил из здания курсов, у кладбищенских ворот никого не было; они просматривались отчетливо, как и пейзаж окрест — прямые осины, ограда, каменная арка, пустынные тропки, ведшие из глубины погоста. И в какой–то миг, когда я приблизился, в арке вдруг возникла Юлия. То есть, поначалу я решил, что она была и прежде там, но ведь в том–то и дело, что ее там не было, я совершенно явственно вспомнил.
— Хотел попросить вас оказать мне одру услугу, — я склонился к плечу девушки. — Давайте договоримся, что вы покажете ваш клуб?
Эта внезапная просьба принудила девушку побледнеть сильнее обычного. Отвернув лицо, Юлия ответила с заметным внутренним напряжением:
— В этом нет необходимости, Павел Дмитриевич. Вы и без меня туда дорогу найдете — вам труда не составит.
— Отчего же? — я воспринял как шутку такой ответ.
— Не торопитесь все узнать сразу, — только и молвила она.
Мы подходили к центру города, где толкался на тротуарах разношерстный люд и множество беспардонно–любопытных взоров обратились на мою спутницу, которая уже привычно хоронила свой непроницаемо–иконописный лик за краем траурного полушалка. На ступенях библиотеки мы простились. Я рассеяно заказал литературу и принялся листать страницы.
Из памяти никак не выходил ее образ, начавший обретать абрисы таинственности, мертвенная бледность, охватившая ее после моей просьбы показать клуб, эти странные слова — мол, вы сами найдете туда дорогу… Она в силу открытости характера и по возрасту, мне представлялось, была неподготовлена вести со мной ту маловразумительную игру, которую ей и мне старались навязать. Некто указывал, как ей поступать, навязывал ей свою волю, отряжал ее ко мне. Кто этот инкогнито — Трубников? Этот шекспировский шут, фигляр? Но с какой далекой целью? Ведь я чувствовал, что меня вовлекают в интригу с неприятным душком, что я должен кому–то, что неспроста Юлия возникла сего дня у кладбищенских ворот. Посмотреть иначе — действия интриганов были неуверенны, робки, хотя и настойчивы, слабость наличествовала в их, еще не проясненном для меня, желании. Они скрывают свою цель, осторожничают, боясь вызвать во мне протест, — стало быть, косвенно признают, что в их цели есть изъян, некая ущербность… Впрочем, все это мои домыслы, я мнителен и склонен к пустопорожним фантазиям.
___________
Через пару недель выдался перерыв в занятиях и я поехал в Кронштадт, имея намерение забрать позабытые впопыхах при отъезде зимой личные бумаги. В самом Кронштадте я побыл недолго, но много бродил по Петербургу, сиживал в блинной на Мойке, стоял у Петра, обозревал Александрийский столп, заглянул в кунсткамеру, прошелся по Невскому от Адмиралтейства до Лавры, — словом, совершил ритуал, положенный для исполнения человеку приезжему, чуждому этому город. Или уже Петербург стал мне чужд за те несколько месяцев, что я провел в провинции? Неужели я бродил по Каменному острову лишь с тем, чтобы оживить воспоминания? Ведь, признаюсь самому себе, что я уже не испытывал никаких чувств к тому курсанту, что некогда в строю хаживал на занятия в Военно–медицинскую академию, и крайне удивился бы, если бы мне сказали, что тот наивный и пылкий юноша был я. Нынче я ношу цивильное платье, и прошлое меня стесняет, как военный мундир. Я, быть может, отправлялся в Петербург за тем, чтобы острее познать свою оторванность от него. С некоторых пор я отношусь к себе как человеку стороннему, зорко слежу за самим собой, а сие занятие довольно хлопотное, часто огорчительное, потому как порой ни сном ни духом не ведаешь, что учудишь назавтра. Вот ведь эта поездка — я ее и не намечал, взял да поехал, повинуясь мимолетному капризу. К черту бумаги неужто без них я не могу обойтись? Я поехал оттого, что почувствовал в себе душевную перемену; я хотел побыть в одиночестве, чтобы утвердиться в этом чувстве, — а эта перемена связана для меня с той девушкой, возникшей из кладбищенских ворот. Я ей доверился, я почувствовал, что она способна взять меня за руку и увести туда, где я еще не бывал. Спервоначалу мне подумалось, что кто–то ею управляет — подозрение привело к тому, что я в который раз самонадеянно преувеличил собственные силы, безоглядно превозмог свои возможности и не сразу потому распознал, что и мною уже управляют, что уже образовалась (или была всегда?) некая необъяснимая связь между ею и мной.
…Поезд сбавил ход в окрестностях N, застилая паром лесную колею. Проехали часовенку на взгорке, надвинулся и остался позади березняк со всполошенным сорочьем, зачастил кустарник. Орешины клонились, застилая свет, и вдруг за купой зелени открылись подъездные пути, пакгаузы, вагонные депо. Сойдя на перрон в многолюдье, я оставил поклажу у ног и покликал носильщика. Из толпы на меня надвинулся беззвучно, как тень, Трубников.
— Здоровенько живете, Павел Дмитриевич, — собираетесь аль уже отсобирались куда? — произнес доверительным шепотом он, как давнему приятелю, склонившись едва ли не к самому моему уху.
«Что за бесцеремонная манера ошарашивать собеседника внезапным появлением?» — неприязненно поморщился я и показал перчаткой на литерный у перрона:
— Только что…
— Из Питера, стало быть… А мы в Одессу на гастроли намылились, арии мурлыкать, — он вдруг откинул голову, картинно схватился рукой за грудь, в горле его заклокотало, и вырвалось протяжно: — Доколь ты–ы, милая Татьяна–а…
«Верно говорят, что дураку и грамота вредна, " — подумал я, глядя, как он шествует к тупику, сотрясая воздух под сводами вокзала:
— Не томи родимый, не тужи меня… Дай моей отраде стать моей женой!
В теплушки загружали театральный скарб. Взвалив куль на плечо, горбясь, Трубников поднялся по сходням в вагон, после чего, высунувшись из проема, помахал мне картузом. Донесся далекий, приглушенный и ехидный голос:
— Не желаете подсобить, Павел Дмитрич?
«Он ее муж? — подумал я с внезапным недоумением и разочарованием. — Что могло их связывать? Что может шептать она по ночам этому клиническому идиоту? Как она позволяет трогать себя бесстыже грубым рукам этого мужлана в замусоленной поддевке?»
Извозчик довез меня до дома, где во дворе я встретил Ермила, нарядно одетого, в начищенных сапогах, со всем семейством — женой, невысокой, смирной, незаметной, в строгом сером платье, с вплетенным бантом в косу, и двумя пострелятами в вычищенных картузиках и накрахмаленных до синевы белоснежных рубашечках.
— К теще на блины? — спросил я.
— Шутить изволите, Павел Дмитриевич? Тут дело сурьезное — к бабке Алевтине за советом идем.
— Что еще за бабка?
— Как вам сказать — вы только не насмехайтеся… Провидица она, из села Чистополье, — верно судьбу сказывает.
— А детей для чего берешь?
— Василек по ночам полохает, на головку жалуется… А бабка Алевтина, окромя всего прочего, хвори уговором изгоняет.
— Прямо не бабка, а чародейка!
— Вы не смейтеся, Павел Дмитриевич… Сами бы сходили — народ ее почитает. Она и вам подсобила бы, отселе недалече.
Оставшись один в комнате, я запер дверь на щеколду, заварил чай и закурил трубку. Меня задели последние слова Ермила. Отчего он решил, что я нуждаюсь в участии? Стало быть, мое лицо, выражаясь по–книжному, выдает болезненные метания души? Но я всегда гордился своей выдержкой — что–то унизительное было в сочувственном голосе дворового. Плевать! Какое мне дело до Ермила? Ведь мне до самого себя нет дела, ни малейшего интереса не испытываю к собственной персоне, я устал от самого себя. Я полагал, что, едва начну преподавать, укрепится мое положение и мой дух утвердится, я выздоровею; и было так, но недолго потому, что вера моя в собственное исцеление была неискренней, немощной. Да и что значит «преподавать»? Разве через это можно спастись?
__________
В воскресенье я был зван на обед к доценту Сумскому, читавшему введение в курс полевой хирургии. Сумский был сухонький, по–ребячьи резвый, коротконогий старичок, любопытный до крайности. Видимо, по указанной причине я, как лицо новое в училище, и был приглашен незамедлительно при первом же знакомстве. Сумский давно овдовел и жил с двумя престарелыми сестрами, которые, говаривали, доглядывали его с материнской заботой. Когда я дернул шнур колокольца, в глубине квартиры прозвучал повелительный голос:
— Аглая, поди отвори!
Открыла женщина в темной кофте и плюшевой юбке с оборками, улыбнулась и провела меня в зал, где уже был сервирован стол на двоих.
Сумский сидел в кресле в отдалении от стола, у его ног помещалась глиняная напольная пепельница, и он, не отрывая взгляда от газеты, стряхивал с сигары пепел.
— Послушайте, что сочиняют газетчики? — приподнявшись в кресле, пожал он мою руку: — Будто бы цыгане выкапывают покойников и затем их, понимаете ли, свиньям скармливают. И будто, когда околоточный явился с обыском, его чуть ли не загрыз насмерть кабан, прикормленный человечиной… Бред, дикость! Никогда не поверю! Курите? — он протянул коробку сигар под лаковой крышкой.
Отщипнув кончик сигары, я закурил и уселся в соседнее кресло.
— Черт им судья — и околоточному, и цыганам, — отложил газету Сумский. — Как вы–то, Павел Дмитриевич? Небось подумали о моем приглашении — вот привязался, старый хрыч, ну да отказать неловко?.. А я любитель, скажу вам, задушевных бесед. Нам, старикам, знаете ли, скучно… Расскажите о себе, Павел Дмитриевич… Покуда Марья подаст, поведайте без лукавства, что вас привело в нашу Богом забытую провинцию? — шутливо–серьезным тоном закончил он.
Беззвучно вплыла в зал, неся перед собой фарфоровую супницу, полногрудая женщина, одетая непритязательно, как и первая, — в шерстяную кофту и юбку.
— Если коротко сказать, я ищу тишину, — молвил я безо всякой иронии.
— Ну и как — нашли–с?! Чего–чего, а тишины у нас вдосталь! Не возьмусь утверждать того же об ином.
— Что вы имеете в виду?
— Видите ли, молодой человек, одного взгляда на вас достаточно — и для этого вовсе не обязательно обладать обостренной проницательностью, достаточно одного взгляда на вас, чтобы определить: этого молодого человека истязает неутолимая духовная жажда, ваши глаза не останавливаются на поверхности предметов, ибо вы не ищите суть вещей. Даже слишком часто в ваших глазах возникает отчаяние, ибо вы ищете нечто, что, вероятно, сами затрудняетесь определить. Смею надеяться, вы посчитаете извинительной мою откровенность… Светило Бехтерев говорит: «Опыт показывает, что самонаблюдения недостаточно даже для изучения собственной психической жизни». Теперь вы понимаете, что я пригласил вас не из пустопорожнего любопытства. В японскую кампанию я встречал офицеров с таким неуловимым и беспокойным, как у вас, взглядом. Должен сказать, что большинство из них закончили плохо.
— Вы желаете мне в чем–то помочь?
— Раньше всего, хочу вас выслушать, коллега.
— Право, Петр Валерьянович, — развел я руками, — едва ли меня можно отнести к психопатическим субъектам, хотя признателен вам за участие, — я не удержался от едкого замечания.
— Напрасно вы обижаетесь.
«Что ему надобно? Чего он хочет?» — смятенно подумал я.
— Впрочем, не стану мучить вас расспросами, — сказал Сумский. Нынешняя молодежь страшится и избегает правды, да–с, — заключил он как бы с сожалением и указал на стол: — Покорнейше прошу садиться.
— Позвольте спросить вас, Петр Валерьянович? — неожиданно для себя сказал я, когда мы сели.
— Разумеется.
— Верите ли вы в потустороннюю силу?
— Если мы допускаем существование Бога как естественное, то что же тогда сверхъестественное? Что может быть выше и непостижимей? И как понять «потусторонняя»? По какую ту сторону, молодой человек? — вопросительно глянул на меня Сумский. — Та сторона — это, извините меня, только смерть, о которой вы почти не задумываетесь, а я слышу ее дыхание, ее присутствие возле своего одра каждодневно. Так что не верить в нее нельзя.
— Речь идет скорее не о смерти, — пояснил я. — Затруднительно выразить словами, но в мире несомненно есть сила, которая угнетает человека, как бы присматривает, надзирает за ним, принуждает сверяться с чем–то, лишает его радости и заставляет задумываться о целесообразности его бытия. Человек видит себя как бы пришпиленным мотыльком: крыльца у него еще дергаются, а он уже фатально осужден. То есть я говорю о силе, которая и придает обреченность нашему существованию.
— Сие и есть предчувствие смерти, милейший Павел Дмитриевич, — ощущение, так сказать, своей конечности.
— Но у человека имеется и предчувствие спасительного выхода, прорыва в иной свет.
— И вера в светочей, указующих ему истинную дорогу, — согласился доцент, — но едва ли нас с вами позволительно к ним причислить… Спиритус этиликус, — Сумский наклонил графин, чтобы наполнить лафитники, и я услышал спиртовой запах. — За вечную жизнь, Павел Дмитриевич! За неугасимую лампаду людских сердец! — и на одном дыхании молодецки опрокинул водку в рот.
— В древних хирургических папирусах сказано: «У него трещина височной кости, у него течет кровь из ноздри и уха. С этой болезнью надо бороться». Но сказано и другое: «У него размозжена височная кость, у него течет кровь из двух ноздрей и из уха, он бессловесный, и он страдает оттого, что свело его шею. Эта болезнь неизлечима» Я, признаюсь, имею обыкновение выпивать за первую оптимистическую часть, то бишь за то, чтобы бороться с болезнями, но кто–то может, если ему угодно, выпить и за вторую половину, — Сумский с хитрецой подмигнул и опрокинул следующий лафитничек в разъятый рот. — Да–с, любезнейший Павел Дмитриевич, все медики пьяницы, все как один, уж вы меня не переубедите…
Голова у него была маленькая, колобком, с заостренными кверху ушами–лопухами, за которые он заправлял пряди желто–седых волос. В разговоре он двигал ушами, как крыльями, на бледно–морщинистом лице сновали черные, молодые озорные глазки. Мне казалось, что он норовит задать главный вопрос, ради которого и позвал меня, что некое, способное многое прояснить, словцо вот–вот сорвется с его языка, но Сумский балагурил, сыпал прибаутками, заботливо следил, чтобы моя рюмка не пустела. «Ядреная водка у него!» удивлялся я, чувствуя, как стремительно наливается свинцом голова.
А Мария все подавала и подавала. Уже отведали гусиных потрохов, телячьих мозгов, закусили оладьями с клюквенным вареньем, а Мария несла чесночный соус к пельменям и творожные блинчики. Звуки доносились до меня уже приглушенно; я удивленно наблюдал, как заходили, заизвивались, пружинисто–резиново запрыгали чашки и блюдца на скатерти, запыхтел парком гусар–самовар, застукал в отполированном медном сапожке, лихо подкрутил ус и пустился вприсядку заварочный чайник, потянулись хороводом ложки и вилки в бумазейных салфетках–юбках. «Диво дивное!» — восторгался я, наблюдая этот маскарад, борясь с хмельной истомой, и сквозь дурман расслышал: «Постели молодцу в гостиной».
Чьи–то руки заботливо подхватил меня, но я заупрямился, захорохорился, тряхнул головой и сам вошел в покой, где враз подломились ноги, и повалился в пуховики… как в колодец. Однако в том колодце не все было тесно, беспросветно, но прежде чем тьма начала рассеиваться, моя ладонь ощутила чье–то бережное касание. «Юлия?» — прошептал я, увлекаемый за руку в захламленный, заставленный до потолка разбитой мебелью коридор, с истертыми паркетными шашками, по которым, дробно постукивая коготками, оскальзываясь, сновали крысы. Юлия вела меня за собой, — не оглядываясь, склонившись, в траурном одеянии похожая на монастырскую послушницу.
Совы хлопали крыльям, над нашими головами, из углов доносился истерический хохот, сатанинские смешки, и чьи–то горевшие пронзительным синим огнем раскосые глаза сверкали в оконце. Я вступал, робея. Опять зашумели крылья, задребезжали стекла, заколотились бешено двери о косяки. Юлия вдруг исчезла, я видел впереди Сумского, с идиотской ухмылкой прыгавшего неуклюжим скоком, криво вывернув голову. Я не поспевал за ним. Неожиданно доцент с истошным визгом впрыгнул в какую–то дверь, и меня будто сквозняком увлекло за ним.
Трудно было определить размеры помещения, в котором я очутился. Стены съедала тьма, а с невидимого потолка свисали на шнурах лампы под багряными абажурами. У дверей раскладывали пасьянс трое престарелых инвалидов… Сумский сноровисто вскочил на столик и, всласть хохоча, принялся водить задом с волосатым хвостом по крышке стола, разметая карты. Один из карточных игроков ухватил хвост, и сразу Сумский блаженно завизжал, точно его щекотали, брыкнул ногой с копытцем и был таков. А хвост остался в руке картежника.
Я медленно прошелся вдоль шкафов — с полок из–за стекол за мной наблюдали бескровные страдальческие лики. «Это и есть клуб больных контрактурами?.. Так тихо», — подивился я, чувствуя, как сотни пар глаз неотрывно провожают меня, взирая с полок демонстрационных шкафов. По этим живым образцам можно было изучать не только анамнезы лицевых контрактур, но и галерею портретов человеческого страдания.
Я приоткрыл дверцу и взял голову. Левое верхнее веко было растянуто, отчего глаз казался приплюснутым, а второй, темно–серый, влажный, напротив был широко открыт, сумрачно и настороженно взирал на меня. «Чего ты хочешь, голова?» — спросил я. Голова зашамкала гнилозубым ртом, силясь произнести слова, а глаз гневно засверкал, — и я понял, что должен оставить в покое страдальца. «А мы и тебя, Павлуша, принимаем в наш клуб!» — кто–то выкрикнул залихватски, и тотчас в лицо будто плеснули студеной водой — так меня обожгло! Я вскрикнул, заслонился рукой, чувствуя, как страшная сила смыкает челюсти, глаза вылезают из орбит, а нос сворачивается жгутом, вспучивается кожа и дыбятся волосы, точно цепкая когтистая пятерня вцепилась в них, силится оторвать голову от плеч, тужится надсадно, кряхтит. Но крепко приросла моя головушка…
На полках шкафов медленно, тягуче расползаются языки пламени, а головы уже тлеют головешками, безропотно принимая новые муки, беззвучно шевеля запекшимися губами и обугленными ушами. Неведомая рука, вцепившись в мою шевелюру, уже не столько тщится завладеть моей головой, сколько поводит мной, направляет мой взор в ту сторону, где я должен нечто узреть. Я вижу чудовище, обросшее шерстью, на коротких кривых ногах, которое с рыком двигается ко мне — чудовище губасто, клыкасто и по–своему мило. Приблизившись, вдруг стыдливо прикрывает узкими хрупкими ладонями молодые девичьи груди, выступавшие из шерсти, и шепчет: «Путь человека — это путь андрогина, который ищет свою половину на земле» — «Куда вы ведете меня? Что хотите показать?», — вопрошаю я тщетно, а меня опять уже ведет чья–то невесомая рука — в холодный рассветный день, в сырой лес, где за стволами, еще не просохшими после дождя, прячется Юлия. Я бросился к ней, но она, в своих траурных одеждах, слегка пригнув голову, удалялась быстрыми мелкими шагами. Я помчался, чтобы забежать спереди и увидеть ее лицо, — сие желание было необоримым, захлестнуло меня. Я знал, что она не случайно прячет лицо в платок: она желала скрыть то, чего я прежде не видел. Я мчался сквозь кустарник и уже почти настиг ее, но тут она молниеносно обернулась сверкнули гневом махонькие черные глазки Сумского под пушинками бровей: «Ты, Павлуша, давеча хотел доведаться: какой такой узловой вопрос я вознамерился задать?.. А ведь ты пришел не за этим! Ты явился, признайся, за тем, чтобы самому спросить, — так–то, милок… Ты, Павел, хотел доведаться, — бродят ли мертвецы среди нас, приходит ли сюда, на землю, твоя вторая половина, чтобы слиться с тобой? И отчего она, твоя небесная половина, с тоской вспоминает земную неустроенную жизнь, что принуждает покинуть ее иной свет, свое ставшее вечным обиталище в небе? Значит, и там неуютно, неприкаянно жить, значит, и там нету совершенства. Сознайся, об этом ты желал спросить, молчун?» Вдруг орел–могильник сорвался ветки и ударил меня крылом, полоснул когтем по плечу; я закричал, скорчился от боли, неловко повернулся и почувствовал, как влага окропила мое лицо… У кровати стоял Ермил и опускал мочало в таз с водой.
— Ну и набрались вы вчерась, Павел Дмитриевич! Еле до койки вас дотащил, подмогу кликать пришлось.
— Подай рубашку… — хрипло потребовал я.
— Негоже вам вставать, полежите еще, оклемайтеся, — отечески молвил дворовый.
— Принеси чаю, ломота во всем теле.
— Я вас своим чайком угощу, — как рукой хворобу снимет.
И он отлил из заранее, верно, принесенной бутылки в рюмку, Не нюхая, но мрачно всмотревшись в мутную жидкость, я опрокинул стопку в рот.
— Самогон свекольный?
— Никак нет, — довольный, что я не угадал, отозвался малый. — Я по стариковскому совету выгоняю, а как, никому не говорю.
— Налей еще.
Ермил с охотой выполнил мою просьбу и подал закусить ломоть соленой тыквы.
— Теперь оставь меня.
Едва дворовой ушел, я встал с постели, шаткими, как годовалый младенец, шажками направился к окну, чтобы отдернуть занавеску, отворил форточку, потом резко оборотился и едва узнал себя в зеркале: со взбитым чубом, помятым лицом, бессмысленным взором — таким я выглядел после тяжкого запоя. Я вошел некоей своей ипостасью в иную жизнь — ненадолго, неуверенно, с боязнью. Хрупкая девичья рука ввела меня в новую действительность, весьма походившую на опостылевшую старую, — кроме, пожалуй, одного: я испытал не разочарование, а, скорей, ощущение тревожной неопределенности… Этот велеречивый шепот — откуда он вещал? Почему ко мне были обращены эти слова «путь андрогина''
Предание доносило весть об андрогинах — богочеловеках, сочетающих в себе мужские и женские начала, вознамерившихся однажды восстать против божеского начала в себе. В наказание боги опустили андрогинов на землю, разделив их на мужчин и женщин. Я был знаком с новомодным философским толкованием этой старой легенды, суть которого сводилась к утверждению, что человека будто бы слагают две стремящиеся к единению половины. Видимый, примитивный и уродливый тому пример — гермафродитизм. Но есть примеры невидимые.
Однако к чему мне все это знать? Я ничего не хочу об этом ведать, решительно ничего, я мнителен, пустые и ничего не значащие сновидения принимаю невесть за что. Вчера я вдребезги, как мальчишка, напился! Бесспорно, я виноват. Стыдно и перед Ермилом, и перед Сумским, — впрочем, сдается мне, этот хитрый старый черт с умыслом напоил меня… Я сунул голову под рукомойник, облился водой до пояса, с остервенением растерся полотенцем, оделся во все чистое и поспешил на курсы. В коридоре училища я столкнулся с Сумским.
— Неважно спали, молодой человек, — то ли шутя, то ли серьезно начал он выговаривать мне. — Вчера–с пришлось звать извозчика! Ну, так вы не пожелали ехать, видите ли, автомобиль потребовали… А вы, скажу я, штучка с норовом! К вам надобно подход иметь!
— Покорнейше прошу простить мою развязность, Петр Валерьянович, впредь обещаю…
— Никаких обещаний! Наша беседа доставила мне преогромнейшее удовольствие, поверьте! А все прочее дребедень! Да–с, весьма занимательная получилась беседа! Жаль только, что была она коротка, — и тут он лукаво и многозначительно подмигнул.
Мне стало не по себе от этой его гримасы, холодок прошелся под сердцем. Я что–то пробормотал, простился, ссылаясь на занятость, и отворил дверь аудитории.
Тотчас шум голосов стих. Я поздоровался с барышнями, прошел к лекторской конторке, разложил бумаги и начал читать. На курсы записывались в большинстве девицы из мещанских семей, старые девы, жившие своими несбыточными мечтаниями, а также молоденькие невинные и наивные создания, порой хаживали дворянки. Курс неврологии занимал 20 часов и имел ознакомительный характер. Подготовка к лекции, как и написание, не составляли для меня серьезного труда, даже напротив, давались с известной легкостью, столь не свойственной для меня. Именно за эту легкость я полюбил свою новую жизненную роль и как мог старался сохранить и, если угодно, сберечь свое нынешнее положение, едва начавший укрепляться жизненный уклад. Сколь возможно избегал знакомств в преподавательской среде, имел ровные, сугубо деловые отношения с начальством. Я уже не думал о ниспосланном мне свыше предназначении, не строил виды на будущее и, кажется, повзрослел…
В тот час, когда я монотонно читал лекцию и уже подходил к завершению раздела, ток пробежал по моим жилам, внезапный озноб, легкая дрожь в руках принудили меня замолчать. Я внутренне сжался, замедленно поднял голову. Сперва я ничего не приметил, но мгновеньем позже разглядел, как за рядами слушательниц, на темных досках стены выступает гипсовым слепком лишенное красок жизни лицо, как белые руки с разъятыми пальцами простираются ко мне. Я сглотнул в горле комок, неописуемое чувство охватило меня: сопереживания (маску исказила гримаса боли), страха, приобщения к таинству, и в то же время я ждал удара. Невольно я сделал резкое движение, и галлюцинация исчезла. Колоколец в коридоре возвестил об окончании лекционного часа. Дамы в рядах зашуршали платьями, подымаясь, я же, под впечатлением увиденного, стоял как истукан, затем сложил бумаги и вышел из аудитории.
Я чувствовал себя как никогда одиноким, — но одинока была и та, что в неслышной мольбе простирала ко мне бледные бескровные руки. В тот час, когда я торопливо шагал по мостовой и ветер задувал за отвороты моего поношенного сюртука, принуждая меня пригибаться, мне представилось, что я иду не по городу, а меряю шагами безлюдную степь, что вопль мой, закричи я во всю мощь легких, не будет услышан… А ветер все яростней задувал, едва ли не срывая с меня одежды, как бы стремясь вырвать с покрова головы волосы, выдуть глаза, делая меня незрячим, глухим, разодрать ноздри. Я задыхался в воздушном потоке, выставлял вперед плечо и медленно, с усилием, превозмогая стихаю, ступал по земле, на которой выпало на мою долю жить и терзаться.
Ночью я не пытался заснуть — я ждал ее прихода. Я не имел в мыслях выспрашивать — кто она? Я пребывал в ожидании, в вере и не пытался рассуждать здраво. Присутствовала ли логика в том мире, откуда она приходила, но вера, несомненно, была. Вера всепроникающая, всепоглощающая, спасительная. Я жаждал видеть ее лик — строгий, неулыбчивый, обращенный ко мне с немым вопросом в глазах. Она не спрашивала, кто я? Она, вне сомнения, хотела узнать о другом — почему я еще здесь?
…Я услышал шорох ее платья. Тонкая, изломанная в талии тень ступила к постели, воздела руку в просторном рукаве, как бы осеняя меня крестным знамением, — я инстинктивно придвинулся к стене, сжался, со страхом и душевной подавленностью, пытаясь разглядеть черты ее лица, поедаемые теменью. Хрупкие, леденящие ее пальцы, сложенные троеперстием, коснулись моего лба, и я услышал ее дыхание, увидел локон, выбившийся из–под платка… Потом призрак возник у окна, исколотый звездным светом, а моя рука судорожно нащупывала на выступе печной стены коробок спичек. Огонек конвульсивно метнулся и погас, словно задутый чьим–то дыханием. Объятый неведомым мне чувством — не страхом, не ужасом, не жутью, неким сознанием необходимости беспрекословного повиновения, утратив сопротивление собственной воли и начиная утрачивать способность трезво рассуждать, я стал заворожено подыматься в постели, и мне казалось, что кто–то помогал мне, поддерживая мои плечи. Настороженный, веря и не веря тому, что происходило со мной, я подошел к окну. Ладонь моя, не найдя смутной тени, смущавшей мой дух, легла на стекло, забрызганное с улицы ночным дождем. «Это была ты?» — беззвучно, одними губами, произнес я. Ответом послужил легкий шорох в комнате. «Что принуждает тебя скрываться, если ты пришла ко мне?» Дробный, прерывистый стук капель в ответ…
________
Город N ничем не выделялся в ряду провинциальных русских городов грязь, облезлые собаки, кудахтанье кур за штакетником, наводящие скуку губернские собрания, слободские кулачные бои — стенка на стенку, оркестрион полупьяных музыкантов, бренчавший в городском саду погожими вечерами, и старая тоскливая скрипка, солировавшая для одиноких сердец. Были и дачи в пригородной полосе, и железная дорога, и пароходная компания, и цыгане волочились в кибитках по разбитым дорогам, — словом, заурядный, десятилетиями не менявшийся пейзаж. И только одно здание, каменным мешком вознесенное над рекой, с некой невыразительной скульптурной группой на куполе, нарушало привычную картину, принуждало беспокоиться ум и вызывало расспросы приезжих. Здание это выделяло N в ряду других губернских городов и являлось предметом особого, хотя и не чрезмерного, попечительства городских властей, даже известной их гордости, вследствие чего аллея, ведшая к крыльцу с колоннадой, была всегда выметена и здесь не бегали дворняжки, — и все потому, что в помпезном здании располагался оперный театр. Мне доводилось прежде проходить мимо этого, возведенного с неумеренным размахом строения, и оно не вызывало во мне никаких чувств, кроме неловкости. Но в тот день я проснулся с совершенно определенным пониманием, что должен пойти к оперному театру, — причем немедленно. Покуда вскипала вода в чайнике, я утюжил сорочку, накинул фрак, на ходу застегнул пуговицы и выбежал во двор. Я был взбудоражен этим внезапно появившимся сознанием необходимости повиновения чему? кому? — и чувствовал легкость, даже уверенность, которую рождала эта необходимость подчинения и, следовательно, в некоей мере освобождения от частицы себя.
Я выбрал не прямую, а окольную дорогу, ведшую не к порталу, а к задворкам театра — опять–таки, что принудило меня отправиться таким путем, вдоль берега молчаливой реки? Верно, я вычурно выглядел днем в белоснежной сорочке, в вечернем фрачном костюме, в узких туфлях, переступавшим по ухабам разъезженной дороги, окрест которой цвели полевые цветы, — но уже давно все внешнее потеряло свою значимость для меня. Мной повелевало то, что не признает объективного, что холодно к внешним атрибутам бытия, что пренебрегает ими. Встречные простолюдины с удивлением взирали на меня, но, видимо, я был вправе с не меньшим удивлением смотреть на них.
…Вот и дощатый забор, ограждавший театральный двор. Во дворе телеги, мельничные жернова, высоченные декоративные деревья, картонные луны, развешаны свежевыстиранные льняные полотнища с вытканными на них ажурными облаками. Польский улан времен Марины Мнишек в высоких сапогах и с деревянной саблей, с крашенным охрой эфесом, переступает через лужи, негромко по–русски бранясь.
В глубине двора за приотворенной дверью приземистой постройки слышны женские голоса, тихая песня. Внутри сумрачно. Скрипят половицы, но никто из сидящих за столами швей не поднимает головы. На отесанных грудастых чурбаках развешаны маскарадные костюмы, слышится шелест спадающей со столов ткани. Закройщик ловко орудует широким ножом, ладонью сметает на пол лоскуты. Я кого–то ищу, склоненные головы скрывают лица, ритмичные плавные взмахи рук игла замерла в истонченных малокровных пальцах, поднялся слепок лица в иконоподобном окладе бронзовых волос. Юлия! Я вздрогнул под ее взглядом. Она, почудилось, не различила меня, невольно отшатнувшегося за косяк, — да и она ли была среди неграмотных деревенских баб, ее ли плечи ссутулились меж ворохами тряпья? Ее ли лицо застыло в немом принятии жестокости, уродливости жизни, которые гонят ее отовсюду, как ветер сухой листок? Я затаился за косяком. Тут во дворе ударил колокол к обеду, за столами тотчас послышалось движение. Я вышел в наполнившийся людьми двор и, не оглядываясь, скользнул за ворота.
Дорогу назад я прошел быстрыми шагами, поспешно, в некоем лихорадочном ознобе, — даже чарка водки в трактире не вернула мне бодрости, пожалуй, лишь чуть успокоила. За столом, засаленном локтями, я смотрел на беловолосого деда в рубище до пят, яростно шамкавшего и поучавшего мужика с размазанными по всему черепу слипшимися волосами, уплетавшего с чавканьем блин. Мне вдруг вспомнился не по годам пронырливый Сумский. «Такие уши, как у Сумского я уже где–то видел, — помыслил я. — Такие заостренные кверху уши, пожалуй, еще у черта!» Трубников, Сумский, Юлия — почему я поставил их в один ряд? Уж никак не из–за окаменелости в чертах, что–то иное их роднит… Я выбрался из трактира, полдня просидел в синема и вернулся в номер вечером.
Предмыслие — еще не ставшее озарением, не оформившееся в мысль, кололо душу, еще не нашедшее словесного воплощения, толкало к неким поступкам… Юлия приходила ко мне, а я ни с того ни с сего явился к ней — что свело нас? Та высшая сила, что управляет судьбами, дает предначертания, предписывает встречи и неизбежно подводит к гибельному концу, который, может быть, есть спасение и избавление? Или наши души сами нащупывают друг друга, посылают незримые токи во тьме, и в гуще людской толпы сердца наши пульсируют в такт, созвучно и единено, указуя истинный путь слепой мысли и наделяя реальность чертами наваждения? Я не мог уснуть, но и не в силах был бодрствовать. Сон был тяжел, а действительность — невыносима. Я молил об одном — чтобы явилась она! И мольба моя была услышана. Юлия торопливо, встревожено, точно скрываясь от кого–то, прошла в притворенную дверь и плотно затворила ее за собой. Она была в платье строгого покроя, подпоясанном позументным пояском.
— Зачем вы приходили? — был первый беспокойный ее вопрос.
— Я хотел вас видеть.
— Не следует меня искать. Для наших встреч нет никаких препятствий.
— Кто вы? — спросил я.
Она, не сводя с меня мраморных зрачков, произнесла после молчания:
— Вы помните дом с резным петухом на крыше, белое крыльцо, пруд за лужайкой?
— Помню, — выдавил я.
— …сундук в коридоре, куда Маргарита Пантелеевна складывала обряженных в платья кукольных медведей, овечек, деревянные яйца? Ваша няня скончалась минувшим летом.
— А Павловский, этот зануда и чистоплюй?
— Он и поныне пьянствует безбожно, бедствует душевно и зачастую с тоской вспоминает то время.
— Мы, верно, прежде с вами встречалась? — спросил я неуверенно.
Она говорила заученно, сжимая в руках ридикюль. Она говорила бесстрастно, как сторонний свидетель моей жизни — одной из многих жизней. Голос ее дрожал, но абрисы лица были недвижно холодны, застыли в параличе.
— Кто вас послал? — возвысил я голос, глядя пронзительно в ее глаза. Кто вас послал? — уже почти кричал я, вскакивая с постели и швыряя в нее лампой с тумбы.
В комнату ворвался Ермил, навалился на меня грудью и притиснул к кровати.
— Пусти! — хрипел я. — Пусти, дьявол!
Ермил, видя, что я рассуждаю здраво, разжал объятья.
— У вас, Павел Дмитриевич, никак припадок случился! Слышу, вы с кем–то вроде как беседуете, а потом кричать начали дюже сердито. Надобно вам бабке Алевтине показаться, зря брезгуете моим советом — ведь я от души.
— Прочь со своей бабкой! Я сам врач, если на то пошло!
— Однако сумневаюсь я, что вы дохтур, — осуждающе покачал головой Ермил. — Дохтуры, известно, народ не шумливый.
— Кто же я по–твоему? — выкрикнул я ему в спину с яростью.
«В самом деле, кто я?» — как бы опомнясь, спросил я себя, схватился за голову обеими руками и затряс ею, стараясь таким способом избавиться от мучительной, невесть по чьему велению нахлынувшей на меня, боли, что разламывала череп.
_________
— А мне говаривали, что вы затворник, — объявил Сумский, по своему обыкновению хитро и с бесцеремонным любопытством заглядывая в мои глаза.
Я повстречал его в городском саду. Доцент был в длинном сюртуке. Шляпа надвинута на уши — мышиные крылья.
— Неважно выглядите, молодой человек! Впрочем, вы не похожи на тех, кто легко и беззаботно попадает в амурные сети.
— Для меня расставлены другие сети, — молвил я в ответ.
— Хи–хи–хи, — затрясся он в смешке, проворно расстегнул полы сюртука, поправил ворот рубахи и снова плотно запахнулся: — Откройте секрет, Павел Дмитриевич, — давно ли вы практикуете?
— С такого–то года.
— Для ваших лет солидный опыт… Ответьте, только без уловок, а зачем вы практикуете?
Я пожал плечами и пробормотал заученно:
— Наверное, чтобы облегчить людские страдания.
— Стало быть, из чувства милосердия, столь страстно проповедуемого церковникам?
— Выходит, так. Я, сознаюсь, не задумывался глубоко.
— Сострадание, которое исподволь сменяется сугубо цеховой любознательностью?
— Бога ради, не обвиняйте меня в жестокосердии…
— Читал вашу статью — весьма любопытная статейка. Вы предлагаете страдание пользовать страданием?
— Я рассматривал одну из гипотез, показавшуюся мне небезосновательной. Я видел результат, — тем паче, если отбросить частности, метод для медицины универсален.
— Согласен с вами и отдаю должное смелости, с какой вы бросаете вызов всеобщему лицемерию, — но, скажу прямо, побаиваюсь вас и не пожелаю себе стать вашим пациентом.
— Ваше право, — усмехнулся я.
— Прошу без саркастических усмешек — я их на дух не переношу! — резко бросил доцент, потом внезапно смягчился и добавил спокойнее: — Впрочем, и ваш покорный слуга склонен к сарказму.
Мы неспешно двигались по дорожке сада. В отдалении я приметил две женских фигуры. Сумский оставил в покое мою персону и принялся рассуждать о гуманизации медицины, о границе между научной любознательностью, профессиональным поиском и стремлением оказать помощь больному, обильно услащая свои умственные экзерсисы примерами из практики врачевания в период русско–японской кампании. «Для врача доброта и участие — все равно что экзодерма коры растений, выполняющая защитную функцию. У врачевателя доброта есть экзодерма его души, спасающая его же от погибели», — заявил престарелый доцент.
Меня удивляли банальные моралите вкупе с вялыми разглагольствованиями о смысле бытия. Я молчал, не понимая, куда он клонит.
За садом тянулись дворовые постройки. Выбежала испуганная хавронья, за ней мчался мальчуган в портках, с визгом рассекая воздух хворостиной.
— А знаете ли вы, — Сумский внезапно придержал меня за руку, — что глаза свиньи до изумления похожи на человеческие?
— И печень, и сердце… — добавил я.
— Тогда предположите, милейший Павел Дмитриевич, что в полку наших предков прибыло. А я ведь имею знакомства со многими, так сказать, людьми, каковые, открою вам, ближе к свиньям стоят. Да–с, разве что не хрюкают… Надо бы уходить отсюда, уходить, — вдруг пробормотал он себе под нос.
— Куда вы, Петр Валерьянович, наладились? — вырвалось у меня.
— Пора, пора, — ответил он и призывно махнул рукой сестрам, следовавшим за нами в отдалении; попрощался, крепко стиснул мою ладонь и по–молодецки лихо переставляя палку, в коей он, по первому подозрению, не испытывал нужды, устремился к воротам сада.
В этом городе темень наваливалась медведем, беззвучно, внезапно, всеохватно. Город разом с улицами, торговой площадью, рекой и домами точно проваливался в котловину. Смолкали звуки, и даже звездный свет был приглушен. Я начинал чувствовать, что в моей жизни, доселе, в сущности, малоценной и бессмысленной, появилась смутная потребность каждодневного сосуществования. Произошло это потому, что я начал посредством каких–то неуловимых флюидов обнаруживать, что, помимо меня, поблизости есть еще некто не именуемый или нечто, опосредованным образом связанное со мной. Большего пока я не мог определить. Это чувство возникало вдруг — на улице, во дворе ли, в комнате, у окна в минуты раздумий, бдения или тревоги. Я не испытал близости с тем, чье присутствие ощущал, но и не ощущал протеста, желания отторгнуться. Порой мне казалось, что все это чепуха, следствие душевного переутомления, моей извечной нервозности. Я шел в трактир, где выпивал пару шуфелей пива, смеялся и хлопал по плечу услужливого полового. Но когда я поутру просыпался, когда еще силы лжи были слабы во мне, а сила правды, рождаемая интуицией, велика, я снова ощущал поблизости присутствие этого нечто.
Временами я садился за письма — тетушке в Кострому, капитану Тарасову в Ревель. Капитан был давнишним моим знакомцем, некогда служившим на учебных трубных судах. Я вылечил его от припадков безудержного гнева, явившихся следствием перенесенной Адисоновой болезни. И вот однажды, излагая скупые строки, я увидел, что моя рука выводит часто не те слова, которые я намеревался донести, что я пишу не совсем то, что хотел, выражаюсь не присущими мне словесами. Сие наблюдение было столь изумительным, что, перечитав письма, я посчитал нужным порвать их. Совершил я экзекуцию с великим наслаждением, безмерно радуясь тому, что мои мысли, способность самооценки еще принадлежат мне. Кто–то покушался на мою свободу неотступно, с навязчивостью волны, настигавшей другую волну. Но кого могла заинтересовать моя персона, кому я нужен? Любые предположения представлялись нелепыми и вызывали во мне приливы нервного смеха.
…Ночи, долгие ночи, когда кажется, что жизнь остановилась, как в высшей точке циферблата замирает стрелка часов, чтобы сорваться вниз. Но меня срывала вниз некая чуждая мне сила, грубо, бесцеремонно, так что я порой бывал ошарашен. Я не могу найти объяснения собственным поступкам! К примеру, намедни я без причины плюнул в лицо Ермилу, а нынче поутру — я знаю наверно — проснусь и проведу ножом по предплечью. Даже нет, к чему дожидаться рассвета, я немедля встану и возьму нож — я нестерпимо жажду этого. Приняв решение, я взял нож с мойки и, подавив мимолетное колебание, приставил лезвие к мышце предплечья — зеркало отобразило мой голый торс, впалую тощую грудь, судорожно сжатые губы и ненавистный отблеск в черных глазах. Разве этот психопатический тип — есть я?
В предвкушении я надавил и повел ножом — внезапная боль напоила сердце божественным наслаждением, эта струящаяся лента крови как восхитительный нектар. Блики пламени перемежались на моем лице, открывшем новое праздничное чувство, недоступное мне прежде. Рука с окровавленным ножом стала замедленно и устало опускаться, и я залюбовался собой…
На другой день Ермил, глядя пристально, проговорил своим глуховатым, будто простуженным, голосом:
— Супружница моя нынче терла полы в ванной комнате — чай это вы, Павел Дмитриевич, накровянили? Дюже поранились?
— По неосторожности, — сказал я.
— Бывает, — пробормотал дворовый, нахмурясь, глядя исподлобья на меня.
_________
К училищу вели две дороги: ближняя, кочковатая, выводила закоулками, через железнодорожную ветку, к рабочей слободе и далее к пустырю, в северо–западной оконечности которого лежало кладбище. Вторая, окружная, вела многолюдной улицей через заселенные кварталы. Первая была короче, и обыкновенно я шел в училище через железнодорожный переезд, а возвращался городской улицей, делая в лавках покупки.
В те дни судьба свела меня с неким калекой, которого звали Пров. Он попадался мне на глаза и в городе у церковной паперти, и возле чугуночных путей, у пакгауза, сидящим перед кучей угля. Безногий, он передвигался на подвязанной ремнями к бедрам дубовой доске, метя дорожную пыль веником бороды, бранясь и плюясь, яростно вращая воспаленными глазищами.
— Мил человек! — кричал он, завидев проходящего. — Кинь копейку за ради Христа — спасителя нашего! Оторви от сердца ржавую копейку несчастливцу!
Я удостоился особого его внимания, даже своего рода почтения. При моем приближении он не кричал: «Кинь копейку ржавую», — а молча, напористо двигался наперерез, ходко выбрасывая вперед свою доску и пружинисто отталкиваясь мускулистыми, почти черными от грязи и загара, руками. По настроению, пьяненький, он жмурился, хрипел, скалился (то бишь смеялся), или глядел злобно, с мучительной обидой, и частенько преследовал меня, впрочем, скоро охладевая к погоне. Надо сказать, что и я замечал его мельком, больше из любопытства, нежели из сострадания.
Как–то раз, за пакгаузом, он окликнул меня. Я поворотил голову — Пров горбился возле кучи угольного шлака, еще горячего, исходившего дымком. Я нащупал в кармане гривенник и швырнул его. Калека выгнул шею, по–гусиному изловчился и ухватил монету шершавыми лиловыми губами, засунул ее языком за щеку и прошепелявил, глядя неожиданно трезво и серьезно:
— Не ходи туда, мил человек! Навеки забудь дорогу туда.
— Куда не ходить? — спросил я оторопело. — Ты чего мелешь, дурак?!
— Не ходи, обманешься…
Он тупо пожевал губами, утер слюну и, неловко перевалившись, упираясь руками в дубовые чурки, неровным, прерывистым скоком исчез в провале меж угольных куч.
Темнело. Тучи набегали с северной стороны. Я укрылся под навесом кочегарки, по которому уже колотили капли. Молния рассекла горизонт, вонзившись неподалеку в поросший злаками холм, и следом небосвод оглушающе разломался, как сотрясаемый толчками скальный утес. Труба кочегарки пошатнулась, под порывом шквалистого ветра отпахнулась дощатая дверь, и тут резанул истошный, пронзительный свисток маневрового паровоза — заливаемый струями, словно зверь в мокрой, серебристо отсверкивающей шкуре, он вынесся из–за стрелки путей, обдал меня удушливым паром и провалился во мраке. Этот паровоз был единственным свидетельством обжитого мира. Все окрест померкло, утопало в ливне, размывалось, утрачивая абрисы реальности: бревенчатые строения, яблони, глиняная площадка, обнесенная изгородью чертополоха. Еще миг назад тут стоял дом, а теперь колеблется его призрак, невесомое акварельное отражение, ускользающее от взора. Зигзаги молний секли глаза; я заслонялся ладонью, и в одно из мгновений в неумолчном шуме ливня различил чей–то радостный вопль — среди мертвого, поверженного потоками воды пейзажа, на одной из угольных куч в безумном восторге воздевал руки к небу безногий Пров, уподобясь сломанному непогодой дереву, и голые руки его с разъятыми пятернями были как две ветви. Торс калеки, с которого ливень срывал тряпье, точно вырастал из угля, служил неразрывным продолжением тела земли, а вопль, разрывавший его гортань, был как бы отзвучием гласа земли. И тут молния ударила особенно ослепительно, я отшатнулся и, когда опустил руку, калеки уже не было…
________
Я сидел в кресле в приемном покое начальника училища. Как выяснилось, он вызвал меня без особой надобности, справился, как идут дела, нет ли каких–либо пожеланий, и я был ему признателен за участие. Все же этот разговор был неприятен мне, всякая забота о моей персоне, от кого бы она ни исходила, представлялась фальшивой, натужной. В последнее время меня преследовало навязчивое подозрение, что мои знакомые вздумали проявлять ко мне особенную, не натуральную жалость. Я никогда не думал, что могу выступать в роли объекта жалости, столь унижающей взрослого, полного сил мужчину, но не мог давать себе отчета, что даю повод для подобного отношения. Я нахожу себя сильным, но чувствую, как каждодневная слабость пронзает меня, отнимает волю и тягу к жизни. Мгновенья отторжения от самого себя становятся все чаще. Я не знаю, что принуждает меня в один из вечеров облачиться во фрачный костюм и отправиться окружной дорогой в оперный театр. Снова я один в этом мире — не вижу скабрезных ухмылочек встречных простолюдинов, не слышу ветра, что разметает пыльцу, не ощущаю теплоты угасающих лучей: словно некто вынул из меня мое естество, лишил нитей принадлежности к человеческому роду. Ледяной мрамор ступеней, по которым я поднимаюсь к дубовым резным дверям, мне ближе, родней, нежели чванливые господа, что величаво прохаживаются в фойе в мундирах. Здесь все сияет: настенные лампы в пергаментных абажурах, ордена, аксельбанты, пуговицы, латунные ручки, люстры, зеркала, радужные свечи. Здесь разлит свет, который не может сотворить улыбка человека; здесь как бы воссияло откровение непостижимого; бегают мальчики в небесно–белых ливреях с начищенными подносами, предлагая шампанское, шоколад и каштаны в сахаре. Они, эти мальчики, как двери, как люстры, канделябры и лепнина на потолке — части единой картины, где смешалось неживое с живым. А роскошные женщины в тяжелых платьях, — будто сошедшие с постаментов статуи, и мне кажется, что это представление исключительно для меня, что меня почему–то ждали.
В зале меркнет чудодейственный свет, и на сцене возникает печальная пастораль кипарисовой рощи, где пастухи и пастушки оплакивают умершую Эвридику. Альт начинает заглавную партию, затем вступают хоры, и тенор Орфея звучит как стон, взывая к тени Эвридики: «О, друг бесценный мой, зову тебя душой, в слезах тоскуя!»
Что привело меня в этот зал? Отчего я пытаюсь проникнуть взором за покрытые масляной краской холсты в глубине сцены, словно туда, а не в преисподнюю, уводит безотрадный берег адской реки Стикс. Я с ужасом озираюсь, — живые ли люди соседствуют со мной в одном ряду? Не подземные ли духи, не безжалостные ли фурии, что встречают Орфея в царстве теней? Отчего так жутко мне, отчего и я в какой–то миг переношусь во мрак, скудно разрежаемый зловещим огнем, — где моя земля, где мой утес, кто протянет мне руку, и не будет ли она мертвенно холодна?
В антракте, на гнущихся ногах, в поту, громыхая сиденьями кресел, я выбрался из ряда. Я задыхался и рвал ворот сорочки. Зловещее предчувствие гнало меня вон из зала. Не помня как, я очутился за кулисами, впотьмах опрокидывал стулья, под удивленными взорами артистов, ожидавших выхода, несся, спотыкаясь и падая, пока чья–то могучая рука не остановила меня:
— Никак леший вас укусил за пятку, Павел Дмитриевич!
Я узнал раскаты голоса Трубникова, но его самого едва различил в полутьме. Звуки оркестра, доносившиеся со стороны зада, мрачными унисонами пронзали меня, вынимали душу. Я инстинктивно сжался, попытался обойти громаду тела Трубникова, но он опять положил руку на мое плечо — как придавил бревном.
— За какой надобностью, дозвольте спросить, пожаловали за кулисы, Павел Дмитриевич, душенька? — произнес он с ехидством. — Желаете постичь, так сказать, изнанку актерского ремесла? Или влечет вас нечто иное?
— Оставьте меня в покое! — я вырвался.
— Ты ищешь ее?! — разъятые лапищи Трубникова опять потянулись ко мне.
Я не успел сообразить, о ком он говорит, как потерял опору под ногами и громыхнулся навзничь. Трубников поставил ногу на мою грудь и победно загоготал. В тот самый миг пение хора прервала дикая пляска фурий, взлетающие форшлаги в оркестре отобразили душераздирающий вой и лай адского пса, а Трубников, преисполнившись манерным трепетом, вдавил разбитую туфлю в мою поверженную плоть, откинул руку, зычно протянул:
— Ужас вселяющий, грозный рыкающий Цербера дикий рев смелую кровь должен оледенить!
Он засмеялся злорадно, презрительно плюнул, убрал ногу, подтянул просторные штаны и ушел, ничего не сказав, точно вдруг позабыв о моем существовании сморчка.
Нелепый и досадный этот случай навел на невеселые размышления. «Почему он решил, что я пришел искать ее? Разве я давал повод? Значит, именно она, ее поведение или слова привели его к такому подозрению… Но ведь в оперный театр меня влекло не одно желание усладиться музыкой Глюка — это правда», думал я, расхаживая по комнате. С брезгливостью и отвращением я вспоминал победный гогот Трубникова.
_________
…Мы с престарелым доцентом шагали разъезженным проселком. До первых, уже видимых за перелеском дачных крыш, оставалось не больше версты.
— Скажите, Петр Валерьянович, известно ли вам о некоем клубе больных контрактурами? — дознавался я у Сумского, невольно убыстряя шаги, чтобы не отстать от него.
— Подобных примеров бывало немало, — ответствовал он. — Страдальцы склонны объединяться, искать себе подобных, — тем паче, что в городе пропадают люди.
— Люди всюду исчезают, — вскользь заметил я, — и объединяются не одни страдальцы.
— Да, но здесь без вести пропадают по преимуществу калеки, убогие, сирые — об этом пишут в газетах.
— Я не слежу за газетами.
— Напрасно, Павел Дмитриевич!
Сестры Сумского — его неотлучные телохранители — молчаливо следовали за нами, дородные, в просторных домотканых сарафанах.
Рябь облаков усыпала небосвод, жаворонки с писком, который я никогда не находил чарующим, а скорее раздражающим, взвивались над полем, и я заметил, что Сумский, насупясь в белой панаме, постукивая палкой по иссохшей черепице дорожной глины, бросал косой взгляд на птиц, что–то бормоча.
— Беспечные создания, — донеслось до моих ушей.
— Эти птахи выглядят счастливыми.
— Счастье разрушительно, от него веет смертельным холодом, потому не стоит завидовать тем, кто выглядит счастливыми.
— Вы отрицаете жизненный идеал?
— Не торопись судить меня, — отрезал старый хирург. — Можете ли вы допустить, что идеал жизни не в достижении счастья?
— Тогда в чем? — быстро спросил я.
Сумский безнадежно усмехнулся, как бы давая понять, что сокровенные слова, которые произнесут его уста, останутся для меня незначащими:
— Всякий идеал в единении.
— Туманное определение, — пробормотал я саркастически.
— Идущему верной дорогой оно многое скажет.
— И все же я не принимаю ваш ответ, Петр Валерьянович.
— Больной может принимать или не принимать снадобье, как ему угодно, но лишь одно оно спасительно для него.
Местность окрест помалу менялась. С выжженного солнцем жнивья на холме мы спускались в низину, где буйно разрослись можжевельник и лещина. За щебнистым склоном простиралась поляна с неширокой улицей промеж бревенчатых пятистенков. В конце улицы кренились два вяза с вороньими гнездами в гуще крон.
Сумский толкнул калитку, приглашая жестом во двор:
— Тишина — это монаршая милость, дарованная нам. Наслаждайтесь, упивайтесь ею взахлеб, голубчик.
И как только он это произнес, звук ли его голоса или скрип калитки всполошил воронье на вязах. С суматошным карканьем черные уродливые птицы сорвались с ветвей, заполонили пространство над крышами.
Сестры переоделись и отправились в огород, а Сумский пригласил меня в обитую крашеными досками комнату с непритязательной мебелью и закопченным камином. Я уселся в глубокое кресло, покрытое изъеденным молью бархатом. Я принял предложение посетить дачу Сумского так же бездумно и безотчетно, как совершал все остальное. Не приходилось гадать, ищет ли старик сближения или же ему нужен попросту собутыльник. В сумраке комнаты бабочка билась о стекло.
— Темно и грустно на душе, — произнес Сумский. — В мои годы начинаешь замечать, что именно старость приближает к ирреальности. Все так называемые юношеские грезы ничего не стоят в сравнении с тем непередаваемым ощущением скорого выхода из этого мира или, точнее сказать, вхождения в нечто. Старость вселяет в меня не ужас перед человеческой бренностью, а радость предчувствия избавления от нее.
Я пожал плечами:
— Молодость, старость… Что, собственно, меняют эти понятия, если не принимать в расчет, что у одного времени чуть больше, чем у другого. По сути, будущего ни у кого нет.
— Извольте обратить внимание — всякий раз на протяжении нашей беседы мы разговариваем как одно лицо, мы как бы едины в направлении мысли, и даже противоречия, сомнения исходят словно бы из общего нашего стержня, неожиданно повестил хирург.
— Не вполне понял вас.
— Увы, я не трибун, не краснобай, не сочинитель! Соображения свои излагаю без прикрас и недосказываю то, что нахожу как бы на ощупь, в потемках сознания. Говоря «мы», я не подразумеваю нас с вами, сидящих здесь, — взамен нашего примера можно назвать любой другой.
— Что ничего не меняет.
— Совершенно верно, — согласился Сумский. — Однако дозвольте мне возвратиться к одному загадочному обстоятельству, о котором уже мимоходом упоминалось и которое вызывало на вашем лице саркастическую гримасу.
Я глянул на собеседника с любопытством.
— Вы, милейший Павел Дмитриевич, верно заметили, что люди исчезают повсюду — в чем состоит удручающей трюизм бытия, — но особенность нашего, скажем откровенно, чудного захолустного города даже не в том, что пропадают невесть куда калеки, нищенки и прочий мерзкий люд, а в том, что исчезают они за редким исключением совершенно безвестно — как пятаки в воде, глубокомысленно заключил Сумский.
— Разве человек не может исчезнуть бесследно?
— Один, два могут, но случаи эти стали так множиться, что вызвали растерянность полиции.
— Помилуйте, Петр Валерьянович, наша–то с вами какая забота?! воскликнул я недоумевая.
«Мерзкий люд» — эти слова неприятно задели мой слух. Сестры переговаривались в огороде. Сумский сотворил в камине шалаш из березовых лучин и поджег его. Я вдруг до боли души ощутил себя одиноким в этой полутемной зале в доме под вязами. Я попытался соотнести свое существование с существованием остального мира, и не находил здесь никакой связи. В мире отсутствовала выраженная потребность во мне — в моих глазах, в бледных руках, изломанных в худых локтях, в моем неспокойном дыхании. Отсутствовало всякое видимое притяжение между мной и другими людьми — единицы из них заметили бы мое исчезновение. «А ведь это замечательно, Павел Дмитриевич, дражайший, — внезапно подумалось, — это просто изумительно, что мало кто заметит твое исчезновение».
— Поверите ли, я часто воображаю, как умру, — неожиданно разоткровенничался Сумский. — Сие произойдет по моему подозрению, на ветхом диване. Я подойду за некой мелкой надобностью к комоду, и тут пронзительная боль за грудиной заставит меня скорчиться и замереть не дыша. Я выжду, когда первый приступ минует, и затем боязно, ища нетвердой рукой опору, двинусь к дивану, — Сумский показал, пригнувшись, прижав ладонь к груди, а другую руку выпростав и потрясая ею в воздухе. — Не возникнет мысль о скорой смерти, ибо единственный опыт, который не познан человеком, есть опыт собственной погибели; и вот я лягу на диван, вздохну и еще увижу угасающим взором, как в комнату входят мои сестры, чтобы забрать меня…
И тут действительно отворилась дверь в сенцах, и с пучками салата, редиса, свеклы, чеснока и прочих огородных даров через комнату на веранду прошествовали миловидные толстушки.
— Заберите меня, заберите, — с шутовской гримасой кинулся он вслед за ними и после, изогнувшись в дверном проеме, идиотически подмигнул мне: Соблаговолите, сударь, подождать.
На что он намекал? Сумский, не пряча самодовольства, показал буфет, заставленный графинами с радужными наливками. Разумеется, в тот вечер я перебрал. Тупо уставившись на полыхавший в камине огонь, механически подымал рюмку за рюмкой, с трудом внимая долгим рассуждениям Сумского о манихейской тяге к огню. Иное влечение было близко мне — влечение в небытие, иное притяжение довлело — притяжение тьмы. Я лицезрел в огне ужасные в своем откровении картины — руки с уродливо вывернутыми пятернями зловеще простирались ко мне, поедаемые пламенем пряди волос вздымались, чьи–то изумленные лики появлялись и исчезали в глубине камина. Я наблюдал разъятые в безмолвном крике рты, иссеченные плетями спины. Отчего столь ужасающая картина привиделась мне? Кто ее породил?
В полночь я проснулся. За окном луна плыла в облаках. Не знаю, что принудило меня одеться и выйти за калитку. Кроны вязов серебрились в лунном сиянии. Я миновал улицу и тут услыхал позади чьи–то легкие шаги. Ладонь легла на мое плечо:
— Куда вы впотьмах наладились, Павел Дмитриевич? Тревожите старика.
— Не могу объяснить, Петр Валерьянович, одно скажу: не в силах оставаться более у вас. Меня как будто что–то гонит, мне не по себе.
— Симптоматично… — пробормотал Сумский.
— Это не паранойя. Я полностью отдаю отчет в своих действиях, поверьте.
— Ну коли так, я провожу вас до станции, — произнес Сумский сочувственным тоном и взял меня под руку.
По дороге он доверил мне мысль о том, что всякий истовый лекарь в конечном итоге уподобляется тому конюху, который подолгу живет в конюшне, покуда не становится похожим на своих лошадей, то бишь пациентов.
________
Я не лгал, когда говорил, что нечто, бывшее сильнее меня, всевластное над моей волей, гнало меня отовсюду. Ранее я искал причину в обыденных рассудочных объяснениях, пока не понял, что причина, вернее всего, близка к непостижимой. Я недоучился в ординатуре, уехал из Кронштадта, все порывался куда–то из города N, пытался бросить опостылевшие курсы, и только угроза полуголодного мерзкого существования останавливала меня. Я не был болен, но и не был здоров. Мир отторгал меня, но отторгал не безжалостно, а со снисхождением, как бы давая время одуматься и спастись.
Я не раз спрашивал себя — за что я гоним? Или жизнь сама по себе уже есть гонение, отторжение? А так называемая радость жизни есть не что иное, как радость прощания с нею? Именно на это намекал занудливый и хитроватый доцент. Но я не стремился испытать ни радость, ни горе, ни счастье, ни отчаяние. Я лишь желал ведать, что со мной происходит, кто подкрался и завладел моей волей. Кто?
…Юлия присела на самый краешек стула, как бы ожидая, что я не позволю ей долго задерживаться и выражая готовность тотчас по моей прихоти уйти.
— У вас холодно, — молвила она. — Я хотела встретить вас подле кладбища, но вы отчего–то вздумали ходить другой дорогой.
— Кладбищенский пейзаж навевает тоску… Зачем вы явились сюда?
— А вы… вам не желается, чтобы я приходила к вам? — задалась она с надеждой на мою благосклонность и слегка прикоснулась кончиками палацев к моему запястью: — Мне страшно! Я сознаюсь вам, Павел Дмитриевич, — мне страшно повсюду, но только не у вас.
— Что же вас так страшит, позвольте спросить?
— Люди… Они смотрят на меня как на прокаженную, как на заклейменную, — на улице, в толпе. Я стремлюсь вырваться из окружения, испытываю ужас от взглядов, исполненных не сострадания, но алчной жестокости. Эти взгляды невыносимы. Я нахожу успокоение лишь в нашем клубе, среди себе подобных, и у вас, потому что вы действительно милосердны.
— Стало быть, нынешнее существование вас не прельщает, и вы полагаете, что, переменив свой облик, заживете счастливее?
— Не знаю, я не уверена… — она помолчала. — Иногда мне кажется, что я очень красива.
— Вы вправду очень красивы. На вас смотрят нехорошо не потому, что вы уродливы, а потому, что вы прекрасны, — попытался я приободрить собеседницу.
Я глянул в сторону — на подоконнике утиралась муха. «Что я говорю? подумал я обескуражено. — Не безразлично ли мне, красива она или нет? Эта странная девица не вызывает во мне ни жалости, ни сострадания. Но я не могу прогнать ее».
— Вы помните наш прошлый разговор? — нерешительно произнесла гостья. Я недорассказала вам, что произошло со мной после того, как я ударилась головой о железнодорожную насыпь.
— …Мрак застил вам глаза, и этот мир ушел от вас?
— Понемногу темень рассеивалась, — продолжила она. — Я увидела белый дом в окружении сосен, мальчика, сбегающего по крыльцу, женщину, выходящую с корзиной белья. Мальчик бежит к ригам, за ними в кустах стекает ручей — за ручьем, в корнях пня тайник с заговоренными игрушками… И вдруг я вижу заснеженный Петербург. Юноша в форме морского офицера бездумно и нервно расхаживает по Большой Пушкарской, выходит на Каменный мост, глядит на воду — боль терзает его душу, боль беспричинная, внезапная и неотступная. Я вижу ангела, парящего над ним.
— … херувима в облаках.
— Вы не верите в Спасителя?!
— Я верую, но я не религиозен.
— В вас говорит православное мироотрицание, видение погрязшего в мерзостях мира. Прошедшему через смерть нечего ценить в этой жизни. Тяга смерти порой превозмогает все, — неожиданно закончила она.
— Не хотите ли вы сказать, что прошли через смерть?
— Это лишь иная стадия жизни. Я способна увести человека в непознанное состоянье, переступить с ним некую черту.
— И что же вы увидели, там, за чертой?
— Я не желаю сейчас вам ничего описывать. Всякие слова бессмысленны, ибо вы способны уйти со мной и увидеть все сами, — ее лицо оставалось непроницаемым.
— Если я правильно понял, вам желается, чтобы и я переступил эту черту?
— Вы ее уже переступили, Павел Дмитриевич, — произнесла негромко она. А теперь прощайте! — она подала мне в руку и вышла.
«Что она хотела сказать? — размышлял я после ее ухода. — Она видела меня прежде — в детстве, в юности. Она видела всю мою жизнь — и видит ее. Она знает, что будет со мной. Впрочем, не надо быть ясновидящей, чтобы рассказывать о том, как мальчик прячет игрушки…»
За дверью послышались шаги и приглушенный кашель. Ермил принес ведра с водой. Умывшись, я надел чистую рубаху и направился через улицу к избе с просевшим крыльцом, возле которого на земле собрались нищие, юродивые и страждущие исцеления. Из низкой горницы, где ветви груши заслоняли окно, сквозь листву я увидел, как работник прогоняет коз со двора.
Знахарка спала. Низкорослый хмурый плешивый мужик, сообщив это мне, скрылся за льняной застиранной занавесью, что закрывала проем двери. Я в ожидании присел на табурет. Мне было стыдно и неловко, поэтому я украдкой явился сюда спозаранку.
Звуки неведомой волнующей музыки, необычайного концерта вдруг наполнили мою душу — в этой грязной горнице, со скрипучими половицами и отворенной крышкой подпола, откуда несло квашеньями. Гармония чарующих звуков захватывала меня, я услыхал призывные басы, форшлаги струнных и дробь литавр. «Боже, где я?» — думал я растерянно, ощущая головокружение, замечая, как подымаюсь над горницей, приобретаю птичью легкость движений. Словно чайка, я воспарил над морскими бурунами и услышал крики других птиц, настигавших меня; стаей мы вознеслись над прибрежными откосами, над оврагами, оставляя позади летаргический морской горизонт.
— Ждешь? — донесся до моего слуха низкий грубый голос.
Ко мне приближалась кряжистая простоволосая баба со свечой в руке. Она шлепала босыми ногами и поднесла свечу к моему лицу, осветив себя, мрачное, настороженное, морщинистое лицо с грубым шрамом на губе.
— Почем людям спать не даешь? Чего явился? — произнесла ворожея насуплено, дыхнув перегаром. Занавесь в проеме качнулась, в щель выглянул плешивый мужик.
— Хочу знать, бабуся, что со мной станется? — я протянул червонец. Сказывают, ты судьбу возвещаешь?
— Ты, барин, бедовый, заполошный, нету лада в твоей душе. Жди бездолья, — вымолвила хитрая старуха, равнодушно заглянув в мои глаза.
— Его еще скажешь, дура? — я вяло улыбнулся.
— Я — баба–дура, а ты, барин, не иначе лиходей. Меня небеса примут, а тебя — проклянут! Вот что тебе говорю, а теперь уходи, откудова явился, она плюнула на пальцы и потерла ими свечной фитилек. Мужик за занавесью убрал голову, и в этот миг мне почудилось, как сумрак горницы пронзила белой молнией чайка. Я закрылся руками, защищаясь от ударов ее крыл, и кинулся вон.
____________
Ночью состоялся еще один визит — на сей раз ко мне. Худой горбоносый тонконогий господин во фраке и старомодном цилиндре склонился над моей кроватью. Паралич страха с ковал меня. Дыхания пришельца я не слышал. Черты его изможденного строгого лица в скупом свете луны были недвижимы, деревянны. Я понял, что он пришел за мной, и когда я глядел на него, уже явилось: длинный, оббитый мореным дубом, как будто знакомый коридор, чей–то истерический хохот за перегородкой, зловещее мерцание свечей. Я возжелал прогнать незнакомца, замахнулся подушкой… и бессильно, сломлено опустил руку.
В недалеком времени я покорно шагал за ним по ночной улице — лишь в трактире еще светились окна. Мы свернули, миновали храм. При виде нас один из нищих поднялся, заковылял к проводнику и, нечленораздельно, с горячностью бормоча, обнял его и припал головой к его груди. Мой проводник негромко ответил, отстранил бродягу, и мы двинулись дальше. Увиденная сцена на меня сильно подействовала. Не вызывало сомнений, что мой проводник и этот нищий были знакомы. «Торопись! — донесся до моих ушей скрипучий голос. — Мы должны успеть до полуночи».
Проводник ввел меня в низкое помещение. Мы спустились по ступеням к площадке с невысоким черно–зеркальным столом, за которым сидели трое уродов с перекошенными лицами. Один из них знаком велел провожатому уйти.
— Ты, верно, жаждешь узнать, почему мы позвали тебя?
— Прежде я хотел бы доведаться, кто вы?
— Мы — те несчастные, кому ты хочешь, но не можешь помочь. Мы — те, кто испил до дна чашу страдания, но остались живы — и даже поднялись выше жизни.
— Что может быть выше жизни? — спросил я.
— Братство, объединяющее нас, к которому и ты скоро присоединишься, ухмыльнулся один из уродцев.
— Вы принадлежите некоему тайному ордену? — спросил я, пряча свой страх.
— Наше братство открыто для всех, ты можешь ежечасно лицезреть членов нашего братства на паперти, в обители юродивых, в доме призрения.
— Подобное зрелище не доставляет радости, — заметил я.
Как бы не слыша меня, тот продолжал:
— Мы говорим: этот человек несчастен, он уродлив. Вопреки земным правилам мы должны помочь ему обрести счастье.
— Вам известен рецепт?
— Нам открыты истины, закрытые для других людей. Перенесенные нами ужас, отчаяние и страдания разверзли наши очи и сотворили видимым то, что сокрыто для остальных.
— Но какое касательство имею я ко всему изложенному вами?
— Мы отторгнуты, но мы свободны, — вторил урод как бы сам себе, — и мы забираем того, в ком нуждаемся. У нас нет морали, нет чинов, а есть всеобщее равенство и послушание самому разумному из нас. Настает день, когда кто–то из членов нашего братства уходит — каждый сам решает для себя, когда… Он уходит к тому жителю Земли, с коим возжелал слиться воедино…
— Скажите, значит вы — жители Земли? — обронил я с нетерпением.
— Мы путешествуем между двумя мирами, низший из которых самоочевидный. Мы принадлежим двум мирам, покуда навсегда не уходим в высший вечный мир… Теперь ты догадался, что один из нас возжелал забрать тебя и слиться с тобой?
— Кто он?! — вырвалось у меня.
Тут свет, дотоле сильный, начал меркнуть. Один из троицы — самый страшный — упорно молчал, и мне подумалось после слов «один из нас», что именно этот урод и «возжелал забрать меня», а его зловещее молчанье служило подтверждением этого намерения.
Я порывался уйти, но не сделал ни единого движения, словно незримые цепи удерживали меня — цепи в моей душе. Уже не страх, не любопытство, не покорность, а ощущение принадлежности к некоей тайне вынудило меня наконец сделать шаг вослед уходившему стариковской поступью уродцу в рубище. На второй шаг я не отважился.
День и ночь слились воедино. Я уже хотел, чтобы за мной снова пришел незнакомец в цилиндре. Но следом за этим желанием я возмущался. Внутреннее противоборство во мне неизменно вызывало всякое принуждение, несвобода: ведь то, в какой роли мне надлежало выступить, являлось бесцеремонным принуждением.
Я уже не воспринимал по прошествии короткого времени со всей серьезностью происшедшее со мной, а обнаружил себя участником некой мистификации, сознавая притом, что ее цель мне неясна. И вместе с тем явилось прозрение, что за мной пришли не случайно, что выбрали меня намеренно — с некоторых пор я не видел себя полноправным участником жизни. Я тоже не жил, а как бы актерствовал, мистифицировал, то есть я уже как бы отказался от этого мира, не принимал и не желал принять его, но и не думал о другом мире, не знал, где он и не порывался найти его.
Я прозябал. Поутру читал лекции в училище, подолгу сиживал в трактире, раскладывал винт с Леонтием, наблюдал за звездами по ночам — и напряженно думал о ней. Какая связь между ей и ними? Только ли ее уродство (уродство ли?). В их голосах слышались непреклонность, в ее тихом голосе — покорность, слабость.
_____________
…Я стоял в неприметном месте театрального двора, дожидаясь, когда он опустеет. Швеи одна за другой покидали мастерскую. Юлии среди них не было. Наконец я зашел в мастерскую и тотчас увидел ее в дальнем углу — она расчесывала гребнем волосы. Ёе рабочий сарафан, вчетверо сложенный, лежал на столе.
— Я приметила вас в окне, как вы ни прятались, — проговорила она, повернув ко мне бесстрастное лицо.
На полу, на стульях, на столах были раскиданы лоскуты ситца, шелка, льна; остывали угольные утюги, на стенах и на чурбаках развешаны готовые костюмы, платья и раскроенные отрезы. Леденящая прохлада ее руки, которой едва коснулись мои пальцы, заставила меня вздрогнуть.
— Я должна прибрать мастерскую, — она принялась веником смахивать на пол пестроцветные тряпицы.
— Часто ли вы хаживаете в театр, Павел Дмитриевич, простите за любопытство? — говорила она, сметая сор к объемистому картонному ящику с приставленной к нему лопатой.
— Весьма редко.
— Вы, верно, не верите, что происходящее на сцене как–то соотносится с жизнью?
— Не верю.
— А я вот верю.
— Не посягаю на это ваше право.
Она вознесла глаза на меня и произнесла с укором:
— Не насмехайтесь надо мной!
Когда мы вышли во двор, к нам заковылял старик–сторож, запер дверь мастерской, проводил до ворот.
— Я хотела бы вас спросить, но боюсь доставить вам неловкость, проговорила Юлия.
— Не надо, умоляю, ни о чем спрашивать! — попросил я.
Окраинные избы утопали в яблоневом цвету — из этого пенно–кипящего мира мы вскоре перешли в кварталы трущоб. Мне представлялось, что здесь исчезли спокойные, обычные тона человеческих голосов. Бабы в открытых окнах истошно кричали, бранились; сквернословили мужики, вопила голопузая детвора на улочках. И, напротив, встречались изможденные болью глаза, остроскулые лица, обтянутые пепельной кожей бескровные немые уста. Нас окружили безгласые существа в лохмотьях, вызывавшие содрогание, их руки тянулись к нам, как руки тонущих. Через темную подворотню, в потеках помоев, мы вошли в подъезд и поднялись под самую крышу.
— Ваш супруг не удивится моему приходу?
— Не называйте этого хамоватого господина моим мужем, — попросила Юлия, введя меня в невероятно тесную, заставленную громоздкой мебелью, коморку. На полу были свалены узлы и перевязанные шпагатом коробки, как будто хозяева собирались в дорогу.
— Но разве Иван Демьянович вам не муж? Вы обвенчаны?
— Наши отношения отличны от тех, что сближают большинство людей, — Юлия зажгла фитиль лампы. — Я повелеваю им безраздельно. Иван исполняет любые мои прихоти. Я не знаю, откуда у него деньги, — может быть, он ворует или грабит кого–то… Он на все готов ради меня, его страсть ко мне сильнее страсти мужа к жене, сильнее страсти любовника к любовнице, это какое–то нечеловеческое чувство, которое сильнее страсти ростовщика к деньгам.
— Не похоже, что вы живете богато.
— Я не стремлюсь к богатству, ибо не вижу в нем нужды.
— И все же я не хотел бы сейчас встретиться с вашим мужем.
— Он вовсе не муж мне, — повторила Юлия. — Я подозреваю, что его страсть ко мне в действительности есть страсть к самому себе, вечно неутоленная страсть к тому, кто сокрыт внутри нас. Поэтому Иван полагает, что мы с ним никогда не расстанемся, что мы с ним неразделимы.
— Вы того же мнения? — спросил я.
— Не знаю, — отвезла она. — Я безразлична к нему. Просто однажды он появился в моей жизни и забрал меня, — я вовсе не думаю о нем. Он же готов ринуться в преисподнюю ради меня, что, однако, малоценно в моих глазах.
— У кого кнут, тот и кучер, — проговорил я. — Ваш кнут — его любовь к вам… О ком же тогда вы думаете?
Она своим глуховатым голосом отозвалась:
— Не о вас, хотя меня к вам тянет, не стану скрывать…
— Поэтому вы позволяете себе приходить к моему дому?
— Я позволяю себе много чего. Среди прочего я позволяю себе приходить к вашему дому.
— Согласитесь, сие довольно странно.
— Не более, чем наша беседа.
Я помолчал и спросил:
— Скажите откровенно, Юлия, — вы скрываетесь от кого–то?
— От них невозможно скрыться, тем более, что они добры ко мне и будут добры к вам.
— Хотелось бы верить, однако то, что я видел, скорей напоминает сборище членов некоей греховной и гонимой секты. Слабо верится в доброту и благодать таких людей.
Вдруг дверь распахнулась и в комнату ввалился Трубников. Его грязная поддевка была расстегнута, глаза лихорадочно блестели. Он вытирал рукавом слюнявые пунцовые губы и учащенно дышал.
— А, исцелитель явился! Болячка у меня… Во, гляди! — он хватил кулачищем по груди. — Душа ноет и тоскует! Вылечи меня! — он вырвал из кармана початую бутыль и жадно присосался к горлышку.
— Иван! — возвысила голос Юлия.
— Что, и тебе не любо?! А кому ж любо, когда душа обратилась в кровоточащую язву… А ты не жалей меня, не жалей, сквалыга! — вновь обратился он ко мне и, пройдя пару шагов, швырнул бутыль на пол. «Не жалей, сквалыга!» — это, видно, относилось к той усмешке, с какой я наблюдал за его выходками.
— А я вот что еще скажу тебе, Павел, — Трубников всем телом придвинулся ко мне и жарко задышал: — Знать не желаю, что тебя привело сюда, но ты бойся ее, она курва! Не верь, что прилежная! Она сведет тебя с дороги, а болезнь ее неизлечима — я знаю, мне бабка нашептала. А всю оперетку с письмами она, Юлька, придумала — девка страсти до чего смышленая, что тот губернский ревизор!
— Выговорился? — спросила Юлия, давая своим тоном понять, что к словам Трубникова можно относиться как угодно: верить, а можно и не верить, все будет равно далеко от правды: — Устыдись самого себя…
Трубников снял с себя поддевку, но не повесил ее на гвоздь, а накрыл ею подушку — видно, сей ритуал был привычен, и уже затем уронил голову, шумно задышал, скорчил гримасу и затих.
Юлия сняла с него пыльные сапоги и накрыла суконкой голые лодыжки.
— Какая надобность жить с таким мерзким типом, даже если он послушный вам раб? — сказал я хмуро. — И к чему, в самом деле, был этот спектакль с письмами?
— Вы напрасно сердитесь, я должна была дать вам знать о себе.
— Какая чушь! Не понимаю ваш умысел! Прошу впредь оставить меня в покое.
— Покоя у вас, Павел Дмитриевич, никогда не будет — да и вы не испытываете к тому склонности… Я же, хочу вам сказать, что была некогда в Петербурге на приеме у профессора Малышева Святослава Григорьевича, и именно он подсказал мне обратиться к вам. Я ездила в Кронштадт и даже видела вас… Но не осмелилась попросить вас о приеме, да и вы наверняка отказались бы пользовать меня.
— Порой врачу достаточно одного взгляда на пациента, чтобы понять тщетность всяких усилий — тем паче в вашем случае, когда красота вашего лица навеяна страданием.
— Вы хотите сказать, что именно ужасной болезни я должна быть благодарна за гармонию черт своего лица? — спросила Юлия, замерев.
— Отчасти, — бросил я и встал. — Впрочем, я, верно, чрезмерно занял ваше время?
— Нет, нет, не уходите! Я подам чаю, — она поспешно вынула из–под стола закопченный самовар и поставила его на плиту.
Я показал рукой на храпевшего Трубникова:
— Право, как–то неловко… Я, пожалуй, пойду. Прошу прощения, ежели ненароком чем обидел, — обронил я на прощанье.
Ночью привиделось: громы громыхают над головой, потолок в моей келье разверзся, спустилось небо, исполосованное молниями как ножом. Кровать сотрясается, ходит ходуном зеркало и жутко шевелится уродливый горб на постели. Гроб этот — я. Жажда иссушает небо, внутренности мои запеклись, и даже дождь, заливающий мою келью, не спасает и не приносит облегчения прохладой. Я вскакиваю — меня подстегивает ощущение, что кто–то невидимый, не именуемый, наблюдает за мной; я слышу приглушаемые порывами ветра его ехидные козлиные смешки. У него обличье колдуна, серое рыхлое лицо, морщинистые щеки, до ворота темной рубахи седые усы и цепкий сверлящий взгляд. Осклабясь, ведун пододвигает нож по столу — ближе к моей руке, подсовывает нож под мои иссохшие пальцы, будто знает, что я возьму его. Я и вправду беру нож, потому как я хочу его взять. Я, наверно, болен, у меня галлюцинации, я брожу по жизни, как лунатик по карнизу, но рукояти ножа на моей ладони тверда, осязаема, реальна.
И вот я уже во дворе. Перемахиваю через плетень и спускаюсь к огороду. Тут пес с хриплым лаем в прыжке бросается на меня чтобы, проскулив, опуститься к моим ногам — уже более ничто не беспокоит глупого пса, а мокрая штанина в постылой собачьей крови липнет к ноге. Завыли соседские собаки, но тем поспешней мои шаги. Дверь в хлев не заперта, и едва я ступаю внутрь, как в лицо ударяет волна теплой вони, и встревожено, почуяв чужого, нетвердо подымается на ноги грузный хряк. «Тише, тише, дурачок," — шепчу с необыкновенной лаской и нежностью. Ноги увязают в навозной жиже, я медленно подступаю. Сонный хряк настороженно отступает, и когда я сближаюсь с ним, поскользнувшись, дрыгнув копытцами, кидается в сторону, но я успеваю с радостью и облегчением глубоко, по самую рукоять, всадить лезвие в щетинистый бок. Истошный визг раненного животного, перекличка встревоженных голосов снаружи.
_____________
«…Я ли это был?» — трясясь в ужасе, весь в крови, стаскивал я с себя одежду и судорожно бросал ее в печь. Руки мои ходили ходуном. Отчего же они были тверды, когда я всаживал нож в несчастную тварь?
— Почему невеселы, Павел Дмитриевич? — полюбопытствовал Сумский, когда мы мимолетно встретились с ним в коридоре училища.
— Сон видел — будто отрядили меня на бойню скот забивать, — попробовал я отшутиться.
— Сны случаются, батенька, вещие, — доверительно молвил хирург. Накануне первой контузии, помню, привиделся такой сон: чья–то рука в волдырях, обваренная, протягивает мне кровавый букет цветов диковинных, а я брать не желаю, а он, милостивый сударь, мне в самую физиономию букетом тычет — так что внятно слышу я аромат кровавый. Поутру подумалось — ну, братец, ты крови насмотрелся в своем лазарете хоть куда, даже по ночам от нее не денешься. А тут как раз посыльный прибегает: вам, значится, с фельдшером приказано на позиции немедленно явиться, тяжело ранило вахмистра Конопелько, не переносной он. Мы, стало быть, уложили свои причиндалы в саквояж и трусцой к передовой. А посыльный бежит впереди, шагах в двадцати. Вдруг вижу — будто на кол наткнулся он, взмахнул так привольно руками, в последнем проблеске сознания обернул ко мне лицо — жалобное такое, обиженное, недоуменное, — вздохнул и повалился. А как без провожатого найти рту самую третью артбатарею? Заметались мы с фельдшером по окопам и аккурат угодили под японские фугасы — вот тогда узнал я, как колышется земля, и увидел то самое бесконечное небо, которое князь Андрей Болконский лицезрел под Аустерлицем… Очнулся на носилках, несли меня в лазарет, я кричу, а никто меня не слышит.
— Не столь давно довелось мне познакомиться с одной замужней барышней, и с того дня неотступно думаю о ней — и думаю с боязнью, — выложил я вдруг как на духу. — Едва ухожу от нее, как вспоминаю тотчас же, ибо не могу иначе. Вместе с ее образом в памяти встает образ ее мужа — скажу вам, хамоватый мужлан! — и мне почему–то кажется, что он ждал моего появления возле нее, что он верно знает, какими будут наш отношения вскорости. Он зачем–то разыграл спектакль — прикинулся выпивохой. Он, верно, желал под хмельком мне что–то сказать важное, и так сказать, чтобы это не пошло ему в зачет, но сказано было. И у меня такое чувство, что когда мы с ней встречаемся, он неприметно, терпеливо стоит в стороне. Словно проверяет правильно ли развиваются наши отношения, туда ли мы идем с ней? Неужто имеется некий план, в котором мы участвуем, но о параграфах его я волен лишь догадываться?
— Но причем здесь ваш сон и кровь? — спросил быстро Сумской, слушавший меня с чрезвычайным вниманием.
— Затрудняюсь определенно сказать вам, причем здесь кровь. Я не испытываю страсти к этой особе, я ее не люблю и, скажу больше, пребываю в недоумении касательно самого себя Я всегда стремился к ясным, недвусмысленным поступкам, а нынче поступаю порой как в горячке, задним числом осознаю и оправдываю себя.
— Теперь понятно, молодой человек, отчего вы ищете тишину.
— Если не брать на ум, что вечная тишина одна в могиле, — выдавил я кривую усмешку.
«Я попытаюсь излечить тебя, — решил я однажды. — Только, ради всего святого, оставь меня… Я желаю жить точно так же, как в то время, когда не знал тебя», — подумал я изнеможенно.
Я пригласил Юлию в училище поздним вечером, когда классы опустели, провел полутемным коридором в лаборантскую и не стал зажигать большую пятирожковую люстру, чтобы не привлекать взоры со двора, а наладил фитиль спиртовки.
— Этого скудного света будет достаточно, — произнес я вслух, подивившись необычному, торжественно–размеренному звучанию собственного голоса, и поставил стеклянную банку на тумбу возле широкого лежака, застеленного льняной простынью.
Юлия освободила крючки платья, сняла его через голову, оставшись в рубашке и темных чулках.
— Что я должна делать дальше? — спросила она.
Жидкий свет, отбрасываемый фитилем, едва достигал ее лица, — оно было желтовато–серым, ни один мускул не вздрагивал на нем, лишь перебегали то меркнувшие, то ярче вспыхивавшие волны света, когда сквозняк играл фитилем.
Я показал на лежак. Она подняла подол сорочки, чтобы медленно, изящными, словно выточенными из орехового прута, пальцами расстегнуть атласные подвязки чулок, оголила ноги и легла, вытянув руки вдоль тела и закрыв глаза.
— Вам будет больно, — осторожно проговорил я и взял скальпель.
Ее губы были плотно сжаты, лицо осталось недвижимым, когда я провел скальпелем по ее прохладному алебастровому бедру. Я провел не лезвием, а тупой рукоятью скальпеля, не оставив пореза. Поднял нож в руке и неожиданно для себя самого рассмеялся хриплым сладострастным смешком.
Она не шелохнулась, но протяжно застонала, когда я вновь провел рукоятью скальпеля по ее обнаженной ноге. Розыгрыш удался. Я самодовольно улыбнулся и тут с оторопью заметил, как сквозь ее млечную кожу проступает кровянистая полоса, точно хирургический нож рассек ткани, и багровый след протянулся по бедру. Дрожащими пальцами я приложил ватный тампон и неуверенно глянул на застывшее в муке лицо Юлии — она открыла глаза и глубоко, уже облегченно, вздохнула.
— Ведьма! — прошипел я и лизнул мизинец с каплей ее крови, горькой как желчь.
— Ведьмы не пользуются услугами врачевателей, — устало отозвалась она и вновь сомкнула веки.
— Не хотите ли вы сказать, что обладаете сверхъестественной чувствительностью?
— Вам желалось увидеть мою кровь, и вы ее увидели, — произнесла она, оставаясь недвижимой на лежаке.
— Я лишь хочу излечить вас известными мне и весьма несовершенными методами.
— Не лгите себе — вам безумно нравится мое лицо, и потому вы боитесь, что оно в один из дней оживет. Но вы, Павел, забываете, что эта мертвенная маска есть источник моих страданий, и я пришла к вам затем, чтобы вы избавили меня от них.
Я покорно и подобострастно коснулся губами божественной красоты колена и положил голову на ее бедро, — она провела ледяной ладонью по моей, залитой слезами, щеке.
— Павел, — произнесла она чуть слышно. — Павел…
…Ночью ко мне снова пришел горбоносый человек в цилиндре и черном жакете со звездами. Я безропотно повиновался его знаку и последовал за ним по пустынным улочкам. Я шагал и вспоминал Юлию; даже нельзя сказать, что вспоминал, ибо она всегда незримо была со мной, не покидала меня, и сейчас я ощущал ее присутствие, слышал легкие шаги по правую руку от себя. Она просила меня не бояться, и я не ведал страха, ибо что может быть ужасней той постылой повседневности, в которой пребывал я? «Меня, верно, желают забрать, увести куда–то», — думал я трепетно.
В уже знакомой мне комнатенке с низким потолком и оклеенными желтой бумагой стенами, со спертым воздухом и наглухо зашторенными окнами, трое уродцев с отвратными гримасами на лицах подвели ко мне полуголого мосластого юношу в облегающем тощие ляжки трико. Он беспрестанно откидывал со лба худыми пальцами русые пряди, смотрел на меня проникновенно, с жадностью, и на щеках его то вспыхивали, то угасали пунцовые лихорадочные пятна.
— Познакомься, — сказали мне, — его зовут Николай… Он любит тебя.
Тотчас Николай порывисто припал к моей груди и затрясся в рыданиях, точно ждал этой встречи двадцать лет.
— Он будет с тобой до того дня, покуда ваши души и тела не сольются в счастливом миге вознесения, — донеслось до моего слуха.
Николай потянулся на цыпочках и вдруг ненасытно впился своими горячечными губами в мои губы — до крови, до моего протяжного стона. Я резко отстранился, но он намертво прилип ко мне, обхватил мою грудь и зачарованно зачмокал окровавленным ртом.
— Николай был несчастен в этой жизни, — опять донеслось до меня как будто издалека, — но затем познал иную, поистине сладостную жизнь, открытую тому, кто испытал истинную муку, и вернулся, чтобы навсегда забрать тебя с собой, ибо он полюбил тебя. Обними же его…
Я с отвращением оттолкнул этого слюнявого придурка, — так, что из его гортани вырвался недоуменный и возмущенный визг, затем выхватил из–под стола табурет и с размаху снес им керосиновую лампу. Освободившись от чьей–то цепкой хватки, я выбежал на улицу. Меня никто не преследовал…
___________
— Чаю, погибаю без чаю, Петр Валерьянович! — шутливо умолял я Сумского, истекая потом в его баньке под вишней на окраине дачного надела.
Сумский кликал меня в предбанник и наливал из огромного фарфорового чайника с маргаритками. Я возносил чашку в руке и, проникновенно улыбнувшись, провозглашал:
— За вас, Петр Валерьянович! Успехов и многие лета!
— Какие уж тут многие лета! — с лукавым прискорбием отзывался хирург. Перед тобой, Павлуша, сидит абсолютно голый человек в смысле будущего.
— Нет будущего не только у вас, — упорствовал я. — Мы все безотрадные тени на просторах Вселенной, необъяснимая временная материализация Духа, который вечен и неизменен.
— Давно ль ты уверовал в Дух, и с какой стати потребовалось Духу воплощаться в нас, обрастать руками, ногами и в придачу головой с дерзновенными мыслишками? — спросил Сумский строго. — Ведь, сознайся, коллега, ты — безбожник? — пытливо посмотрел на меня доцент, по своему обыкновению обращаясь ко мне то на «ты», то на «вы». — Не веруете вы, считаете, что божескими деяниями невозможно объяснить невероятную сложность этого мира, который, как мыслится, видится вам хаотической мешаниной людей и вещей.
Я виновато молчал. Сумский запальчиво продолжал:
— Вдобавок любопытно узнать об ином — ежели, как вы упорствуете, человек есть кратковременная беспричинная материализация некоего разлитого во Вселенной Духа, то кто тогда и зачем наградил человека не одними руками и головой, но и вкупе с ними способностью страдать, мучиться? Не похоже ведь, что ваш Вселенский Дух изнывает от боли или напротив, изнемогает в сладостной неге любви? Или я не прав?
— Не мне с моим младенческим умишком рассуждать о присущем Великому Духу, — попробовал сыронизировать я, — хотя вовсе не трудно прийти к соображению, что суть человеческих страданий в несовместимости материального и духовного, низменного и возвышенного. Материя отторгает бестелесное в той же мере, в какой душа стремится избавиться от оков тела. Человек есть неудачная, неведомо с какой целью и по чьему наущению произведенная проба слияния антагонистических вселенских стихий. Камень не знает боли, равно как и Дух бесстрастен к камню, но в человеке, к несчастью последнего, Дух оживает, пробуждаемся, насыщается красками радости, наслаждения, сантиментов, упоения и, конечно, мрачными тонами страдания и горя. Однако короток век этого цветка, ибо само его появление противно всякому естеству.
— Позвольте, но как частица вашего Вселенского духа я вечен, — со скептической ухмылкой вставил хирург. — Весьма неожиданно под старость услышать о себе подобное…
— Вы вечны, но у вас нет будущего. Дух неизменен и бесстрастен, как неизменна и бесстрастна материя.
— И все же ваш, отчасти виталистический, взгляд не проясняет загадку появления человека
— Допустимо предположить, Петр Валерьянович, что возможна не одна наблюдаемая нами форма человеческого воплощения, что вероятны и некие предчеловеки — не во временном разрезе, а в смысле целостности, завершенности. Точно так же возможны и некие постчеловеки. То бишь человечество не есть устоявшаяся форма слияния духа и материи, и среди нас можно повстречать образчики как более совершенные, так и менее. Другими словами, не все мы в равной степени люди.
— Признателен вам, коллега, за весьма содержательную лекцию, улыбнулся снисходительно Сумский, — однако позволю себе проявить настойчивость и попрошу подсказку — что делать, если упомянутые недо–или постчеловеки окружают нас?
— Что делать? — вскинул я брови. — Ответ прост — жить.
— Баламут ты, Павлуша, — бормотал захмелевший доцент, ибо не единственно чайком мы пробавлялись, а еще грушевой настойкой и славной можжевеловкой с блинчиками и сальцем.
После, когда мы, остуженные, вновь входили в парную, Сумский укладывался на полок и просил истомлено: «Поддай парку, Павлуша», — а мне все мнилось, что в запотевшее окошко баньки подсматривают за нами чьи–то настороженные глаза. Ну да чего не почудится спьяну?
…Были ли мы с ней близки? В обыкновенно понимаемой близости не было нужды, ибо мы познали нечто гораздо более притягательное, некую иную степень близости, которую не описывает человеческий опыт, такие будничные понятия, как «родство душ» или, положим, «любовь». Мы постигли ту степень близости, даже, если угодно, сращивания, когда я как бы ступил в тайну ее существа, а она вошла в меня. Упомянутое взаимное притяжение было неотвратимым, но не главенствующим в наших отношениях. Мы шли дальше, как бы мимолетно констатируя наше соитие в том, быть может роковом, движении к некоей возглавной цели нашего обоюдного познания, которую мы угадывали интуитивно. Это было движение Туда.
Обыкновенно мы встречались на берегу реки. Я приходил задолго до условленного часа к валуну неподалеку от заброшенной пристани. Дощатый настил местами провис, сваи просели и накренились, сырость изъела мостки в труху. Только голопузые бесстрашные пацаны, что срывались вниз головой в черную сонную воду, да чайки видели нас.
В Юлии меня всегда поражала противоестественная бледность ее лица. Солнечные лучи не обжигали ее кожу, хотя на земле не сыскать чего–либо невосприимчивого к солнцу, и эта бледность как бы подтверждала ее лишь косвенную принадлежность к этому миру. Она не баловала меня улыбкой, смотрела украдкой, словно стыдясь чего–то, была немногословна, торопилась уйти, но порой разительно менялась — хрипло смеялась, отпускала вульгарные шуточки, развязно играла локонами в венчике пальцев, и ее глаза приглушенного, неопределенного цвета вдруг вспыхивали зазывно и дерзко. Юлия была неизменно равнодушна к очарованию природы, на берег ее влекла только возможность уединения. Мы могли часами стоять без слов.
О чем она думала? Мне представлялось, что ее мысль, как связующая с прожитым и настоящим, была устремлена к чему–то потустороннему, что поистине никак не соотносится с жизнью. Ни речной разлив, ни степной закат не волновал ее. Взор ее, мнилось, был провидчески устремлен за изнанку пыльного горизонта, и по временам, в какие–то мгновенья, ее ладонь на шершавой выпуклости валуна судорожно сжималась.
Порой я отваживался целовать ее узкие, бесстрастные, монашеские губы. Она не противилась. Однажды я попросил:
— Расскажи мне о них.
Поначалу она не отозвалась, заправила прядку волос под гребем, закрыла глаза, как бы пробуждая память:
— Они веруют и потому они вне пределов досягаемости разума.
— В кого они веруют?
— За ними стоит иная сила, — не та, что стоит за людьми. Надо всеми живущими распростерто зловещее черное крыло фатума. Из круга его безжалостной тени стремятся они увести избранных.
— Твои слова не убеждают, — проговорил я с привычным скепсисом. Скажи, зачем ты приходишь сюда?
— Отчего я прихожу сюда? — повторила она чуть отстранено, словно будучи наедине с собой — Мне желается, Павел, увидеть вас. Вы неотступно стоите перед моими глазами, и мне кажется, я прихожу сюда, чтобы убедиться в вашей реальности… Ведь вы можете исчезнуть в любую минуту. Мы все можем исчезнуть безвозвратно, — уже заворожено шептала она, полуприкрыв в этом молебне глаза, становясь чуждой мне, не оставляя следа от упомянутой мной ранее близости.
Я ненавидел этот ее ностальгический и в то же время жутковатый шепот. Я уже не улавливал токи ее души, она как бы облекалась в непроницаемый саван, в твердыню кокона, из которого вышла, быть может, опрометчиво. Я подозревал — она хотела меня предупредить, но отчего недоговаривала? Если желала уберечь — то почему столь неуверенно?
Я провожал ее до окраинных домов слободы, украдкой пожимал ее пальцы, и она уходила по каменистой, заваленной нечистотами тропинке навстречу женским воплям, истошному детскому визгу и возбужденным мужским голосам…
___________
То утро выдалось пасмурным. Я направился в училище через железнодорожный переезд. Вдали, у семафоров, и поблизости, у водокачки, протяжно перекликались паровозные гудки. Туман, как занавесом, прятал очертания вокруг, и только в стороне быстрые ритмические звуки, которые издавало под тяжестью шагов угольное крошево, указывали на то, что я не один на тропе. Я зачем–то поспешил нагнать незнакомца в цивильном костюме и летней шляпе, — он не походил на дачника, что собираются поутру на платформе в ожидании пригородного. Я бы сказал, что он был вызывающе хорошо одет для столь заброшенного места. Внезапно в стороне донесся слабый выкрик, и мы оба разом поворотили головы и убавили шаги, а с угольной кучи неподалеку сорвалось некое приземистое вихлястое существо, чуть ли не лохматая хромая собака. Неожиданно пробудившееся ощущение тревоги принудило меня укрыться за штабелем шпал, в то время как неизвестный щеголь с радостным восклицанием со всех ног бросился к тому перемазанному угольной пылью существу, обнял и принялся горячо целовать обросшее густой нечесаной шерстью лицо. В свой черед безногий калека Пров (а это был он) со счастливым поскуливанием принялся жадно лобызать господина в цивильном костюме, исхитрившись стянуть с него двубортный сюртук, а следом кинуть оземь свою замусоленную косоворотку. Раздался хлопок, как будто вылетела пробка из бутылки с шампанским, и в проясняющемся воздухе я увидел, как лопнули ремни и отпали колодки с обрубков ног калеки. Пров дико закричал, густая кровь окропила его корявые руки, заструилась по шее, хлынула по рваным порткам. Нищий был омыт кровью, словно новорожденный, а тот господин все продолжал ненасытно усыпать поцелуями омерзительное чело, как бы в стремлении облегчить родовые муки своего возлюбленного; упал на колени, порывисто обнял его грудь, притиснулся к ней спасительно и блаженно почти что у самой земли, и в тот же миг калека с просветлевшим лицом поднялся на ноги, коих у него не было мгновеньем раньше, ответно обхватил того господина, и они оба воспряли над кучами угля, над землей, уподобившись едва приметным отсверкивающим теням. Торжественная тишина установилась в те минуты над подъездными путями, и мелкий дождь окропил землю.
Виденная картина еще долго стояла у меня перед глазами и повлияла на мое решение с Трубниковым: этот неотесанный мужлан наверняка знал больше, чем говорил.
…Архитектурный ордер театра с остроконечным полушарием купола и высоким полукружьем стен напоминал очертаньями неведомый корабль, готовый унестись в небеса. Я нашел Трубникова в аванложе второго яруса. Стоя в проеме в обрамлении вишневых гардин, он зычно руководил установкой декораций на сцене.
— А, Павел Дмитриевич, наконец–то пожаловали! Милости просим, — с довольно неожиданной любезностью приветствовал он, мельком глянув на меня. Вазу ставь за фонарем… Не туда, олухи. Ограду тащите ближе к кулисам… Расставляйте без меня, — повелел он подмастерьям, после чего без промедленья мы спустились в гримерную, стены которой пестрели афишами, а на столиках скопилось великое множество разнокалиберных пузырьков, флаконов и бутылок.
— Что происходит, Иван Демьянович? Растолкуйте мне, Бога ради, приступил я без околичностей.
— Происходит то, что всегда происходило, — философски заметил Трубников, поднеся к ноздре один из пузырьков и принюхавшись.
— Вы великолепно понимаете, о чем я! — настаивал я.
— Да уж какие могут быть секреты… — многозначительно отозвался Трубников, затем раскинул руки, рявкнул: — Ты огорчил меня и вводишь в грех! Завидно мне, что лорд Нортемберленд — отец такого доблестного сына!
— Прекратите паясничать!
— Ежели по–сурьезному, Павел Дмитриевич, — тадысь вам не позавидуешь, изрек он мрачно. — Положили они глаз на вашу милость и в сети манят, душегубы.
— Какие сети?
— Известно какие… Они и меня сподобились увлечь в свой омут, да не на таковских напали, не дался я, — он помолчал, что–то вспоминая. — Кто Богу не грешен, тот и царю не виноват: нет моей вины ни перед кем.
— Помилуйте, о чем вы?
— Известно о чем, — бесстрастно молвил Трубников. — Они и за ней, стало быть, охотятся…
Он подошел к одному из шкафчиков, пошарил на полке и выложил на стол зачерствевшую буханку, откушенную луковицу и, пригнувшись, из потайного места вынул бутыль с лиловой жидкостью.
— До нашего знакомства Юленька подавала в ресторане, что возле железнодорожной станции. Я тадысь задолго гастролировал, — тут он наполнил до краев стаканы и торжественно вознес руку («я гастролировал» было произнесено тоном, каким говаривают обласканные судьбой артисты).
В три глотка он осушил стакан, крякнул, понюхал луковицу, мокнул ее в солонку и, с хрустом пережевывая с хрустом: — Доводилось, сами понимаете, частенько сиживать в том занюханном кабаке. Помалу привык я к Юленьке, ненаглядной моей, сноровистой и молчаливой, не походившей на других дамочек, что запархивали туда известно с каким интересом. Зацепила она своим горестным молчанием меня за сердце; вижу, что прихожу в тот кабак одно за тем, чтобы взглянуть на нее, как на икону, писанную дивным мастером, — и вправду, робел и каялся я перед ней, как грешник перед святой, но все скрытно, в пьяном упрямстве, покуда не обрыдли мне такие бессловесные телячьи ухаживания и не сказал я себе: «Уведу ее!» — и увел. Взял за руку и увел! Она не противилась, ждала того. Грешник, погрязший в тине пороков, увел праведницу, — Трубников с внезапной злобой посмотрел в мои глаза. — Ты мне не веришь, а ты возьми да поверь… — снова пожевал губами, сплюнул и продолжил: — Стали мы с ней жить–поживать… Нашел я ей место в пошивочной мастерской при театре, повелел бабам не бранить ее и сам присматривал попервости, покуда не приноровилась она к незнакомым людям и к новому ремеслу… Зауважала меня Юленька, встречала с благоговением, никто никогда так в мои очи не заглядывал — будто волшебный шелковый платок, душу мою вынимала и оглаживала с любовью на коленях. Говорила, что давно, еще за неведомым горизонтом, меня признала, а я грязный, чумовой, буйный и тадысь шибко пил, однако ж ни разу рука на нее не поднялась, покуда однажды, без всякой оказии, не заглянул в мастерскую, а Юленьки–то моей, кроткой наперстницы, и след простыл. Где ж моя душенька?! Заслабела, говорят мне, головка у нее закружилась, вот к дохтуру ее и повели. К какому такому дохтуру?! Я — домой, нету ее. К вечеру является: я, говорит, заслабела, кровь носом пошла, у дохтура была. «Попей чайку с медом и корешками, да ляжь», — говорю, а у самого на сердце кошки скребут: вроде все так, да не так, какая–то не такая вернулась она от того дохтура, глаза горят, щеки алые лихорадочные, голос дрожит, а сама норовит подальше от лампы быть, чтоб я, значится, состояния ее не приметил, прячется… А меня любопытство разобрало — что за дохтур такой выискался, что Юленьку мою в волнение вверг? Миновала не иначе неделя, вернулся я поздно, в притворном хмелю, и неоткладно спать повалился, дал храпака, а сам одним глазом посматриваю: не ложится супружница, склонилась возле лампы, пяльцами колдует. Потом вдруг быстро обернулась, — мол, сплю ли я? — украдкой выхватила какую–то тряпицу из–под матрасишка, отерла ладонь и снова под матрац сунула, да так не единожды делала. Сами понимаете, Павел Дмитриевич, — опять перешел он на «вы», невтерпеж мне было рассвета дожидаться! Только посветлело, отправил я супружницу с ведрами к колодцу, а сам кинулся к тому матрасику, — а тряпица–то вся сочится свежей кровушкой! «Где ладонь–то поранила?» спрашиваю сурово, когда Юленька вернулась. — «С чем это вы, Иван Демьянович?» — молвит удивленно. — «Не обманывай мужа своего, — говорю, видел, как ты к ране прикладывала», — и достаю тряпицу из потайного места. «Постыдитесь Бога, Иван Демьянович, что вы такое подумали: женская хворь меня одолела, вот и тряпица сгодилась, а ладони — глядите», — и протягивает обе сахарные ручки, а на них ни царапины.
«Не вой на луну, сам оплошал, — провела меня Юленька», — молвил я себе и вознамерился наведаться к тому дохтуру. Знакомые бабы стезю к семистенку на выселках показали, и вот взобрался на поленницу, заглядываю в оконце — не видать ни черта! Высматриваю, высматриваю, аж шею заломило, и тут кто–то со спины кулачищем прямиком мне в темечко приладился. Ахнул я, свет белый померк, и очнулся я на заре, заваленный по грудь поленьями… Однако ж хитра баба казанская, да похитрей астраханская — в другой раз высмотрел я их, отыскалась щелочка. В одну из ночей потянулась вереница людская к порогу, заскрипели дверные петли, затеплилось оконце. Подкрался я, гляжу — толпится в горнице народец, и вдруг входит он в черном клобуке, морда перекошенная, что тот Мефистофель, и давай обезьяньей волосатой рукой осенять тех, что бухнулись перед ним на колени с непокрытыми головушками, да не святым крестным знамением, а как бы дьявольской петлей, как бы удавку на шею накидывал… Вот все, что подсмотрел я, Павел Дмитриевич. Ежели мало, не гневись, выложил все, без утайки, — Трубников долил остатки самогона в стакан, выпил и тяжко выдохнул: — И такая тоска меня разобрала от той картины, что напился я вдрызг да пошел кулаками деревья рубить и в ту же ночь руку на Юленьку поднял, чего себе до гроба не прощу…
— Как же они сподобились увлечь вас? — спросил я напрямую.
— Как?! — исподлобья глянул Трубников. — Обыкновенно… Я и поныне к тому дому на выселках хожу, — а почему, ума не приложу сам.
____________
В воскресенье грянуло с небес страшное виденье: над городскими крышами завис раздутый вкривь и вкось мешок, под мешком — грубо сколоченная клеть, а в веревочной петле, подвязанной к нижней перекладине, болтается человек с раздвинутыми ногами.
Я замер в немоте ужаса посреди толпы на площади. Ветер подгонял уродливо раздутый холщовый пузырь, под ним раскачивался полураздетый труп. Люди подле меня поспешно крестились и шептали заговоры, я же не находил в себе сил шевельнуться, заворожено следил, как приближается клеть. Ноги повешенного коснулись карниза, подломились, а тело неловко завалилось, чтобы, дернувшись в петле, обратить к народу синюшное набрякшее лицо с закушенным языком. «Спаси Никола–угодник и помилуй!» — ошалело пробормотала рядом бабка.
Переборов себя, я сделал несколько шагов к тому месту, где должен был опуститься дьявольский шар, но жандармы, расчищавшие проход для кареты скорой помощи, отпихнули меня.
Я знал несчастного — это был Леонтий. Чем и кому досадил щеголеватый гувернер? Кто свершил над ним чудовищную казнь? Я чувствовал, что трагический случай каким–то образом касается и меня, что бы я незримо припутан к той ужасной клети. Я был довольно коротко с ним знаком и доподлинно знал, что Леонтий частенько хаживал куда–то поздними вечерами, но не к своей вдовушке, которую он навещал обыкновенно днем. Поэтому при встрече я попросил Трубникова:
— Покажите мне тот дом на выселках, о котором вы намедни рассказывали, Иван Демьянович.
— А не боязно вам станется, господин дохтур? — усмехнулся невесело Трубников.
— Чего ж бояться? — бодро отозвался я. — Бойся не бойся, а судьбу не обманешь.
День да ночь — сутки прочь. Раньше обычного закончив занятия в училище, я нанял извозчика и отправился в условленное время туда, где меня уже дожидался Иван Демьянович. К слову сказать, я переменил свое мнение о нем. Невзирая на склонность к дурачеству и лицедейству Трубников при ближайшем знакомстве выказывал некоторые похвальные черты: известную глубину ума, душевную зоркость и, если не саму доброту, то какую никакую снисходительность. Когда я подъехал, он подчеркнуто любезно беседовал с неизвестной мне пожилой дамой в соломенной шляпке, кофте с оборками и тяжелой плюшевой юбке. Дама с вялым кокетством обмахивалась перьевым веером, слушая Трубникова. Завидев меня, он поспешил попрощаться с ней и, отвечая на мой немой вопрос, пояснил:
— Семь лет назад она пела в хоре и отменно подпевала мне в постели.
Я был сосредоточен и никак не отозвался на его реплику. Мы проехали на дрожках до конца улицы, где помещалась бельевая лавка, после чего я отпустил извозчика, а Иван Демьянович повел меня, придерживая за локоть и о чем–то громко разглагольствуя (он был навеселе). Я же старался запомнить дорогу.
Тот двухэтажный особняк выделялся в ряду других. Он стоял в отдалении от дороги, в низине, в болотистом месте, и разводы плесени покрывали доски над фундаментными камнями. Деревянные колонны с резными капителями несли балконы с довольно высокой, не меньше трех аршин, балюстрадой. Когда мы приблизились, на одном из балконов мелькнул подол платья и следом захлопнулась стеклянная дверь.
— По правде говоря, нынче не тянет меня сюда, — чуть озабоченно пробормотал Трубников и приложил ладонь к воспаленным глазам. — За вами должок, Павел Дмитриевич, — как вы уже сообразили, я не прочь опрокинуть чарку–другую рома в какой–нибудь занюханной таверне, как говаривали пираты сэра Фрэнсиса Дрейка.
В глубине двора темнел флигель. Меня удивило, что к строению не подступал сад, вообще не было деревьев в пространстве, обрамленном забором, если не считать нескольких кустов крушины, сирени и черемухи у крыльца.
— Почему здесь нет сада? — спросил я. — Чтобы деревья не мешали обзору?
— Вопрос не ко мне, Павел Дмитриевич, — усмехнулся Трубников.
— Что за кудесник–лекарь скрывается в этом особняке и какими спасительными снадобьями он врачует, коли Юлия прилюдно попросилась к нему? — вслух задался я.
У стены флигеля лежали остатки поленницы. Через двор прошагал мещанин с непокрытой головой, в просторной рубахе и начищенных сапогах. Он подошел к колодцу, чтобы набрать полное ведро, зачерпнул висевшей на цепочке жестяной кружкой и выпил с такой жадностью, как пьют после бани. Следом баба в сарафане вынесла пуховик, разложила его на жердях и принялась поколачивать скалкой.
— Слышь, Агриппина, а кадысь гувернера–то хоронют? — спросил мещанин, утерев губы.
— Сказывают, к завтрему, — отозвалась баба и еще с большим усердием заколотила палкой о перину.
Когда я, простившись с Трубниковым, возвратился к себе, меня придавила скорбная и торжественная тишина, по которой можно безошибочно определить покойника в доме. Слышались приглушенные голоса. Дверь в комнату Леонтия была отворена, я, робея, переступил порог, торопливо и как–то виновато перекрестился перед гробом в обрамлении свечей. Какие–то господа негромко переговаривались в коридоре. Я поднялся к себе, почувствовав тошноту от притворно–сладкого запаха пионов, отворил створки окна и лег, но вскоре вновь спустился, когда во двор прибыл катафалк, чтобы отвезти покойника в церковь на отпевание.
После похорон Леонтия опустел подъезд. Первым съехал снимавший комнаты первого этажа господин с семейством. Через неделю явился понурый Ермил. «Злая смертушка подстерегла раба божьего Левонтия, храни Господь его душу. Надобно и вам, Павел Дмитриевич, поостеречься», — неуверенно подсказал дворовый.
— От чего поостеречься? Что ты мелешь?
— Пахмурно нонче стало, — уклончиво ответствовал Ермил. — Дурной дух застил солнышко.
— От смерти не откупишься.
— Верно, — кивнул умный дворовый. — Один раз мать родила, один раз помирать. Намедни супружница моя гадала на чертополохе, сказывает цвет узлы вязать приспела пора. Возвращаемся мы в родные и мне, и супружнице моей места, в деревеньку Завидное, откуль мы родом, к тетке Фитинье. Так что прощевайте, Павел Дмитриевич! Простите на глупости, не судите на простоте, мы обнялись и трижды поцеловались.
Я люблю одиночество, но оно приходит разным. Есть одиночество в толпе, в окружении равнодушных один одному человеков, но случается то поистине жуткое, неотвратное одиночество, когда остаешься наедине с неведомой и враждебной тебе силой.
Как только подъезд опустел, я возрадовался. Я познал прилив некоей сакральной свободы, я ступал по ступеням лестницы в свой номер как в храм, наслаждаясь безмолвием за дверьми и не слыша скрипа половиц, пребывая в том особенном вдохновении, когда представляется, что ступени возносят тебя на новую, непознанную и лучезарную высоту жизни. Однако прекраснодушный мой порыв длился недолго. Вскорости под сердцем накрепко засел страх. Немота за стенами стала пугающей, зловещей — все мои годы до сего дня были преисполнены скрытых мук и канители безысходной тоски, и я не видел причин для перемен. Я задавил в себе надежду, и именно тогда явился мне тот образ одиночества, открывающий человеку всю глубину его фатальной обреченности. Я никогда не любил людей и не ждал от них помощи, но аз есмь человек со всеми его слабостями, и потому у меня вошло в обыкновение распахивать окно вечерами и в напряжении, с недоверием, вслушиваться слабо радуясь долетавшим с улицы звукам, как подтверждению существования реальности и собственного бытия.
Кто я? Кем вложена в меня эта поддатливая душа? Принадлежу ли я себе в той мере, в какой полагаю? Отчего я столь часто с некой неистовостью вслушиваюсь, словно жду тайного звука–знака? Кто подаст сей знак?
___________
Как–то вечером в дверь настойчиво постучали. Я отворил и обнаружил за порогом Сумского.
— Покорнейше прошу простить мой бесцеремонный визит, — вскользь бросил он, проходя в комнату: — Да–с, не разгуляешься… Я с сестрицами фланировал неподалеку и вздумал навестить вас, милейший коллега, — будьте снисходительны к капризу старика.
Я глянул на улицу — сестры Сумского стояли на тротуаре.
— Отшельником живете, Павел Дмитриевич, — Сумский уселся за стол.
Я виновато развел руками:
— На роду, как видно, написано…
— А тот парнишка, сосед ваш, как это его угораздило? Э–э… вечный покой его душе, — неловко промямлил доцент. — Вот так фокус — быть подвешенным на такой высоте. Я на своем веку всякого насмотрелся, думал, ничем уже не удивить старика, да видать услужлив человеческий умишко… А парнишку того ей богу жаль! Больно молод был. И что за изуверы над ним покуражились? Ну да ловит волк, но порой ловят и волка. Газеты пишут — сам генерал–губернатор взял под присмотр расследование этого жуткого случая.
— Пожелаем удачи губернским пинкертонам, — буркнул я.
Сумский глянул в окно: «Сестры заждались. Завтра увидимся, любезнейший Павел Дмитриевич», — пожал мне руку и вышел.
После его ухода я принес ведро колодезной воды (отныне все работы по дому надлежало выполнять самому), ненасытными глотками опорожнил кружку и повалился на постель.
…Если вся жизнь состоит из дней, подобных тем, что я прожил, то какова ее цена и резон ли вообще жить? Где те бездны счастья, о которых некогда говаривала Юлия, и не есть ли они на самом деле бездны лицемерия и тщеславия, каковые и составляют, по моему подозрению, сущность человеческого бытия? Какая звезда мне светит, и что необходимо предпринять, дабы приблизиться к тем безднам счастья? Что надобно для такого исхода — упорно работать, то бишь доходчивей и содержательней строить свои лекции (и приближусь к земному раю?), или я должен истово любить девушку, или уверовать фанатично в идею справедливости, подобно революционерам?..
Где та дорога? Идиотический смех разобрал меня. Мозгляк–человек не имеет силы, чтобы самому отыскать ту дорогу, мысли путаются в его бестолковой голове, в сетях мелочного житейского опыта. А та дорога видна, верней всего, с иной, не человеческой, колокольни. Не иначе кто–то возьмет человека за руку и поведет тем призрачным первопутком.
Ночью меня обуял животный страх. Я накрылся одеялом с головой и вслушивался, вслушивался до полубезумия, выискивая среди хаотической сумятицы ночных звуков (или беззвучия?) те, что посылались мне. Пение сверчков в придорожной канаве, пьяные голоса из трактира, далекий выдох набегающей на отмель речной волны — все укладывалось в ту устрашающую схему жизни, в которой не находилось места для меня самого. А я ведь не искал спасения… Зарыться, зарыться глубже в пуховик — вот выход, вот истинная благодать. Зарыться навеки!
Вечером я возжелал вновь увидеть резные ставни, дубовые колонны у портала и развалившуюся поленницу под окнами. И хотя я смутно помнил дорогу, мои ноги в стоптанных туфлях сами привели к приотворенной калитке.
Двор был безлюден, на лужайке подле крыльца появилась свежеструганная скамья, три синицы сидели на ней. Я вообразил, как меня встретили бы вернее сказать, никак не встретили бы. Полутемная горница, шаткие половицы, собрание людей за низким столом, негромкий разговор — каждый сам знает, за чем он сюда приходит. Если бы кто и приблизится ко мне, так это Николай, ненасытно присосется к моим губам, обхватит мои плечи и поникнет утомленно и освобожденно на моей груди…
Я вдруг зажмурился, как бы ожидая удара по глазам, отшатнулся — видение исчезло, и опять дубовые колонны встали передо мной. И зазывно отворенная калитка. Я уже вознамерился шагнуть в нее, как распахнулись половины дверей и девица, вся в белом, с разметанными по плечам волосами, стремительно сбежала с крыльца. Через ту же дверь проворно вынеслась старуха и проковылял мужик в сапогах, с плетью, увенчанной свинцовым грузилом. Короткий взмах, свист бича, после чего девица с протяжным стоном повалилась на траву…
Я повернулся и направился к Сумскому поскольку нуждался в собеседнике, коему я бы мог довериться.
— С некоторых пор я стал ненавистен сам себе, Петр Валерьянович, признался я. — Мне ка… кажется, — с запинкой продолжал я, — м… моим состоянием желают воспользоваться.
— Кто же эти мерзавцы?
Я выложил как на духу: о письмах, о ночном пришельце в цилиндре, о лобызаниях Николая, о доме с дубовыми колоннами, о Юлии, заключив:
— Я многого не понимаю, но чудится ночами, что ко мне подступаются, окружают, что между мною и ними существует некая гибельная связь.
— Упомянутые вами андрогины есть человеческие твари? — спросил чуть озадаченно доцент.
— Они стремятся избавиться от своего человеческого естества — сие не подлежит сомнению.
— Это стремление принуждает их доставлять страдания людям? — дознавался Сумский, будто мог услышать от меня точный ответ.
— Похоже, они сами страдают… — высказал я предположение.
— Да–с, — цокнул языком Сумский, — задали вы загадку, молодой человек… Чем же я могу вам помочь, ежели все, о чем вы поведали, правда? То бишь, вам представляется таковой? Не скажу, что предпочитаю держаться подальше от возможных сюрпризов, но в вашем случае до чрезмерности много всяческих нелепостей. Ведь я, к слову, хирург, а не психолог. Грубоват, зачерствел душой, не охоч до жалости, но кажется, состояние ваше, легкое душевное потрясение и смятение, близко мне. Да–с, извольте не удивляться, ваш покорный слуга — увы! — не есть бесчувственная каменная твердыня, — и он смолк в задумчивости. — Вне сомнения, они за вами еще явятся… явятся!
— Как мне быть? — задался я тоскливо. — Уехать?!
— Едва ли бегство спасительно…
— Как же быть?!
— Дайте время для совета, мой молодой друг, — попросил Сумский.
____________
День выдался погожий. На площади, в торговых рядах было многолюдно. Я купил у лавочника сладостей — сахарных гребешков, пряников, леденцовых рыбок, полфунта чаю — и на извозчике возвращался к себе. Скоро я пожалел о том, что исповедался Сумскому: едва ли этот плутоватый и скрытный старик мог мне помочь, в чем убеждали и его сбивчивые рассуждения. Но кто протянет мне руку? Не я ли говаривал Ивану Демьяновичу Трубникову — судьбу не обманешь. Единственно, я еще, пожалуй, не совсем подавил в себе инстинктивный животный страх, еще не сделался вполне безразличен самому себе, даже вот эти леденцы, что я купил четверть часа назад, дабы усладить свое небо — надобно ли услаждать себя, надобно ли ругать себя, корить, любить, ненавидеть себя?
А Юлия? Почему она приходит во мне? Я узрел в нашей странной связи некую мистическую тайну — ее руки, властно влекущие, ее походка, слышимая мной за версту, ее присутствие, ощущаемое мной беспрерывно… Отчего она хочет уберечь, отгородить меня, или, напротив, куда и с каким умыслом увлечь? Или это я сам хочу ее увлечь, намеренно ищу ее?
Когда мы вновь встретились возле того полузатопленного причала, у крутого склона, поросшего осокорем, я едва узнал ее. Она была одета пестро, в цветастое летнее платье, на ногах белые сандалии и смотрела испуганно. Она и впрямь взяла меня под руку в намерении увести, как я догадался, дальше от пристани, что–то горячечным шепотом поведала об Иване Демьяновиче, а я шел и все оглядывался, оглядывался, покуда не высмотрел, как волной подогнало к сваям неизвестный предмет, похожий на большую тряпичную куклу. Тогда я резко вырвал руку и помчался назад — остановился, перевел дух, замер в оторопи: утопленница покачивалась на речной волне лицом вниз, коса лежала на спине, обе руки с разъятыми вспухшими пальцами выпростаны вперед, словно в стремлении ухватиться за некую спасительную твердь. И вдруг я вспомнил, где уже лицезрел эти страшные руки с разъятыми жадно пальцами, — в аудитории училища, на темных досках стены. Тут рука покойницы сдвинулась — нет, ошалело мотнул я головой, это волна качнула тело, но тут вторая рука сделала гребок, ухватилась за сваю, потянула за собой тело. Оцепенев в кошмаре, я различил в некоем снизошедшем на меня ослеплении, как утопленница достигла в два–три гребка отмели, поднялась в облипшей тяжелой одежде, с которой хлынули струи, по колено в воде побрела к берегу, обратив к солнцу синюшное лицо с уродливо вспухшими губами. Она слепо прошла в двух шагах от меня, обдав дуновением сырости, плесени и тины, чтобы вслед за тем исчезнуть в осоке. На меня нашло затмение — точно посреди пустыни остался я. Никому нет потребы в моей измученной душе. Дикий рык исторгся из моего чрева, я пошатнулся, взмахнул рукой, ища опору в воздухе, пошатнулся и… устоял.
Юлии на берегу уже не было. Садилось солнце, узкий багряный отсвет ложился на землю. Умиротворенно несла свои воды река. Я зашел по пояс в заводь, чуть пригнулся, ища свое отражение в пурпурном зеркале воды, никого я там не увидел.
…В городе купец Никитин выдавал замуж дочь. Молодые прибыли на пароходе вместе со сватами, музыкантами, друзьями и подругами. На пристани, где собрались едва ли не вся городская детвора, зеваки и забулдыги, жениха и невесту встретил сам купец, мрачно–торжественный, со старообрядческой окладистой бородой. Чуть поодаль, у сходен, замерла купчиха с иконой у груди. Ржали лошади, трубил пароходный гудок, хмельная дружина плескала с борта шампанское и кричала здравицы. После лобызаний и родительского благословения молодые уселись в убранные атласными лентами и хлебными колосьями дрожки, и праздничный поезд покатил в церковь.
Я поднялся в комнату и посмотрел на себя в зеркало над рукомойником: лик мой запечатлел горечь, тонкие сизые губы стиснуты, желваки багрятся на скулах, капли влаги окропили лоб, а я еще и еще набрасываю пригоршнями воду, как бы желая захлебнуться в ней. Дверь в комнату приотворена — некому подсматривать за мной, никто не подивится припадку безудержного хохота, что сотрясает мою грудь. Я смеюсь над собой; я смешон и ненавистен себе, и только через полчаса, поуспокоившись, утершись полотенцем, со взлохмаченной шевелюрой, спускаюсь с пустым коробком в дворницкую за спичками. Странно, все двери отворены для меня, в дворницкой сумрачно, душно, дырявая кошма на лежаке, рваная занавесь, за которой прятались дети Ермила, осколок зеркала на выступе печи, а вот и спички в печном закопченном поде.
Я боязливо беру рассохшийся коробок и ощущаю легкое поглаживание по своей руке. Я отпрянул, стремглав взлетел по лестнице, ворвался в комнату и запер дверь на щеколду. Меня никто не преследовал. Или это я сам себя преследую?
Уже долгое время не слышалось шагов в подъезде. Я наблюдал в окне пристань, пароходы, баржи, грузчиков, птиц, изогнутую клином степь, слышал голоса прохожих на улице и разом с тем ощущал кожей спины леденящий провал пропасти за собой, за дверью.
Ночью я сам отправился на поиск андрогинов. Не ведаю, за какой надобностью взял с собой скальпель и цепко сжимал его плоскую рукоять в ладони, покуда не остановился у крыльца того особняка, что мне показал Трубников. Окна оставались непроницаемо черны. Я дернул шнур колокольца и затем в тревожном нетерпении стукнул носком туфли в дверь. Никто не открыл. Тогда я прошел по двору к флигелю, но там меня опередили. На крыльце с поднятой над плечом лампой возник тот самый мещанин в белой рубахе и кальсонах. В другой руке он сжимал плеть:
— По ком пожаловали, барин? — спросил он глуховатым, простуженным голосом.
Я показал на особняк и нарочито пьяно, развязно протянул:
— Охота должок отдать.
— Их нетути, — сообщил мужик. — В другой день приходите.
Едва он произнес «их нетути», как затеплилось одно из нижних окон. Я сделал вид, что ухожу, притворил за собой калитку, отошел и залег в бурьяне. Дождавшись, когда мужик скроется, я перемахнул через изгородь. Дрожа, я припал к стеклу — за столом в комнате, подле лампы с алым абажуром, склонился некий монгол с обнаженным невероятно мускулистым торсом. Сказать, что лицо этого господина было уродливо, было бы упрощением — кто, когда и с какой целью истязал его, измывался и лютовал над ним? Что за изувер прикладывал пыточные орудия и с дьявольским сладострастием калечил черты, сотворенные природой? Ухо свисало клочьями, по щеке и предплечью будто бы прошлись бороной, куски вывороченного багрового мяса образовывали складки губ, зрачки в разрезе век горели зло, дерзко. Монгол раскладывал перед собой листы бумаги, быстро выводил на них пером, прочитывал написанное и самодовольно роготал. Тотчас мне вспомнились письма, что три года кряду настигали меня.
Я уже вознамерился отойти от окна, как за спиной монгола возникла миловидная девочка–подросток с распущенными волосами до плеч, в коротком платье и в пуантах балерины. В самозабвенном танце она кружилась по комнате, покуда монгол своими могучими, как будто обтянутыми не кожей, а древесной корой, ручищами не подхватил ее и не усадил на колени. Она вздохнула как бы с сожалением, расставаясь с тем восхитительным чувством, всколыхнувшим и вознесшим ее, обняла шею монгола, приникла стыдливо к нему, в то время как он уже жадно целовал ее оголенные плечи. Вскоре и она ответно и робко прикоснулась к его лбу… Я стоял подле крыльца, и удушливый запах черемухи терзал меня. Мне было дурственно и от виденного, я не верил глазам, лицезрея, как заструилась багровая кровь по челу монгола, как белоснежное платье его подружки замаралось. Девочка в порыве экстаза сорвала его с себя и вновь приникла, дрожа, к монголу, который мял ее с мучительным и болезненным упоением, принуждая ее блаженно постанывать.
…Виденная сцена еще не раз возникала в моей памяти, и хотя я стремился дольше бывать на людях, допоздна засиживался в училище, работал над конспектами лекций, желая уйти от себя, но не мог избавиться от преследовавшего ощущения предрешенности собственной судьбы, словно вся моя жизнь являлась формальностью, ожиданием чего–то сверхъестественного. Это ожидание не было ни надеждой, ни чаянием помощи, — скорей, ожиданием высшего приговора.
Я помню, как в полдень ветер ворвался в город со степи, принеся тучи пыли, сора, застилая мостовую ковылем и колючками, поднимая на дыбы лошадей и вызывая бешеную ярость извозчиков. Соборный пономарь исступленно бил в колокола, созывая к обедне монахов, а на реке разудало гуляли волны, разбиваясь о пристань, подбрасывая кверху баркас, на корме которого стояла девушка в мокром холстинковом платье. Ветер был настолько силен, что расплел ее косу и трепал волосы за чуть сутулыми плечами, а девушка — верно, она была дочерью рыбака, — хохотала, возбужденно кричала своим товарищам, что налегли на рею паруса. И она, эта неизвестная мне юная рыбачка, представлялась безумно одинокой под этим хмурым небом.
____________
…Я пришел в театральный двор и присел на опрокинутое бутафорское мельничное колесо в ожидании Юлии. Она ненадолго задержалась в мастерской.
— Мне страшно, — признался я. — Мне чудится, что кто–то преследует меня.
— Николай выбрал и полюбил вас, и с той поры он неотступно с вами. Знайте, — вы уже не принадлежите себе. Он станет вашей частью, а вы будете в некоей мере им — до счастливого мига вознесения.
— Кто он такой, этот Николай? — хмуро сказал я.
— В прежней жизни он был студентом, тяжело болел, много страдал. Он пришел к нам, и душа его очистилась.
— Слушая тебя, я в растерянности и не знаю, как отнестись к твоим словам — возмущаться, радоваться ли, негодовать или остаться бесстрастным? Во всяком случае, я против того, чтобы кто–то посягал на мою свободу.
— Николай полагает, что принесет вам абсолютную свободу — ту, которую невозможно познать живущим на земле.
— В чем же выражается эта абсолютная свобода? — саркастически вырвалось у меня. — По моему разумению, жизнь — это первопуток, по которому человек пробирается в мучениях.
— Но векторы человеческих дорог обращены в разные стороны, большей частью в никуда… И отчего вы обращаетесь ко мне то на «вы», то на ты? вдруг добавила она.
— Потому, что ты становишься то близкой, то далекой.
Она закусила губу с силой, словно я доставил ей боль этим своим признанием, простонала и замедленно опустилась на пол мастерской. Я попытался поднять ее, чтобы отнести на лежанку, но ее тело одеревенело, стало невероятно тяжело, рука не сгибалась в локте. В углу оскалилась и зашипела кошка.
— Юлия, Юлия, — шептал я, глядя на ее лик, равнодушный к земным страстям.
Я коснулся запястья ее руки — пульс не прощупывался. Чуть погодя положил ладонь на ее чело — оно было мертвенно холодно. Я вспомнил рассказ Трубникова о ее первом припадке и громче, настойчивей, испугавшись, что наблюдаю уже не припадок, а нечто иное, гораздо ужаснее, выкрикнул:
— Юлия!
Тотчас судорога взметнула ее тело. Юлия открыла глаза, точно пробужденная моим голосом. Я помог ей подняться с лежанки, нервно проговорив:
— Пойдем скорее отсюда.
Старик–сторож, одетый по–зимнему, в зипуне и ушанке, запер за нами ворота.
Она всю дорогу молчала, в ее глазах, которые, быть может, только и выражали истинное состояние ее души, застыло то непередаваемое выражение, которое бывает у тех, кому вдруг открывается тайна собственной судьбы. Чье вещее пророчество слышала она в то мгновенье безмолвия, уйдя от меня?
Ввечеру того же дня почудилось, будто в комнате за стеной, что обыкновенно пустовала, кто–то кашлянул. Я застыл у стола с трубкой в руке, боясь шевельнуться. Я намеревался до того сесть за стол, закурить и, по своей гибельной привычке, поразмыслить на какую–нибудь отвлеченную тему, к примеру, зачем я живу? Но приглушенные покашливание за стеной напугало и остановило меня. Наконец я решился сесть и прождал так всю ночь, напряженно вслушиваясь.
Рассвело. Зазвонили колокола, созывая к заутрене. Я положил голову на стол и сомкнул веки. Я уже хотел, чтобы некто подкрался со спины и положил ладонь на мое плечо. Ладонь, которую не сбросишь, от которой уже не освободишься. Насилу удалось встать, собрать бумаги в саквояж и отправиться в училище. Я различал лица смутно, будто в пелене, и вдруг резанула внезапная, точно взмах клинка, догадка — я становлюсь не человеком! Я нахожу себя лишним среди людей! Причем, я не жаждал обратного, я думал не о том, как участвовать в жизни, а о том, как быть вне ее. Я ощущал всеми фибрами души дыхание иного мира. Но я боялся его. Вероятно, он был враждебен мне, но разве не менее враждебным являлся и тот мир, в котором я ныне пребывал?
После занятий Сумский насилу уговорил меня отправиться на прогулку в лес, что тянулся по приземистым взгоркам за заречной окраиной города.
В ожидании нас угрюмого вида кучер в армяке чистил сиденья коляски. Мы сели, я положил саквояж на колени, и коляска, ведомая приземистым жеребцом, тронулась. Следом покатил экипаж с неотлучными сестрами Петра Валерьяновича.
Проехали мимо лавок, в которых продавали селедку, ситец, хлеб, табак. Мне запомнилось безлюдье на обычно оживленных торговых местах, миновали кузню — и там стояла тишина, не дышали мехи, не гремело железо, пересекли полотно железной дороги. Мое ухо не уловило паровозного гудка, и только из раскрытого окна почтово–телеграфной станции доносилось дробное постукивание ключа телеграфистки.
— Куда мы направляемся, Петр Валерьянович? — спросил я Сумского.
— Покажу вам, милостивый сударь, одно весьма романтическое и живописное местечко, охотно отозвался Сумский и вдруг разразился неуместным смехом.
Место в самом деле оказалось живописным — сосновая рощица за буераками, небыстрая мелкая речушка с полчищами жаб, гревшихся на солнце по обеим ее берегам, а внизу заброшенная мельница с постройками. Сумский уверенно взял меня за руку и повел, приказав кучеру ждать. Сестры остались на дороге.
К мельнице вел широкий, густо заросший злаками проселок, тянувшийся с окраины далекого поля. Пронзительно прозрачное небо смыкалось с космосом. Я не гадал о том, почему старик доцент вздумал позвать меня — верно, тому имелась причина, но меня раздражали идиотские смешки, которые все чаще сотрясали его хилую грудь по мере того, как мы приближались к высокой деревянной лестнице, круто возносившейся к дверям мельницы. Речные воды омывали недвижимое, обнесенное тиной и водорослями, мельничное колесо, а поблизости в точности такое, но уменьшенное в десятки раз и сплетенное из ивовых прутьев, колесо с жестяными лопастями и скрынями, двигалось, жило, вращалось, с бездумной покорностью возносило в скрынях воду, чтобы выплеснуть ее на покатый железный лист, по которому вода скатывалась в глиняный желоб и далее в рукотворный пруд. Когда мы вошли в мельницу, в глаза бросились два гигантских истертых гранитных жернова, лежавших плашмя один на одном. В рассеянном свете под сводами крыши шмыгали мелкие птахи. Сумский вновь не удержался от смешка.
— Что вас так смешит, Петр Валерьянович?
— Адская машина, некогда могущая перемолоть любого, и вот теперь она повержена, — проговорил доцент, с необычайной веселостью показывая на жернова, — но дух, все сокрушающий дух этой мельницы все еще жив, да–с! закончил он с внезапной печалью.
— Но ныне слеп, — предположил я.
— Вздор! Дух неусыпно бдит за живущими, — мельком заметил доцент, прошел дюжину шагов и вдруг застонал протяжно, опустился на земляной пол.
— Что с вами, Петр Валерьянович?! — бросился я.
Доцент, весь в пыли, извивался как червяк, наколотый на иглу. На его губах выступила пена, взор обезумел; весь он содрогался, корчился, пальцы скребли землю. Я опрокинул на него ведро воды, и тут услыхал жуткий скрип. Я невольно застыл, затем настороженно обернулся: земля задрожала под ногами. Я ощутил чудовищное усилие, посылаемое извне некой неведомой силой. Вся мельница мелко затряслась, порыв ветра распахнул окно, и вновь адский скрежет запал мне в уши.
Мельница оживала. Я выбежал на берег и увидел, пытаясь унять сумятицу мыслей, как высоченное дубовое колесо, казалось бы, навеки всосанное в ил, величественно проворачивается, сбрасывая со шлиц ошметки тины. За спиной застучали механизмы, задвигались дробильные камни. Ничего не понимая, я опять очутился под сводами, суетливо заозирался, ошеломленно узрел вокруг сотни мертвенно–бледных, истерзанных страданием лиц, выпростанные в отчаянии руки, разъятые в муке рты. «Откуда вы?!» — страшно закричал я, повергся на колени и склонил голову… Толпа подбирается все ближе, меня обступают со всех сторон, чьи–то прикосновения похолодили кожу лопаток, и зловонное дыхание принудило меня содрогнуться. Вот–вот огромная глыба неминуемо обрушится, сомнет меня в нечто, и я все покорней пригибаюсь к земле, к той земле, которая еще никого не отвергала… В какой–то миг я отважился поднять голову, и явственно запечатлелась в памяти сатанинская фигура в проеме двери, раскинувшая крестом руки в черных, по локоть, перчатках. Тут как бы затмение нашло на меня, я закричал еще пуще, во всю мощь, точно в надежде отогнать безгласых уродцев, судорожно тряхнул головой, поспешно вскарабкался по лестнице, отбрыкиваясь ногами от молчаливых упорных преследователей, сорвался и рухнул вниз, оземь… Очнулся мокрый, в луже, открыл глаза. Надо мной участливо склонился Сумский.
— Ну ладно, батенька, мой припадок — следствие давешней контузии умиротворенно улыбнулся доцент, — а вот вас–то что, милостивый государь, заставило вскарабкаться по этой лестнице? Никак леший попутал?
— А пейзаж вправду живописный, — виновато отозвался я, поднявшись. Вот взбрело мне в голову поглядеть окрест из того окна под стрехой, да не удержался.
— Да–с, места здесь чудовищно красивые, — благодушно согласился Сумский. — Однако прежде не думал, что вы, Павел Дмитриевич, столь легко войдете в раж при виде здешних красот! Ну да ничего, вы человек молодой, азартный.
Я что–то вяло пробормотал в ответ. Мой мозг был затуманен, а язык блуждал в падежах речи. Едва въехав в город, я простился с попутчиками и прямиком наладился в ближайший кабак, где напился вдрызг.
__________
Вечерами я упорно размышлял о смерти Леонтия. К слову, в газетах публиковалось множество версий гибели гувернера, но все они были бесконечно, как мне представлялось, далеки от истинной — пустой мешок, как молвится, не заставишь стоять. Свою связь, пусть опосредованную, с гибелью Леонтия, я остро чувствовал. Каждый из нас по своей воле неминуемо идет к собственному распятию. Мнилось мне, что у нас с гувернером распятие одно на двоих.
Я пренебрегал жизнью и с тем большим равнодушием смотрел на смерть. Я со сладострастным презрением относился к самому себе, — никчемному, малодушному, непутевому, скверному, носящемуся по жизни (большей частью в мыслях) как ошпаренный таракан, но верилось, что моя смерть станет особой, откроет дорогу туда, куда я уже ступал короткими мгновеньями, оставляя частицу измотанной души.
В ту манящую даль мне не достало бы сил добраться в одиночку. Юлия сопровождала меня. Она брала меня за руку, и мы шли медленно берегом реки навстречу низкому закатному горизонту, угасающему пунцовой волной вдали. Вокруг было необыкновенно тихо, мы были одни, и мне думалось, что так открывается Вечность. Но, оставшись наедине, я вновь саркастически смеялся над своими чувствованиями, находя себя обманутым, а мир кругом — проникнутым ложью. Эта мерзопакостная реальность вновь напомнила в один из дней о себе, соткавшись в образе низкорослого упитанного человека в костюме–тройке, в летней шляпе, поджидавшего меня у подъезда.
— Покорнейше прошу простить, Павел Дмитриевич Росляков? — остановил он меня. — Преподаватель сестринского училища и сосед покойного Леонтия Галковского? — скороговоркой произнес упитанный господин, снимая шляпу, из–под которой раскатились младенческие кудряшки.
— Он самый, — неприязненно отозвался я. — С кем имею честь?
— Рекомендуюсь: Исидор Вержбицкий. Репортер ежевечерней газеты «Губернские ведомости», — чинно представился неизвестный господин.
— Чем же моя скромная персона привлекла внимание газетчиков?
— Прошу прощения, не ваша, а покойного Леонтия Галковского, состоявшего гувернером в доме вдовы полковника Толстопятова, — после этой ремарки репортер надел шляпу, с достоинством огладил ногтем мизинца усики стрекозиные крыльца.
— Положим, Леонтий, вам уже ничего не расскажет! — вырвалось у меня.
— Именно, — согласился газетчик, — но, может выпадет удача и вы, Павел Дмитриевич, поведаете факты, кои могут статься любопытными для круга наших читателей? — после сказанного репортер вынул из кармана бумажник и с многозначительным видом раскрыл его.
— Деньги меня не интересуют, — в отличие от подавляющего числа почитателей вашей газеты, — не удержался я от колкости.
— Напрасно, Павел Дмитриевич, — благодушно пожурил меня толстяк.
Его простота и непосредственность располагали. Ему никак не подходил образ пронырливого пройдохи с блокнотом в руках или «навозной мухи», который сложился в головах обывателей. Я оттаял.
— Не водились ли грешки за гувернером? — спросил Исидор Вержбицкий. Говаривают, он относился к числу тех, что слывут на людях любушкой, а дома иудушкой?
— По мне, Леонтий был заурядным представителем своего племени.
— Однако он частенько отлучался по вечерам?..
— Что из того?
— Согласитесь, если бы покойного гувернера нашли без признаков жизни в какой–нибудь придорожной канаве, едва ли кто, за исключением, разумеется, госпожи полковничихи, вспомнил о нем назавтра? Иезуитски изощренный способ казни, который был ему уготован, еще надобно заслужить… Говаривают, покойного Леонтия видывали в уединенных местах с незнакомцами отталкивающей наружности. Вы слыхали о подобном?
— Не слыхал, но не удивлен.
— Отчего же вы не удивлены, дозвольте полюбопытствовать?
— Я ничего более не могу поведать вам о моих встречах с Леонтием, кроме банального упоминания о том, что эти самые заканчивались обильными возлияниями и игрой в орлянку, — витиевато сообщил я.
— Покойный любил риск?
— Пожалуй…
Здесь Исидор Вержбицкий по–школярски старательно пометил в блокноте.
— Не замечали ли вы у гувернера нечто вроде признаков вялотекущей шизофрении?
— Конечно замечал, — я невольно усмехнулся. — Подобные признаки свойственны, пожалуй, половине представителей человеческого племени.
— По всей видимости, временами с ним случались припадки? — спешно записывал репортер.
— Случались, понятно.
— Он звал кого–то в голос? Буйствовал?
— Разумеется, — с издевкой бросил я.
— Да вы не иначе насмехаетесь? — наконец–то сообразил интервьюер и с выраженной досадой убрал блокнот.
— А что еще прикажете делать? Мне нечего добавить к тому, что уже, вероятно, вам известно без меня. Сенсации не получится.
— Увы! — огорчительно вздохнул недотепа–газетчик и добавил спокойней: И все же отчего несчастного юношу настигла столь ужасная смерть? Вот над чем придется поломать голову… Заурядный ловелас, и столь изуверская казнь вот в чем несуразица…
___________
Читателю, возможно, покажется удивительным, что мы с Исидором вскоре подружились. Бывают такие встречи, когда сразу и безошибочно обнаруживаешь в собеседнике родственную душу. Нечто подобное ощутил и я, но, не желая себе признаваться в том, иронизировал и издевался над бедным Исидором, по привычке прячась за ту невидимую стену, которой издавна пытался отгородиться от остального мира.
Заметной чертой характера моего нового друга было полное равнодушие к обидам и оскорблениям, столь частым в его хлопотном деле. Ничто, казалось, не могло его разгневать; в нем не было полемического угара, с муравьиным терпением и невозмутимостью он заполнял бисером листы блокнота. Мы оба исповедывали философию одиночества, а журналистские расследования были для него чем–то сродни собирательству. Он внимал жизни со стороны, постигая людей подобно тому, как коллекционер через лупу изучает бабочек. Он жил, казалось бы, механистически, — ел, спал до полудня в своей холостяцкой неприбранной квартире, слонялся с блокнотом по городу, забывал бриться, носил дырявые туфли, часто сморкался, много курил и вновь возвращался к своим записям. Пообщавшись недолго со мной, он без труда раскусил меня. Я человек крайностей. По мне невозможно смириться с тем, с чем я не согласен. Нередко я отрицал самоочевидное. Сказать по совести, я жил безо всякой надежды, тоже механистически, и в этом мы сходились с Исидором. Но мое отношение к бытию было безразличным, в то время как Исидор смотрел на него как на забаву, игру, сеть хитроумных переплетений, которые ему без понуканий надлежало распутать. Наверное, я плохо разбираюсь в людях. Вполне возможно, что я разглядел в душевном облике моего нового приятеля то, что желал увидеть, и не различил иного, что, наверняка оттолкнуло или же, по меньшей мере, разочаровало бы меня.
После нашей первой скоротечной встречи Исидор еще два вечера околачивался возле подъезда, покуда я, сжалившись, не позвал его.
— Знаю, знаю, что вы ничего не сумеете дополнительно сообщить мне, замахал он руками. — Какие уж там новости да сенсации! Но я, видите ли, Павел Дмитриевич, явился к вам за советом, за подсказкой.
— Чем смогу помогу, — отозвался я вполне доброжелательно.
— Кто, по–вашему, способен хоть самую малость пролить свет на это темное дело? Подскажите, коли не в тягость…
Я призадумался и после ответил:
— Неподалеку от реки стоит дом на отшибе. Во флигеле проживает некий простоватый мещанин, — обратитесь к нему. Может статься, он сжалится да расскажет вам кое–что любопытное.
Минуло несколько дней, как репортер вновь возник у подъезда — с затекшим глазом, с внушительным кровоподтеком на скуле. Я моментально сообразил, что мещанин отдубасил его, однако, как выяснилось из монотонно–скучных разъяснений Исидора, ловко прошлась скалкой по его спине и физиономии баба — жена мещанина.
— Такова особенность моего ремесла, что я вынужден задавать вопросы и терпеливо дожидаться ответа, — оправдывался Исидор.
— Которые бывают порой весьма сочными! — поддел я его, и мы оба рассмеялись, причем Исидор скорчил такую гримасу, будто надкусил горький огурец.
Из нашей дальнейшей беседы я вынес убеждение, что профессиональная подозрительность и сметливый ум вывели репортера на верную дорогу поиска. Он пребывал в убеждении, что в городе действует не одиночка, а именно группа изуверов, и что они существенно отличны от прочего населения.
Признаться, и я знал об андрогинах немногим больше. Они действуют избирательно, высматривают одинокие души, пытаются неким загадочным образом слиться с жертвами, забрать с собой, а если замысел рушится, жестоко мстят избранникам. Но я обязан был констатировать и совершенно иное — те одинокие души сами тянутся к андрогинам, с готовностью откликаются на их поначалу слабый, но с бегом времени становящийся все более настойчивым зов. Те мои сны — вещие. Ведь вправду приходит андрогин, чтобы забрать свою половину на земле: вот что соблазнительно! Вот и мне порой мнится, что я способен на нечто более значительное, чем просто жить на земле, что я способен увести некоего к неведомому горизонту, и всегда, когда эта уверенность восставала в моем сердце, рука моя крепко стискивала рукоять ножа. Иногда я боялся таких минут, я не узнавал самого себя или, возможно, я узнавал себя лучше? Я наблюдал за жизнью, точно сквозь окно проезжающего поезда, и в той скоротечной поездке себя занимал больше я сам.
___________
В городе появился бродячий мертвец. В лохмотьях, он медленно пробирался вдоль железнодорожной насыпи, и на его лице, обезображенной червями, шевелились куцые брови, удушливый кашель сотрясал его грудь. Исидор видел его собственными глазами: «Его похоронили весной, клянусь пречистой девой Марией, я знавал его! В миру он был классным надзирателем мужской гимназии».
Я поверил без остатка Исидору, ибо сам не столь давно лицезрел восставшую из небытия утопленницу. Но что бы сие значило? Почему провидение избрало этот город для своих утех и назначило меня свидетелем? Мой разум не различал ни зги, я терялся в догадках, и выход, который представлялся единственно верным, — явиться в тот дом на выселках и все выяснить — конечно же, был неуместен, наивен и загодя тщетен.
В один из дней середины лета начальник училища дал званный обед в ознаменование окончания учебного года. В числе прочих был приглашен и я. Как повелось, среди этого собрания чуждых, если не сказать враждебных друг другу людей, царили уныние и скука, которые пытались спрятать за натужными улыбками и лицемерной веселостью. Я чувствовал себя отвратительно и, подавляя спазмы в горле, нанизывал вилкой ломти буженины, помышляя об одном , — как можно быстрее покинуть апартаменты, под сводами коих дурственно смешались приторно–сладкие ароматы дамских духов, бараньего гуляша и табачного дыма. После десерта, когда мужчины встали, выпростав салфетки из–за отворотов сюртуков, поднялся и я, вяло подошел к окну, где рос бальзамин. Я ощущал сильную надобность в уединении. В задумчивости я положил ладонь на стекло, пытаясь продлить то неопределенное чувство, слабую лирическую песню в душе, мелодия которой оставалась, пожалуй, единственной нитью, связующей сейчас меня с окружающим. Но в эту мелодию вдруг ворвалось шкрябанье, царапанье, собачье поскуливание, я приоткрыл глаза и ужаснулся : за стеклом, в аршине от меня блаженно скалилось, в короткой щетине, рожа Николая–придурка. Обеими руками судорожно вцепившись в карниз, он лихорадочно лизал стекло там, где его касалась моя ладонь. Я отпрянул и неожиданно для себя судорожно перекрестился.
Этот случай усилил тревожные предчувствия. Свободного времени выпадало больше, поскольку наступили летние каникулы и в училище отныне надлежало появляться лишь посреди недели, дабы участвовать в заседаниях кафедры. В иные дни я гулял по городу, бывал у реки, подолгу простаивал на перроне железнодорожной станции. Я стал замечать, что за мной ходит некий бродяга не преследует, таясь, а именно в открытую ходит за мной. Зрение у меня слабое, но я не ношу пенсне или очки, ибо сие предметы стесняют и старят меня. Поэтому я долго не мог разглядеть его физиономии, покуда однажды, подзуживаемый любопытством, улучив минуту, не вышел из укрытия и не столкнулся с ним едва ли не лоб в лоб. Бродяга, похоже, ожидал встречи: его гниющее лицо трупа, разложившееся до язв, растянулось в омерзительной ехидной усмешке, лысые веки раздвинулись, оголив дряблые мутные зрачки, точно он силился пристальней разглядеть меня, из расщелины рта, в почерневших зубах, вырвалось зловоние. Я замер в оторопи, и в тот миг бродяга с натужным хрипом вознес руку и коснулся моего плеча. Я чуть повел глазами, дикий вопль вырвался из моей гортани — белые жирные черви копошились в мясе его распухшей ладони.
Я чертовски устал — сама повторяющаяся изо дня в день необъяснимая для меня необходимость моего существования угнетает меня. Слабую искру интереса привносят события, что порой случаются с моими знакомыми — мне до сих пор обманчиво представляется, что я сторонний наблюдатель вне досягаемости тех зловещих сил, что отправили в иной мир Леонтия и, по всей вероятности, не его одного. Или, может быть, они ждут поступка с моей стороны, ждут, когда я сам приду? Но куда идти, к кому — пожалуй, из любопытства, из пустопорожнего желания загасить эту искру я пошел бы, ибо мне нечего терять, в чем уж не может быть никаких сомнений. Но порой приходило на ум нечто противоположное — что меняет в моей жизни присутствие тех зловещих сил? Я часто рассуждал об этом вслух в обществе Юлии.
— Мы все обречены, — твердил я. — Красивые, молодые, удачливые и старые, уродцы, пройдохи и спесивцы, респектабельные господа и простолюдины. Мы обречены на бездумную изнурительную жизнь, ибо иной не существует; каждый в тайниках души хранит признание, что ждал от жизни большего, ждал иного.
Юлия с каждой встречей становилась все ближе мне, я улавливал токи ее души. Ее настроение, неизменно ровное, спокойное — в меня, мужчину, вселяло уверенность, покой. Она напоминала своей неизменно склоненной фигурой монастырскую послушницу, недоставало лишь клобука, в остальном же ее скорбное одеяние почти во всем отвечало монашескому канону. Из какого потустороннего мира явилась эта смиренная монашка?
— Какая сила принуждает людей жить? — спросила она однажды.
Я подавленно смолк. Едва ли я мог дать ей ответ.
___________
Предчувствие надвигавшейся беды усиливалось во мне. Я ждал нечего, ждал вхождения в неизвестность, и потому смиренно, сломлено встретил приход горбоносого человека в цилиндре в одну из ночей. Он повел меня к реке, где возвышалось здание оперного театра, через знакомый театральный двор, и мы вошли в одну из дверей. Нас никто не встречал. Я ступал, озирался, и не сообразил, где нахожусь, когда провожатый неожиданно исчез, бесследно растворившись во тьме. Вдруг задорно зазвучали клавишные, и я узнал одну из клавирных сонат Гайдна — к чему, с какой стати плескалась эта беспечная до неприличия в столь тревожные мгновенья мелодия? Затеплилось свечное ожерелье подле меня, я растерянно заозирался, в то время как в свете разгоравшихся свечных огней проступали ужасные скорбные лики сидевших в первом ряду партера.
Я стоял, открытый их взорам, на сцене, абсолютно пустой, голой, с огромным льняным задником. Бесовская залихватская музыка раздирала мои уши, и я крикнул в страхе, в отчаянии силясь облегчить душу. Слезы стекали по моим щекам, ибо я понял, что страшный миг моей жизни настал, миг расплаты за несбывшееся, миг отторжения от самого себя, которому надлежит продлиться в мучительный суд на этом зловещем помосте, ставшем преддверием ада. Оркестранты в яме отложили инструменты и стали по одиночке, один вслед другому, всходить на сцену. Из партера вереница калек и уродов потянулась на подмостки. Меня обступили, разглядывали мрачно, ненасытно… Я трясся в лихорадке, наблюдая кошмарные морды в облезлой коже, в струпьях, тянущиеся руки, разъятые пятерни. Сладострастные ухмылки дьяволов и дьяволиц подобно клинкам вонзались о мое тело. Вдруг окружение расступилось, из полутьмы выступил костлявый юноша, босой, в черном трико акробата. В полуобморочном забытьи Николай шептал:
— Люблю, люблю! — и придвигался все ближе.
Помалу, с каждым шагом обезображенные страданиями черты его лица смягчались, и наконец запечатлели робкое ожидание счастья.
— Прочь! — сказал я ему в страхе.
Он словно не услышал. Кусая синюшные губы, всхлипывая в умилении, с трепетом приник ко мне, прижался всем потным телом, вызывая омерзение. Я попытался отпрянуть, но он цепко обхватил мои плечи.
«Прочь!» — с ненавистью возжелал я взреветь, но губы едва разжались, выпустив их гортани некий шипящий звук. Я хотел в ярости поднять руку, чтобы схватить его за прядку над ухом и оторвать от себя эту голову с блаженно зажмуренными очами, но рука сделалась тяжелой, как набухшее полено, пальцы онемели. В отчаянии я поворотил голову, и тут мой взор запечатлел в черном провале зала блеклое пятно — лицо Юлии. Вспомнилось: «Одинокая луна», истерические смешки заколыхали мою грудь, в то время как Николай все ненасытней впивался в мое тело. Он сладострастно шлепал окровавленными губами, облизывая кровь с моего плеча, струйки крови сочились и из моей шеи, обегали по ложбинке на спине, и мне уже были приятны торопливые движения его хрящеватого языка, порывистые объятья. Я почувствовал головокружение — оно было спасительным, как и слабость в ногах. Николай пришел, чтобы забрать меня! Я уже не противился этому зову, ибо тот мир, из которого он намеревался меня увести, не был моим… Взор мой затуманился, кровавые струи стекали по лбу, щекам, и я успел заметить перед тем, как впасть в забытье, что и Николай весь окровянился.
Превозмогая ломоту в теле, я приподнялся на локти и с трудом различил дымящиеся в темени огарки свечей. Сильнейший сквозняк колыхал занавес. На четвереньках пробрался за кулисы, поднялся и, с дрожью в ногах, спотыкаясь и падая, доковылял до двора. Ночь встретила меня звездным сиянием и тишиной. Пропитанная кровью одежда липла к телу, шатаясь, я брел по безлюдным улицам. Нетвердой рукой провернул ключ в замочной скважине, обмылся в тазе, взобрался на кровать, будто чая найти спасение под одеялом. Сон надвинулся черной глыбой…
___________
— Точу ножи, ножницы, бритвы правлю!
Точильщик в чекмене нес на ремне, переброшенном через шею, свой станок. Я спустился на мостовую, чтобы подать нож. Точильщик с плутоватой ухмылкой на щетинистой обветренной роже провел лезвием по ногтю мизинца…
Нож давно стал для меня ритуальным предметом. Он скрывал в себе некую магическую силу, гипнотически притягивал взор, едва я входил в свою опостылевшую комнату.
Моя душа была ожесточена. Я оглядывался вокруг, ища причину своей озлобленности, и наблюдал то, что видит каждый — заурядную обыденность, в которой мое участие было совершенно необязательным. Мир взирал на мою персону с сонным равнодушием, а я желал ответить ему тем же.
В то утро ноги сами понесли меня. Я отворил калитку, прошел по дорожке, поднялся по ступеням и замер перед белой дверью того загадочного дома на выселках. Дверь оказалась не заперта. Коридор, застеленный истертым половиком, вел в комнату, перегороженную шкафами, с опущенными пунцовыми шторами. Я прошел за перегородку — и там никого не оказалось. Поднялся на второй этаж — застеленные белым стол и кресла, на столе — сияющие приборы на четыре персоны.
— Я хочу, чтобы для меня было все возможным! — закричал я дико.
Никто не откликнулся.
— Я — циник, я не верую в Бога! Я тоскую потому, что принадлежу этой жизни! — орал я пуще прежнего.
Ответом была зловещая тишина. Я схватил вазу со стола и швырнул ее оземь. Бессильная ярость душила меня. Судорожные рыдания сотрясали грудь. В этот миг в дверях появилась Юлия.
— Ты, ты! — завопил я, будто ужаленный. — Ответь, что ты там делала! Ты наблюдала бесстрастно, как меня возжелали увести, забрать в тот мерзкий мир, в котором разом с тобой копошатся уроды, дьяволы и дьяволицы! Ты неотличима от них, знай! Ты вся в чужой крови!
— Вы бредите, Павел… — молвила она, входя в комнату, величаво поворотив свой мраморный лик.
— Знай же, что наша жизнь — сплошной бред, а я всего лишь ищу от него избавленья!
— Уймите огонь бешенства в своем сердце.
— Я взбешен, — произнес я злорадно, пожирая ее глазами, — потому что слишком многое выше и сильнее меня! Но тебе, смиренная послушница, какая корысть от того? Почему ты сблизилась со мной? Кто тебя послал?
— Вы сами, Павел, искали меня — бессонными ночами, в зарницах наваждений, в муках сомнений. Я услышала ваш зов.
Она безучастно смотрела, как я приближаюсь с занесенным над плечом ножом.
— Вам желается убить меня, Павел?
Я со стоном вонзил острие в косяк двери.
Неведомая сила, которой я не мог и не желал противостоять, спасительно опустила меня на колени, я затрясся в рыданиях, чтобы затем, опомнившись, кинуться вон.
…С некоторого времени я взял обыкновение оборачиваться на улице, вприглядку бросать взоры по сторонам — чудилось, что некто неотступно следует за мной. Я более сам приглядывался к себе, — словно желая высмотреть некоего другого, второго, в себе. За мной начали водиться кое–какие странности: мало того, что ноги сами приводили меня на железнодорожную станцию, о чем уже упоминалось, — я спускался с перрона и шагал по чугуночным путям до пакгауза и назад, к станции, покуда обходчики окриками не прогоняли меня.
Представлялось не единожды, что это не я, а механический манекен, несущий мое имя, бродит под призрачным небом, дышит стылым воздухом, глядит бездумно в окно, пребывая в ожидании, готовый немедля по едва уловимому знаку променять самое себя и все вокруг на малую толику того загадочного, что приближает неведомое и отдаляет зримый мир. Безверие и потаенный страх подноготные неудачи моей жизни — сменились робкой надеждой, готовностью уйти. Иногда я выходил в поле — ветер подымал полову с гумен, бабы в белых платках складывали скирды, — и дышал жадно, ненасытно, будто желая запастись напоследок горьковатой прелестью августа, унести ее с радостью и облегчением с собой.
___________
Начало войны прошло незамеченным. Мало что поменялось в привычном укладе жизни. В сентябре появились санитарные повозки с ранеными в грязных бинтах, тяжелых выносили на носилках из санитарных вагонов с красными крестами. Я вновь стал покупать газеты и подолгу изучал их за столом в трактире, неподалеку от очага. Однажды кто–то с силой хлопнул меня по плечу.
— Павел, душа моя, да ты ли это?! Рад тебя видеть, брат! — Н.А. обнимал и целовал меня в щеки, поминутно отстраняясь и глядя с ненатуральным восторгом в мои глаза. — И давно ты у нас?
Он обрюзг, постарел, но был хмельно, разудало весел, каким я его и знавал прежде.
— С прошлой недели.
— Где остановился, почему не заходишь?
— Был у тебя, да сказали — уехал, — соврал я, желая укоротить тяготивший меня разговор.
— А, ну–ну! — Н.А. нахмурился на миг и вновь повеселел. — Я, видишь ли, и вправду был в отъезде. Торговыми делишками занялся, леший попутал. Ныне возвращаюсь из Нижнего — вижу родимый трактир, как не зайти… Вон, товарищ мой, вроде няньки ко мне приставлен, чума ему невеста! — Н.А. подвел меня к окну, за которым у кибитки прохаживался угрюмый мужик. — Желаешь, поедем ко мне?
— Что же твой провожатый отпустил тебя?
— Откупился я, брат, откупился, — Н.А. опрокинул одну за другой две чарки в рот и крякнул, мотнув головой.
— Ну так я жду тебя, — проговорил он без прежнего воодушевления, выпил еще стопку и вышел.
В тот день я долго и бесцельно бродил по городу — меня не покидало предчувствие, что вот–вот нечто решится, что некто теперь занят решением моей судьбы в череде прочих, и решение (или свершение?) будет непременно благосклонным. Я верил, что станется именно так, и сам дивился своей уверенности.
Прежде я был охотник пофилософствовать на предмет самого себя, поразмыслить, отчего моя жизнь складывается так, а не иначе, найти объяснение неудач и отрадных вестей и оттого порой представлялось, что я волен управлять собой, распоряжаться собственными желаниями, то бишь я хозяин собственной судьбы, я всему причина и всему виной. Разумеется, я чувствовал дыхание мира подле меня, я его боялся и сторонился, но не мог избавиться, принимал как неизбежное, как неохватное поле, через которую протаптывал стежку. Однако в последние месяцы поначалу неназойливо, исподволь, а затем настойчивей стало преследовать подозрение, что не я протаптываю стежку, а меня ведут по этому полю, некто направляет мои стопы. Чрезвычайно умножились факты, коим не находилось толкование, и в той же мере усилилась моя растерянность. Я остановился, замер, оцепенел посреди того неохватного поля жизни, истоптанного миллионами ног, не находя отпечатков своих ступней, не находя указующего вектора, и спасения мое лежало вне поисков моей души, спасение было в вере — но не в Бога, который равнодушно взирает с небес на страждущих странников. Спасение могли принести те немногие, кто уповал на себя и перешел поле, дошел до того его края, который, может статься, скрывает, хоронит те тайны, что неведомы и самому Господу. Спасение в тех, кто прошел по тропке, неведомой Богу и человекам…
Я спал отвратительно, кошмары терзали меня. Я метался по кровати, хрипя, рвал и кромсал ногтями простыни, пока вдруг не доносился откуда–то неведомо чей сладко увещевающий голос, и тогда приходило успокоение, я стихал. Однажды ночью я пробудился, потревоженный чьими–то быстрыми прикосновениями. Николай, склонившись в изголовье, обнимал и целовал меня, обливаясь слезами, вожделенно подставлял щеку под воображаемые ответные поцелуи.
— Пошел прочь, исчадие ада! — я с омерзением закрылся одеялом.
Николай упал передо мной на колени.
— Возьми, возьми меня с собой, о блаженный! — шептал он в каком–то экстазе.
— Куда я должен тебя взять, собачье дитя? — вскричал я одновременно недоуменно и яростно.
— Я покажу! Не гневись, не гневись, — бормотал Николай, едва ли не уткнувшись лбом в половик.
Он внезапно оглянулся, как бы ища в комнате третьего. Но мы были одни. Николай заскулил и принялся по–собачьи лизать мою ногу, которую я тотчас поджал под себя.
— Что тебе надобно? — допытывался я. — Почему ты приходишь ко мне?
— Возьми, возьми меня с собой, о блаженный поводырь! — еще долго доносился до моих ушей завораживающий иступленный, но помалу угасающий шепот.
Холодало. Заморозки секли землю, — голую, серую, сирую. Отпечатки ободов колес телеги, накануне продребезжавшей под окном, запечатлевались, казалось, навеки, как знак высшего незыблемого закона жизни — неизбежности. Я уходил по дороге далеко за город, присаживался на убеленную ледком обочину и глядел в степь, застланную пожухлыми травами
Что–то должно было перемениться в моей жизни. Я не видел ее продолжения здесь, в этом захолустье. Впрочем, так ли уж искал я то самое продолжение? Пожалуй, я ставился с таким безразличием к собственной судьбе, что оно граничило с обреченностью.
И разом с тем мои чувства были необычайно обострены, оголены — резкий запах, грубое слово, чей–то кашель, зловонное дыхание, ввалившиеся щеки, неряшливый наряд, всклокоченные волосы, беспардонное обращение, глупое девичье хихиканье и прочее, чем так богата действительность, все те мелочи, с каковыми смиряешься и не замечаешь в обыденности, вызывали мое резкое неприятие, ощущение омерзения и протест против участия в бессмысленном спектакле, называемом жизнью.
Я стал сторониться людей еще в большей мере. Пожалуй, за выключением Вержбицкого. Его рассказы о бродячих мертвецах становились в один ряд с моими представлениями об отвратной действительность.
Однажды я столкнулся лоб в лоб с таким мертвецом. Верно, он поджидал кого–то у подъезда, и когда я вышел впотьмах, не посторонился. Я задел его плечом, и он рухнул, как подкошенный, на мерзлую ноябрьскую землю. «Напился пьян», — решил я спервоначалу, не различив обезображенного лица, схватился за щиколотки — две костяшки в полуистлевшем тряпье похоронного костюма, и протянул тело по земле, с ужасом видя, как волочится пустой рукав фрака, а неестественно вывернутая рука осталась у ступеней подъезда. Я вернулся, поднял ее и положил на грудь, стараясь не заглядывать в лицо, — не удержался, глянул мельком, и тотчас сам переломился, высвобождая пищевод от рвотной каши.
Откуда ходячие мертвецы в этом городе, что принуждает их вставать из могил? Ко мне он шел или же к кому–то другому? Кого искал?
Течение реки времени бессмысленно, непоколебимо и неотвратно. Я апатично плыву по нему, быть может, поэтому моему взору открывается то, чего не замечают остальные, охваченные зудом обыденности. Я вижу, как не только жизнь переходит в смерть, но и смерть воплощается в жизнь, совершая зловонное необъяснимое пробуждение.
Когда Юлия пришла ко мне, я подал ей стакан с водой:
— На, выпей.
Она недоуменно взглянула на меня:
— Зачем?
— Выпей! — повторил я нетерпеливо.
С настороженностью, замедленно, она поднесла стакан к губам, попробовала на вкус воду и лишь затем начала отпивать.
Я молча и облегченно принял пустой стакан из ее рук. Мгновенье она стояла недвижимо, как вдруг судорога охватила ее, но немое лицо не исказилось, не выразило муки, лишь в зрачках мелькнул испуг, она изогнулась, и рвотный кисель хлынул изо рта на половик.
— Я испытываю отвращение к сырой воде, — едва выговорила она, проведя платком по лиловым губам. И посмотрела на меня безумными, как у морфинистки, глазами.
— Уходи, — приказал я.
Что привязало ко мне эту женщину? Что связывает меня с ней? Я, не имевший обыкновения лгать себя, с беспощадностью открывавший глаза на жизнь, которая, впрочем, еще в юности меня разочаровала и уже не манила, должен был признаться, что хотел видеть эту странную особу, что едва она уходила от меня, тотчас возникало желание ее вернуть, удержать, поцеловать ее алебастровую точеную и вместе с тем нежную, хрупкую руку.
Трубников как–то рассказал, что именно Юлия посылала с необъяснимой настойчивостью те письма ко мне, что клуб больных контрактурами — ее выдумка, как и то, что я — спаситель, избавитель страждущих от боли. Именно Юлия отрядила Трубникова на встречу со мной у Никитского спуска и, стало быть, срежиссировала весь спектакль. Зачем понадобилось ей напускать флер потаенности? Или же она робела, выжидала, как я отзовусь, не отшатнусь ли я?
Однажды, когда стемнело, я вновь направился к тому дому на выселках. Окна были черны, я взобрался на поленницу — ту самую, о которой упоминал Трубников, — и приник лбом к стеклу. Я чего–то безнадежно ждал. Я не понимал, что привело меня сюда — желание приоткрыть тайну или же подспудно присутствовавшее в душе стремление прикоснуться к некой опоре, обрести источник силы, осмысленности, близости, уйти от внешнего мерзкого мира и обрести наконец свой. Повторюсь, я не знал, стоял, поникнув, опершись руками о наличники и чего–то с готовностью и разом с тем без всякой надежды ждал. Страшный по мощи удар в затылок свалил меня…
Я очнулся в полутьме. Человек в черной сутане, чуть пригнувшись, что–то раскладывал на подзеркальном столике, изредка подымая голову и вглядываясь в свое отражение.
— Воды, — сипло попросил я, проведя запекшимися губами.
— Зачем тебе вода? — рассмеялся незнакомец, оборотив на меня взгляд. Ты скоро умрешь.
— Кто вы? — спросил я, качнув головой, приподымаясь и морщась от боли.
— Кто бы я ни был, какое тебе дело до меня? — проговорил он, приблизившись и пытливо взирая на меня. — Ты мог не таясь войти в наш дом: мы отворили бы двери для тебя.
Он был довольно молод, чернобров, длинные ниспадавшие смоляные волосы обрамляли лицо, перекошенное в открывавшей ряд искривленных зубов усмешке.
— Отчего вы возомнили, что я скоро умру?
— Применительно к тебе смерть — не совсем верное слово, — отозвался он. — Ты покинешь с надеждой этот мир, ибо сам хочешь того.
— Хочу, — сказал я. — Но кто укажет дорогу в иные миры?
— Ты еще мало страдал для того, чтобы обрести иные миры. Тебе позволительно лишь грезить о них.
Я горько усмехнулся.
— Не вы ли указываете путь к тем призрачным высотам? Ежели так, то что же, позволительно узнать, удерживает вас на земле, какая неотложная надобность? — я помолчал и добавил: — Меня не надо убеждать, что окружающий нас эмпирический мир есть мир окончательный, я с недоверием взираю на его добродетели.
— Человек вседневно пребывает в единоборстве с обществом, природой и самим собой, — изрек незнакомец в сутане. — Легко догадаться, на чьей стороне победа в таком противостоянии, и потому в конечном счете человек самоотторгает себя… Мы отвергли рабскую извечную человеческую покорность и этот мир, который держится принуждением. Мы поднялись, воспрянули к тем высотам, которые ты видишь в грезах, но, воспрянув, мы затем вновь спустились на жестокую землю.
Но почему вы вернулись? — спросил я в смятении.
Собеседник мрачно и как–то мимоходом глянул на меня, точно видел долгую колонну подобных мне за моей спиной:
— Мы вернулись, чтобы забрать истинно страждущих, ибо андрогины преисполнены любви.
Любовь — это слово, казалось, не могли родить его обезображенные уста, но он повторил сосредоточенно и замедленно:
— Ибо андрогин преисполнен беспощадной любви… Жизнь — ошибка Господа, случайность, нелепость. Мир равнодушен, бесстрастен к человеку. В мире отсутствует необходимость в человеке, тогда как человек, как видится, вне мира не может существовать, — говорил он размеренно и убежденно. — Однако человек извечно стремится преодолеть унизительную зависимость от бренного, избавиться от предопределенности и пут жизни, скинуть тягло бытия. Избавление от этого кона всегда мучительно больно, но тот, кто ступил на этот путь, кто познал истинную боль, становится андрогином. Но даже андрогин не способен в одиночку преодолеть долгий путь в Бездну, к Нечему. Уже разорвавший тяжкие цепи мирского, просветлевший душой, он возвращается, чтобы найти спутника, слиться с ним, ибо андрогин исполнен любви, и пуститься вновь той спасительной дорогой.
— Вы смешны! О какой любви вы говорите?! — не удержался я от восклицания.
— Страдание рождает любовь, — заметил он в ответ.
— Но страдание рождает и страх перед этим миром и еще больший страх перед Ничто, — возразил я.
— Эта идея настойчиво манифестируется людьми, — отозвался он. Причина всякого страдания неустранима в принципе, ибо она в роковом несоответствии живого организма и этого окаменевшего мира, мертвого и бездушного. Жизнь случайность в нем, которую он устраняет ежесекундно с бездумной расторопностью. В бездушии космоса и в людской одухотворенности сокрыто трагическое и непоколебимое противоречие. Чтобы вернуться во Вселенную, слиться с ней, надлежит избавиться от калечащего человека изъяна, имя которому — душа, и таким образом обрести бессмертие.
— Но укажите инструментарий, коим душа изымается, — или он известен с первобытных времен? — напряжение сковало мои члены.
— Увы, это не смерть — при таком исходе все было бы чрезмерно упрощено, — вещал андрогин. — Вам самим надлежит отторгнуть свою душу, ежели, разумеется, вы того воистину пожелаете. По нашему разумению, человек есть дитя энергии, а не сын обезьяны или сын Бога… Заблудшее дитя энергии… Поскольку душа лежит вне всяких энергетических потоков, ее природа для нас необъяснима, она чужда этому миру, сия ноша чрезмерна для ее обладателя, посему человек должен избавиться от нее и вернуться в свое лоно — вселенское энергетическое поле, где он не будет знать ни легкости, ни тяжести, ни радости, ни горя, ни любви, ни ненависти, но обретет вечное существование. Однако всякому на этом пути надлежит пройти через боль, а истинное освобождение настает лишь тогда, когда андрогин находит свою половину на Земле, и уже вместе, слившись воедино, они подымаются в бессмертие. Подобно тому, как два человека, мужчина и женщина, участвуют в рождении третьего, андрогин и его половина рождают того, кто будет вечен, кто взойдет на иную ступень бытия… Ибо андрогин преисполнен беспощадной любви, — повторил он.
— В своем большинстве люди чужды духовным порывам, то есть чужды тому, что, собственно, и делает их людьми. О какой половине мыслите вы, когда возвращаетесь на Землю, и что это за иной мир, который допускает подобное возвращение?
— Боль и страдание укажут верную дорогу туда. Мертвое и живое способны соединиться, воплотиться в одно целое, имя которому — андрогин. Некогда ушедшие из жизни, мы вновь возвращаемся в нее, чтобы забрать своих избранников и уйти, уже навсегда, в миры, рассказать о коих невозможно. В месяцы, что предшествуют соитию, андрогин переполняется кровью, упоен ею сверх всякой меры — так начинаются родовые муки, которые завершаются слиянием и вознесением. Андрогин будет вставать из могилы до той поры, пока не заберет своего возлюбленного с собой.
Я внимал напряженно его проповеди, и вдруг острая боль полоснула за левой грудиной, я пригнулся, задышал учащенно, приложил ладонь к груди, стараясь унять резь. Мысли враз улетучились и облегчили мозг, и все, абсолютно все, что каким–то образом сочетается вокруг, предстало передо мной в пелене равнодушия и лишенной смысла бесконечности.
Незнакомец промолвил:
— Ты искал нас, мы же ищем тебе подобных. Ты жаждешь боли, ибо она единственная преграда на пути к тем высотам, ибо она и только она открывает туда дорогу. Ступив в нашу обитель, ты тотчас проникся ею, страдай же и мучайся, паяц, иного пути к вершине нет.
Я дико закричал, выпучив глаза. Мои внутренности как будто разрывали крючья, ноги точно погрузились в пышущий жаром свинец, я корчился на полу, обеспамятев и обезумев, покуда тьма не застила глаза.
____________
В тот день я очнулся в придорожной канаве. В измятой и грязной одежде, едва волоча ноги, с невероятными усилиями добрался домой. Положение мое представлялось унизительным — кто–то использовал меня как игрушку, подобно тому как бабки–ворожеи напускают порчу, прислал в мое тело и душу боль.
Не оставалось крупицы сомнений, что кто–то преследует меня. К примеру, этот вертлявый и ехидный старик Сумский. В те самые минуты, когда я нуждался в уединении, он возникал неподалеку точно из–под земли, взял обыкновение сиживать на моих лекциях, строя ужимки и гримасы с задней скамьи. Нахваливая хлебосольных поварих–сестриц, зазывал в гости. Раз я не нашел повода отказать, пришел, сел в гостиной в ожидании блинов и водки, меланхолично откликаясь на расспросы Сумского, и вдруг испугался зловещего, кошмарного шороха за спиной. То ветви исполинской липы, взметываемые ветром, хлестко оглаживали оконное стекло, ветви–плети…
Сумский, молодо и озорно блестя глазами, разоткровенничался:
— Помните, Павел Дмитриевич, я утверждал некогда, что у меня нет будущего — я был, признаюсь, неискренен с вами — у меня есть будущее.
— Смотря что под ним понимать, — бесцеремонно бросил я, опрокидывая содержимое граненых рюмок в рот в стремлении унять воцарившуюся в душе жуть, слыша, с какой неистовостью ветви стегают по стеклу.
Мне было неуютно здесь, я заторопился домой, надевал уже пальто с обтрепанными рукавами в передней, когда Сумский, приблизившись так, чтобы кроме меня его никто не услышал, шепнул, заглядывая настырно, с воровской хитрецой в мои глаза:
— Напрасно вы лишаете меня будущего, молодой человек…
— Помилуйте, Петр Валерьянович! Живите, прости Господи, сколько душа пожелает, — оторопело пробормотал я, едва сдерживая желание кинуться прочь из этого сырого полутемного коридора.
— Там нет жизни, но есть будущее, — ответил старик и самодовольно зажмурился, видно, посылая мысленный взор куда–то, к неземным высотам. — Вот так–с… Вам мой обещанный совет: ждите будущее, и оно придет непременно.
Вержбицкий ввалился с лихорадочно блестящими глазами, растрепанный, возбужденно потрясая кулаком:
— Ты, Павел, будешь первым после меня, кто узнает сенсацию века!
Этот пожилой, смешной и по–детски увлеченный человек опустился на табурет, перевел дух и выпалил:
— В городе действует секта андрогинов!
Я сосредоточенно раскуривал трубку, полулежа на кровати, и никак не выразил свое отношение к услышанному.
— Разумеется, Павел, тебе сие мудреное словцо ничего не говорит, продолжал Вержбипкий. — Андрогин — это существо из иного мира, который ищет свою половину на земле.
— Черт, табак отсырел! — пробормотал я.
— Креатуры андрогинов простираются по всей Руси. Андрогин сам выбирает свою жертву — она же его избавитель.
— Уморил ты меня, Исидор, — выдавал я усмешку. — Поведай что–нибудь позанимательней и посерьезней.
— Куда уж серьезней, — нахмурился репортер. — Ни единую мою заметку на эту тему редактор не подписал в набор. Я выдвинул версию о том, что именно андрогины причастны к цепочке убийств горожан.
— Какая муха тебя укусила?! Ежели они явились из иной, как ты утверждаешь, жизни, то зачем им понадобилось обагривать руки кровью несчастный обывателей? — Роль неискушенного слушателя, похоже, удавалась мне.
— Я многого не знаю, — посуровел Исидор Вержбицкий, — но чутье подсказывает мне, что я ступаю по верному пути.
— Гляди же, ненароком забредешь туда, откуда не выбраться.
Он вскоре ушел. У меня же в тот день все пошло наперекосяк — не потому, что я разволновался после услышанных новостей, — в них было как раз мало нового для меня, но потому, что я отныне в некоей мере должен был принять ответственность за судьбу моего знакомца, Исидора Вержбицкого, так же, как некто, вероятно, печется и о благополучном исходе моих устремлений. Ужель душа моя в неволе?
Я застыл в задумчивости у отворенного окна. В память врезалась искореженная рожа Прова, сладострастный рык: «Кинь копейку на помин твоей души!». Где сейчас этот калека, в каких мирах?
…Я кожей спины ощутил, что кто–то стоит позади. Внутренне напрягшись, я перегнулся через раму, отыскивая взором некий спасительный выступ, камень для защиты, но рука моя с разъятыми пальцами была далека от дороги и тогда, закричав, ибо улица была пустынна, закричав от невыносимой боли и тоски, я резко обернулся и, словно бык, боднул лбом в грудь стоявшего за мной. Он захрипел, выпучив очумело глаза, — я ударил его ногой с неведомой прежде злобой и ожесточением.
— Хочу, хочу тебя! — шептал слюнявый Николай, выпростав дрожащие в ознобе вожделения руки.
— Прочь, урод! — вырвался из моей груди свирепый крик. Я подскочил к саквояжу и вынул скальпель.
Николай неприязненно перекосился в лице, шагнул, просветлев:
— Хочу тебя, хочу…
Приник ко мне, обхватил плечи и стал усыпать поцелуями мое чело, обливаясь слезами:
— Ты унесешь меня от боли и страданий, избавишь от тяжести земли навсегда, проникнешься мною…
— Избавлю, — я стиснул зубы и провел коротко скальпелем по вспученной артерии на его худосочной шее.
Он обмяк, не издав ни звука, с прощальным облегчением заглянул в мои глаза и опустился к моим ногам. Шея его обагрилась не кровью, а словно гноем.
___________
Часы пробили четверть десятого. За окном было непроглядно. Я устало провел ладонью по взмокревшему лбу. Пожалуй, кроме лопаты понадобится и лом. Земля промерзла. На оконном стекле застыл словно выведенный разбавленной тушью силуэт, прожженный огоньком свечного огарка за спиной. Я стоял прямо, точно деревянная колода, сопротивляясь желанию глянуть вниз на то, что свершилось, что стало неминуемым, не желая признавать, что преобразился наконец из свидетеля в участника собственной судьбы. Затем спустился в дворницкую, взял лопату, лом и отнес их к береговому откосу, где намеревался совершить погребение.
…Ветер шарил по закоулкам. Обвернутый покрывалом–саваном труп давил на плечо… Вот и берег. С реки веет леденящей сыростью граница меж землей и водой поглощена мраком — ни единой звезды в небе. Размытое, подслеповатое око луны. Я поспешно стучу ломом, что–то, торопит меня, хотя ночь длинна и едва ли кто забредет на этот пустынный берег. Мои ноги соскальзывают, и я стучу все яростней, все неутоленней. Мелькнула мысль: кто будет копать могилу мне?
Перекладываю лом из руки в руку, выгребаю лопатой и спрыгиваю в яму, которая оказывается мне по пояс. Панцирь земли поверху уже схвачен морозцем, колкий, басистый, а чуть ниже почва по–осеннему прохладная, рыхлая, сквозистая.
Ветер ярится, откинул полог савана. Я вновь оборачиваю голову Николая и стаскиваю покорное тело на утоптанное мною земляное дно, наворачиваю сверху холмик, утрамбовываю его, покуда моя нога не опускается на ровную площадку. Сбегаю к самому берегу, чтобы швырнуть в полынью лом и лопату, и уже с радостью освобождения взбираюсь на кручу над рекой. Скорей домой — к теплу, к свету.
Чего я вправду хочу? Только ли тепла, света или же вдобавок чего–то иного, к чему дорога ведет через кровь? Я посмотрел на скальпель — в высохшей корке гнойной слизи он покоился на столе, на видном месте, единственный свидетель происшедшего.
Я — убийца?.. Нет, я все тот же прежний преподаватель курсов сестер милосердия, ни в чем не поменялся.
Я глянул на улицу — вперевалку вышагивал грузный почтмейстер, а если и он убийца? Я выискиваю взором в веренице прохожих себе подобного, ищу невольно опору. Зачем? Перед кем оправдываться? Что–то принудило меня суетливо одеться, выбежать во двор — на душе неуютно, воровато, я озираюсь поблизости никого нет, и лишь на площади, в толпе, явилось некое подобие успокоения. Вспомнился разговор во время одной из прогулок с Сумским.
— Я хочу убить, признаюсь вам со смущением, — сказал я тогда.
— А ты убей, — сострадальчески искривился Сумский. — Убей Павлуша, полегчает… Вот я — угадай, сколько зарезал на хирургическом столе? Хочу помилую, хочу — жизни лишу, и все шито–крыто. Война была, Павлуша… Я тебе скажу — каждый хоть на миг да не прочь в Тиберия всеповелевающего обратиться, вот и я Тиберием был.
— Как вы можете такое говорить?! — вырвалось у меня возмущенно. — А ежели я возьму да и на вас замахнусь?! По вашу душу приду?
— По мою душу уже пришли, — мягко улыбнулся хирург. — Посмотри, — он обернулся, чтобы указать на угрюмо–молчаливых сестер в экипаже поодаль, они мою душу уже никому не отдадут.
…Я вглядывался в лица — сколь мало в них воистину людского. Коренастый мужик с посинелой рожей несет котелок, а другой пятерней облапил шею общипанной гусыни. Некий худощавый господин с мутными глазами, неестественно бледный, точно из мертвецкой, перебежал дорогу, за ним спешила кухарка с тыквенной кубышкой, перебирал клюкой отставной армеец. Люди ли они или ряженые андрогины, дьявольским чутьем ведомые к своим жертвам, к своим земным половинам?
Колокола тревожно и сбивчиво зазвонили с башенки собора, вторя моему смятению. Их перезвон настигал неумолимо, даже в трактире, куда я внесся с полоумным взором, трясясь и не находя среди склоненных спин свободного места для себя. Наконец уселся, попросил чарку водки и только после заметил напротив попа–расстригу в поношенной рясе, с крашеной шафраном бородой и цепью на шее. Склонясь над замусоленной крышкой стола, он бубнил пьяно и заученно: «Верую Господи и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живога, пришедший в мир грешныя спасти… Молюсь убо тебе: помилуй мя и прости прегрешения мои вольная и невольная».
Я велел поднести батюшке водки, и тот, даже не глянув на меня, осенил себя крестным знамением и гнусавым баском, на манер приходского дьячка, протянул нараспев, поднеся лафитник к бороде: «Изыди, нечистая сила, и стань яко вода», — опрокинул стопку в зев рта, крякнул, осунулся, заводил головой, метя бородой по столу…
Нечистая сила в чарке, поднесенной от меня.
В следующую пятницу, когда я, вернувшись с занятий, прилег и уже готовился задремать, неожиданное и равно ужасное подозрение принудило меня вскочить с кровати. Я вдруг уверился, что оставил некую улику, след, приводящий ко мне и указующий на меня убийцу. Но скальпель был дочиста отмыт и покоился в футляре в медицинском саквояже. Что же бередило мое сознание? Спустился в дворницую, посветил лампой — стол, запыленная лежанка, скамья, паутина в простенке за печью, вязанка березовых веников. Я поспешно поднялся к себе и заперся. Нечего говорить, что сон не явился мне в ту ночь.
Поутру я предчувствовал приход Юлии. Она явилась в неожиданно броском убранстве — в костюме Анны Пейдж из «Виндзорских насмешниц».
— Что нового? Как поживает прекрасная мисс Анна Пейдж? — спросил я с наигранной бодростью словами драматурга.
Она ничего не ответила, сняла накидку, поправила складку платья синего атласа и мантильку, наброшенную на плечо, опустилась на стул — передо мной была прежняя загадочная молчаливая Юлия.
— Налейте мне чаю, — наконец прозвучал ее голос.
— Признаюсь, что хочу уехать из этого города — навсегда. Мне здесь жутко, — сказал я.
— Я поеду с вами, — произнесла она.
— Но куда? — выдавил я усмешку. — Кроме того, ты не можешь уехать со мной, потому что я — убийца.
— Вы не убивали, — вдруг сказала она.
— Вот уж в чем не может быть сомнений… Я хотел избавиться от жути, что довлела надо мной.
— Вы не убивали, — повторила Юлия с необъяснимой непреклонностью.
— Мне мерзко под этим небом, — твердил я.
Она встала, взяла меня за руку и повела. Я истерично смеялся, глядя, как мы спускаемся по лестнице, выходим во двор, минуем заснеженную пристань. Но мои ноги уже не чувствуют крепости речного льда, грудь, прикрытая полощущей на ветру легкой тканью, — пронизывающего холода, только ладонь улавливает слабое тепло ее ладони. Берег уже далеко внизу, как и башенка звонницы, и все вольней, радостней мне, уже ничто не тяготит, уже нет ни холода, ни тепла, ни света, ни тьмы. «Что вам желается увидеть?» — доносится до моего, еще живущего слуха, голос. — «Ничего, — заворожено шепчу я. Ничего… В бездне нет ничего».
То опускаемся, то поднимаемся. Горизонт бледнеет, вдруг насыщается смарагдовой волной — единственным напоминанием реальности о мире вокруг, и потому я с силой и ненавистью зажмуриваюсь, ибо только застивший очи мрак укажет верную дорогу, только мрак, призывно зовущий, неудержимо влекущий в спасительную бездань, где нет жизни, но есть будущее, где нет меня, но вечен мой угасающий отголосок.
Я пробудился, втянул ноздрями воздух, но не уловил запаха морфия. Какая–то склянка темнела на табурете. Я снял колпачок — фу! Меня аж передернуло — нашатырь! Затем я глянул на ладони — ничем не примечательные, в изломах и разводах трещин, могущие принадлежать другому человеку… Вот тому, к примеру, что сию минуту появится в дверях. Он впервые пришел днем, снял цилиндр, стянул с руки перчатку. Я глянул на него и сказал:
— Перед абсурдностью этого мира человек протягивает руку для единения и спасения другому человеку. Но человек ли вы, должно поначалу спросить?
Посланец в цилиндре выжидательно стоял в дверях. Из его оголенных пальцев сочилась кровь, пятная доски пола.
— Я жду вас, сударь, — размеренно и четко молвил он.
«Уж нет, я не пойду!» — решил я, но тотчас неведомая сила подняла меня с кровати, накинула на плечи полушубок. Я смиренно побрел уже знакомой дорогой.
— Расскажите о том мире, откуда вы вернулись… Или же вы только воображаете его? — начал я неуверенно.
— В нем первична абсолютная свобода. Мир, где не существует добра и зла, одна безграничная творящая его свобода, — отозвался провожатый.
— Есть ли в нем дерево, облако, камень? — вопросил с надеждой я.
— Тот, кто познал истинную свободу, не нуждается в материальном окружении, источнике рабства.
— Но зачем вы убиваете, притом с беспримерной жестокостью?
— Мы творим правосудие, всегда будучи выше Добра и Зла, верховенствуясь царствующим во Вселенной законом свободы, — твердил он. — Мы караем тех, кто отвергает нашу любовь.
Я не сразу заметил, как мы свернули в проулок, застроенный доходными домами. Я уже не помнил этой дороги и решил, что меня ведут к дому на выселках, но проулок выводил к заснеженному пустырю, в северной оконечности которого были скотопритон и приземистый барак свинобойни.
Посланец неожиданно ступил в сторону, пропуская меня вперед. Я шагнул недоумевая, хотел было обернуться, чтобы спросить, и тут охнул, присел, схватившись за голову. Меня спасла меховая шапка. Господин в цилиндре что–то яростно, с досадой прокричал, взмахнул тростью с тяжеленным набалдашником, намереваясь повторить удар, но я уже выпрямился, отскочил и поднял руку для защиты. Тогда он злорадно ухмыльнулся, замедленно вынул упрятанный в трость стилет. Этот мерзавец, вероятно, хотел что–то сказать мне, некую прощальную фразу, но, как видно, передумал, исказил лицо и нетерпеливо — нет, не шагнул, а прыгнул ко мне, потрясая стилетом. И вот, в верхней точке его прыжка, я замечаю, как из неутоленно–плотоядной его физиономия вдруг становится удивленной и по–детски обиженной. Мгновеньем позже мой слух улавливает хлопок выстрела, но я, не поворачивая головы, зачарованно, с необъяснимым интересом, без малейшего страха и ликования наблюдаю, как злодей взмахивает руками, роняя стилет, и падает, на лету изогнувшись в корче. Цилиндр катится по снегу…
Зрение у меня слабое, я с трудом примечаю на другом конце поля человеческую фигуру. Путаясь в полах своей одежды, она торопливо забежала за ограду свинобойни.
…Сборы были недолги. Лихорадочно перевязываю куль с вещами, защелкиваю саквояж, пересчитываю деньги в бумажнике. Усилием воли напоследок усаживаю себя за стол и затем, малость поуспокоившись, обнаруживаю придавленную пепельницей записку: «Ты отвергаешь нашу любовь и потому обрекаешь себя на нежить».
Я выбираюсь на улицу, согнувшись под тяжестью куля с вещами. В какую сторону податься?
…Исидор Вержбицкий встретил меня без малейшего удивления, будто ждал. Я что–то пролепетал о том, что в доме у трактира меня одолели кошмары, не от кого услышать слово после отъезда жильцов и вообще стихия жути будоражит мое сердце.
Исидор усадил меня на диван и попросил коротко:
— Расскажи все.
— Где же твой блокнот? — попытался сыронизировать я.
— Вот он, — Исидор поднялся, вынул из шкапа и положил на столик подле меня револьвер.
— Так вот кому, оказывается, обязан я своим спасением…
— В благодарность поведай о той прекрасноликой девушке, что приходит к тебе, — попросил Исидор.
— Погоди, — я встал. — Дай собраться с мыслями.
Я покосился настороженно в сторону газетчика — тот выжидательно вращал пальцем револьверный барабан.
— Она присылала мне письма, молила о помощи. Но, мне представляется, если ей и необходима помощь, то вовсе не… Вернее сказать, это вовсе не помощь, а жажда некоего духовного единения, обретения не описываемой словами близости с другим человеком, гармонии… Той, что ведет к истинной свободе.
— О которой ты, во всяком случае, имеешь весьма смутное представление, — сумрачно обронил Исидор.
Эта его фраза была последней из отчетливо услышанных мною в ту минуту. Взор уже едва различал предметы, и вдруг предо мною предстала бескрайняя белоснежная пустыня и Юлия, парящая над замедленным кружением снега, над неровным горизонтом ледяных глыб, выше птиц, что разлетались стаями согласно азимутам, указующим стороны света. Ее голос звучал во мне: она рассказывала о своих несчастьях, коих во множестве выпадает на пути каждого; рассказывала с некоей теплотой, даже радостным удивлением, ибо те невзгоды подтолкнули ее к поиску счастья, сотворили из нее избранницу — эта вековая мука, что застыла слепком на ее лице.
— …Ты, верно, спрашиваешь себя, отчего они уготовили тебе столь быструю и легкую смерть, — голос Исидора развеял виденье, — а не подвесили, скажем, как того бедолагу в петле под воздушным шаром, в назидание всему городу? Сдается, что они не всесильны, не каждым могут лютовать.
Я с трудом узнавал Исидора — передо мной был не прежний недотепа–газетчик, а рассудительный, пытливый, убеленный сединами муж.
— Пожалуй, я был бы не прочь отдохнуть — довольно загадок.
Исидор подвел меня к завешанной сатиновой занавесью нише в стене — там стояла запыленная оттоманка:
— Ложись, а я наведаюсь в редакцию.
— Мне жутко, Исидор!
В ответ с доверительной улыбкой он вложил в мою руку револьвер…
Когда я проснулся, подле оттоманки сидела Юлия. Ее руки были сложены на коленях.
— Вы долго почивали, — вымолвила она.
— Исидор еще не вернулся? — поднял я голову. — Как ты разыскала меня?
Я пытливо смотрел на эту женщину. Что–то неотвратимое присутствовало в ее появлении, некое тревожное напоминание, всю суть которого я безуспешно пытался постичь.
Юлия подняла руки, чтобы поправить заколку в волосах, и я заметил, что подол ее платья в разводах крови.
— Как ты нашла меня? — повторил я.
Она лишь слабо улыбнулась.
— Меня хотели убить, — сообщил я.
— Да, — сказала она, — вас хотели убить, и я не сумела помешать.
Прилив безудержной ярости всколыхнул меня.
— Прочь, мерзавка! Уходи! Зачем ты являешься? Зачем разыскиваешь меня?!
Юлия послушно встала и с не изменившимся, покойным лицом приложила ладонь к моей груди — я не уловил ни тепла, ни холода, но испытал облегчение, даже успокоение.
— Прости, — опустил я голову. — Мне тяжело. Я догадываюсь, отчего меня преследуют, но теперь я даже не помышляю о бегстве — едва ли оно будет спасительным. В жизни я кручусь на месте, как лодка с одним веслом. Я уже ничего не хочу, кроме покоя… А ты желаешь забрать меня в тот черный мир, откуда явилась.
— Мы, исполненные любви, ищем половину, дарующую ответную любовь. Преисполненные страдания, мы ищем любовь, ибо только в новой, слитой воедино плоти, сможем подняться к бездне… Жизнь не заканчивается смертью, смерть для нас не есть избавление, а новая ступень мук, и муки достигают такой силы, что подымают покойника из могилы и принуждают его вновь искать встречи со своим избранником, ибо только в обретении новой плоти, в слитой воедино душе мы способны познать катарсис. Но андрогин не может слиться со своим избранником насильно, против его воли.
— Ты ждешь, когда пробудится благодарно моя душа? — с простодушной улыбкой спросила Юлия.
— Она уже пробудилась, но вам недостает смелости сделать последнее усилие… Гляньте, из моих пальцев сочится кровь, ибо я переполнена ею в надежде поделиться с вами.
Она воздела руки, и мутные капли окропили мою рубаху. Я отшатнулся:
— Уходи! — придушенно вымолвил я.
Она с болью и отчаянием отвернула голову и пошагала к двери.
___________
Назавтра я осмелился выйти на улицу. Меня страшил и пугал этот город. Я вглядывался в очертания строений, в людские лица с настороженностью, готовый тотчас отпрянуть и выхватить из кармана револьвер, рукоять которого я крепко сжимал. Я не испытывал любви ни к кому, был готов в отчаянии расстрелять весь белый свет, и выбрался из дому лишь потому, что еще причислял себя к роду человеков. Низкое зимнее солнце слепило глаза, принуждая меня щуриться и хищно скалиться. Я озирался и, осклабясь, хихикал, удостоверясь, что мои страхи напрасны.
Вот и ограда губернаторского сада перед Никитским спуском — того самого, где некогда Трубников назначил мне встречу. Ни единой души. Аллея в обрамлении черных дерев пересекает сад наискось. В дальней от меня стороне показались и свернули в проулок за оградой два конных полицейских с шашками на ремнях.
— Зарубите меня! — крикнул я.
Крикнул и присел, испугался. Вот же он, револьвер, в кармане моего родного до самого потайного шовчика пальто. Что мешает мне свершить последний приговор над самим собой? Почему я отпрыгнул и тоже, как в сей миг, присел, когда тот господин в старомодном цилиндре оглушил меня набалдашником трости? Отчего я покорно не снял шапку и не поклонился? Столь ли внезапен был тот удар — не долгожданен ли он был?
«А–а–а!» — потревожил меня ночью чей–то протяжный надрывный стон. Я не ослышался, явственно различил звуки чьих–то мук. Эти звуки доносились как бы из глуби земли, из недостижимых недр некоей всеохватной души, объединяющей человеков. Одна половина этой мировой души приняла мучений сто крат более другой, повинуясь незыблемому повелевающему знаку сверху, и я, если и принадлежал второй, на время охраненный чьим–то щитом, то теперь почувствовал, как и мое горло раздирает стон, как и я приближаюсь к некоему порогу, за коим ад?
Поутру я обжег чаем язык, подошел к зеркалу, высунул язык, чтобы оглядеть его и вдруг подивился уродству портрета: этот высунутый влажный алый язык был противоестественен всякой красоте. Я поморщился, закрыл глаза, потряс головой, избавляясь от виденья…
Зеркало висело на стене за шкапом. Далее, ближе к углу, была печь в изразцах, за печью — простенок. В тот миг, когда я отходил от зеркала, боковым зрением отметил мимолетно некий предмет в обыкновенно пустовавшем простенке. Я тотчас остановился и замедленно оборотил голову. Коротконогое, безголовое туловище спиной упиралось в самый угол, окровянив пастораль обоев; одна нога была занесена на подставку для чистки обуви, левая рука засунута в карман фрака. Я тотчас узнал серенький поношенный фрачный гарнитур, в который нарядился Исидор Вержбицкий, отправляясь в редакцию.
Колени ослабели.
— Исидор, Исидор… — шевельнулись мои губы. В тот же миг показалось, как туловище качнулось, двинулось ко мне. Я ощутил плечом чье–то прикосновение, прерывистое дыхание у груди. Ноги мои подкосились, стена с окном понеслась вверх, я — вниз…
Вечером того же дня я вернулся в свой опустевший подъезд, в комнатенку на втором этаже. Правильнее сказать не вернулся, а примчался почти что в беспамятстве, очнувшись после долгого лежания на полу.
Всю ночь я не сомкнул глаз. Окажись еще не так давно в подобном положении, я принялся бы лихорадочно соображать, как быть, перебирать в уме вероятные пути спасения. Ныне я с твердостью знал, что спасение едва ли возможно, что за мной придут.
Я ждал напряженно, мучительно, но за окном светлело, а шагов по лестнице так и не было слыхать. Я растопил печь, нагрел воду на плите и взялся править бритву, дабы привести свой вид в соответствие важности намеченного мною на сегодня поступка: я намеревался подать прошение о направлении в действующую армию. Вымыв голову, просушил волосы полотенцем, побрился и подошел к комоду за чистой нижней рубахой. Этот комод высотой едва доходил мне до пояса. Отворив дверку, не пригибаясь, я сунул руку, но вместо стопки белья нащупал чьи–то волосы. Я похолодел, не убирая руки, заторможено присел, чтобы в ужасе одеревенеть — с полки на меня бездумно смотрела отрезанная голова Исидора. Щека разодрана, склеры глаз окровянились, язык прикушен.
— Подойди к окну, — услыхал я за спиной.
Меня точно кипятком обожгло. Я привстал, обернулся, но никого не обнаружил. Зазвонили колокола. Я послушно двинулся к окну.
Улица была запружена народом. Инок нес высоко чудотворную икону, за ней колыхались хоругви, кресты. Порченная девка–калека бросалась в ноги толпе, юродивые корчили рожи и отплясывали на обочинах. Из домов выходили мужики и бабы с детьми, служивый люд, крестились и присоединялись к толпе. Крестный ход приближался. Я всматривался в торжественные лица человеков, отличных от меня, в мозгу вспыхивало: «Исидор… Исидор… Исидор…». Я хотел сбежать, смешаться с людской рекой, но мои ноги точно приросли к полу. Я уже ничего не понимал. Кто я? Зачем живу и живу ли? Я распахнул окно, вдохнул морозного воздуха, отпрянул вглубь комнаты и выхватил револьвер. Не ведаю, что принудило меня поднять руку и всмотреться в картину через прорезь прицела те же лица, но уже каждое хоть на миг, но запечатлевалось смертно в нем. Я виделся себе властелином, могущим сиюсекундно покарать или помиловать, но вместо самодовольного рогота из моей груди вырвался сдавленный хрип — я застыл, меня сковал взгляд, обращенный из толпы ко мне. Босой на снегу, в рубище до пят, убиенный мною Николай воспрял из тлена и замер в скорби напротив ворот. Донесся молящийся глас: «Зачем ты оставил меня, зачем покинул, почему ты не закопал себя разом со мной на том берегу?». И простер ко мне руки, и шагнул в своем саване в комьях могильной земли. Я зажмурился и в истерике зарыдал. Вся моя жизнь пронеслась — нет, не перед моим мысленным взором, а мимо меня, где–то поодаль стремительным вихрем, ибо эта жизнь мне никогда не принадлежала, я ничего не понимал в ней и помнил всегда лишь об одном действительно выполнимом праве человека — праве на смерть. И я поднес револьвер к виску трясущейся рукой.
Опустите руку, Павел, — вдруг донеслось со стороны.
Пальцы мои разжались. Я зарыдал, уткнувшись лицом в ладони.
— Что с вами?
Юлия подняла с пола и спрятала револьвер в сумку.
— Зачем ты пришла, ведьма?! — с ожесточением прокричал я.
— Я не могла не прийти, — отозвалась она спокойно и ровно. — Однако что на вас нашло? Приступ черной меланхолии?
Она запахнула створки окна, сбросила шубку на стул.
— Уход! Прочь немедля! — моя бурно грудь вздымалась.
Юлия опустила конец рушника в ведро с водой и приложила прохладную ткань к моему лбу.
— Помнится, вы жаждали уехать. Решайтесь же, Павел! Я буду с вами.
— Куда уехать? Куда?! — я отупело мотнул головой. — За что они мне мстят? — и повторил: — За что вы мне мстите?
— Мы с вами, Павел, начнем новую жизнь, — шептала Юлия, точно в забытьи. — Где–нибудь в тихой деревеньке. Я буду заботиться о вас, как о младенце, ибо вы мой и только мой.
— С той же нежностью, что и сестрицы Сумского о своем мнимом братце?.. А что будет дальше?
— Дальше?.. В один из дней мы вместе уйдем — к покою и счастью.
— Ты лжешь, стерва! — свирепо выдавил я. — Правда в том, что ты с Николаем не поделила меня!
— Любовь неделима, Павел, — чуть удивленно возразила Юлия.
— Ты возжелала забрать меня туда, где царствует смерть, где нет ничего — это и есть тот черный мир, откуда ты явилась.
— Между жизнью и смертью, по сути, нет разницы. Смерть — лишь видоизмененная форма жизни. Мы не умрем, Павел.
— В таком случае, позволь удостовериться в правоте твоих слов, — я злобно усмехнулся, но мгновеньем раньше мои руки безотчетно, сами собой, обвили полотенце вокруг ее шеи. И с силой, с наслаждением и облегчением стянули концы рушника.
Юлия глубоко и разочарованно вздохнула, обхватила мои плечи, обмякла и с хриплым стоном опустилась на пол. Я тронул запястье ее руки — пульс не прощупывался. Чувствуя тошноту и головокружение, нетвердыми шагами я прошел к рукомойнику, чтобы сплюнуть вязкий комок в горле. Следовало думать о том, куда спрятать тело. Тут за спиной послышался шорох и легкая, почти невесомая ладонь легла на мое плечо: «Мне было больно, Павел». Я обернулся, преисполненный жутью. Ее лицо ожило, пережитая мука сняла алебастровую маску, ужасная печать природы спала, ослаб сжатый в параличе жгут мышц, а взгляд, обращенный ко мне, излучал необычайную теплоту, — но полотенце все еще обвивалось змеей вокруг ее шеи. Юлия размотала его, распустила волосы.
— Улыбнись, — попросил я чуть слышно.
Она устало улыбнулась.
— А теперь уходи.
Ее губы едва–едва раздвинулись, возле глаз соткалась розетка морщин.
— Я уйду только с вами, Павел.
…Ночью я тайком собрал саквояж. Сложив необходимое, уже одетый для дороги, я подошел к кровати и посмотрел на спящую. Она спала с покойной полуулыбкой на устах, как бы отвечая во сне кому–то. Я испытал к этой женщине острую ненависть. Я плохо понимал, что она обрела со мной, я знал несомненно одно — она отняла нечто безмерно важное у меня, сломала меня, душа моя искалечена, и единственное, на что я остался способен, на что доставало сил — это унизительное бегство. С той поры, как я увидел ее, я уже не принадлежал себе; нон сотворил все возможное, чтобы до конца не принадлежать и ей. Она отняла меня у меня, но ничего не дала взамен, она напилась мною вдосталь, но я еще жив… Я захлопываю дверь, спускаюсь по лестнице, впотьмах, меж угольных куч, пробираюсь с оглядкой на станцию (никто меня не преследует, и это тревожно), а под утро, ближе к рассвету, сажусь на литерный, идущий на запад, к фронту.
…И вот я истекаю кровью в Галиции в полевом блиндаже–лазарете на передовой. У меня достало сил снять рваный халат и добраться до остывших солдатских тел, сложенных на земляном полу в кровянистых лужах. Они трупы, но я жив и слышу крики снаружи. Я знаю, что буду делать, когда приподымется край закрывающий вход в блиндаж рогожи и в проеме покажется увенчанный пикой шлем. Слабеющая моя рука сжимает рукоять нагана, курок взведен.
Голоса приближаются. Сияние дня пробивается сквозь щели. Рогожа откинулась, свет ослепляет, я хочу, но не могу приподнять руку с наганом. Свет неестественно ярок, до рези в глазах, и уже не принадлежит этому миру. В проем что–то вбросили, — грохот, облако разрыва, застлавшее сияние, а в нахлынувшем мраке всплывает, надвигается строгое недвижимое девичье лицо…
___________
Весной того же года в фельдшерский пункт одной из волостей Калужской губернии прибыл новый доктор. Назвался Павлом Дмитриевичем. У него была привычка ни с того ни с сего украдкой прятать в карман правую руку. Санитарка Варвара по временам примечала его ненасытный взор. «Влюбился», привычно думала Варвара.
Катамаран «Беглец»
Черт побери! Какая досада! Надо же такому случиться! Григорий Тимофеевич, Виктор и я беспомощно взирали на спокойные воды озера. Григорий Тимофеевич, обернувшись, как бы пораженный внезапной догадкой, приложил палец к губам:
— Тссс… Я вам скажу, здесь дело нечисто. Было очевидно, что он имел в виду. Новехонький, без единой трещины в корпусе, с пластиковым прочнейшим парусом, наш катамаран, наша гордость и предмет неустанного восхищения, отменно продержавшись на плаву двое суток, четверть часа назад безо всякой видимой причины пошел ко дну, точно ржавая жестянка. Теперь–то я понимаю: тому был предупреждающий знак — парус полнехонький обвис, настало затишье, полнейший глубочайший штиль, тут бы не сплоховать да принять меры к спасению, но, повторюсь, кто мог подумать? Вдруг что–то хлюпнуло под кормой, и мгновеньем позже мы очутились в воде.
— Нечисто дело, — повторил Григорий Тимофеевич.
Трудно было с ним не согласиться. Багровый закатный полусвет расстилался над озером, вдали предвечерне чернело плоскогорье. Виктор впал в некое сомнамбулическое состояние и не отрывал взгляда широко раскрытых глаз от воды, Григорий Тимофеевич съежился, на него было жалко смотреть.
Итак, мы остались без катамарана, без куска пищи, практически без одежды, нельзя же в самом деле считать за таковую майку и плавки в горошек, бывшие на мне, рубаху и тонкие трикотажные брюки на Викторе, короткие шорты Григория Тимофеевича; в этом одеянии нам предстояло провести ночь в горах, и, вполне вероятно, ночь не единственную — без спичек, а значит, и без огня. Ко всему безвозвратно пропали дорогая кинокамера, несравненный «Никон», судовой дневник, в котором я успел заполнить всего несколько страниц.
…Начало наших злоключений ознаменовал отрывистый звонок, раздавшийся в передней моей квартиры солнечным воскресным утром. Я только что побрился и, стоя перед зеркалами трюмо, втирал в подбородок защитный крем. Великолепная погода и счастливое ожидание прогулки с новой знакомой оживляли мое воображение; энергично массируя щеки, я вспоминал ее. Отменная фигура! Где еще вы найдете такие стройные, точеные ноги?! А как ловко она вышагивает в своих кремовых полусапожках! Обворожительное личико, красивые глаза. Если она пожелает, мы совершим прогулку по окрестностям, благо сегодня не душно и дождя — я глянул в окно — вроде бы не ожидается. Я представлял ее улыбку. И вот тут случился этот безобразный звонок. Я отложил тюбик с кремом, прошел в прихожую и в раздражении дернул на себя ручку двери.
— Привет! — с ухмылкой сказали мне.
— Хау ду ю ду? — недовольно пробурчал я. И через порог переступил Григорий Тимофеевич Желудев, в спортивной майке с эмблемой общества «Буревестник», в оранжевых штанах — мой дражайший сосед по лестничной площадке. Несколько слов о нем.
Григорий Тимофеевич — личность от природы маниакально одержимая. Фанатик. Уж если за что–то возьмется, будьте спокойны, не бросит, пока не довершит задуманного. Во дворе кое–кто отзывался о нем шепотком неодобрительным, кое–кто считал его человеком по–своему ограниченным и всю его энергию объяснял этой самой ограниченностью, — но так о Григории Тимофеевиче отзывались люди сами не бог весть какие деятельные и даже вовсе никудышные. Не помню дня, когда мой сосед не был подтянут, до глянца выбрит; грудь надута, усы топорщатся — настоящий кирасир! В подъезде холостыми были только мы с Григорием Тимофеевичем, что, несомненно, нас сблизило, и лишь мы вдвоем из сонма жильцов занимались по утрам оздоровительными пробежками — на этой почве и сошлись окончательно. Григорий Тимофеевич был на двадцать лет старше меня, но обогнать его было совсем не просто. Бывший десятиборец, необычайно выносливый, он сразу задавал такой темп, что по возвращении к подъезду я чувствовал себя так, будто всю дорогу меня нещадно дубасили кольями.
Сейчас Григорий Тимофеевич Желудев, учитель физкультуры, стоит передо мной. В руке он держит бумажный лист, а глаза с загадочным торжеством остановились на мне. Все понятно — очередная идея. Какой–нибудь спортивный утренник на стадионе, детский велопробег, массовое физкультурное гулянье жителей квартала, организация братства рыбаков–подводников. Увлекаемый за локоть, через минуту я уже на кухне.
— Садись. Слушай, что скажу.
Григорий Тимофеевич любовно разглаживает на столе принесенный листок.
— Что это? — слабо выговариваю я и тыкаю пальцем в какие–то прямоугольные абстракции, выведенные тушью.
— Хо, брат, — если бы ты знал, что это за простое и вместе с тем совершенное устройство. На парус сгодится твое верблюжье одеяло, днище будет из стального листа — у меня в сарайчике припасен, рулевое весло…
Ага! Значит, организация братства подводников отменяется, на этот раз нечто иное.
— Парус? — без энтузиазма говорю я.
— Представь себе — парус.
— Размером с постельное одеяло?
— А почему бы и нет?
Мне, студенту предвыпускного курса техникума, не составило труда с помощью нехитрых формул рассчитать площадь паруса, необходимого для движения шестиметровой лодки со скоростью 5–6 узлов в час при умеренном ветре. Когда я сообщил результат, с усмешкой объявив, что одеяло придется оставить дома, Григорий Тимофеевич сам взялся за расчеты. Около получаса он с яростью испещрял бумагу внушительными закорючками, обнаруживая свое полное незнакомство с законами гидродинамики, сопромата, трения, волновой механики, и одновременно настойчиво убеждал меня в несуществующих достоинствах предлагаемой конструкции. В свою очередь я терпеливо, полунамеками, дабы не затронуть его обостренное, как у большинства педагогов, самолюбие, и вместе с тем твердо пытался открыть ему глаза на то, что его взгляды на классическую физику мало чем отличаются от мистических представлений пещерного жителя. Вскоре, изрядно утомившись, я сказал:
— Ну хорошо, хватит об этом. А кто будет строить лодку?
— А на что у нас они? — непритворно удивился сосед и приподнял над столом громадные растопыренные пятерни.
Не моргнув глазом я поинтересовался в пику:
— Вы когда последний раз держали рубанок?
— Лет пять назад — оформлял кабинет физвоспитания.
— Ну вот видите…
— Что — видите? — осерчал Григорий Тимофеевич. — Не хочешь помогать, так и скажи. Найдем другого. А голову мне не задуривай своими формулами — ишь, физик–теоретик!
— Просто я не совсем того, — я выразительно покрутил пальцем у виска.
— Еще поглядим, кто из нас того, — буркнул Григорий Тимофеевич.
Мы расстались недовольными друг другом. В горячке спора я даже не полюбопытствовал, на кой черт соседу сдалась эта лодка. К вечеру у меня ко всему разболелась голова, и, приняв таблетку анальгина, я уныло побрел на свидание. Девица оказалась до удручения никчемной, пустой особой, но хитрой, так что меня не удивило, почему я ее сразу не раскусил. Она вытрясла из меня все деньги и вдобавок не позволила и рта раскрыть; только я произнесу фразу, как следует замечание:
— Еще бы!
— Пучком!
— Умно до позеленения!
— Путево!
— Ништяк!
В конце концов мне настолько осточертели все эти «путево», «клево», «до позеленения», что я замолчал и не сказал ни слова, когда провожал ее домой. Разумеется, о том, чтобы продолжать встречи, не могло быть и речи, хотя она удостоила меня на прощанье обнадеживающим по длительности поцелуем.
Шло время. Мало–помалу затея с лодкой начала забываться, мы с соседом помирились и вновь как ни в чем не бывало по утрам бегали вокруг городка. Однако этим наше общение и завершалось. Какие идеи будоражили Григория Тимофеевича, я мог только догадываться. Мы виделись редко, потому что у меня было много работы по дому, а сосед по вечерам пропадал где–то, претворяя свои нескончаемые замыслы. В начале весны мои родители, оформив трехгодичный договор, отправились работать в Эвенкию: отец — слесарем–котельщиком в нефтегазоразведке, мать — бухгалтером. Незадолго до отъезда они положили на мой письменный стол список дел, коими я должен был заниматься в течение года. Первейшим среди них значилось приведение в порядок нашего сарайчика во дворе. Я поднял обвалившуюся притолочную доску, заменил стропила, настелил на крыше рубероид; кроме этого мне было поручено сделать косметический ремонт в квартире — до того как родители возвратятся домой в отпуск. С побелкой я справился в одиночку, оклеивать же стены обоями и красить полы помогли сокурсники. Вскоре квартира заметно преобразилась, особенно после того, как телефонный столик украсили красно–желтые китайские фонарики, а в прихожей на обоях под кирпичную кладку появились красочные рекламные проспекты, свидетельствовавшие о том, что хозяин жилища придерживается современных взглядов в дизайне. Было приятно заходить в чистенькую квартиру, где пол блестел новой краской, идти по мягкой тафтинговой дорожке в комнату, включать настольную лампу, садиться в кресло, раскрывать книгу, повествовавшую о плавании святого Брендана через Атлантику на лодке из бычьих шкур, и читать, читать…
Так получилось, что я закончил работу одновременно с учебой в техникуме, сдал сессию и теперь был непривычно свободен — все мои товарищи разъехались на летние каникулы, я же остался в поселке. Конечно, наш дальний родственник Петр Иванович приглашал меня, как обычно, к себе в Мурманск, но жил он с семьей чрезвычайно стесненно, с женой и двумя дочерьми в малогабаритной двухкомнатной квартире без ванной комнаты, и мне было неловко доставлять ему своим появлением еще большие хлопоты. Честно признаться, сперва я не чувствовал желания уехать — поселок наш городского типа, с тремя кинотеатрами, шестью школами, открытой танцплощадкой, двумя парками, окрестности живописные: что ни говори, Кавказ. Зачем, спрашивается, уезжать куда–то, если вся страна на лето стремится в наши края? Ко всему, впервые в жизни я был предоставлен самому себе безо всяких ограничений и мог делать что захочу.
Июнь выдался жаркий, удушливый, последний дождь выпал в середине мая, солнце палило нещадно, из раскаленной квартиры тянуло на речку. Книги я забросил, до полудня купался, затем слонялся по кинотеатрам, а вечерами тренькал на гитаре во дворе в компании таких же девятнадцатилетних оболтусов. Словом, жил не скучно и не весело — просто жил, как все.
И вот однажды в прихожей снова пропиликал звонок. Я открыл и увидел взбудораженного соседа.
— Пойдем, поможешь разгрузиться! — выкрикнул он и стремглав помчался вниз по лестнице.
Захлопнув дверь, я, несколько заинтригованный, спустился за ним. Во дворе стоял грузовик, задний борт его был открыт, на дощатом настиле в ряд лежали ящики, которые силился сдвинуть шофер, а Григорий Тимофеевич принимал внизу, с кряхтеньем опуская их на землю. Когда я подошел, дело двинулось быстрее. Грузовик укатил, мы с Григорием Тимофеевичем остались возле штабеля. На обтянутой жестяными лентами упаковке я прочитал: «Катамаран спортивно–туристический. Артикул 5347. Цена 650 руб. Производство Ташкентского алюминиево–прокатного завода». Григорий Тимофеевич рассказал, как его отправили в областной центр получать по безналичному расчету спортивную форму для третьеклассников, выделили грузовик. Форму Григорий Тимофеевич быстро получил, а на обратном пути возьми да и загляни в магазин «Турист»; там на стенде стоит этот красавец — как не взять благо и транспорт под рукой.
Признаться, я давно укорял себя за то, что высмеял идею с лодкой. В конце концов, что от меня требовалось? Одно лишь активное содействие, материалы брался раздобыть Тимофеевич; при желании и достатке времени лодку можно было построить за пару месяцев, и если бы я тогда согласился, то сейчас наслаждался бы красотами высокогорных озер — уединенно, с комфортом, а не дышал бы пылью на улицах поселка. Однако это сожаление было мимолетным, поскольку я не сомневался, что сосед разуверился во мне как единомышленнике и новых предложений уже не будет.
— Ты хоть ужинал? — поинтересовался Григорий Тимофеевич.
Я отрицательно мотнул головой; предчувствие подсказало мне, что Григорий Тимофеевич спросил не без умысла. И действительно, он дружелюбно улыбнулся, оголив белые молодые зубы, полное, мясистое его лицо округлилось.
— Не дай бог откажешься закусить со мной! Обижусь!
Когда мы перетащили в сарай все ящики, Тимофеевич продел в дверные ушки замок, повернул ключ, сунул его в карман и затем ласково потрепал мою шевелюру, видимо, весьма довольный покупкой и всем сегодняшним днем, за которым виделись не менее счастливые отпускные деньки.
— Путешествуйте по воде — это продлевает жизнь! — бесшабашно и весело объявил он.
Жильцы, однако, не откликнулись, укладывались спать, в окнах призрачно голубели экраны телевизоров. Темное небо в сыпучих звездах. Тихо.
Приняв душ, переодевшись, я заглянул к соседу на посиделки. В комнате тускло светилось бра, стол накрывали множество фаянсовых тарелочек с мелко наструганными маринованными огурчиками, соленьями, квашениями, вареным, горячо дымящимся картофелем, сырыми овощными салатами — все вегетарианское, как и любил Григорий Тимофеевич. На краю блестели этикетками бутылки «Пльзеньского». Приятно пораженный, я полюбопытствовал, присаживаясь:
— В честь какого праздника намечается пиршество?
— Ну, во–первых, порядок требует обмыть покупку, — пояснил хозяин, — а во–вторых, надо отметить факт нашего с тобой примирения.
— А разве мы рассорились?
— Не знаю, как ты, а я с тобой не ссорился, — сказал сосед и, высоко подняв откупоренную бутылку, тонкой брызчатой струей наполнил бокалы: — За нас, Серега! За исполнение наших мечтаний!
— Дай бог вам здоровья, Григорий Тимофеевич! — сказал я, пригубливая густую пену.
Откушав с каждой тарелочки, я с похвалой отозвался о соленых груздях.
— Матушка прислала, — поведал Тимофеевич. — Она у меня умелица по этой части.
Он предложил еще тост и, когда мы опустошили бокалы, обмакнув салфеткой губы, пристально посмотрел на меня:
— У тебя какие планы на лето, Серега?
— Да никаких! — в сердцах сказал я.
— Так уж и никаких?
— Ну разве что порыбалить…
— Вот и отлично, — вдруг обрадовался мой собеседник, — будем вместе рыбачить. Я, знаешь ли, в горы собираюсь, значит, и тебя возьму; само собой, катамаран тоже прихватим, а то как же рыбку–то ловить? — Тут он добродушно улыбнулся, очевидно, не сомневаясь в моем согласии, и прибавил по–отцовски заботливо: — Ты кушай, кушай… Каково оно, без материнского глазу? Сиротка ты наш.
Я был готов отправиться хоть к черту на кулички, лишь бы подальше от поселка, подальше от наскучившего однообразия провинциальной жизни. К слову сказать, пару дней назад я всерьез подумывал насчет того, чтобы все–таки махнуть в Мурманск к Петру Ивановичу. Предложение соседа избавляло меня от затрат, связанных со столь дальней поездкой и обещало гораздо более привлекательный отдых. Появлялась возможность повидать высокогорье, где я ни разу не удосужился бывать, — а места эти нехоженые, привлекательно дикие, в противоположность долинным впадинам, где шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на какого–нибудь глупо моргающего туриста. В предгорьях Карачаево–Черкесии вообще много озер, и все они по–своему примечательны, в чем я убедился давно; высокогорные же оставались для меня чарующей загадкой.
— В понедельник ухожу в отпуск, — сообщил Тимофеевич, — так что лодку начнем собирать в выходные. Управимся за пару дней, как думаешь?
Я кивнул.
— Присмотри снасти, одежду, консервы — не откладывай в долгий ящик. Может быть, на следующей неделе, как опробуем лодку, и отправимся.
Итак, мои планы определились. Месяц в горах, на зеркальной водной глади, в стороне вздымаются голубые вершины — что ж, это великолепно! В субботу мы с Григорием Тимофеевичем вынесли ящики во двор и за несколько часов собрали катамаран согласно инструкции, обнаруженной в одной из упаковок. Сделать это оказалось совсем не сложно, поскольку конструкция была крупноблочной, простой, на винтовых креплениях, и мы обошлись без посторонней помощи.
Суденышко стояло на земле — обыкновенное двухкорпусное плавучее устройство с брезентовыми кабинами, с парусом, мачтой и рулевым веслом. Корпуса были окрашены, и на бортах огненно горели полосы ватерлинии. Безусловно, наше сооружение привлекло внимание — один за другими подходили жильцы, трогали борта, давали советы, спорили между собой, кто–то с видом знатока постукивал ногтем по металлу — словом, надоели хуже горькой редьки. Какова же была наша радость, когда мы наконец перевезли судно к речной заводи. Укрывшись за посадкой карагачей, мы спустили катамаран на воду и быстро убедились в его великолепной устойчивости. Оставалось, прикрепив флажок–вымпел, установить мачту, блок аварийной плавучести, рулевое весло, затем подвесить парус — и судно к плаванию готово! Григорий Тимофеевич по–мальчишески возликовал:
— Ура! Виват доблестным мореходам всех времен и народов!
Я тоже был доволен: полдня работы, и новехонький катамаран играючи заскользил по воде — нет проблем! Мы победоносно совершили несколько кругов по заводи и затем тщательнейшим образом осмотрели судно, после чего Тимофеевич распорядился туже затянуть болты, крепившие фермы к корпусам. Я быстро обучился управлению нашим простеньким парусом; Григорий Тимофеевич восседал на откидном стульчике у кормы, уверенно поводя комлем рулевого весла, и мы, по–детски ликуя, кружили на воде. И вот, когда солнце только–только перевалило через свою высшую отметку, на берегу, под карагачами возник этот тип. Долговязый, узкоплечий, он был в белом праздничном, но раздутом мешком костюме, причем брюки до срамоты заметно обвисали на заду, в темно–синем, старомодном, с желтой искрой галстуке и черных траурных туфлях. Выглядел он настолько скорбно, что пробуждал подозрение, будто по дороге сюда потерял десять рублей. И эта пребывавшая в миноре, остри–бобриком жердь с необъяснимым упорством взирала с берега на нас.
— Чего надо этой размазне? — не сдержал вполне понятное раздражение Григорий Тимофеевич.
Между тем жердь, отмахивая внушительные шаги, стала сопровождать нас по берегу, не гася страдальческий взор. Это докучливое, безмолвное, унылое преследование в конце концов вывело Григория Тимофеевича из себя.
— Дружище, мы тебе что–нибудь задолжали? — громко вопросил он, привстав.
— Нет, — слабо донеслось с берега, и невыразимая печаль соткалась в этом звуке.
— Ну тогда проваливай, кончай глаза мозолить!
Длинный послушно повернулся и направился к пустырю; вскоре белый костюм слился с ослепительным отблеском кварцевого песка, а черные туфли, уменьшившиеся с расстоянием до двух малозаметных точек, можно было принять за гонимые ветром жестянки из–под консервов. Мы же тем временем вытащили катамаран на отлогую полоску земли, и я, ощущая призывные спазмы в желудке, помчался в магазин, где раздобыл четыре бутылки минералки, восемь плавленых сырков и большую сдобу. Едва мы, жадно опустошив по бутылке, утолили жажду, вдали вновь замаячили удлиненные очертания Рыцаря Печального Образа. Мы решили не обращать на него внимания, расстелили газету, уселись друг против друга и принялись смачно закусывать аппетитными прохладными сырками. Когда же длинный приблизился, я, не сдержав любопытства, искоса бросил взгляд — с плеча у него свисала на тонком ремне кожаная сумка, и смотрел он на нас уже не жалобно, будто грешник перед вратами ада, а с неутомимой мольбой.
— Приятного аппетита, — выговорил он столь мрачно, что я поперхнулся.
Наступила пауза, на всем протяжении которой Григорий Тимофеевич похлопывал ладонью по моей согбенной спине. Наконец, отдышавшись, вытерев слезы, я с прежним усилием заработал челюстями.
— Тяпкин–Ляпкин моя фамилия, — сообщил после перерыва длинный. — Состою фотографом при районной газете. Разрешите… — и он начал расстегивать застежку на сумке.
— Не разрешаем, — сказал Григорий Тимофеевич.
— Вы кушайте, кушайте, — заволновался репортер. — Я только узнать принципиальное согласие.
— А с какой целью будет производиться фотографирование?
— В целях дальнейшей пропаганды туризма в районе.
— Ладно, — сказал удовлетворенный ответом Григорий Тимофеевич, — погоди немножко.
Фотограф присел на пригорок, не заботясь о чистоте брюк, смиренно сложил руки на коленях. Я стряхнул крошево с газеты и пошагал к Григорию Тимофеевичу, который, согнувшись в известной позе, тужился, пытаясь столкнуть катамаран в воду. Вдвоем это удалось быстрее. Чуть только катамаран заскользил, я вскочил на фермы, ухватил шест и начал отталкиваться им ото дна, Тимофеевич, между тем, выруливал, устанавливая лодку против солнца. Причем делал он это тщательным образом, вероятно, беспокоясь о качестве будущего снимка.
— Ты, случаем, не доводишься родственником популярному литературному герою? — пошутил мой сосед.
— Не имею чести, — сумрачно ответил Тяпкин–Ляпкин, по всей очевидности, не смирившийся с тем, что ему всю жизнь придется страдать от этого вопроса.
— А как зовут–то тебя? — примиренческим тоном произнес Григорий Тимофеевич.
— Виктор.
— Ну вот и хорошо, Витя, теперь можешь вынимать свою бандуру.
Фотограф, упершись коленом в песок и закрыв лицо громадным импортным аппаратом с длинным, как ствол артиллерийского орудия, объективом, несколько раз нажал на кнопку согнутым пальцем. Затем мы развернули лодку бортом к солнцу и в таком положении зафиксировались еще раз. Посветлевший лицом корреспондент поблагодарил нас и двинулся восвояси.
Солнце помаленьку скатывалось к горизонту. Вечерело. Мы с Григорием Тимофеевичем кружили по заводи до самой темноты; когда же контуры берега стали едва различимыми над водой, вытащили катамаран на сухое место рядом с другими лодками, свернули парус и пошагали к поселку. Григорий Тимофеевич, неся на плече мачту, мурлыкал под нос какую–то песенку, я же был радостно возбужден, хотелось подпрыгивать и махать руками.
С того дня я возненавидел свою чистенькую, заново окрашенную и оклеенную квартиру. Невыносимо раздражали крикливо пестрые дефицитные рекламные проспекты на стенах прихожей, окна, казалось, уменьшились, рамы усохли, стекла подтаяли и теперь пропускали свет по капле, потолки сделались вдруг низкими, давили сверху. Я мечтал отныне лишь об одном: о лазурном озере высоко в горах, окруженном заснеженными вершинами. С внезапной страстью мне захотелось видеть его, и ежечасно я укорял себя за то, что ответил высокомерным отказом на первое предложение Григория Тимофеевича — благороднейшего, добрейшего, интереснейшего человека. Спал я плохо, чутко, а проснувшись, на ходу выпив стакан чая, в нетерпении нажимал кнопку звонка соседней квартиры.
В один из дней, когда мы заканчивали последние приготовления на воде, вновь под карагачами появился долговязый фоторепортер. На этот раз он был без грозного орудия труда, но со свернутой в рулон бумагой в руке.
— Здравствуйте, — сказал Виктор, нерешительно приблизившись.
— Доброго здоровья, — ответил Тимофеевич.
— Вот… принес, — и фотограф подал ему бумажную скатку.
Григорий Тимофеевич развернул газету, и я, перегнувшись через его плечо, увидел посередине страницы прямоугольный оттиск, запечатлевший добродушную улыбку на широкоскулом лице соседа, мою растерянную физиономию на фоне паруса и карагачи вдоль берега. Строка под снимком лаконически извещала: «Туристы–краеведы Г. Т. Желудев и С. А. Кучкин собираются в поход».
— Молодец! Работаешь на европейском уровне, — резюмировал свои впечатления Григорий Тимофеевич, и Виктор зарделся от похвалы.
На следующее утро мы опять повстречали фотографа на берегу. В его руках был «Никон», объектом энергичной съемки служили чайки, неугомонные и крикливые, запрудившие пространство над заводью. Мы испытывали к Виктору искреннюю благодарность, когда он, возникнув из птичьего бело–облачного метущегося вихря, с отчаянными возгласами мчался по берегу, распугивая чаек, и фотоаппарат с длинным объективом болтался на его груди. Птиц было невообразимо много, то ли каприз инстинкта, то ли иные природные силы — например, движение рыбы — заставили их в этот ранний час сгрудиться над заводью, и они не давали нам роздыха. Их было, как снег, много. Беспрестанно сновали птицы над парусом, едва ли не задевая снасти, и мы затыкали пальцами уши, когда гвалт становился невыносимым… Тем не менее дело продвигалось. Суденышко безукоризненно прошло все испытания, а прочность креплений и узлов вызывала восхищение. Фантазией Григория Тимофеевича парус был упрощен до неимоверной степени — этакое пластиковое полотно, скатывающееся при необходимости в рулон в течение пяти секунд, примитивный движитель, управлять которым сумел бы и ребенок. Все были довольны, и в большей мере Виктор, подрядившийся к нам фотографом. Он так и сказал:
— Возьмите меня, пожалуйста, фотографом.
— Мы подумаем, — промолвил Григорий Тимофеевич, вероятно, давно спрашивавший себя, с чего это репортер зачастил к нам на берег.
Я был категорически против. Два корпуса, две кабины, два человека создавали симметричную гармонию, которую неизбежно разрушало появление третьего. Кроме того, у меня возникло обоснованное опасение, что в случае зачисления Виктора в члены экипажа потесниться в кабине придется именно мне, чему я, рассчитывавший, как всякий нормальный человек, на минимум комфорта, мечтавший о непринужденном, без помех, созерцании горных красот, безусловно, не возрадовался бы.
— Он же ничего не умеет делать! — в сердцах говорил я Григорию Тимофеевичу.
— Что касается обслуживания судна, то с этим мы вполне управимся вдвоем, — огорчительно для меня рассуждал рулевой. — Как же мы раньше не подумали — что останется для истории? Представляешь, через год–два будет здорово собраться всем в затемненной комнатушке и под стрекот кинопроектора вспомнить славные отпускные деньки! Ну чего ты насупился, Серега? Фотограф он хороший, давай возьмем его!
— Григорий Тимофеевич! — взмолился я. — Одному негде повернуться в кабине!
— Баста! — сказал рулевой. — Капитану не возражают!
Так он впервые назвал себя капитаном, неожиданно определив границу между собой и мной, и новые, доселе незнаемые, жесткие нотки обрел его голос.
Однажды, придя на рассвете к заводи, мы застали Виктора спящим в лодке — щека на полусогнутом локте, ноги в холщовом мешке. Признаться, я не совсем понимал, какая причина побудила Виктора присоединиться к нам. Когда я спросил его об этом, он растерялся, пробормотал неразборчиво вроде того, что все надоело, и сокрушенно махнул рукой. И хотя проку в работе от него не было никакого, приходилось признать — фотограф являл образец дисциплинированности и служения общей цели. Виктор приходил на берег гораздо раньше нас, а бывало, вовсе оставался на ночь сторожить катамаран. Логическим итогом его ночных бдений явилось то, что на берег пожаловала невысокая, довольно смазливая девушка с обесцвеченной, согласно последним веяниям моды, челкой, в белой тенниске и в джинсах. Она, как пояснил Виктор, доводилась ему женой. В точности как совсем недавно ее муженек, она поглядела на нас с мольбой и затем села на песок, приняв смиренную позу. К моменту прихода девушки мы регулировали натяжение шкотов, и только освободившись через десяток минут, смогли долженствующим образом почтить супругу одного из нас. Капитан, развернув катамаран, учтиво поинтересовался:
— Не желаете ли прокатиться, мадам?
— Я еще не выжила из ума! — с внезапным раздражением отрезала девица.
После такого ее ответа Григорий Тимофеевич слегка опешил, однако сумел восстановить на лице прежнее галантное выражение:
— Если вас стесняет общество двух закадычных мариманов, — тут он положил руку мне на плечо, — то, ради бога, мы готовы уступить лодку вашей семье хоть до вечера. Катайтесь на здоровье!
— Верните моего мужа! — агрессивно сжала кулаки девица, встав с песка.
Ее требование пролило свет на ситуацию в семье нашего товарища, к слову сказать, на всем протяжении разговора настойчиво искавшего что–то в кабине.
— Обещаю, что через три недели Виктор будет возвращен вам в целости и сохранности, — улыбнулся Тимофеевич.
— Вы думаете, он этого желает? — горько оскалилась юная супруга и, повернувшись, уже уходя, прибавила: — Сволочи! Чтоб вам провалиться всем на этом месте!
— Будет исполнено, Танюшка! — вдруг раздался вдогонку веселый возглас.
Я с изумлением увидел Виктора, в одежде, с зажмуренными глазами ступавшего с кормы в воду.
Бултых! Сноп брызг, и через мгновенье наверху показывается бесконечно счастливое лицо репортера. Приняв Виктора на борт, лодка причалила к берегу. Спрыгнув, журналист сказал проникновенно:
— Братцы родненькие, спасибо, что вступились за меня, не бросили этой змее на погибель! — Он приложил руки к груди и низко поклонился. — Когда она заявилась, я уж решил: труба дело, крышка мне… Сейчас сбегаю — одна нога здесь, другая там, с меня причитается, но сам я, братцы, ни–ни–ни! Ни единой граммульки!
— Лучше потрудись объяснить, что происходит в твоей семье? — потребовал капитан.
— Ах, банальная до скуки история! — горестно махнул рукой фотожурналист. — Как–нибудь в другой раз.
— Вот уж нет — нынче за обедом и расскажешь. Мы ведь тоже теперь семья и, стало быть, небезразличны друг другу.
Когда откушали состряпанный на скорую руку обед, Григорий Тимофеевич вынул из воды две бутылки минералки, ополоснув их, смыл этикетки, одну бутылку протянул мне, другую оставил себе, и, усевшись в тени акаций, мы приготовились слушать Виктора.
История его семейной жизни вкратце такова. Виктор и Таня учились в одной школе, встречались вечерами, целовались и, разумеется, не думали не гадали, чем это в конце концов закончится. Она относилась к нему трезво, ценила его привязанность, но не более. Получив аттестат, Виктор помчался в Москву поступать на режиссерский, на экзаменах провалился, как говорится, с треском и вернулся домой. Она же благоразумно повременила с поступлением, чтобы подготовиться основательно и уж затем испытать судьбу. Отец, занимавший значительный профсоюзный пост, устроил ее к себе в контору, нашел квалифицированных репетиторов, но Танюша, вместо того чтобы обложиться учебниками, возьми да и влюбись в сорокалетнего разведенного специалиста по переработке вторичного сырья. Роман этот завершился тем, что к технологу, которому давно осточертели мытье полов, супы–концентраты и наивные в своей доверчивости девичьи глазки, возвратилась жена с ребенком, и Таня оказалась забытой. И вот тогда наконец она взялась за учебу, пытаясь притупить боль оскорбленного чувства, перестала отвечать на телефонные звонки, отказывалась от встреч с одноклассниками, подругами, знакомыми, почти не выходила на улицу. В это время Виктор послал ей несколько оставшихся без ответа писем. Летом она поехала в столицу и поступила, а ее будущий супруг вновь провалился и с той поры оставил мечты о режиссерской карьере. Их пути–дорожки снова сошлись только через два года, когда Таня, внезапно бросив учебу, вернулась под родительский кров, известив о своем полнейшем нежелании не только постигать основы товароведения, но и вообще обрести какую–нибудь профессию. Легкомысленные устремления объяснялись не столько усталостью от столичной бурной студенческой жизни, сколько переменчивостью ее избалованной натуры, в один день воспылавшей страстью к размеренному провинциальному существованию и семейному очагу до самоотречения. Для утоления этого душевного порыва был необходим муж, и он не замедлил появиться. Он работал грузчиком на хлебозаводе, безропотно подчинившийся судьбе, загружал автофургоны батонами и сдобой, не решаясь заглянуть в завтрашний день, — сознание собственной никчемности давило его. Уступая домогательствам, он вскоре запил, погружаясь в пучину отчаяния, из которой уже не видел возможности выбраться. Трудно сказать, чем закончилась бы драма несостоявшегося режиссера театра, не случись эта встреча. С полной авоськой опорожненных, печально позвякивавших бутылок, он брел с опущенной головой к пункту приема стеклотары, как вдруг из–под кроны тополя, что возле автобусной остановки, исполненный сострадания и нежности к нему устремился взгляд божественно прекрасных глаз, в которых ко всему ясно читались томительные помыслы о безмятежной семейной пристани. Этот взгляд был материален, незримой ладонью уперся ему в грудь, и тогда он в недоумении остановился и поднял голову… «Как, ты не в Москве?» — богиня выпорхнула из–под навеса тополиных, листьев. «Представь себе», — скорбно промолвил однокашник. «А я думала…» — сказала она и замолчала. «Ты–то что здесь делаешь?» — спросил он больше для того, чтобы что–то сказать. Могильная пустота была в его взоре. «Дома сижу, — ответила она и прибавила после паузы: — Скучаю». — «А я работаю на хлебозаводе», — рассеянно пробормотал он, подумывая о том, как закончить этот неловкий разговор. Она уже догадалась, что творилось в его душе, по–женски чутко приняла его боль, которой сопутствовал исходивший от него специфический запах, и с мгновенной готовностью кинулась спасать его, беспомощно простиравшего руки в пелене пьяного отупения. Спасение это поначалу выражалось в телефонных звонках, настигавших его и на работе, и дома, после приняло более активные формы, и он, смущенный, не ожидавший столь настойчивого к себе интереса, уже не отказывался сходить вдвоем в кино или погожим вечером пройтись по берегу реки. Собственно, тогда и завязалось по–настоящему их знакомство. Первое время инициатива во всем, безусловно, принадлежала Танюше, поскольку он находился на такой стадии нравственного опустошения, подавленности и равнодушия, что не был способен ни на какие мало–мальски энергичные деяния. Душеспасение Виктора окончательно материализовалось четыре года назад в загсе, куда он ступил уверенно и сознательно, ведя под руку сердобольную невесту, и где после получения документов, в торжественной обстановке, под аплодисменты свиты родственников, довольно бодро выпил последний, как он считал, бокал шампанского, и вообще спиртного, в своей жизни.
У большинства семейная жизнь протекает на первых порах более–менее ровно, даже не без удовольствия для супругов, у Виктора же эта новая полоса существования началась печально — на третьи сутки после свадьбы при перевозке в дом тестя, где намеревались проживать новобрачные, подаренной родителями жениха мебели, ему на ногу завалился шифоньер, и наш товарищ медовый месяц провел в больнице, залечивая открытый перелом берцовой кости. Расстроенная донельзя Танюша едва ли не каждый день приносила в полиэтиленовых пакетах фруктовые передачи, шоколад, бутерброды с копченостями, бойкими монологами старалась подбодрить мужа, который, на первый взгляд, в этом совершенно не нуждался: лицо румяное, взор оптимистичен. Но она опять своим вековечным женским чутьем безошибочно определила помутнение у него на душе, фальшь его улыбки, а вот с причиной ошиблась — думала, он угнетен из–за треклятого перелома, из–за невозможности провести время с ней в ночной ласкающей тиши уединенной комнаты. В действительности все было сложнее. «Понимаете, братцы, когда я очутился в больнице, я понял вдруг, что такое несвобода. За тобой ухаживают, кормят чуть ли не из ложечки, — а хочется утикнуть. Правда, сначала мне нравилось (я впервые лежал в больнице): тишина, покой, никто голову не дурит; хочешь — читай, есть желание — перекинься в картишки. Но скоро, братцы, как мне все это осточертело! Я завидовал воробьям, которые паслись на карнизах. Никого не хотел видеть, и ее тоже. Злоба какая–то появилась, ненависть ко всему, в пору было с ума сходить — вот что значит, братцы, несвобода… И вот тогда–то я понял, как капитально вляпался. Долдон ваш Витя, други мои: нельзя было мне жениться, у меня в голове ветер тогда был, да и сейчас, пожалуй… Ну, выписался — час от часу не легче, папочку ее сановного, дражайшего Льва Максимовича в атласном распрекрасном халате начал лицезреть, беседовать вечерами должен был с ним, а точнее сказать, поддакивать, манеры соблюдать, вечно быть благодарным Танюше за мое спасение от пьяного угара, отчитываться: куда пошел, откуда явился, где задержался, руки мыть перед едой — словом, почище больницы стало. Тут я и взвыл окончательно, а куда денешься — дети пошли, да и ладили, в общем, мы с Танюшей, хорошая вроде как у нас семья, чуть ли не примерная; чего, спрашивается, желать, на природу пенять глупо, а взвыть все равно хочется. Так–то, соратники. И тесть, положа руку на сердце, мужик дельный, работенку эту в газете мне подыскал, встал я на ноги, определенность какая–то появилась, а все одно, когда все спят, ночью выйду на кухню, задымлю в стекло — злой, как голодный зверь… Рано, братцы, я женился, так–то».
Должно быть, не стоило брать рассказ Виктора в кавычки, поскольку я излагал его по памяти, опуская эмоции и жесты, излагал суть, но, хочется надеяться, все же возникло у нас некоторое представление о характере нашего товарища, обрисовались отдельные его черты, главнейшей из которых, без сомнения, была переменчивость. Это и подметил Григорий Тимофеевич: «Ишь, Витек, какая ты у нас капризуля! Уйдем в поход, так ты, чего доброго, через денек–другой о даме возмечтаешь, о семье, нас бросишь». Виктор на это ничего не ответил, но посмотрел осуждающе.
Итак, в конце недели мы собирались отправиться. Возвращаясь в квартиру вечерами, я долго не мог уснуть, бесцельно слонялся по комнатам, ворошил журнальные подшивки, пил чай на кухне, слушал музыку — незабвенный «Пинк Флойд», — курил, лежа на тахте и кольцами пуская дым в потолок. Главное, думал я, перед отбытием не забыть отдать ключи Майе Иосифовне, соседке с третьего этажа, которая любезно согласилась поливать цветы в мое отсутствие. Что еще? Собаки у меня не было, кошки, слава богу, тоже — стало быть, разморозить и отключить холодильник, вот вроде и все. Я долго слушал музыку, смежив веки, ощущая подступающую дремоту, и в какой–то момент резко и испуганно подскакивал на столе будильник, наполняя комнату отчаянным звоном, под порывом свежего утреннего ветра распахивалась стеклянная балконная Дверь, я зябко кутался в тонкое одеяло, ворочался с боку на бок, потом откидывал одеяло, отыскивал на ощупь босыми ступнями шлепанцы и вставал, видел в зеркале свои непроспанные глаза, а в окне — занимающуюся полоску зари…
Заканчивались последние приготовления к отплытию. Единственное, о чем оставалось подумать серьезно, — где держать съемочную аппаратуру, чтобы она не отсырела. Нам не было нужды брать с собой портативную радиостанцию, спасательный плотик, ящик с сигнальными ракетами, маленький радиопеленгатор, секстант с таблицами и кипу карт — не океанские просторы, в самом деле, мы намеревались бороздить. Туристская экипировка, палатка, спальные мешки, рыболовные принадлежности, котелок, таганок, контейнер для хранения воды, жестяной лист для костра, банки с мясом, рыбой и бобами, сушеные супы в пакетах, сухофрукты и плиточный шоколад, хлеб, завернутый в полиэтилен, — вот, собственно, и все, что нам требовалось.
Чем ближе становился день отправления, тем большее возбуждение охватывало нас. Оба корпуса мы заново окрасили приметным ярко–желтым колером и теперь с жаром спорили, как назвать судно. «Паллада» — претенциозно, «Горный скиталец» — романтически–таинственно, но не современно, «Товарищ» — хорошо, однако предстояло убедиться, что катамаран действительно будет нам добрым товарищем. «Надо поразмыслить, для чего, для какой истинной цели нам понадобилось судно», — сказал Виктор. «Как для чего? — простодушно удивился я. — Мы ведь отдыхать собрались. Чего тут думать–то». — «Отдых — цель поверхностная, — заявил репортер. — Истинная причина приобретения судна кроется в ответе — от чего мы намереваемся отдохнуть?» — «Да ты у нас, оказывается, философ», — едва заметным движением губ обозначил улыбку Григорий Тимофеевич. «Я так понимаю, — продолжал Виктор, — что наш поход, если разобраться, вовсе не поход, а самое обыкновенное бегство. Лично я, признаюсь, убегаю от семьи. Какие у вас причины, не знаю, но уверен, что таковые наверняка имеются». — «Занятная теория, — иронично отозвался кэп. — И какой же у меня повод для этого, как ты называешь, бегства?» — «Вы, Григорий Тимофеевич, должны лучше знать. Разве у вас нет проблем, от которых вы желали хотя бы на месяц отстраниться?» — «Хм–м… У кого их нет? Дело–то не в этом». — «Может, вы от одиночества убегаете?» — развивал мысль репортер. «Черт бы тебя побрал! — возмутился Тимофеевич. — Философ! Тебя бы на мое место — провести пару уроков с четвертым «Б». Узнал бы, каково оно, одиночество физрука!» — «Ну, я определенно не утверждаю…» — «Иди ты в баню!» — разгорячился учитель физкультуры. «Григорий Тимофеевич! — подал я голос, чтобы как–то отвлечь капитана. — Как же все–таки назовем катамаран?» — «Да как хотите, так и называйте!» — в сердцах махнул он рукой и сел на песок, повернул голову в сторону, чтобы не смотреть на нас. «Неженка наш кэп, — шепнул мне Виктор. — Не любит, когда в душу ему заглядывают». — «Обиделся», — с уверенностью определил я.
Мы спустились по откосу вниз, где на песке, в нескольких метрах выше кромки воды, лежал катамаран. Ни слова не говоря Виктор откупорил бутыль с белой масляной краской, обмакнул в нее кисть и тщательно, от волнения затаив дыхание, вывел на борту свежо заблестевшую букву «Б», затем рядом пририсовал «Е» и «Г». «Бег?» — вымолвил я, теряясь в догадках. Виктор ничего не ответил, только улыбнулся таинственно, и после недолгой паузы добавил, уже сноровисто, буквы «Л», «Е», «Ц», потом встал с колена, отошел, чтобы увидеть работу целиком. «Беглец»? Да, «Беглец», — повторил репортер без сомнения. Когда он перешел к другому борту, держа в руке бутыль с краской, послышался иронический голос Григория Тимофеевича:
— Милостивая государыня, заберите своего супруга, не то он всю лодку вымажет.
На откосе я увидел Танюшу — в белой безрукавке со старомодным остроконечным воротником, в темно–коричневой, как жженая пробка, юбке. Годовалый ребенок, которого она держала у груди, крохотной ручонкой теребил косо остриженную челку матери, а голоногая трехлетняя девочка в простеньком платьице в ромашках, сунув палец в рот, настороженно смотрела на нас.
— За ним я и пришла, — сказала Танюша и поцеловала малютку в пухлую щечку.
— К чему это представление? — сурово обратился Виктор к супруге. — Детей могла с собой и не брать.
— А кто с ними дома будет?! Бросил всех, убежал — торчишь тут целыми днями!
— Вопрос решен, Таня.
— Трус несчастный! Забыл, как под заборами валялся?! — с яростью выкрикнула супруга.
Виктор решительно и невозмутимо шагнул к ней, взял ее за локоть, но она вырвалась и отступила, глядя с ненавистью. Малютка заплакал.
— Перестань, пожалуйста. К чему этот спектакль? — попытался успокоить жену Виктор.
Неожиданно ее раздражение выплеснулось на нас.
— А вы! Вы оба! — повторила она с презрением. — Ротозеи, чего уставились?! Охота поглядеть, бабы базарные? Да — муж с женой лаются! Это вы во всем виноваты! Вы — два индюка: старый и молодой!
— Я же сказал — забирайте своего мужа, — бесстрастно отозвался Тимофеевич.
— Думаете, он пойдет?! — взбеленилась Танюша. — Вы же ему голову задурили, он теперь жить не может без вашего окаянного озера!
— Виктор, слава богу, вышел из подросткового возраста, и уже давно в состоянии сам решать, как ему поступать. А то, что ему с вами несладко, так это несомненный факт. Умная и воспитанная супруга, если она, конечно, любит своего мужа, видя, что он устал, не перечила бы его желанию провести отпуск вне семьи.
— Умная и воспитанная!.. А я — разве не человек?! Может, я тоже хочу отдохнуть?!
— Поговорите с мужем — вернувшись из похода, он, видимо, предоставит вам такую возможность.
Надо заметить, что Григорий Тимофеевич справился с ролью адвоката — пыл Танюши заметно угас или, может быть, она поняла, что своего не добьется. Вполне возможно, что в эту минуту она втайне пожалела о навязанной себе самой затее с мужем и детьми. «Делай что хочешь, я всегда буду тебя ждать», — такой фразы от нее было бессмысленно дожидаться. Деспотический нрав слепо и безудержно толкал ее на преследование всякого, кто противился ее воле. Было ясно, что Танюша никогда не простит супругу его выходку, как было несомненно и то, что Виктор в раздражении не просто вышел из повиновения, но его поступок есть обдуманная позиция, вполне вероятно, итог многолетних душевных борений, и он считает его закономерным и справедливым.
Таня уходила, унося ребенка, склонившего головку на плечо матери. Трехлетняя девочка волочилась позади — до этого она долго, насупившись, глядела на отца, видимо, тоже недовольная им.
Мы с капитаном чувствовали себя неловко, оказавшись невольными свидетелями и даже участниками семейного конфликта; чтобы избавиться от неприятного осадка на душе, Григорий Тимофеевич лихорадочно занялся делами, а мне велел настругать и очистить шлифовальной шкуркой четыре десятка реек для палубных настилов. Вскоре настилы были сколочены. Амба. Собираемся домой.
На следующий день мы произвели генеральную инспекцию судна и с удовлетворением заключили, что оно вполне снаряжено к плаванию. Отправка была назначена на час ночи.
— Приказываю всем хорошенько выспаться перед дорогой, — распорядился капитан. — Взять с собой теплые вещи, одеяла — у кого нет спального мешка, дождевики, кружки, вилки, — в общем, сами знаете, не маленькие. А ты, — Тимофеевич обратился к Виктору, — не забудь свои причиндалы.
— Они всегда со мной, — фотограф показал на чемоданчик черной кожи в глубине кабины.
— Все! Разойдись по домам! — скомандовал рулевой и тише, для себя, прибавил: — А я схожу договорюсь насчет грузовика.
Я позвал Виктора:
— Пойдем, Витя.
— Ежели я вернусь домой да еще начну при всех собираться, — сказал он задумчиво, — меня, пожалуй, домашние назад уже не отпустят. Милицию вызовут — это совершенно точно.
— Заночуешь у меня — нет вопросов.
— Эк–ка, — вздохнул журналист, — а как же лодка? Ненароком пацанва продырявит, растащат по винтику, — так что лучше я здесь покемарю, спокойней так будет. А ты, Серега, захвати одеяло для меня, сигареты купи — вернемся, рассчитаемся.
— Перестань, — сказал я.
Григория Тимофеевича возле лодки уже не было.
— Ну, до скорой встречи, — я пожал руку Виктора и пошагал к поселку.
Там первым делом я повернул к продовольственному магазину, купил несколько буханок хлеба, килограмм лука, чеснока, пачку лаврового листа, пакетик красного молотого перца и полмешка картошки — все это отнес в сарайчик, где уже лежали два рюкзака с консервами. Затем я заглянул к Майе Иосифовне, чтобы вручить ей связку ключей–дубликатов.
— Уезжаешь, Сержик? — поинтересовалась Майя Иосифовна.
— Уезжаю.
— А родители–то знают?
— Конечно.
— Ну слава богу.
Я попросил соседку не беспокоиться и заверил, что через месяц вернусь цел и невредим. Но Майя Иосифовна вдруг как–то странно поглядела на меня, приоткрыла рот, намереваясь что–то спросить, и тотчас приложила ладонь к губам — побоялась сглазить. Однако немой вопрос читался в ее глазах: «А если не вернешься к концу месяца, что тогда делать?» Я ухмыльнулся, вежливо сказал: «До свиданья, Майя Иосифовна», — и вышел.
«Хм–м, — вспомнил я, подымаясь по лестничному пролету, — фотограф наш остался без обеда». Дома я сделал несколько сэндвичей, наполнил термос горячим чаем и вновь отправился к заводи. Подходя к карагачам, я увидел, что от катамарана отъезжают бордовые «Жигули» с зеркально сияющим бампером. За рулем восседал мужчина в красивых солнцезащитных очках, могущий раздобыть дефицитную автомобильную косметику, — стало быть, человек солидный.
— Тесть наведывался, — пояснил Виктор.
— Закуси, — предложил я, выкладывая на брезент кабины сверток с сэндвичами.
— Спасибо, Серега, — поблагодари Виктор и торопливо развернул бумагу.
— Зачем он приезжал?
— За тем же, — промычал репортер, прожевывая кусок, — уговаривал остаться. А я ему говорю: «Лев Максимович, да я же сугубо профессиональный интерес имею: сделаю пару классных пейзажей, — глядишь, в журнале напечатают, на всю страну прославлюсь». И, представь, убедил — тесть мой жаден до славы, пусть не своей, но здесь он покровительствовал, даже пообещал содействовать в публикации… Слышь, Серега, — понизил голос Виктор, — а тесть мой и Григорий Тимофеевич в одной школе сызмальства учились.
— Эвона!
— …Я, говорит, Гришу как облупленного знаю — прохвост он. Индивидуалист и завистник. С первого класса, говорит, здоровье его собственное больше всего занимало, поэтому и стал спортсменом. Родителей пенсионеров подмял под себя, семейными финансами, то бишь их пенсией, распоряжался самолично, покуда учился в институте. Так–то. Надо бы присмотреться к нашему капитану.
— Ну мало ли, — отозвался я. — Тесть твой, положим, тоже не ангел. В поселке его хорошо знают.
— Да, — произнес Виктор, — тут ты прав. Да я, в общем, так… к сведению, чтобы ты имел в виду.
— Пей чай, — напомнил я.
Виктор отвернул крышку термоса и отхлебнул, потом закурил сигарету и, полуприкрыв глаза, блаженно затянулся дымком.
— Между прочим, мы должны быть благодарны Григорию Тимофеевичу, — заметил я. — Катамаран он купил (на свои, как понимаешь), снаряжение без его участия было бы не достать, да и в целом всю эту кучу–буру нам в жизни без него не разгрести. А ты, Витя, капитана должен благодарить в отдельности.
— Это почему же?
— Потому что я был против твоей кандидатуры, а он настоял.
— Вот оно как.
— Да, но теперь–то я другого мнения о тебе. Виктор улыбнулся и хлопнул меня по плечу, что, видимо, означало: «Ладно, хватит об этом».
— Аппаратуру я всю проверил, — сказал фотограф деловым тоном, — объективы спиртом протер, пленки зарядил. Готовься, приводи в порядок фактуру — будет грандиозная съемка.
— Ну, я не кинозвезда, — вырвалось у меня смущенно.
— А чем ты не звезда? Физиономия у тебя что надо — от баб, небось, отбоя нет?
— Ну их к лешему, этих баб, — сказал я и, чтобы поменять тему разговора, спросил: — Заморил червячка, Витек?
Виктор с удовлетворением похлопал себя по животу:
— Спасибо, брат, — уважил.
— Пойду я. Термос закинь в кабину.
— Посиди еще.
— Не, пойду. Надо выспаться.
— Тогда не буду задерживать, — сказал Виктор. — Пока.
Мы пожали друг другу руки, и я двинулся восвояси. На пригорке я обернулся — Виктор, лежа животом на песке, в упор фотографировал воробышков, слетевшихся на хлебное крошево. «Чудак», — подумал я, и в душе у меня затеплилось.
До отъезда оставалось несколько часов. Впервые за последнее время я не знал, к чему приложить руки, слонялся без дела по квартире. Ощущение законченности прожитого, завершенности отрезка жизни охватило меня, и к этому чувству примешалось томительное волнение, жажда начать путь, приподнять полог неизведанного — что там ждет? Что станется с тобой? Не может же быть там точно так же, как здесь.
Я вышел на балкон покурить. Во дворе бегали собаки, жильцы орошали из шлангов палисадники под окнами, детвора возилась в песочницах, почтальонша разносила вечернюю почту — словом, все как обычно. Разумеется, за исключением моего душевного состояния, о котором, конечно, никто не догадывается, да и сам я не прочь его переменить, малость успокоиться. Я завел будильник и прилег на кушетку, положив локоть под затылок и свесив ноги. Спать, спать, спать…
Вскочил молниеносно, потрясенный неистовым перезвоном под ухом, едва очухавшись, побежал в ванную умываться. Что–то подстегивало меня, хотя я вовсе не опаздывал. Быстро скатал одеяла — для себя и для Виктора, сунул пачку папирос в карман, спички — все ли? Ничего не забыл? Стремглав понесся по лестнице, пробежал двор — темень хоть глаз выколи, — пошагал уже медленнее и вдруг замер: ключи! Надо отдать ключи Майе Иосифовне! Чертыхнувшись, я повернулся и тут вспомнил, что ключи я уже отдал — остолоп! — улыбнулся, представив себя, суматошного, и пошагал к заводи.
Виктор спал в своей излюбленной позе, сунув ноги в мешок. «Подъем, солдат. Трубы трубят», — сказал я. Ночь была такая темная, что мы едва различали очертания берега в нескольких метрах впереди, а далее все поглощал мрак.
«Сколько хоть времени?» — спросил Виктор равнодушным голосом. Я нажал кнопку подсветки своих электронных часов: «Половина первого». — «А в котором часу, он говорил, отправляемся?» — «Без четверти». Услыхав это, Виктор зевнул и протянул со вздохом: «Пару минуток еще поспать бы».
В низине глухо зазвучал двигатель «ЗИЛа», и вскоре два пучка нестерпимо яркого света выхватили стволы карагачей из мрака. «Едет», — сказал Виктор. Грузовик, громыхнув бортами, остановился невдалеке. Кто–то спрыгнул с него и, подойдя, весело поздоровался:
— Здравствуйте, девочки!
Узнав голос капитана, мы, приободрившись, с готовностью откликнулись:
— Здравия желаем!
— Как настроенице?
— Вполне!
— Ну раз так, ребятки, быстренько загружаемся, — Тимофеевич опустил задний борт. — Взялись! И р–р–раз, и два–а–а!
Катамаран поместился на днище кузова, но поднять задний борт не дала выступающая корма. «Как–нибудь докатим», — сказал шофер после осмотра, сплюнул и запрыгнул в кабину. Мы с Виктором устроились на фермах катамарана, капитан сидел рядом с шофером, показывая дорогу. Следующая остановка намечалась во дворе возле сарайчика. Едва грузовик затормозил, я спрыгнул и побежал к сарайчику. «Принимай!» — крикнул я Виктору и начал бросать рюкзаки; не знаю, каково ему было ловить их в темноте, и, кажется, один из рюкзаков едва не сшиб его с ног. «Палатка!» — предупредил я, затем подал удочки и повесил замок на дверь сарайчика. «Все?..» — осведомился Григорий Тимофеевич, приоткрыв дверцу кабины. «Все», — сказал я, вытер ладони о штаны и забрался в кузов. Шофер выжал сцепление, и машина тронулась.
Ну и холодрыга потом нас одолела! Грузовик вынесся на горное шоссе, и тут обдувало со всех сторон; вначале свежесть бодрила и отгоняла сон, но прошло немного времени, и мы с Виктором здорово окоченели, закутались в одеяла, что, впрочем, мало помогло. Б–р–р! Дуборина! Грузовик подскакивал на заплатах асфальта, бешено колотилась задняя доска, скрипели петли бортов. «Рехнулся он? — недовольно подумал я о шофере. — Куда он гонит? Грохнемся в пропасть — и конец путешествию…» Грузовик въезжал все выше и выше в горы. Помаленьку я пообвыкся к холоду и теперь осмеливался даже приподымать голову над верхом кабины, пытаясь разглядеть, что впереди, и видел лишь одну в желтом размытом освещении фар причудливо петляющую полосу выщербленного, латаного–перелатаного дорожного асфальта. Вверху уже синело, а возле луны, угадываемой за облаками, отливало лазоревым. Я вспомнил: сегодня понедельник, в языческие времена считавшийся днем Луны — богини ночи и мрака; хм–м, если считаться с суевериями, следовало бы отложить отъезд на другой, более подходящий день.
Светало все заметней. Воздух промеж гор становился прозрачнее, очищался от ночной черни, которая исходила парком в низинах. Теперь наш грузовик был не одинок на дороге, то одна, то другая машина, посигналив, обгоняла его или проносилась навстречу. А шофер все отчаянней выжимал педаль, убыстряя обороты. Я еще не встречал в горах ни одного нормального, то есть благоразумного, шофера — то ли подстегивает чувство опасности, то ли высота дурит голову: чуть освободилась дорога, жмет на всю катушку.
Через час свернули на гравийку, которая ныряла в ущелье, — и вновь надвинулись сумрак и холод. Я неоднократно задавался вопросом — куда мы едем, то есть я знал, конечно, что наш путь ведет к озеру, но вот к какому именно, в какой стороне гор? В текучке прошедших дней не нашлось минуты расспросить Григория Тимофеевича о предстоящем маршруте. Миновали ущелье, и машина поползла по длинной насыпи; далеко внизу лежали чайные поля, причудливо освещенные лучами встающего солнца. Вскоре показался аул, еще сонный, безмолвный. Грохоча, грузовик покатился по боковой улочке, едва не задевая бортами стены мазанок с торчащими кое–где пучками соломы. За аулом грузовик затормозил. Выбравшись из кабины, Тимофеевич с удовольствием потянулся, бодро повелел: «Выгружай, соколики», — и стал о чем–то говорить с шофером, очевидно, уточняя размер оплаты. Потом до меня донеслась фраза Григория Тимофеевича: «Через три недели, на этом самом месте». Должно быть, эта лужайка за аулом являлась отправной и конечной точкой нашего путешествия. Шофер, видимо, остался доволен полученным авансом, потому что с охотой взялся помочь нам, а когда катамаран стал на землю, сказал, правда, без особого сожаления: «У меня, хлопцы, отпуск в октябре — не то я, может, с вами заодно прокатился бы… Ну покеда, — он пожал каждому руку, взобрался в кабину, завел мотор, потом высунулся наружу: — Счастливенько оставаться!» — и погнал машину назад.
Наступившее утро уже полноправно заявило о себе щебетаньем птиц, сверканьем солнца в бездонной вышине, запахом подсыхающей травы, гортанными криками женщин, выпекавших тугие лепешки. Бренча колокольцами, на склоне появилась небольшая отара. «Проснулись? — улыбнулся капитан, глядя на нас. — Надо поторапливаться, ребята, чтобы своим появлением не тревожить местное население… Взялись! И р–р–раз!» Мы установили катамаран на четырехколесную тележку и покатили. Надо заметить, лодка, груженная рюкзаками, изрядно потяжелела, и приходилось останавливаться на отдых, разминать мышцы через каждые триста метров. Григорий Тимофеевич шел впереди, указывая дорогу. Тропинка, сужаясь, уводила в заросли. Спуск становился круче, и мне, шедшему позади, приходилось ступать на полусогнутых ногах, одновременно приподнимая ферму, чтобы лодка кормой не скребла землю. Пот лился с меня ручьями, и уже не было возможности остановиться, поскольку лодка своей тяжестью увлекала вниз. Ноги и плечи онемели, руки разрывались в суставах, пальцы ослабели; я видел, что и Виктор выбивается из сил. «Уже почти пришли. Еще немного, мальчики, — почти пришли», — повторял Григорий Тимофеевич. Наконец тропка расширилась, уклон стал покатым, и вдруг заросли раздвинулись… Видно, никогда не забыть мне этой картины — божественным предстало озеро! Мы окаменели, зачарованные. Вообразите котловину, наполненную слюдой. Ни единого движения воздуха, зверя, птицы; ни звука, ни жеста, облачко блекнет в выси. Кощунственно шевельнуться. Изумление, граничащее с мистическим благоговением, сковало нас. Даже мелькнула мысль — не разбивать плеском весел эту тишину, эту неподвижность покоя, оставить все и уйти. Но и уйти было невозможно — озеро гипнотически манило, и в дальнейшем, когда спало оцепенение, мы действовали, словно роботы. Установили катамаран в бухточке, подвесили парус, натянули толстый резиновый жгут, к которому с помощью карабина крепился гика–шкот. Жгут–амортизатор должен был существенно смягчать рывки паруса при непроизвольных поворотах через фордевинд или внезапных порывах ветра. Затем мы проверили подвижность руля, равновесно разместили рюкзаки с провизией и походным снаряжением; капитан устроился на откидном стульчике на корме, по взмаху его руки мы с Виктором должны были ударить в весла. «Поехали, ребята», — негромко скомандовал Григорий Тимофеевич, и лодка сдвинулась с места. Отошли от берега на веслах. «Табань! — ни с того ни с сего приказал рулевой. — Будем совет держать. Ветер поверху проходит, над котловиной, а на веслах далеко не уйти — вы, я вижу, изрядно выдохлись. Или еще могем, мариманы?» — «Еще три–четыре мили протянем, — сказал я, — а там видно будет». — «Я так думаю, что чем дальше от берега, тем ветреней, — поделился соображением кэп. — Значит, решили не сдаваться?» — «Не сдаваться!» — с силой повторил Виктор. «Ну, у тебя–то по этой части имеется опыт, — шутливо поддел Тимофеевич. — А теперь — вперед, матросики! Но сперва наденьте спасательные жилеты». — «На кой бес они нам? — жалобно простонал фотограф, взмокший от трудов. — И без того жарит, как в печке». — «Что?! Бунт на корабле?! — с притворным возмущением гаркнул капитан. — Немедля выполнить приказ!» Мы нехотя надели жилеты и взялись за весла. Быстро обнаружилась истинность предположения Григория Тимофеевича — чем более удалялся от нас берег, тем ощутимее становилось движение воздуха, парус упруго наполнялся, на какое–то время облегчая наши страдания, и вновь обвисал. Лодка ушла на милю от бухты, и впереди по курсу становилась отчетливей мелкая рябь. Мы с удвоенной силой приналегли на весла. «Дюжей, мальчики, дюжей!» — доносилось с кормы. Наконец лодка вошла в полосу легкого ветерка, парус изогнулся. Григорий Тимофеевич потравливал гика–шкот и водил румпелем, направляя катамаран в северную, затерянную в дымке часть озера. Когда установился правильный угол лавировки судна, впервые на воде представилась возможность роздыха. Виктор, несмотря на то что выглядел самым измотанным, оживился раньше всех: еще бы — его побег удался! Парусник, рассекая килями тугую холодную воду, уносил его все дальше от жены и детей, от наскучивших хлопот, и сейчас корреспондент радовался, как ребенок, одаренный конфетой. Он откинулся спиной на скатанный брезентовый верх кабины и блаженно жмурился, подставляя лицо солнцу. Защитная армейская рубашка в темных пятнах от пота расстегнута на груди, одна рука согнута под затылком, другая полуопущена в воду, ноги вытянуты во всю длину кабины — поза вольного бродяги. И я, в свой черед, все более проникался безмятежным духом приволья.
Лодка набирала ход, южный берег удалялся. По обеим сторонам от нас громоздились исполинские возвышенности, снизу зеленеющие и, по мере своего вознесения к облакам, черно мертвевшие. Кое–где ослепительно отсвечивала сахарная глазурь снегов. Местами глаз выхватывал грандиозные кручи и обрывы, а по курсу — ровная, будто крышка стола, поверхность озера. Неуловимое движение воздушной толщи толкнуло «Беглеца», и солнце, словно электрическая лампа, ударило откуда–то из вороненой черни воды. Я смотрел на облепленные высохшей пеной кусты у кромки побережья и тут услышал, как тихонько застрекотал электромотор кинокамеры. Виктор то садился на колени, то привставал, меняя ракурс съемки; было заметно, что он отключился от воздействия извне, захваченный происходящим в окошке визира, — в эти минуты Григорий Тимофеевич и я преобразились, ощущение свободы, отразившись на лицах, сделало их похожими на слепки с одного макета — лбы обнажены, волосы отброшены к затылку, на устах полуулыбка… Вмиг позабылись взаимные обиды, иронические уколы, недовольство друг другом — озеро исцеляло. Григорий Тимофеевич перенял кинокамеру из рук фотографа, я сел у руля, Виктор встал возле паруса: отменная композиция! Тимофеевич тщательно зафиксировал нас, потом выключил жужжащий моторчик: «Прибережем пленку».
Почему–то хотелось, чтобы «Беглец» шел быстрее. «Растравливайте до конца!» — крикнул я Григорию Тимофеевичу. Тот удивленно поднял глаза: «Кто здесь капитан? Я или ты, салажка?» Ах, как мне хотелось мчаться, что называется, на всех парусах! Я даже пожалел, что другим прогулочным судам мы предпочли эту сравнительно тяжелую и неповоротливую посудину, впрочем, если вспомнить, выбирать не пришлось. Я закинул в воду лот, чтобы измерить глубину под судном, и дна не обнаружил. «Какая глубина?» — спросил капитан. «Лот с гаком», — сообщил я. «Ого–о!» — протянул Виктор. «Смотрите, ребята, — на воде без баловства!» — посерьезнел капитан. Да, мы не должны были забывать, что отныне находились во власти озера.
Здесь, на просторе, время текло иначе: размеренно и неторопливо, в строгом соответствии солнечному движению на небосклоне. Минуло каких–то три–четыре часа с момента отплытия, но сколь разительно мы переменились. Беру смелость утверждать и о других, поскольку было нетрудно воочию убедиться по какому–то особенному, торжественному выражению лиц в одинаковости довлевших над нами чувств. Прошлое казалось сумятицей бессмысленных поступков, которые если и можно было объяснить, то лишь глупостью или корыстью. Теперь я увидел отсюда, что многое делал невпопад или не так, как следовало бы, а нечто совершенно необходимое вовсе не делал. Я прожил еще мало, опыта житейского не имею, да, собственно, и не знаю, что это такое, но уже запутался; запутался оттого, что живу бездумно, без какой–то определенной главной мысли. Это плохо, конечно. Но откуда ей взяться, этой мысли? Кто–то должен привнести ее в меня извне или она в некий час сама рождается в душе? Я не верю в чудеса, но и в человеческий разум, согласитесь, трудно поверить без оглядки, стоит вспомнить хотя бы новейшую историю. Что же остается? Да ничего. Множество людей обнаруживают смысл в самом факте собственного существования, в констатации своего творения на Земле — может, и впрямь этого достаточно? Кто ответит? А если, в самом деле, правильнее всего, ни о чем не тревожась, плыть по горному озеру в северном направлении — вдруг это и приведет меня к главной мысли?
«О чем призадумался, Серега? — послышался голос рулевого. — Измерь–ка глубину, отвлекись немножко». Конец лота опять не достиг дна. «Хм–м… — насупился кормчий. — Какое–то подводное течение здесь, что ли? Лодку водит. Или я притомился за рулем? Ну–ка садись», — прибавил Григорий Тимофеевич, уступая мне стульчик. Едва я встал, чтобы занять место рулевого, как с ошеломлением почувствовал, что мои шорты съезжают к коленям. Проклятая пуговица! Скорее всего, она оторвалась при посадке. Оставшись в плавках, я сел на стульчик и взялся за румпель. Для управления нашей посудиной не требовалось особого усердия, я начал отвлекаться, вертел головой, и тут румпель со страшной силой увлек меня к правому борту, разворачивая судно чуть ли не против ветра. «Едрена мать!» — возопил капитан. Слава богу, катамаран быстро лег на прежний галс, и мне только и оставалось, что обескураженно пробормотать: «Действительно какое–то подводное течение!» В остальном моя вахта прошла без неожиданностей. Передав управление судном Виктору, я, в плавках, сел на бортовую рею, шорты положил на колени и закусил губами нитку. Тем временем наш капитан закончил просмотр своей тетради и несколько ворчливо заметил, что в данный момент согласно предварительным наметам я должен снимать показания компаса, а не возиться с иглой. Замечание Тимофеевича выглядело бы глупым, не знай я старика как человека сообразительного и остроумного. «Будем считать, он пошутил, — решил я. — А может, и не пошутил. Черт знает, что делает с людьми ответственность… Раскройте секрет вашей тетради», — попросил я капитана. «Нет никакой тайны, — со снисходительной улыбкой отозвался Тимофеевич. — Тут, — он провел пальцем по обложке, — расписан каждый час нашего путешествия — кто и чем должен заниматься до двадцать седьмого августа включительно. Своего рода должностная инструкция. Однако, как вы понимаете, было бы нереальным требовать неукоснительного соблюдения всех пунктов, но в главном будем придерживаться намеченного. В этом залог порядка на судне и успеха предприятия в целом». Честно признаться, я подивился излишнему педантизму нашего капитана — с таким не пропадешь, вот уж в чем не может быть и тени сомнения. «Но это не все, — продолжил объяснение кэп. — Проведем любопытный эксперимент: поручим Сергею вести судовой журнал, а затем сверим его записи с прогнозами в моей тетради — вы убедитесь, что все предсказуемо. Вполне возможно заранее предположить возникновение какой–нибудь неожиданной ситуации и предусмотреть несколько вариантов ее решения. В конкретной обстановке следует выбрать наиболее подходящий. Наверняка кое–кто из вас посчитает меня занудой, школяром и перестраховщиком, — тут Григорий Тимофеевич сделал многозначительную паузу, — но, поверьте, в эту тетрадь вложено много кропотливого труда единственно с целью максимально обезопасить нас от всевозможных случайностей, и, может статься, вы не раз помянете добрым словом мою предусмотрительность». После этих слов Григорий Тимофеевич достал из ящика в глубине кормы толстенную, по виду бухгалтерскую, книгу и принялся делать в ней какие–то пометы. Ветер усиливался, дул с юго–запада, и лодка неслась неудержимо. Вскоре капитан передал в мои руки этот самый бухгалтерский гроссбух, которому, как выяснилось, и предстояло стать судовым журналом, кратенько пояснив, какого рода записи отныне я должен в него вносить, и выразив уверенность в моих литературных способностях. Потом Григорий Тимофеевич согнал Виктора со стульчика, чтобы, насколько верно я понял, не сидеть без дела — капитану не пристало. Судовой фотограф, приняв свою излюбленную позу, вновь безмятежно задремал, выразительно намекая, что устрашающий перечень мероприятий в тетради Григория Тимофеевича, совершенно необходимых для поддержания в рабочем состоянии «Беглеца», вовсе не предназначается для обязательного исполнения. Я почувствовал некоторое восхищение сообразительностью фотографа — как ловко он раскусил все это! Все, что надумал капитан за столом в квартире на втором этаже, с окном, заслоненным от солнца липовой кроной, оказалось чепухой, блефом: мы свободны! Минимум действий, нужных для управления лодкой, есть то, что ограничивает нашу свободу. Мы боялись озера, и оттого Тимофеевич нагородил в своей тетради всякой чепуховины, но теперь нам, преступившим черту, очевидно, что опасения были вызваны неизвестностью… Свободны! Спи, ешь, глазей по сторонам и ни о чем не думай! В некоем эйфорическом экстазе я оттолкнулся ногой от борта… Бр–р! Вода металлически холодна! Сделав сальто под водой, я увидел наверху, в светлой пленке, два быстро удалявшихся днища. Балансируя ногами, выпуская изо рта пузыри, я принял вертикальное положение, вынырнул и устремился вдогонку за «Беглецом». Григорий Тимофеевич приветливо помахал мне рукой, но едва я, тяжело дыша, перевалился через борт в кабину, как был наказан замечанием в судовом журнале. Плевать я хотел на всякие там выговоры! Я был безмерно счастлив, купание взбодрило меня; подхлестываемый внезапно возникшим в душе негодованием, я, вероятно с излишней горячностью, указал Тимофеевичу на его чрезмерную строгость. «Позвольте! — с жаром откликнулся он. — На берегу мы так не договаривались! Руководство невозможно без повиновения! Если уж выбрали меня капитаном, извольте подчиняться!» — «А мы вас не выбирали», — заявил я и вдруг понял, что сказал то, чего не следовало бы говорить, хотя бы то было и правдой… Как бы там ни было, обрисовался первый конфликт. Всего полдня минуло с начала плавания, а между нами уже воцарился разлад, однако было неясно, чьей стороны придерживался Виктор. Фотожурналист как ни в чем не бывало продолжал дремать в своей кабине, солнцезащитный козырек съехал со лба на переносицу, руки привольно скрещены на груди. Неизвестно, сколь долго продолжалось бы молчание, не предложи Виктор: «Может, пообедаем». Он произнес эту фразу безо всякого выражения, не меняя позы, не открывая глаза, но был поразительно психологически точен — вспомнив о еде, я сразу почувствовал волчий голод и, во–вторых, ощутил расположение к Григорию Тимофеевичу, после того как он любезно бросил мне мешок с продуктами. Мы с Виктором немедля основательно подкрепились хлебом с полукопченой колбасой, а затем я сменил капитана у руля.
Солнце перевалило через зенит, но адская жара не спадала. Я надел защитные очки в пол–лица, чтобы ослепительный блеск плавящейся под лучами поверхности озера не резал глаза, и, в легкой панаме, в плавках, восседал на стульчике, подставляя спину освежающему ветерку. И вдруг опять повело в сторону мою руку — я, напротив, тотчас потянул на себя комель рулевого весла, но направить лодку прежним курсом не удавалось. Ко всему внезапно заштилело, и катамаран вовсе перестал слушаться руля. Я правил к центру озера, а лодка плыла к берегу. Никто из нас не предполагал, насколько трудно будет «Беглецу» противостоять течению. Берег приближался. Сейчас нам очень пригодился бы подвесной двигатель, но, спрашивается, кто желает провести отпуск с ревущим сопровождением бензинового мотора? Пришлось браться за весла, что несколько замедлило обратное движение судна, но решило дело. Наконец изрядно взмокший Виктор уронил весло и обессилено провел ладонью по лбу — мы сдались. Отчетливо различались кусты можжевельника на берегу, катамаран неудержимо тянуло к ним. «Но здесь не должно быть никакого течения!» — в раздражении вскричал Григорий Тимофеевич, тыкая пальцем в какую–то карту, которая, судя по всему, прилагалась к его тетради. Что могли мы ответить нашему капитану? Течение, несомненно, было и медленно относило катамаран к берегу, который был уже в сотне метров по правому борту. Под глинистым срезом прибрежного всхолмления выглядывали из воды валуны, и лодку несло прямо на них. «Полный назад!» — первым опомнился капитан. Мы с Виктором ударили в весла с такой яростью, что вода вокруг закипела. Лодка приостановилась — капитан молниеносно вонзил в воду шест. Катамаран двинулся вправо и закружился на месте со стремительностью лопнувшей пружины. Наши отчаянные усилия ни к чему не привели — судно было неуправляемо.
…Толчок! Я едва удержался на сидении. Мель? Вижу: Тимофеевич всем телом налег на шест, губы стиснуты, лицо багровеет, отекает синюшно: еще усилие, еще — и суденышко сдвинулось. Тотчас мы с Виктором заработали веслами — так протащились полкилометра вдоль побережья. И вдруг отпустило: скрытая от взгляда подводная струя понесла катамаран в озеро. Когда волнение улеглось, я внес в судовой журнал подробную запись обо всем происшедшем, особо отметив заслуги капитана. Лодка ходко неслась прежним курсом, и приходилось только удивляться необузданному нраву озера.
Вечерело. Горы теряли очертания. Закат расстилался трехцветным полотнищем, огненно ниспадая в озеро и пронзительно синея в вышине; остальное пространство занимали холодные сумрачные краски вершин. Заканчивались первые сутки плавания. Бросив якорь в укрытом от ветра месте за гигантским, одной своей частью ушедшем в воду, скальным монолитом, мы сошли на берег. Безмерного напряжения сил потребовал этот, показавшийся очень долгим, день.
До наступления темноты надо было разбить бивуак. Тимофеевич отыскал довольно живописную полянку на возвышении, среди берез и елей, и показав, где установить палатку, отправился за сушняком. Вскоре капитан вернулся с охапкой веток и спросил озабоченно, в каком из рюкзаков должны быть таблетки сухого спирта. «Кажется, в этом, — я показал на ярко–оранжевый заплечный мешок с широкими лямками. — Заодно поищите жестяную коробку с крючками». Когда палатка была установлена, я спустился к воде, ниже того места, где стоял катамаран, и забросил донку, почти не веря в успех, но втайне все–таки надеясь разнообразить ужин жареной рыбешкой Было тихо, безветренно. Костер пылал, в котелке, подвешенном над огнем на металлическом тросике между деревьями, дымилась вода. «Вообще–то я вами доволен, ребята, — говорил капитан, ножом очищая картошку. — Главное, чтобы члены экипажа были психологически совместимы, а мы, по–моему, вполне отвечаем этому требованию.
Конечно, еще недостает мореходного опыта, но это, как молвится, дело наживное, — он мелко настругал картофелину, бросил в кипяток и, немного погодя, вывалил туда же консервированную борщовую заправку. — Капитану, наверное, не к лицу признаваться в своей слабости, но честно скажу — растерялся и даже малость струхнул, когда нас понесло на валуны. Не возьму в толк, откуда тут это течение?» Разлив борщ по тарелкам, Тимофеевич не совсем к месту поведал нам бытовавшую среди горцев легенду о каком–то своевольном царьке, в незапамятные времена правившем в здешних местах, которого божество в наказание за гордыню обратило в озеро — озеро слез людей, доведенных его самоуправством до отчаяния. Поверье запрещало юным горянкам купаться в водах озера, а женщинам — стирать белье. «И, представь, не стирают. Ни разу еще не видел, чтоб стирали», — обратился почему–то ко мне Григорий Тимофеевич, несколько взволнованный собственным рассказом. «А вы часто здесь бывали?» — спросил я. «Да как тебе ответить? Не то чтобы часто, но приходилось: была у меня идея тут спорт–базу построить. Ты погляди — красот ища–то какая кругом! Тут совершенно уникальная база может быть — горнолыжники тренируются на снегу в горах, а спустись чуть ниже, и катайся на водных лыжах, сколько душа пожелает… Вот, каюсь, в северной части озера еще не побывал», — прибавил Тимофеевич. «Так мы, выходит, побережье будем обследовать?» — «И обследуем — местечко для базы присмотрим подходящее. Вам какая разница, куда плыть?» — «Сомневаюсь, что вашу идею с базой поддержат», — вступил в разговор Виктор. «А вот выпущу книгу, глядишь, и поддержат», — улыбнулся Тимофеевич. «Какую еще книгу?» — удивился я. Капитан в ответ на мою наивность снисходительно пояснил: «С иллюстрациями… О нашем путешествии или плавании — как пожелаете. Вот только названия еще не придумал». — «А в той вашей тетради, стало быть, сюжет вчерне набросан?» — полюбопытствовал фотограф. «Догадлив ты, парень, — с непонятной иронией отозвался капитан. — Тебя литературная сторона не должна беспокоить, твоя забота — фотографии». — «Вопросы исчерпаны, — сказал Виктор, — пресс–конференция закончена. От имени ее участников поблагодарим Григория Тимофеевича, любезно откликнувшегося на приглашение организаторов». Мы с Виктором дружно зааплодировали, а капитан под аплодисменты вынул из вороха тряпья бутылку водки и поставил ее на клеенку, расстеленную на траве. Журналист с жалостью поглядел на бутылку, видимо, ослабев после перехода не столько физически, сколько морально. «Не горюй, Витек, — утешил его рулевой. — Примешь сто граммов на грудь и мирно спать отправишься». — «Я ж не пью», — простонал репортер. «Не пьет только верблюд в пустыне», — изрек известную истину наш командир. Когда мы утолили борщом голод, Тимофеевич налил каждому по стопочке и предложил тост: «За успех нашего предприятия!» — «За вашу книгу!» — бодро произнес я. Выпили и за то, и за другое. Фотограф быстро осоловел и на подгибающихся ногах перебрался в палатку. Было уже совсем темно, заметно посвежело. Мы с Тимофеевичем опорожнили бутылку, затем капитан затушил костер, а я отправился проверить донку — крючки, конечно, оказались пустыми, уныло болтались на поводках, и в расстроенных чувствах побрел спать.
«Подъем, мужики!» — прокричал командир спозаранку. На Виктора этот жизнеутверждающий призыв не произвел ни малейшего впечатления, отец семейства смачно храпел, запрокинув голову и приоткрыв рот с пожелтевшими от курева зубами. Я же притворился спящим, желая как можно дольше продлить сладкие минуты пребывания в теплом спальнике, и только когда Тимофеевич, ухватившись за низ мешка, стал вытаскивать меня, недовольно пробурчал: «Не трогайте меня, я сам встану». — «А этот чего разлегся?!» — и возмущенный капитан с ожесточением принялся тормошить Виктора за плечи. Наконец тот очнулся и сонным голосом спросил, который час. «Ну ты, батенька, наглец!» — с едва сдерживаемым негодованием произнес Григорий Тимофеевич. — Два наряда все очереди!» Виктор равнодушно отнесся к наказанию и неспеша пошагал к воде умываться. В скором времени палатка была снята, снаряжение погружено на катамаран и, таким образом, можно было продолжать путь. Григорий Тимофеевич — человек отходчивый и уже вовсю улыбается, опершись плечом о мачту, на фоне ослепляющего белизной паруса. Виктор делает несколько снимков, выбирает якорь, и отправляемся.
Погода, так же, как и вчера, стояла изумительная. Невозможно описать ласкающую глаз голубизну небосклона, нежную зелень горных лугов, великолепие привольно раскинувшейся дубовой рощи, цветочные раздольные поляны; с гор дуло бодрящим холодком, на востоке брезжила золотистая кайма низинных холмов. Поднимавшееся солнце все ярче высветляло окрестности, изгоняя тени, нагревая землю и воду; заиграла рыба, оставляя на поверхности расходящиеся круги, будто шел невидимый дождь. Потихоньку застрекотал моторчик кинокамеры, репортер выглядел опечаленным.
— Ты, Витек, какой–то грустный с утра, — заметил Тимофеевич. — Приступ тоски по семейному очагу? Или я слишком строго с тобой обошелся — два наряда, разве это много? Пойми, наконец, что твой настрой сказывается и на нас.
— Понимаю вашу озабоченность, — молвил журналист, — но разъяснить ничего не могу, потому что сам нахожусь в неведении относительно причин своей грусти, — перед нами был прежний Рыцарь Печального Образа.
— Витя, брось чудить, — сказал я.
Между тем в межгорьях темнело, порывами вскипало озеро, шумела роща на склоне, хлопало полотнище паруса. Неожиданно стихло, очертания гор потерялись в надвинувшемся мраке; сыро и гулко, воздух стал как резина.
— Никак гроза, — после молчанья произнес капитан. — Давай к берегу.
Я повернул рулевое весло.
Вскоре мы, спасавшиеся бегством, очутились как бы в гигантском погребе. Вдруг черное марево разрезали сверкающей паутиной молнии, какое–то мгновенье их ослепляющая сеть вилась в тучах, и грянул гром. Горы содрогнулись, по котловине раскатился гул, в небе словно лопнул огромный мешок, и сверху посыпались градины размером едва ли не с перепелиные яйца. Мы спешно выволокли катамаран на отлогую полоску песка и укрылись в ближайшей расщелине. Грохот стоял неумолчный, расщелина быстро заполнялась градинами, обитые плечи ныли. Где–то над головой шумно раскачивались кроны, под ударами несущихся с гор камней трещали стволы деревьев. Охватило дикое, первозданное чувство страха…
Небо оставалось черным еще несколько часов, но град прекратился. Как только стало возможным покинуть убежище, Тимофеевич бросился к лодке — лихорадочно ощупал борта, заглянул под скамьи. Все нанесенные камнями повреждения были незначительными. Поблизости лежала рухнувшая исполинская лиственница, и оставалось радоваться, что мы не стали прятать катамаран в кусты, чтобы там укрыть его от града, — неохватный ствол подмял эти самые заросли жимолости.
Через полчаса мы продолжили плавание, фотограф занялся съемкой окрестностей, а Григорий Тимофеевич начал рассуждать вслух и довольно неожиданным образом:
— Психологическая совместимость — штука тонкая, скажу я вам, ой какая тонкая… Хуже нет ничего, когда люди треплют друг другу нервы и не могут расстаться. Вы, наверно, встречали такие семьи — супруги ругаются ежевечерне, а разойтись не могут, срослись уже. Страшнее этой пытки природа ничего не выдумала, и я очень не хотел бы, чтобы мы уподобились такой семье.
— Как можно! — вырвалось у меня.
— То–то и оно. Я к тому все это рассказал, чтобы бы поняли хорошенько, что у нас не развлекательная прогулка, а путешествие, сопряженное с трудностями и некоторыми лишениями. Места тут безлюдные, случись что — никто не поможет, потому не на кого нам полагаться, как на самих себя. Вам я уже это говорил и еще сто раз повторять буду.
Здесь капитан ни с того ни с сего переменил тему и доверительным тоном поведал анекдотец о том, как некий человек явился в баню помыться, а ему говорят: «Извините, у нас нету воды», — а он в ответ, нисколько не смутившись: «Ничего, я в валенках». Анекдот удался, мы с Виктором посмеялись, а Тимофеевич, приободренный, принялся ворошить, как он выразился, хлам на пыльном чердаке своей памяти и отыскал еще пару баек. Он что–то оживленно говорил, жестикулируя, а я почти не слушал его, вспоминал, как однажды ненастным утром проходил мимо школьного двора, где делал приседания Григорий Тимофеевич, вытянув перед собой руки и громко отсчитывая ритм. Вслед за учителем послушно выполняли движения шеренги учеников — под мелким сеющим дождем. Я остановился у бетонного забора, застигнутый неосознанной мыслью, и продолжал вглядываться в эту, казалось бы заурядную, картину. Меня поразила печать самодовольства на лице Григория Тимофеевича; он, несомненно, наслаждался не экспрессией упражнения, а властью, доверенной ему над этой массой людей, он верховодил, и ему покорно подчинялись.
«И р–р–раз, и два–а–а!» — командовал мой сосед, а ученики, все в одинаковых синих трико, ритмично приседали — лица мокрые от дождя, глаза смотрят безропотно. Неожиданно меня испугала механическая слаженность их действий, я увидел в ней некую чудовищную красоту, одноликость мышления, — но я не уходил, продолжал всматриваться, все еще сомневаясь в верности наблюдения. Тут Григорий Тимофеевич выпрямился, хлопнул в ладоши, и по этому знаку лицо его переменилось и приняло холодно–насмешливое выражение, а затем обыденное, простецкое, могущее расположить к себе любого. Не знаю, заметил ли меня сосед. Ссутулившись, я ушел…
Был полдень. Мы переменили курс и держались ближе к берегу. Катамаран хорошо показал себя в первые часы плавания — легок и маневренен, однако обнаружилось, что треснул планширь правого борта — поломка, впрочем, пустяковая, но мне пришлось затратить пару часов на то, чтобы нарезать стальной прут, согнуть обрезки п–образно, заточить концы скоб и вбить их вдоль трещины для стяжки. Вот, собственно, та мелочь, единственное замечание, в остальном надежность судна была образцовой.
Незаметно миновали вторые сутки плавания. Мы прошли около пятидесяти миль, а сколько еще нам предстояло пройти по окружности озера, которое представлялось бесконечным? Капитан сел за руль, потому что в этот час предстояло преодолеть, вероятно, самый сложный участок маршрута. Высокие скалистые берега сходились в этом месте так близко, что, казалось, с одного на другой можно было перебросить ствол сосны. В горловину текли воды озера, и туда мы направили свой катамаран. Солнце скатилось за горы, длинные смарагдовые тени, будто живые, колыхались на воде. Когда мы приблизились к скалам, я зримо ощутил, сколь ничтожно малы мы в сравнении с их стремительно вознесенной громадой; она словно заваливалась на нас под собственной тяжестью. Было очень тихо, и мы проскользнули в горловину.
Мы двигались медленно в тишине, нарушаемой редкими всплесками, двигались осторожно, лавируя, опасаясь подводных камней, верхушки которых возносились то там, то тут. Сыростью веяло от изрезанных трещинами скал. Страшный лабиринт, созданный природой. Иногда мы проходили почти вплотную вдоль скальной стены, и я притрагивался рукой к холодному скользкому камню. Виктор не фотографировал: недоставало света. Вскоре проход вовсе сузился, пошли на веслах. Не знаю, сколько времени отняло у нас прохождение этого лабиринта; впереди по курсу посветлело, и мы заработали веслами усерднее, задыхаясь в теснине и стремясь вырваться на простор. Скалы чуть расступились. Тимофеевич, до того молчавший и настороженно всматривавшийся вперед, повеселел и сказал: «Выберемся из этого бесовского каньона и, пожалуй, будем швартоваться — темнеет…» Он еще не успел закончить фразу, как над нашими головами разразился неимоверный грохот — вернее, поначалу послышался тонкий пронзительный свист, точно заработал «пускач» дизеля, потом заревело — прерывисто, натужно — и наконец загрохотало; понемногу звук выровнялся до монотонного гудения реактивной турбины. Мы не столько испугались, сколько были поражены несказанно: звук был явно искусственного происхождения. Мы с Виктором бросили весла, а Тимофеевич встал со стульчика, и все посмотрели в небо. Изрезанная краями стен пропасти густосиняя его полоска была чиста, ничем не замутнена. Рев усиливался и через минуту–другую стал нестерпимым; я заткнул пальцами уши и вдруг с ужасом увидел, как вверху откалывается многопудовый кусок породы и несется вниз. Он тяжело бухнул в воду в нескольких метрах от левого борта, обдав меня брызгами. В это же мгновенье еще две глыбы ухнули поблизости, Виктор что–то выкрикнул… Панический страх удесятерил наши силы, катамаран полетел легко, будто стрекоза, едва касаясь водной поверхности.
Камнепад участился. Один за другим сверху падали камни и камешки, остроугольные обломки, исполинские валуны, каньон заволокло желтоватой пылью, и все это сопровождалось неумолчным реактивным воем. Трясясь в лихорадочном ужасе, мы мчались вперед, не смея поднять головы. Что–то ударило меня по плечу и ожгло спину, — я вскрикнул, ухватил ладонью плечо, но тут же одернул руку, скорчившись от боли. Виктор перебрался в мою кабину и с осторожностью осмотрел узкий, тянувшийся к лопатке, след пунцовой кожи: «Никак тебя обожгло». — «Давай, соколики, давай! — очумело заорал капитан. — Поднажмем! На берегу лечиться будем!» Я хотел взять валявшийся под ногами небольшой осколок — виновника причиненного мне страдания, но удержать камень в руке не было никакой возможности: настолько тот был горяч.
По курсу вздыбливали воду темно–красные раскаленные каменные снаряды, похожие на средневековые брандскугели, — они ускользали от взгляда, с шипеньем погружаясь в пучину, оставляя на поверхности расходящийся круг и едва приметный тонкий парок. О, этот зловещий парок! Каждый из нас с неистребимым страхом ждал, что вот–вот пышущая жаром глыба обрушится на фермы, и тогда мы все заживо сваримся в этом кипящем котле. И вдруг в один миг стихло, рев прекратился, несколько камешков упали позади лодки, но мы, взмыленные, никак не могли поверить в то, что опасность миновала. Ущелье раздалось, взгляду открылась знакомая, сейчас спасительная для нас перспектива: поросшие деревцами кручи над безмятежной, лениво колыхавшейся озерной ширью. Мы пробыли в каньоне какой–то десяток минут, но он показался длиною в вечность — страшные стены словно сжимали и время. Мы были настолько ошеломлены происшедшим, что нескоро пришли в себя; немного погодя, поуспокоившись, смогли рассудочно проанализировать случившееся. Мнение было единым — наверху, по обеим сторонам каньона производились какие–то работы, скорее всего, резка камня; при этом камне–добытчики совершенно не позаботились о соблюдении надлежащих мер безопасности, полагая, что в этих пустынных местах никого, кроме них самих, быть не может, в результате мы едва не стали жертвами преступной халатности. Капитан что–то помечал в своей тетради, очевидно, не собираясь оставлять этот едва не окончившийся прискорбно случай без последствий. «В газету будете писать, Григорий Тимофеевич?» — осведомился я. «А как ты думал? И напишу! В Москву, в «Известия». Возмутительнейшее безобразие!» — «Поможет ли?» — «А пусть и не поможет, я в книге про них напишу, и главк укажу, и трест». — «Фотографировал я как–то их управляющего, — сказал Виктор. — Такой проныра — вытащит руки из любого теста». — «А что это за трест?» — не расслышал Григорий Тимофеевич. «Кавкамнеразработка» — так, вроде бы, звучит». — «Стало быть, обидчики известны», — заключил рулевой и убрал тетрадку.
Четверть часа отняло инспектирование судна, не отыскалось, как ни удивительно, ни единой поломки или прожога, все снасти были целы. Воздали должное предусмотрительности капитана, приказавшего свернуть парус при входе в ущелье. Чтобы не искушать судьбу, решили швартоваться в ближайшей заводи. Однако озеро в этот кровавый красивейший закат было будто чем–то потревожено: то и дело впереди по курсу возникали небольшие волнения, причем волны двигались, сходились и расходились в самых различных, зачастую противоположных, направлениях, беспричинно взлетали фонтанчики брызг, и разноцветные, от оранжевого до нежно–золотистого, крапины испещряли поверхность вод. Непонятную эту пятнистость я отметил мельком; возбуждение, в котором пребывал мой дух вследствие изведанного недавно происшествия, несколько улеглось, и я не склонен был придавать своему наблюдению какое–либо значение. Мы подгребали к живописной бухточке. До берега оставалось не больше сотни метров, как я внезапно ощутил, что погружаюсь в воду. Через несколько секунд, потеряв под собой всякую опору, я очутился в озере, держа перед грудью на плаву весло. Невозможно передать всю степень моего изумления! Спутники мои были поражены не в меньшей мере, потому как не вымолвили ни звука. Все мы стали свидетелями уникального, скорее всего, единственного за всю историю мореплавания, кораблекрушения, происшедшего в полнейшей тишине. Григорий Тимофеевич, очнувшись, растерянно пискнул: «Что это? Мы тонем?» — «Мы — нет, а вот с катамараном, по–моему, все ясно — заводской брак», — невозмутимо обронил Виктор, ударил ногами по воде и перевернулся на спину. «Где катамаран, я вас спрашиваю?! — вдруг заорал обезумевший Тимофеевич. — Бездельники, вы даже пальцем не шевельнули, чтобы еще на берегу убедиться в исправности швов!» Здесь он, мягко говоря, возводил напраслину, но я смолчал, принимая во внимание всю величину отчаяния капитана, лишившегося своего судна. Виктор бросил вскользь: «Прекратите малодушничать — капитану не к лицу». Это его замечание отнюдь не охладило Тимофеевича, и нам пришлось выслушать еще несколько совершенно вздорных обвинений, покуда разъяренный учитель быстрыми саженками не поплыл к берегу, громко фыркая и отплевываясь. Виктор следовал чуть поодаль, попеременно вскидывая и опуская в воду, подобно пароходным шлицам, свои длиннющие руки. Позади, стараясь не отставать, плыл я. Поутру никто из нас не одел стеснявшие движения спасательные жилеты, и они остались в кабинах, — впрочем, до берега было рукой подать. Я плыл классическим кролем, изредка приподнимая голову, чтобы посмотреть, где мои спутники. И вдруг я увидел, как они исчезли, соскользнули с гребня невесть откуда взявшейся, беззвучно возвысившейся до высоты трехэтажного дома гигантской волны. Тут и меня подхватило, понесло; на опрокидывавшейся сверху толще бросилась в глаза необычайно красивая увенчивавшая ее золотисто–бирюзовая, подсвеченная закатом пленка, — я успел совершенно отчетливо определить мгновенье тишины, даже подивиться какому–то своеобычному его звучанию, перед тем как удар страшной силы оглушил меня и, уже распластанного, беспомощного, устремил в глубину…
Очнулся я в стылом сумраке — может быть, этот могильный холод и пробудил меня. Я инстинктивно, по–жабьи, раскорячился, пытаясь отдалить приближение зловещей тьмы бездны, но все же тело мое неумолимо тянуло вниз. Я страстно задвигал руками и ногами, стремясь к воздуху, вынырнув, ошарашено огляделся, но тут другая волна, не дав мне опомниться, — нет, не накрыла, а вознесла меня, я моментально как бы взобрался на высоченный холм и почему–то равнодушно, бесчувственно приметил внизу барахтавшихся Тимофеевича и Виктора — поблизости от них рябиновыми ягодами горели спасательные жилеты, и этот миг навсегда отпечатался в моей памяти. Затем я понесся с горы, увлекаемый водной лавиной, сокрушающая мощь которой сравнима с инерцией километрового груженого железнодорожного состава. Позднее Виктор рассказывал, что перед ударом он успел обхватить голову ладонями и заткнуть уши пальцами, что, к слову заметить, мало помогло бы ему, не окажись рядом жилета, воистину ставшего спасательным. Меж тем озеро вернулось в свое обычное дремотное состояние. Мы с Виктором подхватили под мышки Тимофеевича и в скором времени достигли берега. Капитан был совсем плох. Лицо его побурело, под глазами залиловели полукружья, щеки одрябли, дыханье не слышалось. Положили Тимофеевича на траву, и Виктор принялся массажировать ему сердце, надавливая скрещенными ладонями на левую грудину. Через минуту–другую Тимофеевич невнятно забормотал, открыл глаза и воззрился испуганно. Потом, очевидно, удостоверившись, что страхи миновали, вновь смежил веки, расслабленно раскинул руки и попросил едва слышно: «Оставьте меня». Виктор тотчас отошел и улегся на пригорке. Сколь долго мы лежали, не берусь сказать. Острые камешки впивались в мое тело, но я был не в силах шевельнуться. Каким желанным явилось это отдохновение! Мы спаслись, мы жили… Поблизости на пригорке темнел жилет, второй покачивался на воде — вот и все, что напоминало о нашей лодке, о недавних радужных ожиданиях, о легкомысленных устремлениях.
— Я вам скажу, тут дело нечистое, — ослабленным голосом высказал предположение капитан.
— Хотите сказать, причина не в заводском браке? — спросил Виктор.
— Думаю, что нет.
— Тогда в чем же? — почти выкрикнул журналист, поднялся и с ненавистью поглядел на расслабленного лежавшего капитана.
— Прошу всех соблюдать спокойствие, — устало произнес Тимофеевич. — Мы находимся в ситуации, где каждый при желании может предъявить другому массу претензий; положение экстремальное, прошу помнить и проявлять твердость духа.
— Не далее как четверть часа назад вы показали пример, — язвительно поддел фотограф.
— Что ж, я тоже человек, — спокойно отреагировал Тимофеевич. — Как бы там ни было, я остаюсь капитаном и велю выполнять мои распоряжения.
— Ну уж нет! — вскипел Виктор. — Сыты по горло вашим компетентным руководством, товарищ капитан!
— Мои приказы можешь не выполнять, когда вернемся в поселок, а пока я отвечаю за тебя, сосунок!
— Что–о–о? — Виктор угрожающе двинулся на Тимофеевича. Я моментально подбежал и встал между ними.
— Отойди, Серега, — попросил фотограф. — Сейчас я его ухайдокаю…
Однако Витя явно недооценил соперника. Капитан сделал шаг вперед, легко, как–то между прочим, получилось так, что я оказался распростертым навзничь на земле, а Виктор после взмаха руки Тимофеевича охнул, переломился и медленно повалился на траву. Таким далеко не педагогичным способом была восстановлена субординация, и табель о рангах не претерпел изменений.
В древней книге сказано: «И только милосердие отличает нас от праха, из которого мы вышли и в который должны вернуться».
— Вставай, несчастный, — капитан великодушно протянул руку поверженному.
Журналист все же предпочел обойтись без предложенной помощи. Поднявшись, он угрюмо заметил:
— Сейчас несчастней нас, наверно, во всей республике никого нету.
Безрадостный этот вывод вряд ли являлся преувеличением. Мы остались без катамарана, без куска пищи, практически без одежды, и, главное, наши надежды оказались разбитыми. Могли ли мы рассчитывать на чью–либо помощь? Об этом следовало думать поутру; надвигалась ночь, и самое благоразумное, что мы были в состоянии сделать для самих себя в эти минуты, это подыскать подходящее место для ночлега. Неподалеку за ручьем была неглубокая лощина. Каждый из нас принес несколько охапок сухой травы для подстилки, и затем без долгих разговоров все улеглись. Несмотря на усталость, я не мог уснуть. Что–то роковое, таинственное присутствовало в том, что произошло с нами, — это ощущение не покидало меня, хотя рассудок всему давал объяснение. Я мучительно пытался понять: что же случилось в действительности, в чем истинная, пока скрытая, причина кораблекрушения? Если камень сделал пробоину, это должно было непременно обнаружиться еще не месте — там, в каньоне. Не укладывалось в голове, какой силы должна достигать течь, чтобы двухкорпусная лодка затонула почти мгновенно? Вспоминалось причудливое волнение, гигантские круги, переливавшиеся многоцветьем красок и невесть откуда появившиеся на поверхности озера, — я лежал, смотрел на звезды, размышлял, пытался вспомнить мельчайшие детали нашего путешествия вплоть до последнего мгновенья, но ни в чем не мог обнаружить связи со случившимся. Мне показалось, что и Тимофеевич не спал: он беспрестанно ворочался и вздыхал как–то тяжко. К утру похолодало, я принес еще травы, навалил ее на себя, но так и не согрелся и не уснул, до рассвета пребывал в некоем болезненном забытьи, увлекаемый какими–то кошмарными видениями. Когда рассвело, мы еще долго недвижимо лежали, одубев от холода, в тех позах, в которых застигли нас первые лучи, пока хорошенько не пригрело и кровь горячо не заструилась в жилах.
Рассвет выдался чудный: вершины в розовом, низины голубели, искрилось озеро, но разве могло созерцание этих красот развеять наше тягостное душе–расположение?
— Еще одна такая ночевка, и мне хана, — известил Виктор простуженным голосом, шмыгнул носом и утерся.
— Что будем делать? — спросил я.
— Прыгать да бегать!
О том, чтобы идти берегом назад к аулу, не могло быть и речи. За двое суток плавания мы удалились от него самое меньшее на семьдесят миль, и возвращение сухим путем, учитывая, что пришлось бы продираться сквозь заросли, раня босые ноги, ночевать где придется, доставило бы чрезвычайные лишения и продлилось бы довольно долго. Представлялось разумным двинуться в горы, на луга к чабанам, попросить одежду, обувь и затем спуститься к шоссе, но и такая дорога отняла бы по меньшей мере двое суток. Ничего другого не оставалось, как идти к каменоломне, откуда можно было добраться на самосвале до шоссе, а если договориться с шофером, и к самому поселку. Мы шли, то и дело ускоряя шаги, а точнее сказать, шажки, на что фотограф заметил:
— А ведь с каким желанием мы стремились сюда, но, пожалуй, с не меньшим теперь драпаем.
— Если не считать, что драпать в сотни раз труднее, — отозвался я.
— Да, вот они, метаморфозы судьбы. Впереди ковылял Тимофеевич, за ним я, позади Виктор.
— Представляю, как обхохочутся работяги, завидев нас, — говорил Тимофеевич. — Вот будет им бесплатный концерт!
— Мне дома женка тоже концерт устроит, — помрачнел Виктор. — С классической арией под занавес.
Чтобы переменить тему разговора и прояснить, как мне представлялось, существенный для всех вопрос, я обратился к капитану:
— Что ни говори, это путешествие вам, Григорий Тимофеевич, в разорение. Сколько мы вам должны?
— А сколько не жалко! — добродушно улыбнулся он и прибавил: — Шучу, шучу. Вернемся, разопьем бутылочку, и весь расчет.
Я принялся протестовать, но капитан был непреклонен в своем благородстве. Мы вышли на лужайку, покрытую тимьяном и богородицыной травкой. Настроение у нас улучшилось, но оставалось далеко не лучезарным. Я ощущал, как мой желудок точно скручивается в жгут, и с трудом мог отвлечься от мыслей о чем–нибудь съестном. Мы прошли, наверное, три–четыре километра, прежде чем стало возможным сквозь завесу листвы различить вдалеке обрывистые уступы каньона. Оттуда не доносилось ни звука.
— А если у них сегодня выходной? — высказал догадку Виктор.
Выходной день в четверг — это было что–то новое. Вероятнее всего, бригаду временно перебросили на другой объект. Несмотря на это огорчительное предположение, мы продолжили спуск, и вдруг фотограф как–то излишне спокойно говорит:
— Глядите — человек…
Мы с Тимофеевичем разом подняли головы и обомлели: на кручу взбирался довольно странной наружности человек в электрокурточке фехтовальщика, голорукий, в бежевых брюках–трико и в заморских модных полуботинках на литой подошве.
— Товарищ спортсмен! — окликнул его Григорий Тимофеевич.
Этот возглас словно подстегнул голорукого — он нервно обернулся, как бы желая удостовериться, что зовут именно его, и затем со всех ног бросился в кусты.
— Вот чудак! — невольно вырвалось у меня. — Чего он испугался?!
— Надо его найти! За ним! — призвал капитан. Врассыпную мы кинулись в заросли, но скоро выяснилось, что незнакомец исчез без следа.
— Но откуда здесь быть спортсменам? — удивился я. — Может, в предгорьях есть спорт–база?
— Нету тут никакой базы. Я бы знал, будь она где–нибудь поблизости, — несколько неуверенно ответил капитан и вдруг, переменив лицо, прибавил с раздражением: — Свинья! Неужто он не видел, что мы нуждаемся в помощи?!
Тем не менее сил у нас прибыло, поскольку теперь мы определенно знали, что где–то рядом есть люди и наверняка не все они такие сволочи, как этот в модных ботинках.
Спустились к ущелью на отлогий скос, но к своему великому разочарованию, не обнаружили окрест каких–либо признаков деятельности человека. Перед нами чернел зев пропасти, по обе стороны от него тянулись сосенки, а внизу вскипал поток. У края пропасти было ветрено, мы отошли, сели на пригорок, призадумались.
— Ничего не понимаю, — проговорил Тимофеевич. — Я совершенно отчетливо слышал, как работала камнедробильная установка. Причем эти олухи умудрились установить ее на самом краю ущелья, и часть камней срывалась вниз. Но нигде не видно даже отметины разработок. Выходит, не надо верить собственным ушам?
Да, было от чего призадуматься. Мы помолчали, и затем я предложил еще раз тщательно обследовать каньон.
— Предлагаешь с лупой искать следы самосвалов? — иронически заметил Виктор.
Слегка уязвленный, я уже приоткрыл рот, чтобы ответить какой–нибудь колкостью, но тут — о боже! — стены каньона охватила как бы мелкая дрожь, и воздушная волна, пройдя меж ними и неся с собой неимоверный грохот, вырвалась наверх и потрясла окрестный лесок. Тотчас по левую руку от нас взревела реактивная установка.
— Скорей! Бежим, пока они не уехали! — вскричал Виктор и, прыжком вскинув тело, понесся в лес.
Источник этого низкого, мощного, грубого звука, в эту минуту звучавшего в наших ушах изящным жизнеутверждающим аллегро, находился совсем рядом — на окраине леска. Мы спешили туда, и уже было заметно, как промеж деревьев вырывается струя раскаленного пламенеющего газа и жадно лижет камень, расщепляя поверхность скалы, рывками продвигая осколки к обрыву. Фотограф мчался как угорелый, выбрасывая вперед худые ноги и отталкиваясь босыми ступнями. За ним летел Тимофеевич. Я едва поспевал позади.
Вдруг машина прекратила работу, вмиг стихло, и Виктор от неожиданности споткнулся и едва устоял на ногах. В мгновенье ока природа вернулась в естественное состояние покоя. Покамест я прикладывал к кровоточащим ступням листы подорожника, Тимофеевич и Виктор удалились, и пришлось, превозмогая боль, поспешить за ними.
Мало того что камнедобытчики выбрали для своих разработок укромное местечко, подступиться к нему с любой стороны было чрезвычайно затруднительно: глубокие расщелины преграждали путь. С трудом мы взобрались на гребень навала валунов, и тут нашим глазам открылась неожиданная картина. В самом центре ровной земляной площадки, в достаточном удалении от деревьев, на своеобразном лафете возвышалась внушительных параметров реактивная турбина, ее потемневшее от нагара сопло было обращено к каньону. Турбину окружала дюжина спортсменов в курточках и полуботинках, кто–то делал замеры, другие следили за показаниями ящичков–приборов, держа их у груди. В отдалении особняком беседовали двое. Удивительное заключалось в том, что все спортсмены походили друг на друга, точно братья, — крепкого сложения, коренастые, с жидкими светлыми волосами, разметанными по черепу.
«Военная база, — шепотком произнес Тимофеевич. — Секретная». Да, не могло быть сомнения в том, что мы, сами того не подозревая, исхитрились проникнуть на территорию строго охраняемой базы Министерства обороны и, стало быть, являлись опасными нарушителями. «Что они, не люди? — хмуро сказал Виктор. — Должны войти в наше положение. Мы ведь не шпионы какие–то». Видимо, рассуждение это придало ему решимости, и он вдруг покинул укрытие, взобрался на верх гребня, поднялся во весь свой внушительный рост и, вскинув руки, крикнул: «Товарищи! Мы не шпионы, мы — туристы, наша лодка утонула, войдите, пожалуйста, в наше положение: помогите добраться домой. У вас тут есть какой–нибудь транспорт?»
Внезапное появление в секретной зоне полуголого, тощего, жалобно просившего человека произвело на военных заметный эффект — они замерли и даже как будто растерялись. Виктор же, спустившись с гребня, смело направился к турбине, и нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Подойдя вплотную к спортсменам, мы все разом, будто сговорившись, принялись клясться и божиться, что мы не вражеские агенты, а здешние краеведы, незадачливые путешественники (капитан вкратце поведал сюжет происшедшей драмы), дурных тайных помыслов не имеем, про базу слыхом не слыхивали ну и, само собой, о том, что видели, вовек не пикнем. Не знаю, насколько убедительными показались наши заверения — один из двоих, стоящих в отдалении, негромко приказал, и тотчас нас окружили четверо с приборами и повели вниз к озеру.
Двое охранников шли впереди, двое — позади, и фотограф допытывался у них, откуда они родом да как им служится. Солдаты молчали, как и положено при исполнении обязанностей, но Виктор не унимался. В конце концов своей назойливостью он вывел Тимофеевича из душевного равновесия. «Ты сам–то служил?» — строго и недовольно спросил капитан. «Успеется!» — с напускной веселостью откликнулся кинооператор. «То–то и заметно… — пробурчал Тимофеевич. — Не приставай к людям — служба ведь у них».
Меж тем меня все более изумляло и поведение и вид охранников, а когда Григорий Тимофеевич произнес: «Не приставай к людям», — я еще пристальней вгляделся в них. Конечно, это были люди, вроде бы обыкновенные, даже с уверенностью можно было сказать, что обыкновенные, но вместе с этим присутствовали в их облике некоторые отличительные детали. Держались они неестественно прямо, ступали на прямых ногах, а если подгибали их, то не гибко, упруго, а как–то деревянно, точно шли на протезах; вдобавок были солдаты необычайно схожи друг с другом — и лицом, и фигурой, и безучастны, как роботы… «Ба! Да они и впрямь роботы!» — пронеслось у меня в голове. Ошарашенный этой догадкой я вновь оглядел охранников — уже с испугом. Они шагали так же спокойно, мерно, подошвами ботинок взметывая облачка пыли, и когда я оборотил голову, меня встретил немигающий бездумный взгляд двух пар стеклянных глаз. «Григорий Тимофеевич! — взволнованно приник я к капитану. — Посмотрите — они роботы!» — «Какие еще роботы?» — нехотя откликнулся капитан, скосил глаза на охранников и вдруг поменялся в лице, даже приостановился. В этот момент Виктор с непонятной веселостью обратился к солдатам: «Чего молчите, служивые? Воды, что ли, наглотались?» — «Заткнись, идиот!» — процедил сквозь зубы капитан, и лицо его обезобразила ярость. Фотограф опешил, не понимая, чем он вызвал столь сильный гнев, и начал растерянно оправдываться: «Да я что? Я ничего… Нельзя уже и поговорить».
Тропинку обступал высокий орешник. Охранники свернули в сторону и повели нас в заросли; тут, пожалуй, можно было сбежать и спрятаться где–нибудь на склоне в расщелине. За Тимофеевича я не беспокоился, а вот Виктор? Бедняга, он ни о чем не догадывается. Я прервал размышления и спросил себя — а, собственно, о чем следует догадываться? «Неужто в самом деле они роботы?» — с некоторым сомнением оглядел я стражников, но снова эта догадка не показалась мне невероятной. С поразительной проворностью солдаты пробирались сквозь заросли, и при этом чем больше возникало перед ними препятствий и преград в виде переплетений ветвей, ям, нагромождений камней, тем отчетливей и учащенней доносился из их грудей какой–то слабенький писк, а на курточках в самых неожиданных местах вспыхивали разноцветные лампочки. Однако солдаты обладали руками, ногами и головой, и я просто не мог поверить, что все эти органы искусственные, до того совершенными и естественными выглядели они.
Впереди открылось небольшое, правильной окружности озерцо, на гладкой поверхности которого покоился прозрачный цилиндр. Подойдя ближе, я увидел, что его каркас составляла толстая и прочная на вид проволока, а в ячеи вставлено множество стекол одинакового размера. Внутри цилиндра не было заметно ничего похожего на пульт управления, не было и сидений. Едва первый стражник вышел на берег, цилиндр сам, без видимого сигнала, заскользил по воде, уткнулся в песок, потом что–то щелкнуло, и к нашим ногам пружинисто раскатился стеклянный мостик. «Вот это техника!» — восхищенно произнес фотограф. Григорий Тимофеевич молчал, с того момента, как мы вышли на берег, он вообще не обронил ни слова и был необычайно задумчив.
Двое сопровождавших нас, пройдя по стеклянной дорожке, проникли внутрь цилиндра и выразительными жестами велели нам последовать за ними. Тимофеевич первым взошел на мосток, который даже не качнулся, словно наш капитан утратил плоть; мы с Виктором наблюдали, как Тимофеевич полулежа старается расположиться в трюме необычайного плавучего устройства. Вскоре и мы один за другим присоединились к нашему вожатому. Даже воздух в цилиндре был иной, нежели снаружи, насыщенный влагой, густой, свежий, точно после ливня. Прозрачные стены, за которыми была вода, берег в зелени, не препятствовали взору, и оттого плавучий снаряд казался незащищенным, уязвимым — этакий хрупкий плотик. Один из охранников обвел взглядом помещение и, видимо, удостоверившись в готовности устройства к отплытию, задвинул щитком проем. Тотчас цилиндр начал беззвучно погружаться, и через мгновенье воды сомкнулись над нашими головами. Виктор, Тимофеевич и я сидели на прогнутом полу, под нами синело дно. Виктор был невозмутим, наверняка он не сомневался, что подобными плавсредствами оснащены все наши секретные базы, но, желая уточнить для себя, легонько постучал пальцем по борту и поинтересовался у конвоиров: «Пластмасса японская или, может, западногерманская?» Однако стражники и на этот раз не удостоили его ответом. Меж тем Тимофеевич, искоса бросив на меня взгляд, признался: «Ничего не понимаю». Его недоумение легко объяснялось: диковинные, как будто механические, охранники, удивительный цилиндр, стремительно погружавшийся в пучину. Толща воды за бортами темнела и наконец поглотила, сокрыла все. Опустившись на заданную глубину, цилиндр повернулся вокруг своей вертикальной оси, совершая маневр, чуть поднялся и вплыл, кажется, в некий коридор. Пару минут снаряд едва двигался, по сторонам проступили размытые очертания стен скального лабиринта — очевидно, тут был проход, соединявший оба озера: большое и малое. Этим соображением я поделился с капитаном; тот как–то рассеянно отозвался, пожал плечами: «Какая, собственно, разница, куда плыть?»
Воздух в цилиндре становился тяжелее, испарина выступила у меня на лбу, дыхание участилось. Вскоре мы стали задыхаться, охранники же были совершенно безучастны к нашим страданиям. «Откройте, пожалуйста, форточку», — фотограф едва приметно искривил губы в жалкой улыбке. Но прошло какое–то время, прежде чем сработало невидимое реле, по правую руку от нас послышался шелест, и воздух в цилиндре сиюсекундно насытился кислородом.
Кто бы мог подумать, что наше путешествие получит столь неожиданное продолжение? Мы бороздили озеро уже не в стремительной парусной лодке, под ярким солнцем, а во тьме холодных глубин, в обществе четырех молчаливых стражей. Меня все больше занимало, куда мы плывем и кто они, эти люди, — живые ли, механические? По какой, любопытно, причине нельзя было решить, что делать с нами, еще там, в леске возле ущелья? Неужели мы в самом деле такие опасные нарушители? Может быть, именно этим объяснялось столь вызывающее отчуждение охранников; на их лицах бесполезно было искать интерес, удивление или даже презрение — абсолютная беспристрастность.
Цилиндрический снаряд начал всплывать, ненадолго посветлело — ненадолго потому, что огромная тень надвинулась сверху.
Ничего похожего не доводилось мне видывать! Исполинский подводный корабль, вытянутый эллипсоидом, простирался над нами; его многосотметровую окружность обозначала цепочка светящихся иллюминаторов. Мы, изумленные, разом вскочили. Тимофеевич, запрокинув голову, широко оперся руками о стенки цилиндра и прошептал завороженно: «Экое чудовище!»
Расстояние между нашим, теперь казавшимся совершенно ничтожным, снарядом и подводным колоссом быстро уменьшалось, и уже отчетливо различалось несметное число антенн и штанг, которыми ощетинились борта этого гиганта. Когда сближение завершилось, я увидел, что днище исполина было черным и гладким, точно кожа угря, но в одном месте зияла рваными краями широкая дыра. Цилиндр застопорил ход и замер под одним из люков, которыми был усеян киль подводного гиганта. Крышка люка отошла в сторону, цилиндр вплыл в тесную и короткую шахту — тотчас крышка задвинулась. С шумом заработали насосы, откачивая воду из шахты, и через минуту один из охранников убрал щиток и мы наконец–то выбрались из стеклянного снаряда, встали на узкой решетчатой платформе и принялись растирать ладонями онемевшие ноги.
Ослеплявший, многократно отраженный зеркалами никелированных стен шахты свет внезапно потух, и лишь вверху продолжала желто и тускло мерцать лампа дежурного освещения. Зеркальные стены раздвинулись, и мы, сопровождаемые охраной, ступили в коридор, длинный, прямой и опять–таки узкий. Шагов наших не слышалось, и было так тихо, что мы не решались поделиться своим удивлением. Мы спустились вниз, в довольно просторное помещение, где, как оказалось, кипела работа: неотличимые от наших охранников такие же люди–роботы сваривали какие–то прямоугольные щиты, сыпались искры, и гарь стелилась под потолком, то и дело вносили гибкие и легкие трубы, которые затем поочередно соединяли и вставляли в отверстие в полу, половины дверей беспрестанно разъезжались, и в помещение входили новые роботы, неся с собой фольгу, радужные металлические ленты, коробки, штанги с черными набалдашниками и другие совершенно незнакомые мне предметы, походившие на водяные пузыри, утыканные иглами. Роботы не удостаивали нас даже мимолетного взора, а может быть, и вовсе не замечали в клубах дыма, через которые нам приходилось с кашлем пробираться. Я надышался до одурения и еще долго не мог прийти в себя, когда нас вывели оттуда. Мы находились уже в квадратной комнате, большую половину которой занимал бассейн с серебристой водой, и студеный холод исходил от нее. Потом нас поместили в лифт, сверху донизу выложенный пластами какого–то гофрированного материала, и подняли на этаж, где от небольшой круглой площадки звездообразно расходились коридоры. Неожиданно площадка стала вращаться все быстрее и быстрее, и я вдруг с ужасом увидел, как Григорий Тимофеевич, Виктор и с ними два стражника удаляются от меня и вот–вот скроются в одном из коридоров; и главное, они будто не замечали, что меня нет рядом, что идут вдвоем. Площадка подо мной вращалась стремительно, необъяснимо, я оставался один — объятый страхом, набрал в грудь воздуха, чтобы крикнуть удалявшимся сотоварищам, призвать их на помощь, но тут голова моя закружилась, и я упал на руки охранников…
Плохо помню, что было дальше; я смутно различал предметы, меня тошнило, и ноги были точно веревочные. Открылась какая–то дверка, и меня сильно и грубо толкнули внутрь полутемной конуры. Долго я лежал на полу, меня охватывал озноб, сердце сжималось от сознания безысходности, и на глазах наворачивались слезы. Я остался один, слаб и беспомощен. Где мои товарищи? Что будет с ними? Где в конце концов мы находимся? Мало–помалу мыслям моим возвратилась ясность, я заставил себя успокоиться, но еще долго лежал ничком на полу, словно прикипев к нему, не в силах двинуть ни ногой, ни рукой. Наконец я вздохнул глубоко, и этот вздох окончательно пробудил меня. Я оторвался грудью от пола и сел, опершись рукой, а другой смахнул с ресниц слезы, огляделся. Камера, в которую меня заточили, представляла собой уродливый полуконус с изогнутыми стенами и венчавшим его острие иллюминатором. Стены были гладкими и покатыми, как и пол и потолок — не на чем остановиться взгляду. Кругом я не приметил ни единой пылинки или соринки. Я попытался встать, выпрямиться, но сразу уперся головой в потолок, даже возле двери в широком основании конуса можно было стоять сутулясь.
Кажется, я понял, где находился, куда привела меня судьба. Я перебирал сотни причин, желая опровергнуть эту, явившуюся как озарение, догадку, но все благоразумные доводы рассыпались и рушились, отсылая память к недавним удивительным и престранным фактам. Ясное дело, с кем довелось нам повстречаться. Это были космические пришельцы, и камера, в которую меня заточили, представляла собой один из отсеков звездолета. К осознанию этого я отнесся довольно спокойно. Впрочем, мудрено ли? Газеты и журналы, по телевидению и радио так часто, без умолку, говорили о космических пришельцах, так подробно и словоохотливо излагали свидетельства очевидцев, встреч с ними, так настойчиво отыскивали доказательства очевидного их пребывания на Земле и аргументированно опровергали доводы скептиков, что в пору было дивиться, как это мы раньше не наткнулись на лагерь инопланетян, которых, если верить газетам, было кругом хоть пруд пруди. Однако к черту иронию! Положение наше было весьма незавидное. Едва ли пришельцы жаждали встречи с землянами, иначе зачем искать укрытие в глубинах высокогорного озера? Я поглядел в иллюминатор, за которым мертвенно чернела бездна. Далеко ли надо мной была поверхность озера, высоко ли солнце? Который сейчас час? Я попытался сосредоточиться, но вскоре признался себе, что потерял счет времени. В желудке урчало… Когда они принесут еду? Сволочи! Я хочу есть! Гуманоиды они или земляне, троглодиты или небесные ангелы, никто не давал им права так обходиться со мной! На полусогнутых ногах я приблизился к двери и забарабанил кулаками. Я колотил со всей мочи, вкладывая в удары все свое ожесточение и злость на судьбу, так внезапно и нелепо лишившую меня покоя и радости, и затем обессилено опустился на пол. Нужно было что–то делать, необходимо выбраться отсюда. Но как? Каким образом? Я вновь оглядел эту собачью конуру, и отчаяние охватило меня. Представлялось очевидным, что всякие попытки освободиться обречены. На стенах я не обнаружил ни одного выступа, ни одной щели, словно многотонный каток проехал по ним. Не за что ухватиться пальцами.
Но ведь когда–нибудь должна, наконец, отвориться эта дверь? Допустим, мне удастся повалить, оглушить охранника, но что делать дальше? Бежать? Но, спрашивается, куда, в какую сторону? Мчаться, обезумев, по бесчисленным коридорам навстречу неминуемой гибели?
Пожалуй, о побеге не стоит помышлять. Остается уповать на милость тех, по чьей воле я очутился здесь. Наверное, меня должны допросить. Во всяком случае, прежде чем избавиться от меня, они наверняка постараются утолить естественный интерес, так сказать, к брату по разуму, выяснить, что я за личность, каков уровень моего мышления, в чем состоят мои привычки, вкусы, представления — словом, со мной будут беседовать, а значит, у меня появится шанс. В чем, собственно, он будет выражаться? Наивно и смешно — я пригрожу, что в случае нашего исчезновения нас будут разыскивать. Шофер покажет место, где мы выгрузили катамаран, милиция обшарит озеро, вызовут аквалангистов… Но какой, скажите, аквалангист догадается, что в непроглядной тьме озера, может быть, у самого дна, притаился космический крейсер, а мы, трое несчастливцев, живы, дышим, надеемся еще? Боже мой, кто знал, что все так обернется?!
Я пополз к иллюминатору, уткнулся лбом в стекло, потом повернулся и двинулся обратно — видели бы сейчас меня родители. Когда я подумал об этом, пол подо мной начал наклоняться. Крен становился все больше, и я, не удержавшись, скатился к иллюминатору. Вода за стеклом светлела, следовательно, звездолет всплывал. Я напряженно приник к стеклу — что бы значило это движение судна? Вдруг оно каким–то образом связано с моей судьбой?
Понемногу крен уменьшился, я улегся удобнее и продолжал следить за тем, что было доступно моему взору. Невероятна была скорость, с какой всплывал корабль, я как бы чувствовал сокрушающую силу сопротивления воды за иллюминатором. Вдруг со стекла сорвалась прозрачная струящаяся ткань, и что–то больно ослепило меня, я зажмурился, но тотчас открыл глаза — о боже! солнце! Мгновенье звездолет покоился на поверхности озера; явственно различались дальний берег, тени гор на воде и сами вознесенные к облакам вершины. И тут я полетел в тартарары… Позже я сообразил, что судно, готовясь к погружению, стало на ребро и уж затем устремилось в пучину. Однако какой мощью должны обладать двигатели, чтобы легко управлять такой махиной!
А если это не космический корабль? Черт знает что такое, но только не космический корабль? Я попытался изложить в осмысленной последовательности известные мне факты, и опять дело сводилось к тому, что мы очутились в плену у инопланетных пришельцев. Другого ответа я не нашел.
Я сделал несколько гимнастических упражнений, сел на пол, и в этот момент перед моим носом возникли сочный кусок дыни и ломоть пшеничного хлеба. И дыня и хлеб покоились на белом пластиковом подносе, а поднос держала рука — голая, безволосая. Я поднял голову: ко мне были обращены глупые стеклянные глаза. «Спасибо», — пробормотал я и взял поднос. Робот повернулся, сделал несколько шагов, и дверь за ним бесшумно затворилась. В камере послышался горький запах, к потолку поплыла сизая паволока — проник дымок из коридора. Часом позже за дверью что–то проехало — туда и обратно, потом донесся какой–то свистящий звук, словно выпустили газ из баллона, с шумом проволокли шланги, снова прокатилась тележка, и на ней что–то дребезжало.
Меня не интересовало, чем они занимаются. Будь я ученым, специалистом по изучению проблемы внеземных цивилизаций, то, без сомнения, не упустил бы столь редчайшей возможности. Я попытался бы установить с ними контакт, выяснить, как устроен их организм, каким образом они ориентируются в пространстве, улавливают ли инфракрасное излучение или, положим, ультразвук, в какой степени их мозг способен делать логические умозаключения и в чем суть их блистательных технических решений. Конечно, я не забыл бы узнать, насколько они социально организованы и каковы формы этой организации и кому принадлежат средства производства на их далекой планете. Но я не был ученым–исследователем, никогда не занимался поиском внеземных цивилизаций и потому, если бы что–то и толкнуло меня на беседу с гуманоидами, то лишь простое любопытство, но едва ли разговор получился бы обоюдо–интересным — чувство страха наверняка помешало бы мне. Не хотел, не желал я никаких бесед, никаких разговоров… Я забуду обо всем, никому не расскажу, где был и что видел — прокатился на лодке по озеру, и все. Пройдет время, и я сам не поверю, что со мной происходило все это. Только бы они меня отпустили.
За иллюминатором вновь посветлело, но теперь корабль всплывал плавно и медленно. До чего чиста, кристальна вода озера! Я увидел подножья гор в водорослях, в нагромождениях затопленных деревьев — всюду преобладал траурный цвет. А вот и наш катамаран, лежит кверху днищами, мачта сломана поперек, обломки покоятся поблизости, но не потускнела краска, еще озорно белеет надпись «БЕГЛЕЦ». Грустное зрелище… О чем я думал, глядя на останки нашей лодки? Душа наполнилась печалью, и я чувствовал себя свидетелем чьей–то чужой, не своей, трагедии.
На этот раз звездолет не достиг поверхности, хотя до нее оставалась, может быть, сотня метров, и вновь погрузился, завис во мраке.
Я лег на пол на бок, сунул руку под ухо. Воображение мое было воспалено, какие–то фантастические видения возникали из небытия, а тело охватывала слабость. Я попытался определить, хотя бы на день вперед загадать свою судьбу — что случится со мной завтра? — и тогда с успокоением заснул бы на этом холодном полу, но не находил однозначного ответа.
…Потом мне почудилось, как звездолет сдвинулся и медленно поплыл, рассекая непроглядную, мертвенно застывшую даль глубин. Плоский, точно скат, он плыл, окруженный серебристым сиянием своих иллюминаторов, — пришелец из Вселенной, удивительный странник, и под броней его корпуса, в бесчисленных отсеках и коридорах, без устали копошились роботы, заделывая пробоины, полученные в долгом многотрудном межпланетном переходе, а наверху, в командирской рубке, сидят ОНИ, расслабившись в мягких креслах и устало глядя на пронзенную тонким лучом толщу глубин, и тоже не знают, что будет с ними завтра.
Потом я увидел своих родителей: отца — рыжебородого, смеющегося, и мать — ласковую, чуткую; я смотрел на них с балкона, — они вышли из подъезда и пошагали в магазин (они обычно вдвоем туда ходили), отец в своем неизменном мешковатом темно–сером с полоской костюме, в широконосых грубо сшитых полуботинках, мать — в легком белом платье в желтые цветы, у отца в руке хозяйственная сумка. Я вижу, как отец весело щурится, повернув голову к матери — мать робко, по–девичьи смущенно, улыбнулась…
Сколько длилось мое забытье? Я очнулся, как показалось, от чьего–то прикосновения к плечу, вздрогнул и с ужасом огляделся в полумраке — никого рядом не было, но возле двери что–то белело. Подполз — несколько ломтей «Бухарин» и хлеб. Что ж, хоть какая–то забота.
…О чем же я думал? Ах, да!.. Хотя, впрочем… Да, да — о девушках. У меня много знакомых девочек, но Олька особенная. Вернусь, обязательно расскажу ей, какая она не похожая на других. Если, конечно, она пожелает со мной разговаривать — мы ведь, кажется, поссорились. Ну я–то зла против нее и обиды не держу, да и какая это была ссора, смешно вспоминать — усадил Ольку на мокрую после дождя скамейку: просто так, ради хохмы… Отчего меня на воспоминания потянуло? И почему я думаю об Ольке так, словно никогда уже ее не увижу? Может быть, я не верю, что выберусь отсюда? Я видел много фильмов, где отважные люди бесстрашно убегали из тюрем, но раньше мне не приходила в голову мысль, что в тюрьме тысячи заключенных, а убегает кто–то один.
Собственно, отчего я так усиленно об этом думаю? Ведь я уже не принадлежу даже самому себе, не распоряжаюсь собой — я не могу лишить себя жизни при желании, для этого под рукой нет никаких приспособлений, не успею умереть от голода — ведь не месяцы же они собираются тут задерживаться, под ремонтируются и вперед, ничто их больше не заботит.
«Не буду я жрать ваше подаяние!» — закричал я и вскочил, чтобы пнуть ногой принесенную жрачку, но больно стукнулся затылком о скошенный потолок. И сел, потирая ладонью ушибленное место… Нервишки сдают… Я подумал о том, что само нахождение в этой камере и есть медленная мучительная пытка. В каком бы положении я ни находился, постоянно чувствовал себя неудобно, неловко. Стоять — долго не постоишь сутулясь, сидеть и тем более лежать на непрогибаемом металлическом перекрытии не пожелаешь и заклятому врагу, вокруг склоненные стены, пустота, затянутый мраком глазок иллюминатора…
Не знаю, как развивалось это мое состояние, что вытворил бы я — непременно что–нибудь вытворил! — если бы в тот момент, когда отчаяние нестерпимо захлестнуло меня, в камеру не вошли два робота. Они встали у отворенной двери, глядя на меня, как мне показалось, с легкой иронией, и один из них жестом повелел мне выйти. «Неужели они наблюдали за мной?! — ошеломился я. — То есть, конечно, не наблюдали в прямом смысле, а каким–то образом фиксировали мое состояние, мои чувства, черт побери!»
Я вышел. В конце коридора лежали металлические ленты, прутья, стояли шалашом иссиня–черные, будто вороненые, плиты, но никого из ремонтников рядом не было, воздух в коридоре оказался достаточно свежим, чистым — возможно, работы прекратили именно для того, чтобы, выйдя из камеры, я не задохнулся. Мы миновали овальный зал, стены которого сплошь состояли из приборных досок с несметным числом лампочек, экранами, шкалами, а вдоль стен на равном удалении располагались пульты управления, и перед каждым пультом возвышалось на ножке изящное кресло. Зал, однако, был совершенно пуст, приборные панели не светились.
Я старался запомнить расположение лестниц и коридоров, по которым меня вели, но вскоре потерял им счет. Терялся в догадках — куда меня ведут? На беседу с Главным? Или просто–напросто переводят в другую камеру? А может, я заинтересовал их медиков? Я поглядел на шагавшего впереди робота: кожа у него на шее была без единой морщинки, по виду — толстая, пластиковая, плечи в меру широки, бедра узки, ноги длинные и ровные — спортивный парень. Когда я думал о нем, робот обернулся и глянул на меня. «Ничего плохого я о тебе не думаю, старина, — приободрил я его мысленно, — зла не держу, да и в чем тебя винить?»
Пожалуй, красноречивее всего о громадном объеме корабля говорило количество дверей, которые беспрестанно отворялись, раздвигались перед нами — им не было числа. Свернули в проем, за которым я приостановился от неожиданности — впереди хоть глаз выколи. Шедший позади охранник легонько подтолкнул меня в спину, и я, распластав руки, шагнул во тьму. Чуть позже я сообразил, что эта часть звездолета не освещена, наверное, потому, что где–то в космосе или при посадке электропроводка получила повреждения, которые еще не устранены. Роботы совершенно свободно ориентировались в темноте, я же полагался больше на свой слух, чутко улавливая характерный писк, время от времени издававшийся из груди шедшего впереди. Вдруг я наткнулся на какую–то стену и замер, не зная, как быть. Провожатых моих не было слышно. В замешательстве я принялся водить ладонями по стене, ища щель или какую–нибудь ручку. И в это мгновенье дверные половины начали расходиться и я увидел роботов, в ослепительном сиянии никеля стоявших на решетке в шахте. Та ли это была шахта, которая, вполне возможно, за всю историю космического корабля впервые приняла капсулу с землянами, или другая, осталось для меня неизвестным. В глубине ее покоился цилиндр. Робот проворно спустился по вертикальной лесенке, и, легко догадаться, меня не надо было упрашивать следовать за ним. Когда все разместились, робот задвинул щиток, шахта наполнилась водой, люк открылся, и цилиндрический снаряд покинул корабль. Не стану описывать дальнейший путь — я провел его в нетерпении и радостной тревоге. Чтобы там ни было, я знал, что там, на земле, буду чувствовать себя уверенней и не упущу случай, если, конечно, таковой представится. Впрочем, зачем выжидать какой–то случай, не проще ли испытать судьбу сразу, едва мы ступим на берег? Я оглядел охранников — никакого видимого оружия у них с собой не было. Они сидели калачиком, обхватив руками колени и устремив взгляд (почему–то показавшийся мне грустным) на противоположную стенку цилиндра, за которым понемногу светлела вода. Прошло еще несколько минут, и вот цилиндр уже скользит по гребням волн озера. Я задираю голову — солнце перевалило через зенит, длинные тени на склонах, небесный цвет густеет… Господи, как все это хорошо, как знакомо, божественно, восхитительно!
Берег был совсем близко. На открытом месте, в некотором отдалении от леса, стояли четыре сосны. Когда цилиндр вкатился на прибрежный песок, я тотчас вышел и быстрыми шагами, не оглядываясь, направился к соснам. К моему удивлению, охранники не препятствовали мне и держались чуть позади. Я убыстрял шаги, и волнение все сильней охватывало меня. До сосен оставалось несколько десятков метров, но, к моему огорчению, вокруг расстилалась ровная поляна, а за пригорком — покатая низина с цветущим клевером, так что если где–то и возможно найти убежище, так только в лесу, до которого едва ли так просто позволят мне добраться. Однако ноги сами несли меня туда. Я бросил мельком взгляд назад — охранники по–прежнему держались чуть позади, на их лицах отсутствовало всякое выражение, даже намек на недовольство моим самовольничаньем, будто мы втроем совершали прогулку по окрестностям, где послушными экскурсантами были они, а гидом определен я.
Лес приближался. Я ожесточенно двигал локтями, неожиданно для себя самого уверовав в чудо, в то, что роботы не осознали обмана, не понимают, куда их ведут. Робот — он ведь и есть робот, ходячий манекен с недоразвитыми электронными мозгами, неспособными к малейшей импровизации. Тут позади раздался знакомый писк. Преотлично понял вас — я должен свернуть налево в горы. Я усмехнулся наивности конвоиров и ускорил шаги, в сущности перешел на бег. Я ничего не видел, кроме леса впереди. Писк повторился, предостерегая. «Ищите ветра!» — весело помыслил я и рванул что было сил. Пронесся несколько метров, как вдруг что–то секануло по ногам, опора ушла из–под них, и я навзничь упал на траву. Через мгновенье ошалело вскочил, бросился к лесу, и снова невидимый бич страшным ударом подкосил меня. На этот раз я упал бедром на кочку, скорчился от боли, но, пролежав немного, опять встал, одержимый инстинктом свободы, захромал к деревьям. Не пройдя десятка шагов, я опять очутился на земле. Отчаяние мое было велико, но под стать ему было и смятение. Роботы умели создавать невидимый направленный силовой удар! Оружие, которому в моем положении нечего противопоставить.
Я был унижен, оскорблен. Внезапно злоба захлестнула меня, и с размаху я ткнул кулаком в ненавистную пластиковую рожу — она оказалась крепка, словно камень, робот даже не качнулся, а кулак мой, напротив, будто раскололся, и я, пронизываемый болью, стиснув зубы, сунул его под мышку. Я проиграл и покорно поплелся по тропинке туда, куда мне показывали. Победители ничем не выказали торжества, один уже шел впереди, другой остался позади, и чем выше мы поднимались, тем редела сильнее растительность, уменьшая мои шансы на благополучный исход еще одной попытки побега. Собственно, уже я не был способен на таковую. Усталость и слабость охватили меня, но главное, я был надломлен духовно, почти не верил, что удастся бежать, спастись. Я смотрел на мерно покачивавшиеся впереди красивые плечи, на совершавшие плавные движения изящные сильные руки, поднимал глаза и видел затылок с ниспадавшими жидкими бесцветными прядями, и в душе моей возникало какое–то новое, доселе неведомое странное чувство.
Из–под подошв конвоира сыпались мелкие камешки, подъем становился круче. И тут я запел. Это была старинная народная песня, голос мой крепчал, разливался окрест.
Не буйны ветры повеяли,
Незваны гости наехали.
Проломилися сени новые
С переходами да с перебродами;
Растопились чары золоты…
Когда я взял первую ноту, конвоир обернулся, но мне вдруг подумалось, что он не услышал меня — просто его что–то насторожило, может быть, он ощутил посредством биотоков мой внутренний подъем. Я запел еще громче, надеясь, что кто–то, какой–нибудь чабан услышит меня. Хотя какие подозрения могли вызывать трое парней, поднимавшихся по тропинке, пусть даже один из них пел и был полугол?
Не буйны ветры повеяли,
Незваны гости наехали.
Прошли еще сотню–другую метров по горной гряде; выйдя на склон, конвоиры, вдруг оставив меня одного, скрылись в укромном закутке из камней, отдаленно напоминавшем формой шалаш, но через мгновенье вновь появились, уже вооруженные черными, размером с пенал, предметами непонятного предназначения. Чуть поколебавшись, я вошел в шалаш, который, как скоро выяснилось, служил входом в пещеру. Сперва я решил, что дорогу мне будут освещать, используя эти самые пеналы, но продвигаться пришлось в кромешной тьме, ориентируясь на многоцветье лампочек на курточке шагавшего впереди.
В пещере было сыро и невообразимо душно, я ненасытно глотал теплый липкий воздух. Несколько раз я оскальзывался, больно падал, даже угодил в какую–то лужу, съехал, объятый ужасом, куда–то вниз. Я был несказанно изможден, но страх потеряться здесь подстегивал меня, я поспешал, теперь уже ни за что не желая расстаться со своими конвоирами, которые шагали уверенно и спокойно. Несколько раз мы свернули направо, потом, как показалось, вернулись назад, миновали какой–то просторный грот, о размерах которого можно было судить по эху наших шагов, и чем дальше мы проникали в глубь пещеры, тем отчетливей я осознавал, что в одиночку мне отсюда уже не выбраться.
Впереди забрезжил свет. Когда мы приблизились, я увидел узкий проход с причудливо изогнутыми сталактитовыми столбами. У подножья их помещались шары–светильники, а вверху были подвешены гамаки. Несколько гуманоидов полукругом стояли возле экрана с сеткой меридианов и параллелей, но самое поразительное заключалось в том, что в отдалении мирно беседовал с двумя инопланетянами наш капитан Григорий Тимофеевич Желудев. Да, да — именно он. Не зная, что и подумать, я замер. Григорий Тимофеевич был в рубашке с чужого плеча, в нелепых брюках–клеш. Вдруг меня пронзила догадка — в нем, только в нем одном мое спасение! Ведь он тут, наверняка, дожидается меня! Он с ними договорился — конечно, конечно! Вот он чуть приметно улыбается: проникновенно, тонко — это его улыбка, он все понимает.
Гуманоид, что–то поясняя, чертил в воздухе тонким длинным пальцем. Тимофеевич пытливо всматривался в собеседника, перебивая его короткими вопросами, потом устало улыбнулся и отер лицо рукавом рубахи.
«Григорий Тимофеевич!» — закричал я.
Мой вопль потряс своды.
Капитан обернулся, и на его лице выразилось удивление — он смотрел, как бы припоминая меня, потом неприятно осклабился, помахал рукой и вновь оборотился к собеседникам.
«Григорий Тимофеевич!» — я кинулся к нему, но в тот же миг покатился по земле, словно бы скошенный выстрелом пневматической пушки. Конвоиры помогли мне подняться, встряхнули и потянули за собой в удушливый мрак пещеры. Я бешено, всем телом, извивался, пытаясь освободиться из цепкой хватки, вопли о помощи раздирали мое горло, брыкался, ревел, на мгновенье утихомиривался и снова начинал безуспешную борьбу, увлекаемый в глубь подземелья. Наверное, в эти минуты я выглядел ужасно: в слезах, перемазанный грязью, с обезумевшим от боли и отчаяния взором. Я понимал только одно — что от меня отреклись, отвернулись, бросили, что судьба моя кем–то уже решена и решена бесповоротно. Когда припадок кончился, меня, обессилевшего, поволокли, держа туловище на весу, ноги елозили по земле, — я лишился чувств.
Едва очнулся, ощутил, что нахожусь в прежнем положении, что чьи–то сильные руки куда–то несут мое безжизненное тело. Я уже не сопротивлялся, сломленный, беспомощный. Меня настойчиво и упорно волокли по каким–то петляющим ходам. Мало–помалу силы возвращались ко мне, и мое состояние представилось унизительным. Резким рывком я выпрямился, освободил руки и сказал роботам озлобленно, но без вызова: «Ведите меня!» Не знаю, уяснили ли смысл моих слов конвоиры — так или иначе, они не прикоснулись ко мне, один зашел спереди, другой сзади, и пошагали. У меня перед глазами стояла улыбка Григория Тимофеевича — улыбка манекена. Он даже не шелохнулся, когда я призывал о помощи! Тут я остановил свою мысль, удивившись: с чего это я о ком–то размышляю, о каком–то чужом человеке, пусть даже он бывший наш капитан и мой сосед, — все равно он чужой, ведь он ясно дал мне это понять, отвернувшись тогда, — нет, я должен думать о себе, о том, куда меня сейчас ведут: это в первую очередь должно меня волновать. Но о себе не получалось хорошенько подумать, никак не удавалось сосредоточиться на мыслях о собственной персоне — наверное, потому, что меня, собственно говоря, уже и не было. Меня уже почти нет, поскольку оставшиеся минуты не означали в сравнении с прожитой жизнью ровным счетом ничего.
Я давно догадался, что меня ведут убивать. Оставалось непонятным только, почему они не стали делать это раньше? Впрочем, какая разница? Я равнодушно отнесся к осознанию того, что жизнь моя скоро кончится — точнее, она уже завершилась, остались формальности. Я не сожалел ни о чем, да, собственно, о чем было жалеть — ведь я не успел ничего совершить, и даже если бы успел: что это сейчас меняло? Еще несколько шагов, и все будет кончено.
Я прошел эти метры, ощущая дрожь в коленях. Кто из них должен это сделать? Наверняка тот, что позади. Мне стало страшно, я обернулся и увидел сзади разноцветное мерцанье электрических лампочек, точно рождественская елка двигалась за мной. Радужный отсвет падал на подбородок, словно гладко выбритый, и отражался в стеклянных глазах. Я приостановился и, когда робот приблизился, заметил, какие у него мощные, толстые, грубые, далеко выдающиеся надбровные дуги, скошенный собачий лоб. Он двигался плавно, замедленно, в сиянии электрических красок — чудовище, урод, вершитель моей судьбы.
Шаг, еще один, еще… Движения мои скованы, я весь напрягся, как перед прыжком, и тут моя рука сама вознеслась над головой, замерла и тяжело опустилась на затылок шедшего впереди. Конвоир взмахнул руками, будто крыльями, и беззвучно утонул во мраке.
И вдруг я ощутил себя участником замедленного кино. Неспешно оттолкнулся ногой и взлетел — я никогда не подозревал, что один шаг, счет которому есть миг, может длиться так долго. Я словно ступал в безвременье. Чувство свободного полета охватило меня, и я без опаски ожидал, что моя нога, раз опустившись, не найдет опоры — да будет так! Но всякий раз опора находилась, земная твердь принимала меня, и постепенно мои шаги участились, я помчался что было сил, жадно ловя ртом теплый парной воздух.
Тот, что был сзади, кинулся вдогонку. За спиной гулким эхом отзывались его поспешные прыжки. Два или три раза я ударился впотьмах о камни стен, но продолжал бежать, уже вытянув перед собой руки. Ничто не могло остановить меня.
Не знаю, сколь долго продолжалась погоня, но я внезапно услышал, что убегаю от самого себя. Да, я не ослышался — отзвук моих собственных шагов настигал меня. Я понял, что остался один в подземелье, но не мог окончательно поверить в это. Остановился, огляделся — кромешная темень. Грудь моя учащенно вздымалась, я глубоко вздохнул и неожиданно уловил губами свежесть, прохладу — о, боги! Неужто где–то поблизости выход? Неужели освобождение мое близко? Шатаясь от усталости, я побрел дальше.
Я продвигался по одному из многочисленных ответвлений лабиринта. Силы мои были на исходе. Внезапно невесть откуда взявшаяся серебристая сыпь высыпала у меня перед глазами; я слабо махнул рукой, желая избавиться от видения, связанного, очевидно, с усталостью и долгим нахождением в темноте, но видение не исчезло, моя рука лишь на мгновенье затмила его. Глаза мои слезились, и тогда эта серебристая пыль растекалась, струилась и передо мной ненадолго возникала отливавшая слюдой, лениво перекатывающаяся под луной волна. Я сделал шаг, и вновь впереди заблистала россыпь инея, но когда я совершал следующий шаг, меня уже пронзило сознание того, что вижу звезды. Стон вырвался из моей груди, я упал и облился слезами. Чем был вызван этот плач — радостью ли освобождения или болью перенесенных страданий? Слезы горячими струями омывали щеки, плечи вздрагивали, и весь я то и дело колотился, трясся, как в лихорадке и вдруг вскочил, подстегнутый страхом, — ведь я еще находился в пещере! Я был еще в их власти!
Когда я наконец выбрался наружу, светало. Спуск отнял немного времени, я миновал стороной мусульманское кладбище с высокими воротами, увенчанными металлическим полумесяцем, и вышел к шоссе — пустынному, голому. Ужасный, истерзанный мой облик сослужил добрую службу: первый же показавшийся на дороге «Жигуленок» затормозил поблизости. Водитель приоткрыл дверцу и спросил жалостливо: «Где это тебя так изукрасили, парень?» — «Ограбили меня, дядя, — известил я смиренным голосом. — Мне бы домой скорей добраться». — «Ты местный, что ли?» — шофер оглядел меня сочувственным взором. «Ага, местный — из поселка». — «А чего шляешься по ночам?» — «Я не шляюсь, — пробурчал я. — Я на велосипеде ехал, хотел родственников навестить». — «Велосипед тоже утащили?» — «Ага». Водитель, видимо, утолил свой интерес и сказал: «Ну, садись».
Всю дорогу я молчал, делая вид, что дремлю. Когда въехали в поселок, открыл глаза. Светало. Улица была пустынна, не хлопали двери домов, не было видно и дворников. «Слава богу, — подумал я с облегчением, — меня никто не должен видеть». Шофер остановил машину во дворе; едва «Жигули» отъехали, я подбежал к подъезду, встал ногой на выступ цоколя, потянулся и ухватился руками за бетонную плиту балкона, еще усилие, и я был уже на балконе. Теперь предстояло открыть балконную дверь. Я огляделся, ища ящик с инструментами, — ящика нигде не было, стало быть, перед отъездом отец отнес его в сарайчик. От досады я стиснул кулаки… Скорей, скорей — вот–вот проснутся жильцы. Ничего другого не оставалось, как выбить стекло. Шуму будет… Но ведь не голой рукой вышибать стекло; я лихорадочно шагнул к тяжелому, наполненному землей цветочному горшку, намереваясь использовать его для этой цели, и остановился — чересчур громоздок. Мой взгляд упал на рогожу под ногами — что, если ею обмотать руку? Подхватил рогожу и остолбенел: под ней были коробка с гвоздями, молоток и топорик. Топор! Как раз то, что мне нужно! Видимо, перед самым отъездом отец в спешке что–то чинил и забыл положить его в ящик с другим инструментом. Я просунул лезвие топора в щель между дверью и косяком и надавил. Еще, еще усилие… Дерево стало потрескивать — это шурупы выходили из своих гнезд. Я приложился плечом, щель расширилась, — тотчас всунул руку и нащупал шпингалет. Остался верхний… Дверь отворилась рывком, точно кто–то изнутри дернул ее на себя. В комнате воздух был спертый, всюду лежала пыль. Я выронил топор — страшная слабость охватила меня, с трудом добрался до тахты…
* * *
Сон мой длился не меньше суток. Я открыл глаза на рассвете следующего дня; из распахнутой балконной двери тянуло прохладой, сквозняк колыхал тяжелые шторы на окнах. Все выглядело так, словно я только что, а не сутки назад, вошел сюда, однако состояние мое разительно переменилось, проснулся я уже другим человеком. Мне не надо было куда–то прятаться, от кого–то бежать: я находился у себя дома. Конечно, происшедшее было свежо в моей памяти, я помнил мельчайшие подробности последних дней, но вместе с тем они уже остались позади, в прошлом, за тем пологом свершившегося, который отделяет день вчерашний от дня сегодняшнего, и, видимо, следовало больше мыслить не над тем, что было, а над тем, как быть, как жить дальше. Я стал участником встречи с инопланетянами — случай, который выпадает раз в жизни. Почему–то судьба отметила меня, однако есть ли основания полагать, что вся эта странная история завершилась? Отчего я чувствую себя таким защищенным в этих стенах, в этой пятиэтажной коробке? Разве бетонная перегородка в десяток сантиметров толщиной может служить преградой для тех, кто одолевает несметные космические расстояния?
Я откинул одеяло, сунул ступни в шлепанцы и двинулся на кухню. Холодильник, разумеется, был пуст, поскольку накануне похода я просто–напросто его опустошил, тем не менее мною была осмотрена даже морозильная камера в надежде обнаружить кусочек съестного, затем я проверил содержимое кухонных подвесных шкафчиков и обнаружил в одной из банок немного гречневой крупы. Каши получится, что называется, на один зуб. На душе у меня было тоскливо, мучил зверский голод; уже ни на что не надеясь, проинспектировал все полки и неожиданно под одной из них в ворохе старых газет нашарил два пакета супов–концентратов. Из этого уже было возможно приготовить мало–мальски сносней завтрак, которого, пожалуй, хватило бы и на двоих. Я поставил кастрюлю с водой на огонь и прошлепал в комнату. Набрал номер домашнего телефона Виктора и, когда на другом конце провода подняли трубку, сказал:
— Попросите, пожалуйста, Виктора.
— Он спит, — сухо известил женский голос.
— Понимаете, мне очень нужно с ним поговорить. Не могли бы вы разбудить его? — тут я подумал, что, пожалуй, следовало бы представиться. — Беспокоит его товарищ по походу. Тотчас последовала реплика:
— Собутыльник! Один из тех двух прохиндеев! Вчера моего мужа доставила домой милиция — вдребезги пьяного, в синяках! Ничего себе сходил в походец! Пьянчуги окаянные! Пропили, небось, лодку–то, вот и весь поход, — тут она зарыдала, как будто ей было жаль нашу лодку.
Я не знал, что сказать. Конечно, не представляло затруднений сочинить какую–нибудь душещипательную историю о кораблекрушении, впрочем, основанную на действительных фактах, но я резонно опасался, что Виктор, проснувшись, даст свою версию случившегося и Танюша поймает нас на противоречиях — уж тогда Виктору не сдобровать, начнутся допросы, наверняка изнурительные, многочасовые, вызванные подозрением в супружеской неверности, — может статься, Виктор не выдержит, сломается и расскажет всю правду, которой, разумеется, тоже не поверят. Но все–таки желательно не говорить правду.
В трубке слышались всхлипывания, потом — раздраженное бормотание, а следом — гудки, гудки… Итак, волею наперстницы Виктор был исключен из игры, что заметно осложняло ситуацию и не позволяло мне выработать уверенную линию поведения. Оставалось одно — дожидаться, когда журналист выйдет на работу, встретиться с ним, все хорошенько обсудить и, конечно, решить, что нам делать дальше. Тут я приостановил свои умозаключения и спросил себя: а зачем, собственно, все эти обсуждения и решения? Ведь уже сейчас определенно видна наша позиция, совсем не трудно ее предугадать: мы пожелаем остаться в стороне, благоразумно пожелаем. И, конечно, не станем сообщать в Академию наук, в правительство, в Генштаб. Какие еще инопланетяне?! Увольте, бога ради, лично мы не верим в эти сказки.
Суп наполнил тарелку до краев, я активно задвигал ложкой. И тут в прихожей заклацал замок… Ложка, поднесенная ко рту, застыла в воздухе. Наверное, все это время во мне подспудно присутствовало ощущение опасности, и сейчас оно сковало меня. Они! Они! Разыскали–таки! Дверь тихонько отворилась, кто–то вошел в прихожую и проследовал в комнату — мы не видели друг друга.
Он почему–то решил вернуться, и нарастающие звуки его шагов пробудили меня. Я вскочил с табурета, прижался спиной к стене, цепко сжимая в руке кухонный нож. Неизвестный, не дойдя, однако, до кухни, повернул в ванную, открыл там кран и затем вернулся в комнату. Обнадеживало, что он был один. На цыпочках я прокрался по коридору и затаил дыхание. План мой был таков: в тот момент, когда пришелец будет проходить через дверной проем, ударить его рукоятью ножа в уязвимое место — в пластиковый затылок. В ванной шумела вода, но я отчетливо слышал медленные шаркающие шаги инопланетянина за перегородкой стены. Уж нетерпение подстегивало меня — когда же он кончит копошиться?!
И вдруг шаги стихли — стало быть, он остановился, замер, что–то заподозрив, или же… хм–м… догадка эта показалась неожиданной… или же вышел на балкон. Впрочем, если он меня разыскивает, а он, безусловно, именно за этим и прислан, то почему ему не осмотреть и балкон? Я услышал, как пришелец переступил порог, возвращаясь в комнату. Волнение заставило меня напрячься, я стиснул в руке вознесенный над головой нож. Мое сердце стучало в ритм его приближавшихся шагов.
— Ой! — испуганно вскрикнула Майя Иосифовна и прикрыла ладонью рот.
Нож остановился в воздухе.
— Это вы, Майя Иосифовна, — смущенно пробормотал я, опуская руку.
Да, это была моя соседка — в тапочках, в домашнем просторном халате, волосы рогаликом уложены на макушке, старомодные круглые очки на переносице. В руке Майя Иосифовна держала лейку.
— А ты решил — бандит в комнату залез, — проговорила она и засмеялась, впрочем, нервным смешком. Вдруг лицо ее посерьезнело: — Да ты весь в синяках, мальчик! Боже мой!
— Под камнепад мы попали, — удрученно поведал я. — Лодку на берег вытаскивали, и тут с гор на нас камни покатились.
— Ой! Ой! — снова вырвалось у Майи Иосифовны. — А я вчера ввечеру Григория Тимофеевича видела — целехонький он, улыбчивый такой, говорит, за удочками вернулся. Я первым делом, конечно, о тебе расспросила. Не беспокойтесь, говорит, жив–здоров ваш Сережа, ждет там на берегу. Вот только удочки заберу, что впопыхах позабыли, и продолжим плавание.
Григорий Тимофеевич вернулся! Вот так известие!
— Должно быть, Григорий Тимофеевич не стал про камнепад рассказывать, чтобы вас понапрасну не волновать: все, слава богу, обошлось.
— Очень воспитанный человек, Григорий Тимофеевич, очень хороший человек, — с уважением произнесла Майя Иосифовна и прибавила по–деловому: — Цветочки в комнате я полила, и на балконе тоже, а бодягу сейчас принесу — будешь растирать свои синяки. Не приведи господь — видели бы тебя твои родители!
На пороге она обернулась и, скорее всего, все еще продолжая удивляться моему неожиданному появлению, говорит:
— А я захожу в комнату, гляжу — дверь на балкон открыта, ну, думаю, в прошлый раз забыла ее прикрыть, бестолковая голова… — последнюю фразу Майя Иосифовна договаривала, уже выйдя на площадку этажа и спускаясь по лестнице. Вскоре соседка вернулась с баночкой бодяги; я, расстроганный, поблагодарил добрую старушку и со всей убежденностью заверил, что впредь ни в каких походах участвовать не намерен, а иначе: провалиться мне на этом месте, Майя Иосифовна!
Проводив старушку, я опрометью кинулся к зеркалу. Да! Сказать нечего! На меня растерянно глядела оплывшая скособоченная физиономия, похожая на кривой баклажан, левая щека опухла, правая, напротив, ввалилась, одно ухо нормальное, другое — какое–то приплюснутое, волосы всклочены, лоб в лиловых шишках — словом, на улице не показывайся, детей напугаешь… Ах, ну да это пустяки, — говорил я сам себе, обливаясь в ванной горячими сыпучими струями, — главное, Григорий Тимофеевич здесь, он мне все расскажет, все объяснит. Ведь тогда, в пещере, он просто ничем не мог мне помочь, он ведь один был, и я был один, а их, гуманоидов, много было; будь я или кто другой на его месте, тоже наверняка ничего не удалось бы сделать, а Григорий Тимофеевич рукой еще мне помахал — так приветливо, ободряюще, не побоялся!
Помывшись, я запахнулся в купальный халат и выскочил на лестничную площадку. Раз, второй нажал кнопку звонка — сосед не открывал. С силой, даже со злостью, я утопил кнопку и держал палец так долго–долго, но, увы, безрезультатно: Григория Тимофеевича дома не было. Опечаленный, я вернулся в квартиру — некому утолить мой интерес, некому разрешить сомнения, я вновь остался наедине со своими мыслями, от которых никак не удавалось отрешиться.
По телевизору какой–то долговязый тип в кепке показывал, как следует правильно высаживать плодовоягодные кустарники, плотно утаптывал сапожищами почву вокруг саженца и делал обрезку громадными садовыми ножницами, однако меня мало занимали проблемы садоводства. В голове моей был полный сумбур, мысли истерзались противоречиями, и все из–за одного пустякового, казалось бы, фактика, всплывшего сейчас в моей памяти: Григорий Тимофеевич сказал Майе Иосифовне, что эти самые несуществующие удочки он заберет и затем…в горы вернется! То есть, с удочками тут все было ясно, не за этим, конечно, он явился, но остальная–то часть его фразы изумляла! Куда, воля ваша, Григорий Тимофеевич, надумали вы возвращаться? И зачем, когда катамаран наш затонул и приключений хватило вдосталь? Не спокойнее ли попивать дома чаек? Что вас, позволительно узнать, так манит назад? В его ответе имелась еще одна особенность, встревожившая меня. Для чего он сообщил Майе Иосифовне, что возвращается в горы, когда и без того все в доме знали, что именно там мы проводим отпускные дни? А сообщил он это, несомненно, для того, чтобы его не хватились. Тут, если далее развивать умозаключения, приходишь к решению, что опасения его имеют резон в том единственном случае, когда мы с Виктором возвращаемся из похода вдвоем, без него. Стало быть, он предвидел, что мы вернемся без него, и вся хитрость состояла в том, чтобы, верно рассчитав, через словоохотливую Майю Иосифовну известить меня, что разыскивать его не следует. Да, но ведь это можно сделать гораздо проще! Отворив дверь, я кинулся вниз по лестнице, на первый этаж, где висели почтовые ящики. Мои ожидания оправдались — в кипе газет белел конверт. Трясущейся рукой я разорвал его, поднял с пола выпавший листок: «Буду завтра. Г. Т.». Хм–м… События начали принимать детективный оборот. Что, в конце концов, все это означало? И главное, зачем Тимофеевичу понадобилось возвращаться в горы? Что он там позабыл? Было над чем поломать голову.
Я выпил чашку чая, ощущая некоторое утомление после волнения. Пожалуй, я излишне переживаю. Само собой, меня беспокоит судьба Григория Тимофеевича, но будем надеяться на благополучный исход.
С гор на поселок наползла туча, похолодало. Туча двигалась медленно, низко, закрыла собой холмистые предгорья. Женщины во дворе спешно снимали с веревок белье, детвора убежала из песочницы, захлопали, застучали форточки и окна. Судя по колоссальным размерам тучи, по тому, какая она была вспухшая, тяжелая, можно было решить, что несет она в себе несметное количество воды, но туча, надвинувшись на поселок, разразилась на удивленье мелким и реденьким дождиком. В комнате стало темно и печально. Я лег на тахту, и сами собой сомкнулись веки. На этот раз болезненные и кошмарные видения не тронули мое воображение, в противоположность этому, я увидел нечто возвышенное и красивое. Я увидел коней с червоными гривами, несущихся по усыпанному белыми цветами лугу — гулкий топот конских ног, копыта взметывают землю, все стремительней, неудержимей галоп, и вот уже ослепляет стальным отливом под солнцем излучина реки. Со всего маху конские груди ударяют в воду, снопы пенных брызг, и из них вдруг возникает мокрое и счастливое Олькино лицо. Она выбегает на берег в прилипшем к телу коротком платьице, смеясь, подпрыгивая, и на макушке озорно бьются две косички. Я вижу ее бесконечно счастливое лицо, небо и облака.
Так и не выяснив причины ее восторженного ликованья, я уснул и проснулся далеко за полночь. В комнате в свете уличных фонарей качались, сходились и расходились тени деревьев, но вначале я решил, что это сияние луны пробивается сквозь мглу, принесенную тучей. Во дворе под порывами ветра то стихал, то нарастал шум листвы. Я лежал недвижимо, устремив взор на эти перебегавшие по потолку причудливые тени, движения их напоминали ритуальный танец дикарей возле костра. Потом включил транзистор; «Маяк» передавал последние известия. Я внимательно прислушивался к голосу диктора, доносившему до меня эхо мировых событий, и главного не услышал. По радио заиграл струнный оркестр Московской филармонии, я послушал немного и принялся искать другую волну — диктор «Голоса Америки» читал отрывок из романа какого–то диссидента: это было тоже скучно, и я передвинул переключатель диапазонов. Из Монте–Карло донеслось, прерываемое какофонией помех, протяжное соло кларнета, потом задребезжали тарелки и чей–то сочный баритон взял первую ноту. «No nuclear war!» — скандировали в Швеции, а затем сквозь шипенье эфира прорвался сумасшедший ритм рокового ансамбля и чьи–то иступленные крики. В Португалии читали сказку — в это время там детвора еще только укладывалась спать, вкрадчивый голосок дикторши едва не убаюкал и меня. Бесчисленными токами, пронизывающими тысячекилометровую толщу эфира, я был связан с миром и с затаенным дыханием, бережным касанием пальцев вращал ручку транзистора. В динамике перемежалась барабанная дробь военного марша с лирическим контральто оперной певицы, слышалось чье–то неуемное ликованье, прерываемое размеренно–неторопливым чтением молитвы, и все это поглощало кипение многотысячного переполненного футбольного стадиона. Я слушал, чем живет планета, стремясь в хаосе настигавших меня звуков отыскать скрытый потаенный смысл и не находил его. А может быть, истина заключалась в самом этом хаосе, в этом беспорядочном и бесконечном движении, в сумятице мыслей и чувств, в круговороте событий? Или истина в том, что сейчас я лежу, точно мертвый, с застывшим взглядом, и мысль моя бьется в жалкой попытке постигнуть суть происходящего и происходившего?
Григорий Тимофеевич не появился ни завтра, ни послезавтра. Я пребывал в растерянности: надо было что–то делать, но что именно? Не идти же в милицию, в самом деле? Однако взамен того, чтобы, теша себя надеждой, сидеть дома и дожидаться прихода учителя, я слонялся по поселку. Мною были обследованы универмаг, все три кинотеатра и побережье, но это почему–то не помогло мне избавиться от внезапно возникшего чувства своей вины. Я петлял между домами с лихорадочной поспешностью, точно преступник, заметивший приближение погони, и не видя того, что мой маршрут все чаще пролегает поблизости от здания районной милиции. Непроизвольно я описал круг, и центр его опять–таки приходился на это приземистое кирпичное строение под шифером, от которого я уже не мог отвести взгляд, пытаясь угадать, что же происходит за его темными окнами. Неожиданно явилось решение: я остановился у крыльца, сунул руки в карманы и принял наплевательский вид. К крыльцу был прислонен чей–то мотоцикл, и прохожему представлялось несомненным, что я дожидаюсь дружка–фулюгана, с которым сейчас ведут беседу в воспитательных целях. Так, цвиркая слюной, я простоял минут десять. Заскрипела дверная пружина, и на свет божий показался какой–то сержант, — оглянувшись с опаской, очевидно, боясь кого–нибудь зашибить, сержант отпустил дверь, и та с такой свирепостью стукнула о косяк, что, показалось, все здание содрогнулось. Я моментально очнулся, посмотрел на сержанта, который, покуривая, уходил тяжелой поступью по замусоренной дороге, и спросил себя — а что, собственно, я тут делаю?
Инопланетяне — это слово не звучало здесь, в атмосфере, окружавшей невзрачное здание; едва ли я сумел бы выговорить его, ступив на шаткие половицы ущербно освещенного — казенными лампочками коридора. Дежурный в фуражке и с повязкой на рукаве, испытывающий прищур глаза; картошка, базар, недовес, превышение скорости, скандал с тещей — всему этому отведено надлежащее место в голове под фуражкой, но инопланетяне? Друг любезный, мы как раз разыскиваем одного сбежавшего из областной психушки — не ты ли, часом, им будешь?
Я пошагал восвояси. Дома мне пришла мысль написать записку такого содержания: «Григорий Тимофеевич! Убедительно прошу Вас немедленно известить меня о Вашем возвращении. В противном случае буду вынужден сообщить в милицию о Вашем исчезновении». Перечитав записку, я остался чрезвычайно недоволен ею: ну, во–первых, какой–то канцелярский бездушный слог, а во–вторых, если так можно выразиться, в смысле смысла получалась совершеннейшая околесица — когда случится это возвращение, ежели оно уже давно должно было состояться, что и подтверждала полученная ранее записка, которую опустила в ящик, с большой долей вероятности, рука самого Григория Тимофеевича. Точнее сказать, факт возвращения нашего капитана состоялся, но вроде бы не совсем, иными словами, Григорий Тимофеевич, без сомнения, был в городе, перебросился словцом с Майей Иосифовной, но с той поры его никто не видел. Я спустился на первый этаж, бросил несуразную записку в почтовый ящик исчезнувшего соседа, затем стал ковырять ключиком в замке своего почтового ящика, открыл дверцу, взял газету и поднялся наверх. Вода в чайнике уже закипела, я сделал несколько бутербродов, положил газету перед собой и, вяло прожевывая, пробежал глазами передовицу; потом развернул страницы и увидел вчетверо сложенный листок — тупо уставился на него, проглотил кусок… «Уехал на компрессорную станцию за кислородом. Г. Т.». Прочитав это, я мог с уверенностью констатировать лишь одно — ум у меня зашел за разум, я запутался окончательно и ничего не мог взять в толк. Что ему понадобилось на компрессорной станции? Заправить баллоны кислородом? Но с какой стати Тимофеевич решил заняться сварочными работами? Ничего не понимаю.
Само собой явилось решение: ни о чем не думать, не гадать, отогнать всяческие мысли и ждать, покуда все не прояснится. Чтобы развлечься, я решил сходить в кино.
Я вошел в фойе кинотеатра, где было уже довольно многолюдно. Снизу, из туалетов, тянуло табачным дымом, и этот запах явственно ощущался даже в баре. Я заказал чашку кофе и рюмку ликера. Девушка за столиком напротив, сложив губки гузкой, через соломку отпивала кофе–глиссе, а на лице у нее было такое сосредоточенное выражение, точно она решала в уме какое–то дифференциальное уравнение.
— О чем вы задумались? — спросил я как бы невзначай.
Она мельком взглянула на меня и ответила строго:
— О том, как сделать, чтобы такие нахалы не приставали.
— А вы ходите не одна, с другом, — посоветовал я.
— Как раз вот он идет, — бросила она не без иронии, быстро встала, кинула скомканную салфетку в фужер и направилась навстречу высокому блондину в дурно пошитом коричневом костюме.
Через минуту по внутреннему селектору пригласили зрителей в зал. Следом за всеми поднялся и я.
Кадры фильма энергично живописали победу студента сельскохозяйственного техникума над бандой браконьеров, успешно вершивших свои кровавые дела до той поры, пока студент не прибыл на отдых в родную деревню по соседству с заповедником. Занимаясь разгромом банды, студент мимоходом изобличил местного пенсионера–самогонщика, разбил сердца двух девиц и одной вполне зрелой и сознательной женщины, заведовавшей сельской библиотекой. Кому по замыслу режиссера должны были сочувствовать зрители: смельчаку–студенту или же одинокой несчастной библиотекарше — осталось мне неведомо, потому что глядел я на экран одним глазом, мысли мои были заняты другим.
Выходя из кинозала, я заметил Бориску — плечи и кудлатая его голова возвышались над малорослой толпой. Я подкрался сзади и сделал подсечку — Бориска едва не растянулся на асфальте, очки слетели с носа.
— Чуть не разбил, — пробормотал обиженно Бориска, — оправа, между прочим, фирменная, во — поцарапал, — и протянул мне очки, тыча пальцем в царапину на дужке.
— Как отдохнул? — спросил я, когда мы присели на скамейку.
— Ничего, — бабкину дачу в Карелии достраивали. Дачка получилась чики–чики, с камином; следующим летом баньку там ставить будем, прямо на берегу озера, только уже без меня обойдутся.
— Это отчего?
— Хипповать я решил, Серега. Осенью в Таллинне будет рок–фестиваль, я пешим ходом туда похиляю.
Отчаливаю, так сказать, от родных берегов. Месяца за два доберусь.
— Ну давай–давай, — сказал я, не зная, как отнестись к его планам, и прибавил: — Ты, случайно, Ольку не видел?
— Она в начале сентября собиралась вернуться, — ответил Бориска, — а может, уже вернулась — не, не видел я ее.
— Спасибо за информацию, — я положил ладонь на колено Бориски. — Будешь уходить, загляни ко мне — попрощаемся.
— Если предки будут спрашивать — ты ничего не знаешь.
— Само собой.
— Я им открытки буду посылать — чтоб через милицию розыск не объявили.
— Разумно, — я встал, сказал: «Покеда», — мы пожали друг другу руки и разошлись.
Я направил стопы в сторону площади, откуда доносились марши духового оркестра. Шла репетиция праздника 1 сентября. Шеренги мальчиков и девочек то приседали, то вставали, синхронно взмахивали руками и вдруг перебегали с места на место, повинуясь взмахам флажка в руке худощавого паренька на трибуне. Я вовсе не собирался отрывать Фариза от дел (в прошлом году Фариз закончил культпросветучилище и теперь занимался организацией массовых праздников в поселке) и хотел по кромке обойти площадь, но массовик окликнул меня. Когда я взошел по ступеням на задрапированную кумачом трибуну, Фариз взмахнул флажком и спросил:
— Григорий Тимофеевич–паша видел? Я отрицательно покачал головой.
— Жал, — опечалился Фариз.
— А зачем он тебе?
— Праздник вдвоем сделаем. Один тяжело.
— Понятно. Если я его увижу, обязательно передам.
— Слушай, передай, что я его очень жду.
Я постоял на трибуне, оглядывая панораму площади, и потом спустился.
Войдя в подъезд, я вновь заглянул в почтовый ящик, но ничего там не обнаружил. В голове моей за время прогулки сложился перечень дел, которыми совершенно необходимо было заняться, из них самым неотложным являлась уборка. Вытряс половики, вымыл полы тремя водами, протер пыль; все это отняло час, и немного погодя с заметно приподнятым настроением взялся приготавливать ужин. Я помешивал ложечкой клокочущий бульон и думал об удивительности и необычности моего положения, в которое поставило меня знание величайшей тайны, но не меньше удивляло мое спокойное отношение к происшедшему. Вместе с тем я был уже не тот, чем, скажем, неделей раньше. Мы пытаемся в соответствии со своими идеальными представлениями изменить этот мир, не замечая того, что сами скорее меняемся под его влиянием. Мы говорим — возраст, подразумевая под этим и кое–какой житейский и духовный опыт, но ведь все это вместе взятое есть констатация и отражение длительности, но отнюдь не интенсивности воздействия внешнего мира. Вот и я в последние дни столкнулся с таким, что, может быть, составляет пик моего опыта и уже никогда не повторится, оставшись ярким мазком на равнотонной панораме прожитого. Тут я представил, сколь захватывающе увлекательна и стремительна их жизнь, сопряженная с неизвестностью и прелестью открытий, и вдруг страшно позавидовал им и пожалел себя. Но эти чувства были мимолетны, вспорхнули и исчезли, точно легкокрылые птахи… Перед тем как лечь в постель, я написал письмо родителям, запечатал его в конверт, затем зажег торшер, взял с прикроватной тумбочки книгу, накрылся до подбородка верблюжьим одеялом (тем самым, из которого некогда Григорий Тимофеевич намеревался сотворить парус) и читал допоздна, все более рассеянно, пока не заснул, позабыв выключить торшер.
…Не знаю, как я услыхал этот тишайший стук в дверь. Наверное, сон мой был не крепок, тревожимый матовым разлитым по комнате полусветом торшера. Кто–то деликатно, но настойчиво продолжал постукивать костяшками пальцев по внешней стороне двери.
— Сейчас, — пробормотал я, отыскивая шлепанцы.
Подойдя к двери, я спросил:
— Кто там?
— Это я, Серега, — ответил голос капитана. Я включил свет в прихожей и отворил.
— Припозднились вы, Григорий Тимофеевич.
— Ты спал, что ли? — удивленно спросил учитель, переступив порог. — А я иду, гляжу — свет у тебя горит, дай, думаю, загляну.
— Кушать будете? — спросил я безо всякого выражения, так как появление долгожданного гостя почему–то не вызвало у меня в душе никаких чувств.
— Пожалуй, не откажусь. А что у тебя есть?
— Сыр, помидоры, сметана, зелень, — взялся перечислять я.
— Давай сыр и помидоры. А пиво есть?
— Нету.
— Ладно, обойдемся.
— Григорий Тимофеевич, вам переодеться надо, — заметил я.
— Знаю, знаю, — торопливо ответил гость. — Я, видишь ли, с дороги.
На нем были уже знакомые мне запыленные брюки–клеш и испачканная глиной рубаха, расстегнутая на груди. Комочки глины были и в всклоченных волосах.
— Ты тут пока соображай, а я ополоснусь. — Гость сделал шаг к двери в ванную, как вдруг обернулся и произнес шепотом: — Серега, ты, случаем, в милицию не сообщал?
Я отрицательно мотнул головой.
— Так оно и должно быть, — сказал не совсем понятную фразу Григорий Тимофеевич и исчез в ванной.
Вскоре он появился — посвежевший лицом, мокроволосый, с повязанным вокруг бедер полотенцем.
— С легким паром вас, Григорий Тимофеевич! Присаживайтесь, — пригласил я его и сам сел за стол.
Ужин, впрочем, был довольно скуден, однако, скорее всего, не это навеяло грусть на учителя.
— Вот такие, братец мой, дела, — медленно и раздумчиво проговорил он, заключая вслух некую потаенную мысль.
— Где вы пропадали эти дни? — спросил я, не притронувшись к еде.
— Знаешь, появился шанс поднять катамаран со дна, — деловито сообщил капитан. — У меня есть пара знакомых ребят — аквалангистов, они обследовали «Беглеца» на глубине и сказали, что дело не составит труда, нужна только плавучая лебедка.
— Это аквалангистам кислород понадобился? — уточнил я.
Тимофеевич кивнул и сказал:
— Вся загвоздка в лебедке, будь она неладна!
— Лебедка лебедкой, а как быть с инопланетянами?
— Никак. Считай, что их и не было.
Я хмыкнул, не зная, как отнестись к такому совету, и признался:
— Единственное, что мне непонятно — почему они нас отпустили? Ведь мы могли сообщить обо всем куда следует.
— А тебе не приходила в голову догадка, что они умеют читать твои мысли? — усмехнулся учитель. — Я уверен, что у них имеется прибор наподобие детектора лжи, только контактирует он с тобой не через присоски, а, скажем, всепроникающими лучами. Не сомневаюсь, что и Виктор испытал сходные с твоими чувства, и тогда пришельцы, убедившись, что вы не представляете для них опасности, благоразумно отпустили вас, поскольку ваше исчезновение немедленно повлекло бы за собой розыск с привлечением плавсредств. И даже роботов отрядили, чтобы указать кратчайшую дорогу и уберечь от случайностей, а ты, неблагодарный, робота их сломал — это, кстати, явилось неожиданностью.
— Откуда вы знаете, что я сломал робота?! — воскликнул я, невольно привстав.
— Милый мой, я шел той же дорогой, но несколько позже, а сопровождала меня, между прочим, целая ремонтная бригада, посланная за этим бедолагой, — разъяснил Григорий Тимофеевич. — Ты знаешь, — продолжал он, пока я разливал кипяток в кружки, — мне довелось с ними… общаться, скажем так, поскольку беседой это не назовешь, и я вынес убеждение, что при всей нашей похожести они более математизированы, что ли. Я был с ними в пещере, когда пришло известие, что ты сломал их робота — они были в шоке. Им казалось, что все варианты твоего поведения просчитаны — не тут–то было.
Поэтому я спросил тебя первым делом — не сообщал ли ты в милицию?
— Нет, не сообщал — здесь они верно рассчитали, — произнес я несколько растерянно.
— Наивными их, конечно, не назовешь, но иногда они удивляют и прежде всего тем, что такое понятие, как ложь, им просто незнакомо, — рассуждал вслух полуночный гость. — Мыслящих существ среди всех работников, по моим наблюдениям, немного, может быть, и сотой части не будет, но они создали по своему подобию роботов и настолько развили их интеллект, что стало возможно довольно оживленное общение между всеми членами экипажа, живыми и неживыми. В свой черед роботы, я полагаю, заметно повлияли на гуманоидов и, раньше всего, отучили их от разных человеческих слабостей и привили фанатичную преданность к своей работе… Кстати, этот дозорный, — Тимофеевич улыбнулся при воспоминании, — часовой бестолковый, тоже роботом был. Они запрограммировали его на обозрение определенного сектора, а мы появились совсем с другой стороны, возникла нештатная ситуация, а согласно той же программе в этом случае он должен был, ничего не предпринимая, спешно возвращаться обратно. Помнишь, как он рванул в кусты? И повредил передающее устройство на голове. Едва я увидел их тогда у сопла, тотчас все понял, то есть, конечно, я не был уверен окончательно, но подозрение, что вижу гуманоидов, возникло сразу. Мне кажется, у них еще до встречи с нами имелся опыт общения с людьми, по крайней мере, при всей внезапности нашего появления растерянность их длилась недолго.
— Я эту камеру никогда не забуду, — заявил я озлобленно. — Я потому и ударил его, что не верил в их доброту, думал — убивать меня ведут.
— Твое состояние вполне объяснимо, — проговорил Тимофеевич. — Собственно, тебя не в чем винить.
Тут я вопрошающе поднял глаза:
— Но как же быть? Как жить с этой тайной? Ведь знаешь, что они рядом, что они есть, и молчать?
— Думаю, они скоро улетят, подремонтируются и улетят. Вот тогда и расскажешь свою тайну. А пока, тебе мой совет, придержи язык.
Он встал из–за стола:
— Благодарствую… Ну, пойду почивать, притомился за эти дни. Да и ты, Серега, пожалуй, не прочь отдохнуть? Ну, бывай, — он хлопнул меня по плечу.
— Вас Фариз спрашивал, — известил я.
— Чего ему? — нахмурился Тимофеевич.
— Просит помочь праздник организовать.
— Стоптанный подметки не стоят эти праздники. Некогда мне — так и передай.
Я проводил гостя в прихожую.
— Но почему они не хотят вступать в контакт с людьми? — недоуменно произнес я. — Неужели опасаются нас? Но почему?
— Дорогой мой, запомни: жизнь — это сто тысяч почему, — иронично изрек на прощанье Григорий Тимофеевич.
Дверь за ним закрылась. Волнение мое улеглось, вопросы разъяснились, но все же на душе остался осадок. Может быть, я мнителен, но мне увиделась в поведении соседа, в монотонном голосе, каким он извещал об удивительнейших фактах, некая наигранная рассудительность; мне показалось, что он ставил своей задачей успокоить меня, предостеречь от каких–то необдуманных шагов… Впрочем, мои догадки строились на песке. Интонация голоса, выражение глаз — шаткие доказательства, недостаточные для определенного вывода. Вполне вероятно, Григорий Тимофеевич просто устал, хотя по–прежнему производил впечатление занятого человека… как–то поспешно распрощался — неужто куда–то торопился? И отказал, да еще с таким пренебрежением, Фаризу в помощи — это Желудев–то, известный на всю округу затейник! Было отчего призадуматься.
Утром я позвонил в редакцию районной газеты.
— Скажите, Ляпкин–Тяпкин вышел на работу?
— Вышел, — ответили мне, — сейчас он на задании, но к обеду будет на месте… Между прочим, его фамилия Тяпкин–Ляпкин, — заметил голос назидательно.
К обеду я был в редакции. В подвале стучали типографские машины, Виктор сидел на табурете с обитыми углами в своей тесной лаборатории, опоясанной по стенам полками с банками коричневого стекла, ретортами, аптекарскими весами, глянцевателями, фотоувеличителями и прочими, как он называл, надобностями, и глядел на меня утомленно и безрадостно. Был он небрит, в несвежей безрукавке, руки скрестил на груди, а длиннющие ноги–жерди протянул к самой двери.
— Твоя супруга жаловалась, что ты, мол, из похода на карачках приполз, в стельку…
— Ты, Серега, должен понять мое состояние, — сумрачно промолвил фотограф, — когда я выбрался из этой (непечатное слово) фиговины…
— То есть как выбрался? — подивился я.
— Ну эти балбесы дорогу показали — эти, с лампочками.
— Через горы?
— Прямиком по какому–то фиговому подземелью. Я уже решил — кранты мне, харакири ведут делать, по морде одному надавал, но они меня заломали и выволокли к шоссе. Очухался, гляжу — «Икарус» стоит, а в нем студентов тьма–тьмущая, из лагеря возвращались, все поддатые. Ну и меня без разговоров накачали, чтобы скорей в чувство привести… Теперь, брат, меня ни за какие коврижки из дому не выманишь — на работу и назад, а отпуск потом догуляю, — он помолчал и после раздумья проговорил, поморщившись: — Фиговая история… Может, это розыгрыш какой был, а эти с лампочками на самом деле переодетые матросы с подлодки? Не пойму.
— Я сам ничего не понимаю, — соврал я. Виктор вяло махнул рукой:
— Пошли они все…
— Жена тебе, наверно, устроила тертербумбию? — спросил я, хотя ответ был очевиден.
— Дело не в этом, — сказал Виктор. — Моя жена — святой человек. Я теперь понял, что семья — это, может быть, единственное, чем я действительно дорожу. Дети, жена — о них я постоянно думал тогда, в этом фиговом заточении.
— Григорий Тимофеевич вчера ко мне заходил, — сообщил я.
— Пошел он, твой Григорий Тимофеевич!
— Жив–здоров, про тебя спрашивал.
— Вот встретимся в поселке, тогда и поговорим… по–мужски. Чешутся у меня кулаки по нему.
— Боюсь, ничего у тебя не получится. И что он тебе плохого сделал, в чем виноват? В конце концов ты сам с нами напросился.
— Как вспомню его ехидную улыбочку, — кулаки сжимаются, и дрожь меня пробирает, — фотограф в волнении весь напрягся.
— Я не собираюсь валить вину на Тимофеевича, поскольку большинство решений мы принимали сообща, но в некоторые моменты он как капитан оказался не на должной высоте.
— Вот именно! — подхватил Виктор. — Я хочу тебе сказать, что он вообще и капитаном–то не был — так, назывался только им.
— Тем не менее все завершилось благополучно, мы целы и невредимы, а по сему и бить его не за что, — высказал я свое мнение.
— Понимаешь, он хотел прославиться, — горячо начал мой собеседник, — и нас с собой взял, чтобы мы, значит, помогли ему эту славу добыть. Книжку хотел написать — тоже мне писатель! — Виктор со злостью сплюнул. — Ему отдых был до заднего места, и на фиговое это озеро ему было в высшей степени нагадить, и на красоты этих фиговых гор, и, между прочим, на нас с тобой тоже — вот за все это я ему морду и набью.
— Как бы он тебе не набил.
— Гири куплю, качаться буду.
— Ладно, не кипятись, — сказал я, вставая, — пожалуй, пойду… А у тебя здесь ничего, — одобрительно проговорил я, оглядывая махонькую, но по–своему уютную комнатенку. — Рабочая обстановка.
— Приходи — портрет сделаю. Можно в виде какого–нибудь Аполлона с венком из листьев на макушке.
— Спасибо, — счел нужным поблагодарить я, но заметил: — Аполлон, пожалуй, из меня не получится.
— Все равно заходи — просто так.
— Ага, — сказал я и вышел.
Шло время. Мало–помалу история с инопланетянами начала забываться, но меня волновало — куда снова подевался Григорий Тимофеевич? После того ночного визита я его не встречал. Сколько я ни стучал в дверь, сколько ни бросал камешки в окно — нету соседа. В отличие от Виктора я не был склонен во всем происшедшем винить Григория Тимофеевича. Наш катамаран затонул, очевидно, в тот момент, когда космоплан совершал очередной маневр в глубинах озера. Возможно, он создал вокруг себя несильное электромагнитное поле или же в толще воды могли образоваться вакуумные пустоты — результат выброса газов бортовыми двигателями. Один из этих вакуумных пузырей, вероятно, и всосал в себя нашу лодку. А возможно, все было по–другому, — так или иначе я, как уже говорилось, с легким сердцем относился к тому, что случилось с нами, но однажды произошел случай, возвративший мою память к тем тревожным дням.
Как–то раз, вооружившись объемистой торбой, я собрался на базар. На окраине поселка тянулись длинные ряды. Арбузы, дыни, тыквы, айва, гранаты, хурма, медовая вата, шашлык, лаваш, урюк, изюм, инжир проплывали перед моими глазами. Я примеривался к ценам, торговался, не торопясь делать покупку, обошел по периметру весь базар и вернулся к воротам в то время, когда на площадь въезжала большая арба, запряженная осликом. Перед узкими воротами было многолюдно, и аксакал, придержав ослика, степенно оглаживая тощую бороденку, терпеливо дожидался, когда путь к базарным рядам поочистится. Наконец люд расступился, арба тронулась, и моему взору вновь открылись базарные ворота. На пятачке перед ними остановился голорукий человек в легкой белой курточке, в облегавших стройные ноги брюках–трико и в полуботинках на литой подошве. Ветерок трепал жидкие светлые пряди на его голове с развитым бугристым надлобьем. Перед тем как покинуть базарную площадь, он обернулся, точно потревоженный подозрением. Глаза у него были крупные, навыкат, зеленоватые, в цвет маслин. Бесстрастным, но пристальным взором он окинул перспективу и лишь затем быстро и решительно шагнул в ворота. Нечего говорить, я кинулся за ним, но преследование мое продолжалось недолго. За базарной площадью пролегала ветка шоссе. Голорукий человек пересек полосу асфальта и скрылся в кустах, покрывавших подножье горы. Я был уверен, что видел не робота, а именно гуманоида. Не будем говорить о форме черепа. Взгляд! Взгляд его зеленоватых глаз был наполнен смыслом!
Я поспешно вернулся домой и долго не мог успокоиться, потрясенный неожиданной встречей. «Стало быть, гуманоиды рядом, — говорил я себе в возбуждении, — они запросто разгуливают по базару, по заплеванному земному базару прохаживаются пришельцы из космоса!»
В тот же день я узнал еще одну новость, буквально ошеломившую меня. Новость эта была напечатана убористым шрифтом в районной газете под рубрикой «РУВД сообщает». Извещал же РУВД именно о том, что в прошлую ночь с бахчи совхоза «Прогресс» неизвестными злоумышленниками было похищено около двух центнеров дынь сорта «Бухарка». Расхитители общественной собственности скрылись на «Запорожце» светлой окраски, что подтверждал в качестве свидетеля старик сторож. РУВД просит всех, кто может что–либо сообщить о преступниках, позвонить по телефону 2–75–43… Казалось бы, заурядное известие, но в том–то и дело, что у Григория Тимофеевича был «Запорожец» лимонного цвета! И уж кто–кто, а я–то знал, кому понадобились эти дыни!
Ситуация начала вырисовываться. Поведение гуманоидов, в особенности тот факт, что они безбоязненно посещали поселок, свидетельствовало о том, что у них имелись и опыт общения с людьми, и знание структуры и черт человеческой организации. Знание же это было получено путем установления контактов с отдельными землянами, имя одного из которых я мог с уверенностью указать.
Весь день я в возбуждении ходил из угла в угол. Мои догадки лишили меня покоя. Завеса над взаимоотношениями землян и пришельцев с другой планеты приоткрылась, и я увидел нечто совершенно неожиданное. Никаких торжественных встреч, никаких приличествующих случаю пышных церемоний; оказывается, можно незамеченными прибыть на Землю и, минуя правительства и парламенты, тайком установить контакт с ее жителями или… — приостановил я рассуждения, — или каким–нибудь одним человеком. Но Григорий Тимофеевич? Какую он выгоду здесь имеет? Или ему просто–напросто приятно осознавать себя исторической личностью, что на самом деле так, если исходить из вышеизложенного.
Вновь и вновь стучался я к соседу, но никто не открывал. Появлялся ли дома Григорий Тимофеевич? И почему он позабыл обо мне? Между тем приближался сентябрь, совсем скоро начинались занятия в школах, и я был уверен, что мы с Григорием Тимофеевичем непременно увидимся, если, конечно, он находится в поселке. «А где же ему быть?» — вдруг спросил я себя, и вопрос этот показался резонным, поскольку в недалекое время я узнал соседа как человека, от которого можно ждать неожиданностей. Кто мог предположить, что Тимофеевич станет якшаться с инопланетянами — не мальчишеский, не легкомысленный ли поступок? Ко всему участвовать с ними заодно в краже дынь? Дальнейший же ход событий окончательно поверг меня в изумление.
Дело было в середине сентября. Открылись после летнего перерыва школы, начались занятия в техникуме. Днем я слушал лекции, а вечерами сочинял письма Ольке, которую отправили на сельхозработы в колхоз. В один из таких вечеров, запечатав в конверт очередное свое страстное послание, я направился на улицу, чтобы бросить письмо в почтовый ящик. В тот момент, когда я закрывал дверь квартиры, кто–то похлопал меня по плечу.
— Как поживаешь? — узнал я баритон капитана.
— Ничего, помаленьку, — пробормотал я, не испытывая никакого желания пускаться в пространную беседу и почему–то чувствуя в душе обиду.
— У меня к тебе дело на миллион.
— Ну раз так, заходите, — ответил я хмуро и толкнул дверь.
— Чего ты надулся? — спросил Тимофеевич примирительно.
— Ничего, — огрызнулся я. — Пропадаете неизвестно где.
— С друзьями отдыхал.
— Знаем, что это за друзья.
— Натурально! — вскричал Тимофеевич. — Не веришь, что ли?
— Не надо со мной хитрить, — заметил я с укоризной. — Говорите, зачем я вам понадобился, — прибавил официальным тоном и сделал рукой жест, приглашая соседа в квартиру.
Григорий Тимофеевич вошел с печальным лицом.
— Что произошло? — осведомился я сухо.
— Дело такое, — начал капитан, посуровев. — Слушай внимательно и не задавай пустых вопросов. Я с товарищем попал в аварию — понимаешь? На сто первом километре опрокинул машину в кювет, я был за рулем. Авария нигде не зарегистрирована — соображаешь? Я, как видишь, целехонек, а товарищ малость ушибся, в больницу его вести нельзя — начнутся расспросы. Я бы сам его выходил, с ним ничего серьезного не случилось…
Я внимательно слушал Тимофеевича и с первых слов почувствовал что–то надуманное в его рассказе.
— Он у меня уже двое суток, я бы сам его выходил, — повторил Тимофеевич, — но меня посылают с нашими школьными волейболистами в область на соревнования — отказаться совершенно невозможно.
— Все понял, — сказал я. — До какого числа соревнования?
— По двадцатое включительно.
— Езжайте со спокойной душой, Григорий Тимофеевич. Я присмотрю за вашим товарищем.
— Присмотри, Сереженька, — загримасничал сосед, — он не тяжелый, ушибло его слегка, и все. Он уже ходить начал.
— Как его зовут?
— Павел Сергеевич, — добрейший человек, руководит хором в ДК.
— У него на работе не спохватятся?
— Все улажено, Сереженька. Считается, что он сейчас у родственников отдыхает. Взялся я его подвезти по знакомству и, видишь, ёкорный бабай, — не договорил капитан и поник головой.
— Положитесь на меня, Григорий Тимофеевич.
— Вот ключи, — продолжил сосед, вынимая связку из кармана. — Он пока спит, не тревожь его, а вечерком загляни.
— Непременно, — заверил я.
Вечером я решил наведаться к больному. Вошел тихо. В квартире было темно, и лишь в зале, над диваном, ущербно светил ночник. На диване лежал человек, укрытый до подбородка легким одеялом; красноватый, источавшийся из лепестков ночника жидкий свет лился на его обезображенное ожогами широкоскулое лицо, голые птичьи веки были сомкнуты — человек спал. Левая его рука лежала на груди бугром под одеялом, и бугор этот ритмично и плавно вздымался, движение это сопровождалось глубоким вздохом спящего. Правая его рука, тяжелая и сильная, расслабленно свешивалась, касаясь кистью пола. Там же, на полу, белела дюжина пластиковых флаконов и баллончиков.
Лицо лежавшего было изуродовано, но не на столько, что стало неузнаваемо. Приковывал взгляд характерный мощный крутой лоб с широкими залысинами. Передо мной был гуманоид. Томившее меня неясное предчувствие обернулось реальностью, я не решался двигаться, охваченный волнением и страхом. Космический странник изредка пошевеливал запекшимися губами, точно разговаривая с самим собой во сне. Едва ли он ощущал мое присутствие. Вдруг рука, свисавшая с дивана, начала замедленно подниматься и легла вдоль тела; мне показалось, что гуманоид весь напрягся и силится что–то сказать. Губы его вновь беззвучно шевельнулись, и в голове моей явственно прозвучал вопрос:
— Кто вы? Я вас не узнаю.
Диван стоял в углу, слева от него было окно, в котором белым пламенем горели звезды, и в первое мгновенье, едва раздался этот звучный и ровный голос, я не сомневался, что донесся он оттуда — из черной бездны космоса. Невольно я отпрянул.
— Не уходите, — снова прозвучало в моей голове.
Но ноги сами несли меня назад, я отступал спиной, жутко оглядываясь и лихорадочно хватаясь за предметы, — ужас охватил меня.
— Не уходите.
Но я был уже в прихожей.
— Не уходите…
Я рванул вниз по лестнице и выбежал во двор. Помчался куда–то, не чувствуя земли под ногами. Час–другой длилось мое бегство, надо мной был огромный космос, и я не знал, куда от него скрыться и находил спасение лишь в собственном суматошном бесцельном движении. Точно ополоумев, петлял по окраинам поселка, который вдруг представился мне неведомым страшным лабиринтом, и только когда выдохся, остановился, отдышался и спросил себя: «Чего, собственно, я испугался?» Я попытался рассуждать здраво, отбросив всяческие страхи, и выходило, что испуг мой был напрасен, гуманоид не представлял опасности хотя бы потому, что сам нуждался в помощи, однако, как я ни убеждал себя, лишь к утру набрался храбрости вернуться домой. Разумеется, ни о каком сне не могло быть и мысли. Я расхаживал взад–вперед по комнате, то и дело останавливаясь в волнительной надежде уловить звуки за стеной, но там было тихо. Наконец решился. Вновь пересек площадку этажа и приоткрыл незапертую дверь. Гуманоид лежал все в той же свободной позе, только на этот раз в опущенной руке, касавшейся пола, белел флакон с синим длинным соском на колпачке, а глаза космического пришельца были открыты, внимательным и спокойным взглядом встретили меня. Я стоял, все сильнее прижимаясь спиной к косяку, сердце мое учащенно билось, грудь вздымалась. Инопланетянин медленно поднес флакон ко рту и сделал несколько мелких глотков. Потом опустил руку.
— Простите, я вас вчера не узнал, — вновь прозвучал звучный насыщенный голос — прозвучал во мне.
Невольно я дернулся, но устоял на месте, подавив желание кинуться прочь.
— Еще несколько секунд, и наши ощущения действительности сроднятся, — «проговорил» гуманоид, — и вам не надо будет прилагать никаких усилий, чтобы услышать меня.
Не знаю определенно, что он имел в виду, но и вправду через некоторое время голос его стал звучать приглушеннее и где–то в стороне, как если бы кто–то невидимый стоял в углу и говорил за него. При этом обожженные губы вселенского странника чуть приметно пошевеливались, иногда замирали, не в такт словам. Но это было не суть важно, главное: постепенно я освоился и даже осмелился спросить:
— Почему вы говорите, будто меня узнали? Разве мы с вами знакомы?
— Вы со мной — нет, а я с вами — да, — пояснил космический летчик. — Недолгое время мне было поручено наблюдать за вами, когда вы находились на корабле.
Он хотел еще что–то сказать, но голос его прозвучал совсем тихо, почти беззвучно — губы были недвижимы, поглядел на меня устало и смежил лысые веки. Я понял, что ему доставляло, несомненно, значительные усилия передавать свои мысли и решил удалиться, чтобы продолжить, надо сказать, заинтересовавший меня разговор позднее.
О чем же я хотел его расспросить? О многом, конечно. Но прежде следовало бы полюбопытствовать у Григория Тимофеевича — к чему эта неуклюжая попытка выдать инопланетного жителя за попавшего в автомобильную аварию мифического руководителя хоровым коллективом? Неужели Тимофеевич не понимал, что я моментально распознаю обман? Странно все это, странно…
Меж тем меня так и подмывало взглянуть на гуманоида, но я удерживал себя, курил на кухне соседской квартиры. К слову заметить, Тимофеевич редко приглашал меня в гости. Сейчас я подумал о том, что он, пожалуй, вообще мало кого к себе приглашал. Мне пришло на ум, что у нашего капитана и друзей–то нет, несмотря на общительный его нрав; знакомым, конечно, не счесть числа, а вот настоящей крепкой дружбы ни с кем не имеет Тимофеевич. Тут сама собой последовала догадка, что мой сосед, очень может быть, живет двойной жизнью: одной на людях, другой — здесь, в тишине этой уютной квартиры, наедине с самим собой. Я пытался до последнего звена сложить цепь логических заключений, но мысли, напротив, становились бессвязнее — сказывались бессонная ночь, усталость. Докурив сигарету, я налег грудью на кухонный стол, задремал… Пробудил меня грохот грузовика за окном, ощущая легкий смур в голове, я подошел к стеклу и увидел грузовик, уносящийся за пределы городской черты. Сморщил лоб, огладил ладонями щеки, нахмурился, как бы что–то припоминая, и первая мысль опять была о Тимофеевиче — где же он, куда подевался загадочный учитель? Ведь совершенно очевидно, что его россказни про соревнования — чистейший вымысел, ложь, обман. Но зачем ему понадобилось меня обманывать? Непонятно, непонятно…
Я прошел в комнату. Гуманоид не спал.
— Добрый день, — сказал я, точно мы с ним сегодня не виделись. — Как ваше самочувствие?
— О, благодарю, — ответил он, и некое подобие улыбки скользнуло по его обезображенному лицу, — но как бы я ни чувствовал себя сейчас, окончательный ответ будет ясен через несколько дней.
Я смотрел на него, и у меня создалось впечатление, что, несмотря на тяжелые ожоги, он не чувствует боли и был, если так позволительно выразиться, бодр душой — может быть, благодаря применению содержимого пластиковых флаконов. Другое дело, сопротивление болезни неизбежно требовало от организма значительных энергетических затрат, и потому гуманоида часто, порою для этого доставало нескольких произнесенных им фраз, охватывала слабость.
— Скажите, — осторожно начал я, стараясь деликатнее сформулировать вопрос, — в чем, собственно, должна конкретно выражаться моя помощь? Я знаю, вы нуждаетесь в уходе…
— Нет, нет! — энергично остановил меня пришелец. — Я ни в чем не нуждаюсь. Все, что мне нужно, я получаю сполна, — он показал на отворенную форточку: — Чистый, свежий и, главное, сухой воздух — благотворный исцелитель моих ран, а это, — он поднял один из флаконов, — всего лишь стимулятор. Силы возвращаются ко мне, и если я решусь о чем–то просить, так о том, чтобы вы по возможности скрашивали мое одиночество своим присутствием. Обстоятельная беседа будет полезна и интересна нам обоим.
«Странный он какой–то, этот словоохотливый незнакомец», — помыслил я и незамедлительно услышал разъяснения:
— О, знаете, вы мне кажетесь не менее странным. Вы молчаливы и стеснительны и даже, как мне представляется, недоверчивы. До чего же удивительный народ, эти земляне! Прежде чем сказать слово — подумают, перед тем как ступить — осмотрятся…
— Вам часто доводилось встречаться с землянами? — спросил я.
— Не часто, но приходилось. И вот именно такое впечатление я вынес из этих встреч.
— Насколько мне известно, — начал я, меняя тему, — ближайшая к Земле звезда Проксима Центавра расположена на расстоянии 423 800 миллиардов километров, а ваша планета, вероятно, удалена еще более. Как же вам удалось…
— Понял ваш вопрос, — остановил меня собеседник. — Я мог бы дать сведения о некоторых принципах устройства нашего корабля, но, боюсь, что мои разъяснения покажутся малопонятными, поэтому ограничусь лишь тем, что скажу — скорость звездолета достигает ста тысяч километров в секунду. Но, поверьте, самое трудное заключается вовсе не в преодолении пространства и времени.
— Тогда в чем же?
— В недостатке понимания.
— Слушая вас, можно решить, что вы находитесь под влиянием газетчиков. Неужели население Вселенной волнуют одни и те же проблемы, одолевают схожие заботы? — произнес я раздумчиво.
— Заботы у нас разные, — ответил гуманоид. — Вы имеете свою планету, а мы ищем ее и, может быть, не скоро найдем, если вообще она когда–либо отыщется.
— Вы стали жертвами катаклизма?
— Раньше всего, мы — жертвы непонимания. На определенном витке истории наша планета оказалась как бы разделенной надвое, никто уже не помнит, что послужило тому причиной. Однако два враждовавших лагеря с лихорадочной поспешностью выискивали все новые и новые поводы для взаимных обвинений, едва ли отдавая полностью отчет, для чего им это нужно. Планета задыхалась под горами смертоносного оружия, и чем больше его становилось, тем меньше оставалось надежд на спасение. И когда стало очевидным, что катастрофа неминуема, когда прервались переговоры, последние немногочисленные контакты, был отдан приказ — тайно переоборудовать большую часть военных космических ракет в транспортные корабли и в назначенный момент всем разом покинуть планету, после чего из космоса отправить сигнал на включение военной техники, оставив, таким образом, в дураках противоположную сторону. Но вставал вопрос — после того, как сгорит планета, куда направить армаду переполненных транспортных кораблей? И потому, пока шли приготовления к массовому переселению, было решено послать загодя звездолет с разведчиками для поиска пригодной для жилья новой планеты, — тут инопланетянин заметил: — Как вы догадались, один из членов экипажа этого звездолета сейчас перед вами.
— Чем же завершились искания?
— Мы обнаружили Землю.
— Каким образом, разрешите полюбопытствовать?
— Приборы зафиксировали сигнал явно искусственного происхождения на волне 21 см.
— Да, да, — я поморщил лоб, припоминая, — где–то я читал, что некоторые земные станции посылают в космос сигналы именно на этой волне. Многолетние усилия оказались не напрасны. И все–таки сам факт встречи поразителен: ведь астрономы предполагают наличие экосфер лишь у незначительной части звезд.
— Наше первое приземление произошло в западном полушарии, — вернулся к воспоминаниям космический разведчик. — Признаюсь, мы не ожидали обнаружить столь густозаселенную планету, хотя еще из космоса отчетливо различались гигантские разливы электрических огней, но кто мог предположить, что это многомиллионные города? Долго не могли подыскать подходящего места для посадки и, наконец, на рассвете приземлились в одном из труднодоступных районов Анд. Приборы показывали приемлемый состав атмосферного воздуха; я и двое моих товарищей в сопровождении универсального робота покинули корабль. Вскоре нам повстречался пастух, перегонявший отару. Он обратился к нам с приветственными восклицаниями, приняв за путешественников–американцев. Робот мгновенно самонастроился на излучение его мозга, и, таким образом, был получен шифр к земным понятиям, которые пастух обозначил гортанными возгласами. После этого мы вернулись в корабль и занялись прослушиванием радиоэфира. Снежные бури и лавины, характерные осенью для высокогорья, обрушивались на звездолет, и через месяц он оказался погребенным под многометровой толщей снега и льда. К тому времени мы закончили прослушивание эфира и уже хорошо представляли историю вашей цивилизации, уровень ее технического развития и нравственного самосознания. Мы пришли к заключению, что жители Земли в основных чертах повторяют путь, пройденный нами каких–нибудь два столетия назад. Экипаж разведывательного звездолета не был уполномочен вести переговоры с представителями иной цивилизации, и мы отправились в обратную дорогу.
— Что же случилось дальше? — спросил я.
— Мы сознавали, что несем безрадостную весть, — за весь многотрудный космический переход единственная обнаруженная пригодная для существования планета оказалась обитаема. Однако у нас уже недоставало времени для продолжения поисков, мы должны были возвращаться. Когда космоплан вошел в зону связи, на наши сигналы никто не отозвался, тревога охватила нас. Подлетая к родной планете, мы увидели, что вся она горит чистым синеватым огнем, точно комок ваты, смоченный в спирте. Автоматика корабля работала, обеспечивая курс на сближение, и постепенно перед нами вырастало бескрайнее огненное море, в котором метались в дикой пляске косматые вихри пламени. Мы приближались к гигантским смерчам. Несомненно, каждый из нас подсознательно помышлял о смерти; все ждали, когда командир отдаст приказ включить маршевые двигатели и направить космическую ладью в пекло. Но командир распорядился провести сеанс селекторной связи со всеми членами экипажа, и вот тогда один из нас сказал: «Нет, мы не одни во Вселенной, мы остались без своего народа, но лишить себя надежды можем только мы сами». Решение было однодушным — взять обратный курс к Земле. Когда звездолет совершал маневр, медленно удаляясь от полыхающего океана, впереди показались бортовые огни сторожевого корабля противника. Мы послали ему сигналы приветствия, полагая, что общая беда нас породнила и теперь нам нечего делить, но получили в ответ залп лазерных пушек.
— Эта огромная пробоина в корпусе космоплана… — перебил я.
— Именно, именно, — подтвердил звездный разведчик. — Даже гибель планеты не изменила образ мысли противника.
…Был поздний вечер. Я сидел в кресле напротив телевизора и рассеянно смотрел на экран, где извивалась певица. Несколько часов назад я получил письмо от родителей — распечатанное, оно лежало на столе. Отец писал, что заработок ему определен высокий и теперь уже ничто не помешает осуществлению нашей давнишней мечты о собственноручно сделанном автомобиле оригинальной конструкции. Мать справлялась о моем здоровья, обещала выслать брусничное варенье… Я думал о непредсказуемости переплетений линий судьбы, о двусмысленном, едва ли во всей глубине поддающемся осознанию положении, в котором я находился. Инопланетянин и брусничное варенье, космический крейсер и трехколесный маленький земной автомобиль, отец, мать и чья–то навечно исчезнувшая планета. Как соединить, как уместить в сознании все это?
На следующий день поутру я вновь вошел в соседскую квартиру. Космонавт, в атласном халате Тимофеевича, стоял, к моему удивлению, возле окна, обратив взор на улицу. Подумать только — еще вчера у него недоставало сил изъясняться! Поистине чудодейственна исцеляющая энергия содержимого флаконов! Взамен приветствия, не повернув головы, не изменив позы, он проговорил:
— Не могу поверить, что стою сейчас на Земле и гляжу на эту запыленную улочку.
— Лучше бы пояснили, зачем вашим товарищам понадобилось воровать дыни с колхозной бахчи?
— Желтые земные овощи, похожие на аварийные гелиевые баллоны? — оживился пришелец. — Видите ли, у нас на корабле, разумеется, действует замкнутая система жизнеобеспечения, но ее возможности ограничены. Цикл создания генетической конструкции и выращивания нового продукта довольно продолжителен, первые урожаи незначительны, а нам так полюбились эти ваши дыни! Всему без исключения экипажу!
— Боюсь, что милиции этот аргумент показался бы малоубедительным.
— Я хочу пояснить, что долгие годы странствий наложили отпечаток на наши представления, и самым важным было, пожалуй, то, что такое понятие, как собственность, утратило свой первоначальный смысл и вообще стало забываться.
В ответ на эту фразу я позволил себе снисходительно улыбнуться.
— Ну вот, если сейчас возьму этот, — я оглянулся, ища предмет, принадлежащий гуманоиду, — вот этот флакон, заберу его, — я быстро нагнулся, чтобы взять один из пузырьков, и подивился его леденящему холоду, мгновенно охватившему подушки пальцев, затем кисть и волной двинувшемуся по руке к плечу, — вот этот флакон, — с опаской поглядел я на предмет и поставил его на прежнее место. — Вы ничего против не будете иметь?
— Берите сколько захотите, — улыбнулся инопланетный житель.
— Но как вы можете отрицать сам факт собственности? — вопросил я с жаром.
— Наш корабль слишком мал, чтобы его делить, — отрывисто произнес собеседник и отошел от окна.
Я счел уместным не пускаться в теоретические рассуждения — так ли это, в самом деле, было важно? Наверняка сейчас существенней дружелюбная улыбка на моем лице, не то, чего доброго, у инопланетного гостя сложится мнение о землянах как о несговорчивых и упрямых субъектах.
— О, в отношении этого вы можете не беспокоиться, — заверил безбровый астронавт. — Мы с большим уважением относимся к братьям по разуму, построившим великую цивилизацию.
— Благодарю, благодарю, — пробормотал я в ответ на его любезность.
— Сейчас в вашей голове роится столько вопросов, что вы теряетесь в выборе, — проницательно заметил гость.
После некоторого замешательства я сказал:
— Хотел бы узнать ваши планы.
— Извольте. Мы прибыли на Землю не за тем, чтобы отдыхать, — главное, некоторые системы корабля нуждались в ремонте.
— Нуждались? — переспросил я. — Стало быть, вы хотите сказать, что ремонт завершен?
— В целом, да.
— Что же вы намерены предпринять дальше?
— В скором времени мы покинем Землю, — произнес гость с каким–то непонятным равнодушием.
Я же, услышав его слова, был ошарашен. Куда и зачем собирались лететь Они?
— И вообще, — продолжил он после паузы, не обратив никакого внимания на мое состояние, — наши с вами представления о собственном назначении и роли во Вселенной различны хотя бы потому, что вас, землян, миллиарды, а нас осталось неполных два десятка.
— Так мало? — поразился я.
— Да, именно потому, что нас осталось так мало, значимость судьбы и жизни любого из нас неизмеримо возросли и, поверьте, на корабле сложился идеальный коллектив; моя страстная мечта — чтобы ничто не изменило нас.
— Но верите ли вы, что отыщете другую пригодную для жилья планету?! — едва не вскричал я. — В этом неохватном пространстве с мириадами звезд? Кто укажет верную дорогу? Не зыбка ли надежда? Не разумнее ли открыться властям и остаться здесь навсегда?
— Остаться на Земле? — гуманоид резко повернулся ко мне.
— А почему нет?
— Но кому мы будем тут нужны?
— Как? Вы нужны всем. Вам протянут руку помощи.
— В чем же будет выражаться эта помощь? — усмехнулся космический пилигрим.
— Ну как же, — загорелся я, — едва вы известите о себе, тотчас об этом сообщат все до единой газеты мира, наверняка вы сразу получите земное гражданство в одном из престижных государств — по вашему усмотрению. Первое время не обойдется без некоторых формальностей, беря во внимание всю уникальность знакомства, — экипаж поместят в пансионат на морском побережье под наблюдение опытных медиков, потом беседы с философами, политиками, психологами, учеными с тем, чтобы вы получили более полное представление о нашей цивилизации и, напротив, мы хотя бы в изначальной степени удовлетворили свое любопытство. О ходе этих бесед, уверен, пресса будет извещать ежедневно. Вас ждет слава, известность; не будет отбоя от всевозможных предложений, встреч, каждый из вас объездит планету с лекциями, сообщениями — вот это жизнь! — произнес я мечтательно.
— Разве все то, о чем вы только что изволили сообщить, достаточная плата за свободу? — спросил гуманоид серьезно.
— Если подразумевать под свободой бесцельное блуждание во Вселенной, — заметил я саркастически.
— А вы предлагаете отдать, а точнее продать, последнее действительно ценное из того, что мы имеем?
— Вы хотите сказать — свобода не продается? — вымолвил я подавленно, внезапно осознав, что он имел в виду и даже нечто большее, чем то, что скрывалось под этим его вопросом.
— Истинно так, — подтвердил космонавт.
…Откуда такая убежденность во взглядах? Неужто не наскучило ему созерцание однообразия бесконечности за бортом космоплана? Неужели именно такой видится ему свобода — в образе бескрайней россыпи звезд? И космическая пыль дорога хотя бы тем, что никому не принадлежит?
— Чтобы понять, что такое свобода, надо быть свободным, — сказал он в тот день на прощанье.
Эти слова неприятно задели, запали мне в душу. Выходит, я не свободен? Но это не так, я твердо знаю, пусть не морочит мне голову! Я был раздражен, приводил десятки доводов в пользу своего вывода, в волнении ходил по комнате, вспоминая и вспоминая, чтобы убедить себя в том, что всегда делал и поступал так, как хотел, и был волен в выборе. Однако сомнение не изгонялось, оно гнездилось под сердцем, и чем настойчивей доказывал я себе, чем яростней убеждал в собственной правоте, тем острее чувствовал обратное. Мелькнула мыслишка: «А ведь он прав!» Скажи мне это кто–то другой, я был готов тысячу раз свидетельствовать противоположное, но в том–то и дело, что я был один и пыжиться было не перед кем. «Но как же, как же?! Я — и не свободен? Неужели я рожден таким?» — прозрение это не давало покоя, буравило мысль, но ответ по–прежнему был туманен. «Все же, кто из нас прав? — думал и думал я. — И почему я так остро (в который раз признаюсь себе) ощущаю ущербность своих доводов? Стало быть, он прав? Стало быть, и впрямь нужно родиться свободным, чтобы понять, что же такое свобода и что в действительности она означает для каждого?»
Утомленный раздумьями, я заснул к рассвету и очнулся, когда солнце уже высоко вознеслось, сообразил моментально, что проспал занятия в техникуме. Но до того ли мне было?
«Любопытно знать, чем он в эти минуты занимается?» — помыслил я и вообразил его на табурете в кухне соседской квартиры, склонившегося и осторожно дующего на чашку с кофе. Вот он коснулся губами напитка, отпил, поставил чашку с блюдцем на стол, отчего–то внезапно призадумался (вспомнил вчерашний разговор?) и вдруг усмехнулся, тонко–тонко, уголками обожженных губ. Усмешка относилась, несомненно, ко мне… Что ж, я младше его (и вообще, какого он возраста?), но разве это обстоятельство дает ему основание иронизировать над моими взглядами, убеждениями? Кто возьмется поручиться, что я так уж и во всем ошибаюсь? Что дало ему повод судить свысока? И уж не адресовалась ли эта усмешка не только ко мне, но и ко всему человечеству? Это было тем более оскорбительно, что мы, люди, находились, без сомнения, в гораздо привлекательном положении, нежели он и ему подобные, лишенные своего Солнца. Я настолько «взогрел» себя такими рассуждениями, что был готов, кажется, сию минуту объявиться перед обидчиком и высказать свое возмущение, если бы не опомнился вовремя — ведь в противоположность ему угадывать мысли я ничуть не способен, и эта столь уязвившая мое самолюбие снисходительная его усмешка являлась ни чем иным, как домыслом… А может быть, он усмехнулся не потому, что презирает нас, а потому, что видит дальше?
Когда я вошел в соседскую квартиру, то, к немалому своему удивлению, гуманоида там не обнаружил. Не было флаконов на полу, диван тщательно прибран. Не зная, как отнестись к исчезновению гостя, я вернулся в коридор, и тут в туалете забурлил сливной бачок, приоткрылась дверь, и перед моим напряженным взором предстал со склоненной в задумчивости головой Григорий Тимофеевич, в цветастом восточном халате, который днем раньше был на гуманоиде.
— Ну и удивили вы меня, Григорий Тимофеевич, — произнес я негромко.
— А, Сереженька! — радостно встрепенулся учитель.
— Как прошли соревнования? — счел нужным осведомиться я.
— Соревнования? — повторил Тимофеевич с ноткой удивления и взамен ответа спросил: — Позволь, но чем я тебя изумил?
— Своими хитростями.
— Какими такими хитростями? — простодушно отозвался сосед.
Я иронически хмыкнул:
— Ну, к примеру, зачем было придумывать эту чепуховую историю про автомобильную аварию? К чему этот розыгрыш?
— Милый мой, ты должен был догадаться, что я находился под контролем и выполнял Их указания.
— То есть, вы хотите сказать, именно Они велели вам доставить больного сюда?
— Совершенно верно, — подтвердил Тимофеевич. — Вдобавок сочинили нелепую легенду, мне оставалось всего лишь изложить ее тебе.
Дело прояснялось, однако меня все более заинтриговывала здесь роль самого Григория Тимофеевича, но, конечно, дознаваться об этом было преждевременно.
— Так ли в действительности был необходим гуманоиду свежий воздух? — спросил я недоверчиво.
— Дольше оставаться в пещере ему было нельзя: заживление ран замедлилось, он задыхался.
— А где он обгорел?
— Точно не скажу, — вероятно, во время ремонтных работ в одном из отсеков вспыхнул пожар.
«Неплохая осведомленность», — помыслил я и вслух заметил:
— Неужто взаправду Они разучились лукавить, раз не сумели ничего другого придумать, кроме этой нелепицы про автоаварию?
— Получается так.
— Что же вы, Григорий Тимофеевич, не подсказали им? — не удержался я от насмешки.
— А зачем? — ответствовал учитель с серьезной миной. — Все равно ты обо всем догадался бы… Но, признаться, не пойму, чем вызван твой тон? Ты, Сереженька, будто уличить меня стремишься?
— Что вы, что вы, — заверил я убежденно, — вовсе нет. Только, согласитесь, Григорий Тимофеевич, в престранном положении мы с вами оказались, тут и голову потерять легко.
— А по мне, все обыкновенно, — пожал плечами сосед. — Тебе, видно, юношеский пыл мешает… или нервозность твоя природная; ничего, поуспокоишься, свыкнешься с мыслью, что знаешь больше других, и увидишь — все обыкновенно. Попробуй–ка сказать себе: «Ну что такого из ряда вон выходящего было? Да ничего», — и в самом деле прозреешь: ничего ведь не было.
Я понимал, что являлся объектом очередного розыгрыша, что Тимофеевичу зачем–то было очень нужно убедить меня в заурядности происшедшего, но зачем? И все же мне почему–то казалось, что и это не самое важное сейчас для него, что преследует он какую–то далекую цель, касающуюся меня, и поведение его, в чем–то неуловимо изменившегося, незнаемого, настораживало — внутренне я весь напрягся.
— Послушай, что пишет ученый человек — зам. директора обсерватории, между прочим, — внушительно изрек Тимофеевич и, отстранив в вытянутой руке газету, начал цитировать: —… Только в нашей Галактике насчитывается около двухсот миллиардов звезд. Четверть из них вполне может иметь планеты. А каждая сотая планета теоретически может быть обитаема живыми существами. Только вот вопрос: какие они, эти существа? — Тимофеевич опустил газету и сказал: — Последний вопрос, как ты понимаешь, для нас с тобой прояснился, и здесь единственное наше отличие от этого зам. директора, но я не поручусь, что в скором времени и он, и великое множество прочих, пока пребывающих в неведении писак, запросто не усядутся за один стол с гуманоидами…
— Тут вы преувеличиваете, Григорий Тимофеевич.
— Отнюдь, — уверен, что не с этими, так с другими пришельцами, но контакт будет установлен. Человечество стоит на пороге четвертой мировой мировоззренческой революции — после Коперника, Дарвина, Маркса, — продолжал он с силой, — нас ожидает эра межпланетного общения, взаимодействия и взаимопроникновения, титанический прорыв в технологии, мы все изменимся до неузнаваемости…
«Кажется, с вами, наш капитан, это уже происходит», — помыслил я, поражаясь перемене, случившейся с Тимофеевичем; никогда прежде не наблюдал я его в таком возбуждении и воодушевлении, глаза его горели, и, представлялось, он позабыл, что я нахожусь рядом, и в порыве, всем своим существом был устремлен в будущее.
— …человечество избавится от извечного своего непостоянства, приобретет и разовьет в себе более глубокие, устойчивые, а стало быть, истинные душевные качества, навсегда утратив лукавство.
— Вы живописуете картину по уже известному образцу, — не удержался я от замечания.
— А чем плох ИХ пример? — задался сосед, глядя на меня почему–то неприязненно.
— По–моему, вообще наивна мысль избавить человечество от греха, тем более с помощью пришельцев.
— Именно, именно! — вскричал он, точно ужаленный. — Я знал, что ты ответишь так! Оставь свой юношеский нигилизм! Помолчи! — внезапно он совладал с собой, нахмурился, видимо, порицая себя за несдержанность, и продолжил медленно и тише: — Впрочем, ты не один такой. Едва ли не всякое благородное устремление спешно объявляется нами наивным.
— Но так ли уж грешен человек? Так ли необходимо его исправлять? — спросил я.
— Грешен, — ответил сосед не колеблясь. — А ты не задумывался над тем, что ОНИ — космические ангелы, посланные нам свыше?
Ого! Как говорится, здравствуйте, я ваша тетя! Я был в шоке.
Тимофеевич, заметив мое состояние, весело сощурил глаз:
— Не пугайся, отроду в бога не верил; я хотел у тебя, дурашка, узнать: когда ты впервые понял, с кем имеешь дело, не пришло тебе в голову это соображение, что ОНИ и есть космические ангелы?
— Ну, знаете ли… — выдохнул я. Было от чего опешить!
— Ты так рассуждаешь потому, что мало видел, — заметил Тимофеевич, — вера твоя стоит на незнании… Я долго думал, рассказывать ли тебе эту историю, — неожиданно сказал он и прибавил доверительно: — Поймешь ли ты? Я ведь до того, как прибыть сюда, учительствовал в Баку, — Тимофеевич посмотрел на меня пристально, словно пытаясь предугадать — пойму ли я его. — Так вот, школа там была обыкновенная, средняя — побольше, конечно, здешней, но дело не в этом. Учительствовал я там двадцать лет без замечаний, без эксцессов, ну, не считая пустяков — палец кто–то вывихнет, окурков в раздевалке набросают, — впрочем, я снова не о том. И тут, представь, в некоем классе появилась ученица, точнее, не появилась, всегда она была, но какая–то неприметная, хорошенькая, но тихая уж больно, все где–то в сторонке примостится, и вдруг в один день замечаю: неотрывно, скорее не с любовью, а с каким–то детским обожанием следят за мной черные глазки. Как тут быть? Я, конечно, не придал значения поначалу, смотрит — пусть себе смотрит, в конце концов не запретишь же ей? Баловство, решил я, поиграется и забудет. Но день за днем, встреча за встречей, месяц за месяцем — не отпускают меня черные глазки. Я стал замечать за собой рассеянность, и не то чтобы думаю о ней, — нет, такого я себе не позволял да и всерьез ее по–прежнему не принимал, но чувствую: или во мне, или вне меня, где–то рядом, вокруг что–то случилось, произошло, мир уже не такой и я не тот, и не знаешь, хорошо это или худо. Еще долго не решался я себе признаться. Она, конечно, поступала без умысла, ни на что не расчитывала, не знала своей силы, просто отдалась чувству, — но в этом–то, видно, и была самая сила. Я все надеялся — пройдет у нее это. Как водится в таких случаях, спрашивал себя: ну что необыкновенного она во мне отыскала, потом спрашивать перестал — глупо. И неожиданно понял, что в моей жизни это чувство первое, что ничего подобного у меня не было; раньше, по молодости, я не задумывался о таких вещах в суетном стремлении кем–то стать, чего–то достичь, и только после сорока стал задумываться всерьез, и открылась мне яснее ясного догадка, что она и с ней это чувство — есть истинная награда, неизвестно за что ниспосланная мне, и никакой иной искать не надо и не будет. И как только я это понял, я уже перестал бояться. То есть, я еще не решался подойти к ней, заговорить, но внутренне я уже был свободен. Кончалось лето, и еще до начала занятий я получил от нее письмо: писала, что неотступно думает обо мне, что не представляет без меня жизни и многое другое, приятное и лестное; я же читал и диву давался — откуда в этой девчушке столько природного, женского? Кто научил ее любить? Потом, правда, я корил ее за это письмо — ведь оно могло затеряться, его могли обнаружить, но, как видно, тогда она себе уже не принадлежала.
Мы стали встречаться — скрытно ото всех. Она звонила из телефонного автомата и уж затем приходила — не могло быть и мысли о том, чтобы появляться вместе в городе: нас могли увидеть. Вот ведь как получается — мы сами своим поведением подтверждали непозволительность, преступность, что ли, наших встреч. Конечно, я старался об этом не думать, больше боялся за нее и ждал, страстно ждал вечерами звонка. Порой у меня возникало чувство, что знал ее всегда, наверное, она испытывала похожее, не было ни малейшей натяжки в наших отношениях, и она сердилась, когда я невзначай проходился шутливым замечанием насчет своего возраста. Носила она серый легкий костюм, дешевые сапожки, прятала под беретом косицы и улыбалась как–то грустно, с потаенной печалью, вообще, казалась более сдержанной, нежели была. К ее приходу я замешивал тесто, и затем мы вдвоем испекли торт, небольшой, но непременно затейливо украшенный цукатами, и всегда он получался чертовски вкусный. В этом ритуале испечения торта присутствовало некое священнодействие, обращавшее нас помимо всех существующих правил в законных супругов, — хотя бы на час, на два, и ей очень нравилось видеть себя в фартуке на кухне в роли хозяйки, беспокоиться — как бы не пригорело, и указывать мне, что делать. Потом пили чай, говорили о школе, она рассказывала сплетни об учителях, и мы весело смеялись, когда тот или иной педагог представал в неожиданном свете. Иногда она задерживалась допоздна, а бывало, очень скоро уходила, никогда не прощаясь. Я оставался один, долго не мог заснуть, помня ее, еще не веря, что какой–то час назад она сидела у меня на коленях и позволяла распутывать и заплетать тугие косицы, трогательно склонив головку, — и вот ее уже нет, и только ладони хранят волнующее таинство ее близости.
Отдалась она легко, радостно, но я был неприятно удивлен тем, что кто–то до меня у нее уже был, и с того дня она представилась мне другой, и я уже никогда впредь не пытался объяснить себе, кто же она, хотя, казалось бы, мы преступили все пределы близости и не оставили друг другу загадок. Как–то незаметно она становилась смелее, веселее, шутки ради говорила, что разлюбила меня и смеялась самозабвенно, видя, как я меняюсь в лице. А может быть, она говорила правду — не знаю, не знаю, давно я стал ее пленником и перестал судить здраво.
Шли дни, и шаг за шагом ступали мы по запретной дорожке, которой тогда не было видно конца. Счастлив ли был я? Да, да, да… Ее же стали тяготить встречи в четырех стенах, она начала назначать свидания на улице — разумеется, это граничило с безумством, но к тому времени ее власть надо мной была уже неохватной. Когда ее перестали радовать прогулки по проспектам, хождения в театр, наскучили вечерние огни фонтанов, стала называть меня молчуном, тепой, стала раздражительной, и я с ужасом ожидал и, конечно, оттягивал развязку… В один прекрасный день (день выдался поистине чудным: мартовский, тихий, теплый, и с утра уже было предчувствие) меня вызвала директор школы; она была мрачна, молча, без околичностей, протянула желтоватый листок, оказавшийся без подписи. Самое страшное в этой гнусной и грязной анонимке было то, что все в ней являлось правдой. Так я об этом и сказал директору, после чего она потребовала от меня подать заявление об увольнении; вся процедура заняла минут десять и, знаешь, когда я вышел из директорского кабинета, почувствовал необыкновенную легкость, веселость даже, единственное, чего я страшился по–настоящему — потерять ее… Родители ее, разумеется, узнали обо всем.
У меня был план — бежать, бежать с ней на Север, в Тьмутаракань, туда, где нас не отыщут! Но прежде надо было встретиться, хотя бы увидеть ее. Текли часы, я стоял в укромном месте подле ее дома. Стоял, стоял — вот тогда–то я и ощутил всю степень своей беспомощности, так что слезы выступили у меня на глазах. Я думал: что же мы плохого сделали, что натворили?
Тут Тимофеевич замолчал и затем проговорил:
— Нет, не так все было. Не так я рассказываю. Ты слушаешь и думаешь, наверно: «Какие сантименты». Поверь, она меня любила, это только мой рассказ получился неуклюжим.
— Да кто же сомневается, что любила?
— Я вот сейчас сам и начинаю сомневаться, — медленно произнес Тимофеевич, обращаясь как бы к самому себе. — Но тебе надо знать, чем все закончилось… Ее отправили к родственникам в Ташкент, больше о ней мне ничего не известно.
— А вы, после того что произошло, уже не могли оставаться в Баку?
— Именно не мог, — подтвердил Григорий Тимофеевич и прибавил резко, нервно: — Но дело не в этом: главное, понял ли ты меня?
— Кажется, да.
— Ни черта ты не понял, скажу я тебе! — произнес в сердцах учитель. — И не скоро поймешь!
Так закончился этот странный, ввергнувший меня в долгие раздумья, разговор. «Что же я должен был понять? — в который раз недоуменно спрашивал я себя. — Что хотел сказать Тимофеевич этой своей историей? Пожалеть я должен был его, что ли?»
Так ничего я не понял и тем более, наверное, уже никогда не сумею осмыслить то, что произошло позднее, хотя, казалось бы, неспешное течение привычной жизни захватило и понесло нас, унося все дальше от тех дней, успокаивая память. Как прежде мы вдвоем совершали пробежки по утрам; настала благостная осенняя пора, и не было другого наслаждения, чем дышать стылым воздухом предгорий, едва тронутым солнечным лучом. Вечерами я заходил к соседу на посиделки, и как–то Тимофеевич спросил:
— Послушай, а зачем тебе этот автомобиль?
— Как? — удивился я. — Чтобы путешествовать, конечно.
— На месте не сидится? — сказал сосед и как–то странно усмехнулся, будто отвечая на собственную потаенную мысль.
Этот штрих, эту вроде бы незначительную деталь я вспомнил сейчас, отдаленный толщей времени от тех событий, и мне кажется, что уже тогда он давал понять, намекал прозрачно, не решаясь преступить пределы осторожности, и раскрылся только в самый поздний момент, в последний день наших встреч.
Помнится, было воскресенье. С утра непогодилось, накрапывал дождик, то усиливаясь, учащаясь, стуча по карнизам, то стихая. Раздался звонок, и я, шаркая тапочками, поспешил к двери. Тимофеевич, в брезентовой ветровке, вошел с каким–то торжественным и вместе с тем необычным выражением лица, произнес неестественно громко, верно, заранее приготовленную фразу:
— Ну как тебе живется–можется?
— Снова в поход? — спросил я сумрачно, давая понять, что мне не понравился его наряд.
— Как сказать, что–то вроде этого, — пробормотал сосед, на мгновенье растерявшись.
— Вы не юлите, говорите прямиком, — разозлился я.
Учитель посмотрел мне прямо в глаза и сказал:
— Улетаю я, Серега.
— Куда это?
— Ну, с НИМИ.
— На соревнования, что ли? — не сообразил я.
— Какие еще соревнования? — Тимофеевич грустно улыбнулся. — Проститься я с тобой пришел.
Я вглядывался в его лицо, но ничего не прочел на нем, потом не без некоторого подозрения оглядел соседа сверху донизу и только тогда приметил на его ногах инопланетные ботинки, но поначалу не придал значения этой детали, лишь поднял голову и сказал хмуро:
— Не понял, — и снова тупо уставился на обувку.
— А тут и понимать ничего не требуется, — уже снисходительно проговорил учитель. — Они мне предложили, а я взял да согласился.
— Но как же вы могли… — медленно выговорил я, начиная постигать наконец совершенно невероятный смысл сказанного.
— А что тут зазорного? — пожал плечами учитель. — Никому не возбраняется менять планету проживания.
На меня нашла оторопь.
— С–с–согласились, — выдавил я, едва двигая языком. — К–к–как согласились?
Тимофеевич, видя мое состояние, пояснил улыбчиво:
— Взял да согласился… Иди водички попей, — и добавил мимоходом: — Они, между прочим, и тебе хотели предложить.
— Мне?
— Тебе, тебе.
Это было вовсе дико. Ни смешно, ни грустно, ни странно, а именно дико. Я попытался представить себя в роли инопланетного странника, но никак не мог, лишь обессилено опустился на подставку для обуви.
— Сходи водицы попей, — любезно повторил Тимофеевич.
Я вжался спиной в угол, глядя на капитана со страхом, потому что мгновеньем раньше явилось мне подозрение — он ли это в действительности? Не вздумалось ли какому–нибудь гуманоиду–шутнику преобразиться в Тимофеевича и посмеяться надо мной?
Сосед посмотрел на меня с тревогой:
— Что на тебя нашло, Серега?
— Со мной все в порядке, — ответил я, вставая и отряхиваясь, — а вот что с вами, не пойму?
— Я же говорил, что ты меня не поймешь, — усмехнулся он. — Мал еще.
Его слова задели меня за живое, я намеревался возразить так: в отношении житейского опыта я вам, само собой, не ровня, а вот что касается порядочности… но вместо этого произнес:
— Так значит, этот безбровый был здесь не только за тем, чтобы лечиться?
Учитель утвердительно кивнул.
— Но почему же он не решился, не предложил?
— Они проницательней, чем ты думаешь. Вовсе не обязательно беседовать с тобой на эту тему, чтобы понять, сколь ортодоксальных взглядов ты придерживаешься.
— Нет, вы скажите, что его остановило? — упрямо стоял я на своем.
— По–моему, я выразился определенно, — ответствовал учитель, — но если ты настаиваешь… Впрочем, как раз мне сейчас нет необходимости говорить — ты сам объяснишься.
Я недоуменно поднял брови. Тимофеевич испытывающе воззрился на меня, говоря:
— Разве ты не намереваешься отговорить своего капитана от нелепой затеи?
— Не могу поверить, что это не очередной ваш розыгрыш, — признался я.
— Нет, это не розыгрыш, — ответил учитель спокойно.
Я помолчал. Уже в начале разговора я почувствовал, что Тимофеевич говорит всерьез как о бесповоротно решенном деле, может быть, поэтому у меня не возникло желания удержать его, хотя он этого ожидал, — я думал о другом. Я не понимал, как можно покинуть, вероятно навсегда, эту землю, этих людей, какими бы несовершенными они ни были, эти горы, это небо, эту жизнь наконец, я не понимал, что его так разозлило. Ведь для того, чтобы решиться на такой шаг, одного недовольства мало.
— А как же ваши родители?
— Родители? Видишь ли, они всегда обходились без меня.
Я вновь замолчал.
— Кажется, все сказано, — заметил Тимофеевич. — Я как–то иначе представлял эту нашу беседу, в ярче выраженных дружеских тонах, что ли, — он полуобернулся к двери, намереваясь оставить меня.
— Нет, не уходите, — попросил я. — Мы ведь уже не увидимся, — необъяснимая жалость тронула мое сердце. — Я хочу вам что–то сказать.
— Что же? — Григорий Тимофеевич с любопытством и даже с долей иронии воззрился на меня. — Что ты хочешь сказать мне?
— Не знаю, — поник я головой.
— Если в этой жизни у меня ничего не получилось, могу я попробовать что–то сделать в другой?
— Не знаю, — ответил я не поднимая головы.
— Вот видишь, — проговорил учитель так, словно только что я согласился с ним.
Он шагнул к порогу. Он ушел.
Мы не сказали друг другу всего — это я знал определенно. Опрометью я кинулся к окну, распахнул его в неудержимом стремлении окликнуть, остановить Тимофеевича — и вдруг увидел учителя, выходящего из подъезда в сопровождении двух чуже–звездных гостей. На мгновенье он замер, спиной ко мне, чтобы накинуть капюшон, и пошагал дальше под мелким сеющим дождем. Гуманоиды шли поодаль, с неприкрытыми головами. В этот час поселок был пустынен. Я стоял возле окна и смотрел им вслед, пока очертания всех троих не размыл дождь.
* * *
Это было? Было ли это? Со мной ли это было? По ночам меня посещают бесплотные видения, сознание мое беспокойно, и я существую на той грани, за которой утрачивается уверенность в реальности. Разумеется, я не показываю виду, никто не догадывается, что происходит со мной, никто не подозревает, что я принадлежу двум мирам. В общении я улыбчив и приветлив.
Олька тоже ни о чем не знает. Как ни странно, меня по–прежнему влечет к ней. Да, мы встречаемся. Но когда она уходит, я спрашиваю себя — с ней ли я только что был? Иногда на меня находит такое, что я начинаю сомневаться и в собственной реальности. Впрочем, я не рассказал о том вечере, после которого началась моя вторая жизнь. Его я запомнил до мельчайших подробностей.
Я вернулся из техникума довольно поздно. На улице было еще светло, но, войдя в подъезд, я споткнулся о ступени, чуть не упал — помню, меня еще удивило: отчего такая темень в подъезде, лампочки, что ли, вывернули? Помню, меня поразила тишина на лестничных площадках — обычно, когда поднимаешься, слышишь шум, гам за дверьми, а тогда было тихо–тихо, я еще подумал: какой–нибудь интересный фильм, что ли, показывают? Подойдя к двери квартиры, я оглянулся на соседскую — уже пару месяцев пустует жилище физрука, но никто об этом не знает, может быть, лишь в домоуправлении начинают подозревать неладное из–за неуплаты. Я приложил ухо — безмолвие за дверью, ничьего голоса не слышно, вот уж в чем не может быть никаких сомнений. Я даже стучаться к нему не стал — зачем? Все равно никто не откроет. Кажется, в тот момент я подумал — хорошо, что его нет. Я постоял недолго возле его двери, почему–то не решаясь уйти, какое–то безотчетное чувство удерживало меня здесь. Наконец достал ключи, отворил замок и вошел к себе. Первое, что сделал затем, — снял куртку и повесил ее на вешалку в прихожей (вешалка у меня такая оригинальная, в виде орлиного клюва), я мимолетно отметил ее необычность. Потом сменил обувку и, в тапочках, повалился на тахту. Не знаю, спал ли я — ни усталости, ни слабости, ни радости, ни печали, уже давно ничего я не чувствовал. Мною владело ощущение утраты, чего–то невозвратимого, и самое неожиданное, — это ощущение влекло за собой потерю резона моего дальнейшего существования. А ведь был, был смысл! И вот он утрачен… Повторюсь, я пришел к этому внезапно и поначалу был нимало обескуражен, а потом испытал потрясение. Наверное, тогда что–то начало ломаться в моей жизни, но давал ли я себе отчет? Сегодняшний вечер представлялся рядовым в монотонной череде ему подобных. «Бог с ним, со смыслом!» — решил я. — Главное — жить, главное — быть; вот то, без чего все остальное бессмысленно. Ведь хорошо, даже чудесно, что сегодняшний вечер неотличим от вчерашнего — как иначе обрести покой, желанную уверенность, которой сопутствует сознание собственной значимости, своей жизненной силы. Да, выход обретен — в покое, в утилитарности, в однообразии, несущем, может быть, высшую красоту! Я поднялся, укоряя себя за приступ депрессии, и двинулся на кухню. Там надел фартук и принялся нарезать лук на доске; не знаю, что заставило меня в какой–то момент глянуть в окно — повернул голову и увидел мусорные баки во дворе, копошащихся в песочнице детей, потом мой взгляд снова упал на доску, на которой хрустела и сочилась под ножом луковица, а перед глазами по–прежнему стояла картинка в окне, и вдруг обнаружилась в ней одна деталь, заставившая меня вновь обернуться. В волнении я подошел к окну — эта девушка в спортивном голубом костюме, в кроссовках, с огромной алой сумкой за плечом… да, Олька, как же я сразу не разглядел ее. Она уходила по асфальтовой дорожке к дому напротив, в котором жила. Я бросился на балкон, второпях позабыв снять фартук.
— Олька! — окликнул я ее.
Она обернулась и тотчас засмеялась, махнув длинной гибкой рукой.
— Привет домохозяину!
— Ты откуда? — спросил я громко.
Дети в песочнице прекратили играть и глазели на нас.
— С тренировки.
— Какие планы на вечер? — произнес я, не убавив голоса, не смущаясь тем, что мы привлекаем внимание.
— Никаких, — ответила Олька.
— Зайдешь ко мне? — спросил я обрадовано.
— Зайду, дай переодеться, — быстро и тише проговорила Олька, снова махнула рукой и направилась к подъезду.
Вскоре она была у меня — в попсовых шмотках, на голове прическа «взрыв на макаронной фабрике», притащила кипу итальянских журналов, завалила ими тахту и погрузилась в изучение чужой красочной жизни. Мне, конечно, тоже было интересно: роскошные автомобили, бассейны с бирюзовой водой, длинноногие девушки в шезлонгах на песчаной косе, рестораны в сиянии вечерних огней, — поначалу я не догадался спросить, откуда у нее эти журналы, и сделал это, когда мы уже сели за стол пить горячий шоколад.
— Так, один итальянец на каникулах подарил, — беззаботно пояснила Олька. — Его фирма в Ленинграде гостиницу строит.
— И где же вы познакомились? — неприятно удивленный, спросил я.
— В валютке, — как бы между прочим сообщила Олька.
Я все более изумлялся и огорчался, стараясь, разумеется, скрыть свое состояние. Раньше я не мог и мысли допустить, что Олька бывает в валютных барах.
— Хочешь еще шоколаду? — спросил я.
— Налей.
Олька чуть отпила из чашки и наморщила лоб:
— Какой–то горький у тебя шоколад, а вообще–то ты мастак насчет готовки.
Я усмехнулся:
— Не в пример твоему итальянцу. Олька понимающе улыбнулась:
— У него тоже есть достоинства… Про Италию интересно рассказывает.
— И только?
— Не только.
Зачем она старается казаться легкомысленной?
— Между прочим, он предложил мне свою руку и сердце, — прибавила Олька многозначительно и даже гордо.
— Что же ты отказалась? Тебе ведь Италия нравится?
— Ну и что? А если мы поссоримся — хочешь, чтобы я на мели оказалась?
— Молодец, соображаешь, — я принужденно улыбнулся, на душе у меня было прескверно.
После недолгого молчанья я спросил:
— Зачем ты мне все это рассказала? Олька произнесла равнодушно:
— Чтобы позлить тебя, ты всегда такой самоуверенный… Во–вторых, я хочу, чтобы между нами все было по–честному, чтобы ты знал, что кроме тебя у меня был еще один парень. Этот итальянец.
— Сука! Сволочь! — я быстро встал и вышел на балкон, скрывая от нее свои слезы.
Но она появилась вслед за мной, задымила сигаретой, глядя прищуренным глазом на двор, проговорила примирительно и удовлетворенно:
— Ладно, не выступай. Давай все забудем?
Я молча сглатывал слезы, отвернувшись. Я не хотел ее видеть, я ее ненавидел.
— Ну чего ты расстроился? — произнесла она с грубоватой нежностью и прибавила философски: — Как будто баб не знаешь? Может, я после него тебя еще крепче полюбила, тогда бы не стала рассказывать.
— Дай сигарету, — попросил я сиплым голосом.
— Во, другое дело, — Олька с готовностью протянула пачку.
Мы курили на балконе, не разговаривали. Перед нами поднималась панорама гор, пронзенная нитью дороги. Ни одной машины не было на ней, ни одного пешехода. Помню, я еще подумал: «Вымерли, что ли, все там?» — и в какой–то миг оглушил несущийся оттуда, с гор, рев, взметнулся водяной вихрь, и из него выскользнул серебристый диск — мелькнул, и точно не бывало его, лишь затухают на склонах огненные сполохи.
— Ой, что это? — Олька испуганно вскинула руку. — Гроза?!
В межгорьях пламенел закат, словно выплеснутый соплами. Я смотрел туда и ничего не ответил ей.



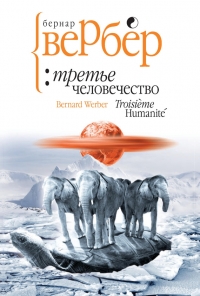

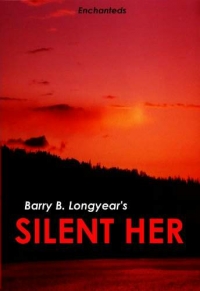
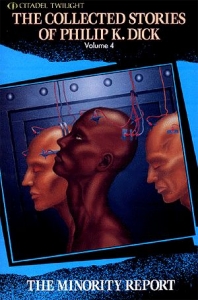
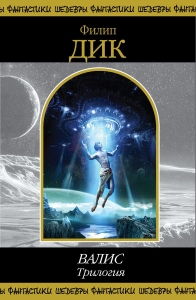


Комментарии к книге «Клуб города N; Катамаран «Беглец»», Владимир Владимирович Куличенко
Всего 0 комментариев