КОСТЕР ДЛЯ СВЕРЧКА
Фантастическая повесть
Памяти старшего друга, большому мастеру и моему Наставнику Аркадию Натановичу СТРУГАЦКОМУ посвящаю.
Предисловие
Первая книга увлекательного и обширного, произведения «Костер для сверчка» не только захватывает читателя своей детективно-фантастической остротой, но и заставляет задуматься о диалектике общественно-социального устройства общества, роли в нем активно-волевого начала, руководящей социальной идеи.
Катастрофическая неустроенность и безнравственность сегодняшней действительности, представленная прежде всего через фигуру центрального персонажа Ростислава, предстает в исторической протяженности и единстве как прошлой эпохи (революция, гражданская война) так и будущего (пришельцы на космическом корабле). Прошлое, настоящее и будущее сведены вокруг настоящего бытия, вокруг проблемы: чем обусловлена та или иная модель социального устройства общества.
Произведение начинается с драматических событий гражданской войны (гибель отряда Манохина), где в батальных сценах рождается мотив предательства, разрастающийся сначала незаметно, но потом все явственнее до всеобщей значимости, до постановки проблемы: в чем причина социальной катастрофы социалистической модели общества?
Ростислав, живущий в пласте настоящего, связан с прошлой эпохой не только по линии преемственности поколений (он продолжатель своего деда, участника гражданской войны), но и как представитель новой генерации, поставленной перед необходимостью осмысления причины социальной трагедии (как идеи предательства исторической эволюции, исторической закономерности развития общества). Вместе с Ростиславом в произведение входит фантастически-детективный элемент. Нож с костяной ручкой, таящий в себе загадку прошлой эпохи, становится одной из предметно-образных деталей, из которых цементируется композиция фантастического детектива.
Образ Ростислава становится несущей опорой в композиции повествования. В реальную пластику персонажа естественно и плавно вплетается чудодейственная способность не просто исцелять, но и воскрешать умерших. Это позволяет автору сделать разворот композиции не столько в детективно-фантастическом плане, сколько в социально-историческом.
Ярые сталинисты во главе с очкастым стараются использовать дар героя для реставрации деспотически-насильственной модели общественного организма. Увлекательный детектив приобретает черты социальной проблематики, чрезвычайно актуальной для нашей современности, для объяснения трагедии русского и других народов в рамках нашей эпохи. Читатель попадает в более отдаленное прошлое, где сталкиваются две общественно-социальные структуры: древнее родовое жизнеустройство (Шиш) и космические пришельцы (Длинноногая, Пятнистый и другие), которые навязывают насильственно более цивилизованную, совершенную, по их мнению, структуру общества. Но все это приводит к социальной драме и взаимоистреблению как тех, так и других.
Автор увлекательно и интересно углубляет свои мысли, подключая разные эпохи, и проблематика начинает приобретать не просто социально-историческое, но и философски-всеобщее звучание: трагедия насильственно-волюнтаристского внедрения социальной модели, нарушающей пластически-закономерное историческое движение общества.
Философское углубление авторской мысли достигается и другой композиционной особенностью: философско-публицистическими авторскими размышлениями.
Ради справедливости нельзя не заметить, что в начале первой книги они носят несколько банальный, сиюминутно-газетный характер, острота которого притупляется при сегодняшнем чтении. Размышления о бюрократически-терроризирующей системе наробраза и другие некоторые погрешности не закрывают для читателя поистине захватывающую картину детективно-фантастического развития философско-социальной проблематики, решающей острейшие проблемы нашего времени, народов бывшего образования — СССР.
Перед читателем разворачивается картина философско-социальной образной мысли, реализованной в рамках публицистического детектива, чтение которого должно, по мысли автора, разворошить и растревожить душу читателя картиной, полной поэзией мысли.
Село Майма. 1982-1991 гг.
Часть первая. ШАГ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ
«Мир и так достаточно велик и сложен, чтобы впутывать еще всевозможную чертовщину».
Румяный, как поджаристый сухарь, лоскут ситца провисел недолго. Разношерстные отряды переполнили далекий город, шумно просочились на окраины, наколобродили по усадьбам и — разом выплеснулись дальше — в сторону гор.
Напирающие по тракту колонны людей, раззадоренные редким сопротивлением, в несколько дней прошли по волости, а затем покатились к самой границе, более никем не сдерживаемые.
Селение тяжко перевело дух, в очередной раз освободившись от вооруженного мужичья — несговорчивого, отупевшего от гражданской бесприютности, раздраженного зудом немытого тела, в безвременьи растерявшего равновесие духа. Однако желанного спокойствия не наступило.
По окрестностям жителя стерегла новая пагуба.
Накипью поверх крутого варева ходила банда «черных». Обесценились керенками, отощали до размеров почтовой марки, извечные человеческие связи. Банда поспевала на десятки верст в округе, скрадывала всякого, кого нужда или иная потреба уводила из села, обухом топора выкрещивала жизнь любого, отличного от собственного, цвета: белого ли, красного ли, зеленого — все равно.
В окружающих село перелесках убивали: за пару поношенных сапог, да скромный харч, наконец, чтобы избыть собачью горечь за рвущуюся под ногами землю.
Слухи ходили страшные. От них ртутью тяжелела в жилах кровь. Стиснутые страхом улицы жались одна к другой. Ночью никто не выбегал на двор, облегчались осторожно, в сенях, над приготовленной с вечера бадейкой.
Минул месяц, как тощавший отряд Манохина отошел за Аю. Восьмерка людей, считая с Павлом Пантелеевичем, береглась стычек с нахрапистым противником. Отчего засела в глуши. Немного навоюешь с тройкой латанных бердан да штучным ружьем учителя против пулемета и двадцати сабель подпоручика Рожнова. Конечно, манохинцы — народ не случайный, кряжистый, по-мудрому лукавый. Но и подпоручик три года германской не кантовался в тылу, окопной мурцовки хлебнул по обе ноздри. Такой голым задом на угли не сядет. Зажал... сиди за пеньками да жуй рябину без сахара. Оно известно: пустая ложка силу тянет.
В распадок, где постились партизаны, и прежде мало кто заглядывал. Место скучное, в стороне от звериных троп. По бокам — темно от прошлогоднего боданового листа, еще не траченного на заварку и похоронно свисающего меж трещиноватых каменных лбов. Снег не держался, сползал с чуть не отвесных склонов, притапливая понизу изъеденные грибом березы, за которыми проглядывал молодой осинник. Вода в заболоченном ручье противилась вялой зиме и продолжала плескаться через подпруживающий русло валежник...
Резь в желудке слегка отпустила, когда в распадок заявился Коляныч.
Манохин маялся животом вторые сутки. Иногда боль сходила на нет. Тогда разом легчало, хотелось действовать, что-то предпринимать. Но вскоре рези возвращались, выматывая душу, старшой начинал скрипеть зубами.
Коляныч примостился на пеньке у шалаша. Оглядев nocepeвших с лица отрядников, сочувственно вздохнул.
Манохин заворчал:
— Наведешь паразитов, леший. Нанесет твоим следом подпоручика. Даром рази держит подле себя Штанаковых? От тех братовьев не оторвешься... Хоть лисьим хвостом обзаведись, достанут гузно.
Коляныч сморщился, спрятал по-молодому острые глаза, а мужики выжидающе посмотрели на тощую дедову торбу.
— Нету, страдальцы, нету хлебова. Нынче весело соваться, что на погост без отпевания. Тама-ка Посельский лютует. Аж начальником милиции. Он, — Посельский, — нынче правой рукой у подпоручика и ко мне его веры нет.
Новость выходила скверной...
Прокопий Посельский был из коренных. Знал предгорья лучше своего двора. Эка, выпрыгнул нечистик из табакерки! И не то горе, что обликом похож на засохшую садушку, а то беда что волчара! Еще при Временном дубленой кожи кержачье, — сплошь медвежатников, — в липкий пот вогнать исхитрялся.
— А болтали, вовсе Прокопий затих?!
Старик помотал головой, точно сохатый, которого донял паут.
— Энтого прапорщика сам черт не возьмет. Чуть оклемался, так кузнеца Куликова исповедал. Вовсе не по-людски. Наказал связать да сунуть головой в горящий горн. О-о-ох! Сам-то меха раздувал; пока плоть угольями не изошла...
Слушатели окончательно помрачнели.
— Да-а-а, суетлив начальник, — продолжал Коляныч. — Какой слух поймает, так при одном мундире за версту сбегать не считает в тягость. Ну, а коли до чьего подворья добег — беда!
— Вот рассомаха! — озлились партизаны. — Придет наша очередь, придумаем милиции кару!
Насели на старика:
— Что ж теперь? Велишь загибаться с голодухи?
Тот покосился на Манохина. Старшой терзал на подбородке щетину.
— Мужички, кто-кто, а я вас сюда не загонял. Своей охотой залезли. Теперь разберись с вами всеми... Чего люди не поделили? Зверствуют друг над дружкой... Ишь придумали! — Красить народ в разные цвета.
— А у тебя к какому цвету глаз лежит? — Павел Пантелеевич выделил зрачками-шильями оратора. — Чего таскаешься до нас, если тебе один хрен?
— Жалостно. Как, к примеру, мне тебя бросить? Ежели я твоему покойному батюшке добром обязан. Грех оставить вас...
Манохин поскучнел, взялся холодом с нутра.
— Так получается, если бы ты задолжал фамилии Посельского, то сейчас держался против меня? Да за такое пришибить — в самый раз. ' Гость отодвинулся на край пенька. Противоречить огорченному мужику не получалось. Опять же, не след уступать собственному норову. Мало ли чего. Вслед убегающему бирюку и худая дворняжка смела, того гляди цапнет.
— Меня пугать — малый риск. Надо мной геройствовать легче, чем над милицией, в портках не отсыреет. А насчет, чьей стороны держаться, так мыслю: добро нельзя забывать.
Остыли отрядники. Глупо на деда кидаться... Без того бобыля потоптала жизнь. По-всякому доводилось. Правда, одной истории, якобы случившейся с Колянычем, не давали веры.
Лет десять назад простился Коляныч с бабкой. До поздней седины билась-мучилась она бок о бок с мужем, на отшибе от людей. Всю жизнь провела на заимке, там и легла, близ сосны под одиноким крестом. Не пустил старик опочившую спутницу на сельское кладбище, где отдыхать бы её уставшему телу в большой компании родни да ровесниц. Скучал Коляныч по бабке. Далековат казался старый погост, трудно мерить туда дорогу. Оттого вырыл могилку под боком. Чтоб почаще наведывать усопшую.
Батюшка построжился на стариково своевольство — но смирился. В положенный срок отслужил сорокоуст. Стал притерпеваться к горю и сам старик. Ан! Настигла другая беда.
Ясным днем лишилась заимка жеребца. До того не слыхали в волости про угон коней. Опасное занятие. На подобное власти смотрели строго, да и сами хозяева в этом случае оборачивались лютым зверьем. Оттого ли, по какой иной причине, но среди местных не находилось вора. А заезжий человек на виду. Чужим подхода не было.
Сразу, как свели жеребца, мужики Колянычу посочувствовали. Хотя он ни с кем на селе дружбы не водил. Но тогда, обратись он за подмогой, никто бы не отказал. Только кинулся старик в погоню без товарищей...
Угонщиков было двое. Колянычу и одного бы за глаза: силу и проворство растерял давно. Крепко побили его конокрады. А потом привязали к дереву у муравейника и скрылись.
...Лют таежный муравей…
Крупные рыжие твари набросились беспощадно на жертву, усеяли одежду, проникли под белье, к теплой податливой коже, сотнями просыпались за шиворот, наполняя воздух кислотными парами, до крови ущемляя губы и веки.
Коляныч из последних сил рвался на свободу. Упирался затылком в шершавый пихтовый ствол. Выгибался дугой. Однако сыромятные ремни все глубже врезались в тело. Порвать их не сумел бы десяток мужиков. Страдалец проклял день, когда нарезал эти вожжи, осторожно работая ножом, избегая случайных надрезов в тугой свежевыделанной коже. Теперь рачительность обернулась к нему черной стороной.
Вскоре муки сделались нестерпимыми. Поедаемый заживо Коляныч охрип от крика. Сукровица из поврежденной в драке головы мешалась, с холодным потом, затекала в глаза. Пот и кровь ярили насекомых. В исступлении они, лохматили ткань одежды, странным образом не трогая ремней, сковывающих человека. Будто ведали, что освободившаяся от вязок жертва перестанет быть добычей.
Запах плоти приманил гнуса. Он налетал звенящим облаком, отлетал прочь, избегая жвал азартного таежного убийцы — муравья.
Солнце сползло за верхушки лиственниц, когда погибающий ненадолго очнулся и не глазами — кожей лица ощутил движущуюся тень. Низкие солнечные лучи редко пробивались сквозь густые кроны, и все-таки тень была резко очерченной. Коляныч вновь потерял сознание, снова пришел в себя, а тень не исчезала. Сердце умирающего со звоном перекачивало остатки крови. Сквозь этот оглушительный звон старик расслышал шаги. «Зверь?»
Он почти с радостью ждал нападения хищника. Надеялся, что острые клыки хищника оборвут мучения. Шаги приблизились вплотную. Старик напрягся, и, тотчас его поглотил обморочный мрак...
На следующий день Коляныч объявился в шабановской лавке. Без коня, без упряжи. Первое время помалкивал. Когда знакомые сельчане поднадоели старику расспросами, они услышали невероятную историю...
Вообще-то Коляныч не слыл брехуном, а считался человеком обстоятельным, серьезным хозяином. Однако многие усомнились в достоверности его рассказа.
Честно говоря, в предгорьях всегда брехали о чуде, подобном тому, которое якобы произошло с бобылем. Лишь замрет одна байка, невесть откуда выскочит другая. Чергачакский учитель взялся было записывать побрехушки, да вскоре оставил. Старожилы ему такого нанесли — учитель в ужас пришел. Опять же со священником у него вышло недоразумение...
Отец Петр — даром что молод — считался служителем благолепным, на миру уважаемым. Имея лик благообразный, характер настойчивый, священник, случалось, и про задурившую власть отзывался неодобрительно. Иной раз батюшка даже анафемствовал в отношении высоких особ. Многое Петру Галактионовичу сходило с рук по начальственному добродушию. А может благодаря родственным связям матушки. Она была не из простых, перед батюшкиной независимостью преклонялась и стояла за него горой.
Одна странность водилась за батюшкой Петром: обожал махать кадилом. Работал им сверх всякой меры — точь-в-точь прорубщик топором. Надымит в храме — чище махры. Сам раскраснеется, ловит ладанный дым широкими ноздрями. С того, за глаза и прилюдно, звали заступника христова... Кадилом. Почтение-почтением, а коль кличка родилась, то и присохла.
Попенял батюшка учителю. Мол, негоже заниматься побрехушками и вводить, мирян в соблазн, ибо любые чудеса, кроме тех, что исходят от Спасителя и святых угодников, являются происками лукавого.
Отчитав учителя, пастырь приструнил и Коляныча. А до того учинил старику допрос. Но мало чего добился. Коляныч сообразил, что может стать посмешищем и от всего отказывался. Дескать, ничего особенного не помнит. И конокрадов в глаза не видел, и не бил его никто, и к дереву не привязывал. В доказательство своих слов наклонял перед священником сивую башку. На которой действительно отсутствовали шрамы или другие приметы побоев. Но любопытно! Батюшка, невесть с чего, усомнился в дедовых заверениях. Придрался к Колянычеву волосу, в котором-де убавилось седины. А под конец заметил неловко, что старик после пропажи коня стал в движениях довольно проворен, молодому впору...
Пятый день «черные» ожидали неизвестно чего. Пятеро заросших жестким волосом бандитов маялись от безделья. Рыжий дезертир — унтер ворчал на главаря, из-за причуд которого кисли мужики.
Последний раз банде довелось потешиться с неделю назад. Тогда прямо на стан черных, крытую лапником глубокую землянку, вышла женщина в добротной шубе.
Изголодавшиеся по бабам бандиты отвели душу. Натешились вдоволь.
Женщина слабо ворочалась обнаженным телом на утоптанном снегу, мычала разбитым ртом, натуго заткнутым меховой рукавицей дезертира.
Унтер, которому жертва расцарапала щеку, разгорячился. Самолично, никого не подпуская, взрезал женщине горло плоским австрийским штыком. Помочившись перед этим на истерзанное лицо лежащей... Свежая кровь пузырилась в страшной дыре на горле женщины, пока бывший унтер ржал мышиным жеребчиком, переламываясь в пояснице от восторга. Шубу, убитой он позже взял себе.
Молчаливый главарь был тогда недоволен. Скрытая досада замечалась в блеске раскосых глаз да, пожалуй, в большей жесткости костлявых скул. Застав компанию в конце веселья, он не сказал ни слова. Стоял неподвижно, пока его присутствие не остудило возбуждение банды. Дождавшись, когда отсмеявшийся дезертир вытрет о снег забрызганные кровью руки, свернет в узел добычу и пойдет мимо, он резко ударил идущего кулаком в висок, а затем подхватил оглушенного унтера за шиворот и пнул в широкий зад, точно набезобразничавшую дворнягу. От пинка унтер пролетел оставшееся до землянки расстояние на четвереньках, уткнувшись в конце полета головой в порог.
Все это время вожак держал левую руку в кармане пальто. На оторопевших бандитов такой жест произвел большее впечатление, чем бешеная ругань посрамленного унтера. Тем более, что в ругани последнего слышалась опаска, а ругавшийся, похоже, не претендовал на немедленное сведение счетов.
Вожак обвел глазами притихших бандитов, досадливо дернул уголками бледно-розовых губ, натолкнувшись на обезображенное тело. «Убрать!» Его беспокоила мысль — каким образом незнакомая женщина вышла к лагерю? Погода стояла тихая и сбиться с наезженной дороги она никоим образом не могла. Здесь было что-то другое. Но попробуй теперь узнать! Тем более, что ни о чем не говорили вещи убитой. Правда, тонкое белье наводило на некоторые мысли, ну, хотя бы, о городском происхождении несчастной и о том, что принадлежало оно женщине состоятельной.
Молчаливый главарь раздумчиво взглянул на вход в убежище, где исчез унтер с узлом. А впрочем... Вряд ли самая богатая шуба способна назвать имя своей хозяйки и цель ее появления здесь... «Черные» стянулись к костру. «Проклятые кобели! Могли бы прежде расспросить задержанную». Сам он не испытывал тяги к слабому полу, как и к той бурде, которой захлебывались остальные при каждом удобном случае. Он вообще не любил шума. И в банду пришел тихо, будто выполз из-за широкого пня и подсел на огонек, никого не спрашивая, без приветствия. На окрик — «Кто будешь?» ответил не вдруг. Медленно поводил пучком сухой травы по хромовым голенищам сапог. А потом отбил всполошенные, пытающие взгляды уколом узких зрачков.
Также неприметно оттеснил он горластого дезертира. Никто не возмутился, не высказал сомнения в его праве. Чужаку, избегающему сквернословия, единственно влюбленному в надраенные, плотно облегающие тонкие чуть кривоватые ноги сапоги, подчинились просто. Всегда побеждает молчащий, и черные скоро убедились в правоте этой истины. Редкие указания главаря неизменно приводили к успеху. Они же спасли банду от рейдов милиции Посельского, давшего слово в том, что милиция раз и навсегда покончит с разбоем в окрестностях села. Но проходили дни, а Посельский метался по логам и перелескам, не в состоянии настичь ни черных, ни манохинцев.
В то же время Павел Пантелеевич и его отрядники даже не помышляли о существовании банды, озабоченные отсутствием провианта, и тем, как уцелеть между молотом и наковальней — Посельским и Рожновым.
А предводитель черных держал своих людей у входа в извилистый узкий распадок. Причем ни один из бандитов не насмелился поинтересоваться — зачем торчать в столь гиблом месте? Однако вожак продолжал сидеть здесь, упорно теряя время, хотя у тракта могла подвернуться богатая добыча.
Четвертая сторона лишь смутно догадывалась о намерениях первых трех. Сельчане опасались всех. Хотелось власти законной, по-мужицки понятливой, не слишком тягостной. Иной раз мыслилось, что во власти вообще нет нужды. Поскольку все последние ее представители были суматошны, ни на грош не соображали в крестьянском хозяйстве и все как один напоминали того цыгана: «Хозяйка, а хозяйка! Дай водицы напиться. А то, так есть хочется, что аж переночевать негде». Белые уже реквизировали по возможности. Бандиты ухватывали, что придется, с шерстью и мясом. Партизаны утверждали — им сознательный мужик отдаст сам, по потребности. Обитатели села никому ничего не хотели отдавать. И своей волей подавали, только батюшке.
...Коляныч засады не ожидал. Оттого испугался сильно. Испуг перешел в ужас, когда он признал главаря бандитов, выскочивших наперерез старику. Тот улыбался, глядя на застывшего столбом пасечника. Поглаживая левой, в цветастой приличной женщине варежке, рукой заиндевелый ствол нагана.
Появление бандитов было необъяснимым. К манохинцам лыжник шел иной дорогой. Обратный путь распадком он выбрал обдуманно. Похожее советовал и Павел Пантелеевич, чтобы сбить с толку охотников Посельского. Проследить Коляныча по дороге в отряд тоже не могли: весь день поддувал свежий ветерок и лыжню от пасеки быстро замело...
Колдобины измучили путника. Носки лыж без конца спотыкались о трухлявые, притаенные снежной зимой пни, о крест-накрест поваленные осиновые стволы, убитые избытком летней влаги, наскакивали на гребни болотных кочек... На появившиеся перед ним фигуры лыжник отреагировал с опозданием. Опомнившись, он кинулся влево через ручей.
Еще была возможность уйти. Достаточно вбежать на противоположный берег, а там, будучи прирожденным лыжником, он запросто оставил бы позади любого — тех же бандитов, не удосужившихся встать на лыжи и теперь черпающих снежную крупу унтами.
— Стой! Стой, сука! — унтер оказался проворней. Блестящее лезвие штыка сверкнуло у глаз беглеца.
— Снимай унты, отбегался. — Резкая боль пронзила Колянычеву челюсть, рысья шапка отлетела в снег.
— А-а-а! старый бурундук...
Чувствовалось, дезертиру не терпелось разделаться со стариком. Бандит дрожал в азарте. Поигрывал, штыком. Бесноватые глаза высматривали подходящее, место на теле обреченного, дабы, покончив с ним, не испортить добротной одежды.
— Не трогать! — улыбка главаря расширилась. Но поза оставалась угрожающей, и не располагала к веселью.
— Сказано — не трогать! Нам с дедом о многом следует потолковать...
— Признал меня, дедушка? — к Колянычу.
Пойманный судорожно всхлипнул:
— Как не признать. — Выпалил. — Разбойник!
— Удивил ты меня, старик. Удивил и обрадовал. Странную историю мне про тебя рассказывали. Очень странную. Невероятную... Смягчился:
— Мы погорячились с тобой... тогда. Так ты извини. Коня я тебе возмещу. Конечно, жеребец твой — дрянь жеребец. Но получишь, как за арабского скакуна — слово! Бандит перешел на вкрадчиво-насмешливый тон. — Ко всему гарантирую, что ни Посельский, ни рожновские головорезы не прознают, куда и к кому ты бегал с харчами.
Черные загоготали.
— Ведь Посельский диковат натурой. Он, бывший мой знакомец, может расстроиться из-за твоего непослушания. Вот и получается, крути не крути, а нам с тобой надо договориться... Внезапная разговорчивость главаря удивила черных.
Они сообразили — пришел конец сидению в землянке.
...Удачный для бандитов день, для милиции оказался вовсе счастливым.
След от лыж старого пасечника, как надеялся Манохин, да и сам Коляныч, почти на всем протяжении замело. Сохранилась видимой самая малость.
По логам белые языки поземки не сумели дотянуться до лыжни. Куски ее отчетливо выделялись в тусклом свете короткого дня. Вот этих уцелевших отпечатков и хватило для опытных таежников.
Посельского обнадеживало то, что лыжня тянулась и тянулась, нигде не раздваиваясь. Выходит, старик до сих пор находился там, куда направился с утра. Было бы скверно, если он заметил милицию на обратном пути и успеет предупредить бандитов. Именно бандитов. Прапорщик не видел никакой разницы между черными и манохинцами. Что те, что другие — были разбойниками, нелюдью. Осатаневшими дикарями, которые покушались на нечто устоявшееся, на родное сердцу прапорщика.
Правом менять устои должны обладать либо святые, либо люди, осененные общим доверием, в том числе — доверием Посельского. То есть — люди, способные предвидеть последствия предстоящих перемен. Которых доверие обязывает. Все остальные в состоянии вызвать только разруху. Привести народ к страданиям, перед которыми поблекнет Апокалипсис... Библейские ужасы? Он уже пережил нечто подобное в Августовских лесах. И позже — случайным образом уцелев, после газовой атаки немцев. Наконец — в Киевском ЧК...
Тогда, в семнадцатом, он понял правоту солдат полка, самовольно покидавших фронт. Посельский ушел с ними. Не подозревая, что и они, и он несли в себе заразу апокалипсических напастей — убийство и ненависть.
Отечество день за днем предавало своих сыновей. Земля делалась чужой. Менялись местами обычные с виду понятия и вещи.
И, в отличие от знаменитого правила арифметики, менялась сумма, вслед за перестановкой слагаемых.
Часто в похмельной тоске он клял тот день, которым появился на свет. Жизнь стала излишеством, так как силы притяжения между людьми вытеснялись силами отталкивания. Начальник милиции кидался в пучину повседневных дел, словно в запой. Жизнь приучала, что самые сложные человеческие проблемы можно решать наиболее простым способом — уничтожением себе подобного. Убивали черные, убивали партизаны. Убивал и Посельский. Все творили насилие. Становясь его жертвами. Увлекая за собой других, еще не окрашенных в контрастные цвета животной междоусобицы. Стала сдавать, не выдерживая дикой нагрузки, психика населения. Людьми завладели психоз и истерия. Ибо духовное здоровье народа подвержено расстройствам не в меньшей степени, чем психическое здоровье отдельной личности.
Прапорщик сознавал, что выбор его случаен. Что возникли иные обстоятельства, он, некогда благородный и щепетильный в вопросах чести мог оказаться в лагере теперешнего противника. Выбор случаен? Тем хуже для всех! Тем ожесточенней он будет защищать избранный путь. А пока выйдет на логово, где скрывается крупная дичь, и захватит ее врасплох.
...Едва цепочка милиционеров повернула вверх от реки, прапорщик забежал вперед. Сутулый на ходу, долговязый милиционер Арыков остановился.
— Поворачиваем.
— Но... — Арыков имел в виду, что след указывал в другую сторону.
Однако Посельский не стал вдаваться в объяснения. Уж он-то знал, какая ловушка могла их ожидать.
— Поворачиваем, — повторил прапорщик.
Долговязый милиционер первым высмотрел противника. Осторожность изменила черным. Для их спасения достаточно было одному из бандитов поднять голову и посмотреть на взлобок, где неприкрыто, в полный рост, поднялся отряд Посельского. Бандиты этого не сделали. Увлеченные беседой, они не видели как высокий лыжник в дохе махнул рукой, а продолжали слушать унтера, прихлебывая чай из жестяных закопченных кружек. Ведерный чайник перекипал над пламенем костерка, искусно прикрытого со стороны долины.
— Шшш-и-и-ах-ах, — звуки залпа прокатились поверх распадка, увязая в заснеженной глубине Черные попадали, не успев встать на ноги.
Через мгновение близ костра немо застыли те, кого настигли пули. Легко раненый дезертир уронил посудину с остатками горячей, душистой влаги и перевалился за сушняк. Вскоре оттуда встречь милиции защелкали выстрелы.
Сопротивляющиеся били с двух точек: из-за кучки припасенного сушняка и от низкого лаза в землянку.
Посельский, подобрав полы полушубка, съехал вниз. Распластался за огромным обломком скалы. Камень взвыл, срикошетив попавшую в него пулю.
Через минуту к прапорщику присоединилось двое, остальные проворно залегли у входа в распадок. Капкан захлопнулся. Открытым оставался только склон горы, позади землянки, простреливаемый на всем протяжении. Кольцо окружения туго сжималось. Притаившийся за сушняком бандит утратил выдержку. Заспешил. Унтер видел много чужих смертей, потому боялся собственной. Садист, по наклонности, он не усматривал оснований для того, чтобы другие поступили с ними иначе. Ужас выгнал его из укрытия.
Он бежал, вихляя, бросаясь из стороны в сторону, чтобы увернуться от прицельного выстрела. Бежать было трудно. Подошвы то и дело срывались. Раз-другой он припал на колени. Снизу его отчаянная попытка виделась беспорядочной пляской на одном месте.
Посельский плавно опустил мушку и нажал на спуск. Он не нуждался в пленных. Беглец запрокинулся, обхватил руками расколовшийся затылок и сполз в глубокий снег. «Ноги коротки от пули бегать», — зло подумал про убитого начальник милиции. И перенес внимание на землянку.
Освободившаяся от лыж милиция обложила убежище черных, словно медвежью берлогу. Проваливаясь по пояс в снежную массу, милиционеры переходили от дерева к дереву, ближе и ближе к темному, парившему жилым теплом лазу. Они уже поняли, что имеют дело не с плохо вооруженными партизанами, а наткнулись на неуловимую банду, отчего наступали осторожно, основательно прошивая из винтовок видимую часть землянки, палили часто — на убой. Те, кто затаился под крышей убежища, не показывали носа, отстреливались наобум, тянули время перед расплатой.
Вскоре сопротивление прекратилось. Но прежде в землянке стукнул еще выстрел и послышался крик: «Сдаюсь!». Прапорщик выпрямился. Навстречу ему вылез пошатывающийся от пережитого волнения бандит.
— Я сдаюсь!
— Поздно, лапушка, поздно, — протянул Посельский. — Коль не хватило духа застрелиться, придется посодействовать.
Черный вскинулся, торопливого замахал руками:
— Да погодите, прапорщик, со стрельбой. Эка вам не терпится. Аль не настрелялись еще? Ей-же-ей, Посельский, глупо резать курицу, способную нести золотые яйца...
— Господин Посельский, — поправил начальник милиции. — Вынужден не согласиться с вами, гражданин бандит. Вы больше напоминаете ощипанного петушка. Бывшего задиру-петушка... Что? Петушок больше не хорохорится? он пробует петь?
— Посельский... Ладно-ладно, господин Посельский, вы — дурак? Или прикидываетесь?
Прапорщик повеселел. Заинтересованно взглянул на пленного. Похоже тот успел отдышаться, коли стал спокоен, даже холоден. Любопытно узнать причину столь редкого хладнокровия перед лицом смерти, ибо предсмертного мига ужасался любой. Прапорщик, как говорится, видывал виды. Позы, жесты, гордые речи перед расстрелом или виселицей — это для девиц, для романтических юнцов, для всех тех, кто не убивал сам или не встречался вплотную с насильственной смертью. Дайте человеку возможность наперед проникнуться сутью подступающего небытия и... вы сломаете его.
Схваченный бандит выглядел редким экземпляром, раз спокойствие его было настоящим. Глаза... И самых волевых людей выдают глаза. А у этого типа они оставались невозмутимыми.
— Ладно... Где пасечник?
— Там, — пленный кивнул в направлении лаза. — Хочу предупредить — его секреты перешли ко мне.
Начальник милиции покривился:
— Колянычевы секреты малоинтересны. Любопытно другое — ваша внешность. Мне она кажется знакомой...
Смеркалось. Осмотр землянки провели скоро. Больших ценностей ни в помещении, ни в карманах подстреленных не оказалось. Если они все-таки имелись в банде, то были скрыты в другом месте.
Милиционеры оставили тело старика внутри, там, где его обнаружили. Схваченный бандит сказал правду: на спине убитого чернело входное отверстие от револьверной пули.
Посельский, брезгуя, перешвырял бандитское тряпье. В узком луче фонаря казалось оно жалким. Задержала добротная женская шуба. «Так, значит, так». Но вслух от ничего не сказал, а положил шубу обратно...
Партизаны томились. Минул срок, а вестей по-прежнему не было. Тревога терзала Павла Пантелеевича. Вечером того дня, когда пасечник побывал в отряде, партизан подняла на ноги далекая пальба. Ослабленный расстоянием ружейный треск доносился с полчаса, потом все стихло. Оставалось гадать: между кем велась перестрелка? Кроме манохинцев, в округе не было других партизан, а появление пришлых вряд ли было возможным. Место, в котором основался Павел Пантелеевич с людьми, при некоторых достоинствах отличалось тем, что не имело подходов с трех сторон. Распадок заканчивался тупиком — своеобразной ловушкой. За исключением спуска к реке, во всех направлениях дыбились горы, труднопроходимые даже летом. Зимой же любая попытка их преодолеть была самоубийством.
Залезая в коварный распадок, Манохин полагался на скудоумие противника. Кому, мол, придет в голову искать партизан именно здесь.
Его предположения оправдались только наполовину. Рожнов не полез в распадок, но на всякий случай выставил у реки заслон. Теперь партизаны могли маневрировать сколь угодно, благо позволяли размеры и рельеф местности. Однако их не тешила свобода в пределах клетки. Единственную тропу в обход заслона знал лишь главарь черных, о чем не подозревали ни Манохин, ни Посельский, ни старик-пасечник, появление которого у реки стало известно прапорщику спустя два часа...
Лагерь манохинцы сменили. Новая зимовка, загодя присмотренная Павлом Пантелеевичем, находилась в столь хитром закутке, сотворить который способна только природа. Но больше возможного нападения отрядников страшила затянувшаяся голодовка. Уже теперь от скудного рациона, нет-нет, да и запрыгают перед глазами метляки. В какой-то степени спасали поставленные на зайцев петли. Помимо зайчатины ели все. Угодил в котел и бурундук, гайно которого попалось на глаза учителю.
* * *
Недоедание лишало тепла; отрядники зябли, выползая на белый свет по нужде да затем, чтобы приготовить топливо или проверить ловушки. За последним отправлялись охотней.
Еще задолго до Рождества придумал Манохин просить о подмоге Кибата. Действовать прикинул через священника. Благо батюшка к партизанам относился без укора. Метавшийся бешеным кобелем прапорщик ни с доглядом, ни с гостеванием на подворье к священнику не лез. Напротив — чуждался, хотя каким-то краем доводился Богданову сродни. Не то начальник милиции старался обносить обочь божьего храма свои кровавые грехи. Не то по какой иной причине. По той, например, что притих битый начальник после недавнего налета красных. Правда, неизвестная кучка храбрецов, выдержав остервенелую стычку за околицей села, отошла в глубь долины. Но без потерь. В противовес прапорщиковым архаровцам. Как есть пять душ вычеркнул он из списков. Подранков не пришлось пересчитывать: партизаны пуляли в противника, будто на белковании. По окончанию боя, до глубокой с хиусом ночи прапорщик шатался по селу, иссиня-черный от дурной смеси браги и араки. А в дальнейшем, похоже, поджал хвост.
Придумка Манохина по-всякому казалась надежной. Учитывая, что батюшка был вне подозрений и, пускай, лично не мог наведаться к Кибату, — больно был на виду, его отсутствием озаботились бы сразу, — но имел возможность послать к алтайцу верного человека. И мука, и соль, и кое-что другое имелось у лавочника. Мельницу Луки пожгли в первом переполохе, но обозы в село шли без помех. Есть хотелось всем, морить голодом село у властей не было резона.
Тракт милиция пасла неусыпно. При Посельском ошивались зоркие мужики, взять Тогунакова или брательников Штанаковых. Но какой спрос с алтайца, если набьет вьюки продовольствием? Ведь инородцу другой раз и недосуг заглянуть в русскую лавку. Кибат всегда прикупал необходимое с запасом. В общем, крепко полагался Павел Пантелеевич на инородца. Дружба у них велась давняя. Еще до войны наезжал Манохин к внуку престарелой Хатый. Год за годом — привязался бровастый чергачакский мужик к легкому на ноги, приветливому Кибату, тот, в свою очередь, стал Павла Манохина почитать за брата.
Не брезговал Манохин и угощением друга, свои разносолы были победней, как-никак — девять душ в семье. В ответ на гостеприимство делился мужик ружейным припасом. Чего проще, коли мельник Лука приходился Павлу Пантелеевичу крестным и за помощь на помоле отдаривался огневым припасом.
* * *
Каменная обитель стояла на отшибе. Коляныч воровски держась забора, проник на церковный двор. Мороз усилился, плотно утоптанный снег повизгивал под ногами. Священник жил при храме, в одной ограде с божьей обителью. Жилую часть загораживал притвор, и пасечник обогнул его с западной стороны, убедившись перед тем, что сумеречная улица позади пуста.
Кадыл сидел в жарко натопленной горнице и просматривал «Епархиальный вестник» от прошлого года, изредка касаясь строк кончиком карандаша.
Гость потоптался, отдал поклон, держа шапку в руках. Батюшка тонко улыбнулся:
— Без церемоний, без церемоний, не на исповеди.
Последний раз Коляныч исповедовался лет десять назад. Батюшка знал о том со слов своего предшественника. Старик смущенно хмыкнул, отчего священник совершенно развеселился.
— Уж не безгрешен ли?
— Все мы люди. На каждом грех лежит.
— То верно. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас». Все так! Другое тяжело: ныне к обычным добавился смертный грех — грех братоубийства. И нет нам прощения, ибо мы не люди уже. — Священник посуровел.
Гость смешался, не зная, как после такой отповеди начать деликатный разговор.
Но вопреки его сомнениям, Богданов к просьбе партизан отнесся спокойно, отмахнувшись от уверений в том, что его содействие Манохину зачтется в дальнейшем. Если... Если партизаны когда-нибудь возьмут верх:
— Доброго для прихожан ни от тех, ни от других не жду. Лично в покровительстве не нуждаюсь. Я служу Господу, ему меня карать или миловать. Однако морить живое голодом — непотребство. Потому не отказываю. — Он задержал старика, обрадованного скорым согласием. — Пусть люди Манохина учтут: коренные обитатели сих мест ныне, недоверчивы. Опасаясь, алтаец может усомниться в посыльном. Лучше иметь знак, который удостоверит личность гонца.
Коляныч спохватился. Павел Пантелеевич словно в воду смотрел, когда давал наказ старику. Небольшой узкий сверток показался на свет из глубины пасечниковой дохи. Священник принял сверток, вновь усмехнувшись:
— Просящему подают?
А потом вторично попытал гостя:
— Не хочу быть суетным, но полюбопытствую: уж не тот ли это Кибат, который якобы воскресил одного из моих прихожан?
Вопрос остался без ответа. Кадыл остро глянул на поскучневшего Коляныча и сменил тон:
— Странно, но похожую сказку приходилось слышать от нескольких особ. В том числе — от инородцев. А они, будучи склонны к чудесным вымыслам, все ж таки не суесловят втуне. Находятся даже очевидцы воскрешений и уверяют в одном — чудесным даром обладают-де только мужчины из рода алтайки Хатый. Кибат доводится ей внуком. Не так ли?
Пасечник безмолствовал...
* * *
Что приключилось той ненастной ночью, когда, отчаявшись дождаться алтайца, манохинцы прокрались под самым носом у милицейского дозора к селу, никому углядеть не довелось. Какого рожна выглядишь в беззвездной темени, схоронясь за глухими, на толстых кованых болтах, ставнями?
Только... Едва ночь перевалила за середину, перекатилась в сторону реки под растерянный собачий брех частая стрельба.
Минут десять порох жгли густо, как по доброй мишени. Уверенно так, вроде прицельно. Смолкла пальба резко, как и не начиналась.
Новости пришли утром. Дескать, милиция начисто прибрала манохинских бандитов.
Новая победа вызвала торжество Посельского. По светлому стало видно: прапорщик с напарником обходит по берегу Катуни подстрелянных. Солдат работает штыком, словно вилами.
Ткнет в тело наотмашь — замрет, выжидая. Идущий следом начальник в каждом сомнительном случае палил в голову лежащего из нагана. Медленно так: стянет зубами рукавицу, держит ее, словно кобель поноску — палец на спусковой крючок — выстрел. Потом, так же, не спеша — рукавицу на место. Иного партизана, пристывшего к наледи, валенком упершись, перевернет. На предмет опознания. Глядеть муторно! Оно — хоть и мертвяки, а все-таки люди — не маралятина.
К обеду прапорщик появился на улице в непотребном виде. Останавливал каждого встречного и похвалялся: «Вот дубье манохинское. Вышли сослепу — точь-в-точь на наряд...»
Тешился начальник милиции. Сучил от радости ногами, аж бородавка на левой щеке подпрыгивала. Пьяно качался из стороны в сторону, и, мало кто примечал, как морозно, испытующе прощупывал Посельский собеседника узкими щелочками зрачков, в которых не было признаков хмеля. Позднее шестерых мужиков сволок прапорщик на Большую улицу. Где в бывшем здании приходской школы дотемна выколачивал душу из неосторожных.
Ан, невзирая ни на что, задворками, огородниками пробежал шепоток: «Если темень подвела партизан, что ж милиция — сычьего глаза? Такой ночью, как нынешняя, можно лбами промеряться, а не разобрать, то ли кум, то ли кто дальний попался встречь... В такую темень человека от телка не отличишь...»
Многие мужики не имели приязни к партизанам, однако досадливо крякали: «Как хошь, шабер, но не обошлось без Каина. Нет».
Трупы партизан пролежали на берегу дней пять. По приказу прапорщика убитых держали на виду для устрашения, однако близко не подпускали никого. Наконец кто-то прикопал манохинцев. Похоронил, крадучись, в мерзлой земле. Кто именно, о том любопытствовать опасались. А спустя месяц стало не до погибших...
Каждый день по тракту сновали отряды. Раз ниже села забухало орудие, выпустило пяток снарядов по незримой цели и быстро снялось с позиций. Ствол у орудия оказался расстрелянным вконец. Шальной снаряд залетел в село, рванул у маслобойни — в воздух метнулись комья серого подтаявшего снега и мерзлой земли, просыпалась дранка с крыши.
Сумятица продолжалась не один день. А когда все установилось, то вслед за наступившим теплом народ смутился окончательно — объявился живым Манохин.
Объявился Павел Пантелеевич заполдень, едва-едва спал дневной жар.
Зинаида перемывала посуду, увидев мужа, просыпала ложки.
— Господи! — Заколотилась в плаче. — Мы же тебя похоронили! В поминание занесли... Да как же?!
— Ну, Зинаида, ...ладно тебе... потом...
Она ходила за ним по дому, шаг в шаг, и говорила не переставая, прерывая причитания плачем:
— Что теперя будет? Из ваших токо учитель и спасся. Так он сразу явился, как рожновцев прогнали. А где ты столь пропадал? Али весточку подать не мог?
Павел Пантелеевич замер. Зинаида уткнулась носом в мужнину спину. Рубаха была влажной от пота, пахла дымом, конским седлом и чем-то незнакомым.
— Чо молчишь? Али у какой бабы отсиживался? А я одна... с эдакой оравой...
— Сказываешь, учитель живой?
— Живой, живехонек. Он...
Манохин перебил жену:
— Кадыл-то... в селе?
— У батюшки горе — матушка пропала. Она допрежь того, как ваших побили, с дома вышла и потерялась. Батюшка доси горюет. — Прорвался очередной приступ слез.
— Остынь, Зинаида!
— Во, заладил... Что отстывать-то? Уж и рада я да смутно перед людьми... Ишь, скажут, сам-то вернулся, а мужиков погноил. Завел, скажут, на погибель. Людям-то языки не привяжешь... Смотри, ишо ваши власти прицепятся... Ведь почитай с той ночи болтают, мол, предал какой-тось ирод мужиков.
Такого оборота воротившийся не ожидал.
— Отскочь, Зинаида! Нет за мной пакости. Одна вина — в чем-то дал оплошку. Будет время... Все разъяснится.
Павел Пантелеевич присел и супруга ахнула: через всю лохматую башку мужа прочерчивался бугристый, словно из-под топора, сизый шрам. Рубец шел по обе стороны черепного свода, самую малость не захватывая шеи. Даже крепко повоевавшие старики вряд ли бы припомнили, чтобы человек, пусть медвежьего склада, сумел отбояриться от смерти при этакой ране. Рассказать кому, так посчитают за брехню. Но собственным глазам верить приходилось.
— Павлуш, как же ты...?
— И не спрашивай. У меня тогда память из головы выбило. Начисто. Одно запомнилось: реку льдом перешли, а дальше... ни синь пороха. Учителя, кажись, в дозоре оставили... На худой случай, если следом кто нагонит. Мужики голодные, в село рвались, один охотой не остался бы. Принудил я учителя, он спорить был слабее других...
Нет, не хитрил мужик перед супругой. Запомнилась ему картина — он в горах у Кибатовой бабки. Выходила она, значит, Манохина. Много дней он ощущал во рту вяжуще-горький вкус травяных настоев, которыми потчевала Хатый.
Неродным ей языком старуха едва владела. Но из ее бормотания Манохин понял, что знахарка подобрала его близ аила. Леший донес мужика до тех мест? Туда же конному сутки бежать. Чудно! Но, выходит, добрался, кровью изойти уберегся, хотя себя и не сознавал.
Едва в разум вошел, пристрастился беседовать со старухиными земляками. Старики-алтайцы навещали каждый день. Говорили о разном. Лишь позднее заметил, что в присутствии старухи инородцы прятали мысли, уклонялись от прямых ответов, теряя под взглядом Хатый немногие русские слова.
А вскоре до Манохина дошло — не одинцом он попал в горы. Еще совсем свежей была захоронка, где бабка прикопала его попутчика, обложив холмик большими камнями. Откуда силы у нее взялись? Высохшая от времени, скрюченная — почти карлица, дунь, за версту унесет, бабка наворочала такого дикарника, что Павлу Пантелеевичу пришлось бы неделю таскать.
Старики толковали про его спутника нехотя, с отвращением. Сплевывали. Не усматривали в приключившемся добра. По их словам, тот, кто привез Манохина, был черт-чертом: черный — головешкой из костра, ростом — до конского седла не доставал, волоса — белые, а вместо глаз — темные дыры. Даже конь пугался черта, кричал по-человечьи. Потом поводья порвал и убежал к перевалу.
Старики пропажу коня приняли с облегчением. Чужого им не надо. А уж такого жеребца, на котором черт катался, и подавно.
Кое-что аильчане утаили от хворого. Ну зачем русскому знать, что старуха каждое утро ходит к свежей могиле? Сядет возле, у самой глаза сухие-сухие, будто кожа змеи. Сидит, плачет без слез, ругает умершего, да зовет... Кибатом! Видно погас ум старой алтайки. Разве будет живой спорить с усопшим? Можно ли внука перепутать с чертом? Э-э-э! Годы дают человеку ум, слишком большие годы его отнимают...
На следующий день после возвращения Павла Пантелеевича вызвали в Совет.
Рябой боец загораживал вход, сидя на нижней ступеньке крыльца. Приоткрыв от старательности рот, он выбирал крупинки махры среди мелкого сора, накопившегося в карманах коротко обрезанной шинели. Битая винтовка белела свежеструганным прикладом. Занятый делом вояка слегка отстранился корпусом, пропуская посетителя. «Аника-воин», — ругался Манохин, зацепившись носком сапога об шинельную полу. «Иди знай», — окрысился рябой. «Иди, колчак, щас тебе пропишут». Павел Пантелеевич задохнулся от возмущения, но смолчал.
В помещении пахло самосадом. Вырезанные из газет и наклеенные на картонки лики Троцкого и Маркса казенно взирали с бугристой стены. Картонки висели криво, отчего казалось, будто вожди подглядывают за присутствующими через узкую щель, морщась от боли, причиняемой пробившими картонки гвоздями. Троцкий морщился сильнее: шляпка гвоздя приходилась ему в центр лба.
Одного из находящихся в комнате Манохин знал. Очкастого следователя из Бийска видел впервые.
Очкастый сидел вольготно, закинув ногу на ногу, посверкивая сквозь слоистый табачный дым хромовыми голенищами.
«Видать занозистый фендрик», — мелькнуло в голове у вошедшего. Но очкастый до поры до времени не вмешивался. Следствие вел, вернее тащил сарлычьей ношей, Корчуганов. Который то и дело ищуще поворачивался к представителю из города. Допрос заколодило тотчас.
— Здорово, воскресший!
Пантелеич угрюмо кивнул.
— Обскажи-ка нам чего-такого. К примеру, почему, приехавши, глаз, не кажешь?
— Пришел же.
Полное, с тяжелым подбородком лицо Корчуганова зло покраснело. Он стукнул ладонью по столу. Потревоженный рой мух снялся с засаленного сукна, покружил над головами людей и примостился на бороде Маркса.
— Ты, твоего бога... шутки брось! Отряд положил... Сам невесть где скрывался... Теперь заявился на готовенькое, и прикидывается телком. Обсказывай все как есть!
У Манохина в горле еж забегал. Набычился. Приподнялся со скамьи. Жуткий шрам налился лиловым. Очкастый вперился в шрам выпученными глазами.
— А ты не попрекай! На жилу не дави. Ты у себя дома... Сопляков своих пугай. — Допрашиваемый загреб руками воздух.
— На го-о-ото-ю-овенькое! Тебя возле нас не было, когда Рожнов, наперебой с милицией, из нас пыль выколачивал, да голодом травил.
В комнате зависла тишина.
Первым шевельнулся следователь. Голос его звучал доброжелательно, однако был шершавым, похожим на скрежет напильника.
— Вы поймите, Манохин, никто вас не чернит. Просто надо разобраться, и, если отряд кто-то выдал, нужно сволочь определить, а затем покарать по всей строгости советского закона. Последние слова звучали строго. Подошедший к окну часовой, едва не касавшийся носом стекла, отпрянул, вернулся на цыпочках, к крыльцу.
Павел Пантелеевич утомился от трудного разговора; осип:
— Что помнил, доложил. А сказки сочинять, извиняйте, не мастак.
— Ну, на нет и суда нет. — В отличие от Корчуганова очкастый казался довольным. — Предлагаю в другой раз нашу беседу продолжить в иной обстановке.
Он явно набивался в гости. Манохин откинул намек и вышел, не попрощавшись.
...День-другой трясли священника. Служитель культа стоял твердо, не выказывал робости, был скорбен по пропавшей супруге. Открещивался от обвинений, упирая на святое писание....
В иные моменты отец Петр сильно крепчал голосом, гневался на суесловие питателей, набирал пену на синюшных от хвори губах. Мудрый батюшка уповал на прихожан, толпящихся за окном.
Утверждал батюшка, что не видел никого в ту немилосердную ночь: ни Манохина, ни алтайца. А иногородца Кибата ожидал. Дабы выполнить отчаянную просьбу партизан. С тем к алтайцу матушку отправил, и по сей день горюет по пропавшей супруге да по загубленным людям. А всему сказанному им тот же мирянин Манохин свидетель.
Свирепел на собственное бессилие перед священником Корчуганов. Матерился сквозь зубы, неуклюже марая бумагу. Лапал ручищей без нужды маузер. Следом за Богдановым треть села перетаскал на допросы, начиная с мельника Луки и кончая лавочником.
За время следствия не раз и не два Корчуганов негодовал очкастому начальнику на злоехидное мужицкое словоблудие. Зато позже отвел душу на убогом псаломщике.
Последний убоялся сердитого сельсоветчика, прятал на допросе глаза и жалко юлил. Накрошил намеками семь верст до небес и все лесом. Пока не заблеял, вконец, такое, что очкастый следователь челюсть уронил и принялся протирать очки, запотевшие от смеха.
Словом... И метались будто за прапорщиковым родичем черные следы, но ухватить — пальцы свихнешь. Опять же обиженные за батюшку мужики стали бурчать в бороды — долго ли тут до смуты.
Загадкой осталось для властей и исчезновение Посельского. Если рожновцы успели пробиться в Манчжурию, то следы прапорщика улетучились много раньше, задолго до первого тепла, когда красных и в помине не было.
Милиция перевернула село, отыскивая своего начальника, но остались ни с чем. Искал прапорщика и Корчуганов, но тот словно в Катунь унырнул...
* * *
Во все последующие годы стала примечаться за Павлом Пантелеевичем Манохиным одна странность: часто среди ночи пугал супружницу жалобным криком. Закричит, вскочит разом мокрый от холодного пота, как мышь. Запалит лампу и смотрит на огонь, а у самого лоб морщинами трескается да застарелый шрам набухает чернильной синевой.
Ладно дети остепенились, разлетелись кто куда. Раньше и они пугались родителевых стонов. Правильно говорят, знахарское лечение не без сглаза.
Зинаида уже не лезла к мужу с расспросами. Зная неизменный ответ: «Отпрыгни, Зинаида! Спи!» Рявкнет, будто самому невдомек — какой уж тут сон?
Любопытствующих Павел Пантелеевич не терпел. Тотчас зверел, коли кто подлезал назойливой мухой. Обругает, повернется к досадившему спиной и уйдет. Стыдно делалось за него перед людьми. Ну чтобы спасительницу свою не навестить? Хоть раз за многие годы? Так нет. Он учителева двора чурался, воротил в сторону сивую бороду. А ведь Пархомцевы приходились знахарке сродни. Старый учитель — отрядник Манохина прибрался быстро. Учительствовать стал его сын, женатый на внучке Хатый. Потому странной казалось Манохинская неприязнь к учителеву семейству.
К кому только Зинаида не бегала по причине мужниной дикости...
Однажды попользовать старика упросила она заезжего доктора. Больной встретил лекаря таким образом, что опешивший врач чуть калитку с собой не унес, спасаясь от бешеного пациента. Покидая двор доктор скверно ругательствовал. Грозил желтым домом. И долго не мог отдышаться.
Делал к больному заходы и местный коновал. Позже, успокоившись чекушкой рыковки, он пучил трахомные глаза и заверял, проще-де выхолостить в непутанном состоянии племенного быка, чем лечить сумасшедшего ветерана.
Ладно коновал — брехун известный. Хотя его опасались и не попрекали во вранье. Разобраться, так каждый знал за собой какой-нибудь грех перед властями, пускай незначительный. От такого знания смелости не прибывало. А ветеринар знал грамоту, и вполне мог приписать к действительной провинности изрядную долю напраслины. Доносов, начирканных его рукой, видать не видали. Но очередного его обидчика рано или поздно ждала неприятность. Примеры тому имелись. Потому, если коновалу и досаждали, то втихую. Даже прозвище его упоминали вполголоса. Шепнут: «Вон идет московский жулик», больше ни гу-гу.
Очкастого следователя видели на селе еще пару раз. Приезжая, он непременно заходил к Манохину. Толковали следователь с Павлом Пантелеевичем без свидетелей. А о чем? Этого не знала и Зинаида. В конце концов приезжий начальник отступился, перед упрямством старика и больше не показывался.
А вот священника Богданова со временем замели. Заявили, мол, в притворе церкви обнаружился склад оружия. В церковное оружие прихожане не верили и втайне сочувствовали батюшке. Через несколько дней Кадыла отправили в Бийск. И ни слуху, ни духу...
«То, что судьба тебе решила дать.
Нельзя не увеличить, ни отнять».
Безымянный труп «московский жулик» обнаружил в логу... Некогда на этом месте образовалась узкая промоина с глинистым дном. Прошла сильная гроза, перемежающаяся градом, потом другая и промоина переросла в овраг.
Стенки поднимались тем выше, чем глубже проседал грязно-желтый поток дождевых и талых вод. Вскоре со дна оврага забили ключи.
Стылая, отфильтрованная песчаной толщей влага, очистила, облагородила ложе, промыла его до щебня, иссякая лишь изредка в редкое по сухости лето.
Постепенно, шаг за шагом, стены и дно бывшей промоины освоила травянистая зелень, березовая и осиновая молодь.
...Местами трава достигала человеческой груди. Заросли закрывали от взора ручей, огненно обжигали крапивой, которая перемежалась стеблями дикой малины. Через какой-то десяток шагов крутые стенки сменились отлогим склоном, затененным березняком. Здесь раздолье грибному охотнику. Иной год склон усеивает семейками волнушек, сыроежек и подгруздков...
Труп был старый, скорее не труп — скелет, едва прикрытый клочьями полушубка, бридж и кителя. Белье сгнило полностью и не мешало костям проглядывать сквозь дыры...
Пустая случайность вывела коновала к непогребенному праху. Потянувшись за переспелой ягодой на другом берегу ручья, где обычно не ходили, избегая крапивы, он и наткнулся на скелет.
* * *
В хорошем хозяйстве ничего не пропадет зря.
Органы заинтересовались костями, найденными ветеринаром. Дело получалось серьезным, так как среди остатков нашли серебряные часы. На задней крышке часов имелась надпись: «...от боевых соратников по Киевскому ЧК». Фамилия владельца отсутствовала, спиленная чем-то острым. Поддающиеся прочтению слова пострадали меньше.
Останки привели к аресту доброй дюжины сельчан. До этого бог миловал. Про то, что где-то кучами выявляли «врагов народа» доносилось глухо и представлялось событием далеким — почти на другом конце, света, а, следовательно, не имеющим отношения к здешним местам. За все годы, помимо Кадыла, забрали только придурковатого деда Холодова. Так того взяли за дело. Не единожды дед дивился: «С чего жизнь такая пошла? Глянешь в газету, а там — одни вредители! Ведь что получается? Сегодня, значит, шабер тебе кумом приходится, а назавтра он, паразит, во враги прописывается? У того же Николашки супротивников было помене, нежели у Советской власти. Так оно выходит?»
Сбрехнул дед по дряхлости разума при коновале. Не остерегся. Известно: окромольничал народ до поры, навык обрел в ругательстве, подзапутался меж царем, да временными, да адмиралом, да красными, да зелеными — страх утерял.
Ростиславова отца забрали в субботу днем. А спустя неделю пришли за матерью.
Отец вернулся домой через месяц. Ему в общем-то повезло. Дед Холодов, к примеру, не объявился вовсе. Возвратился отец больным. Похудевший, с лица желтый, он пил соду ложками, охая от рези в желудке. На улицу выходил мало, больше лежал и со дня на день ждал жену. Следователя, закрывшего на него дело, вспоминал без ласковости, хотя служивый на Пархомцева не напирал, но преимущественно иронизировал: «Человек — в твоем положении — звучит подло».
Мать приехала уже весной, когда стаял снег.
Многие ночи потом Ростислав, просыпался от горячечного шепота родителей. |
...Перламутровые блики лунного света ползали по стене противоположной кровати. Эти блики пятнали жестяную морду кошки на ходиках; кошачьи глаза посверкивали белками, и чудилось — это не кошка, а следователь, о котором шептались родители и, который ехидно посматривал на Ростислава через светящиеся стекла очков. Делалось знобко. Хотелось с головой спрятаться под одеяло от пронизывающих Жестяных глаз...
* * *
До отбоя в камере прибавилось обитателей.
Поступившие — трое вялых мужчин и интересная, с, подергивающимся узким лицом, женщина — разместились у дверей. От скученности стало тоскливей.
Вновь прибывшая тратила одну папиросу за другой, жестко царапая ногтем гладкий картон «Казбека».
Соседка Пархомцевой, грузная, отечная швея, покосилась на курящую и забарабанила по крашеному железу двери. В открытом глазке мелькнула фуражка дежурного.
Тебе чего?
— Выйти бы... по нужде.
Дежурный помешкал:
— Погодь, конвойного позову.
Швея растерялась, села голосом:
— Зачем... конвойный-то?
— А не положено без охраны.
И окошечко захлопнулось.
Новенькая криво усмехнулась в сторону стучавшей:
— То-то. Опасных преступников подселили к вам, затем и конвой... Опасные — это я. В вагоне один симпатичный уголовничек отметил — указники мы! Вот он — уголовничек этот — для власти не опасный. Он, сердешный всего-навсего двоих «замочил». Чохом. Эдакий шалунишка! А вот от нас органам одно беспокойство. Взять меня... Я, к примеру, побывала под немцем.
Женщина улыбнулась левой половинкой рта:
— Имела я удовольствие познако-о-о-миться с германцем. Непривычное «германец» привлекло общее внимание.
— Пока мой кадровый супруг осваивал на фронте «кутузовский маневр», я с детьми, — задохнулась, — я «прислуживала», — передразнила она невидимого собеседника, — германцу за кусок хлеба.
— Трое их у меня — дочек! Ну... Месяц назад выхлопотал нас муж к себе. На предмет воссоединения семьи. Соединили, ничего не скажешь...
Она поперхнулась табачным, дымом:
— Деток... деточек — ему, а меня — сюда!
Женщина повернулась к пепельно-серому мужчине, прибывшему, вместе с ней:
— Где же вы раньше-то были, подлюги?! Почему нас под немцем оставили? Защитнички-и-и...
Пепельный поднял больные, пьяные от душевной боли глаза.
— Видите... Видите, граждане, этому заср...ому «арийцу» советского розлива не нравится здесь. Он думал, что раз он — советский офицер и воевал против «родственников по крови», то ему спецучет не обязателен. Не-е-ет! Наши доблестные органы быстро разобрались с ним...
Давно не бритый фронтовик задергал щетинистым подбородком, прохрипел изуродованным горлом:
— Я им бл...м, тыловым с-с-сукам сказал... У меня четыре ранения, две контузии. Я гаду в комендатуре... рыло разбил. 3а что кровь проливали? — Он звонко всхлипнул и снова замолк.
Вечером швее дали свидание. Она, вскрикивая, теребила в руках обмахрившийся платок:
— Игнат! Была я у начальника, Игнат... Кричал на меня начальник. Сказал, бумагу мне готовят... на Колыму! О-о-ох, Игнат!
Видя сломленное лицо мужа, заспешила:
— Если меня отправят... ты сразу женись. Для детей женись... Я ведь там... Я все равно тогда жить не буду... Удавлюсь. Ты, Игнат, женись... если!
А в камере приблатненный парнишка утешал пепельного фронтовика:
— Ты, дяденька, не скули. Не дрейфь. Хрен с ними! Пускай отправляют на Магадан. Мы оттуда в Америку удерем. Там, говорят, Америка совсем рядом... смоемся.
...Люди в камере то и дело менялись и, чем больше сидела супруга учителя, тем меньше понимала, что нужно от нее следователю.
На допросы ее вызывали редко. Да и сами допросы мало походили на таковые. Она часами сидела у стены, пряча руки с отросшими ногтями, а хозяин кабинета молчал и не предъявлял обвинения. Он потирал глубокие залысины на костлявом черепе, позевывал, глядя мимо подследственной, — всем своим поведением выказывая малую заинтересованность. От его поношенной фигуры наносило скукой и какой-то казенной предопределенностью. Казалось: много лет тому назад следователя убедили в личном бессмертии, и он стал просиживать часы, не зная, что делать с навязанным ему непомерным временем, даже крохотной частью своей не вмещающемся среди безликих стен.
«Клоп», — определила в первый день Пархомцева. Действительно, следователь напоминал плоское насекомое. Паразита, затаившегося в глубокой трещине штукатурки. Высохшего от бескормицы. Безразличного к любым проявлениям действительности, кроме... добычи. Такое двумерное нетленное существо готово таиться и год и два, пока не почувствуется запах живой плоти. Тогда следователь-клоп выйдет из летаргии, зашевелит тонкими, в щегольских сапогах лапками и, выбравшись из щели, будет упорно ползти по беленой глади, зависая вниз спиной, дабы прыгнуть, броситься, упасть на безмятежно спящую жертву.
Обычно часа через два-три Клоп сигналил конвойному. И тот вел женщину узким коридором, мимо одинаковых, как близнецы, дверей, по крутой лестнице с липкими перилами, заворачивая в конце ее влево, где размещалась общая камера.
Ни о найденных в логу останках, ни о безвестном владельце серебряных часов, ни о дарственной надписи на самих часах она ничего не знала. Но похоже от нее и не ждали никаких сведений.
Встрепенулся следователь лишь на одном из предпоследних допросов-бесед. Снял очки в аккуратной никелированной оправе — прорезались острые, умные глаза.
— Выходит, бесследно пропавший Кибат приходится вам кузеном? То бишь приходился? Это «вам» и незнакомое слово «кузен» смутили Пархомцеву. Она подсознательно ощутила опасность, исходящую от Клопа.
— Ах да! — Он тут же изобразил смущение. — Кузен... Кузен? Ну, если попросту — доводился ли Кибат тебе, — он сделал упор на «тебе», — двоюродным братом? — скорее не спросил, а отметил обладатель залысин.
— Что ты можешь пояснить по поводу исчезновения названного родственника?
Напряжение следователя передалось ей:
— Как что? Он умер...
— Кто тебе сказал об этом? — Вопросы следовали один за другим. Следователь выстреливал ими так, словно от ответов на них зависела его жизнь. — Кто? — С каждым вопросом он подходил к ней ближе и ближе.
— Органами проверены показания престарелой инородки, — вновь резануло слух. — В означенном ею месте не мог быть похоронен Кибат. Этому же противоречат показания сельчан. С этим расходится и заключение эксперта. Останки, погребенные близ жилища Хатый, вообще не являются человеческими останками.
— А чем же? — Мысли в голове Пархомцевой смешались. Что он говорит — этот оживший Клоп? Бабушка не станет лгать, как не испугается и угроз любого следователя. Почему органы так интересуются Кибатом? Получается... получается, что Кибат жив, но скрывается? Но, если он прячется от властей, значит в чем-то виноват?! Но в чем?
Холодные струйки пробежали по ее спине. Мать Ростислава была моложе двоюродного брата и никогда его не видела. Когда Кибат якобы умер, а по мнению следователя — исчез, Пархомцевой исполнилось восемь месяцев. Она не помнила ни отца, ни матери; Хатый ей заменила родителей. О событиях гражданской войны она знала только по рассказам односельчан. Неужели Кибата подозревают в предательстве отряда, который возглавлял Манохин? Но тогда, как понять самого Павла Пантелеевича Манохина? Объяснить его приход к Пархомцевым?
...Павел Пантелеевич явился к ним затемно. Пришел незваным гостем. Сел на подставленный, скрипнувший от тяжести табурет и минуты три молчал, не глядя на хозяев. Когда старик, наконец, поднял голову, стали видны стылые слезы на его щеках. Она хорошо запомнила, как чудной визитер скрежетнул крепкими, несмотря на возраст, зубами:
— Вспомнил, кажись... — Манохин поклонился хозяевам, а уходя, тронул жену учителя корявой ладонью за плечо — не то приласкал, не то пожалел? С тем и дверь за собой затворил. Ушел, оставив хозяев гадать о причине своего визита. А гадали они, потому что спросить было некогда. Следующей же ночью Манохин скончался. Кто бы наперед подумать мог!
Дал Павел Пантелеевич старухам повод для пересудов. И то и се, и усопший-де перед выносом оказался без шрама на голове, стало быть подменили...
Следователь внимательно следил за Пархомцевой. Реакция подследственной на сообщение ему не понравилась и он стал расхаживать по кабинету, рассуждая вслух. Следить за ним было утомительно. Сообразив это, он вернулся к столу, как всегда свободному от бумаг.
— Та-а-ак... Кажется настоящая судьба Кибата вам действительно не известна, — он вновь перешел на «вы», сочтя излишним ответить на ее молчаливый вопрос. Или выжидал, когда арестованная спросит вслух, что же обнаружилось в могиле вместо праха ее двоюродного брата? — Вот и супруг ваш... Нет-нет, сидите. Сидите, вам говорят! — почти прикрикнул он. — Супруг ваш, который давно на свободе, и с которым вы, возможно, на днях встретитесь, он тоже утверждал нечто подобное.
Следователь помедлил, будто взвешивая — продолжать или нет:
— У нас нет особых претензий к вашему братцу. Разве... Разве что... Уж больно любопытен факт, его исчезновения, аккурат в ночь гибели манохинского отряда. Загадочного исчезновения, — закончил следователь тихо. Но тут же спохватился, выпрямился и надел очки. Преобразившись в голодного затаившегося клопа.
Закончил он с угрозой в голосе:
— Надеюсь, вы нам сообщите, если узнаете что-нибудь новое о пропавшем родственнике. Утаивание интересующих следствие сведений не в вашу пользу. Нам не хотелось бы, чтобы ваш единственный — повторяю, единственный! — сын плохо думал о своих родителях...
Спустя неделю Пархомцеву освободили.
С поезда сошел неприметный человек. Одетый в потрепанную «москвичку» он выглядел стариком, хотя был не по летам крепок и стремителен. Большой запас сил, наряду с редкостной реакцией мышц, скрывался под невзрачной оболочкой и не проявлялся стороннему глазу.
Приезжий ничем не выделялся среди окружающих его людей. Он достиг высшей степени безликости, когда сама неприметность не переходит границы, за которой начинает обращать на себя внимание именно отсутствием индивидуальных черт. Изо дня в день он жил мелкими, животными заботами других, восторгался тем, чем восторгаются они, ненавидел их ненавистью, говорил на их языке. Искусство мимикрии, временами, давалось с большим трудом, отнимало желания и силы. Порой он ощущал усталость и боязнь бесследно раствориться в толпе, потерять себя. Последнее чувство обострялось в моменты, когда приходилось делать самое неожиданное — поворачивать к опасности лицом и идти ей навстречу. То есть — уподобляться бабочке, вылетевшей на ярко освещенное место. В такие моменты, требовалось полное перевоплощение, оно-то и могло стать необратимым. Вот и здесь, на небольшой, затерянной меж безлесых сопок станции, требовалось тщательно спасать себя. Именно в провинции чужака видно за версту. Тут прохожие откровенно приглядываются: мол, кого это угораздило в такую глушь?
Несмотря на изощренный ум, проявившуюся с годами способность предугадывать события, он давно попал бы в сети. Ведь даже логика бессильна там, где торжествует произвол. Самая опасная система — это отсутствие системы. Ну, разве он мог предположить, что приказ об аресте последует в выходной?
К бегству он был готов всегда. Надежные, словно лобовая танковая броня, документы имел при себе. Нет смысла хранить их в укрытом месте, до которого в случае внезапной угрозы не успеешь добраться.
На этот раз его спасла привычка время от времени поглядывать в окна да, пожалуй, самоуверенность тех, кто шел по его душу. А то, что шли за ним — он понял сразу. Понял потому, сколь целеустремленно пересекала двор тройка мужчин. По их походке, свойственной охотничьим собакам да известной породе людей, походке сбивчивой, готовой перейти на бег. Это были ряженые. Их выдавала общая беда всех выжлецов — неспособность утаить под партикулярным обличьем казенно-хватательную суть. Таких с первого взгляда «снимал» любой базарный ханыга.
В дополнение к грубой маскировке, военные оперативники (а это были точно армейские, хотя бы оттого, что ставили ногу всей подошвой враз) допустили элементарную ошибку — открылись уже по подходе к многоэтажному дому. Им бы идти не через ворота, но подобраться со стороны соседнего здания, куда смотрела глухая стена многоэтажки. Результат? Оперативники едва миновали песочницы и качели, а он был уже на лестничной площадке.
В коричневой телогрейке, старых диагоналевых брюках и цигейковой шапке, прикрывшей остатки волос на крупном изжелта черепе, преследуемый обождал под лестничным пролетом первого этажа, пока шаги трех пар ног загрохотали выше. Тогда он покинул подъезд, разминулся с пожилой теткой, изнемогающей от груза дерматиновой сумки, и не спеша направился к трамвайной остановке, старательно подволакивая ноги в ботинках на чертовой коже...
Падение Лаврентия громом отдалось в органах. Начавшаяся чистка походила на избиение. Голодные хищники травили еще не насытившихся. Кто успевал, жег, прятал бумаги, скрывал концы, менял фамилию, позже выныривая далеко от знакомых мест приемщиком вторсырья, либо заслуженным ветераном на пенсии.
Ему была безразлична дальнейшая судьба сослуживцев. Ни у одного из них не осталось к нему подходов, в то время как он сохранил, так на всякий случай, несколько адресов нужных ему людей. Так что на этот счет он был спокоен. Мучило другое.
По-прежнёму отодвигалась в будущее главная цель жизни. Сорок лет топтания на одном месте! Долгие годы он мог лишь наблюдать за переменами в державе, подмечая всеобщую утрату профессионализма. Государством правили те, кто превозносил политические способности кухарок. Под сурдинку в верхах и повсеместно приживались кухонные нравы, свирепствовали коммунальные страсти. Всюду торжествовали любительство и дилетантизм. Что сулило скверные последствия в будущем. Скверные — для многих, но не для него. Он был рад подступающему кризису, как древесный грибок проступившей сырости. Приезжий искал, вынужденное бегство усложнило поиск, ибо требовалось нарастить свежую кожу и ждать, ждать, ждать...
Дверь отворилась не вдруг. Вначале дохнуло жилым теплом через образовавшуюся щель, за которой угадывался недоверчивый глаз. Затем щель расширилась. Еще и еще... Она разрасталась судорожными рывками, пока не открылась примерно на треть темная пасть дверного проема — только-только протиснуться боком.
Приезжий потянул ручку на себя и переступил порог. В сенях раздался придушенный вскрик, затем торопливый топот переместился из сеней в глубину дома... Седогривый неряшливый обитатель жилья пытался достать бескурковку над изголовьем кровати. Удар свалил старика на пол, он сполз, увлекая за собой толстое лоскутное одеяло, с грудой разнокалиберных подушек и подушечек.
— Оставьте! Стрелок из вас... аховый. — Приезжий стоял над упавшим, широко расставив ноги.
— О душе бы подумали, божья коровка. Сказано: «не убий!» А вы собирались поднять руку на своего спасителя. Ведь именно я, а не кто-нибудь другой, когда-то уберег вас от погибели.
Старик заворочался. Покривился. Видно у него свело поясницу, потому что поднялся он с трудом, не разгибаясь. Кое-как примостился на край развороченного ложа. Сказал убежденно:
— Душегубец вы!
Собеседник не согласился:
— А есть ли она — душа? — мужчина снял полупальто, поискал глазами вешалку, не отыскав, бросил полупальто на стул и со вкусом разместился на диванчике.
— Какая может быть душа, если человек не способен помнить добро? Взять хотя бы вас. Вы чуть не продырявили мне голову за мою же доброту.
— Доброту!? Я всю жизнь пребываю в страхе и мучениях по вашей милости. Всякая власть от бога, но вам никакая не угодна. Мне многое довелось узнать про вас: и дореволюционную власть вы гневили, и при адмирале убойствовали, и, когда ваши же единоверцы утвердились в стране, вы и на них пошли с оружием. А теперь ополчились на нынешнюю власть. Иначе зачем вы, без формы? Зачем в столь убогом облачении? Опять же... вон и пистолетик в кармане лежит.
Приезжий тронул внутренний карман костюма; подосадовал на собственную несдержанность. Эк, уел старик!
— Догадываюсь, — заговорил досадливо, — догадываюсь, кем вы проинформированы... — Он поморщился.
— Припоздал я тогда. Но кто бы подумать мог, что он, — приезжий сделал ударение, — доверится именно вам.
Оба помолчали. Старик застегнул рубаху, сокрушенно задергавшись пальцами на месте вырванной с мясом пуговицы.
Потрескавшаяся кожа дивана сухо скрипнула — приезжий изменил позу.
— Что же не сообщили обо мне?
Хозяин покачал головой:
— Вы сами знаете. Доносительство — грех! Пусть вас Бог простит.
С дивана донеслось:
— Его бог уже простил.
Лицо приезжего выразило нечто, отчего старик торопливо перекрестился.
— О власти можно толковать долго, — размышлял незваный визитер. — Незаконной власти нет, ибо сама она — закон! Власть — это идея. — Он говорил как начетчик, звонкими, рублеными фразами. — Любая идея не способна удовлетворить всех и каждого. Какой бы прекрасной она не являлась. Разные мы... непохожие. Каждому подавай свое. Следовательно, у любой идеи найдутся противники. Чем меньше идей, тем больше несогласных. А если идея всего одна, то и противников у нее — неисчислимое количество.
Услышанное возмутило хозяина дома:
— Зачем же плодить несогласных? Не мешайте каждому искать свое, и все будут счастливы.
— Э-э-э, нет! Счастье содержится в истине, а истина всего одна. Множественность идей опасна, рано или поздно она погубит человечество. Постоянное несогласие тормозит движение к всеобщему счастью. Среди множества учений правильным является одно-единственное, лишь за него необходимо бороться.
— Но куда вы денете противников этого, единственного учения?
Потрескавшаяся диванная кожа смеялась, потрескивая:
— Хе-хе-хе... Людям от природы положено преследовать непохожих. Чужое, отличное от меня, вызывает опаску — все, что «не я» — может быть моим врагом. И тут существует два выхода: или переделать тебя, или уничтожить заранее, на случай возможной угрозы с твоей стороны. Второй путь — легче, потому предпочтительней.
— Вы хотите крови?!
— Мы хотим равного счастья для всех и не боимся затрат на этом пути.
Оратор разомлел в тепле. Вяло продолжил:
— Хотите вы или не хотите, но будете нам помогать. А делать придется следующее...
* * *
Внизу стояла прохлада. Ледяная вода родника накапливалась в чаше из серого в розовую крапинку камня, стекая через край. От родниковой воды пронзительно стыли зубы. У дна чаши кружились редкие песчинки, отстреливая слюдяным блеском.
В шаге от ручья тело охватывало душным перегретым воздухом. Одиночный по здешним краям комар нынешним летом наплодился в изобилии и зависал тучей. Дни оказывались теплыми, влажными, а значит — грибными. Подгруздок кучками лепился у берез, проступал вокруг кочек, напоминая увесистую черно-зеленую гальку.
Экономя место в рюкзаке, Ростислав срезал только шляпки, отбирал гриб без изъяна — один к одному. Кое-где встречались поздние валуи — круглоголовые, тугие, скользкие на ощупь.
Гуще всего гриб высыпал у входа в распадок. Ростислав тут прежде не бывал, и, вряд ли бы пошел сюда снова. Местность навевала мрачные мысли. Перезрелый, поваленный ветрами да старостью осинник гнил среди частого подроста, в свою очередь погибающего на корню от выделений разложившихся предшественников. Пробраться между посеревших, без обычного зеленого блеска стволов можно было с трудом. И то, если позволяли: сплошной бурелом, когда и не сообразишь куда ставить ногу, и целые полотнища грязной паутины, облепляющей лицо.
Грибник решил было вернуться, однако что-то привлекло его внимание. Прямо у основания склона темнел, заплывающий с боков землей, прямоугольной формы провал.
Ростислав подошел к краю провала. На поверку он был мельче, нежели показалось вначале — просто широкая яма, по краям которой свисали древесные корни. Правильность контура указывала на искусственное происхождение провала, а количество ссыпавшейся земли — на значительную давность событий. Ничего особенно интересного в яме не было. Правда на дне среди чахлой травы и гнилых жердей высовывалось что-то лохматое. Падаль? Непохоже.
Спускаться в грязную яму не хотелось. Однако любопытство пересилило...
Рыхлый грунт продавливался под тяжестью тела, налип комьями на кеды. Ростислав взмахнул руками, ухватился за прочный корень, шагнул ниже, туда, где земля слежалась и держала подошвы. Заинтересовавший его предмет оказался жалкими остатками меховой одежды, когда-то перевязанной в узел. Мыши и сороки потрудились над узлом. Остальное довершила непогода, и время. Было из-за чего пачкаться в грязи. Но измазаться сильнее только предстояло, выбираясь из ямы.
Ростислав досадливо пнул кучку испорченного меха. От удара из прелого мусора вылетел тряпичный сверток. Сердце подростка екнуло.
В свои тринадцать с небольшим лет Ростислав был достаточно рассудителен. Но в моменты подобные этому он волновался не меньше сверстников. Поэтому кинулся и поднял сверток, не думая, что содержимое находки может оказаться опасным.
Гнилая ткань легко поддалась. Внутри оказался... нож!
Слегка синеватое лезвие сидело в кожаных ножнах, распавшихся по шву на две половины. Хищной формы клинок был чист от ржавчины. На сияющем, будто вчера отполированном металле не имелось ни единого пятнышка. Ребристая костяная рукоятка отливала благородной желтизной. Она удобно ложилась в руку, буквально врастала, и, завершалась мастерски выточенным копытцем. Копытце украшал узор в виде переплетенных еловых лапок. Ростиславу не приходилось видеть что-нибудь подобное. Такую вещь заслуживал редкий счастливчик и подросток решил во что бы то ни стало сохранить ее у себя.
Дома за грибы похвалили. Мать ссыпала их в чистое деревянное корыто и залила свежей водой. Она уже вытерла руки цветастым передником, когда Ростислав решился показать нож. Секунд десять мать смотрела на диковинный предмет, меняясь в лице. Наконец ее взгляд сделался осмысленным, но таким колючим, что подросток опешил. А она схватила его за плечо и втолкнула в избу, где он едва не сбил с ног ничего не понимающего отца.
— Ты где взял этот нож?!
— Нашел в лесу... — Ростислав взялся было рассказывать, но встревоженная мать не дослушала, прервала на самом интересном месте:
— Ты его показывал кому-нибудь?
Он потряс головой:
— Не-е-ет.
— Слава богу!
— Да в чем дело? — вскипел отец, не намеренный и дальше играть роль стороннего наблюдателя.
— Вы мне скажете, что случилось? Он что-то нашел? — Обернулся к жене. — Не вижу в этом, ничего страшного.
Побелевшие губы матери задрожали: «Такой нож был у Кибата!»
Отца Ростислава всегда уважали за выдержку. Если в школе иные учителя кричали на провинившихся, то Пархомцев ни при каких условиях не повышал голоса. Предпочитал осаживать оболтусов шуткой. Но и в шутках его не было ни сарказма, ни подчеркнутого превосходства. Приятели Ростислава говорили: «Батя у тебя что надо».
Вот и теперь отец в первую очередь постарался успокоить мать:
— Ту уверена, что нож принадлежал Кибату? Мало ли на свете похожих ножей.
— Если бы. Только я знаю точно, таких ножей было всего два. Их делали по заказу моего деда. Один нож он подарил моему отцу, другой Кибату...
— А нож твоего отца?
— Он сломался. Вот тогда отец и упомянул про второй. Не помню... забыла подробности, но один из двух ножей имел какой-то секрет.
Она внимательно осмотрела клинок и ручку ножа.
— Мне запомнилось корытце и узор на нем. У нашего ножа лопнула рукоятка. Выточить другую вроде лопнувшей никто не взялся — работа старинная, трудная да и такой кости уже не найдешь. Нет! Я не сомневаюсь — это вещь Кибата.
Мать снова принялась за сына, выспрашивая подробности. Услыхав про место, где лежала находка, родители переглянулись. Им похоже что-то была известно про дальний распадок. Что-то такое, во что они не хотели посвящать Ростислава.
— Надо... — начала мать.
Отец не согласился:
— Ничего не надо! Теперь другое время и бояться глупо. Следователя того давным-давно нет и в помине.
— Того нет, другого черт принесёт. Все они одним миром мазаны.
— Ну-ну, тем более незачем лезть волку в пасть? — Он вновь сделался похожим на того отца, каким он был после ареста — то же озлобленное лицо, таким же нетерпимым стал голос. — Пускай ищут, если захотят, а я им не помощник.
Погрозил пальцем сыну:
— О ноже — молчок! И к той яме больше не ходить. Грибов и ближе найдется.
Следом к великому огорчению подростка шикарная находка исчезла в кармане отцовских брюк.
Снова встрепенулась мать:
— Постой! Раз Кибатов нож оказался там, возможно...
— Тс-с-с. Не будем гадать. — Родители вышли шептаться во двор. Секреты взрослых не волновали Ростислава. Слишком огорчительной была утрата ножа.
В последующие дни отец вел себя более чем странно. Он достал из сарая старые охотничьи сапоги. Наточил штыковую лопату, хотя копать в огороде было рано. Заинтересовавшемуся его хлопотами сыну ответил, что думает накопать червей. А причем тут лопата? Червей подручно копать вилами. На задах скотного двора их можно наковырять видимо-невидимо, знай клади в банку. И каких червей! — красных, толстых и совсем целых. Вот штыковкой больше изрежешь, чем наберешь. Ясно, что про рыбалку придумано наспех.
Подозрения Ростислава оправдались. В воскресенье отец исчез вместе с лопатой, обув высокие сапоги. Он ушел довольно рано, пока сын спал, и вернулся в сумерках. Налипшая на сапоги брюки и даже локти отцовской куртки грязь Ростиславу показалась знакомой. Но обиженный недоверием родителей подросток промолчал. Зато успокоилась мать. Она весело шутила, поливая испачканному отцу теплой водой из ковша.
...Кто любит копать морковку? Это вам не картошка. С той проще: возьмешь землю на штык, перевалишь, а кортофелины — как поросята! Одна к одной. Три-четыре куста — и ведро. А вот с морковкой много возни. На нее учительской семье вечно не везет. Из года в год вырастает густая да чахлая, корешки — тоньше пальца. Уж и прореживала ее мать, а толку чуть.
С улицы кто-то окликнул Ростислава:
— Парень! А парень!
За забором стояла женщина, еще не старая, но обильно накрашенная.
— Передай отцу письмо. Ведь учитель, математик тоись — твой отец?
От женщины шел сладковатый винный запах. Его силились перебить вызывающие ароматы дешевой косметики и пота. «Букет» был крепким. Ростислав сморщил нос. Гримаса на его лице не ускользнула от внимания Мегеры, как он определял ее про себя; Женщина действительно напомнила фурию. Ее приторный голос и деланная улыбка могли ввести в заблуждение лишь слепоглухонемого. Вместе с тем внешность Мегеры вызывала и нечто вроде жалости — неподвижные зрачки ее злых глаз заполняла слепая боль.
Мегера сунула Ростиславу запечатанный конверт:
— Не потеряй, передай своему отцу, а то знаю я вас...
Он постарался остаться вежливым:
— Меня знать вы не можете. Я вас тоже вижу в первый раз. И надеюсь, в последний, — этого он вслух не сказал. Зато съязвил:
— А вы наш новый почтальон?
Женщина заторопилась:
— С чего ты взял? Я... так. Меня просили передать, я и передала. Ладно, привет родителям. Чао, бамбина! Найдешь деньги, пересылай по моему адресу...
Какие деньги? Куда пересылать?.. До него не враз дошло, что Мегера пошутила. Вот ведьма! Ростислав развеселился: один ноль в ее пользу.
На письменном столе громоздились стопки тетрадей, крестообразно положенные друг на друга; Уже проверенные отец перекладывал на свободное место. Над иной тетрадью он хмурился, нервно покусывая нижнюю губу. А иногда усмехался и густо правил записи красными чернилами.
Ростислав стукнул дверью — вечное перо рвануло бумагу...
Письмо не имело обратного адреса. Учитель покрутил конверт, вопросительно взглянул на сына. Выслушал, потом срезал край конверта. В конверте лежало два исписанных листка. На меньшем грубой бумаги, явно пожелтевшей от времени, виднелось несколько карандашных слов. Прочитав которые, адресат пожал плечами и перешел к сложенному вдвое большему листу.
Частые строчки убористого текста покрывали бумагу. Отец долго вчитывался, беззвучно помогая губами. Вскинулся. Перечитал снова. Ростислав видел как темнело его лицо, землисто грязнились щеки. Много позже он воспоминал эти минуты и казнил себя за недогадливость. Ведь отца можно было спасти, сообрази Ростислав задержаться возле него. Но он лишь удивился перемене в лице сидящего за столом и вышел докапывать проклятую морковь.
Когда Ростислав вернулся в дом, отец уже не дышал. Он лежал на полу возле упавшего стула и незряче глядел в потолок. Знакомые сыну черты лица были изломаны болью.
Рядом с мертвым отцом среди просыпавшихся тетрадей серел пепел от сожженного письма. Неизвестно отчего, но был уничтожен даже пустой конверт. В оставленной перед смертью записке отец не объяснял причин такого поступка. А может просто не успел, так как писал, чувствуя близкий конец. Писал первой попавшейся под руку ручкой, которую заполняли красные чернила, отчего неровные буквы казались начертанными кровью: «Немедленно переезжайте. Не оставляйте нового адреса никому. Переезжайте в...» Дальше красная, оставленная пером черта тянулась до края бумаги. Сама ручка так и осталась зажатой в отцовской руке...
«Раздувающий костер не должен жаловаться на то, что искры жгут ему лицо».
Прогулка не задалась. Отпотевший снег лип к лыжам. Серые комья набивались под ботинки, резали шаг.
Горьковато наносило оттеплевшей корой. Подсевшие заносы тронулись налетом черной ряби; поверх ее проглядывали хвоинки, лоскутки палых листьев, заячьи катышки — весь скопившийся за год лесной мусор.
Ростислав взмок, поднимаясь рваной лыжней до двух понурых берез, растущих на срезе каменистой осыпи, удивительно похожей на огромный свесившийся вниз язык.
Местами над кремнистой мелочью выступали серо-зеленые глыбы валунов. Ниже проглядывало узкое полотно тракта, которое делило село на две неравные части. Еще дальше — пятнами народившихся прососов и залысинами льда ощущалась Катунь. А уж за ней — часто ежились осинником подступы к двурогой вершине Бабыргана.
Стоя у свилеватых березовых стволов, опираясь грудью на лыжные палки, Ростислав задумался....
Сегодняшняя разрядка была просто необходима: как-то все не ладилось в последнее время. Прошло уже два года, как он, схоронив мать и разорвав узы неудачного супружества, вернулся на родину. Но по сей день не мог успокоиться. Какое спокойствие, когда к прежним бедам добавились новые неприятности.
Перво-наперво пропал дядин нож. Ростислав с таким трудом отыскал его после смерти отца. А дней пять назад нож пропал снова. Его не оказалось в ящике стола, не было его и на полке за книгами. Пархомцев перевернул в квартире каждую вещь, не пропустил ни одного угла, но пропажа не обнаружилась. Если предположить, что нож украли, тогда непонятно — кто? Не станешь же заявлять в отделение. Нож, тем более охотничий, является холодным оружием. В данном случае — не зарегистрированным. Объясняй потом. Хорошо, коли обойдется внушением. А то могут и штраф припаять.
Отчаявшись в поисках, он перебрал в уме всех, кто приходил, к нему за прошлую неделю. Удивительно, но за эту неделю никто из знакомых его не навещал. Ничего нового не сообщила ему соседка. В его отсутствие приходил только один человек, какой-то молодой парень. Нет. Ей он не знаком. Но, судя по всему, этот парень — заочник. Так ей показалось. «Забавный такой парень».
Незнакомый молодой человек долго стучал в дверь учительской квартиры, пока соседка не крикнула ему, что Ростислав уехал в район и вернется не раньше вторника.
Неприятной получилась та поездка. Знать наперед, так не поехал бы. Но директриса ка-те-го-ри-чес-ки настаивала. А ерунда! Уж от нее он мог бы отговориться. Например недомоганием: март — время повального гриппа. И уж вовсе ни к чему было заводить спор с наробразовским костюмом, который заполнял собою крошечный кабинет и готов был разойтись по швам от негодования. Действительно: «на грош амуниции, на рубль амбиции». Чем меньше кабинет, тем плешивее и спесивей начальство, сидящее в нем.
Ростислав ничуть не сомневался, что побывавший недавно в школе инспектор успел накляузничать. Ибо сказано: «... плюс фискализация всей страны». Впрочем Пархомцев сам хорош: нужно было ему дразнить гусей. За версту видно было, что инспектор — злой дурак, что он ни единого дня не работал в школе. Недаром шутят: «Не можешь работать учителем, значит будешь инспектором». Сколько их — инспектирующих? Обремененных дорогими портфелями натуральней кожи? Несть надзирающим числа!
Кабинетный костюм имел апломб. Он не говорил, а изрекал, по-плотницки отрубая слово:
— Вы, Пархомцев. Не уполномочены. Говорить. От имени. Коллектива. Да! Вы — не коллектив! И не вам. Предоставлено. Право. Вносить изменения. В программы. Среднего. Учебного. Заведения.
«Да, мы — не милостью божьей», — устало мелькнуло в голове педагога. Вслух же он сказал:
— Извините! Я — не коллектив, он — не коллектив, мы — не коллектив. Каждый в отдельности и группами — все не коллектив. Коллектив — это когда все вместе, большой толпой? Эфемерида какая-то получается. Что? На собственное мнение мы не горазды?
Костюм затвердел:
— Собственное. Незрелое мнение. Можете. Держать. При себе! Если оно. Противоречит. Официально. Утвержденной. Программе. Утвержденной. Министерством. Просвещения!
«Во-во! Горшки ночные обжигают только боги».
А костюм по-прежнему «колол дрова»:
— Вы. Пока еще. Советский. Педагог. И все. Эти ваши. Прения. С руководством. Педагогического. Коллектива...
Услышав это, Пархомцев наконец-то осознал: «Ах, уважаемая и обаятельная, товарищ директриса! Ваших ручек шариковых дело. Так вот где зарыта моя собака...»
— ...Коллектива. Носят. Демагогический. Склочный. Характер. Не туда. Идете. Не надо! Брать. На себя. Так много.
Следом снисходительно:
— Вы работаете. В советской. Школе. И будьте добры. Прислушаться. К. Рекомендациям. Минпроса. К. Советам. Старших. Товарищей!
Гипсовая жесткость костюмной тройки стала настолько явственной; что слышалось потрескивание ломающегося каменного панциря на сгибах монументально движущихся в пространстве рукавов. Ощущался шорох мелкой крошки, осыпающейся при этом, густо пачкающей линолеум пола. Воздух наполнялся мелкой покалывающей бронхи пылью. Раздосадованный улыбкой посетителя, голос стал лить свинец:
— Несмотря на. Отдельные трудности, У нас одна из. Лучших! В мире! Система. Образования. — «У нас», — прозвучало должным образом: именно — у нас, но не у вас.
Система, о которой оглашал пространство монументальный костюм, представлялась Ростиславу зрительно. Это было что-то вроде железобетонного привокзального туалета, на гусеницах, с парой подслеповатых окошечек наверху, голыми дверными проемами и огромными кричаще-мрачными буквами «М» и «Ж» на фасаде. Буквы то и дело забеливаются меняются местами. Отчего мятущийся клиент путается. Лезет не туда, куда ему положено природой и соответствующим анкетным пунктом, который определяет некоторые особенности строения, организма. В дверные проемы видны задумчиво-важные лики и напряженные торсы исполняющих потребности, углядывается часть стен, любительски оформленных под «Окна РОСТА», но с более приземленным содержанием. Нет на виду лишь срама сидящих, так как посетители подобных общеполезных мест «срама не имут».
Движется такая система по стране, оставляя позади загаженную, исковерканную гусеницами землю...
Из глубокой задумчивости Пархомцева вывел скрип костюмных суставов:
— Лозунг: «Нет плохих. Учеников. Есть. Плохие! Учителя!» Выдвинут. Самой. Жизнью. Всем. Советским! Народом... И никакая перестройка. Его. Не. Отменила.
«Вот пошло иезуитство!» — задохнулся Ростислав от возмущения. «Конечным результатом» в педработе можно «зарезать» любого неугодного. Сами чиновники за работу «на конечный результат» спокойны. Их «конечный результат» — бумага. То-то они ее наворачивают!
Любопытная метаморфоза происходит в стране с «конечным результатом». «Результат» есть, продукта не имеется. Как ни горько, но совершенно прав в желчной ярости своей Мих-Мих...
* * *
Мих-Мих, приятель Ростислава, каждое лето наезжал в здешние места на отдых. Если можно назвать отдыхом карабканье по скалам с тяжелым грузом на спине. Мих-Мих считал себя живописцем, отчего всюду таскал за собой громоздкий мольберт.
По мнению Пархомцева, Мих-Мих не был художником. Ну можно ли считать картиной то, где изображение человеческого лица служило скорее подспорьем для доказательств знаменитой теоремы о «пифагоровых штанах». Вот с пейзажем у приятеля дела обстояли... еще хуже. Зато спорщиком он являлся отчаянным.
Убеждая кого-либо, Мих-Мих имел привычку тыкать указательным пальцем в нос оппонента, что было отнюдь не безопасным для последнего. Говорил художник громко, без оглядки на окружающих:
— ...Ростик, молви от души, отчего у нас невозможен Салтыков-Щедрин? Не спорь — не-воз-мо-жен! Вот Маршак возможен. Исаковский — вполне. Ивановы — возможны в любом количестве.
— Даже эмигранты, вчера проклинаемые, ныне публикуются. А наш внутридержавный Щедрин невозможен! Что это? Отчего? — Мих-Мих щурился старой дворнягой, вылезшей из темной будки на яркое солнце.
— Что, появлению нынешнего Щедрина бюрократы помехой? Крупное начальство? Партидеологи? Чушь собачья!..
— Критическую мысль способна затоптать лишь толпа — так называемые «массы». Бюрократ — одиночка, даже самый высокопоставленный, на подобный «подвиг» не потянет...
— Десятки лет пестуется «коллектив». Сегодня с новой силой призывают к единению, к консолидации. Кто призывает? И почему? А потому, что в тотальной заединщине не остается щелочки для критики.
Мих-Мих сверкнул глазами:
— Талантливому сатирику нет места среди нас — воинственных коллективистов и общественников. Его тотчас растерзают такие, как мы с тобой. Нам только скомандуй: «фас»!!! Мигом: «А-а-а, ты больно грамотный. Ты много знаешь? А мы по-твоему — дураки?!» И вдрызг! «Умри ты сегодня, а я завтра». Ведь мы — нация, в которой выхолощено чувство личностного, индивидуального. Нация — лишенная духовности. Нация, где вор и убийца в почете, если вор накрал миллионы, а убийца лишил жизни многие тысячи. История для нас — пустая фига. Живем десятки лет без корней, без прошлого, будущего, Иванами не помнящими родства. Живем, в разводе со всем миром...
* * *
Занятый грустными мыслями, Ростислав не расслышал зловещего шороха. Встрепенулся он с опозданием, когда широкая снеговая кромка, карнизом нависающая над обрывом, уже оседала под его ногами, стремительно увлекая в сторону осыпи. Лыжник было рванулся. Но его уже втянуло в сумасшедший вихрь летящего камня, острого, словно фарфоровые черепки, щебня, колючей морозной пыли...
Слепящая боль рвала Ростислава на части, под угол обвала и треск ломающихся лыж. Раз или два он попытался прервать падение, но не нашел опоры. В следующий миг перед глазами мелькнули рваные грани скалы. Бешено пронеслись по кругу земля и серое небо, потом новый удар сплющил тело упавшего. И наступило безмолвие...
Сознание натужно пробиралось сквозь толщу вязкой и жгучей фиолетовой мглы. Мгла переходила в сиреневые сумерки. Ускользала от глаз. Разбегалась пульсирующими волнами. Сгущалась вновь.
Ростислав то приходил в себя, то опять погружался во тьму. Очнувшись впервые, он попытался сесть, но его руки сразу же подломились, а разбитые кости обдало горячей болью.
Пархомцев охнул. Завалился на бок...
Сломанной оказалась, и правая нога; стеариново-белый обломок кости проглядывал через дыру в штанине. Увиденное наполнило его ужасом. От которого избавило очередное беспамятство.
Всякий раз, открывая глаза, он видел над собой, белесо-сумеречное небо, а чуть ниже — две березы, скорчившиеся, словно от нестерпимой боли. Потом и небо, и березы исчезали за голубым туманом, в глубинах которого чередили радужные пятна и фонтанировали хрустальные токи.
Он забывался, чтобы вновь очнуться под звонкий рокот в ушах. Приходя в сознание, он мучился от того, что может закоченеть или истечь кровью.
Ростислав не хотел умирать. Оттого вновь и вновь пытался подняться. Но всякий раз повторялось одно и то же.
...Волокнистые струйки сливались в сплошную серебристо-сиреневую пелену, пронизанную снопами, каскадами, созвездиями искр и ярких огней. Жаром полнились вены. Плоть зудела. Зуд поднимался из глубин естества, словно миллиарды небольших электрических разрядов заставляли дрожать мышечные волокна. Дрожание было частым, казалось от затылка до пяток служил проводом высокого напряжения...
Дальнейшему Пархомцев поверил с трудом...
Вечерняя тень от обрыва проглотила осыпь больше чем наполовину. Отсыревший за день наст утрамбовало морозцем, отчего заледенела спина. Лыжник передернулся от озноба. И... сел!
В прорехах одежды виднелась неповрежденная кожа. Целыми казались руки и ноги. «Почудилось?»
Занемевшие пальцы ломали спички. Загорелось не то четвертая, не то пятая... То, что он увидел, вызвало повторный, более сильный озноб: на правой ноге, там, где был перелом, с неестественной быстротой бледнел и оглаживался багровый рубец.
Ростислав зажмурился, потряс головой. Зажег три спички разом. Но ничего не изменилось, вернее кое-что менялось и менялось основательно: рубец вытеснялся розовым пятном здоровой кожи. Это было невероятно, однако все происходило на самом деле, и размозженная, кровоточащая ткань на глазах исчезала под наступающей на раненое место девственно-чистой эпидермой...
Позднее он не мог восстановить в памяти все детали исцеления. Хорошо помнил лишь, как долго разыскивал лыжи, которые запропастились куда-то вслед за палками еще в начале падения. Неизвестно куда улетела шапочка, без которой стыла голова...
Вспаханный обвалом снег затруднял движение: идущий тонул в нем по пояс. Немногим легче, стало, когда лыжник выбрался на взгорок: по прежнему мешали камни, плохо различимые в сумерках, Пархомцев спотыкался о выступающие плиты и под конец выдохся до предела.
...Опустевшая ночная улица вела к дому. Трехцветный нахально-широкозадый кот мягко свалился по эту сторону штакетника. Урча, он потерся о ноги хозяина и шмыгнул в прихожую, где принялся обнюхивать углы…
Кот хотел мяса. Еще он любил, вопреки своей хищной природе, свежие картофельные очистки, но только от тщательно вымытых клубней. Если хозяин чистил картошку так — прямо из подпола, то редкого окраса привереда начинал злиться и доставал ногу человека острыми когтями через штанину.
Вспыхнул свет. Кот фыркнул, дико посмотрел на хозяина круглыми, фосфорически светящимися глазами. А через мгновенье юркнул под кровать.
Ростислав прямо в обуви прошел к трюмо. В зеркальной поверхности отразились чужие темно-сиреневые глаза. Лоб и щеки были красными, точно облученными дугой электросварки, а по вискам проглядывал налет седины, которого еще вчера он не замечал...
* * *
Хатый встретила правнука спокойно, и держалась так, словно она и Ростислав прожили под одной крышей многие годы, не разлучаясь ни на час. Прежним осталось и прабабкино жилище, виденное Ростиславом лишь однажды, в далеком детстве: те же старые, затканные паутиной, просмолившиеся до антрацитового блеска балки над головой, тот же задыхающийся от старости камелек, который сплевывал копотью при малейшем сквозняке, как и раньше меж трещиноватых балок пушистой рысью гатилась тишина. Такая же звероватая тишина, просачивались отовсюду. Застоявшееся безмолвие чудилось осязаемым, нежным на ощупь, наподобие золотисто-кадмиевого мха, каким обрастают многолетние пихтовые стволы. Мнилось — небольшой аил скрывается от многофарых глаз беспокойной дороги, не одобряя истеричного скрежета тормозов и суматошного гула двигателей. Тех искусственных звуков, которые неуместны среди извечного покоя лесистых хребтов, на фоне сторожкой поступи дикого живья.
Речь Хатый, малопонятная из-за скудною запаса русских слов, стала вовсе неразборчивой, глухой и монотонной, как глухариное токование. Но двигалась она живо, вопреки представлениям о старческой убогости. Трудно поверить, но владелица ветхого дома управлялась по хозяйству без посторонней помощи, в одиночку пилила и колола дрова, носила с речки воду в десятилитровом битом-перебитом ведре, по-мужски сноровисто стригла овец.
Первые дни Ростислав отсыпался, а в перерыве между сном хлебал, не ощущая вкуса, прабабкино варево. К исходу дня он усаживался подле огня и подолгу глядел на мерцающие угли. Постепенно выяснилось, что под темными веками старой алтайки, в зябких щелочках раскосых, глаз проступало большое недоступное другим знание. Это знание было настолько чужеродным и потусторонним, настолько отвлеченным и качественно иным, что суть его ускользала от восприятия обычного человека.
...Уход Пархомцева из школы не вызвал особых хлопот. Засекретившая возраст за непроницаемой маской из косметических средств директриса сочла его заявление даром руководящей судьбы и подписала не раздумывая. На прощанье она пыталась сказать нечто напутственное и назидательное, но наткнулась на взгляд неуживчивого учителя и передумала. Наградив его мысленно: «Наглый стервец!» На большее ее недостало.
Последний школьный день быстро утерялся в ряду других. В памяти осталась потухшая фигурка биологички, вздыхавшей по Ростиславу, да липко навязшая в ушах сентенция коллеги: «Вот это лепо!» Пущенная в спину, фраза догнала, застряла где-то внутри дребезжащим повтором: «Лепо-нелепо... лепо-нелепо...» Он уже ехал автобусом в горы, — а фраза-панегирик все перекатывалась за его спиной, пока не отстала где-то по дороге...
Телеграмма бывшей жены отыскала Пархомцева в доме прабабки. Каким образом Светлана установила его адрес? Об этом он подумал и, как выяснилось в дальнейшем, совершенно напрасно.
Вечером, накануне его отъезда, Хатый заговорила. Неожиданные слова ее были внятными и предостерегающими:
— Э-э-э... Мало, сынок, в тебе нашей крови. Зачем ты едешь к женщине, которая трещит словно сорока? «У сильно стучащей подковы гвоздя не хватает», — так говорили отцы наших отцов.
Седые пряди волос посунулись на лице Хатый из-под края меховой шапки. Концы лисьих хвостов на верхушке шапки покачивались в такт словам.
— Но, бабушка, ты же совсем не знаешь Светланы. Почему решила...
Сухой палец старухи указывал на телеграмму:
— Слишком много букв на маленькой бумаге. Когда женщина тратит много слов — это значит, что она не верит даже собственным словам. Знаю... Темны для тебя мои речи. Ведь недаром люди считают меня безумной, а начальники — больной...
Он смутился.
— Ну что ты, бабушка! Ты совсем крепкая, дай бог любому, — он осекся, прабабка хихикнула.
— Хвали, внучек, хвали, помолодею от твоих похвал и еще кому-нибудь в невесты сгожусь... Да, я пока не утратила вкус к сурчиному свисту, к раннему реву маралов. Но никто уж не прислушивается ко мне. Разве Кибат послушался своей бабки?
Ростислав насторожился.
— Э-э-э... Отруби собаке хвост, все равно не станет овцой. Разве будут мои слова защитой тебе? Но все-таки скажу... Только слабое сердце допускает к себе змею жалости. Что ж, кто ворошит костер, тому искры жгут лицо. А разве останется румяной кожа, тронулся огнем?..
Хатый подняла лицо, но правнук не увидел его: на месте лица лежала темно-синяя тень.
— Ох-хо-хо! Мужское сердце порой мягче камня, а камень с годами уступает лишайнику и рассыпается в прах. Скажи мне, сынок, где твоя жалостливая мать? В каких горах заблудился твой отец? Не видишь? А я вижу: напрасно люди думают, что Хатый слепа.
Она улыбнулась. Хотя голова ее тряслась от напряжения.
— Я вижу. И мне не нравятся люди, которые спрашивали о тебе. Зачем они интересовались тобой — моим внуком?
Странно. Кому понадобился Ростислав?
— Когда это было, бабушка? Кто эти люди?
— Мне неизвестны их имена. Знаю одно — нет у них к тебе добра.
Оба молчали. Было заметно, что Хатый устала. Но, передохнув, она все же закончила:
— Будь сильным, сынок, не поддавайся жалости. Искры сочувствия к людям сожгли моего прадеда и моего внука. Будешь жалостливым — сгоришь! Не забудь, что ты — последний мужчина в нашем роду.
С этого момента и до самого отъезда правнука старуха не произнесла ни слова. Уходя; Ростислав обернулся к ней. Она сидела на пороге и глядела ему вослед. Наверно показалось, но сгорбленная фигурка прабабки была пронизана жалостью к Ростиславу — той самой жалостью, которую так презирала Хатый.
* * *
Он предполагал пролежать на полке до утра. Но человек предполагает, а располагает... кто-то другой. Внизу долго галдели. В купе собралась большая компания аграриев, пробирающихся на внеочередной региональный слет. Аграрии пережевывали исконную российскую проблему: давать или не давать.
Пожевать проблему хотел каждый, рано или поздно склоняясь к мысли, что давать не следует. Ибо, если придется дать, то, что останется селу взамен. Ведь с разрешением проблемы исчезал предмет векового спора и оставалось одно — пахать землю. А как раз этого аграриям и не хотелось. Они желали руководить.
Двое дембелей — флотских, ненужно прописанных в купе согласно купленным билетам, тосковали в углу. Запах морской соли на их тельняшках тонул в мощной струе запахов парной земли и кабинетного навоза. Флотские не нуждались в удобрениях, им мерещились мили и импортный ром...
Пархомцев уже дремал, когда его потянули за ногу. Тянули настойчиво, хотя и без нахальства. Ростислав свесил голову в проход — цыганка!
— Погадать, золотой?
— Ага! Добавь еще — бриллиантовый, изумрудный... Без твоего гаданья вся жизнь впотьмах.
Пригляделся внимательно. Похоже и не цыганка она. Глаз, правда, с искрой и влажный, но разреза — непривычного. Ох, что ей Ростислав? Кто он для нее? Никто. Он — человек случайный, проезжий, безвременный, небогатый. Что такому нагадаешь? Когда он — кругом бывший: бывший учитель, да и супруг тоже бывший.
Ростислав не стал на «цыганку» досадовать. А предложил: .
— Давай лучше я тебе погадаю. На темную ночь... На горячую кровь... На бабью долю...
Пестрая девица от предложения уклонилась. Шмыгнула прочь. Не задержалась. Не было в ней веселой цыганской привязчивости, а было в ней нахальство, нечистое, базарное. Узел, и тот, она держала иначе. У прирожденной кочевницы узел словно приросший, не подскакивает на ходу. У этой же и содержимое ноши — не таборный товар: пасхалии, да фотографии женские, нескромные до обалдения — банные посиделки в пьяном виде.
Исчезла ходячая лавка. На смену ей выпрыгнула крошечным желудьком под огромной фуражкой проводникова голова:
— Чаю?!
Пассажир переждал несусветный визг встречного поезда:
— Не требуется!
Голову — желудь притопило. Пархомцев глянул, а вагонный служитель уже выставил из-под столика собачий зад и потянул пустые бутылки из угла. Эх, сиротство эмпээсовское! Семейство-то кормить надо. А дома «Нива» бензина просит, а бензин-то нынче почем? Ну, и Надежда.. фармацевт из Днепропетровска... Та ничего не просит, но ей сам принесешь. Тьфу! На убогость нашу. Зарплата нам дана для смеха лишь.
И в тамбуре пассажирам не было покоя. Торчала у грохочущей стенки дама многозначительного возраста, в черной шляпке, съехавшей на один глаз. Дама раз-другой покосилась на вошедшего, скривилась. Повела рукой, блеснув меж пальцев хрусталем, и, вытряхнула в слепо напомаженный рот флакон «Тройного». Мутная капля одеколона упала на задранный подбородок. Дама вытерла каплю и обратилась к Пархомцеву:
— Мужчина, угостите папироской?
Пришлось откупиться.
Женщина курила, буравя взглядом скучную внешность попутчика.
— Куда едем?
— Вам зачем знать?
— Ва-а-амм, — передразнила. — Культурный, паразит! — оскалилась прокуренной пастью:
— Надо, коли спрашиваю.
Она подошла так близко, что его замутило. Чем-то узнаваемым сквозило от хмельной попутчицы, зачастившей полушопотом:
— Кинь сотенную, сниму лапшу с ушей.
— Аферистка! — Ростислав отстранился в спасительную глубь вагона, ежась от долетевшего из тамбура мата...
В поезде сильно укачивало. Вагоны мотало на битых рельсах. Неужели скверные дороги у нас в традиции? Поездом, автомобилем -одинаково выматывает душу. А может и не душу, может мы давно неодушевленные? И строим без души? Вот латаем дороги, латаем... Посыпаем гравием... Покрываем асфальтобетоном... А толку-то! По-прежнему — выбоина на выбоине, а целые прогоны — гармошкой. Рыдание горькое — не езда? Кажется, еще верста, еще толчок и — конец всему. Но притерпелись люди. Боятся прослыть привередливыми, пот-ре-би-те-ля-ми. Не спрос, а производительность у нас в почете. Производим невесть что, черт его знает в каком количестве и неизвестно для кого... Едут, трясутся на плацкартных местах бесформенные, непритязательные, безликие, напуганные люди. Шмыгают меж них фальшивые цыганки да поношенные сударушки, с ацетоно-одеколоновым перегаром изо рта. Летит, содрогаясь, состав не то до ближайшей станции, не то в поставарийное бессмертие...
* * *
Дорогу указала пара трофейных, образца русско-финской войны, старичков.
Старички суетились на задах продовольственного магазина, опытно и щедро тратя гвозди о неподатливые березовые планки.
Работа шла бойко.
Старичок пониже наращивал штабель отремонтированных ящиков. Штабель рос с одного бока, тут же уменьшаясь с другого. Другой пятикопеечный дед весело таскал стопки готовой продукции за угол. Приезжий поинтересовался плодами кипучей работы. Потрогал присобаченную лихим Дедом дощечку. Дощечка осталась в руке. Ростислав хмыкнул. Очумело глянул на ремонтника:
— Ты что творишь, старик?!
Тот, не оставляя в покое громадного молотка, добродушно прогудел:
— A то как же. Тара нуждается в порядке. Справная тара везде нужна. Как же без нее, без тары-то? Упаковка и человеку требуется. Человека без упаковки на тот свет-то не спроводишь. Не-е-ет, во всяком деле без тары... каюк. На то есть порядок...
Трофейный работник «токал», будто малым молоточком подстукивал в лад большому:
— Опять же, заработок... пятирик медью-то с кажинного ящика.
Дед умолк я задолбил дятлом. Аж пот на носу. Что значится при деле человек.
Расспросив про дорогу, Пархомцев свернул за угол. И остолбенел... Другой дед, который без молотка, споро швырял справную тару в гудящий пламень костра.
Пархомцев моргнул раз-другой:
— Эй, старик! Никак заболел? .
— A-то как! — отозвался высокий дед. — Территория... она порядка требует. Иначе захламленность получается. Ныне без порядка-то никуда. Пожнадзор-то не дремлет. Да оно и того... За уборку двора-то наряд полагается. Как-никак копейка, — и попрыгал дальше деловой гриб...
* * *
Валерик был простодушен до наивности и затейлив обличьем. Смех брал при виде его гримасничающего лепешистого лица; с охряными, выпуклыми как у карпа глазами. С первых же минут знакомства он привлекал неожиданностью слов и поступков.
Доподлинный гуран по происхождению, Валерик не сохранил черт характерных для предков по материнской линии, но смотрелся курортным, нахалом, с модным золоченым крестиком на смуглой литой шее.
Случайно познакомившись с Ростиславом, Валерик, взялся опекать приятеля всем жаром своей неуклюжей души. А то, что он был именно неуклюж — это замечалось сразу. Верно поэтому Валерику и не везло «по всей жизни». Незатейливая опека станционного аборигена тронула Ростислава. Как разжалобила его и трудная судьба знакомца, подкинутого еще «в расцвете грудной юности» на попечение деду, злющему от дремучести ума и лет Змеегорычу. Зиновия Егоровича — Валерикова деда Пархомцеву уже доводилось видеть на приступке рубленного «в лапу» дома. При виде посетителя Змеегорыч цедил изжеванными полосками губ не то угрозы, не то жалобы и уходил скачками за сараюшки, кося назад кровянистым глазом.
Жалок был этот старик и невзрачен, словно истрепанный ветром жухлый тополиный лист, одним словом — небыль. Зато его веселый внук заверял Пархомцева, что даже не женится «по причине деда».
— Ведь этот старый кикимор кого угодно может забормотать. Сглазить может любого. Нашто уж я привычный, и то опасаюсь, когда этот колдун начинает сепетить. Про собственную мать приятель отзывается еще короче:
— Сука! Шляется по Сочам, а по ней Колыма слезами плачет.
Так же просто Валерик судил про все остальное:
— Эх! Лучше Северный Кавказ, чем южный Сахалин. Век свободы не видать! Мне бы... тыщ пятьдесят, показал бы я Продовольственной Программе задницу. Погулял бы, пока хром на мне не полопался.
Змеегорычев внук уважал закавыристые словечки, цеплял их походя словно репьи. И они липли, прирастали к нему, так густо замешивая Валериков лексикон, что он уже не мыслился без загогулистых выражений. Впрочем, этот его волапюк, составленный из жаргонизмов и мудреных терминов, создавал Валерику «имидж» и придавал ему универсальную коммуникабельность. Настолько универсальную, что после минутного знакомства Валерик мог бы свободно «общаться» с первым попавшимся люмпеном из самого дикого уголка Папуа-Новой Гвинеи.
Валерик любил все загадочное, И то! В каком захолустье приходилось ему обретаться. Ну чего хорошего он видел? Обшарпанный вокзальчик? Появившийся бог весть когда, черт знает зачем. Что еще? А что может быть в подобной глуши! Вон на бугре — непременная привокзальная водокачка из темно-красного кирпича, посаженная на попа толстым шестигранным карандашом. Слева — продовольственный магазин, где фауна отдает океаном, а далее «Ставриды» счет не идет... Скучнеет глаз, переползая беременным тараканом по пустым полкам, на которых некогда красовались: «Ставрида в томатном соусе», «Ставрида пряного посола», «Ставрида бланшированная с добавлением масла» и прочий «автоматно-масляный» ассортимент. Ныне ж здесь: унылый копеечный недовес, притаенный в подсобке дефицит, избито косящая на полделения вперед стрелка весов, у которых глазок уровня давно облюбован мухами в качестве отхожего места... Сразу за бугром, поодаль от ограды «Заготзерно» царит жирная грязь территории машинно-тракторных мастерских. На территории изобилие ржавеющих, рассыпающихся утопающих в промышленной жиже скоростных плугов, кормораздатчиков, разбрасывателей, перебрасывателей, борон, пневмопогрузчиков — застарелых отечественных неликвидов. Когда-то выбитых, выцарапанных, отпущенных скрепя сердцем, навязанных согласно договорам, просто свалившихся с неба наконец.
Да. В тоскливом месте жил Валерик.
Как выяснилось сразу, приезд Пархомцева на станцию был просто нелеп: никакой телеграммы Светлана не отправляла и при встрече разговаривала с ним так, словно он нарочно сочинил эту телеграммную историю, дабы иметь повод увидеться с ней. Ему даже показалось, что в ходе разговора она старательно скрывала свое торжество. Это еще обозлило и он решил уехать тотчас. Но шли дни, а он по-прежнему торчал в поселке, все больше удивляясь самому себе.
Снятая на месяц квартира обошлась в общем-то недорого. Наследники уютного, хотя чуть обветшавшего домика обрадовались квартиранту: охотников купить избушку не находилось и было хорошо уже то, что она какое-то время будет под присмотром.
Вместе со стенами и крышей над головой приезжий получил в пользование всю обстановку, включая деревянные ложки. Новые владельцы не прельстились ископаемой рухлядью; и остались догнивать по углам тяжеленные комоды да шкафы, дверцы которых тонко повизгивали на петлях, а задние стенки светились частыми ходами древоточцев. Зато стекла комодов, оправленные безвестным краснодеревщиком в резные, рамы, радужно замутились и были совершенно непроницаемы для глаз.
Переход приятеля на квартиру возмутил Валерика:
— Е-мое, на кой тебе это вшивое бунгало? Жили бы у нас, ловили бы кайф.
Он обиделся не на шутку. Отошел лишь на другой день:
— Ладно, как хоть... Мне лично бара-бир, тебе же хотелось как лучше.
Вот Светлана в свою очередь решила, что Ростислав задерживается единственно в надежде на примирение с ней. Лишней скромностью бывшая супруга Пархомцева не страдала никогда.
Рано лишившись матери, Светлана воспитывалась отцом. За годы своей супружеской жизни Пархомцев видал тестя раза три-четыре, не больше. Но и за столь короткий срок успел понять жизненную мудрость тестя, которая заключалась в присказке: «Гордым был и козел. Сказал: «Умру, но останусь козлом.» Да вышла не та натура — осталась козлиная шкура». — В общем Светланин родитель оказался странным мужиком… Как сказал бы Валерик — чудом природы.
В магазин тесть ходил с обычным мешком: загружался скоро черствеющими буханками сразу на полмесяца. Экономил он на всевозможной дряни, одевался во рванье: кирзовые сапоги со сбитыми набок каблуками, замызганную фуфайку и некогда синие, но напрочь обтрепавшиеся галифе. Юдоль!
Кому придет в голову, глядя вот на такого убогого товарища, что он — владелец огромной усадьбы, где только сад занимает... эдак гектара два. А в саду яблони, груши...
По сибирским условиям, да по прежним временам на одних только фруктах можно было нажить целое состояние. И тесть не церемонился. Он, можно сказать, сдирал с покупателей скальпы. А сад берег от ребятни крепче, чем другой жену от искусителя. По всему периметру садовой ограды, сбитой всплошную из двухметрового теса, тянулась колючая проволока. Под током.
Опыт по использованию «колючки» садовладелец приобрел еще до войны. Приключилась с ним в году 193... большая неприятность, а именно — прописали будущему тестю работу на свежем воздухе, непонятно за какой грех. И прописали общим сроком на пятнадцать лет, с последующим ущемлением в правах. Ан вскорости выясняется, что дело бедолаге пришили настолько туфтовое, по которому не причитается и года отсидки. Почесали органы в затылке, выдали пострадавшему честь честью положенные в таких случаях бумаги, и, — за ворота. Возвратили ему и ордена — полный иконостас! А под конец выплатили компенсацию, в больших рублях, за все годы ударного труда на лесосплаве — живи не хочу!
Однако не прошли для Ростиславова тестя бесследно пять лет нечаянного заключения, кончилась его вера. Орденоносец, и патриот в прошлом, он после лагерей вернулся скопидомом. Да таким, что родная дочь стеснялась папаши.
Светлана, в противовес отцу, по любому поводу ссылалась на «людей». Люди умели. Люди доставали. Люди обеспечивали достаток в семье. Разумеется, Ростислав «к людям» не относился. И в результате, можно сказать, пострадал «за людей», потеряв семью. О чем вряд ли жалел через год после развода.
Пожалеть себя ему еще только предстояло...
* * *
Уже не первый вечер Ростислав ежился, ощущая вкрадчиво постороннее присутствие.
Вскоре он удостоверился в слежке. Кто-то неотступно следил за ним. Пришлось раз-другой обернуться, неожиданно замедлив шаг, прежде чем преследователь обнаружил себя и в свете луны на мгновение раздвоилась мохнатая тень забора, а щеку тронуло легкое, словно детский волос, дыхание.
Пархомцев замер. Судя по смещению замеченной им тени преследователь отступил за широкий тополиный ствол.
— Кто здесь? — голос Пархомцева дрогнул.
Улица молчала. Ростислав на цыпочках двинулся к тополю стараясь не шуметь. Он одолел половину расстояния, отделявшего его от тополя, когда едва различимое пятно скользнула в проулок. Оставив колебания, Ростислав перешел на бег. Преследуемый и преследователь поменялись местами. Теперь Ростислав настигал незнакомца, похоже обладавшего кошачьим зрением, но слабого на дыхание. Вскоре убегающий оценил по достоинству преимущество Пархомцева в беге и затаился. Неясная тень исчезла, затихли звуки шагов. Пархомцеву показалось, что неизвестный даже затаил дыхание: сколько Ростислав ни вслушивался, не мог уловить ни единого звука. Оставалось одно из двух — отступить или двигаться дальше наугад, прижимаясь спиной к забору. Он выбрал второе.
На Ростиславово счастье судорожный всхлип долетел до него прежде, нежели он почувствовал пустоту за спиной. Противник стоял в проеме калитки. Не ожидая ничего подобного, Пархомцев столкнулся с незнакомцем. Ударился о него корпусом. Откачнулся. Жгучая боль пронзила руку. Одновременно послышался звук упавшего на землю металлического предмета.
Незнакомец вырвался из рук ошеломленного болью преследователя. А через считанные секунды дробный стук подошв затих вдали и Пархомцев остался один.
Ростислав, пересилив боль, нагнулся и пошарил под ногами. Пальцы наткнулись на что-то острое — это было лезвие ножа. Запоздалый озноб прошел по телу — только чистая случайность уберегла его от смертельного удара, подойди он к калитке лицом вперед, клинок пришелся бы в, левую сторону груди и тогда!..
Дома боль, утихла. Хотя рана на первый взгляд казалась довольно серьезной.
Отточенное как бритва лезвие проделало длинную прореху в рукаве. Поврежденная рубашка намокла от крови и липла, к телу. Тут Ростислав вспомнил о ноже. Поистине неожиданность следовала за неожиданностью — нож был его, а вернее — его дяди. Да-да, тот самый нож, что был украден у Ростислава за тысячи верст от этой станции.
Мысли раненого путались. Вне всяких сомнений эта вещь еще месяц назад принадлежала ему, у нее те же хищные очертания клинка, та же ручка желтой кости, завершающаяся изящным копытцем. В вёрхней части которого была треугольная выбоина. Хотя... Глубоких царапин на медном пояске, где кость переходила в лезвие, прежде не было. Эти царапины говорили скорее всего о попытках отделить рукоятку от клинка. Попытках безуспешных, ибо стык между костью и медью остался целым. Некто, пытавшийся разъединить детали ножа, или сильно сомневался в успехе или проявил достаточную осторожность, опасаясь испортить красивую вещь.
Ростислав терялся в предположениях.
Никакого смысла в разборке ножа он не находил,...
Дядин нож поразил Валерика. Поначалу он даже оторопел; «Ну ты даешь!» Дальнейший рассказ, связанный с историей ножа он выслушал, приоткрыв рот. Но Валерик не был Валериком, если тут же не выдал бы очередную фантастическую идею. Вообразить, что в ручке ножа хранится клад сам Ростислав, например, не сумел бы. Но вот теперь, слушая домыслы Валерика, он вспомнил, как мать упоминала про какой-то секрет, оборудованный в одном из двух ножей. Впрочем, у него достало здравого смысла промолчать о материных словах, так что Валерик ушел раздосадованный, почувствовав скрытность приятеля.
Странные дела творились в этом мире. За ночь порез на руке Ростислава исчез. Казалось бы — чудо! А он сидел и штопал распоротый рукав. Вот и получается: человек не достоин чуда, которое способен сотворить.
Он шил, а за окном скулила соседская собака. По весне беспородную псину задело колесом грузовой машины, повредив хребет. С тех пор пес волочил зад, а вечерами жаловался на судьбу. Увечная псина сохранила приветливость к людям, считая, что ее добрый характер хоть как-то компенсирует увечье. Однако окружающим было недосуг вникать в собачьи переживания. Оттого Кешка симпатизировал приезжему. И новый знакомый не скупился на хлебные корки, щедро посыпанные сахаром. Сочувствия себе подобных Кешка ждал зря. В собачьем сердце, при ярко выраженном индивидуализме отдельно взятой натуры, преобладали коллективные устремления. Сильного опасались все, и всей разномастной стаей пресмыкались перед ним, Также единогласно собачье общество отвергало ущербных. Кешка стал инвалидом, оттого Пархомцев замечал, как ему выражается презрение представителями поселково-дворняжьей общественности. В чистопородной, элитной среде изувеченному псу было бы лучше: его просто не видели бы в упор; побрезговали бы связываться или проявили бы снисходительность. Но ни овчарок, ни эрдельтерьеров на станции не держали.
А тявкали по дворам, чесали пузо, отлавливали блох, азартно щелкая зубами, слонялись по улицам, поднимая ногу у каждого столбика и водоразборной колонки куцелапые, со свалявшейся шерстью, невоспитанные псы, настолько малофотогеничные, что казались треухими, а то и безухими вообще.
Еще не так давно поселковые собаки считали Кешку равным себе, а поэтому не простили ему падения. Четвероногие аборигены рассуждали без затей: беда, случившаяся с другим, могла случиться и со мной, но пока к счастью дело обстоит иначе, так почему бы не отвести душу. Ведь если, не дай бог! Беспомощным стану я, то по отношению ко мне остальные поведут себя не лучше... Что ж, поселковых дворняг можно было понять и простить. Ведь они же... собаки.
Кешка тоненько взвзизгнул.
Ростислав отворил дверь. Очевидно к непогоде собачьи муки усилились и досаждали так, что Кешка, работая передними конечностями, переполз порог и оказался на кухне.
... Человек глядел на пса. Чёрная без единого пятна шерсть, лохматые уши и хвост, длинный торс, на несколько коротковатых лапах — все это окукливалось в светло-фиолетовый туман. Кешка трясся, скулил и пытался бежать, но мышцы ног не слушались его.
Пархомцев иссыхал от внутреннего жара. Выйти из странного, угрожающего ему состояния удалось не вдруг. Его качало, половицы под ногами уходили то вправо, то влево и он вынужден был цепляться за край комода. Дело дрянь!
Действительно, если приступы этой «болезни» участятся, ему несдобровать. Впрочем, не стоило называть «болезнью» тот бред, который с ним происходил. Ростислав уже догадался — это тот злой дар, про который толковала Хатый и который погубит его, если он не будет беречь себя.
Когда человек очнулся, пес уже стоял и стоял на четырех лапах. Он схватил на лету брошенный ему кусок хлеба и шмыгнул под стол...
На улице зашумело. В комнату проник свет одинокой фары. Спустя минуту от входа потянуло сквозняком.
Вошедший был тем самым крепышом, со сросшимися на переносице мохнатыми бровями, кого менее всего желал бы видеть хозяин квартиры, накануне слыхавший от Валерика, что некто «бровастый» ухаживает за Светланой и, как утверждают, не без успеха. Разобраться, так Ростиславу не было дела до личных привязанностей бывшей супруги. Но это в обычной ситуации. Сейчас он оказывался в положении навязчивого мужа, однажды отвергнутого. Мог ли он объяснять всем и каждому истинную цель своего приезда, объяснить, что телеграмма, якобы отправленная ему Светланой, была злобной шуткой неведомого недоброжелателя. Как он мог растолковать окружающим, что продолжает торчать в этой глуши по причине душевной растерянности, будучи не в силах решить куда ему податься, ибо никто и нигде его не ждал. В конце концов он сам понимал всю нелепость своего положения. Случайно или нет, но настораживалась очередь, когда он появлялся в магазине. Казалось, очередь ждала от Ростислава какой-то экстравагантной выходки. Может он ошибался, а здешние провинциалки просто-напросто чимеру обились? Ну кто их поймет — этих аборигенок! Порой они из-за пустой луковой шелухи такой базар заведут, что чертям тошно. А их страсть к пересудам! Упаси нас, Господи! стать объектом сплетен. Затопчут. Изгадят с Головы до ног. Потом поди, узнай кто бросил камень первым. Нет никого! «Все говорят». Среди «всех» концов не сыщешь, исхода не найдешь. Остается выскочить на люди в банный день, рвануть на груди ситцевую сорочку румынского пошива и заводить покаянно: «Не могу-у-у больше! Бейте меня, товарищи-граждане, аморального типа по лупетке, по ребрам, по печени. Терзайте насмерть, ибо нет мне веры!» Сколько отменных репутаций из-за сплетен пошло на макулатуры. Сколько супружеских уз не выдержало натиска возбужденной общественности...
В общем-то Ростислав ничего не имел против густобрового Галкина. Что Ростиславу Гекуб и что Гекубе Ростислав? Он желал Светлане только добра. Пускай этим добром будет Галкин, Пархомцев ничуть не возражал. Однако появление бровастого гостя именно сейчас было излишним: он вошел в момент когда хозяин дома осматривал вновь обретенный нож.
Пархомцев спрятал нож за спину. Спохватился: мятая в пятнах крови рубашка висела на спинке стула. Убирать ее был поздно. Оставалось прикрыть стул и висевшую на нем рубаху своим телом. Что Ростислав не замедлил сделать.
Галкин, набычившись, встал у порога:
— Вот... зашел... поговорить. Томатного цвета губы едва двигались.
— Уехал бы ты! Я... Мы... Ну чего тебе тут? — Гость поймал воздух хрящеватым носом, нырнул правой рукой в карман.
Хозяин напрягся. Обмяк, увидев, как Галкин достал сигарету а потом сжал меж пальцев. Тонкая бумага лопнула и золотистая табачная пыль опустилась на пол.
А Галкин запыхтел по новой:
— Вот... Значит мы...
Хриплые звуки его голоса раздражали барабанную перепонку, больно отдавались в голоде. «Ну что он мычит, будто жевку сосет?» — поморщился Пархомцев. До того сделалось гадко, будто слизью обволакивало.
Удавиться бы! Заползти в темный угол и повеситься. Какого рожна им надо? Чего лезут... со своими проблемами? С нелепыми претензиями? Кому я мешаю?
Что-то нехорошее проступило на лице хозяина дома. Иначе отчего Галкин завяз на полуслове, оторопел, установившись в одну точку? Он увидел нож! О котором Пархомцев совсем забыл и теперь держал перед собой.
По сияющему клинку бегали голубые блики; металлический отсвет падал на лицо Ростислава.
Светланин ухажер попятился. Уткнулся спиной в дверь. Из-под стола выметнулся Кешка. Красными от ярости глазами пес окинул людей, потом насел на отступающего Галкина. Незадачливого посетителя защитила хлопнувшая перед собачьим носом дверь...
Снова зарычал Кешка. Теперь он рычал на Валерика, влетевшего как всегда без стука. Было за новым приятелем такое: появлялся без предупреждения, начинал разговор с полуслова, ходил вприпрыжку, будто с шилом в заду. Вот и в этот раз — тотчас же забегал, зажестикулировал. Заиграл всеми мышцами разом. Кешка даже увял от такого напора, вернулся в безопасное место.
— Вот те бимс! Никак мордедутие было? То-то Галкин отсюда понесся... Лично мне эта птица... бара-бир. Но если он к тебе что-нибудь имеет... Только намекни. — Хохотнул. Поймал зрачками предплечье Ростислава.
— Ого! Рана-то тю-тю! С возрастающим удивлением оглядел собаку. Картина получилась забавной: в полутьме под столом оскалившийся пес, а напротив — Валерик с приоткрытым ртом.
— Слушай... Я твоего кобеля знаю. Он же...
Врать не хотелось. Ростислав помялся и начал...
Рассказ получился долгим.
Приятель слушал, стараясь не дышать. А рассказчик будто заново переживал случившееся. Пожалуй в ходе повествования он волновался больше и ощущал все острое, чем сразу после ранения.
Он рассказал, как намочил и осторожно снял повязку. Влажный бинт открыл почти не тронутый кожный покров, на котором замечался припухший розовый рубец: Но и тот на глазах бледнел, рассасывался, делался уже. Все происходило точь-в-точь как тогда — на лыжной прогулке. Кожа по соседству с рубцом, казалось, существовала вне зависимости от остального тела; едва приметное движение ее верхнего слоя продолжалось до полного исчезновения розового пятна. Ростислав завороженно следил за чудом, сжимая в пальцах грязный комочек бинта...
* * *
Узнав секрет Пархомцева, Валерик замаялся вконец. Принялся строить лихие планы, без стеснения отводя в них себе главные роли. Он фантазировал. Накручивал сказочную карусель хлопотливо окрашивая каждую деталь. В своих прожектах он завирался до степеней изумительных и порой так увлекался, что сам приходил в испуг. За его причудами, грандиозными и наивными, отходила душа хозяина дома.
Однако судьба по-прежнему испытывала бывшего учителя.
... В пустоте комнаты на углу столешницы белело письмо. Ростислав вскрыл конверт и пробежал глазами текст, Неровные строки сползали наискось тетрадного листа; «Здравствуй пока Пархомцев. Двое уже на том свете. Очередь за тобой, жди в юне али укатывай, выродок предателя. Знаешь поди про деда?»
Автор письма по умыслу или по малограмотности избегал запятых. Читая, Ростислав подставил их мысленно, стремясь вникнуть в текст. На обратной стороне листа имелось решение какой-то алгебраической задачи. Очевидно пишущий использовал страницу из первой попавшейся тетради, что не один год провалялась где-нибудь в сарае или на потолке. Бумага была желтой и пыльной, а фиолетовый текст на изнанке листа порядком выцвел. На конверте не имелось подписи и обратного адреса.
Адресат предположил, что «в юне» — означает в июне месяце. Большего из письма нельзя было выжать.
Дикое послание укладывалось в ряд нелепых событий, свалившихся на Пархомцева в последние недели. Письмо являлось вполне логичным шагом для того, кому приезжий, сам того не ведая, крепко насолил. Смущало иное — несоответствие между текстом письма и полученной ранее телеграммой. Имелся ли смысл куда-то заманивать человека, чтобы позже прикладывать столько усилий, дабы выпроводить его обратно? А какая роль в преследовании Ростислава отводилась дядиному ножу? Чего же хотел злоумышленник?
Ледяной холод поднялся от ног к сердцу. Словно судорогой свело скулы. Стоп! А смерть отца! И то первое письме! Выходит, не простые угрозы, а обвинение в предательстве деда убило отца? Обвинение ничем не подтвержденное. Но не-е-ет... В том послании имелось что-то еще. Похоже отец получил весомую улику против деда — тот небольшой серый клочок бумаги. Неужели дед Ростислава выдал манохинцев милиции? Но зачем? Зачем он направил партизан в лапы этого... как его? ага! прапорщика Посельского? Но ведь, предупредив Посельского об отряде, дед становился самоубийцей. Прапорщик не мог бы открыть секрет предателя другим милиционерам. Посельский был бы круглым идиотом, если бы доверился кому-нибудь. «Есть тайна двух, но тайны нет у трех, и всем известна тайна четверых». А будучи не в курсе грязных дел начальника, подчиненные в ночной неразберихе вполне могли ухлопать и осведомителя. При таком раскладе выходило, что погубил партизан не дед. И был ли вообще предатель? Отряд Манохина мог стать жертвой одной из бесчисленных случайностей, подстерегающих любого из нас на этом свете.
Нет, нужно во чтобы то ни стало найти автора писем. Ростислав обязан сделать все возможное и невозможное, но оправдать деда...
Узнав про письмо, Валерик хихикнул:
— Муть! Это не Галкина работа.
Он оставался в неведении относительно второй части послания. Ростислав опасался, что приятель по причине своего легкомыслия может поверить обвинениям, содержащимся в письме. Поверили же другие. Иначе откуда среди односельчан появилась неприязнь к Пархомцевым? Неприязнь, внешне ничем не выражаемая, но растущая как растет раковая опухоль, медленно и неотвратимо. Нет уже и в помине причин, обусловивших начало страшной болезни, и сам заболевший живет прежней — дораковой жизнью, а где-то в печени или пищеводе скрытно множится, плотоядно членится взбесившаяся клетка. И вскоре окружающие начинают примечать на лице пораженного печать смертельного недуга.
— Пантелю до автографов ни в жисть не додуматься, — продолжал Валерик, поводя выпученными глазами. — Ты чо, Пантелю трусишь? Правильно, Пашка Галкин — жук еще то-о-от! Он же с приходами, Пантеля-то, — говоривший повертел пальцем у виска. — Кого хошь спроси, чокнутый он...
Успокоил:
— Плюнь! Слюной. В случае чего я Пашку вмиг достану.
Заегозил. Сделался вкрадчивым Валерик:
— Да забудь ты про дурацкое письмо. Мало ли на свете дураков. Мне вон тоже писали...
Он разумеется соврал. Но ложь его была во спасение.
Я што хотел сказать? А-а-а! Давай рискнем... Ну... насчет исцеления.
Выжидательно посмотрел на Ростислава:
— Чо тебе на собаку тратиться. Давай кого... посерьезней. Во — у Наташки пацаненок при смерти. От него уже врачи отказались. Мол, неоперабельный... Они отказались, а мы — тут! Так дескать, и так. Приходим — ба-а-ац! Наташкины родичи на радостях нам — тысяч пять. У самой-то Наташки денег не очень, а у родичей есть.
Толкнул плечом заскучавшего собеседника:
— Ты чо! Не веришь? Думаешь, не раскошелятся? Ну уж не-е-ет! Дадут да еще спасибо скажут.
Погрустнел от внезапно произнесенной мысли:
— Да мне деньги... бара-бир! Плевал я на них с высокой ели.
Валерик смутился, не видя поддержки. Запутался окончательно.
— Не хочешь как хочешь. Тебе же они... На поправку. Ну и мне... не помешало бы... кучей. Эх! При деньгах — и бабы наши и никакой амортизации. Отметил бы случай... Указ нам не в указ!
Рассвирепел, заметив иронию в глазах у Ростислава;
— Мы ж не воровать собираемся! Нам за это дело памятник полагается. Подумаешь... деньги! Что мы хуже других?
Убежденно подвел черту:
— Все начальство прет в четыре руки, А пролетарии завсегда на фу-фу пролетают.
— Так уж все начальство ворует, — усомнился Ростислав.
— Все! — отрубил увалень. Не было уже в нем простецкой живости. Напротив, четко обозначались скулы да зрачки полыхнули разинским огнем.
— Я бы этих, которые при шляпах!
— Ну-ну, ты сам шляпу носишь, — попробовал урезонить приятеля Ростислав. — Сам рассказывал, что красуешься на Доске почета.
— Моя шляпа наследственная. Не в ней дело. И физию мою вывешали потому, что не хмырь какой-нибудь. На мой счет много кой-чего причитается. И не прогуливаю, и вкалываю, дай бог каждому, а ни дачи, ни машины. Зато возьми зава... в «Заготзерно»... Крадет подлюга, словно багдадский вор. Не-е-ет! Если я пролетарий, ты мне дай!
— Разошелся! — Ростислава взяла досада. Он, видишь ли, пролетарий. Знаешь, что воруют и молчишь? Держишь фигуру в кармане.
— Ага, держу. Я оттого и в почете, пока молчу, не возникаю. Заикнись я хоть разок...
— Трусишь!
— Я не трус, но не дурак. Где-то я читал, что лучше быть живой собакой; чем дохлым львом.
Валерик округлил глаза. Забегал по комнате. Потом присел на кровать, ехидно поглядывая на хозяина. Начал настырно:
— А ты... смелый? Я бы на твоем месте... Я бы столько жизней спас!
Нет не прост, совсем не прост Змеегорычев внук. Попал в самую точку.
Ростислав даже самому себе не желал признаваться в собственной слабости. А между тем им все больше и больше овладевал безотчетный страх. Скорее подсознанием чем рассудком он предчувствовал, что необыкновенное состояние, благодаря которому им совершается очередное чудо, вызывает необратимые изменения в его организме. Присущий живому инстинкт подавал сигнал опасности. Чего-нибудь стоило и предостережение Хатый.
По здравому размышлению, он не был прирожденным трусом или эгоистом. Но не имел привычки бросаться очертя голову в пустоту, в неизвестность, туда, где отсутствовали привычные ориентиры.
Сейчас он слушал, но не слыхал приятеля. Их тени размазывались на стене: пляшущая тень не умолкавшего ни на минуту Валерика и неподвижная его. Тени явственно менялись в размерах. Тень Пархомцева съеживалась, расслаивалась, постепенно тощала, поедаемая соседкой, которая густела. Росла. Поднималась к потолку. Пока не накрыла собой большую часть стены. Гигантская, она конвульсивно дергалась, старалась вырваться за пределы комнаты. Подмятые ею предметы исчезали из поля зрения и рассеивались, словно призраки, а тень — колосс сделалась единственно материальным в этом фантомном мире...
Вдруг резануло ухо. Ростислав сморгнул набежавшие слезы прислушался — Валерик порол несусветную чушь.
— ... Ты — пришелец!
— Ну тебя к лешему, — рассердился хозяин дома. — Лечиться тебе надо; совсем очумел. Плетешь черт-те знает что. Сам ты пришелец с фермы! Люмпен от алхимии!
— Нет... ты погоди. Если ты — не пришелец, тогда пришельцы — твои родители, а не то — дед с бабкой. Не может быть таких способностей у нормального человека.
Ошалел Валерик. Выпялился на Ростислава, аж побелел, смех, и грех...
«...Зло во имя добра!
Кто придумал нелепость такую?»
За кустами у реки имелось свободное пространство, недоступное для постороннего глаза. От поселка укромное место закрывалось порыжевшей от зноя сопкой. От края сапки до полосы кустов оставалось метров двести сравнительно ровной земли, засоренной короткой, жесткой травой. Так что для тех, кто искал уединения на берегу, в случае тревоги всегда имелась возможность уйти незамеченным, прячась за стеной из тальника.
В тихий полдень людское присутствие в зарослях выдавали только приглушенные обрывки фраз.
— ... надо проверить...
— ... Теперь ясно, что нож совершенно ни причем. — Второй голос строжился. — Признавайтесь, что со слежкой вы наглупили. Так не упорствуйте в своей глупости, если человек дурак, то это надолго.
Первый голос больше оправдывался:
— Я делал так, как вы сказали. Он мог меня узнать...
— Перестаньте кричать. Хотите, чтобы нас услышали?
Плохо различимая за ветками фигура поднялась во весь рост.
— ... незачем много знать.
— А потом? — надтреснутый голос дрожал.
— Ничего не попишешь... Насколько мы сумели разобраться, он обречен и без нас. В любом случае. Но не думайте... Я не вурдалак и по воскресным дням не ем младенцев. Мне его тоже по-своему жалко. Вольно или невольно он стал целью всей моей жизни, и я почти сроднился с ним. Первый голос грустно подвел итоги: — Это оттого, что у вас не было детей. Правда, случается, когда и родные дети приносят одни горести.
— Бросьте! Что за мерихлюндии? — строгий ободрил.
— Завтра… — он перешел на шепот. — Он должен понять, что деваться ему некуда. Что у него нет и быть не может другого выхода...
Молчание собеседника строгий голос принял за согласие. И вскоре на прогалине остался лишь один человек. Держа прямо спину, он долго сидел, положив руки на колени. Человек вспоминал. Он оживлял в памяти то, о чем не стал бы откровенничать ни с кем, даже с собственной тенью...
* * *
Тогда, в Киевском ЧК, он не случайно выбрал Посельского. Уже в то время он предполагал, что ему понадобится свой человек в местах, откуда был родом спесивый прапорщик. Что-что, а в людях обладатель строгого голоса разбирался и ошибался редко. Прапорщик судя по всему считал себя человеком чести, а такой не позволит забыть про оказанную услугу. Если только сохранение жизни и свободы можно назвать услугой.
Приходилось спешить. Противник захватил мост и растекался по улицам правобережья. В этой бестолковой войне даже ответственные дела выполнялись наспех, в самую последнюю минуту. У него не оставалось времени, чтобы подготовить для прапорщика солидные документы; пришлось взять то, что было под рукой...
В просторном, превращенном в камеру подвале, пленных почти не оставалось. Две вечерние партии основательно разгрузили помещение. Среди оставшихся выделялся артиллерийский капитан, который вопил не переставая. За день он охрип, но продолжал кричать. Его белые глаза невидяще остановились на вошедшем. Капитан считал себя расстрелянным. Ему было непереносимо оставаться среди живых, и он вопил, умоляя его похоронить. Безумец опасался прихода жены. Ей надлежало навестить уже прибранную, с холмиком, обложенным дерном, могилу мужа. Она не должна была видеть его вздувшийся беспризорный труп, способный вызвать отвращение. Такого она не перенесет. И, капитан торопил с погребением.
Артиллерист знал, как выглядят брошенные мертвяки в военной форме. Он это не раз видел, и, будучи покойником, требовал могилы. То есть — того, что в страшную пору достается далеко не всем: Счастливец! Лишившись разума, он не успел узнать про жену, расстрелянную неделей раньше.
... Враг обладал большим числом сочувствующих. Приходилось лишать его поддержки. А опорой врагу являлось множество людей: недобитые аристократы, матерые спекулянты, поповский сброд и черноризники, злопыхатели из обывательской среды, студенты, доценты, профессора, бывшие офицеры — в первую очередь...
Несколько выстрелов разбросали арестованных по подвалам. Посельский продолжал стоять, ожидая своей очереди, своего конца, который пытался встретить достойно. Но обстановка мало благоприятствовала гордой встрече со смертью, и тоска замутила глаза обреченного.
— Посельский, возьмите документы. — Ствол пистолета указал на дверь.
— Советую вам вернуться в родные края и сидеть там тихо, главное — не забывать, что долг платежом красен.
Еще не веря, прапорщик шагнул к выходу.
— Смелее, черт вас дери! Да забудьте про офицерское прошлое. Карта таких как вы, бита. На случай же запомните, меня зовут... — ухо арестованного щекотнуло.
— Теперь бегите! Надеюсь, вы найдете, где отсидеться на первых порах. Бегите, черт вас!
По-прежнему сомневаясь, прапорщик вышел во двор. Сзади было тихо. Он прибавил шаг, свернул за угол и быстро исчез в направлении моста...
Невзирая на былое благородство и офицерскую спесь прапорщик все-таки обманул ожидания спасителя. Нет-нет, он сохранил бывшему чекисту жизнь, но отказал в помощи, и что хуже того — держал под стражей.
Вырваться удалось хитростью. Вместо спрятанных ценностей Посельский получил в горло остро заточенный трехдюймовый гвоздь. Долгие часы пленник раскачивал, а потом точил о каменку извлеченный из стены металлический стержень, который обнаружил над полком бани, послужившей ему тюрьмой. Царская каторга научила многому, и он воспользовался этой наукой.
Прапорщик еще агонизировал, когда убийца, забрав оружие, столкнул безжизненное тело в лог. Глубокий снег раздался под тяжестью мертвеца и сомкнулся вновь.
Много позже он понял, что Посельского подвела не корысть. Как ни странно, но начальник милиции был равнодушен к земным благам. В его опустошенной душе осталось место единственной страсти — ненависти. Именно ненависть толкнула прапорщика на риск. Он желал лишний раз унизить пленника видом награбленного барахла. И остался гнить в лесу. Только спустя долгие годы отыскался его скелет, а вместе со скелетом и часы. Кто мог знать, что Посельский носил с собой отобранную у арестованного вещь? Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается: дело о найденных останках попало к «спасителю» Посельского и на том все закончилось.
* * *
Свет горел вторую ночь подряд. Наташа сбилась с ног. Лицо сына с каждым часом серело все больше. Чаще и чаще приходилось ставить обезболивающее, но без того большие дозы, казалось, уже не действовали.
По тому, как сильно, словно от судорог, передергивались жилки на щеках мальчика, она видела, что боль не оставляла его ни на секунду.
Измученная женщина кипятила шприц, управлялась по дому, в панике ожидая, когда кончится лекарство, полученное с таким трудом. Три печати и пять подписей стояло на рецепте, прежде чем сухопарая аптекарша подала Наташе легкую картонную коробку. Пока аптекарша, волоча нога, шла в подсобку, пока открывала и с резким стуком закрывала сейфы, наконец, пока коробка совершала обратный путь к окошечку — все это время аптекарша сохраняла недовольный вид. Стервозное выражение ее лица не изменилось даже в ответ на подавленное, усеченное Наташино «Спаси...» Получалось так, что одетую в белый халат ведьму молили о спасении, а она не располагалась кого-либо спасать, уже наспасавши уйму народа и теперь еле двигаясь от изнеможения.
Наташа долго колебалась: надо ли забирать сына из больницы, как предлагал смущенный врач. Решилась она не враз. И кто знает, правильно поступила или нет?
Сашёк был безнадежен. Эту безнадежность врач не мог спрятать за нарочитой деловитостью. Она противилась обреченности, решив, что возле нее мальчику непременно станет лучше. Ей очень хотелось и она уверилась в том, что боль, которую ощущает сама — часть страданий сына, принятых ею на себя. А иногда приходило в голову иное: она не в состоянии помочь сыну так, как помогли бы в больнице. Ведь наверно есть какое то лекарство, запамятованное медиками и способное сделать чудо — поставить Сашу на ноги. Следом опять вспоминались виноватые глаза онколога и бессилие окатывало Наташу. Отпадало желание куда-то бежать, неизвестно кого просить, что-то предпринимать.
Часто заходили родственники и знакомые. Родственники была дальними, а знакомые — просто знакомыми. Визитеры ограничивались прихожей, не входя в комнаты и не задерживаясь. Она понимала их, когда, уже на улице, они вздыхали с облегчением, становясь совсем чужими для нее и ее мальчика. В какие-то моменты она даже завидовала им. Ей тоже хотелось покинуть дом, напитанный странными, нежилыми запахами, хотелось бежать по привычным, не давящим мозг и сердце делам.
Заходил и Валерик. Его смущала близость смерти для одного из обитателей дома. Пучеглазый шалопут, он в чем-то убеждал Наташу, а она смотрела на наго чуть раскосыми темными глазами, не понимая сказанного им. — Некогда Валерик приятельствовал с Наташиным, мужем. Но не это вызывало досаду. Злило то, о чём Валерик говорил: «Мы всегда сидим втроем». «Третьим» была бутылка.
Разумеется, глупо было винить во всех своих бедах собутыльников мужа. Вина лежала на самом Николае, который быстро спился, стал занимать деньги и, зная, что ему она водку не отпустит, начал подсылать в магазин кого придется.
Она попробовала не давать спиртное посыльным мужа и нарвалась на скандал. Первый же «обиженный» молоденькой продавщицей «подсыл» закидал ее матерными словами. Где наиболее обидными были: «От настоящей бабы мужик не запьёт».
Единственный на пять сел в округе, помимо станционного поселка, участковый Жапис — покрыл расхамившегося пьянчугу. Сам участковый чаще заглядывал в стакан, чем следил за порядком. И этот участковый Пил-Кертон ей же сделал внушение:
— Твое дело крутиться за прилавком и угождать клиенту. Отказывать гражданам в покупке спиртного законного права ты не имеешь. Тем более когда граждане держатся на ногах и предъявляют необходимую наличность.
Красномордый участковый начитывал ей долго и нудно. А посланный Николаем хмырь ехидно выглядывал из-за его плеча. В конце концов у стоящих в очереди, женщин лопнуло терпение. Первой заругалась родная тетка хмыря. Женщины только заводились, а ее уже понесло. Она была собой массивная, про каких говорят — легче перепрыгнуть, чем обойти, но голосом обладала тонким и режущим, словно лист осоки. Вскоре от теткиного визга боксерский Жаписов нос пошел складками, а племянник иссох бодячным кустом.
— Это какой-такой гражданин? Сестрин оторва что ли? Так он срамец, и бери больше — геморрой на семейском теле. Он у сестры как есть все шабалы попропивал...
Через полминуты ни хмыря, ни участкового в магазине не стало.
Указу Наташа обрадовалась. Однако «для нее так ничего и не изменилось, муж пьянствовал по-прежнему. Теперь он пил даже то, к чему прежде не имел склонности. Да и спиртное продолжало поступать в поселок неведомыми до властей путями. Хотя — почему неведомыми? Один путь был хорошо известен каждому: вином спекулировала мать Валерика. Она моталась из поселка в город, из города — обратно на станцию, скоро проматывая наторгованное, и, не засиживаясь в отчем доме. Даже не заглядывая туда. Валерик мать не жаловал, а Змеегорыч прямо указывал ей на порог тому уж лет пять и крепко держался своего.
Проклиная дочь-пьяницу, старик сочувствовал молоденькой соседке. За склонность к выпивке он часто ругал Николая, а заодно единственного внука. А когда Николай утонул, Змеегорыч впервые поднял руку на Валерика. Наташа видела как старик хлестнул внука по щеке, перекрестился и торопливо ушел в избу. Валерик проводил деда злыми и одновременно растерянными глазами.
Еще задолго до гибели собутыльника молодой сосед подкатывался к Наташе. Но то ли похороны Николая, то ли дедова пощечина убили в нем охоту поглядывать за соседский забор.
И вот он стал заходить снова как ни в чем не бывало. Странно, но сейчас он не вызывал антипатии. Ну было... ухаживал. Что с того? Разве только он подкатывался к ней. И Наташа получила пощечину от Николая, за несколько часов до того, как его не стало. От неожиданного удара ее бросило на угол кухонного стола и, если боль в скуле едва почувствовалась, то поясницу, казалось, раздробило. А муж, выскочив во двор, голыми руками высадил стекла в оконной раме. Затем он убежал, а на вагонке — обшивке стены, на кривых клиньях стекла по краю рамы остались подсыхать мазки и частые брызги крови. Такие же кровавые полосы, нашли у края майны, где утонул Николай.
На похоронах она плакала без слов.
Во-первых не знала приличных случаю причитаний. Во-вторых — стеснялась своего голоса. А он был грудным, с легким придыханием в нос, отчего звучал мягко, интригующе. Она же смущалась и на людях больше отмалчивалась.
«Бедному Ванюшке везде одни камушки». Чуть жизнь пошла на лад, едва Наташа свыклась с участью вдовы и к своему удивлению задышала свободней, набежала новая беда...
Повозила она Сашка по больницам.
Что только врачи ни говорили. И так, и сяк. Все, кроме правды. Они Долго определялись в диагнозе. Успокаивали, дескать, подозрение на опухоль — еще не опухоль и не всякая опухоль — злокачественная. Она старалась верить. Боялась не верить. Да можно ли испугом улестить беду...
Наташа постояла у двери.
Пересилила себя, заглянула внутрь.
Сашок лежал маленький, незнакомый. Уж лучше бы не приходил в сознание до конца. Уж лучше — сразу! Она вернулась на кухню.
О чем сегодня толковал Валерик? Ломило, голову и она плохо слышала сказанное им. Звуки его голоса казались придавленными, словно Валерик говорил уткнувшись лицом в подушку.
Так чего он хотел от нее?
... Картофелина оказалась квелой, в пятнах и червоточинах. Нож буравил в клубне круглые дыры и вместо картофелины получалось что-то жалкое, модернистое, в дополнение к кучке обрезков и кожуры.
У Ростислава кончились деньги. Пора было что-то предпринять, а он оттягивал и оттягивал решение. Возвратиться на родину? Как бы не ошибиться вновь. Слишком поздно приходит к человеку озарение. Можешь добрый кусок жизни проскочить под обманом, во весь мах, и вдруг остановиться в тяжком изумлении. Ничего и никого вокруг! Водишь рукой, а между пальцев — кисель, влажная дрянь. И понимаешь, что настоящее отвратно, а будущее мрачно. Но ведь не закричишь, не застонешь: «Обманули-и-и». У нас на покаянные вопли мало кто способен. Человек может признаться в дурной привязанности, во внутренней некрасивости, в крае начатой чекушки через открытое окно, даже в убийстве... Лишь в собственном легковерии и в собственной глупости признаются редко и с большим трудом. Такова человеческая природа. Нам недостает многого, но только не ума. Если некто, допустив глупость, постучит себя по лбу: «Эх, дурак я, дурак!» — это вовсе не значит, что он действительно считает себя таковым. Ума-то при нем — палата, да не удосужился, знать, сумничать лишний раз, поскромничал. Всего и делов-то.
* * *
За миллионы километров от маленькой станции потянуло солнечным ветром. Взметнуло плазму в черное пространство. Погнало эфирную рябь... Спустя секунды качнулся от легкого прилива крови к голове водитель грузовой автомашины, даванул ногой на педаль без нужды, тотчас управился, отпустил «газ». Ревущий машинный вопль полетел вдоль улицы...
Резкий звук проник в избу. Продребезжало оконное стекло. Наташа замерла у плиты. Она вспомнила, о чем говорил Валерик...
Ростислав поморщился от рева машины. Уронил нож в груду очисток. Мельком подумал, что кто-то должен прийти. Если верить приметам, гость будет мужского пола.
Сегодня к нему уже стучали. Он поднялся на стук: «Войдите». Никто не откликнулся. Вскоре дробный звук повторился. Пархомцев вышел на двор. На крыльце, у калитки — везде было пусто. Зато стук слышался отчетливей. Он завернул за угол. Вверху сруба под самым карнизом сидела яркая птица и быстро-быстро кивала головой. Когда она переставала кивать стук обрывался и только легкая древесная труха продолжала плавать в воздухе. «Дятел!» Ростислав на цыпочках вернулся в дом, пускай себе стучит. Приятно близкое соседство лесной птицы... Осторожная дробь вновь достигла слуха. Мягкое постукивание напоминало звук, с каким вспугивают замершую секундную стрелку ручных часов, легко касаясь выпуклого стекла подушечкой указательного пальца. Снова дятел?
В этот раз Пархомцев ошибся — на пороге стояла худенькая женщина.
— За вами я, — она тоскующе, глядела из-под низко обрезанной челки.
Ростислав опешил.
— Спасите Сашу!
Он недоумевал. О каком Саше она ведет речь?
Женщина встрепенулась, видя его растерянное лицо. Запинаясь, пояснила:
— Наташей меня зовут. — Дверь позади нее оставалась открытой. — Валерик говорил...
Сразу пришло озарение. Во-о-от оно что! Ну Валерик! Ну трепло! Интересно, что он наплел матери умирающего мальчика? Почему умирающего? Это понял бы каждый, взглянув на посетительницу.
История в которую влипал Пархомцев по вине приятеля отдавала авантюрой, а именно авантюр Ростислав всегда опасался. Он давно был сыт ими по горло. Вот Мих-Мих питал к ним слабость. Взять последний его приезд.
...Глаза художника светилась желчью:
— Ах-ах-ах! Демагогия... Авантюра... Вешать ярлыки — привычная для нас метода в борьбе с еретиками. Подчеркиваю — с еретиками, но не с ересью.
Ростислав увернулся, спасая нос от обличающего жеста оратора. Мих-Мих удивленно покосился на собственный не нашедший цели палец и с возмущением продолжал:
— Хорошо так-то существовать. Покойно. Провел инвентаризацию, раздал этикетки и ... на покой. Сиди и жди, пусть думают вожди!
Слушателя повело, точно бок лимона куснул. А голос Мих-Миха набирал свирепость:
— Гарантии, видишь ли, ему нужны. Гарантируйте ему, что радикальные перемены в обществе не вызовут большей катастрофы. И все тут! Торгуется, как на базаре: вы мне — гарантии, я вам — свою веру. Да пойми ты, требуха с мозгами, история не ведает гарантий. Развитие общества — это нескончаемый эксперимент. По-твоему же — натер мозоль, так не надобно ходить? Лучше стоять, чем ходить. Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше умереть, чем лежать?
Художник послал палец вперед. «Когда-нибудь по его вине я окривею», — увернулся Ростислав.
— Подлинным авантюризмом, Ростик, является одно — стремление тащить за собой людей, не обладая при этом талантом. Многовато у нас поводырей... Как жить-то хочется. И сладко кушать тоже хоца. А утруждаться лень. Пускай чуни скрипят мозгами. Пускай кто-то другой натирает мозоли. Наше дело руководить? Толковал я тут с ним... микронаполеончиком. Печи, спрашиваю, ложить умеешь? Нет! Землю копать? Тоже нет! Музыку писать? Нет, нет, нет! Мне отвечает, это ни к чему. Я, говорит, руководитель. Опять спрашиваю: «Что значит — руководитель?» Так он даже вскипел. А то, мол, и значит, что надо работать, а не болтать. — Мих-Мих многократно подырявил воздух указательным пальцем. — Оказывается наш микронаполеончик сам ровным счетом ничего не умеет. Его дело призывать и заставлять работать других. Лично он усвоил только ту истину, что надо работать... другим. Он с этой истины живет. Он, захребетник, за право эксплуатации названной истины любому горло перегрызет...
Ростислав вернулся на грешную землю. Бог с ним, с Мих-Михом. Вот Валерика следует немедленно остановить: взял себе право решать за других.
— Ох, Наташа. Напрасно вы слушаете Валерика. Погодите. Погодите... Что с вашим сыном?
Губы, молодой женщины шевельнулись. По краткости выдоха он угадал ответ и содрогнулся.
«Помогите». Она покачнулась. «Христа-бога ради! помогите».
…Тусклое пятно детского лица утопало среди подушек. Ростислава било, свивало жгутом в затхлом пространстве спальни. Сознание его балансировало между явью и небытием. Не раз и не два срывался Пархомцев из реального мира и полз по мокрой, зеленой от слизи доске над чернильной жутью провала, зависая то одной то другой ногой над бездной, и заходясь в тоске и ненависти. В страхе перед падением он цеплялся подошвами за хлипкую, порушенную гнилью опору. Но метр за метром двигался вслед скользящей собственной тени. Временами тень подпрыгивала, проявляла прыть, изворачиваясь, демонстрировала мрачный оскал на месте лица. И тогда прогибалась доска под ногами, вставала дыбом, колотилась в судорогах, а в сизой дымке бездны проступала неясная картина.
...Низкая уродливая тень прыгала по терке рваного морозом льда. По краю которого высверкивало серебро плеч и каленая сталь ружейных стволов. Тут, там, за буграми метились мохнатые овчинные шапки, да висели в стылой пустоте поверх прицельных рамок слюдяными пластинками выбеленные ожиданием глаза...
Метался у реки Ростислав в поисках укрытия, в виду выпрыгивающих полос огня. Бежал встречь цепочке корявых фигур, скользящих по наледи. А частая гребенка огня уже опрокидывала мечущиеся фигуры, причесывала в упор, линовала истоптанное полотно замерзшей реки. И река хрипела разъятым горлом, не принимая выплеснувшуюся, скоро индевеющую на холоде влагу...
Очнувшись, Ростислав увидел руки. Обтянутые подсохшей, как у мумии, кожей, с лиловыми ногтями руки хватали пустой воздух. Это казалось невероятным, но руки были его! Содрогаюсь, он опустил их и перевел взгляд.
Мальчик забился в дальний угол кровати, пытаясь закричать в испуге. Он вздрагивал бледно-розовым пятном на фоне цветистого ковра. Стоящий посреди комнаты человек внушал ему ужас. Но кричать Саша не мог, потрясенный внезапной переменой в организме. Он только беззвучно хватал напрягшейся грудью воздух, ставший на изумление чистым и не причиняющим боли.
Ростислав шагнул назад. Выругался — сбоку лез Валерик, переполненный восторгом. Приятель гремел стулом, хватал целителя за плечи и тянул вниз. «Кажется я падаю», — мелькнуло у Ростислава в голове. Он бы сполз со стула, но чьи-то горячие, обжигающие тело руки удержали его. «Обидно», — он попытался поймать ускользающую мысль. «Обидно! Почему я должен страдать, спасая чужого мне человека? Мальчишку, который, возможно через год, ну через два и думать забудет о принесенной мною жертве»... Сколько людей на Земле ежеминутно уходит из жизни? Сколько не стало, пока я спасал одного? Кой прок в уплаченной цене? В чем назначение моей жизни?..»
Стул расползался под ним. Известковыми натеками оплывали покосившиеся стёны. Мир сворачивался ореховой скорлупой, внутри которой была пустота.
Ростислав противился натиску. Сдерживал плечами кристаллизирующуюся твердь. А наваливающаяся тяжесть крушила последнюю опору. Кряхтела, расщепляясь, лакированная древесина, с шорохом лопалась обивка, сыпались шурупы, вожделенно чмокая, отскакивали планки... «Жертвенность?! Но зачем? Стоит ли корчить из себя блаженного технократической эры?»
Иллюзии придуманы для простаков. Бездушные мельницы человеческого эгоизма давным-давно. Перемололи донкихотов — этих юродивых, одетых в маскарадные рыхлого папье-маше доспехи. Принадлежностью джентльменского, набора стало чувство локтя, уткнутого в подреберье ближнему. На знаменах флибустьеров от политики красуется: «Простота хуже воровства».
Что есть феноменология духа перед непререкаемым: «Если нельзя, но очень хочется, то можно»? Еще греческая торговка рыбой одинаково хладнокровно: заворачивала обжаренный на оливковом масле товар и в лист лопуха и в лист «Никомаховой этики».
Тиски коллапсирующего мира ослабли. Ростислав поднялся, выбрался наружу, задевая плечами косяки, и побежал. Он не видел счастливых, Наташкиных глаз, не слышал дудевшего в самое ухо Валерика, который перекатывался рядом на усеченных, кривоватых ногах...
...Пархомцев бежал в изуродованном мире, где так мало синевы, где все заполнено стоном автомобильных гудков, где далекий горизонт прорван гнилыми зубами обветренных сопок, по-воровски прижавших поселок к железнодорожной насыпи, где, наконец, вместе с несуразной, истерической собачонкой, непонятной породы и масти, под ноги бросаются настороженные дворы…
Ему лишь чудилось, что он бежит. На самом деле он брел разваливающейся старческой походкой, опираясь на Валерика.
* * *
Сон был не легче яви.
Змеегорыч в наглухо застегнутом до пят плаще вел Ростислава меж могил, крепко держа его одной рукой за ворот рубахи и помахивая огромным, с салатную вазу, кадилом в другой.
У надгробий старик замирал на мгновение, ощеривался по-собачьи, жгуче касаясь Пархомцева косым багровым взглядом. И всякий раз над кладбищем отдавало колокольным набатом. Звуки лиловыми волнами расходились вокруг, мгновенно отражались, искрились на прутьях оградок, мелко пощипывали кожу... Кладбище заполняла пестрая толпа. Люди скапливались в проходах, прудились в могильных оградках, попирали ногами надгробные плиты. И ни в одной паре глаз изумленный воскреситель не встречал радости или восторга. Лишь недоуменно путалась в кадильном дыму.
Ростислава нагоняли, дергали за рукав, просили о чем-то, крыли свистящим шепотом, больно лягали ногами. Пучеглазая волосатая харя хихикнула ему в самое лицо. Поодаль от него пожилая женщина тупо отталкивала, от себя изможденного, давно оплаканного мужа, поминутно озираюсь на другого, ныне здравствующего. А тот стоял обочь, с нервически подергивающееся щекой. Блеклая джинсовая мегера, взбычивая платиновой шевелюрой, тыкалась лбом в орденские планки на груди осанистого покойника и вскрикивала:
— Папанька! Избу-то мы продали! А деньги... на «Ниву» ушли. Кто же мог знать, что вы воскреснете? Что ж вы, папанька? Ну спросите хоть у Анатолия... продали мы избу-то. Анатолий, иди сюда! Анатолий!
Некто усеченный, со скипидарно-жгучей прической и в узкой щеточке усов нехорошо выглядывал из-за спины, озирался чутко, мельтешил, хищно суетился. Потом пал за могильные холмики. Взлягнул отставшим задом и пополз, раздирая животик и круглые, не мужские, колени о заграждения из ржавеющих венков. И тут же завилял, намокая со спины от близости канта на милицейских брюках.
Громадная, лохматая от раковых выростов, мозолей пятерня загребла подбородок Ростислава в горсть, рашпилем рванула кожу:
— По какому праву?! За что?!
Ростислав полетел от рывка, ударился позвонком об острую кость змеегорычева плеча. Тотчас сбрякало кадило на черный полированный камень плиты, траченной надписью: «Незабвенному Коле от любящей супруги» и увенчанной мордатым портретом, который скорчился от попавшего в ноздри грязно-зеленого дыма».
— По какому праву? — растерянно переспросил Пархомцев. В самом, деле — по какому?
— А справка у тебя имеется?.. — гудел неожиданный голос.
— Документ? Удостоверение? Иначе каждый, кому не лень, что угодно начнет ворочать, без документов-то.
— Но ведь я — не каждый... Я чудесным даром владею... При чем здесь документы?
— Обязательно! — припечатало в ответ. — В отношении обязательного согласования ставлю в известность о необходимости уведомления на предмет дальнейшего изучения и последующего утверждения для передачи в соответствующие...
— Но это же чудо!!! — перекрыло магнитофонный голос нечеловеческим воплем. — Он способен сотворить чудо!..
... Перед Нами явление трансцедентальное, изучению, не поддающееся!
— Лженаучно. Рекомендаций на этот счет не имеется. Эдак всякий. — Однако, пришельцы...
Размеренный голос продолжал назидать:
— Ни слова о пришельцах! Кто сказал о Пришельцах? Это не Наши слова. Такое противоречит Установкам и Положениям.
И Пархомцев заплакал. Соленая, как океаническая вода, влага щипала ему веки. Он глох от шума. Оправдывался:
— Я людям жизнь могу... Бессмертие...
— Идиот, — шипел, потрескивая, голос. — Ты что, обезумел! Какое бессмертие? Намерен мертвецов вернуть в круг живущих? Воскресить всех, чохом? Чистых и нечистых? Несчастную жертву и озверевшего выродка? Честного труженика и за подлевшего карьериста? Всех... винегретом? Аль по выбору? Ну, а если с разбором, то какими критериями намерен руководствоваться? Анкетными данными? Опросом общественности? Личными симпатиями и антипатиями? Поведай нам, благодетель!
Кружилась голова чудотворца. Жарко было ему при ясном солнце, среди сбившихся в кучу могил, подле раскаленных оградок. Вызывали удушье приторно-фальшивые ленты, испятнанные скорбными надписями. Фальшь была единственно живой на земле мертвых, над которой бушевали голоса и дикие взвизги полумертвой толпы.
— Зачем человек живет? — простонал Пархомцев.
— Вот это вопрос! — хрюкнуло в самое ухо. — Бэкона и Спинозу читал, а ответа не знаешь? Зачем тебе смысл? Живи! И думай...
Голос сменил тон на экзаменаторский:
— Признаешь ли идею о бессмертии души? Или хочется бессмертия тела? Желается познать бесконечно глубокий смысл своего существования? Так познай сначала смысл воскресшений!
Бытие, извлеченное из прошлого — не есть ли мнимая величина? Не есть ли это попытка трансформации бесконечного в предельное? Взгляни вокруг — на дело рук своих, и ты увидишь бездну.
Потрясенный Ростислав огляделся. Заледенел. Как бывшие, так и будущие мертвецы тускло отсвечивали скелетами, полуприкрытыми слоистой фиолетовой пеленой. Ряды скелетов смещались на перспективе, распадались, поглощаемые энтропией. А сгустки распадающегося пространства — материи словно щупальца ткнулись к чудодею. Ближе... Ближе...
Пархомцев застонал, и проснулся.
Комнату наполнял едкий дым обугливающейся краски, бумаги и тряпья. Першило в горле. Жгло глаза.
Ростислав скатился с кровати, встал, и отпрыгнул в сторону — тлеющая ткань половиков ужалила подошвы ног. Не видя ничего перед собой, он метался по комнате: остатки сна у него в голове мешались с реальностью, одно переходило в другое. Задыхаясь, он не мог найти выхода из квартиры, прежде казавшейся бедно обставленной, а теперь переполненной бесчисленными стульями, комодами и столами — лабиринтом из мебели, которая с грохотом встречала его среди дыма. Получалось, что двигался не Ростислав, но великое множество громоздких предметов хороводило по комнате, пытаясь погрести под собой угорающего.
Надрывно кашляя и обжигая пятки о проклевывающиеся снизу жальца огня, он пытался нащупать дверь. Но проклятый параллелепипед комнаты, казалось, замкнулся наглухо плотно запечатавшись на местах дверного и оконных проемов.
Говорят, что в последние минуты жизни человек вспоминает все. Может быть. Однако мозг задыхающегося Ростислава был занят одним — выжить!
В очередной раз уткнувшись в стену, Ростислав коснулся пальцами выключателя. Вспыхнувшая у потолка лампа проступила чуть приметным световым пятном. Этого тусклого пятна хватило, чтобы взять верное направление...
Широкий сосновый косяк оказался буквально в двух шагах.
Но он успел пару раз упасть, запнувшись сначала о кухонный порог, а следом о неизвестно как оказавшееся под ногами ведро с водой, прежде чем достиг выхода.
В дверь уже ломились из сенок. Было слышно, как что-то бубнили снаружи. Радуясь скорому избавлению, он не стал вслушиваться, попытался откинуть крючок. Однако крючок был свободен, дверь удерживал врезной замок, в скважине которого отсутствовал ключ!
Новая неожиданность привела. Пархомцева в ярость. Он колотил крепкие плахи кулаками, разбивая в кровь руки, толкал дверь плечом, пинал с разбега ногой — все напрасно... Странно, почему он забыл про окно? Но не менее странно, как ему подвернулся топор, обычно стоящий за печкой?
Ржавое щербатое, лезвие вслепую крушило дверь. Топор лязгал, отскакивал назад, сталкиваясь с металлической ручкой, а Ростислав рубил... рубил... рубил... Он рубил до полного изнеможения, пока, не сообразил, что лезвие топора скорее отожмет замок, нежели проделает дыру в толстой плахе.
Замок уступил не враз. Раз-другой лезвие сорвалось, скрежеща о металл. Наконец топорище вырвалось из рук. От удара дверью охнул и заматерился ломившийся навстречу Валерик...
Пожар не причинил большой беды: вскипела в трех местах краска по половицам, выгорел рваными кусками половик, да обгорела стойка журналов под столом.
Запыхавшийся Валерик подтер воду и окинул приятеля подозрительным взглядом:
— Во, офонарел что ли? Пожег кого?
— Джордано Бруно! — скаламбурил Ростислав. Незадачливому квартиросъемщику приходилось отказывать в изяществе стиля, и Валерик счел за благо сообразить это.
— Лады, не злись. — Не стерпел-таки, зашелся в хохоте.
— Умора! Погляди на себя в зеркало... огнепоклонник! Вся рожа, как есть черная.
Заспешил:
— Мойся по шустрому, и бежим.
— Куда еще?
— Закудахтал! Договорились ведь...
— Когда и о чем мы с тобой договаривались?
Валерик деланно изумился:
— Мозги что ли у тебя пригорели? Про што вчера толковали? Ты Сашку спас? Спас! Сам пострадал из-за этого? Пострадал! Думаешь Наташка для тебя денег пожалеет? Ну-ну-ну, что ты на меня кидаешься?! Вот так всегда: бей своих, чтобы чужие боялись. — Его опять понесло.
— Что ли не вижу, что на мели. А за свое доброе дело брать не хочешь.
Ростислав безнадежно махнул рукой. Попробовал отделаться шуткой:
— У нас здравоохранение бесплатное,
— Во-во. Ты что в конце концов, наших бесплатных живодеров не знаешь? Ме-е-дики... Мне в прошлом месяце поясницу лечили... В процедурке сестра укол делала. Ка-а-ак пырнет иглой! Буравит она, значится, мне зад, а сама каляк-маляк с другой такой же свиристелкой. Ажно взвизгивает: «Бананы-то, бананы! Югославские... не то румынские. Такая вещь! Такая! Тут карман, тут карман, тут...» И хлопает себя подлючка по толстой заднице, жир уминает. А в моей — иголка хрустнула! Целых пять сантиметров застряло. Едва вытащили... пассатижами.
От столь наглой брехни Ростислав закусил полотенце. Прикрикнул: «Будешь чепушить! Если только у Наташи возьмешь деньги, не погляжу, что друг...» — Переменил тему.
Окончательно уверовав в свои способности, Пархомцев по-прежнему тревожился по поводу неведомого преследования. Вceми фибрами души он чувствовал опасность, подступающую все ближе и ближе. В то, что случаи: и с ложной телеграммой, и с украденным у него ножом, и с подброшенным ему посланием — являются чьим-то розыгрышем, в это больше не верилось. Взять хотя бы сегодня... Ключ от двери так и не отыскался. Он словно провалился сквозь землю. Опять же: до сего дня Ростислав не пользовался замком, и успел привыкнуть, что ключ просто торчал из замочной скважины, ничего не затворяя. Нет как не крути, а следовало поберечься.
Он раздумывал, не зная, можно ли положиться на Валерика в серьезном деле? Да и совестно была, а ну если навлечет на приятеля беду. Вот кое-что разнюхать Валерик, пожалуй, мог бы без лишнего риска.
И Валерик с энтузиазмом приступил к выяснению обстоятельств загадочных случаев. Но толку было чуть. Он обещал. Божился. Поднимал суету. И... только. Лишь сегодня принесенные им новости смогли заинтересовать временного хозяина ветхого особняка.
Про то, что Пархомцев спас Наташиного сына, уже знал весь поселок. То-то улица, на которой квартировал исцелитель, заметно оживилась. Всяк проходящий мимо дома, где обитал загадочный приезжий, сильно тянул шею, пытаясь заглянуть в окно. Пришлось плотно задернуть шторы. Кому приятно, когда его пытаются разглядывать подобно заморскому премьер-министру. Вполне вероятно, что последнему также досаждает любопытство зевак, но министерские проблемы мало задевали Ростислава. Впрочем, в назойливом обывательском любопытстве не было ничего особенного. Новое, и тревожное содержалось в слухах, собранных Валериком. Недаром он мялся и многое утаивал, не желая расстраивать друга.
Но серьезнее всяких слухов казалось иное — никто к Пархомцеву не заходил. Он уже приготовился к наплыву посетителей. Настроился не поддаваться на их мольбы и просьбы. Уж больно коварный дар ему достался: помогая другим, он убивал себя. Итак он ждал страждущих. Однако шли часы, но никто не приходил, никто не стучал в дверь. Очень, очень странно!
Прошли еще сутки...
Край неба наливался влажным вишневым цветом. Погода, судя по всему, портилась. Мошкара плясала над землей, облипала нагревшийся за день сруб, срывалась в воздух, собираясь в беззвучно вращающийся столб. Мошкариные столбы кружили по двору, кренились на ходу, выравнивались и рассыпались в прах. Редко взлаивали собаки, подавали голос, чтобы тут же замолчать, прикидывая: «А не дурак ли я? Коли гавкаю в такой вечер, когда даже зевнуть лень?».
Ростислав лежал, не зажигая света. Лежал, вглядываясь в красноватый сумрак за окном, слыша тяжелый ток крови в висках. Щемящая душу истома копилась по углам. Она окислялась в тревожном воздухе, обретая цвета побежалости. Яркие золотистые и пурпурные дона плавно переходили в фиолетовый, стекая в подпол глянцевито-смоляными струйками...
Налившуюся дрему прогнал скрип. «Почудилось?» Хлипкие половицы в сенях тоненько скрипели, заглушая вкрадчивые шаги.
«Где же нож?» Последнее время он хранил его под подушкой. Ростислав сидел в темноте, сжимая в руке оружие. Но даже наличие ножа мало успокаивало. Требовалось решить: способен ли он, пусть защищаясь, ударить ножом человека? Пархомцев сильно в этом сомневался. Оставалось надеяться, что один вид заостренного металла может остудить пыл нападающего. Ну, а если нападающий не один? Если их двое? И сейчас, в эту самую минуту, его сообщник затаился у окна?
Ледяные струйки побежали по спине Ростислава. С дрожью в теле он покосился в сторону ближайшего окна. В зачерненном сумерками стекле могло привидеться что угодно. Включить свет? Тогда с улицы он будет как на ладони. Хотя... Встречать опасных гостей без света ему тоже не улыбалось: не исключено, что стоящий за дверью обладал кошачьим зрением и хозяин квартиры окажется совершенно беззащитным.
— Кто там?! — Вспыхнувший свет ослепил стоящую в дверях Наташу.
— Извините... Я пришла... — Она растерянно застыла на пороге….
Чертовы рукава захлестнулись в узел.
— Да вы проходите. — Ростислав кое-как управился с рубашкой.
Пережитый страх вызвал приступ у него неловкости, суетливости. Он попытался взять себя в руки, отчего сделался вовсе смешным. Подвинутый им стул больно задел ногу гостьи, которая невольно поморщилась.
Молодая женщина была хороша: светло-кремовое, облегающее в талии платье самую малость полнило ладную фигурку. Возвращение к жизни сына придало ей врожденный блеск, тот самый, что не колет окружающим глаза и вместе с тем делает его обладательницу миловидной.
Стоило проклинать себя за мятое трико. Как Ростислав ни старался, пузыри на коленях проступали; он заметил улыбку на губах Наташи и окончательно расстроился.
— Что Саша?
— Ой! Вы знаете, — гостья посерьезнела, хотя улыбка нет-нет да и возвращалась к ней при виде сконфуженного хозяина. — Знаете, он совсем здоров и очень вам благодарен.
Здесь она на секунду сбилась, но все равно ему стало приятно.
Решив, что заминка осталась незамеченной, гостья продолжила с прежним воодушевлением:
-Сашок сейчас у соседей. Они часто меня выручают. — Горло ее перехватило. — Мы с Сашком для вас... все-все-все!!! Возьмите, пожалуйста...
— Она протянула разноцветный рулончик. У Пархомцева зарделись щеки, лоб сделался горячим.
— Уберите! Не надо мне денег! Ничего не надо! Вы что!?
Обозлился:
— А Валерику я морду набью.
— Это не из-за него: он не говорил...
Обоим стало неуютно.
Беспричинная, вместе с тем конфузливая улыбка, невпопад скользившая по Наташиному лицу, угнетала Пархомцева.
— Можно я вас поцелую?
Разом пересохло во рту. Он качнулся навстречу, когда она приблизилась вплотную, а затем потянулась вверх, привстав на носки, чтобы найти его губы...
Ростислава била дрожь. Он гладил послушные плечи женщины, отвечал на поцелуи, забыв обо всем. «Пожалуйста... свет». Мигнув, погасла лампа.
В окутавшей его тьме прошелестело сбрасываемое платье, теплые руки нашли его, и, пальцы Ростислава коснулись гладкой обнаженной кожи...
Предутренний мрак набирал силу, когда Наташа стала, собираться. Ночь сблизила их, слила в единое целое и он тоскливо ждал, что опять останется в одиночестве. Она почувствовала его состояние, словно подслушала мысли, шепнула улыбчиво: «Завтра будешь ждать?» Мягкие пряди волос щекотнули его щеку.
Вряд ли она видела, как он готовно, поспешно даже, кивнул, но угадала ответ, потому что склонилась над изголовьем, и в поцелуе резанула зубами изнанку губ. Она хотела повторить, промахнулась, попала ему в нос. Хихикнула.
— Я смешон?
— Почему вы так думаете?
— Не вы, а ты. Это во-первых. — Он обнял невидимые бедра.
— Ну хорошо, ты. А во-вторых?
— Во-вторых, глядя на меня, ты каждый раз улыбаешься. Темнота прыснула смехом:
— У вас, ой! У тебя рубашка была застегнута не на те пуговицы.
Призналась:
— Я тебя страх как боялась, но увидела рубашку... Спасибо ей, иначе и поцеловать не насмелилась бы.
Вот-те раз! Сообрази-ка, где найдешь, а где потеряешь? «Доволен?» — обратился к себе Ростислав. «Что называется, и капитал приобрести и невинность соблюсти» Деньги ты конечно не взял, но на большую жертву с Наташиной стороны согласился весьма охотно. Уж не думаешь ли ты, что молодая интересная женщина скоропостижно в тебя влюбилась? Тэ сэзеть, любовь с первого взгляда? Чушь собачья! Просто Наташа поняла, в чем он нуждался больше всего. Поняла и... пожалела…
Жалким и униженным видел себя Ростислав. Он казнился всю ночь, нетерпеливо ожидая утра, за которым последует мучительно долгий день, но зато потом наступит вечер и снова придет Наташа.
А ночь не кончалась. Напротив, тьма в комнате сгустилась сильней, и будто кто-то чужой задышал во тьме. Кешка в сенях молчал. Но хозяин дома мог поклясться, что кто-то пробрался в комнату и этот кто-то не мог быть возвратившейся Наташей: неизвестный дышал шумно, всхрипывая траченными легкими.
— Спокойно, Пархомцев, не дергайтесь, — раздалось в темноте. Так шелестит ножовочное полотно, врезаясь в податливый металл. — Стоп! Вот это уже ни к чему!
Хватка ночного визитера была крепкой. Костяная ручка выпала из онемевших пальцев лежащего. Неизвестный в самом деле обладал отличным зрением, однако Ростислав был уверен, что гость носит очки: в верхней части неясной фигуры замечался блеск стекла.
— Что такое?! Кто вы?!
— Объясню. Обязательно объясню. А пока ответьте, кто здесь был до меня?
— Не ваше дело! — Ростислав собрался с духом.
— Хм, скверная привычка — грубить старшим. — Судя по всему неизвестный старался быть покладистым.
— И все же вам придется ответить на мой вопрос, иначе разговора не получится.
Смешная угроза. Нашел чем пугать.
— Я вас не звал, и в разговоре не нуждаюсь!
— Логично. Однако, если я сейчас уйду, то в проигрыше окажетесь вы, а не я. — Незнакомец заговорил жестко.
Подобный тон не располагал к колебаниям. Было ясно, что избежать беседы с ночным посетителем не удастся и Ростислав решил подчиниться. В конце концов, кто знает, возможно предстоящий разговор прольет свет на некоторые из предыдущих событий. Ведь не лезут посреди ночи в чужую квартиру лишь затем, чтобы одолжится у хозяина трешкой до получки.
— Итак?,
— Поймите, не знаю как вас там? У меня находился человек, назвать которого — было бы непорядочно с моей стороны.
— Неужели? — легкая ирония слышалась в голосе гостя. — Похоже речь идет о женщине? Тогда я пас. Вы правы, чужие сердечные тайны меня не касаются. Но это до тех пор, пока они согласуются с моими собственными интересами. Ибо я заинтересован в вашем полном участии к предложению, с которым я пришел сюда.
Ого! Может гость и имеет слабости, но скромность среди них отсутствует. При эдаких претензиях неизвестного Пархомцеву доследует поберечься.
— В чем должно выразиться мое участие?
— Об этом чуть позже. Вначале не мешало бы вас в некотором роде подготовить.
— Кто вы?
— Кто я? Сложный вопрос. Вас удовлетворит, если отвечу кратко — я человек Идеи, способный сделать счастливыми большинство людей...
Многообещающее начало.
— ... Люди, —продолжал невидимый гость, —малопригодный материал для претворения Идеи на практике. Слишком высок процент человеческого шлака в обществе.
Ростислав насторожился:
— Шлака?
— Именно! Шлака, который нужно удалить, Да-да, молодой — человек, удалить посредством самого широкого насилия. «Когда мысль держится на насилии, принципиально и психологически свободном, не связанным никакими законами, ограниченными, препонами, тогда область возможного действия расширяются до гигантских размеров», — гость явно цитировал.
— Фашизм!
— Бросьте игру в термины, Пархомцев, — оратор начинал сердиться. — Здесь дефиниции неуместны. Беда не в насилии. Беда в том, что наши предтечи остановились на полпути, оставаясь рабами ими же надуманной морали. Они не сумели подняться над застарелыми человеческими слабостями, и раз за разом предали Идею. Нельзя стоять по колено в крови, нужно: или утонуть в ней, или достигнуть другого берега, переродившись на пути. Мои прежние соратники не сумели этого. Пришлось выбирать других, но человеческая жизнь недопустимо коротка...
«Он сумасшедший! Скорее бы рассвело... В крайнем случае его можно отшвырнуть ногами», — лихорадочно размышлял Ростислав. Он подобрал ноги, изготовясь к защите. «Главное — не допустить его к ножу.»
«Хорошая мысля приходит опосля». Время Ростиславом было упущено. Зловещий гость уже завладел оружием.
— Где вы взяли этот нож, Пархомцев?
«Лучше его не злить. Надо еще потянуть время, скоро утро, а там, глядишь, забежит. Валерик и мы утихомирим безумного».
— Дядин нож? Я нашел его в детстве... на родине... в распадке. Ходил по грибы и...
— Любопытно! Весьма любопытно...
На улице начинало брезжить. В призрачном свете, проникающем через окно, незнакомец выглядел старым, чего нельзя было сказать о его голосе. К сожалению лицо гостя по-прежнему оставалось, в тени, отчетливо виднелись только металлическая оправа очков, да острый выступающий вперед подбородок.
Ночной гость повертел в руках нож, сильно надавил копытце и довернул его на девяносто градусов. К удивлению владельца ножа рукоятка издала щелчок и копытце сдвинулось. Под ним ощутилась полость, так как, палец незнакомца на треть проник в ручку. В воздухе остро и пряно запахло.
— Мумие. Редкая разновидность горной смолы. Впрочем... этого следовало ожидать. — Незнакомец бросил оружие в ноги вздрогнувшего хозяина.
Теперь можно было переходить в наступление. Без оружия гость казался таким безвредным, таким недотепистым, — ну просто слабогрудый бухгалтер на пенсии. Уже решившись было, Пархомцев вспомнил железную хватку незнакомца и остыл. Лучше повременить. Неизвестно еще, что представляет собой этот сумасшедший тип на самом деле. Нередки случаи, когда психически больной человек проявляет недюжинную силу, вопреки тщедушному на вид телосложению, А уж этот-то — непременно псих!
— Откуда вы знаете про секрет дядиного ножа?
Безумец не выказал смущения:
— Приходилось раньше видеть подобные игрушки. Опять же не -стану отрицать, мне известно и многое Другое, интересующее вас. Но сейчас рассказывать что-либо преждевременно.
— Настаивать не имело смысла. Пархомцев пожал плечами в знак вынужденного согласия. Его непритязательность тотчас дала плоды: собеседник сделался словоохотливым:
— Поверьте, мне чужд дилетантизм в истории. Мне претят наивные байки о мирном переустройстве общества. Претят не оттого, что я кровожаден, но в силу принципиальной несогласности. Ненасильственные реформы да перестройки — перекрас, да перепляс для шутов демократии. Коренное изменение общества нуждается в быстрой смене поколений. Быстрая смена — скорое переустройство. И долой шлак! Ведь сами переустроители живут и формируются, чтобы изменить. Ломая старое, они сами являются частью этого хлама и влекут его за собой в будущее. В облике разглагольствующего визитера начало проступать нечто знакомое: и очки, и бриджи, заправленные в узкие голенища хромовых сапог, и пронзительные в полумраке глаза...
— Возьмите новоселов. Вселите их в архиблагоустроенную, ультрасовременную квартиру, они и туда потащат навыки прежнего быта: мелкие склоки, духовную неопрятность — всю коммунальную дрянь...
— Такова диалектика. Ее славят. С ней носятся как с писаной торбой, да и... в жесткий чехол ее! А эта дама не терпит корсетов. Ей любой чехол жмет в талии. Она, молодой человек, вроде светлого кванта, существует пока движется.
Ростислав не утерпел:
— А вы — гений? Вы знаете безошибочный способ совершенствования людей?
— Напрасно, напрасно иронизируете. Ну, на что вы нынешние надеетесь? На то, что всякое лыко само в строку ляжет? У вас разбойник Разин едва ли не в марксистах числится, горластое вече выдается за вершину демократии, а горлодратие записных крикунов трактуется за предел гласности. Ублюдочные воплецы! Вырожденцы! Вот вас!
Незнакомец явно зарвался, но быстро нашел силы остановиться.
— Способ такой есть. Нужна личность со стороны. Личность иного времени. Нынешние сами себе — по пояс. Где взять новую личность? Из прошлого! Да-да! Нельзя родиться дважды, но можно… воскреснуть.
«Нет, он точно... того», Ростислав сел, свесив голые ноги, будто невзначай придвинулся к ножу.
— Извините, но вы меня не убедили. И причем здесь я?
— Думайте, Пархомцев, думайте. — У незнакомца замечалась неприятная привычка — всякий раз обращаться к собеседнику по фамилии. — Думайте... Боюсь лишь, у Вас мало времени для раздумий. Так спешите присоединиться к нам, за нами будущее.
— А вы что же — пророк? — Собеседник незнакомца вспыхнул. — По-моему пророки несвоевременны во все времена. Справедливость их пророчеств обнаруживается непременно с запозданием. Да и как иначе. Предсказателей всегда больше, чем требуется и не многие из них вещают истину. Ко всему — истинность всякого пророчества способно выявить только будущее, когда в самом пророчестве уже нет нужды. Так есть ли человечеству необходимость в пророках, и во всей великой шумихе вокруг них? Есть ли нужда в пророчествах, хотя бы, того же Христа, не говоря уж о вас, если цель подобных предсказаний недостижима для ныне живущих? Для меня, например, ваши предвидения подросту неинтересны...
Гость ушел, а Ростислав остался ломать голову над его словами. Была очевидна ненормальность посетителя и все-таки... Для безумного он был чересчур сообразителен: в его высказываниях улавливалась железная последовательность, хотя слушателем не постигалась скрытая суть сказанного им. Чего он добивался от Ростислава? Как сказал очкастый перед уходом: «То, что нам нужно от вас — нельзя украсть или отобрать». Что невозможно отобрать или украсть у человека? Неужто ее он имел в виду? Бред какой-то.
«Если хочешь помочь правде,
Распознай ложь».
«Похоже придется стряхивать пыль с ушей». Вообще-то Валерику было не до шуток, но на картофельной ботве действительно скопилось столько пыли, аж свербило в носу. Укрытие оказалось не ахти, однако приходилось терпеть и надеяться, что полный зад не выступает над ботвой.
Он не забыл просьбу приятеля, и добрую часть дня выслеживал очкастого незнакомцу, от самых дверей дома, где квартировал Ростислав, до окраины поселка.
Вначале «очкастый змей» забился в покинутый склад на окраине станционного поселка и проторчал там часа три. Подобраться ближе, чтобы заглянуть внутрь, представлялось рискованным предприятием: в складе таился сумрак и рассмотреть что-либо, находясь на улице залитой лучами полуденного солнца, вряд ли бы удалось, зато сам Валерик оказался бы как на ладони.
Ближе к обеду незнакомец выбрался наружу с заспанной рожей и начал, таскаться по задворкам, тщательно избегая встреч со станционными обитателями.
Моцион выслеживаемого затянулся и, если он нагуливал аппетит, то ему давно полагалось проголодаться. У. Валерика, например, уже урчало в животе. С раннего утра он не проглотил даже маковой росинки, если не считать тройки переспелых огурцов, съеденных «на халяву», когда он в несчетный раз перебегал огороды в погоне за незнакомцем. Здоровенные огурцы отливали краснотой, имели дряблое, нутро и чуть кислили. От съеденных семенников звуки в Валериковой утробе превратились в стоны, словно кишка кишке била по башке. Приходилось опасаться, что утробный рев выдаст Валерика очкастому старику.
A излишняя осторожность в самом деле не помешала бы. Натренированный жест, которым «очкарик» касался пиджака на левой стороне груди, цепко озираясь при том, очень и очень не нравилось идущему следом, «Холера. Неужели старый змей при оружии?» От подобной мысли захватывало дух. И не будь приятель Пархомцева столь азартен, он наверное бросил бы опасное хождение по пятам незнакомца.
Валерик вновь раздвинул в стороны бугристые картофельные стебли. «Очкарик» уходил за сопку. Поверх склона еще выступала его непокрытая голова, увенчанная плешью, но тело старика скрылось из вида.
Валерик подтянулся и перебросил тело через жердь, прибитую на уровне пояса к столбам; которые окружали картофельное поле.
Когда он обежал край сопки, фигура впереди уже исчезла за длинной полосой кустов, которая тянулась, изредка прерываясь, берегом реки.
Преследователь выругался от досады: место перед ним было ровное словно столешница, и слева, и справа глаз не находил ничего, что могло послужить хотя бы видимостью укрытия. Валерик выругался еще, а затем решился.
С беззаботным видом он двинулся полем в направлении обратном тому, в котором исчез незнакомец. Валерик двигался не спеша помахивая на ходу подобранным с земли прутиком и насвистывал первую пришедшую на ум мелодию. От волнения он не чувствовал жары, напротив, его знобило, а внизу жива копилась слабость. Он шел, а кусты, казалось, двигались одновременно с ним, ничуть не приближаясь...
Валерик прорвался через заросли. Он наверстывал упущение и шел напролом, подминая гибкие прутья к воде. Впрочем между водой и кустами оставался проход, достаточно широкий для одиночного пешехода.
Неизвестный не мог раствориться бесследно, и, действительно отпечатки его сапог отыскались быстро. Шаг у «очкарика» был мелкий, но отчетливый: узкие остроконечные вмятины следов шли одна за другой, нигде не сбиваясь.
«Однако, ходок». Такой размеренной поступью, какой владеет обладатель остроносной обуви, обычно проходят большие расстояния, и преследователь вздохнул, готовый к затяжной ходьбе.
Время от времени он нагибался, тщательно всматриваясь, едва ли ни обнюхивая землю. Так ведет себя мышкующая лисица: те же ухватки, та же готовность к внезапному прыжку, схожая устремленность глаз.
Холодная вода приятно освежила рот. Валерик оскользнулся спешке, чувствительно ударился коленом. Пить хотелось долго, но живительную влагу, сбегающую от самых белков, не наглотаешься взахлеб. Приходилось цедить помалу, терпя зубную ломоту и теряя драгоценные минуты.
Задержка у воды оказалась однако как нельзя кстати. Незнакомец был в пяти метрах от Валерика и, продолжи последний свой бег, уткнулся бы носом прямо меж лопаток преследуемого.
... Ивовые заросли во всю ширину рассекала прогалина, словно здесь проехал дорожный каток. Причина разрыва зарослей была необъяснимой и предполагать можно было всякое. Добро бы тут изо дня в день ходила скотина или почву прохладило бы шалым огнем, напитало бы солью, но нет — ни того, ни другого, ни третьего.
Много загадочного имеется в отчей земле. В иных краях и на суглинке овощ да хлеб родится на диво. На том суглинке, опять же, рабочих рук раз-два и обчелся. А на нашей святой земле-великомученице во сто крат больше тружеников, агрономами гектары обставлены, за каждым пахарем по два доглядчика ходит... Ан! Все не в нюх! Да неужто только в числе доглядчиков дело? Коли так, то пиши пропало. Их не убавить. Не без причины умный человек сказал: «Бюрократов сокращать, что ворон пугать. Погалдят, и на новом месте сядут...».
«Очкарик» стоял в прогалине, спиной к берегу. Прислушивался.
Валерик упал на живот, точно ударенный шершнем. Отполз назад. Хрящеватые, почти без мочек, уши неизвестного уловили подозрительный звук, однако в следующее мгновение из тальниковой чаши, по-кошачьи взвизгнув, выметалась крупная птица с узким длинным хвостом. Следом просыпалось сорочье тарахтенье.
Подскочившие было плечи «очкарика» расслабились, а в его опустившейся правой, руке Валерик со страхом увидел револьвер. Перепуганный до тошноты, он что есть мочи прижался к земле, даже заныли ребра. Лежа в тени кустов, он ощущал себя объемной, превосходной мишенью и, содрогаясь, ждал выстрела.
Но выстрела не было, а носки хромовых сапог вернулись в прежнее положение.
Минут пять Валерик крыл по-черному неизвестного. Он уже ненавидел незнакомца и клялся, несмотря ни на что, докопаться до секретов «старого змея», «Он у меня в сапогах провернется», — раскалялся новоявленный следопыт. Злость лишила его боязни, он продолжил преследование, изредка нагибаясь и замирая, когда останавливался неизвестный. Постепенно Валерик обнаглел до такой степени, что едва не наступал на пятки впереди идущему.
Местность вокруг менялась. Оставалось даваться диву, как «очкарик» находил дорогу среди безымянных сопок, похожих друг на друга, словно шайбы, нарезанные одним и тем же резцом. Крутые склоны сопок серебрились картинками полыни, остальная площадь щетинилась кремнистыми иглами невысокой травы, названия которой Валерик не знал. Дно межсопочных, впадин состояло из чистейшего, мелкозернистого песка. В сухую погоду: в таком песке. Вязнет нога, однако слабенький дождь, любая морось придает ему твердость асфальта и шагать по песчаному грунту делается сплошным удовольствием.
За добрых два часа блужданий им не встретилось ни единой души. Охотников полюбоваться на окружающий ландшафт было меньше чем никого. У Валерика горели пятки. Урчание в животе стихло, вместо него слышалось тонкое попискивание, словно целая дюжина живых цыплят разместилась; в желудке и жалобно подавала голоса при ходьбе. Валерик грустно думал о том, что изображать собой инкубатор — малоподходящее занятие для здоровенного мужика. Зато его врагу долгий пост был нипочем. Незаметно для себя Валерик попал в сырую низину. Большие лепешки кукушкина льна приятно пружинили под ногами. Противоположный край низины встретил изгородью из багульника и дурники. Не приметь он проход, которым преодолел заросли и знакомец, пришлось бы поблуждать.
Низина сменилась подъемом. Последив взглядом, в каком правлении удобней продолжить преследование, утомленный Валерик посмотрел вниз...
Больно стянуло щеки, густая слюна наполнила рот — по всему склону краснела застоявшаяся клубника. И какая! Такая ягода могла лишь присниться — величиной с грецкий орех! И была это не во сне, а наяву, ему вовсе не казалось. «Кому кажется, тот крестится. Он же крестится не стал, а прямо на ходу начал подбирать и проглатывать душистые сладкие ягоды.
Как Валерик ни жадничал, больше двух клубничек во рту одновременно не помещалось. Липкий сок смачивал губы, пятнал руки, подбородок и грудь голубой сорочки. Через какие-то десять минут пожиратель ягоды настолько пропитался клубничным ароматом, настолько вымазался в густом растворе фруктозы, что за ним увязалось с десяток яростно атакующих пчел. Когда пчелы, удовольствовавшись легким успехом, оставили Валерика, на нем не было живого места: одно ухо пламенело потолстев и развернувшись под девяносто градусов, левый глаз полностью заплыл, впору спички подставлять. Такого унижения Валерик давно не испытывал. Заодно он успел убедиться в ложности устоявшегося мифа: пчелы вовсе не думали погибать после укуса. Наоборот, потраченный яд, похоже, придал им дополнительную порцию бодрости: они жалили, отлетали и возвращались вновь, радостно жужжа. В то время, как жертва стонала от боли, ярости и удивления: гигантизм местных пчел не уступал клубничному.
Из-за ослепшего глаза он не заметил ловушки и растянулся, чувствительно ударившись больной коленкой. Досужая брехня, что снаряды не попадают дважды в одно и тоже место. «Бедному Ванюшке везде одни камушки» — вот уж справедливо. Увалень застонал от досады. Ловушка была — своеобразной: в густой траве змеились мелкие витки проржавевшей колючей проволоки. Поодаль догнивал упавший от старости столб. Жестянка на вершине столба полысела от дождей и солнца, так что надпись на ней не читалась. Хорошо сохранилось лишь изображение черепа, поверх скрещенных, не то говяжьих, то бараньих мослов. Во всяком случае ничего берцово-человечьего в тех нарисованных мослах не было, а череп больше напоминал кошачий.
Череп Валерика смутил. Да и весь рисунок разительно походил на: «Не влезай, убьет!» «Что за лабуда?» Убиваться ему было рановато, но лезть «за колючку» необходимо. Оставалось уповать на любителя хромовых сапог. Что-то он не походил на самоубийцу. «Очкарик» скорее успокоит десяток других, чем покончит с собой. Вряд ли он обзавелся револьвером для того, чтобы свести счеты с собственной жизнью.
Трава по другую сторону ограждения ничем не отличалась от зелени на остальном склоне: лопушистые листы, яркий сочный цвет. Одинаковые и тут и там запахи струились в теплом воздухе. И сколько Валерик ни сравнивал, ничего нового за «колючкой» не было. Те же, обезобразившие физиономию Валерика, пчелы беззаботно улетели вверх по склону, где танцевали неприлично крупные, но убедительно невредимые бабочки.
Сразу за вершиной сопки склон обрывался отвесно. Обширный котлован внизу напоминал, собой отработанный карьер.
Груды бута и щебня слежались, окрасились снаружи разноцветными кружками лишайников. Прямо под обрывом валялась искореженная вагонетка. Опрокинутая вверх колесами, она походила на дохлого жука. В отсутствие рельсов, бывшая узкоколейка едва угадывалась редкими черточками полузасыпанных, полузаросших дерниной березовых шпал. С устройством пути здесь в свое время не мудрили: березовые чурки укладывались как попало. Устроителей не смущало даже наличие коры на примитивных шпалах, с кучеряво взлохматившейся по периметру берестой. Можно было подумать, что дорога устраивалась на день-другой, не больше.
Глубина карьера казалась значительной и мелкие детали на дне его плохо просматривались. Но не попадался на глаза и «очкарик», обладавший примечательной внешностью, хорошо затаиться для которого в пустом карьере — было делом невозможным.
Из предосторожности Валерик решил спуститься в обход имеющейся дороги. Перед спуском он полежал, затаив дыхание, и, цепко ощупывая взглядом каждый бугорок в карьере, каждый подозрительный выступ на его стенах. Но неизвестный словно растаял.
Спуск прошел быстро. Правда, подкашивалась ушибленная нога, но это был сущий пустяк по сравнению с тем, что могло ожидать Валерика, в случае обнаружения его незнакомцем с револьвером.
Вблизи карьерное пространство смотрелось захламленным; лет двадцать здесь не было живых, деятельных рук. А в отсутствие человека природа навела свойственный ей порядок. Природе не достало зим и лет, чтобы полностью исправить безобразие, совершенное грубыми механизмами и взрывчаткой. Зато она преуспела в другом, — замаскировала картину разрушения: где-то присыпала слоем пыли, смочила, заплела корневищами травы. Доброго слова заслуживал подорожник. Там, где он вырос, место выглядело вовсе нетронутым.
Валерик покрутился, у вагонетки, уже без внимания озирая каменную стену, с вершины которой спустился. Глянул еще... подобрался, как перед прыжком. Центральная часть стены была из бетона. Мало отличная от естественной породы, не имеющая правильных очертаний площадка выделялась зольно-белесым цветом затвердевшей смеси песка, гравия и цемента низкого качества. По причине скверного состава бетонная кладка кое-где обшелушилась и была корявой. Некогда заподлицо оштукатуренная дверь выказывала, рассекреченный узкой щелью вход.
Бронзовые петли двери сработали. Он сунулся внутрь, ожидая окрика, удара, чего-то еще. Тьма встретила тишиной и затхлостью.
Тотчас за порогом ощущался каменный пол, не успевший впрочем выветриться, и оттого гладкий. Помещение внутри имело небольшой объем, звуки шагов глохли, не успев возникнуть. Вытянутые в стороны руки подтвердили догадку: кончики пальцев касались противоположных стенок комнаты? коридора? тоннеля? Этого он определить не мог.
Он брел в темноте, держа правую руку наготове. Свободное пространство замыкалось новой дверью, тоже металлической, на таких же массивных петлях, что и наружная, от которой Валерика отделяло пятнадцать шагов.
Он нашел ручку и потянул на себя. Толстая железная пластина чуть помедлила и плавно отошла. Перед глазами забрезжил далекий свет. «Следующий проход тянулся под тупым углом к предыдущему. Малопривычный воздух заполнял искусственную щель, вырубленную в толще породы. В воздухе было много озона, или чего-то еще, придающего свежести. Это было лучше, чем обычная подземная затхлость вначале. По крайней мере отсутствовала опасность задохнуться.
Последний проход вел в комнату. Именно из комнаты выходил красноватый свет, замеченный Валериком. Источником света служило два десятка горящих свечей, расставленных определенным образом: на длинном, под бордовым сукном столе, в карминного цвета нишах, на вишневом полу. Алое, красное, багровое, пунцово-золотистое присутствовало всюду, отчего комната казалась раскаленной от жара, словно засыпанной грудами пламенеющих угольев.
«Во дурдом!» — подумал Валерик. «Ну чудики». Действительно четверо сидящих в комнате мужчин своим обликом могли вызвать столбняк: ярко-малиновые кители и галифе сливались с окружающим фоном, сверкающая кожа сапог — и та пламенела, невзирая на черноту кожи. Белыми были только полумаски на лицах четверки. В холодной белизне которых отражались оранжевые струи от горящих свечей.
Одним из ряженых был «очкарик». Переодетый, он утерял индивидуальность и стал безымянной куклой, участвующей в каком-то нелепом представлении. Незаметное появление Валерика пришлось в самый разгар выступления высокого малиновомундирника, которого выдавала знакомая плешь.
— ... сделано многое. И сделано ничтожно мало.
Прочие собеседники отреагировали без досады:
— Чего еще ждем?
— Пора, пора, товарищи, заняться основным объектом.
— ... чушь! Какова вероятность успеха?
Плешивый высоко поднял руку. Язычки огня на свечах метнулись в разные стороны.
— Вероятность стопроцентная. Наши люди консультировались с лучшими специалистами. Видите ли, товарищи, я не разбираюсь в разной там анатомии — физиологии, в белках, сахарах и углеводах. Мне это ни к чему... — В комнате одобрительно посмеялись.
— ... Но спецам можно верить. До определенной степени... До определенной степени. Тут уж, — как говорится, — доверяй, хотя и ...проверяй. Ответственно заявляю, никто из мозгачей — ученых ни слухом, ни духом не подозревает о настоящей цели заданных нами вопросов. Сидящий слева от стола чернявый привлек к себе внимание коллег:
— А нельзя ли консультантов несколько... э-э-э, проигнорировать, что ли? Во избежание... на будущее, э-э-э?
Плешивый незнакомец помотал головой.
Заверил:
— До сего дня такой необходимости не было. А впрочем стоит подумать. Береженого бог бережет. И так... Результат получается весьма обнадеживающий. Я не стану зачитывать, слово в слово, ученую муру. Доложу кратко, по существу. Нам достаточно иметь всего-навсего одну клетку. Его, к примеру, костные ткани, и он возродится; как... как птица Феникс.
Каламбур имел успех. От гогота, хихиканья, ржанья перегретый густо-красный воздух заколебался и выплеснулся в коридор. Затопил ноги стоящего за углом Валерика до колен.
— В одной — единственной Его клетке содержатся все необходимые для восстановления личности сведения, иначе говоря, имеется полная информация, потребная для реконструкции его организма.
— Он будет помнить все, что было с Ним в прошлом? — тройка слушателей напряглась. И получив успокоительный ответ, расслабилась вновь.
— Будет. Будет. Но не исключаются отдельные подчистки памяти... В разумных пределах, конечно.
Самый полный из сидящих за столом, мокрый от обильного пота, тактично переменил тему:
— А каковы успехи по вербовке «воскресителя»? Лично я сомневаюсь, что ваш Пархомцев согласится пожертвовать собой ради Идеи. — Скорбно вздохнул. — Нынешняя молодежь не любит жертвенности. Высокие чувства для нее — пустой звук. Вам удалось полностью изолировать Пархомцева?
Незнакомец поднялся. Стал расхаживать взад-вперед. Слушатели провожали его глазами. Сейчас, когда они согласно крутили шеями, трое ряженых здорово напоминали галчат, ожидающих корма. Невольный свидетель загадочного обряда потешался про себя. А «очкарик» продолжал:
— Из близких родственников Пархомцева в живых осталась только прабабка. Друзей-приятелей у него, — Валерик навострил уши, — двое. Обоих мы держим под контролем.
— «Сука»! — скрывающийся в темноте парень сжал кулаки.
А толстяк не унимался:
— Нам понравился способ, с помощью которого вы в свое время устранили (простите, у нас здесь все свои, и я позволю себе точные формулировки) папашу будущего воскресителя. Надеюсь, что и в дальнейшем...
— Вы надеетесь! Думаете мне легко? Да, отец Пархомцева был, по счастью, старомоден. А сейчас? Кто ныне стыдится за своих отцов?! Кто, тем более, умирает позором родителей, где они — совето-послушные потомки?..
Незнакомец морализовал минут десять. Разглагольствовать он мог до бесконечности. Приличествующая его внешности манера держать себя покинула любителя хромовых сапог.
Закрывшись белой полумаской, ой словно обрел настоящее лицо — лицо цинично-назидающего ментора.
Слушать пустые сентенции надоело. Потрепаться Валерик уважал сам, а от чужих нравоучений его тошнило. Декламаторство плешивого оратора отдавало школьными годами. От такого можно было сбеситься.
Шли минуты за минутами, ноги Валерика медленно чугунели. Травмированная коленная чашечка ощущалась горячей гирей. А из красной комнаты сыпались и сыпались напыщенные, придуманные горячечным воображением слова.
— ... пусть тело Его, крадучись; вынесли из отведенного историей места. Пусть обратили в прах. Пусть замуровали под камнем. Он восстанет из праха и одолеет врагов, ибо он вечен, как нетленна Идея, создавшая Его...
«Никак они молятся?» Человек во тьме коридора опустился на корточки. С трудом удержался от стона — стрельнуло занемевшее колено.
— ... Вождь с нами! — глава собрания замолчал. В следующее мгновение Валерик содрогнулся: в наступившей тишине явственно прозвучал хруст раздавленного стекла под сто каблуками. Только теперь он разглядел, что каменный пол коридора не был чистым, поверх пыльного слоя валялись клочья старых бумаг, колотые электролампочки, тряпичные лоскуты...
Он выпрямился, и вовремя. В помещении со свечами поднялась легкая паника. Не оставалось, сомнений, что предательский хруст услышали. Толстяк завизжал первым:
— Там кто-то есть!
На площади ряженых раздались щелчки, ранее не имевший дела с оружием, Валерик не то подсознанием, не то посредством какого-то, доселе дремавшего в нем, органа проникся — взводились курки.
Стараясь идти бесшумно, он начал отступать задом. Когда в пламенеющем проеме вырос силуэт плешивого незнакомца, до поворота было совсем близко.
И вновь Валерика выручила интуиция. Кто бы мог объяснить его очередной маневр, если он сам не знал причины, по которой вдруг присел…
Дребезжащий грохот прокатился по тоннелю...
Пули с завыванием отражались от стен, чиркали по шершавому потолку, подскакивали, встретившись с полом. Всё вокруг гудело, казалось, ревел камень, шевелилась бетонная толща, расседалась, шурша, скалываясь и стеная. Барабанные перепонки разрывало болью…
Еще не стих обвальный шум выстрелов, а виновник переполоха, где ползком, где на четвереньках, достиг выхода и стремглав взлетел по откосу.
В изнеможении он распростерся неподалеку от карьера. До него доносились встревоженные крики; вскоре перешедшие в негромкую перекличку. Голоса то приближались; то удалялись, а он оставался неподвижен, жадно насыщая загнанные легкие кислородом.
Из близкого разговора сделалось ясно: малиновомундирники успокоились, решив, что тревога вызвана случайно забежавшим в тоннель животным и обыскивали местность больше для порядка. Они уже посмеивались, над собственным испугом и спрашивали у плешивого незнакомца, скольких собак он успел продырявить, опустошив барабан револьвера? Плешивый нехотя отругивался.
Наступил момент, когда голоса полностью смолкли. Валерик поднялся. Вокруг не было ни души. Предзакатное светило закидало ложбины теплым сумраком. Затихло жужжание пчел и шмелей. Пестрядь клубничного склона обрела ровный бурый тон. Дорога к дому намечалась смутным существованием реки у самого горизонта. И Валерик потащился туда, петляя и нет-нет сбиваясь с верного направления...
* * *
Петухи взяли скверную моду: едва начнется ночь, а они уже кличут утро. Ростислав жил короткими и ослепительными, словно дуга электрического замыкания, часами. Они с Наташей расставались все позже и позже, почти белым днем. Его радовало, что она уходила нехотя. Он ошалел от этой ее неохотности и не желал замечать, какими взглядами провожали Наташу поселковые старожилки. Как оживлялись женщины у колонки, при виде его самого, как заполошно, точно крылья пуганого воронья, трепыхались за их спинами коромысла. Будь полная воля местных сударушек, лежать бы Ростиславу с Наташей у водоразборной колонки грудой перемытых костей. Но Наташа не прятала улыбки, и он стал забывать прежние страхи. Зловещие события отходили в прошлое, делались далёкими, будто кустик полыни у границы степи — еле различимая черточка, зазубринка-точка на бледно-аметистовом полотне.
Она целовала часто, не насыщаясь. Ростислав не поспевая за ней, сбивался, падал навзничь на кровать, принимая в объятия ее легкое тело.
На третью ночь Наташа сунулась разгоряченным лицом к его уху и шепнула: «Любишь?» Он поддразнил: «Конечно... нет». Смеясь, она дернула его за ухо: «Любишь, любишь! Охота врать?» Ростислав приподнялся на локте: «Знаешь... давай... поженимся». Смех стал громче.
— Вот те раз! А мы что делаем?
— Не о том я...
Она посерьезнела.
— Я ведь не одна.
Такой случай грех было упускать:
— Смотри-ка, а я и не подозревал. Ну тогда... Разумеется. Тогда не стоит.
— Ой, Ростик, не прогадай. Слишком легко отказываешься. Могу и сама навязаться. Придется тебе убегать от меня.
Ростислав с минуту помолчал. Его переполняло счастьем:
— От тебя не побегу.
— Зайчишка ты...
Она его поддразнивала, нашептывала ему колкости, а он только жмурился в ответ впервые за многие месяцы чувствуя себя умиротворенным.
... Валерик объявился взвинченным; как с цепи сорвался. От него наносило многодневным винным перегаром, и заскочил он к Ростиславу — потертый, истасканный, под глазами изжелта-зеленые тени. Казалось, не с улицы зашел, а вылез из какого-то затхлого чулана, где тьма и плесень, и паутина, а по углам отдает мышиной мочой и чем-то кислым.
При виде замызганного приятеля Пархомцев сделал большие глаза. На что тот сразу же огрызнулся:
Мне бы ваши заботы!
Потупился:
— Говорят, вы с Талькой подженились?
Наступила очередь смутиться Ростиславу:
— Ты знаешь... не очень. Касаемо Наташи мог бы и поделикатней...
— Да мне собственно бара-бир. И. без ваших дел голова болит... Я ведь просто... к слову, помянул.
Погонял желваки:
— Сегодня повстречал твою супругу... Только с поезда слез, а она навстречу. Свирепая, как тигра неразлинованная. Аж перекосило всю.
Валерик, похоже, представил себе описываемую сцену и захихикал. Откуда-то в его лице появилось злорадство. Значит бродила в нем похмельная злость, зрела бесприцельная досада на окружающий мир, если прогладывали в опухших глазах остервенело-мятежные светляки.
— Передай, говорит, — продолжал он, — своему дружку... Ха! Она так шипела, будто хотела проглотить тебя сырьем... Передай, мол, что порядочный (чуешь!) человек на его (Твоем то есть) месте давно бы уехал и не портил приличным людям нервы, не строил бы из себя клоуна. Так-то.
Исполнив «дружеский» долг, Валерик хмыкнул:
— Чаем бы угостил, что ли.
Чайник был горячим, с отпотевшей никелированной крышки слетали злые капли. Ростислав заплясал на месте, зачертыхался.
Приятель употреблял приторно-сладкий напиток. Вот и сейчас насластил так, что за сахаром не ощущалась растительная горечь крепкой, смоляного цвета заварки, от которой шершавели десны.
Валерик пил, и на смуглых его щеках выступала влага, шалые глаза светлели, становились осмысленными.
— Хорошо! Бог напитал, никто не видал. А кто видел, тот не обидел. — Пустая чашка легла на стол вверх дном.
— Э-э-эх! Жить мне без покаяния, умереть без прогрессивки и выходного пособия. — Шутка давала добрый знак, указывала на возвратившееся к нему благодушие.
— Ну? — Хозяин дома заерзал на стуле.
— Чо — ну? Чо — ну? Запонукал.
Валерик потянул еще с минуту:
— Грозится твоя бывшая. К участковому собирается. На предмет твоего выселения. Раз он-де (ты, значит) проживает длительный срок непрописанным, то пора взять тебя за шкирку.
Новость была малоприятная. Впрочем, Ростислав и без Светланы понимал, что нужно определиться. Однако, в настоящее время ни прописаться, ни уехать он не мог.
Неожиданный выход подсказал Валерик:
— Пошли ты к лешему Светку-то. Заделывай выписку по почте и устраивайся здесь насовсем. Уж мы тогда... — Хитро покосился. — Обженим тебя на Тальке. Коммерцию разведем...
Здесь пыл приятеля угас. Его вновь одолела похмельная дурнота. Щеки обнесло зеленью. Зрачки замутнели, стали похожими на пятнышки выступившей селитры.
Качнувшись, Валерик метнулся к помойному ведру, где его и вывернуло чулком.
«Сикось-накось, кол в кишках», — облегчившейся баламут из-под руки, которой упирался в стену, поглядывал на Ростислава. Будто тот, а не кто-нибудь иной являлся причиной валериковых мук. В сгорбленной фигуре страдальца читались еще и тревога. Но уж она не имела никакого отношения к его похмельному состоянию.
— Чо я хочу рассказать...
Хозяин дома проявил снисходительность:
— Отдыхай, алкоголик-любитель. Рассказал уже. На работе хоть знают про твой загул?
— Мне работа бара-бир. «Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем». Тут другая катавасия... Как бы тебе... Вот черт!
Кто-то хлопнул входной дверью.
... Тракторист не просил. Он сидел в углу кухни и ждал. По складкам у рта было заметно, что ему неловко в чужой тесной кухне, которой не добавлял тепла даже солнечный свет, попадавший со двора через окно. Эго была на удивление проходная кухня, где вечерами зябко проскальзывали вдоль стены озабоченные мыши, скучно, по одной лишь застарелой привычке опасающиеся кого-то, хотя в доме уже давным-давно выветрился малейший намек на коварный кошачий запах.
Открытый ворот рубахи тракториста демонстрировал несвежую майку. И сам проситель был сер и робок, как кухонная мышь. Примечательным в нем казался только бас, мало подходящий к столь ординарной внешности. Бас существовал в большом объеме, нежели сам обладатель низкого, мощного голоса. Отчего тело тракториста служило скорее приложением к голосу — эдаким хлипким резонатором.
Из редких, но сильных сотрясений воздуха Пархомцев уяснил суть просьбы. Он приготовился к решительному отказу, однако дальнейшее поколебало эту готовность. Багровый от неловкости мужчина сполз с табуретки и встал на колени. «Будь человеком, выручи».
Ростислав смешался. Его конфузила поза просителя, да, к тому же, присутствие Валерика в соседней комнате. И хотя он по-прежнему намерен был отказать, язык его не поворачивался. Онемел он еще и потому что на месте неловкого просителя он на миг представил... Наташу!
Ростислав захолодел с головы до ног, вообразив собственное «нет». Отныне перед ним, куда бы он ни обернулся, стояло зеркало, которое с безжалостной обстоятельностью предъявляло каждый его шаг. Этим зеркалом была его любовь к Наташе. Ведь что ни говори, а он был мужчиной, и не желал падать в ее глазах, наподобие мямли Галкина. Уж коли ему суждено закончить жизнь чудотворцем, он готов.
— Далеко идти?
Тракторист преобразился: готовно вскочил:
— Самую малость! Минут двадцать ходьбы. Сразу за Титовской сопкой... Я бы вас на «Беларусе» подкинул, да чего-то движок...
Явственно пахнуло спиртным. Человек в замызганной майке отвернул лицо, пропуская вперед хозяина, затем суетливо забежал сбоку.
Валерик вышел следом, поймал приятеля за рукав:
— Куда собрался?
— На кудыкину гору, мышей ловить, тебя кормить.
— Ты шутки кончь. Перешептаться надо... А ну, отойди! — прикрикнул он на серого просителя. Который чуть нахмурился, но подчинился.
— Слушай, не ходи!
Удивил что называется, приятель.
— Чего ради? То сам надоедал...
— Мало ли что! А вот сейчас советую, не ходи за Титовскую... Валерик придвинулся вплотную:
— Мне то бара-бир. Ты рискуешь. Вдруг перекинешься с этих своих фокусов, да шпаны полно... за Титовской одни высланные! Заметят, что чужой...
Пархомцев высвободил руку.
— Нашел, чем пугать.
— Э-э-эх, дурак! Получится: «Шел, нашел, едва ушел. Хотел отдать, но не успели догнать. Догнали б, еще дали б». — Оглянулся на тракториста и скосил рот:
— Ну, на кой он тебе сдался, вместе со своей бабой? Они же — татаре! Один вред от них.... папуасов. Кабы не мы... Пусть скажут спасибо, что мы их научили стоя сс...ть. Вот еще ср...ть стоя научим...
Брякнул Валерик, будто колом по голове, — слушатель взорвался с пол-оборота:
— Прекрати, демагог портяночный! Отыскался ариец голубых кровей! Моя мать тоже, к примеру, из майминцев...
— Да ты чо? Чо ты? Мне бара-бир, что он — татарин. Я за тебя опасаюсь...
Валерик распространялся еще минут пять. Однако по дурным его глазам было заметно — крутит, много в нем еще парши, если копнуть. Действительно, жалки боги убогих!
А убогий ли он? Может, просто глуповат? Подрастет, так поумнеет? Ой ли! Чем взрослый человек отличается от ребенка, если с возрастом и глупость растет? Вспомнишь; пожалуй, Мих-Миха: «Сила сильных в скудости нашего ума. В пещерной боязни нового... Основа основ любой идеологии — насилие над инакомыслящими... Только демократия дает шанс бескровного сожительства индивидуальностей. Однако духовно убогим опасна даже демократия, как дуракам и грамота вредна. У нас любая бестолочь способна повести за собой толпу, чтобы жечь, бить, резать всех у кого иной акцент, другой разрез глаз, отличный покрой штанов, кто, наконец, молится не нашему богу.
Но выход есть! Надо споспешестовать духовному развитию большинства. Надо стучаться в душу человеческую, доискиваться жалости его, гордыни его, великодушия, корыстолюбия, умиления...
Нужен живой человек. Земной и грешный, во весь рост и без идеологической скорлупы. Нужна личность, не прибитая из-за угла надуманной Идеей. Пусть всякий уверует в себя такого как он есть. Пусть всякий возвеличится собственным достоинством, и тем спасется. Напротив, не надо унижать человека пожизненным клеймом. Не надо натравливать одну часть общества на другую, мотивируя травлю высокими целями. Никакая даже самая высокая цель не стоит человеческого достоинства, не стоит человечной жизни...
Что ж, Мих-Мих снова прав; всякий идеал отрицает личность. Можно стремиться к совершенству. Но бессмысленно опасно загонять реального индивидуума в совершенную форму. В результате такой подгонки он или сломается или погибнет.
Деформация духа обязательно приводит к моральному уродству. Духовная сущность разумного существа допускает лишь филигранное воздействие, согласно с содержанием самой сущности.
Поэтому не стоит подходить к Валерику слишком строго. Мусор в его голове с избытком окупается врожденной добротой.
Досада Ростислава на приятеля прошла. Порой и другим мы прощаем так же легко, как и себе самим. Но при условии, если этот другой является отражением нашего «я».
«Коль ты умен, пойми ты,
что все деянья с их причиной слиты».
Он все-таки послушался Валерика и не пошел на ночь глядя в Титовку.
Успокоенный им тракторист отправился один, чтобы ждать Ростислава утром следующего дня. Блеклый от затылка до пят проситель исчез, точно слился с пыльной колеей разбитой дороги.
... Гусеницы машин жестоко изорвали грунт сразу же после весенних дождей. С тех пор земля успела закаменеть и напоминала большую стиральную доску, о которую ломались ноги, поэтому Ростислав, предпочел шагать целиной, вдоль задушенной травой обочины.
Если бы можно было взглянуть на окружающую местность с большой высоты, то в первую, очередь бросилась бы в глаза, высокая сопка. С огромным, неизвестно как попавшим на вершину, валуном, она являла собой точную копию молодой женской груди, когда округлость еще обманчиво туга, глядит розовым соском вверх и в сторону, будучи до поры до времени не отягощенной материнским молоком.
Сопку огибает безлюдная в эту пору дорога, местами прижимающаяся к самому склону, дабы избежать встречи с узкой расщелиной, по дну которой бежит мутно-желтый ручей. Но несмотря на все дорожные ухищрения, в одной из точек расщелина все-таки сталкивается с полотном грунтовки, отмечая этот факт бревенчатым мостом.
Ростислав одолел большую часть пути и был уже в двух шагах от моста, когда заметил людей. Верхняя часть окоренных лиственничных хлыстов, стянутых железными скобами, лохматилась щепой, следами тяжелой техники. У входа на мост сидело двое крепко сложенных, коротко стриженых парней.
Он отметил про себя вольные позы, сидящих, их простые не без приятности черты лица. Одни из парией был прямо-таки хорош, ловко затянутый в черную кожу крутки. Одежду второго рассмотреть не удалось.
Пархомцев; почти миновал ребят, когда, удар в левую скулу выбил искры из глаз.
В первую секунду он сохранил равновесие. Но следующий удар пришелся в висок и вырвал землю из-под подошв. Он мог бы наверно еще устоять, если бы не туфель. Носок которого зацепился за выступающий комель бревна.
Ростислав полетел боком на мостовой настил.
Парни бросились к нему.
Соприкосновение ребер с настилом оглушило лишь на миг. Затем он перекатился, увертываясь от пинков, и вскочил. Ростислав кое-что мог и, поднявшись на ноги, не замедлил продемонстрировать это.
Хулиган в кожаной куртке молча присел, когда нога обороняющегося достала низ его живота. Следом Пархомцев сменил положение, встречая другого, парня, но кулак попал в пустоту.
Реакция второго парня превосходила его собственную. Стало ясно, что выучка плечистого, с виду добродушною типа разительно отличалась от провинциальной манеры махать кулаками. Плечистый не суетился и не нервничал, деловито выполняя броски, и Ростислав мог поклясться чем угодно, что на протяжении всей схватки нападавший невозмутимо улыбался.
Зато удары улыбчивого парня никак нельзя было назвать щадящими. Раз-другой удалось уйти ему под правую руку, но за тем игра кончилась. Лицо Ростислава встретилось с кулаками высокого парня. Клацнули зубы, и Пархомцева отбросило с дороги, будто пушинку.
И снова он не отключился; сел. Тронул распухшие окровавленные губы. Они выпирали вперед, словно накаченные воздухом. А парни уже подходили к нему, чтобы, добить. Иначе зачем «черная куртка» приготовил нож, узким лезвием от себя. Кстати, теперь улыбался и он.
Вот только Ростиславу было не до смеха.
А его противники не спешили. Задергались, прикуривая. Добыча была у них в руках, отчего же не покуражиться.
Их плотные фигуры контрастно выступали над дорогой. Бесцветное пламя вспыхнувшей спички потерялась на свету. Ростислав спросил, адресуясь к парням. Спросил и слова гулко отозвались у него под черепным сводом:
— За что?
Дорога отозвалась благодушно:
— А ни за что. — И добавила — Сидел бы ты дома, не высовывался. Понял?
Он приподнялся, опершись на руки. Парни шагнули к нему. Теперь они двигались вкрадчиво, как ходят сильные, опасные плотоядные.
Соединительная скоба шевельнулась под рукой. Он сомкнув пальцы, потянул — тяжелая двузубая деталь вышла из пазов.
То, что Пархомцев вскочил, мало встревожило хулиганов. Яркое солнце светило им в глаза и мешало правильно оценить ситуацию.
Конец скобы ударил по запястью руки, держащей нож. «Черная куртка» охнул.
Вслед за ножом упала на землю скоба.. Теперь обороняющемуся пришлось совсем худо. Пинки и удары следовали один за другим. Он привставал на локтях и тут же зарывался лицом в землю... Со стоном опрокидывался на спину и терял сознание...
Знакомый голос не сразу достиг ушей. Лишь когда подбежавший к нему Валерик помог встать на ноги, он узнал приятеля.
— Ну что я говорил?
— Ты!?
— Я, я. Дай, думаю, провожу одного фраера. И чуть было не опоздал... Пришел бы тебе крышец.
— А где... эти?
— Ха! Их я крепко приласкал.
Рядом с Валериком валялась длинная березовая палка.
— Они... они ждали Меня.
— А я что тебе обменял? Заманивал тебя татарин; никакая баба у него не болеет.
Трудно дыша, Ростислав оперся на приятеля.
— Спасибо тебе! Но зачем я им?
— Чо не знаю, того не знаю. Правда, кой-какие мысли у меня имеются. Откатаешься, расскажу.
Все-таки Валерик молодец! Но фантазер неисправимый. Насочиняет воз и маленькую тележку...
Дома боль притупилась, вполовину спала опухоль на верхней губе. Однако Наташа не выдержала и вскрякнула при виде его покалеченного лица.
Валерик, ворча, оставил их наедине...
Прикосновение тонких пальцев к израненной коже было приятно.
Он скривился в сторону Наташи. «Боже мой!» Кровоточащие ранки быстро бледнели, на глазах исчезали синяки… Но самое поразительное, что на месте выбитого рослым хулиганом резца у Ростислава рос новый зуб. Рос с фантастической скоростью. Верхняя губа Ростислава подрагивала от натиска увеличивающегося до нормальных размеров резца.
В ужасе Наташа смотрела на возлюбленного…
* * *
Не иначе незнакомец караулил Наташин уход. Едва Ростислав проводил ее, как застал незнакомца восседающим посреди комнаты.
Сегодня хозяин дома мог рассмотреть «очкарика» без помех. Гладко выбритые, впалые щёки создавали впечатление, будто гость сосет леденец и никак не может сглотнуть накопившуюся слюну. Отчего острое, топориком, адамово яблоко гостя спазматически двигалось, а закинутая одна на другую нога неизвестного размеренно качалась, в такт затрудненному дыханию. В любом случае это выглядело именно так.
— Вас можно поздравить с законным браком?
Гость явно лез не в свое дело. И Пархомцев не стал скрывать недовольства:
— У вас есть право интересоваться такими вещами?
Так как «очкарик» смолчал, то хозяин квартиры пошел дальше:
— Скажите, что вам вообще от меня нужно? И скажите вразумительно. Ибо в противном случае...
— Постараюсь. А вы пока подумайте, Пархомцев, чего не достает человеку, чтобы оставаться таковым всегда?
Он выделил, словно подковал, последнее слово. И сам же дал ответ: — Бессмертия, дружок! Человеку не хватает только бессмертия. Напыщенность стиля говорившего смущала. Психически нормальные люди, как правило, избегают изъясняться высоким стилем.
— Дело в том, что оно нам крайне необходимо.
— Что такое — оно? И кому это — нам?
Гость повел рукой, дивясь непонятливости собеседника. Подчеркнутое движение жилистой руки было настолько вещным что помстилось, будто за обшлагом рукава протянулся в воздухе тускло-ртутный след.
— Бессмертие нам нужно. Ну, не совсем абсолютное (мы люда разумные и установленные природой пределы чтим) бессмертие однако… Дайте, дайте, Пархомцев, бессмертие, и мы создадим на земле рай.
— Ваше время ушло!
Гость переломился со стула по направлению к Ростиславу;
— Ошибаетесь! Оно еще впереди! Мы нужны всегда, когда наступают смутные дни. Ныне мы нужны, и мы готовы к борьбе за сохранение великой державы. Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, на пути, к земле обетованной. Мы ждали дольше! И мы придем из далекого прошлого в настоящее. Придём полузабытые, осененные проклятиями и легендами, овеянные будоражащими кровь ветрами. Мы перейдем из истории в историю, как сказочные персонажи — несгибаемые революционеры железной когорты. Готовые на все ради общего счастья. Мы вернем людей в прошлое, до той отметки, начиная с которой народ пошел неверным путем. Нам суждено исправить недомыслие истории и масс, и мы сделаем это!
Чем дальше Ростислав слушал, тем сильнее тосковал.
— Лишь умершим открыта дорога в прошлое. Живым дорога туда заказана. Но опять спрашиваю: зачем вам я?
— Как зачем?
Незнакомец, встал, тяжко ступил каблуками по шаткому полу, поймал стеклами очков солнечный луч, и очки зарделись.
— Вы плохо знаете свои возможности, Пархомцев. Ваши знахарские кунштюки вас не достойны. Вы способны на великое! — Гость почти кричал. — Ваше имя останется в памяти поколений, а ваши статуи украсят города, уж мы позаботимся об этом.
— Посмертно, не забудьте, посмертно! — Пархомцев тоже, кричал, заходясь от ярости. — И сколько еще трупов вы нагромоздите, когда станете загонять людей в ворота вашего бредового рая? Мне известна притча о Моисее. Только старый пророк был мудрей и человеколюбивей вас. Он старался сохранить естественный путь развития общества. Вы и вам подобные вряд ли станут считаться с целесообразностью.
Его слова остудили гостя, который скучно заулыбался:
— Нам известно, что насильно мил не будешь. Но мы знаем и то, что наступит час, когда вы сами придете к нам; мы будем ждать этого часа.
— Не дождетесь!
— Не спешите Пархомцев. Уж вы-то — не пророк, не Моисей; И не вам судить, что будет завтра. История выбрала вас, так будьте достойны выбора. — Он извлек из кармана массивные серебряные часы.
— Мне пора.
Часы повернулись на цепочке, стала видной полустертая надпись на выпуклой, с узорчатой каемкой, крышке: «... от..... Киевскому ЧК».
Ростислав впился взглядом в крышку. Где-то он уже слыхал про подобные часы, с такой многозначительной дарственной надписью. Весьма жаль, что незнакомец их так быстро убрал. Крепко озадачил плешивый монстр бывшего учителя...
После обеда тревога Пархомцева усилилась.
Большая стрелка хромого на одну ножку будильника накрыла собой маленькую, показывающую на облезлом циферблате вместо цифры «два» круглую дырочку. Прежде будильник держался большим молодцом. Но годы укорачивают не только человеческие жизни. В схватке со временем отскочила и затерялась в щели задняя ножка бывшего красавца. С потерей устойчивости часы, как говорят китайцы, потеряли и лицо, разбив в одном из падений уже не прозрачное, как прежде, стекло. Тогда же погнулись стрелки. Выправленные потом старческими дрожащим пальцами, они вместо часа стали показывать нечто близкое «норд-норд-ост».
Желая успокоить Наташу, он нашел в себе силы пошутить заглянув в ее мокрое от слез лицо:
— Мне Галкин бара-бир. Однако хорошо, что ты решила уехать. Махнем к моей прабабке. У меня оригина-а-альная прабабка. Перебьемся первые дни у нее, не пропадем.
Он загорелся переездом.
— Обживемся, Натка, милая. Пригласим к себе Мих-Миха. Это злой, но отличнейший мужик. Мих-Мих напишет твой портрет. Потом вызовем Валерика...,
Ее плечи дернулись:
— Не надо его.
— Хм, не надо, так не надо.
Она постаралась смягчить отказ...
— Пьяница он, Валерик. Крученый какой-то. Его и Змеегорыг не любит.
— Потому крученый, что никого не любит. И я бы одурел без твоей любви.
— Абы да кабы во рту росли грибы, — повеселела Наташа. Добавила как можно мягче. — Только пожалуйста не смотри больше так, как вчера. Словно из-под земли.
И она содрогнулась,
Ростислав не нашелся с ответом.
«Они поклялись именем бога — самой страшной клятвой, что тот, кто однажды умер, уже не воскреснет более».
«Дыши огнем, живи огнем,
Пусть правды убоится тайна.
Случайно мы с тобой умрем,
Все остальное не случайно,
Я вижу над твоим крыльцом
Гнездится час твой черной птицей
Не лги, а то умрешь лжецом!
Не убивай, умрешь убийцей!".
«Кешка! Кешка!» — Пес не отзывался.
Характер собаки после чудесного исцеления сделался скверным. Она не признавала своего благодетеля, злобно рычала на Пархомцева, затевала склоки с соседскими псами, скалила зубы на прохожих. Заносчивости так и перла из нее.
Долго искать собаку не пришлось. Кешка лежал, во дворе, в трех шагах от калитки, фосфорически отсвечивая глазами. Приподнятая верхняя губа обнажала белые клыки. Кешка молчал. В широкой ране разбитой головы копошились синие мухи.
А вечером того же дня Ростислава взяли.
Конопатый милицейский чин, широко расставив локти, составлял протокол. Время от времени он морщил покрытый золотисто-бурыми веснушками лоб, отрывался от нудной писанины, выжидательно поглядывая, то на занятого обыском сослуживца, то на ошарашенного, хозяина, в отдалении от которого переминались с ноги на ногу понятые. Одного из понятых, остроносого механика, Пархомцев знал, он не однажды сталкивался с ним у своротка в переулок. Другого, прокуренного до изумления, видел впервые.
Минуты обыска растягивались. Мнилось, что они беззвучно истекали, вытягивались, скользили по полу, нащупывая выход — длинные, как огуречные плети.
Начиная с момента, когда предъявили ордер, Ростислав силился осмыслить, происходящее. Пришли. Сунули под нос ничего не значащую бумажку, и он перестал быть самим собой. Чужие руки копались в его вещах, роняя на пол журналы, выгребая из шкафа белье, а он лишь жался при виде собственных застиранных носков, будто нарочно извлеченных напоказ. Пархомцев было привстал, но вновь упал на стул, наткнувшись на недобрый взгляд конопатого.
Вскоре раздалось задорное «есть!».
Моложавый сотрудник вылез из-за печки.
Пыльная паутина налипла комочками к форменной фуражке, левая сторона мундира пятнилась от сажи.
Черт знает, где он там отыскал сажу? Однако мазки красовались даже не шее обрадованного сыскаря.
«Вот он!». Присутствующие потянулись взглядами к металлическому предмету, извлеченному из паутинного закоулка. Старший представитель правоохраны принял предмет, повертел перед глазами. Конопушки лягушатами запрыгали по его лбу и по щекам — это означало милицейский смех,
— Все верно — калибр 7.62. Стоило ли дальше запираться, Пархомцев?
Заломило голову. Хотелось протянуть руку и сгрести со смеющегося лица мерзких крошечных земноводных, чтобы швырнуть их в разверстую пасть сыскаря.
Ростислав отвернулся от своего мучителя, вгляделся в обводы находки и… застыл. На столе лежал револьвер!
Оружие было пошарпанным, утратившим воронение, незнакомой для него системы. Из развязанного рядом мешочка выкатилось на стол несколько промасленных, снаряженных тупорылыми пулями патронов.
— Но это не мое! — у него пискнуло в горле. Ну, конечно, это чей-то дурацкий розыгрыш. Вроде той истории с письмом. Что, они не понимают? Нет. Нужно просто успокоиться. Сейчас он им все объяснит. Ведь это глупо — искать что-то общее между ним и каким-то допотопным пугачем. Сейчас... Он только соберется с мыслями...
— Где ты прячешь ценности?
— Вы что, очумели? Какие еще ценности?
Гладкорожий милиционер сделал неуловимое движение, осёкся, осторожно покосился на понятых:
— Вот те раз! Козе и то понятно. Где деньги, рыжевье (тьфу!) — золото, то есть? Где колечки, сережки?
Понятые окаменели.
«Во кино!» — остроносый механик был в восторге. Он вытянулся стрункой, покачиваюсь на цыплячьих ногах, сунутых в жесткие джинсы. Участие в столь необычном деле его вдохновляло. Мысленно он продолжал обыск Ростиславовой квартиры: рвал полы, простукивал стены, извлекая новые и новые груды украшений и бриллиантов. Он уже почти любил Пархомцева, благодаря которому хоть на время прервалась тягомотину поселковых будней, вызывающая тошноту даже у местных свиней. Иначе с чего бы они начинали кидаться из конца, в конец улицы, — застревая меж заборных кольев?
Вместе с тем механик был зол на Ростислава. Он чуть не застонал, когда услышал слова конопатого милиционера: «Известно, Пархомцев! что вами захвачено добро на восемьдесят тысяч рублей». От такого кого угодно бросит в пот. Какая же сволочь — этот приезжий! Заявился, сачкует месяц с лишним, крутит бабам мозги, а у самого денег куры не клюют. Да механику хотя бы, половину названной суммы!
Арестованного разобрал дурацкий смех:
— Мои тысячи? Гляньте под подушкой, может и найдете чего? Тут же осекся, похолодел: из-под матраса, вслед за дядиным ножом, про который он и думать забыл, показался увесистый пакет.
Надорванная с конца газета выдавала содержимое. Деньги! Увесистая пачка крупных купюр.
— Ну-у-у, —протянул сыскарь. Делает наивняк, а у самого — целый бандитский склад. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... А перышко-то деловое, с секретом.
Подошел к Ростиславу ближе:
— Выкладывай, что в ручке ножа заныкано? Наркота?... Молчишь! Лады. Будет еще у тебя, желание говорить, будет. Все расскажешь.
Но Пархомцев молчал.
Когда арестованного вывели, солнце уже сползло за сопки, убегая багрово-черной тучи. Диск светила обрезался снизу сопкой, а сверху был прижат краем тучи, отчего походил на выбритую до блеска голову, втянутую между плеч.
У забора липли зеваки. Те, кто посмелее, стояли против калитки. Их физиономии в предгрозовом освещении сливались в единую рдяную полосу. Но чем ближе подходил конвоируемый, тем рельефней означались детали лиц, явственней прорисовывались желтые точки любопытства, злорадный металлический блеск и студенистые пятна отвращения в глазах,
На самом выходе Ростислав укололся об усмешку. Придерживая за локоть Светлану, Галкин неприкрыто торжествовал: вызывающе шевелились его мохнатые, высоко поднятые брови.
Горечь хлестнула через край. Ростислав просто давился ею. Ему хотелось, бить и бить подлую, криво ухмыляющуюся рожу, пока ее не изуродует страхом и болью.
Штакетник хрястнул под тяжестью Галкина. На высокой ноте взвыла толпа и расплескалась в стороны. А с другого края улицы тут же заполошно выметнулось «Зарежет!» Но у Ростислава не было оружия. Он хрустел суставами, выкручиваясь из тренированной хватки конвоиров, тянулся к поверженному Галкину.
Еще рывок, и Ростислава подняли. Навалившиеся ломали руки, кто-то перехватил ему горло. Пархомцев запрокинулся; первые холодные капли дождя разбились о его лицо...
* * *
Короткий, но свирепый ливень захлестал грунтовку тягучей как сырая резина, грязью. Походило на то, что конопатый служивый не отважился тронуться в ночь. Он решил заночевать вместе с арестованным и хамоватым помощником, в промокшем до маточного грунта станционном поселке, где, попущением начальства и небрежением судьбы не имелось даже мало-мальски приличного отделения.
Участковый, обликом грузинистый еврей, коптился в тоскливой, подобно всем присутственным местам комнатке при сельском Совете, так как поселковый Совет находился далеко от центра, торговых точек и располагался скорее в селе, нежели в поселке. Местные жители, давно притерпелись к подобным обстоятельствам и даже не задумывались над постоянным блужданием административных зданий и ведомственных границ.
Жители совершенно запутались, в смене аббревиатур, наименований и постановлений. Когда-то поселковая граница означалась вымоченным столбом, на вершине которого по праздникам подвешивались либо пара кирзовых сапог, либо бутылка «Пшеничной». Остро нуждающиеся в поименованном товаре карабкались за призом, сдирая при спуске живот о гладкое дерево.
Постепенно исчезали кирзачи, а «Пшеничная» улетучилась за недостатком стеклотары, и столб свалили за ненадобностью. Опрокинутый, он перестал быть порубежной вехой. Вслед за столбом рухнула исторически сложившаяся граница...
Поселково-колхозный рубежи стали плодиться во множестве. Они появлялись, в самых неожиданных местах, делили надвое полосу отчуждения железной дороги, рассекали станционные пути, межевали кучи отбросов и фекалий на свалке... То граница переползала охотный двор, и обрадованная поселковая власть чесала в затылках, не зная, что делать с дюжиной отощавших скотин — отныне подведомственных новой власти. То случалось, что за границей оказывался станционный буфет, отчего путейцы предпринимали демарш и угрожали ответной экспансией. То... Передвижка рубежей умножала власть...
Власть раздергала границы.
При неизменной диспозиции участкового, он ежемесячно переходил из рук в руки. Положение запутывалось окончательно, когда в выборной неразберихе часть депутатов оказывалась в обоих Советах одновременно...
В комнатушке помещались: стол, с кисло отставшей фанеровкой на беременных бумажным хламом тумбах, да тройка стульев. Здесь и состоялся предварительный допрос. Далёкий, впрочем, от взаимопонимания..
Допросчик часто отдувался. Топорщил щеточку усов, могущую
служить влагозащитной полосой, и нахально упирал на «ты».
Значит, сюда ты ехал поездом?
— На верблюде! И не тыкайте, я с вами свиней не пас.
— Верно, не пас. Ни свиней, ни «культтовары» в Куэнге. А насчет «ты» да «вы» не получилось бы" у тебя, как у того хохла: «Шо вы меня тыкаете? Я привелегию маю, сельским писарем служу». «Ну, а я — становой пристав!» «А-а-а! Ну тогда тыкайте, тыкайте».
Следователь повысил голос:
— Проездной билетик сохранил?!
— Ага! В следующий раз, если у меня «отыщут» за печкой какую-нибудь завалящую, гаубицу, я буду в состоянии предъявить билеты даже на метро.
Конопушки сыскаря долезли одна на другую:
— Следующего раза не будет, Пархомцев. А хамить кончай. Ты -человек образованный, как никак учитель. Так пошевели мозгами. Револьвер у тебя нашли? Именно револьвер, не мортиру, и не зенитное орудие. Бо-ольшущая диковина в наше время — твой наган. Редкость.
Он сделал паузу, продолжил с угрозой:
— Но самое интересное: — пульки, выпущенные из твоего нагана, проклюнулись сразу в нескольких местах. И скверно проклюнулись. — Конопатый истязатель вздохнул.
— Вы мне его подкинули! — взвился Ростислав.
— Но-но-но, ты это брось. Не поможет. Ты, наверно, знаешь о бритве Акама?
— Оккама, — механически поправил арестованный. — Принцип Оккама гласит: «Сущности не следует умножать без необходимости». Но причем тут схоласты?
Его прервало перханье начитанного службиста. Тот от души веселился, глядя на арестованного, как на игривого котенка, от которого в очередной раз ускользнул конец дразнящей ленточки.
— Или ты, Пархомцев, псих и тебя надо лечить, либо ты валяешь ваньку.
Посерьезнел. Заговорил быстро, не давая опомниться:
— Зачем убил художника?
— Какого художника? — Ростислав не верил собственным ушам.
— Михаила Михайловича...
— Мих-Миха убили?!
Всему есть предел. Наступил он и для Пархомцева. Конопатый посинел от удушья, бессильный оторвать пальцы арестованного от своего горла. Вбежавшие на шум участковый и гладкорожий милиционер только мешали друг другу.
— Не смейте бить! — Пархомцев прижался в угол. Все плыло перед его глазами, у которых мохнатая пятерня держала квадратик газетного текста.
— Читай, сволочь!
Мелкий шрифт двоился: «Вчера в ... часов вечера выстрелом затылок, убит ... М. М. Убитый в … году привлекался, в качестве диссидента. Прокуратурой… ведется расслёдование».
Удар был страшным. Бедный Мих-Мих! Кому он перешел до рогу в этот раз?
— Я не убивал. Михаил Михайлович был моим другом. Можете проверить — в момент убийства, я находился здесь, на станции.
— Брехня! Участковый не видел тебя в течение пяти дней.
— Если не видел, — значит пьянствовал. Он алкоголик, ваш участковый.
Жапис не замедлил вмешаться: «Вот гад! Убил да еще и выкручивается».
Удушающей болью взорвался низ живота. Ростислава согнулся вдвое. Следующий удар сапога пришелся в правый бок, против печени. Его вырвало. С позеленевшим лицом он сполз по стене на пол жадно хватая воздух широко открытым ртом.
— Закрой рот, кишки простудишь, — участковый продолжал кипятиться.
— Но я никуда не ездил, спросите хотя бы у Валерика. Я никого, не убивал и не грабил…
— Спросить у Валерика?! Твой! дружок, тот действительно жрет водку аж с пятнадцатого числа и, наверно, до сих пор не очухался. По нему тоже… давно тюрьма плачет.
— Кстати — вмешался конопатый, — Валерик — имя или кличка?
— Клички у собак!
— Тебе, Пархомцев, лучше быть поскромней. Так что не возникай. Береги нервную систему, она тебе скоро пригодится. С такими статьями как у тебя — дело подрасстрельное.
Арестованный скрипнул зубами:
— Одно из двух; или вас ввели в заблуждение, или вы зачем-то меня провоцируете. Поймите, нету за мной вины! Я и по убеждению — пацифист...
— Чего, чего? — гладкорожий милиционер привстал от удивления.
Пришлось объяснить:
— Пацифист — убежденный противник любого насилия.
— Чего же ты распсиховался, кинулся с кулаками на Галкина, раз ты такой убежденный ненасильник?
Объяснять было пустой тратой сил...
До утра его заперли в кладовой.
Из соседней комнаты ему издевательски пожелали спокойной ночи, затем щелкнул ключ, и арестованный остался наедине с решеткой, прихваченной к окну невидимыми в темноте, мохнатыми от ржавчины гвоздями. Он стоял у окна и думал, что сделал правильно, не назвав Наташу, Конечно, она могла, подтвердить его алиби. Могла бы... Но ведь неизвестные провокаторы не постеснялись бы запутать и ее; Поэтому Ростислав боялся Наташиного прихода в отделение. Узнай она о его беде, обязательно прибежит. А он сомневался, что садисты в униформе будут вежливы с женщиной.
Большой ошибкой явилась растерянность, которой на первых порах поддался Ростислав. Ему следовало учесть, что помимо Наташи, есть очкастый незнакомец. Уж он-то не из тех, кто испугается дешевых провокаторов. Он должен помочь Ростиславу, раз последний необходим ему. Правда... Вначале неизвестного нужно найти. А как, если он — неизвестный? Арестовавшим ровным счетом ничего о нем не известно: ни адреса, ни фамилии. Что сказать следователю? Ищите, мол, плешивого мужчину в очках, преклонных лет, обутого в начищенные хромовые сапоги? Идиотское положение.
От окна треснуло сквозняком. Тихо звякнула решетка.
Но зря потешался гладкорожий. Насилие — не метод. Даже помощью насилия он не добьется от Ростислава самооговора. Знать бы, кому понадобилась смерть Мих-Миха? И что с Наташей?..
Эх! Надо было послушаться ее и уезжать тотчас, вместе с ней и Сашей. Подкузьмила его привычка долго раздумывать перед тем, как предпринять что-либо...
Решетка задребезжала. За окном что-то хрустнуло. Донельзя знакомый голос прошептал:
— Ростислав, ты где?
— Здесь.
— Вылезай, да поскорее, — торопил незримый Валерик. Выбираться пришлось на ощупь. Он сунулся головой вперед, завис, поймавшись животом за гвоздь, торчащий в подоконник. Беспомощно завис, шаря руками в поисках опоры, затем вывалился, словно куль, едва не сбив с ног Валерика…
Несмотря на всю трагичность ситуации, приятель выругался шепотом, затем коротко хохотнул.
...Они бежали тесными от мрака и дождя улицами. Скользили. Увязали в грязи, натужно, пробивая путь. Вокруг них колыхались и дрожали едва различимые тени. По-кошачьи мягко ночь гасила нескромный свет заблудившихся окон, то здесь, то там.
Осыпало звездным мусором четыре стороны света; смешались верх и низ. Осталась одна безоглядность. Исколотая острыми вершинами далеких гор, где жила прабабка Ростислава. Да оставалось теплое женское лицо, заблудившееся среди непогасших огоньков. А следовательно, оставалась и надежда.
Шаги впереди стихли. Валерик предупредил: «Пересидишь у нас, в сарае. Змеегорыч не помешает. Отсидишься, а там видно будет».
Ростислав кивнул. Поднял руку, не сообразив, что часы отобраны при аресте. Но и без зеленовато-голубого свечения цифр, было ясно — время близилось к полуночи.
— Наташе бы сообщить...
Приятель шмыгнул носом.
— Слышишь?
Валерии неохотно выдавил из себя:
— А ты не знаешь разве? Хотя откуда тебе знать. Уехала Талька.
— Как уехала? Когда?
Только-только шмон в твоей хате начался, она собрала чемодан и... тю-тю! Даже сына подлючка, бросила у соседки.
— И не сказала, куда?
— Не-а.
Словно обухом трахнуло по затылку. Ростислав стиснул зубы. Около самого сарая его нога попала в лужу, но он остался безучастен. Молча дождался, пока Валерик отыщет керосиновую лампу, потом сел на ящик у входа и застыл. Его не тронул скорый уход приятеля. Также равнодушно он встретил внезапное появление в сарае чокнутого незнакомца. Вошедшему пришлось потрясти Ростислава за плечи, чтобы привлечь к себе интерес. Но, взглянув на незнакомца, беглец снова впал в состояние летаргии. Владелец хромовых сапог растерянно потоптался на месте и тоже исчез...
Вскоре чадящая лампа закашляла. Жестяное нутро десятилинейки пересохло и, фукнув очередной раз, она погасла.
Первородная тоска вдруг охватила Пархомцева и подняла на ноги...
Остановился он у Наташиной избушки. Набежав, словно на зубья бороны, на частокол тревожных звуков. В доме был свет! Он проникал через щель между ставен, ложась серебристо-лиловой дорожкой на сиреневый куст.
Вкрадчивые звуки повторились.
Осторожно, чтобы не чавкнула грязь под ногами, он подкрался к окну. Задержав дыхание, глянул в щель.
В комнате сидели двое.
На узкой Наташиной кровати по-хозяйски расположился «очкарик». Обочь горбатилась спина сидящего на стуле… Змеегорыча! Только теперь на лице старика не было заметно привычной одурелости, оно казалось скорбно и умно.
В спальне шел негромкий разговор. Улавливались только отдельные фразы, смысл которых доходил не тотчас.
— Вы не человек. Допустив ваше появление на земле, Господь даже не испытует, он проклинает нас, переставших быть людьми, утративших последнюю искру из вложенного им в человека.
— Опять мерихлюндите, батюшка.
Даже так! Отчего «очкарик» обращается к Змеегорычу подобным образом? Ростислав легонько тронул ставню на себя. Слышимость сразу улучшилась.
— …послали его. Я не знал о том, что готовится... Иначе не допустил бы. — Бескровные губы старика дрожали. — Непростительный грех на моей душе... проговорился о манохинцах, однако я никому не желал зла. Мной руководила тревога за... супругу. Вы обманули... обещали помочь в поисках...
Брови незнакомца сошлись. Он явно соболезновал старику:
— Что ж, вы хотите правду... открыть. Супруга ваша погибла в тот самый день... Убийство ее... Я не успел. Да и не имел права рисковать собой, открываясь тогда. Ведь я рисковал не просто жизнью — делом!
Змеегорыч плакал. Он плакал без слез.
Подслушанный разговор ошеломил беглеца. Однако дальше он открыл для себя еще более поразительные вещи. Оказывается, супруга Змеегорыча, перед тем как исчезнуть, имела при себе нож Кибата. Отсюда выходило, что это на ее останки наткнулся Ростислав в далеком детстве?
А собеседники продолжали:
— Ваше дело... Разве стоит он человеческой жизни. Построенное вами зиждется на грехе, на преступлении, на обмане. Ваш храм основывается на песке. Когда-нибудь он рухнет, и погребет под своими обломками множество ни в чем не повинных...
Незнакомец, волнуясь, снял очки. Без них он выглядел совсем стариком, много старше Змеегорыча. Но это была нетленная, законсервированная старость, когда можно дать и семьдесят, и восемьдесят лет, а то и вовсе вечность. Так выглядит перезимовавший репей — ветхим, но без возраста. Когда с первого взгляда становится ясно, что он давно мумифицировался и держится лишь за счет солей кремния, скопившихся в порах клетчатки, однако не скажешь точно, когда он засох — год, два или даже три тому назад.
— Эх, батюшки! Оставшимся в живых безразлично какой ценой устроено чудо на земле. При значительном сходстве наших побуждений и помыслов господа бога надо учитывать разницу в методах и результатах... Люди жаждут немедленного счастья. А вы им только сулите, предлагая нескончаемый и равно тернистый для каждого путь. Вы заразили массы верой в чудо. Нам же достало его сотворить для достойных. Поэтому мы нужны толпе. И ей наплевать, какие будут на нас мундиры. Крикни мы уже сегодня: «Кто с нами? Кто хочет равенства?» миллионы поддержат наш клич. Если массы мечтают о чуде, значит они ждут нас. Если массы требуют молниеносных перемен, значит пробил наш час...
Незнакомец выронил очки, и не заметил как они упали.
— Нам безразлично, под каким именем нас будут встречать. «Измы»-хлам! Чего стоят громогласные обещания любой из партий? Выжмите воду из их программ и вы обнаружите один и тот же остаток — популизм. Существенное содержится только в методах. А тут нам нет равных, ибо мы не брезгливы, и готовы на все.
Густые, выбеленные до синевы волосы Змеегорыча встали дыбом. Он слушал, отчаиваясь. Вместе с ним был весь внимание и нечаянный слушатель за окном.
— И не радуйтесь, батюшка, нынешнему послаблению властей. То от бессилия. Дайте, власти окрепнуть, и... вновь храмы пойдут под заклание. А поделом! Помните о монополии на чудеса.
Собеседник отозвался хрипло:
— Уж вы-то постараетесь!
— Можете не сомневаться.
— Вы — убийца!
— Ложь! Я не организую убийств ради убийства. Пархомцев — старший умер сам. Художника, бездарного мазилу — это правильно, его устранили... Но я не давал таких полномочий... Хотя ничуть не жалею, художник мешал нашему делу. Как мешала и женщина, труп которой вам, именно вам, предстоит сегодня убрать.
Незнакомец шагнул в глубь спальни. На полу лежала бесформенная груда тряпок, небрежно накрытая простыней.
Плешивый старец откинул простыню, разбросал мягкую одежду и выпрямился. Змеегорыч перекрестился: «Господи! Прости мя!»
— Наташа!!! — Ростислав кинулся в дом.
Крючок, на который была заперта дверь, отлетел сразу же, и Пархомцев оказался внутри. Вид его мог ужаснуть всякого: потемневшая до синевы кожа лица, заострившиеся скулы, донельзя ввалившиеся глаза и перепачканная суглинком обувь.
Наташа лежала на боку ничем не прикрытая. Ее неподвижный зрачок был направлен прямо на Ростислава, слепо отражая белизну противоположной стены. Запрокинутая голова открывала шею с черными следами пальцев на ней. Чувствовалось, что тело успело остыть и трупное окоченение завладело его изломами.
Книжная полка помогла ему устоять на йогах.
— М-м-м, — свет застилала сиреневая пелена.
«Опоздал?» — он видел только Наташу. — «Меня не хватит. Наташи больше нет. Есть труп, холодная кукла... Наташи нет, я, похоже, все-таки хочу жить. Жить! Кто я? Подлец! Слабый обыватель? Уехать бы далеко-далеко. В глушь... В тайгу... Где нет никого. Где меня не достанут... «Уеду! Валерик не выдаст, он поможет мне... Стану ловить рыбу.. Грибы собирать... Дышать воздухом... Прости меня, Наташа! Я не могу... Бежать! Сейчас же бежать!».
Сиреневые пряди скручивались в искрящие нити, растягивались, переплетались в большой кокон. Кокон саваном опутывал задушенную женщину. Ее зачугуневшие черты расплывались, а на мертвом лице происходили непостижимые перемены. Перед Ростиславом возникли усталые глаза Мих-Миха. «Ты — вульгарный эклектик», — сказал Ростиславу Мих-Мих. «Предоставь людям право оставаться свободными, сохраняющими достоинство и в слабостях своих. Мораль должна соответствовать наличествующей нравственности. Расхождение тут недопустимо. Ростик, ты — эклектик...». Мих-Мих был прав. «Я такой же как все», — ответил Пархомцев и тоже был прав. «Невелико отличие между мной и монументальным костюмом из райОНО. Мы оба живем самообманом; он — верует в ложные установки, но с пользой для себя лично, я — тешащим меня фрондерством, но себе во вред. А результат один — все остается по-прежнему. Я — это кабинетный костюм наизнанку, тот же назем, издали привезен».
Пульсировал лиловый кокон. Лиловым узором расцвечивались стены... Издалека доносились слова старой Хатый: «Слаб мужчина в жалости. Хрупки жилы его сердца. Ломает их чужая боль, как осенний ветер паутину. Слабый мужчина — не опора моему роду...» А мгновением спустя померещился вскрик: «Внучек! Жеребенок, мой!»
Понял Ростислав, что в этот миг оборвался последний вздох старухи.
Горюющей по нему прабабки. Осознал, перегорая в пламени сиреневого факела.
... И он кинулся прочь, чтобы спастись. Он бежал через палисадник, проулком, скользкой дорогой, ведущей через поселок... Он бежал, оставаясь в комнате возле Наташи. «Человек я! Человек!».
Опомнившись, бросился к нему незнакомец в хромовых сапогах, отшвырнул с дороги Змеегорыча.
— Оставь его! Именем Господа нашего... прокли...
Лезвие ножа вошло старику в живот. Змеегорыч сунулся ниц; теплая алая струйка пробивалась меж губ на крашеные половицы.
Плешивый задержался над стариком, сипевшим: «Постой… буду кадыть... кадыть...».
Это не Змеегорыч, это Кадыл, — отстраненно подумал Ростислав.
А хрипящий от злости незнакомец уже был возле него.
— Прекрати-и-и! Зачем тебе эта сука? Нам... дай молодость и силы.
Хрипение перемежалось мольбами:
— Помоги нам — верни вождя и ты получишь все... Получишь огромные деньги… Не бумажные, нет — золото!
Разъяренно взмахнул ножом:
— А стерво! Не хочешь... Такой же выб…к, как и твой дядька. Получи.
Ростислав перехватил жилистое запястье, выкрутил нож. Поразился ножу, изъятому у него при аресте. Затем подмял ослабевшего противника, ударил плешивым затылком об пол раз, другой. У него еще достало сил отползти в сторону и подняться на коленях. Непонимающе и дико глядела на происходящее Наташа. Ростислав улыбнулся ей и... охнул от жгучей боли в голове… На секунду поник, слыша прорвавшийся женский крик.
Косо сдвинулись над ним стены. Размягченные гудроном, просели под коленями половицы. Он стиснул зубы, силясь смахнуть кровь, которая заливала глаза.
«Человек я!»
Вновь что-то тяжелое обрушилось сверху. Уловился дрязг ломающейся кости.
Он запрокинулся, вытянул руки, пытаясь поймать ребристый арматурный прут, занесенный Валериком для нового удара.
— Ты-ы-ы! Наташа, беги!
Валерик споткнулся о лежавшего без чувств Незнакомца, и Ростислав успел схватить обезумевшего приятеля за ногу. Тогда тот обернулся и стал пинать Ростислава свободной ногой, одновременно; нанося удары прутом. Но изуродованный чудотворец держал преступника, словно клещами...
Хлопнул короткий выстрел. Разъяренный незнакомец целился в беззащитную жертву.
От новой вспышки, показавшейся на конце потертого ствола Пархомцев вздрогнул.
А затем сделал шаг. Первый свой шаг в бесконечность.
Часть вторая. ТАБУ
«Ты из людей-то каких?
Кто родители? Сам ты откуда?»
Шиш мечтал о мясе.
Мясо пряталось от человека...
Оно желало, чтобы он убрался восвояси, чтобы он ушел прочь, сгибаясь от болезненного томления во впалой брюшине, сохраняя тусклую гримасу на сухом, окоростевшем лице, сплевывая кровью из разбухших, блеклых, точно водянистая, многажды тронутая заморозками, ягода, десен.
Известно: чем голоднее человек, тем сильнее злорадствуют враждебные ему духи, и тем упорнее скрывается еда от ищущего взгляда.
Ближайший осинник светился бесстыдной наготой.
Два дня и две ночи стонали древесные духи, насвистывали вразнобой потревоженными сурками. Под эти стоны и свист вздрагивали кроны осин, тянулись вслед ледяному ветру. Стылый до ожогов воздух прорывался в пещеру через занавешенный шкурами вход. Он душил, а временами, — напротив, — взметывал пламя костра.
Для тепла требовался туго набитый живот. Который мог примирить шалый жар огня, оплавляющий мех одежды на спине, с ложащимся на грудь куржаком.
Скудная пища мучила всех. Длинноногие — те скулили в голодном полусне. Старались плотнее прижаться друг к другу. Ненасытная утроба выгнала на мороз Шиша. Хотя пытать охотничье счастье в такую пору, когда добыча залегла в укромных уголках, когда даже сороки опасались показаться на открытом месте, оберегая покрытые жестким пером тошнотворного вкуса тушки, было по меньшей мере неразумно. Взлизанный ветром наст поблескивал на солнце. Вокруг было безжизненно и пусто.. Напрасно Шиш озирал местность. Тщетно петлял по логу, приседая как встревоженный лесной кот. Будь он юнцом, попробовал бы коры, тронутой у подроста грызунами. Но Шиш давно вырос и понимал, что не все из пригодного зверью полезно для него.
Этой зимой на кустах редко встречались красно-бурые гроздья терпких ягод. Поздний иней вычернил цвет, а сухое, как оленье копыто, лето добило уцелевшую завязь. Мало, совсем мало наросло к осени орехов, сладкого корня и грибов.
Что касалось последних, один их вид вызывал у него отвращение. Однажды он попробовал грибов из запасов Много Знающего. Наверное в тот злополучный день грибные духи выбрали его своей жертвой. Едва горсть бурых комочков оказалась в животе Шиша, как он не взвидел белого света. Внутренности свело от боли, словно, их проткнуло тупой рогатиной. Кожа покрылась липким потом, а следом подступило удушье. Затем мучительная одурь перешла в бред...
Огромный, грязный, с выпученными глазами Много Знающего, кабан придавил подростка к земле. Шиш рвался из-под вонючей туши. Ненадолго это удавалось. Тогда он прятался за выступами стен, ныряя в пещерный мрак, словно в воду. Но взбеленившееся животное вновь и вновь настигало беглеца, а настигнув, прыгало ему на грудь и вонзало острые копытца в тело подростка...
Выздоровев, он понял, что безнаказанно потреблять сушеную дрянь может только знахарь. Действительно, Много Знающий лишь возбуждался от ядовитой жвачки. Проглотив ее, он начинал сплевывать накапливающуюся на губах изжелта-серую пену, постепенно приходя в неистовство.
Беснуясь, Много Знающий задирался с каждым, кто оказывался рядом. Зато на утро следующего дня он делался слабым, глухим бормотанием и шаткими движениями напоминая Ме-Ме. Как бы то ни было, грибные духи не могли одолеть знахаря. Напротив, когда он принимался за свою жуткую трапезу, даже могучий Пхан обходил его стороной...
Охотник передернулся. Подволакивая ноги, поднялся выше и осмотрелся еще раз. Неясное пятно у основания кучи валежника задержало его взгляд...
В небольшой выемке, среди заснеженных обломков древесины и напруженных веток дремал Большеухий. Было видно, что ночная стыль измотала грызуна. Он ничего не чуял, хотя враг находился на расстоянии вытянутой руки. Не веря, в свою удачу, Шиш размахнулся. Острие копья пронзило пушистый бок...
Свежеснятая шкурка не давала заду остыть. Он жадно поглощал сочное мясо. Нанизанное на прут, а затем обжаренное на угольях стало бы вкусней. Но если хочешь, чтобы не качались зубы и не задушила загнившая кровь, нужно, хотя бы изредка, есть парное мясо. Люди Камня заботились о своем здоровье. А когда желудок длительное время страдает от скудной нищи и вовсе глупо привередничать.
Шиш не спешил, невзирая на холод. Обрыдло сидение в продымленной пещере, на глазах у вспыльчивого Пхана. Безделье портило характер старшего охотника. Все чаще кремневые заготовки в его руках выказывали случайные сколы — Пхан злился, срывал досаду на других. Впрочем, что Пхан? Не он, так кто-нибудь другой. Стоит ли сетовать? Шиш вырос и достаточно окреп, чтобы не бояться тычков старшего охотника или брюзжания Расщепленного Кедра. Хорошо и то, что недовольные всем и вся старухи с некоторых пор остерегаются шипеть в адрес охотника, а к его голосу прислушиваются другие мужчины.
Он кончил жевать. Остатки неплохо бы передать Длинноногой. Передать незаметно от Пхана и знахаря. Которые, казалось, имели множество цепких глаз, если дело касалось еды. Подобные глаза встречались у стрекоз и пронырливых мух. Ко всему: Пхан пренебрегал долгими спорами и без лишних слов пускал в ход затрещины.
С годами плечи Шиша раздались. Впечатление мощи усиливали приплюснутый нос и выступающие скулы. Не единожды ему случалось принимать на рогатину косолапого. И все-таки он не желал ссориться с Пханом и Много Знающим. Которых поддерживало большинство мужчин, равно владеющих и копьем, и дубиной, и первым попавшимся под руку камнем, и... языком.
Средних размеров зверек не насытил охотника. Шиш мог съесть двух и даже трех большеухих за один присест. Вот Длинноногой достаточно того, что осталось — головы и передних лапок. Да и ест она... Странные люди — эти чужаки. Кто их поймет?
* * *
Они пришли издалека. Исцарапанные, выпачканные в болотной тине, они казались близнецами.
Пришельцы были беспомощней сурка, по-сорочьи болтливыми Их одежда из тонкой непрочной кожи слепила глаза и шумела на ходу, как сухая береста. Она не хранила тепла. Искры костра, блохами скачущие в разные стороны, прожигали в ней большие дыры, обнажая бледно-розовое, лишенное растительности тело. Тогда как Людей Камня покрывал упругий, темный волос. Если разобраться, соплеменники Шиша не были волосатыми с головы до пят, но грудь, конечности, а то и спина охотников густо кучерявились... Безволосость пришельцев вызывала жалость. Ну, куда годиться, если даже на голове одного из Длинноногих было пусто, словно по черепу пришельца долго терли наждаком, прежде чем оставить жалкие клочья пуха за ушами да чуть пониже затылка, отчего голова Длинноногого напоминала обомшелый по краям валун.
Много Знающий сразу предположил, что «пустоголовый» чаще использовал собственный череп для сидения, нежели для чего иного.
Племя приняло чужаков без особого желания. Видя в пришельцах обузу. Какой прок от людей, не умеющих охотиться? Опять же, пахли чужаки весьма странно. Первые дни от их непривычного запаха у Людей Камня щекотало в носу. Постепенно запах исчез, перебитый дымом ночевок, ароматом подстилки из сухих трав и угаром подгоревшего кабаньего сала... Что заставило чужаков покинуть родное для них стойбище и искать приюта в предгорьях? Какая земля извергла их? Об этом не заводили разговора. Не интересовались этим и позже, когда пришельцы стали понимать речь хозяев. Любопытствовать нет нужды. Лишнее знание — многие заботы. Если понадобится для дела, чужаки расскажут все сами. Ибо так принято всюду. Человека на пути познания подталкивает любопытство, но сдерживает осторожность.
Вот повадки, Длинноногих вызывали кривотолки. И Пхан не пресекал сплетен. Его волосатое ухо улавливало каждое слово, но не к лицу вожаку вмешиваться в пересуды. И без старушечьей болтовни понятно, что сорвать людей с обжитого места, лишить их общества сородичей способна только весьма серьезная причина.
...Человеку Камня известно чувство родины. Познанное с рождения. Это такое чувство, когда знаешь наперед: за каким выворотнем может таиться опасность, где скорее всего есть добыча, на каком участке леса можно перейти на бег, не рискуя провалиться в яму или налететь на валежину, где, наконец, подручней перевести дух, укрывшись от шквального ветра, без боязни подвергнуться нападению хищника или укусу змеи.
Ощущение родины спасительно и благотворно. Но, будучи уязвленным, оно переходит в животную свирепость. Обостренный патриотизм сродни безумству. Вместе с тем существует простая зависимость: чем тускнее сознание племени, тем оно «патриотичней»… Одарите косолапого способностью связной речи, он тут же примется реветь про свои исконные и неотъемлемые права на возможно больший кусок леса — до тех пределов, где косолапый хоть однажды оставил отпечатки своих лап или хотя бы раз присел по нужде. Научите зверя говорить. И вы услышите о его священном праве на убийство любого, кто осмелится пересечь границы косолаповой родины. Хищник будет вопить о первородстве его, — косолаповой, — крови, о ее изначальных достоинствах, о низменной природе иного зверья и других косолапых. Спросите тогда опасного зверя, что он думает по поводу людей, или тех же большеухих. Да он просто завалится на широкий зад, а потом заявит оскорбленно, что и те, и другие только обременяют белый свет, благодаря ошибке природы. Невдомек косолапому, что природа — всему мать и всем равно родина. Единая и неделимая...
К середине зимы из всех пришельцев Шиш выделил двоих — мужчину с удивительно блескучими зубами и единственную женщину.
Блестящезубый лип к покладистому охотнику, приставая хуже еловой смолы. Старательно подражая интонациям Шиша. Тыкал пальцем в интересующий его предмет и заглядывая в глаза, с вопросительным выражением на узком морщинистом лице.
Язык хозяев пришелец освоил быстро. Зато в остальном его непонятливость походила на скудоумие. Иной сопляк, не успевший добыть и мыши, разбирался в жизни лучше Длинноногого. Как-то Пхан послушав болтовню пришельца, возмутился; замотал головой. Потом ухватил болтуна за жидкий волос у макушки, приподнял, и отправил пинком вглубь пещеры. Пояснив: «Блестящезубому в детстве упало на башку трухлявое дерево».
Вечерами чужак увлеченно разглагольствовал: «Золотой век... Золотой век...» Ни знахарь, ни Шиш, никто другой не могли уразуметь, что бы это значило. Послушать Длинноногого, так называлось время — сверкающее, словно зубы самого чужака. Плохо верилось, чтобы время имело цвет и блеск. Чтобы его можно было разглядывать, будто оно — пятнистая оленья шкура. Для людей время имело смысл лишь постольку, поскольку давало возможность разделаться с делами. Иначе какое дело людям до того, существует оно или нет? Кому какая забота о том — есть ли у времени конец? Коли есть, стало быть его не было вовсе. Оборванное время сродни несостоявшемуся.
Но совсем становилось дико, когда длинноногий болтун твердил про беззаботную жизнь в «блестящее» время. В дальнейшем выходило, что Пхан, кривой Ме-Ме и сам Шиш должны получать равные с другими доли мяса. Мало того. Утратившие силы, постоянно ворчащие старухи, по словам пришельца, имели право питаться наравне с мужчинами. Завершалось тем, что Люди Камня прямо-таки обязаны говорить друг другу ласковые слова и постоянно скалиться, словно обожравшийся рыбы косолапый.
Умничание Блестящезубого вызывало смех. Неужели умелый добытчик согласится получать мяса столько же, сколько заслуживает Ме-Ме? Какой мужчина смирится с долей бестолкового урода, видевшего одним глазом кусок в собственном рту, а другим — во рту соседа? С долей глупого Ме-Ме, который бросает копье в жирную свинью, а попадает в зад Много Знающего? Шиш! В племени Пхана никто не умирал голодной смертью, но охотники ели мяса больше других. Кто промышляет зверя, тот чаще набивает желудок. Это мудрый закон. И не пришельцам его отменять.
Чужаки прожили в стойбище много лун. Однако по-прежнему остались чужаками, сохраняя необычные ухватки. Так, ощутив тяжесть в животе, они прятались подальше от жилища. Много Знающий уверял, будто пришельцы крадутся по вполне обычному делу подобно хорьку, укравшему оленью печенку. Что ж, если Длинноногие стыдятся собственного голого зада — это их дело. Но когда пришелец воображает, что Люди Камня способны на убийство себе подобных!.. Зачем спрашивается, Пхану нападать на Живущего за Рекой? Разве Пхан или Расщепленный Кедр пытались разбить головы Длинноногим? Разве Пхан встретил Блестящезубого ударом копья? А стоило бы. Чужак надоедлив, как осенняя муха, и невоздержан на язык. Хороши нравы в племени пришельцев, коли Блестящезубый позволяет себе думать о хозяевах подобным образом. Пусть чужак благодарит духов, что его опасные слова миновали слуха старшего охотника. Иначе была бы ему нахлобучка...
Шишу приходилось драться. Однажды он сцепился с Ме-Ме из-за плохо обглоданной кости. Оленья кость хранила остатки нежного, растекающегося на языке, розового мозга и выглядела одуряюще вкусно. Добыча принадлежала Шишу, который первым поднял ее. Но Ме-Ме вырвал кость из его рук. Тогда Шиш набросился на похитителя. Вскоре у наглеца пошла носом кровь, а в следующий момент он ерзал спиной по земле, суча ногами, хрипя и обмирая... Лицо поверженного мелькало внизу бледным пятном, в центре которого вздувались и лопались темные пузыри...
Растащил драчунов знахарь. Поймав Шиша за уши жесткими, как таловые прутья, пальцами. Много Знающий поднял юнца на воздух, — это было так больно, что у подростка намокли глаза, — и хладнокровно отчитал. Его слова запомнились надолго:
— Если ты, сородич хорька, задушишь Ме-Ме, то будешь выгнан из стойбища. Тебе придется изворачиваться в одиночку: ночевать где попало, питаться кислой ягодой, безвкусной травой и жесткими корешками. Ибо промышлять мясо такому сопляку, как ты, не по силам. Зато косолапый будет промышлять Шиша. Если косолапого не опередят волки. — Много Знающий встряхнул подростка, словно тот был снятой шкурой и с нее требовалось удалить остатки древесной трухи, которой зачищали мездру. Шиш попробовал вырваться, укусил руку мучителя, но получил чувствительную затрещину.
— Знай, Шиш, — продолжал знахарь как ни в чем не бывало, — племя никогда, ну никогда! не забывает убийства. Лишив жизни человека, ты рано или поздно поплатишься своей. Если убьешь Живущего За Рекой, или одного из Поедающих Глину, то приведешь духов смерти в собственное стойбище. За первым убитым появятся другие, еще и еще... Они будут умножаться, пока не отправится к духам предков последний из соплеменников того, кто убил первым.
Знахарь вновь встряхнул драчуна:
— Заруби на носу, что руки, копье и дубина имеются у человека для охоты на зверя, но не для драки с людьми. Наши предки избегали ссор. Правда... — Много Знающий раздумчиво выпустил Шиша из рук...
Охотник завернул остатки зверька в подмерзшую шкурку, засунул за пазуху. Груди коснулся холод. Потянуло в тепло пещеры...
Обратная дорога казалась трудной, несмотря на удачную вылазку. Обледеневшие каменные залысины выскользали из-под ног, а тропинка тянулась и тянулась вверх. Раз-другой, не устояв, он скатывался на четвереньках, с трудом удерживая копье и сверток.
...Запутан след Блестящезубого. Вот Длинноногая проще. Внешне она мало отлична от пришельцев-мужчин: схожая одежда, короткий, густой и несколько иного, — красноватого, — оттенка волос. Ее не портили даже длинные, тонкие ноги.
Рыжая сущность пришелицы увлекла Шиша. Пришелица не допекала расспросами. А за день до большой метели приятно удивила охотника, залатав прореху в его капюшоне.
Неожиданный поступок женщины озадачил. Поразмыслив, он шепнул ей, что она могла бы стать его подругой. Так сказал он — один из лучших добытчиков племени. Предложил при условии, если Длинноногая способна иметь потомство от Человека Камня. В чем он почти не сомневался. Почти. Так как довольно схожие существа порой различны по сути. Уж сколько общего между лисой и собакой, а никто не встречал их помеси.
Лестное предложение было встречено без радости. Пришелица зашипела, будто наступила на горячие угли. Отдышавшись, она принялась втолковывать ему, почему не может стать его подругой. Голос ее сделался сладким, слаще березового сока. В нем прорезались заискивающие нотки. Мол, она знает, каким великим охотником является Шиш. Ничуть не сомневается в крепости его рук, быстроте ног и зоркости глаз. Она согласна с тем, что он не уступит в сообразительности иным цивилизованным (здесь он не понял) мужчинам. И все-таки, — она дурашливо вздохнула, — она не в состоянии связать свою жизнь с представителем (снова непонятно) каменного века, с примитивом, у которого отсутствует абстрактное мышление (духи знают, что могут означать эти заковыристые слова!). Из всей трескотни Длинноногой он понял одно: ему не должно злиться на Длинноногую, потому что он не умеет... считать. Говоря языком его племени, он не в состоянии определить, сколько им добыто оленей, или косолапых, или... Здесь охотник рассердился. Добычу не считают. Добычу жарят, а потом едят. Ну а если говорить серьезно... С какой стати она вообразила, что племя Пхана целиком состоит из таких как Ме-Ме? Хотел бы он знать, так ли умна сама Длинноногая? И лукавый охотник устроил проверку:
— Пусть женщина скажет, сколько человек находится в пещере?
Длинноногая растерялась, прикусила сорочий язык:
— М-м-м...
Опомнившись, заявила, что не считала, да и считать, дескать, мудрено — в таком полумраке.
Теперь улыбался Шиш; он старался быть снисходительным:
— Людей в племени столько — сколько пальцев на руках у охотников численностью пальцев одной руки, да еще один палец. Количество женщин, старух и младенцев — пальцы рук и ног у меня и Пхана, но без больших пальцев рук у обоих.
Проступившее на лице Длинноногой смущение его позабавило.
— Может ли женщина чужого племени ответить на более простой вопрос: что появилось раньше — птица или яйцо?
Длинноногая замахала руками, точно собиралась взлететь. Нет, мол, и быть не может ответа на такую задачу. А ответ известен каждому мокрогубому детенышу. И птица, и яйцо появились одновременно. Так было в Самом начале мира — яйцо внутри птицы, а птица... в яйце!..
На звуки разгоревшегося спора подползли другие чужаки. Насели кучей на загадчика. Приметил суматоху и придвинулся ближе знахарь. Вперился в спорщиков красными глазами. Принялся подзадоривать Шиша, которому Блестящезубый наступил на ногу.
Шиш ногу отдернул. Чего пришелец даже не заметил, громко возмущаясь хитроумием охотника:
— Это не доказательство! Примитивный счет — не в счет!
Охотник со знахарем лишь догадывались о смысле сказанного Блестящезубым, не улавливая сути замысловатых слов, которыми он осыпал слушателей:
— ...Разницу в количестве предметов способны определять многие животные, птицы и даже рыбы. Строго говоря, наличие счета — еще не интеллект. Вот вера Людей Камня в духов показывает действительный уровень их развития...
— Таким образом...
И затрещал. И понес чушь: «...моногамия... непременная полигамия... мезолит... неолит...» Тут у кого хочешь лопнет терпение. Пхан закряхтел, перекосился и швырнул в крикуна обглоданной лопаткой. Угодив в голый затылок пришельца. Блестящезубый охнул. Осторожно потер ушибленное место. Оглянулся на старшего охотника и перешел на шепот:
— Чего ради Люди Камня поклоняются духам?
Поминать духов без особой нужды, если не опасно, но в общем-то ни к чему. Поэтому Шиш, в свою очередь, ответил чуть слышно:
— По-другому нельзя. Духи везде: в камнях, в дереве, которое растет у пещеры, в большеухом... В косолапом живет очень злой дух. В Блестящезубом тоже имеется дух, только очень слабый. Вот швырнет Пхан в чужака дубину, у Блестящезубого череп лопнет, и дух его выскочит вон.
Охотник пошутил. Однако Длинноногая поежилась. Лишь Блестящезубый продолжал упираться. Доказывал, что никакого духа в нем нет. Ему-де жаль, огорчать гостеприимных Хозяев, тем более он не желает их оскорбить. Но его прямая обязанность — открыть им глаза. Он верно знает, что духи — выдумка. Сказка. Ерунда. Чушь собачья. Все Длинноногие могут подтвердить. Ну кто и когда видел духов? Много Знающий улыбаться перестал. Лязгнул зубами. Вмешался вкрадчиво:
— Кто же находится внутри пришельца?
— Во мне? Душа... Ах нет! Черт! Как вам объяснить? У нас говорится — душа. А на самом деле и у нас, и вас есть — разум...
— Блестящезубый когда-нибудь видел этот свой разум? — Грубо перебил его знахарь. — Может он скажет: каков из себя его разум? Или покажет его? — Последнее прозвучало двусмысленно, но только для пришельцев. Нижняя челюсть Блестящезубого задрожала: — Не-е-е-ет. Но нельзя же ставить вопрос подобным образом... Его перебил Шиш.
— Когда мы чувствуем, но не видим, не можем пощупать или обнюхать, то понимаем — это дух. Пришелец по-своему верит в невидимое и неосязаемое и называет это другим словом. Пусть. Язык Длинноногих отличается от языка Людей Камням Что ж. И Поедающие Глину обращаются к духам особым образом, нежели мы. Однако дух остается духом.
Охотник повторно убрал ногу. Поморщился. В сумраке пещеры Блестящезубый вел себя хуже слепого. Кажется в нем сидит слабый, но очень вредный дух. Заставляющий наступать на ноги окружающим людям.
Видя Шишово недовольство, по-барсучьи фыркнул Много Знающий. А охотник продолжал:
— Последнюю луну чужаки ругают нашу жизнь. Они уже забыли про хваленое ими время. Сверкающее, словно зубы пришельца с голым черепом. Они все чаще кричат: «Каменный век! Каменный век!» Что плохого сделали Длинноногим духи Камня? Разве в родном стойбище Блестящезубого шкуры разделывают пальцем? А на охоту ходят с палками и дубинками? В таком случае плохи дела Длинноногих. Без доброго камня не сделать им скребка, ни рубила, ни наконечника для копья. — Он покачал головой.
Действительно. Дикое племя породило пришельцев. Они подобны суркам, которые кроме свиста да тонкой шкурки ничего не имеют. Правда, у сурка поверх мяса есть слой жира, толщиной в палец. У пришельцев же в чем только дух держится.
Позднее Шиш услыхал еще одно любопытное высказывание Блестящезубого...
Речь пришельцев последние дни стала много понятней. В юности Шиш первым среди ровесников научился понимать людей, заселявших огромное степное пространство по другую сторону болота. Он усвоил язык Поедающих Глину, нимало не задумываясь над своими способностями, поразившими знахаря. Звучание чужой речи воспринималось Шишом свободно, без особых усилий с его стороны. Непривычные сочетания, звуков отпечатывались у него в голове в определенной последовательности, дабы незамедлительно востребоваться в нужный момент, в полном соответствии закодированным значением.
...Начало разговора, который происходил у него за спиной, охотник пропустил: в жилище галдела ребятня, а прислушиваться специально было недостойным занятием. Однако отчетливая часть беседы достигла слуха помимо его воли. Услышанного оказалось достаточно, чтобы он сообразил — Блестящезубый верит в духов!
— ...человек свободен изначально. Пределом свободы является, физическая ограниченность его природы, базисное несовершенство естества. Здесь, человеческий дух в выигрыше перед телесной оболочкой, ибо в состоянии преодолевать любые границы, им же, кстати, устанавливаемые.
Длинноногая возражала тихо. Видно долгий спор утомил ее:
— Границы свободы определяет общество, а не абстрактный дух. Личность без ограничений — это распад. Выньте из человека скелет — он обернется аморфной массой, студнем, водянистой слизью. Свод определенных ограничений и запретов является скелетом сообщества разумных.
— Разумников, — съехидничал Блестящезубый, — Догмы! Догмы! Личность, закостеневшая под панцирем бесчисленных запретов, не может оставаться личностью. Она перерождается в существо-функцию. — Пришелец парировал выпады собеседницы со злым остервенением, с каким Люди Камня идут на косолапого.
— Личность, занузданная по рукам и ногам, сведенная до уровня кораллового полипа, не способна созидать ничего кроме рифов на пути человечества... Ох-ти, это нескончаемое бдение! Разве нам мало потерь на дороге всеобщего нивелирования, подгонки под абстрактный эталон?
Шиш ощутил как напряглась Длинноногая. Показалось, будто он видит ее подсохшее лицо и перехлест сухожилий на белой шее.
— Замолчи! — она перешла в нападение, — Дома ты отчего-то помалкивал. Зато теперь... Насколько я поняла, ты всегда думал так, но... Но выходит, лицемерил?
— Эх, равноправная гражданка высокоорганизованного общества, если бы. Если бы я лицемерил. Но нет. Я попросту боялся. Боялся собственных мыслей. Я и теперь боюсь. Хотя в нашем положении страшиться чего-либо — смешно. А я все-таки трясусь. Наверное мой страх пожизненный. Почему — мой? Он и ваш. Все мы несем гены этого страха.
— По-вашему вера в идеалы, следование высоким понятиям — это преступная вера?
— Да не о том я. Не о том. Отрицание морали, как и абсолютизирование общепринятых условностей, — одинаково пагубно для интеллекта...
Длинноногая окрысилась:
— Мы плохие?! Может здешние туземцы вызывают у тебя большое уважение?
К счастью для говорившей, Шиш не уловил подтекста в слове «туземцы».
— Вот-вот-вот! Едва кто не похож на нас, мы тотчас отказываем ему в равенстве. Да и в интеллекте тоже. Но кем доказано, что разум появлялся поэтапно? Эдакими дозами? Что каких-нибудь пятьдесят веков до нас существо, именуемое человеком, было разумным ровно наполовину? Бред, бред и бред! Разум — он такой. Он или есть, или его попросту нет.
— Ты отрицаешь эволюционный путь развития? Однако возникновение интеллекта не может быть одномоментным актом, итогом некой разовой мутации. Твои лженаучные домыслы принижают разум. Они...
Блестящезубый вздохнул. Когда он заговорил вновь, то охотник поразился боли в его голосе.
— Божественный разум! Не чересчур ли его превозносим? По принципу: хвалить, так свое. А является ли он вершиной развития материального мира? И насколько он сам материален, в своей основе? Но главное — направлено ли развитие мира непременно в сторону совершенства? А ну как нет! Кто и когда установил, что мир совершенствуется, а материя направленно организуется?
— Что предлагаешь ты?! — Она горячилась. Волновалась так, словно уже сегодня Длинноногим предстояло возвратиться в родное стойбище, где, судя по всему, Блестящезубого ожидал холодный прием. — По-твоему надо менять строй? Представь, во что это выльется! Поддерживание всякого порядка происходит за счет некоторого количества жертв. Можно сказать, что энная доля общества служит топливом для получения энергии, необходимой для сопротивления анархии. Сейчас жертвы единичны; то есть — мы имеем перед собой оптимальный вариант. Перемены, о которых, оказывается, мечтаешь ты, потребуют миллионы жизней. Наш народ такое уже проходил. Ну скажи, куда ты прикажешь деть всех нас — праведных? Восстановишь те же «осуждения», но уже в организованном массовом порядке? А может потребуешь всеобщего покаяния?
— Не кричи, — пришелец еле сдержался. — Хватит воплей и истерик. Помолчав добавил скучным голосом: Зачем шуметь. Мы не у себя. И нашему «сверхорганизованному», самому-самому, обществу пока не угрожает приезд такого иноверца, как я...
Шиш не разобрал, кто из спорщиков всхлипнул.
— ...Каяться? В чем каяться каждому из нас? Лично я не был доносчиком и никого не «осуждал». Возможно, мне просто повезло. Возможно. А возможно, все мы были «протестантами» в мечтах и информаторами по сути. Поэтому бессмысленно интересоваться: была ли осведомителем ты.
Он подчеркнул последнее слово.
— Хотя такое тоже возможно. Недаром тебя, — неспециалиста, — включили в состав команды. Да-да, и не надо удивляться. О твоей неподготовленности первым догадался не я — Остроносый.
Разговор сделался глуше.
— ...кому судить. Насилие порождает только насилие. Это ведомо даже нашим хозяевам... Призывать к покаянию?.. Безгрешному излишне каяться. Покаяние закоренелого преступника фальшиво... судить не людей, но идею...
— Большая кара — знать, что служение твое отвергнуто народом. Ибо служил ты преступным идеалам. Что может быть суровей такого наказания... лишить морального права на гордость прожитым, заставить скрывать прошлое, будто оно уворовано...
Резкий, дробный смех Длинноногой (не смех — почти кашель) вызвал у охотника тоскливое чувство. Шершавые градины смеха раскатились по земляному полу, остудно замерли в пыли, истаяли подле, горячих, подслеповато проглядывающих багровыми глазками сквозь толстый слой пепла, углей:
— Мелковат из тебя реформатор. Эк напугал! Да твои противники сказали бы спасибо за подобное «возмездие».
— Вряд ли. — Пришелец не смутился. — Предоставить человека суду собственной совести, уязвить его гордость, обречь на умалчивание о главном для него — на умалчивание о делах и убеждениях его... Вот подлинная мука! Без утверждения себя в прошлом нет настоящего и не может быть будущего. Разумеется речь идет о личности. Лишь она достойна возмездия. Определять кару для человека-функции — абсурдно. Прежде надо дать ему возможность стать индивидуальностью. Нельзя бить слепого за его слепоту...
Дальше охотника отозвал Пхан...
Вблизи пещеры слоилась настораживающая тишина. Безмолвно рдели резцы скал, прокусившие плотную белизну неба. Немо закрывала и открывала клюв озябшая ворона на куче отбросов. Было похоже на то, что огромная птица поперхнулась прошлогодними рыбьими позвонками. Молчал, не издавал скрипа, спрессованный хиусом, недавней оттепелью и ногами снег. Чуждо, — без единой живой фигуры в проеме, — проглядывал узкий лаз в пещеру. Отсутствовала даже ребятня, неуемная и в полуголодную, ознобную пору, которая не была помехой для того, чтобы порезвиться на свежем воздухе...
На припорошенном золой, устеленном ощипами пушистого мха полу скукожился Ме-Ме. Пряча в тени затвердевшего тела месиво разбитой головы. В ноздри било пережженой плотью и чем-то тошнотворно острым, вызывающим желудочный спазм и затрудняющим дыхание.
Племя толпилось вокруг Ме-Ме. Так стоят после большого, но неудачного загона.
...Большой загон бывает только осенью. Когда рогатая, копытная, хрюкающая живность давно опросталась потомством, молодь успела окрепнуть в ногах, а звериная утроба обнеслась нутряным салом. Это осенью.
Сейчас была зима. Зимой выходят на одиночного зверя. Правда, если повезет, можно встретить оленье стадо, голов эдак в десять-двенадцать. Обнаружив такое стадо, делают загон, но малый, в котором участвуют одни мужчины, способные вести облаву по пояс в снегу...
Тишину сломал Пхан. Он высказался кратко, как подобает старшему в племени: «Надо звать Сима». Стоявшие одобрительно загудели.
Живущий За Рекой Сим славился на много дней пути. Напав на след, он шел до конца. Не горячась, не сбиваясь на глухо затравеневших полянах, на кочковатом, с бездонными бучилами болоте, на кремнистых, стекающих под ногами, осыпях. На гладких гранитных плитах он отличал россомаший след от поступи косолапого. Племя не впервые обращалось к нему за помощью. Именно он отыскал заблудившегося ребенка. Отыскал там, где охотники и не предполагали — в широком дупле кедра, далеко от стойбища, в стороне от промысловых и звериных троп.
Угрызчивое время словно упустило следопыта из своей зубатой пасти. Долгие годы покорежили спину, нагнали морщины на лоб, щеки и мочки ушей, но и только. Старик двигался по-былому быстро и уверенно. Встретивший следопыта Пхан завистливо сопнул носом при виде нестарческой походки Сима. Вслух же пожаловался: «Злые духи забрали Ме-Ме». Сим показал, что скорбная новость ему известна и что он ждет подробностей.
— Живущий За Рекой поведет охотников к логову духов-убийц. Люди Камня накажут врагов. А Симу будет отдана задняя часть первого же добытого Людьми Камня оленя, — старший охотник был щедр. Следопыт одобрительно кивнул.
В пещере он присел подле убитого. Тронул обветренными пальцами жуткую рану, и кивнул снова, размышляя:
— Злые духи всегда оставляют след. Пусть то — скатившийся с горы камень, поваленное ветром дерево или водоворот в реке. Симу встречался и след духов, обжигающих мясо своей жертвы. Их шаги сотрясали землю, а когти ослепляют блеском. Однако зимой гремучие духи спят. Они просыпаются, подобно косолапому, только поздней весной...
Сим слегка важничал. Пхан понимал это. Человек может гордиться своим мастерством. Уважение собратьев теряет не тот, кто лишен таланта. Посмешищем делается человек, претендующий на большее, нежели способны дать его руки и голова. Не по делам заносчивый охотник может реветь одинцом в пору гона, заглушая сказанное другими, но сородичи не услышат его. Издревле племя беспрекословно слушается старшего. Но у стойбища быстро прорезаются глаза, если старший ловчит на охоте, если сказанное им лишено практического смысла, если, наконец, он требует себе то, без чего обходятся остальные. В подобных случаях старший охотник тщетно занимает лучшее место у костра. Он продолжает жить среди соплеменников. Но они не замечают его. Он кричит на бездельничающих женщин. А они смеются над ним. Он тянется за мясом. Ему подсовывают долю немощной старухи. Постепенно им овладевает дух тумана: люди проходят сквозь него и не встречают препятствия, женщины разжигают костер, и яркое пламя разгоняет бесплотную тень бывшего вожака. Очищая место для нового.
Охотники шли за следопытом.
...Ме-Ме покинул пещеру накануне вечером. Когда непогода только-только начала стихать. Ближе к восходу солнца шкура над входом вновь поднялась — ледяной ветер дохнул в лица спящих. Коротко заворчав, Пхан приподнял, голову вслед выходящему Шишу, и задремал снова. Встревожился он позднее, хватившись косоглазого, когда исчезла последняя надежда, что Ме-Ме увлекся погоней за случайным зверем, припозднился и заночевал в шалаше Расщепленного Кедра. Вскоре Пхан поднял людей на поиски...
Ветер стер отпечатки подошв пропавшего начиная от спуска в лог. Остывшее тело обнаружилось чисто случайно, проступив темным пятном на дальнем взлобке — на полпути к топи.
Люди Камня знали многие утраты. Случалось, охотник находил смерть в когтях разъяренного шатуна. Бывало, что человеческую жизнь отнимал камнепад. При желании Сим мог бы рассказать о том, как огненный дух грозы уносил людей его рода или как рухнувшее дерево ломало хребет неосторожного. Реже люди погибали от укуса змеи и от болезней — знахари ведали в своем деле; опять же природа предусмотрительна: большинство обитателей стойбища редко ошибались в выборе спасительных средств при недомогании, иначе и степь, и предгорья довольно быстро обезлюдели бы. Человек сообразительней животного. А ведь зверь сам находит для себя лекарство. Сохраняя собственный род от вымирания.
Из всех известных людям случаев смерть Ме-Ме была особой, так как полученная им рана не исключала возможности убийства. Мысль об этом особенно страшила Пхана...
Сим остановился. Переступил с ноги на ногу, проверяя наст. Веником из сухой полыни размел тонкий слой снежной крупы. «Косолапый», — пояснил он настороженным охотникам. «Зверь не тронул Ме-Ме. Обнюхал и... ушел. Быстро ушел. Туда...» Живущий За Рекой ткнул пальцем в направлении склона, поросшего густым пихтачом. «А приполз Ме-Ме оттуда», старик заспешил вниз.
Сказанное Симом осознали не вдруг. Выходит, изувеченный соплеменник прополз значительное расстояние, пока его жизнь не истончилась паутинкой и не оборвалась, вместе с последними каплями вытекающей крови. Набежавший на него хищник почуял отвратный дух паленого и, фыркнув, ушел на угор.
Следопыт двигался размеренно. Время от времени он замирал. Щурился. Трогал наст. Потом шагал дальше, изредка меняя направление.
Последняя тропа косоглазого огибала крупные валуны, выветренные на макушках бугры похожие на лисьи черепа, разбросанные тут и там. След нырял в слежавшийся снег рытвин. Тянулся шнуром через долину, рассеченную стенкой камыша, переходящую в подмерзшую, но так и не отвердевшую по всей плошали топь...
Солнце заспешило на ночлег, когда Сим окончательно встал. «Здесь!» Старик озирался. Его каплевидные глаза увлажнились от напряжения. Заостренные уши улавливали каждый звук. Он вздрогнул, когда Шиш шагнул ближе, недовольно глянул на охотника.
Прямо перед ними на сером, оголенном ют снега скате поблескивал веер брусничных капель. Ближе к камышам капли сливались в единое пятно. Непонятно, чем камыши могли привлечь Ме-Ме? Люди сторонились этих мест. Летом близ болота донимала мошка; по-крапивному секли кожу пауты; зло наседал, с гулом срывающийся из гущи рогоза, комар. Зимой здесь было много студеней, чем в окрестностях стойбища. Но главное — близ топи не водилась добыча. Скорее сам охотник мог стать добычей цепких окон, замаскированных окружьем осоки, подушками бурых, желтовато-зеленых, красноватых мхов и щитом из водяной звездочки и прочей влаголюбивой растительности. Разлагающаяся органика сдерживала топь от промерзания, отчего трясина легко раздавалась под тяжестью человека.
Растерянность Сима передалась остальным, хотя теряться, казалось, не было причины — болото сохраняло бездвижье. К далекому горизонту тянулись сбивчивые ряды кочек. Кочки щетинились сухими стеблями осоки и разнотравья, кое-где задавленного корнями черной ольхи. Малообитаемая летом, сейчас трясина выглядела совершенно мертвой — ни следа, ни звука, лишь на пределе видимости медленно отрывались, отслаивались от земли и белесо маячили над горизонтом полосы переохлажденного, подпитываемого от болота влагой, воздуха, да отчетливо шуршали нарождающиеся на ветках и стеблях кристаллы инея.
На что наткнулся Ме-Ме в столь безжизненном месте? Как он осмелился зайти сюда? Ведь косоглазый, не отличаясь особым умом и сообразительностью, имел достаточно рассудка, чтобы не рисковать попусту.
Мужчины сбились в кучу. Знахарь и Пхан держались вместе, подле Живущего За Рекой. Тонкое Дерево тянулся к Шишу, но его сдерживала боязнь показаться навязчивым или излишне робким. Поэтому он перехватил поудобнее древко копья, разминая застывшие пальцы, и остался на месте. Юноша ощущал волнение старших. Он очень переживал: сумеет ли он достойно встретить неведомую опасность? На всякий случай Тонкое Дерево решил следовать за Шишем. Коль непредвиденное случится, и тот возьмется за оружие, то пустит в ход копье и Тонкое Дерево. Ну а если Наставник сочтет незазорным уступить противнику, юноша покинет место схватки вместе с ним. Молодой охотник не догадывался, что охотник, в свою очередь, полагался на Пхана.
Бугристый, полумесяцем, шрам на, правой щеке старшего охотника побагровел — в ореховых глазах Сима мелькнул испуг. Следопыт заговорил:
— Смерть, которая настигла Ме-Ме, прыгнула на него из болота. — Голос Живущего За Рекой сел. — Я не вижу отпечатков лап этой смерти. Зато брызги крови говорят о многом, а мой нос чует запах, оставленный злыми духами. Запах болотных духов не нравится Симу.
Странный запах ощущали все. Местность была буквально напитана им — чуждым и тревожным. Казалось, разверзся вход в громадное волчье логово, откуда наносило миазмами потного хищного тела. Но напрасно раздувались ноздри охотников. Ничто не подсказывало им, с каким врагом предстояло столкнуться. Незнание усиливало страх. Шиш чувствовал себя так, словно в одиночку, блуждал по незнакомому лесу, где в слабом лунном свете всякий бугор, всякий вывернувшийся из чащи куст выглядит изготовившимся к прыжку хищником, где не остается ничего другого, как озираться, крутиться волчком, дабы вовремя отразить нападение. А оно все медлит. Враг видится всюду, а копье не находит цели. Ужас нарастает и нарастает. Возникает желание закричать, чтобы диким воплем отпугнуть нахлынувший страх, заодно нагнав ужас на вездесущего врага. В конце концов дрожащий человек испускает крик, потом переходит на бег. Пальцы ног больно цепляются за выступающие корни и неровности бездорожья. Бегущий шарахается меж стволов; его загнанный дух сжимается в ледяном ознобе...
Новый возглас Сима сбил охотников в кучу. Расщепленный Кедр высказал догадку: «Большой Клык?!» Следопыт протестующее отмахнулся: «Большой Клык ушел навсегда. Уже отец моего отца не застал зверя с двумя огромными клыками, каждый из которых был больше охотника». Сим развел руки, показав величину клыка навсегда исчезнувшего гиганта. «Большой Клык ел траву и листья деревьев. Он не мог бросать огонь, а запах его не был столь пугающим».
Живущий За Рекой попятился. «Надо уходить! Злые духи болота сильнее охотников. Сим чувствует это».
Следопыт пятился, пока не посчитал безопасным повернуть к болоту спиной. Пхан без колебаний доверился интуиции проводника. Все вздохнули облегченно, когда полоса камышей осталась далеко позади.
«Здесь мертвые служат живым.»
«Люди по большей части ссорятся из-за слов. Из-за слов они легче всего убивают и идут на смерть»,
Блестящезубый слег. Хворь пристала к нему после того, как Пхан наложил табу на болото. Пришелец с голым черепом стал молчаливым, перестал надоедать Шишу расспросами. Он даже не жаловался на хворь. Прежде суетливый и подвижный, чужак уже не вставал раньше других, чтобы обтереться снегом, как делал это раньше. Теперь он лежал неподвижно и день и ночь. Его не волновала еда. Первое время он еще приподнимался на встречу охотнику. Меняясь в лице и приоткрывая рот, будто собираясь сказать что-то важное. Но каждый раз спохватывался и молча ложился. Спутники Блестящезубого похоже одобряли сдержанность больного собрата.
А за пределами пещеры отступила трудная пора. Спасаясь от загонщиков, на речной лед выскочил крупный рогач. На скользком покрове матерый самец разодрал в прыжке пах. Обутые в шкуры, мехом наружу, охотники, хорошо держались на отполированной стужей и ветрами поверхности. Они добили оленя.
Едва разъятая на части туша изошла паром, набежали женщины с радостной вестью — перемерзла вода над отмелью. Отделив от реки затон, изобиловавший глубокими ямами — зимними стойбищами рыбы.
Вскоре через пробитые в толще льда отдушины выплеснулась на воздух бурлящая масса воды и рыбы. Сине-красные с пышными плавниками хариусы, серебристо-кремовые ленки, зеленоватые остромордые травянки и громоздкие, изумрудного отлива таймени рвались из проруби. Оставалось подхватывать широко разевающую рот рыбу острым костяным багром под жабры и отбрасывать на лед.
Но ни удлинившийся день, ни сладкий жир рыбьих голов не трогали больного пришельца. Кожа его усыхала, обретая холодно-серый оттенок. Щеки уходили вглубь, так плотно обтягивая челюсти, что по-щучьи заострившиеся скулы, казалось, вот-вот вырвутся наружу.
Временами больной полностью замирал. Сосредотачиваясь на одной-единственной, только ему понятной мысли. Он думал о том, что его шумная, полная споров и суеты жизнь завершается без малейшей надежды на поправимость содеянного. Изменить или, хотя бы, предсказать возможные последствия допущенных им ошибок он уже не мог. Судьба лишила его последней возможности — предупредить о грядущей опасности Людей Камня, и тем облегчить собственную душу. Открыться хозяевам — значило обратить их гнев против остающихся Длинноногих. Такое было сверх его сил. Десятки сознательных лет умирающий верил в точное знание. Он не страшился ошибок на пути к познанию Истины. Веруя в изначальное предназначение Разума. Неужели он был слеп? Кому во Вселенной даровано право что-либо предназначать человечеству? Разве есть в бездушном пространстве надчеловеческий интеллект? Способный на несколько ходов вперед определять логику существования Разума? Логику существования Длинноногих, уверенных в грядущем всесилии Интеллекта над Материей. Логику существования Людей Камня, с их интуитивным осознанием Мира и Космоса.
Абсолютизируя конечную цель, Блестящезубый оставлял, за собой право решать за других. Право ошибаться за чужой счет. Но была ли она — эта цель? А может смысл жизни вне ее самой? И нет нужды платить за знание столь щедрую цену? Залезая в карман ближнего по разуму? Теперь он уходил, и потому не щадил себя. Он не знал ответов на поставленные вопросы, а только сознавал свою вину и ставшее ясным собственное незнание.
«Знаний сердце мое никогда не чуждалось. Мало тайн, мной не познанных, в мире осталось. Только знаю одно: ничего я не знаю — вот итог всех моих размышлений под старость».
Губы больного шевельнулись. Шиш наклонился ниже, однако не разобрал о чем прошептал Блестящезубый...
Пхан больше не дразнил пришельца. Он одобрительно хмыкнул, заметив попытку знахаря изгнать из Длинноногого духов болезни.
Много Знающий старался на совесть. Он прыгал через больного. Пускал на него дым тлеющих веток маральника и пихтовых шишек. Насильно втискивал в сопротивляющийся рот кашицу из корня, придающего силы. До полуночи он раскачивал перед глазами лежащего большой кристалл. Подвешенный на нити сплетенной из усов рыси, чистой воды камушек искрился в свете костра, испуская радужные лучи, заставляя цепенеть мозг...
Знахарь оставил уснувшего чужака в покое ближе к рассвету «Духи горячки сгустили кровь Блестящезубого. Пришелец не хочет бороться с плохими духами. Он уйдет утром». Старший охотник понимающе прикрыл глаза тяжелыми морщинистыми веками.
С восходом солнца Блестящезубого не стало. Шиш сообразил это, услышав всхлипывания Длинноногой.
* * *
Похоронив соплеменника, пришельцы вновь отдалились от хозяев. Чуть на возвышенностях показалась прозелень, они стали покидать стойбище на весь день, возвращаясь только на ночлег да в случае сильной грозы.
Зачастившие было шумные, необычайно ранние грозы уступили место сухому, до звонка в ушах, лету. День начинался мимолетной, как движение век, зарей. Затем солнце принималось выщелачивать небесную синеву в поисках микроскопических остатков влаги на задыхающейся от зноя земле. Слабая поросль ощущала глаз; быстро сделалась жесткой, пыльной и ломкой. В глубинах земных пластов остановились родники. Их прохладные струи терялись далеко на подступах к заголившемуся речному руслу, белая от налета соли и прокаленного ила галька которого походила на раздавленный змеиный скелет.
Здесь у обсохшей коряги Шиш всякий раз заставал Длинноногую…
Вся окрестная живность стремилась к воде. Потому в береговых зарослях ивняка, среди берёзово-осинового редколесья и колючих клубков ежевики, перетянутых жгутами хмеля, еще встречалась добыча. Старухи покрепче, женщины и ребятня спешили собрать обмелевших моллюсков и мясистых личинок, ужатых в хрусткий панцирь. Не собранное быстро прятал под собой сгущающийся от жара ил, разбавленный едкой вонючей грязью.
Длинноногую не занимали ракушки. Она сидела, провожая глазами громыхающих стрекоз. Именно такой она больше нравилась охотнику. Разумеется, он сознавал, что эта странная женщина во многом уступает его соплеменницам. И все же в ней было нечто такое, что не поддавалось обычным меркам, чего не хватало физически развитым, напористым и крикливым женщинам стойбища.
Отчужденность пришельцев сказывалась и на Длинноногой. Недаром Много Знающий как-то бросил вскользь, что чужаки стали похожи на лисят не поделивших мышь.
Минувшим днем пришелец, «украшенный» круглым, величиной с еловую шишку пятном ожога под левым глазом, громко кричал на нее. Весьма сомнительно, чтобы он поднял шум из-за еды или починки одежды, уж слишком Пятнистый нервничал, А надо отдать должное пришельцам: по части еды и нарядов они проявляли сдержанность.
При виде, охотника Пятнистый махнул рукой и зашагал прочь. Зато Длинноногую появление Шиша как будто обрадовало. Во всяком случае, он не был настолько туп, чтобы, не ощутить потаенного удовлетворения, проскользнувшего в ее, цвета молодого березового листа, глазах. Тогда он перевел взгляд ниже.
Его широко раздувающиеся ноздри смутили женщину. Она отвернулась. А когда заговорила, то в голосе ее появилась хрипота:
— Я слышала, болото начало высыхать?
Затронутая тема была мало приятной. Его возбуждение спало, уступив место беспричинному раздражению. Хотя нет. Причина имелась, но он не желал рассусоливать о столь щекотливом предмете. .
— Болото-табу! Сим запретил туда ходить.
— Разумеется, ваш мудрец Сим всегда прав. Длинноногие также верят живущему За Рекой. Только... Только и следопыт не может знать всего.
Такая настойчивость заставила его поморщиться. Уже не впервые она сбивает его с толку. Другие женщины ведут себя иначе.
Им не приходит на ум обсуждать вещи, так или иначе связанные со злыми духами. Зачем будить лихо? Да. Соплеменницам Шиша не могло прийти в голову задавать пустые вопросы. Не могло бы? Он вдруг усомнился в этом. Собственно говоря, кто знает, о чем судачат женщины, когда Поблизости нет мужчин.
И все-таки Длинноногой следует получше выбирать предмет для разговора. Глупо гоняться за дичью, которая намного быстрей и выносливей тебя. Глупо болтать о том, что находится под запретом.
Он повторил со значением:
— Пхан не велел приближаться к болоту.
— Но почему? — Она напряглась в ожидании ответа. — Чего опасаются следопыт, со старшим охотником? Что их пугает? Ведь ничего не было, если не считать нелепой гибели Ме-Ме.
Она качнулась к чему. Суставы ее длинных пальцев побелели. Они казались еще светлей на фоне мореной древесины. Любопытство собеседницы не представлялось случайным.
Кто рассказал женщине про высыхающую топь? Или ей что-то известно про болотных духов? Иначе зачем весь этот разговор? Мысль о загадочной осведомленности пришелицы возникла и тотчас рассеялась. Малоправдоподобным показалось такое предположение. Он даже упрекнул себя за излишнюю подозрительность.
— Ни Сим, ни Пхан не боятся. Следопыт осторожен. Старший охотник правильно делает, прислушиваясь к Симу. Живущий За Рекой не станет попусту говорить об опасности. Но уж если он сказал, то так оно и есть.
— Но о какой опасности говорил Сим? Неужели в трясине кто-то прячется? Но кто? Хищник? Какое-нибудь чудовище? Кто?! — Она почти кричала.
Тут любого возьмет досада. Разве промолчал бы Живущий За Рекой, зная больше того, чем сказал. Нет, большего не знал и следопыт. Он ощутил опасность кожей. Уловил по запаху. А Люди Камня всегда доверяли предчувствию старого Сима. И довольно об этом! Племени хватает других забот. Долгая засуха предвещает зимний голод. Все реже встречается зверь в пожелтевшем лесу. День ото дня все дальше уходят женщины в поисках пищи, и все чаще возвращаются с пустыми руками. Не трудно представить, как в большие морозы ввалившийся живот будет прилипать к спине, не согревая тела, как замедлится в жилах ток крови. Как, наконец, ослабеют охотники, не встречая свежего оленьего следа или берлоги со спящим, разжиревшим за лето хозяином.
Зря, зря Длинноногая затеяла пустой разговор. Что может быть никчемней обглоданной кости и беспредметной болтовни?
Узкая кисть легла на руку охотника. Пришелица ящерицей извернула шею; уколола сузившимися зрачками:
— Некогда среди Длинноногих жил большой мудрец...
— Мудрее Сима? — усомнился Шиш.
— Возможно охотник не поверит, но мудрец, о котором я рассказываю, действительно был непревзойденным мудрецом.
Ладно. Отчего не поверить. Что некогда люди были умнее теперешних, скажет любой. Послушать хотя бы следопыта, так старший Сим был способней ныне живущего, а предшественник старшего Сима превосходил теперешнего настолько, насколько человек превосходит по уму косолапого. А уж Симов предок, от — которого пошли все Симы — того и сравнить не с кем. Однако интересно: в чем выражался большой ум мудреца Длинноногих?
— Наш мудрец учил: «Плохо, если один сыт, когда другие умирают от голода».
Хм: Шиш — не мудрец, но такая истина ему понятна с детства. Однако ему известно и другое — гораздо хуже, если умрут от голода двое, вместо одного. Пока в племени имеется хотя бы один сытый и здоровый охотник, всегда остается надежда, что он добудет пищу для других. В тяжелое время последний кусок отдают сохранившему силы. Бесполезно делить маленький кусочек мяса на множество голодных ртов — никто не насытится. И никому не станет лучше от подобной дележки.
Услыхав его рассуждения, зеленоглазая всплеснула руками. Он-де ровным счетом ничего не понял из ее слов. Человеку Камня не понять высокий смысл милосердия... Он перебил Длинноногую:
— Слабым дают много, когда мясо в избытке. Много ли мяса добывал твой мудрец?
— Ну нет! Мудрецы не занимаются охотой. Они не делают дубин и наконечников для копий. Они не лечат людей. Не... Мудрецы — есть мудрецы. Они учат других. Принося тем самым огромную пользу для всего племени...
Женщина говорила долго. Чем больше она рассказывала, тем сильнее дивился Шиш. Охота пришелице гнаться за брошенным копьем! Наверно она хочет превратиться в скворца, который принимает за собственную речь чужие звуки: пение других птиц, лисье тявканье, плач человеческого детеныша... Он уверен, что женщина наслушалась небылиц. Было время он сам ходил таким же следом, взяв на веру рассказ Треснутого Копыта. Дескать, прежние Мастера делали скребки, о которые рассекался выпущенный из пальцев волос. Позже Пхан долго смеялся над простодушным юнцом. А на следующий день он отыскал и принес хваленый скребок далекого предка — увесистый, грубый кусок речной гальки. Неряшливо оббитый с двух сторон. Так что напрасно пришелице горячится, доказывая нелепости. И правильно, если одни охотятся и кормят тех, кто способен лишь рассуждать об охоте да съедать добытое другими. Разве обучающие дележу добычи больны и не способны преследовать оленя! А может они родились уродами, если пригодны только для погони за пустыми словами? Нет мудрости в том, чтобы заставлять людей говорить и действовать одинаково. Нельзя требовать, чтобы каждый получал одинаковую, долю, натравливая тем самым больных на слабых, опытных добытчиков на молодых, охотников на старух, женщин на калек. Люди не бывают равны, как не бывает одинаковых по силе, по размерам и по норе косолапых. Нельзя из Тонкого Дерева получить Пхана, а Много Знающего — Шиша. Кто намерен сесть на два пня сразу, тот рискует разорвать себе зад...
Смотри-ка, не везет Шишу с женщинами. Вот и Длинноногая ушла в слезах, обозвав его косолапым грубияном. А ведь он пальцем не тронул ее. Даже не накричал. В отличие от Пятистого. Не-е-е-ет, с него хватит! Если женщина будет вести себя так и дальше, осенью он наведается к Поедающим Глину. Там он выберет в подруги самую упитанную из обитательниц равнины. Потом появятся на свет маленькие Шиши. А когда раздобревшая подруга попробует завести умный разговор, он что есть мочи треснет болтливую подругу по спине... Охотник с отвращением сплюнул.
* * *
Ночью воздух над поляной замерцал голубоватым светом. 3адергались, замерли и кинулись в спасительную тьму под деревья встрепанные фосфоресцирующие тени. А над стойбищем показалось и замерло невиданное светило. Коротко хрюкнул изумленный барсук, ослепнув на миг; запрыгал боком, тревожа кусты, цепляя шерстью щетинистые семянки череды...
Яркий свет проник в шалаш через щель входа — на подстилке запрыгало холодное лиловое пламя. Трепещущие язычки оживили подвядший клевер: красно-фиолетовые головки замерцали отдельным светом. А ночной огонь тронул пятки спящего...
Расщепленный Кедр открыл глаза. Насторожился. Но за краткий миг до того сияние угасло, отчего напряженный взгляд охотника встретил только густой предутренний мрак.
* * *
Первым вознегодовал Тонкое Дерево...
Промысел окончательно сделался скудным. Однако доли Пхана и знахаря остались прежними. Благо стояла осень и племя, хотя и с трудом, но наполняло желудки. Но одно дело — волокнистые вяжущие коренья или ракушки, от содержимого которых саднит во рту и совсем иное — свежее, исходящее красноватым соком мясо. А уж про печень, олений язык и мозг не приходилось и говорить — сама мысль о свежатине вызывала обильную слюну.
Днями Пхан объявил, что болотные духи, забравшие Ме-Ме, нуждаются в убоине. Иначе, мол, жди новой беды. Так сказал старший охотник. Он же отобрал для духов лакомые части.
Длинноногая фыркнула, услышав короткую речь вожака. Но тотчас съежилась под его недобрым взглядом.
Пробудившаяся у духов любовь к мясу удивила всех. Между тем увесистые вырезки исчезали где-то в зарослях маральника. Туда уходили сердце, печень и окорока оленей, нет-нет да попадающих в западню. Так исчез заколотый днями косолапый. Канул под сожалеющие взгляды охотников...
Крупный самец достался тяжело. Косолапого выследил Тонкое Дерево, когда тот, сопя и причмокивая, загребал в широкую пасть пучки малиновых стеблей. Редкая, подсохшая ягода томила зверя. Он досадовал и фыркал, а маленькие глазки его наливались злобой.
Под градом ударов зверь вначале застонал. Затем кинулся напролом. Хрустнули рогатины. Лишившись упора, Тонкое Дерево пал на корточки — прямо под занесенную лапу. Положение спас Расщепленный Кедр. Послышалось надсадное хеканье — шишковатая дубина несколько раз опустилась на скошенный черёп хищника.
Теперь юноша досадовал больше всех. Попутно страдая от боли в подсыхающих царапинах. Его можно было понять. Он уступал в силе многим, но отличался проворством и умением бесшумно подкрадываться к добыче. И что ж! Как и все прочие он остался ни с чем. Единственное, что ему выпало на долю — это шипеть сквозь зубы от разочарования.
Если поразмыслить, Люди Камня не сомневались в пристрастии зловредных духов к вкусной пище. Оставленная без присмотра оленья туша, как правило, исчезала. К рассвету от нее оставались кости, клочья шкуры да круглые отпечатки волчьих и лисьих лап, в окружении частых пунктиров вороньих следов. Однако разборчивость в еде болотных духов смущала. Почему бы им не довольствоваться чем-нибудь попроще. Сами люди, бывает, не брезгуют остатками сухожилий на костях. Порой попадают в желудок лоскуты старой кожи. В стойбищах по другую сторону болота, случается, едят... глину. Недаром обитателей равнины называют Поедающими Глину... А тут!..
В опустевшую на лето пещеру Длинноногая зашла со связкой провялившихся грибов. Едва отошли бессильные с воли глаза, как она вздрогнула от неожиданности, — в пещере находился человек.
Тонкое Дерево, увлеченный каким-то кропотливым занятием, не сразу заметил вошедшую. Юноша рисовал. Прикусив кончик языка, он тер по стене попеременно охрой, древесным углем и кусочками голубой глины. Сухая краска осыпала художника желтой, коричневой, черной и голубой пудрой. Он шмыгал носом. Потешно мотал головой. По-собачьи стряхивая набегающий пот. Но не останавливался. Следом за движениями пальцев на шершавом камне рождалась картина. Несуразное животное, отдаленно похожее на человека, несло ветвистые рога на покатом лбу. Большой _ «рогатик»; казалось, затаив дыхание, следил за группой маленьких человечков. Линии картины получались поразительно живыми. Тощие, чуть намеченные углем человечки размахивали черточками, должными означать копья, загоняя стадо проворных оленей. Фигурки животных только выигрывали от непроработанности деталей. Они зачаровывали взгляд. Парили в прыжке, будто рвались за пределы каменной плоскости.
Глубокое дыхание женщины вспугнуло юношу. Он обернулся, продолжая держать охристый обломок.
— Красиво! — вошедшая попыталась успокоить художника. — Только... не совсем понятно. Тонкое Дерево показывает духам, чтобы они помогли в охоте на оленей, так?
Юноша презрительно оттопырил губу:
— Тонкое Дерево — не ребенок. Нарисованный зверь не может стать добычей. Напрасно женщина думает, что духа оленя можно обмануть, пачкая стену глиной.
Оторопь взяла Длинноногую. Она глубокомысленно разглядывала картину; даже потрогала длинным пальцем раскрашенный участок.
— Зачем же молодой охотник «пачкает» камень? Что означает животное с рогами на голове?
Юноша прыснул:
— Это Пхан!
— Почему Пхан?! Причем здесь рога? Эта нелепая одежда?.. Художник вошел во вкус:
— Рога у Пхана оттого, что старший охотник считает себя выше всех, сильнее всех и умнее всех, подобно оленьему самцу по весне. А то, что Длинноногая приняла за одежду — шкура Пхана. Ставшего толстым, как сурок от съеденного мяса. Лучшего мяса, которое знахарь и старший охотник таскают для себя, но вовсе не для духов, — закончил Тонкое Дерево с горечью.
Пришелица посерьезнела. Темные брови юноши, чуть выделялись на испачканном углем и глиной лице, а слегка искривленный нос ярко лоснился синим цветом.
— Тонкое Дерево не страшится гнева старшего охотника? Настроение художника испортилось. От ответил, и голос его сорвался:
— Увидев рога на своей голове, старший охотник захочет меня поколотить. Тогда Люди Камня станут смеяться над рогатым Пханом. Смеяться будут все: и охотники, и женщины, и Живущие За Рекой, и Поедающие Глину... Чем громче будет кричать и ругаться Пхан, тем больше людей узнает про его рога, тем сильнее станут смеяться узнавшие. Старший охотник знает: людской смех нельзя прогнать дубиной. Он не посмеет тронуть Тонкое Дерево.
Молодой охотник — прирожденный психолог: она уважительно посмотрела на художника. Однако, зря юноша не учитывает еще одной возможности: не исключено, что Пхан, не поднимая шума, просто сотрет картину.
— Люди отвернутся от Пхана, раз он не только обманщик, но еще и трус.
Замечание казалось резонным...
Шиш разозлился, узнав о проделке юноши. Уговоры Длинноногой не успокоили его. Он рассердился так, что толкнул Тонкое Дерево в грудь. Шиш сказал, что у молодого охотника повредилась голова, иначе бы он не делал глупостей. По мнении наставника «заболевший» нуждался в хорошей трепке.
Лежа на спине, незадачливый художник увертывался от большой ноги охотника. Юноша стоял на своем. Он был красноречив. И охотник заколебался...
Позади высокого, в два человеческих роста, валуна, теплился костер. От слабого огня наносило полупрозрачным дымком.
У костра суетились двое. Их занятие можно было назвать приятным: в воздухе явственно попахивало медвежатиной. На то же указывало содержимое легкого навеса — несколько рядов мясных лент, аккуратно развешенных и уже успевших набрать коричнево-бурый цвет.
Охотник подметил, что коптильщики орудовали с умом: в огонь подкидывались черемуховые ветки, без листьев, успевшие прожариться на солнце. Ароматного духа хватало для копчения, одновременно он не чувствовался на расстоянии в сотню шагов и, следовательно, не мог выдать коптильщиков. Тлеющая черемуха придавала продукту завлекательный горьковатый вкус. В стойбище давно позабыли такой аромат, от которого дурели мухи. Они очумело лезли в дымную пелену, выскакивали, словно ошпаренные, и вновь летели под навес.
Ярость переполнила грудь Шиша. Тонкое Дерево, словно в воду смотрел: Пхан и Много Знающий плевали на духов, они присвоили мясо себе. Украли его. Дабы в холодные волчьи луны доставать медвежатину из потайного места, оборудованного здесь же и замаскированного плитняком, и набивать брюхо до отрыжки. Тогда как стойбище будет скрипеть зубами трудясь над несъедобной, отдающей потом и прелью, кожей, или — кровавить рот тальниковой корой, а то — давиться дроблеными, с примесью каменной крошки, костями, от которых вместо сытости появляется резь в кишках.
В предвидении будущего голода освирипел Шиш. В него вселился дух косолапого. Хотелось рычать, бесноваться, рвать обманщиков в мелкие клочки. Пакостливые лисы! То-то старший охотник и знахарь такие гладкие да упитанные. Невтерпеж сделалось Шишу. Не было прежде такого обмана.
Охотник встал в виду костра. Зычно крикнул: «Табу!?» Оцепенел и замер, сидя на корточках, знахарь. Попытался поймать грудью пахучий воздух, но воздух застрял, шершавым комком, где-то между ключиц.
Старший охотник вскочил сразу. Тяжелые наплывы мышц на его торсе готово взбугрились. А копье в его руках нацелилось в сторону валуна, словно Пхан заранее был готов к появлению нежелательного свидетеля, и знал, с какой стороны появится последний.
Широкий, искусно обитый наконечник метил прямо в горло похолодевшего Шиша. Ему доводилось видеть зияющие дыры, оставленные этим наконечником на теле добычи, теперь он жалел о собственной горячности — руки охотника были пусты. Мог ли он думать, что разоблаченный Пхан способен поднять оружие на соплеменника.
«Пхан хочет в одиночку проглотить добытое многими?»
Горечь обжигала язык задавшего вопрос. Он продолжил, не дождавшись ответа:
— Пхан и Много Знающий хуже ворон! Вороны не крадут из своего гнезда.
Глаза старшего охотника прищурились, блеснув гневом.
— Пхан и знахарь покинут стойбище. Им лучше жить вдвоем, по соседству с лисами и собаками.
Лицо вожака исказилось. Он оскалился. Шагнул вперед. Покрасневшие белки глаз под крутыми валиками бровей вращались, выказывая конец терпения. Приближаясь, он быстро менял положение корпуса, вводя в заблуждение противника...
Начало схватки оттягивалось. Копье то поднималось, то опускалось.
— Люди Камня не поверят Шишу, сколько бы он не трещал. Племя верит старшему, а Пхан скажет в стойбище, что Шиш лжет. Много Знающий подтвердит слова вожака.
В хриплом крике Пхана слышались ненависть и... неуверенность.
Запальчиво выскочил к костру Тонкое Дерево:
— Шиш не умеет врать — это знают все! Племени нужен новый вожак.
— А-а-а, и ты здесь, желторотый скворец! — Похитители мяса насмешливо переглянулись. В перебранку вмешался Много Знающий:
— Сопливые охотники наслушались сказок пришельцев. Чужаки настроили молокососов против Пхана. То-то Шиш пускает слюну, глядя на Длинноногую женщину, неспособную дать потомство.
Знахарь мог быть доволен: клевета попала в цель. А Много Знающий продолжал, злорадствуя:
— Пришельцам лень ходить на охоту. Дубина и копье тяжелы для их рук. Мы с Пханом мешаем Длинноногим морочить племя и получать мясо н обмен на болтовню. Из-за этого чужаки строят козни против нас,
Появись перед охотником живой Большой Клык, он не поразился бы сильнее. Получалось, что знахарь был в курсе многих событий, но толковал события нелепым образом, покрывая себя и Пхана. От его внимания не ускользнул даже такой пустяк, как лапки Длинноухого, отданные женщине Шишем еще зимой. Однако с пришельцами делились едой все, не исключая ворчуна Расщепленного Кедра. Взять самого Пхана. Разве он воспротивился приходу Длинноногих? Нет, он следовал мудрому правилу: помоги другому, дабы потом помогли тебе. Могут настать времена, когда Длинноногие принесут пользу Людям Клана. Так размышлял Пхан. Так всегда думал Сим. Бесполезное сегодня, завтра может сделаться необходимым.
Шиш не собирался оправдываться перед знахарем. Особенно в том, что касалось Длинноногой. Это его дело — дело мужчины. Ни одно племя не покушалось на право охотника в выборе подруги. В своих оскорблениях Много Знающий сошел со следа. Его вопли только ожесточили Шиша. Да. Шиш надеялся избежать схватки. Будь перед ним кто-нибудь другой, он не колебался бы ни одного мига. Но именно Пхан некогда натаскивал его — юнца с неокрепшим телом и слабо поставленным дыханием. Не кто-нибудь, а Пхан учил его поражать цель, скрадывать барсука и обходить оленя с подветренной стороны...
Случалось, старший охотник лупил юнца за непослушание, но он же и подбадривал, беззлобно пошучивая над промахами ученика. Теперь стоя лицом к лицу перед бывшим наставником, Шиш испытывал робость, гнев и необъяснимую жалось. Плохо. Очень плохо, если сильный мужчина становится слабее своего желудка. Пхан обязан покинуть стойбище. Хотя… Его будет недоставать Людям Камня. Что касается...
Как же так? Много Знающий твердил о честности. О том, что надо соблюдать обычаи...
Знахарь оторопел;
— Ни старший охотник, ни я — никто из нас не нарушал обычаев. Спросите Расщепленного Кедра, кто из охотников не пользовался втихомолку, ухватывая мясо пожирнее и послаще? А сколько таких кусков они получили от Пхана? Тонкое Дерево дважды ел то, о чем не знали остальные... — Шиш неверяще взглянул на юношу. Тот смущенно отвел глаза.
— Он плох — нечестный обычай! Такого обычая не должно быть! — охотника трясло.
Много Знающий развел руками:
— Что тебе не нравится в наших обычаях? Чему следует и чему подчиняется большинство — это и есть обычай, который Длинноногие называют законом. И совершенно неважно — по вкусу он или нет кому-то в отдельности. Если охотник внимательно слушал пришельцев, он должен понять, что те же Длинноногие не упустят своего, когда дело касается еды. У кого имеется возможность получить лишнюю долю вкусного, не должен ее упускать. Конечно, говорить вслух про подобный обычай не принято ни у Длинноногих, ни у Людей Камня. Так что племя не поддержит Шиша.
Оно не знает, — перебил его охотник, — про позор Пхана и знахаря. Племя не узнает о постыдных словах Много Знающего. Так будет, если вы оба оставите стойбище. — Он прервался. Взглянул на Тонкое Дерево. — Я не верю...
Юноша гримасничал, не разжимая губ. Что-то округлое коснулось руки. Увесистый окатыш плотно лег в ладонь.
Предусмотрительность молодого спутника придала уверенности. Охотник качнулся вправо.
Очевидно маневр Шиша оказался недостаточно искусным, потому что в следующее мгновение ребристое лезвие рвануло кожу на его плече. Еще немного, и копье пробило бы ему гортань. Он охнул. Отодвинул юношу в сторону, затем прыгнул к костру.
Той малости, пока мускулистое тело охотника находилось в Прыжке, достало Пхану, чтобы оценить свою неудачу. Оцарапав плечо противника, копье пролетело дальше, и с треском расщепилось о гранитную плиту. Сухой звук распавшегося наконечника расслышали все; тот же звук подсказал старшему охотнику, что пора браться за дубину.
Положение заметно изменилось, когда Шиш приземлился у костра: раздосадованный промахом Пхан сменил оружие, а Тонкое Дерево оснастился плитняком, в изобилии валявшимся под ногами.
Юноша дрожал от волнения. Не стоило питать особых надежд на существенную поддержку с его стороны — один удар старшего охотника свалил юношу с ног. Польза от присутствия юноши заключалась в ином: нельзя убить Шиша, оставив в живых его молодого спутника, соревноваться в беге с которым было бесполезно. Пхан учитывал это. Охотник уловил его сигнал, поданный Много Знающему.
Если старший охотник оплошал в первый момент, то следующую ошибку допустил Шиш. Занятый мыслью о своем спутнике, он отвлекся, а его могучий противник поспешил этим воспользоваться и кинулся в атаку, высоко подняв дубину. В драку ввязался и знахарь, зашедший в тыл охотнику. Оставлять Много Знающего у себя за спиной было опасно. Много Знающий тотчас подтвердил опасения Шиша, сразив ударом палки Тонкое Дерево.
Дело осложнилось. Теперь охотнику противостояла пара зрелых мужчин, один из которых нападал сзади. Прыжок... Шиш сделал почти невозможное: увернувшись от палицы знахаря, он послал окатыш в Пхана, и попал. Суковатая дубина покатилась по земле, вспахивая, дернину. Челюсти старшего охотника стиснулись, по лицу прошла тень, а правая рука безвольно повисла.
Но радоваться было преждевременно. Ловко брошенная палица пронеслась над костром. Оглушенный охотник опрокинулся навзничь. Однако устремившийся к нему знахарь тоже не устоял на ногах. Перелетев через Шиша, он покатился в огонь. Жаркие угли и пепел поднялись в воздух. Завоняло паленой шкурой.
Ругаясь и охая, Много Знающий выметнулся из костра перепачканный в золе, с, волдырями на обнаженных руках. Принялся гасить затлевшую одежду.
Охотник получил короткую отсрочку. «Однако, — мелькнуло у него в голове, — где Тонкое Дерево?» Под черепным сводом гудел осиный рой. Пошатывало. Тоскливый шум в ушах мешал разглядеть юношу, не подающего признаков жизни. Охотник с силой сжал виски — окружающее сделалось отчетливым, но заниматься Тонким Деревом уже не приходилось, к охотнику приближались Пхан с Много Знающим.
Меховые штаны знахаря продолжали дымиться; шкурка собралась складками, стянутая жаром, Знахарь держал наперевес легкое копье и извергал ругательства. Стервозное выражение его физиономии обещало быструю расправу, а ругался он так нехорошо, как не сумели бы и Поедающие Глину, даром что степняки славились грубостью. Живущие За Рекой утверждали: когда ругаются жители равнины, в болоте замолкают лягушки. Отныне Поедающие Глину были посрамлены; ибо до сих пор никто не слышал подобного сквернословия, которое извергал знахарь в адрес своего разоблачителя. Стерпеть можно всякое, но услыхать, что давшую тебе жизнь называют грязной вонючей россомахой — это слишком!
Зря Много Знающий взбадривал себя такими словами. Разве мало того, что он нарушил большое табу, напав на человека?
Чумазая рожа знахаря расплывалась в ответ: «Запреты устанавливает вожак. Он же не обязан подчиняться запретам. Таков обычай, как говорят пришельцы».
Копье достало пустоту. Пальцы обороняющегося поймали хрящеватое горло. «Неправильно! Запрет, не обязательный для всех, не может быть законом для племени.» «Но он есть! Он существует. Люди Камня признают его, наивный Шиш», — слышалось сквозь хрипы...
Пинок Пхана отбросил охотника прочь. Поврежденные ребра взорвались болью. Ослабевшая жертва закрыла глаза в ожидании конца. Но Пхан почему-то колебался. Вместо того, чтобы опустить дубину на поверженного, он стоял, редко и трудно дыша, словно после изнурительного бега.
Охотник смотрел с земли в затуманившееся лицо вожака — Пхан жалко сморщился. Он долго собирался с духом, пересиливая себя. Вот страшное оружие, с отполированной до блеска рукоятью, взлетело вверх, и... тихо опустилось к ногам старшего охотника — от далекого стойбища донесся многоголосый крик...
* * *
Скверное известие принес Живущий За Рекой Сим. Слушая его, охотник предостерегающе качнул головой, дабы уберечь Тонкое Дерево от опрометчивого поступка.
Юноша выглядел скверно. Бесформенная, едва ли не в ладонь, опухоль выступала на его темени. Из-под запухших век сверкал недобрый взгляд, от которого поеживались Пхан с Много Знающим, первыми прибежавшие в стойбище. Не лучше выглядел сам охотник, Однако Людей Камня занимало более важное событие...
Такой тревоги не случалось много лет. Гнилой Корень давным-давно пережила свои зубы и остатки волос, но даже она не могла отыскать в иссыхающих недрах памяти что-либо подобно!
— Поедающие Глину требовали искупительной жертвы!
Степные обитатели численностью многократно превосходили население предгорий. Их похожие на глубокие норы землянки усеивали бескрайнюю равнину за болотом. Приземистые, подвижные степняки множились из года в год. Устойчивая засуха последних лет, затем эпидемия изнурительной болезни не повлияла на их плодовитость, а, напротив, словно подстегнули умножение степных родов. Шишу довелось бывать в стойбищах жителей равнины. Бесчисленные оравы, грязной ребятни, все одеяние которых состояло из собственной лоснящейся кожи, заполняли пространство между землянками. Всюду мелькали одинаковые темноглазые мордочки, тощие голые ягодицы и смешные ужимки.
Большая скученность вызывала частые ссоры. Тогда Поедающие Глину призывали, Живущего За Рекой. Он гасил скандал, и на какое-то время примирял ссорящихся. После каждого скандала в степи появлялись новые землянки, разбивалось новое стойбище, на отведенном по совету Сима участке. Потом равнина затихала до следующей ссоры. Поразительно, что столь вспыльчивые степняки с соседними племенами жили в мире. Жили...
Сегодня посланцы равнины просили посредничества Живущего За Рекой в необычном деле. Трое из степняков обнаружены убитыми на границе между предгорьями и равниной. Пострадавшее племя указывало на звериную жестокость убийц, страшно изуродовавших тела жертв. Подозрение Поедающих Глину пало на охотников Пхана. Теперь от Людей Камня требовали равноценной замены умервщленным. Участь заложников, в случае их выдачи, была бы весьма незавидной.
Итак. Степняки требовали справедливости. Кто мог усомниться в их праве?
Пхан мельком глянул на подошедшего охотника, не прерывая беседы с Симом. Речь шла о большем, нежели судьба вожака, и Шиш смолчал.
Новость оглушила Пхана. Неожиданное разоблачение и предстоящий позор лишили его рассудительности. Но он не винил себя. Он, который сроду не жалел ни сил, ни здоровья, рискуя жизнью на охоте, он больше нс хотел голодать. Его дух устал и от мучительных спазмов в желудке, набрасывающихся на людей к исходу зимы. Вожак не желал больше страдать. Он стыдился подступающей старости. Шалишь! Бег его еще стремителен, удар неотразим. Правда, с некоторых пор поселилась в нем и принялась глодать суставы ломота. Стало наливаться болезненной усталостью натруженное, многократно битое и ломаное зверьем и непогодой тело. Будущее тревожило Пхана. Ну разве во многом он нуждался! И Тонкому Дереву ли судить его. Столько кормивший других, он имел право позаботиться еще об одном человеке — о самом себе.
Так Пхан лукавил с судьбой, одновременно страшась расплаты за лукавство. А может то был не страх?..
Беды приходят стаей. Где нашли поживу мыши, туда придут и лисы. Пхан понимал: Поедающие Глину раздражены засухой, оскудевшим промыслом, а, следовательно, они не были склонны прислушиваться к голосу рассудка. Ими овладели духи недовольства, которые манили степняков на земли Людей Камня. Жителям равнины хотелось, чтобы виновным оказалось племя Пхана. Они уверовали в это, не тратя сил и времени на поиски истинного преступника.
Ничуть не обманываясь в намерениях посланцев, Пхан все-таки перепроверил себя, обратившись к следопыту:
— Поедающие Глину не полагаются на Живущего За Рекой? Может они звали Сима для розыска злых духов, причинивших им горе?
Грустная стариковская улыбка развеяла последние сомнения вожака:
— Люди равнины кричат: «Сим ослеп от старости. Он слеп, как сова в полдень». А Сим верит — на Людях Камня нет вины. Но Поедающие Глину будто оглохли. — Плечи старика опустились. — Если степнякам откажут в искупительной жертве, они придут сюда и поселятся в предгорьях.
Собравшиеся помрачнели. Страшно представить, что придется бродить, разыскивая свободную землю. Идти, пересекая долины, перелески, ровные, как медвежья лопатка, степи, занятые неприветливыми родами, заполненные чужим говором, настороженно встречающие бесприютных переселенцев, с их печальной славой за спиной. Остаться? Но племя не выдержит распри с соседями. У Людей Камня нет времени на драку со степняками. Время нужно для охоты, без которой быстро наступит голод, Время нужно для подготовки к зиме. Распря обещала смерть от недоедания, холода и ран…
Аналогичная опасность, в случае затяжной вражды, грозила и Поедающим Глину. Поэтому они предлагали Пхану выбор — уходить или остаться. Степняки предпочитали первое, но сохраняя лицо, настаивали на третьем — искупительной жертве.
Некогда Люди Камня находились на грани исчезновения. В одночасье исчезла половина родов. В уцелевших осталось по два-три человека; среди выживших сохранилось мало мужчин. Духи болезни уродовали людей без разбора, но охотники умирали в первую очередь. Хворь пятнала кожу язвами. Выгрызала глаза, Наполняла жилы гноем. Люди простывали от малейшего ветерка, и простуда валила их с ног. Случайная царапина на коже опоясывалась бордовой опухолью, которая потела сукровицей. Вредоносные духи обрели мощь косолапого. Они не уступали знахарям, прибирая больных одного за другим. Вскоре часть родов в панике ушла за реку. Осталась там. Обособилась. Сохраняя, впрочем, связь с оставшимися на прежнем месте.
Ныне, пожалуй, лишь Много Знающий хранил память про великую беду. О том как она прокралась в стойбище предков, сидя на плечах человека без рода-племени. В тот день, когда чужак появился, он уже ослеп от болезни. Одежда его порвалась о камни; на пальцах сползли ногти. Чужак привел в предгорья несчастья. Ибо едва он испустил последний вздох, как хворь накинулась на хозяев. Не оттого ль и поныне ближние и дальние племена неприязненны к бесприютным пришельцам?..
Умение бесшумно передвигаться по лесу так и не привилось Длинноногим. Треск сучьев предупредил Шиша о их приближении. Сидя на корточках, он занимался делом. Костяные челюсти западни, сжатые упругостью жгутов из высушенных в тени оленьих сухожилий, удерживали лапу молодой лисицы. С каждым рывком зверька острые насечки сходились все ближе, усиливая муки добычи. Погрызы на ловушке говорили о долгой борьбе за утраченную свободу. Лисица скакала на месте, бешено щерилась и грызла твердую кость западни. Ее пасть не доставала до механизма, сжимающего коварные челюсти; не дотягивалась она и до вбитого в землю кола, которым удерживалась снасть.
Озабоченность пришельцев бросалась в глаза. Разговор начал Остроносый. Открытая солнцу кожа чужака пестрила золотисто-коричневыми пятнышками, словно брызгами птичьего помета.
— Как думает Шиш: кого Люди Камня выдадут Поедающим Глину, дабы искупить свою вину?
Его нравоучительный тон вызывал неприязнь. Неужели трудно понять, что племя не станет торопиться с решением. Кто-кто, а охотник знал твердо — убийцами степняков мог быть кто угодно, но только не Люди Камня. А это значило, что Поедающие Глину заблуждались.
Остроносый пояснил:
— Мы уверены: Пхан предложит выдать нас. Ведь мы — чужие вашему племени. Кроме того, как говорит Треснутое Копыто, от нас нет пользы. Прямая выгода для всех — отвести беду, пожертвовать нами — Длинноногими.
Он говорил вздор.
Шиш поднял лисицу. Полюбовался блескучим мехом. Пожал плечами:
— Поедающие Глину умнее Остроносого. Они не нуждаются в пришельцах. Жители равнины требуют сильных мужчин, вроде Шиша или Расщепленного Кедра…
Охотник говорил, а про себя думал, что степняки возможно умнее, чем он предполагает. Лишить племя тройки опытных добытчиков, которых у Пхана и без того наперечет — означает в скором будущем исчезновение Людей Камня. Степняки не хотят открытой драки. Их требование рассчитано на большее: предгорья опустеют сами, лишившись лучших промысловиков.
От этой догадки стало жутко.
Возникшими опасениями ему не с кем было поделиться. Он пока не решил: можно ли полагаться на старшего охотника? А если нет? Оставалось молчать и надеяться, что заботы племени не оставят Пхана равнодушным.
Пауза затянулась. Пришельцы удивленно поглядывали на него. Наконец Длинноногая отважилась:
— Пхан презирает нас. Но он не любит и Шиша. Он хотел твоей смерти.
Женщина видела драку. Это плохо. Женский язык подобен заброшенной тропе: никогда не угадаешь куда заведет.
— Пхан стал опасен. Мы уверены — убийство степняков не обошлось без него. Охотнику следует рассказать про это. Мы знаем многое. Однако люди не доверяют нам. Зато к словам охотника прислушиваются. — Она закончила, побледнев от волнения. — Посланцам нужно отдать старшего охотника и знахаря!
Ее следовало остановить, и немедленно.
— Степняки требуют троих.
Вкрадчивость Длинноногой имела привкус кленового сока:
— Старший охотник и Много Знающий заменяет собой столько охотников, сколько пальцев на одной руке. Поедающие Глину скажут спасибо за такую жертву. — Вот-так-так! Сколько большеухий ни петляет, а в петлю придет. Какой охотник согласится, что жизнь Пхана важнее жизни троих мужчин?! Нет уж, сорочий срок — для всех сорок. Разве в теле Пхана сидят три духа разом? Или у него шесть ног и три пары рук? А женщина продолжала. — Главным в стойбище будет Шиш. Тогда начнется новая жизнь. Мы владеем великими знаниями. Мы многому научим Людей Камня...
Следовало поинтересоваться: отчего пришельцы предлагают помощь только теперь? И о чем они думали раньше? Он этого не спросил.
— Шиш молод. А племя нуждается в опытном вожаке. Стойбище само выбирает старшего. А Пхан пока еще (ох уж это пока!) владеет копьем. Пхан не нападал на степняков. Он не питается человечиной. Люди Камня, пожертвовав Пханом, станут намного слабее...
Подобный промах вряд ли мог пройти мимо внимания чужаков — высокий пришелец засмеялся:
— Люди Камня так или иначе лишатся старшего охотника. Вожак и Много Знающий нарушили запрет. Длинноногие и Шиш знают это. — От его смеха сделалось зябко. — У Людей Камня плохие порядки. Если вожаком будет Шиш, то Длинноногие дадут племени справедливые обычаи. — Пришелец поднял руку. Она застыла в воздухе, словно удерживая копье. — Мы сделаем жизнь стойбища легкой и беззаботной...
Он говорил твердо, будто ведал, чего желают племенные духи. Однако древние обычаи невозможно прогнать словами. Даже очень громкими. Если каждый начнет воображать себя старшим охотником, тогда за шумом и криками не станет дела. Жизнь племени — не большой загон, где громкий шум полезен.
— Мы знаем, как заставить охотников подчиниться воле большинства. Мы надеемся, что племя послушается Шиша. — Остроносый повысил голос. — Подчинится... ради общего блага!
Умные мысли ходят тихо. Подобно пуганому зверю, они избегают лишнего треска. Сородичи охотника ополчатся на всякого, кто попытается верховодить ими. Став вожаком против их воли. Племя слушается вожака. Случается, терпит его оплеухи и пинки. Оно послушно до тех пор, пока он нужен большинству. Самозванца же закидают камнями... Стойбище капризно. Воля его непредсказуема.. Мудр Живущий За Рекой Сим. Однако и ему невдомек, откуда берется власть вожака...
Жестоки и несправедливы могут быть люди по отношению к отдельному человеку. Следопыт наблюдал, как легко приходит в ярость и поддается панике толпа. Взять случай с Каром. Бежавшим от лап косолапого. Кар убежал с копьем в руках, вместо того, чтобы отвлечь хищника на себя. Тогда зверь искалечил двоих. А племя? Оно простило оробевшего. Зато позже состоялась расправа с Толстым Барсуком за куда меньшую вину. Увалень случайно толкнул подростка из Симова рода. Вскоре в Толстого Барсука полетели камни. Люди не смутились заступничеством Сима, а наказываемый молча принял кару. В ужасе перед гневом толпы, он со свистом выдыхал воздух из поврежденной груди, показывая окровавленные десны на месте выбитых зубов, когда в него попадал очередной осколок кремня...
Бывало на памяти Сима такое, что прежде малозаметный охотник вдруг выделялся в вожаки.
Скрытно происходит работа мысли. Возникают симпатии. Зарождаются привязанности и неприязнь. Накаляются и остывают страсти... Меняются луны. Истекают годы. Наконец созревшее выступает вовне. Принимая облик человека, первым заявившего о том, что еще вчера таилось в женских пересудах, старушечьей воркотне, приятельских намеках, вспыхивающих обидах, полученной трепке и жирных кусках мяса...
Трудно натаскивать сурка волчьим повадкам. Но гораздо трудней расставаться с прошлым. Люди Камня — не безродное племя. Они живут так, как испокон века жили их предки. Духи предков дают начало новым жизням, а люди... люди остаются все теми же. И как иначе? Заверни лису в собачью шкуру, однако лаять по-собачьи она не станет. Вот Длинноногие — они похожи на пустую пещеру, куда может забраться всяк кому не лень, куда может вселиться любой блуждающий дух. Но и Длинноногие верны привычкам своего племени.
Густые брови охотника сошлись на переносице:
— Слова Остроносого утомляют меня. Длинный язык доведет чужака до беды, если будет проситься на волю слишком часто.
Так бы и закончился разговор, не заговори Длинноногая. Ей не хотелось терять дружбу с Шишом. Оттого ее голос звучал примиряюще:
— Мы желаем добра Людям Камня. Если охотник щадит Пхана, значит он имеет на то причины. Есть иной выход. Надо предложить степнякам еще раз осмотреть то место, где погибли их сородичи. Они не смогут отказаться, если с ними пойдет Пхан, — пришельцы переглянулись, — и Много Знающий. — Говорившая помялась. — А вот Шишу лучше не покидать стойбище.
Над сказанным стоило подумать. Что-то смущало охотника. Что-то путаное, что-то не совсем искреннее слышалось ему. Однако кончик догадки мелькнул и исчез. Оставив смутную тревогу.
* * *
Охотничье счастье выбрало на сей раз Тонкое Дерево... Блуждание по лесу было безрезультатным. Округлые, шириной с человеческое лицо, листья куда-то запропастились. Он знал, что унимающая боль трава любит сырость и тень. Потому терпеливо всматривался в заросли, хотя жжение в темени требовало покоя. Добро палица знахаря достала череп по касательной. А придись удар сверху вниз, лежать бы Тонкому Дереву бездыханным.
Знакомая зеленая кипень попалась неожиданно. Одновременно ему под ноги свалился серый комок, обдав запахом горелого птичьего пера.
Тонкое Дерево вздрогнул. Отскочил в сторону, едва не соскользнув в глубокую рытвину, прикрытую папоротником. Когда первый испуг прошел, он старательно осмотрелся. Берёзовая чаща, кое-где зачерненная куртинами низкорослых елей, была бездвижна. В истомленном воздухе дремали светло-зеленые раскидистые пучки кочедыжника. Рядом с юношей по низко свисающей ветке неторопливо поднимался яркоокрашенный, с круглыми угольными пятнышками на красном фоне, жучок. Словно чувствуя пристальный человеческий взгляд, жучок раздвинул надкрылья — мелькнула глянцевая укладка крыльев; но тут же он передумал сниматься с удобной ветки, и пополз дальше.
Ступая на носки, юноша приблизился к упавшему предмету. Расплескав пожелтевшую, хвою и труху из прелого листа, валялся годовалый гусь. На боку птицы виднелась дыра, сквозь которую выступали сизые, испачканные землей потроха.
Находка обрадовала. Как ни крути свалившаяся с неба добыча ничем не хуже иной, добытой привычным хлопотным способом. Выяснять причину падения гуся Тонкое Дерево великодушно предоставил другим. Ну, хотя бы Симу. Конечно было бы лучше, упади два таких гуся, разом. Впрочем, хорошо и то, что увесистая птица не угодила в голову охотника. Иначе понадобилась бы не одна кучка целебных листьев, или потребовалось бы править вывихнутую шею.
Небо над предгорьями крылось ранней синевой, которой еще предстояло перейти в темно-серую однотонную грязь застойных туч. Позднее тучи улягутся рыхлым подбрюшьем на колкую щетину гор, и засочатся влагой. В отдельные дни ветер будет прореживать волокнистую массу. Тогда тучи прижмутся к земле в поисках защиты; расползутся на сгустки, а потом скатятся туманом по скользким склонам, пятная их слизистыми, мокротными следами. Но пока небо было чистым, и сохраняло сухое тепло, в глубинах которого изнывали птицы, сбивающиеся в стаи. Птицы не доверяли жаркому солнцу; они были обижены на выгоревшие бескормные места. Крылатые духи, со дня на день, намеревались покинуть прокаленные поймы, обмелевшие озерки и болотца, ничуть не жалея о земле, ставшей по случайности их родиной...
Запрокинув голову, юноша огорченно вздохнул при виде гусиных косяков. А затем проводил глазами ближайший гогочущий клин. Он даже приподнял руку, будто пытаясь сдержать частые взмахи крыльев. В следующий момент его рука оцепенела — вверху метнулось неяркое дымное пламя. Из пламени выпало несколько стремительно увеличивающихся в размерах тел. Потрепанная стая заметалась. Изменила курс, и, набрав высоту, стремительно ушла за линию горизонта...
Упавших птиц он отыскал без труда. Кликуны были один крупнее другого, белолобые, с высоким клювом.
Добычливая беготня отвлекала. Он начисто забыл про ушибленную голову, а вспомнив, осознал, что темя перестало саднить, опухоль рассосалась, и только прикипевшая к волосам короста напоминала о тяжелой палице знахаря.
Вослед накатывающейся тени подползал вечер. Ждать новых подарков с неба не приходилось. Время поджимало; юноша заспешил. Собранные птицы оттягивали ремень, перекинутый через плечо, но лакомая ноша не была ему в тягость. О! Молодой охотник еще покажет себя. Духи удачи не могут ошибаться. Они знают, кому следует помогать. Придет день, и Тонкое Дерево сполна вернет долг обидчику. Много Знающий не отделается шишкой. Он вспухнет от побоев. Много лун кряду он будет охать от ломоты в избитом теле. Разумеется, если прежде его не изгонит стойбище...
Так размышлял Тонкое Дерево по дороге домой.
* * *
Лица посланцев дышали холодом. Блеклая кожа, синюшные от природы губы, студенистые глаза их предводителя как нарочно усиливали впечатление враждебности. Степняки ждали решения оружно, подчеркнуто выказывая твердость намерений. Да и пришли они, вопреки обычаю, большим числом, нежели Пхан и его люди. Не радовало, что предводителем степняков являлся Бодучий Рог. Печально известный неуживчивостью и высокомерием по отношению к любому, кто, по мнению Бодучего Рога, хоть в чем-нибудь уступал ему. Если накануне Пхан еще сохранял надежду на благоразумие посланцев, что имело под собой почву, возглавь Поедающих Глину хитроумный Тар или Гибкий Тальник, то теперь настроение старшего охотника упало. Вожаком посланцев оказался Бодучий Рог — значит предстоял затяжной спор. Язык задиристого степняка будет цепляться за каждый сучок на пути разговора; А с каждым потерянным на пустые препирательства днем слабее и слабее будет след настоящих виновников раздора, и все сложнее станет доказывать непричастность Людей Камня к убийству.
Сбоку от посланцев сидел Шиш. Он принял потаенный вызов Пхана и ввязался в спор. Стойбище последовало совету Длинноногих, не ведая о их участии, так как охотник счел удобным промолчать о наличии советчиков-пришельцев. Знай Пхан про вмешательство Длинноногих в столь деликатный вопрос, неизвестно как повернулось бы дело. С другой стороны — иного выхода у Людей Камня просто-напросто не было...
Шиш слабо сознавал причины проявленной им скрытности. Схватка с Пханом не могла служить тому объяснением. Так в чем же дело? Может в том, что темны были намерения пришельцев, и он, инстинктивно, опасался подвоха? Почему, по мнению Длинноногих, он должен оставаться в стойбище, тогда как другие будут искать убийц? Ну нет! Шиш не привык стоять в стороне.
Волновался и Пхан. К имеющимся потрясениям добавились гуси, которых притащил Тонкое Дерево. Вновь следы тянулись в направлении проклятой топи. Пхан пытался не думать o ней, о злосчастных птицах. Убеждая себя, что гуси и погибшая тройка степняков — не имеют отношения к смерти Ме-Ме. Но снова и снова его одолевали сомнения.
Положение выправил знахарь. Надо ли ждать подвоха от болотных духов там, где смерть нашла степняков? — рассуждал он. И сам себе ответил — не надо. Наткнувшиеся на трупы обитатели равнины живы и здоровы. А разве Люди Камня трусливей обитателей земляных нор, бледнокожих червей, не брезгающих липкой грязью? Разве Пхан или Расщепленный Кедр слабее любителей лягушек, оскорбивших недоверием Живущего За Рекой Сима?..
Пытливый взгляд Много Знающего ощущал мрачные лица. Широкие пластины желтых зубов язвительно проглянули меж темно-коричневых губ. Посланцы, не поняли унизительного для них смысла сказанного знахарем, так как говорил он на своем языке и довольно быстро; зато остальным его речь прибавила бодрости.
...Забота Длинноногой тронула бы охотника, не оконфузь она его своей несдержанностью. К возмущению Треснутого Копыта женщина чужого племени уцепилась за руку мужчины, удерживая его. Остроносый выбранил пришелицу. Однако Длинноногая продолжала вопить: «Шиш, не ходи! Это нельзя! У болота...» — Тут Остроносый хлестнул ее по щеке...
Длинноногая не принадлежала Шишу. Но она не была подругой и пятнистого пришельца. Напрасно тот ударил женщину. Поселившись среди Людей Камня, чужак, хотел он того или нет, обязывался соблюдать обычаи хозяев. Он мог бы поберечь силу для более достойного занятия. Например, для охоты на кабана или для схватки с косолапым. Только оскаленная зубастая пасть и длинные, кривые когти вызывали у него оторопь.
В два прыжка охотник вернулся. Кулак опустился на макушку чужака. Который не ответил на удар, сделался сонным, встал на карачки, и часто-часто замигал, словно в оба глаза ему попало по соринке. У Шиша исчезло желание продолжать потасовку. Он круто развернулся. Бросился догонять посланцев.
«Если встретишь неведомое, оглянись по сторонам, авось увидишь что-нибудь еще».
В пути Шиш посмеивался: зарвавшийся чужак получил должное, а его робость выглядела забавной — точь-в-точь свалившийся в воду барсук.
Сдерживая смех, охотник шумно выдыхал воздух носом, так что Пхан начал коситься в его сторону. «И этот похож на хлебнувшего воды барсука», — веселость Шиша все прибывала. Он живо представил себе обиженно-потерянную остроконечную морду зверя, неожиданно для себя оказавшегося в холодной реке, и поперхнулся смехом.
Мало подходящее случаю настроение рослого охотника заметили посланцы. Степняки насупились. Скривив рты настолько, насколько им позволяло собственное достоинство и осознание значимости доверенной им миссии, Толстяк, чью круглую рожу безобразила сломанная, а позднее криво сросшаяся переносица, буркнул, вскипев: «Мы ждем, Пхан.»
Бодучий Рог страдал от возможного покушения на его авторитет. Тяжелый загривок, яма на месте переносицы и тугие щеки предводителя степняков налились кровью. Веселые метляки в глазах Шиша бесили его. Остановился для нового спора с Пханом. Заранее готовый противоречить во всём. Бодучий Рог нуждался в поводе для прекращения переговоров; и он поклялся такой повод создать. Его собеседник не догадывался о подобном коварстве. Тщетно вглядываясь в физиономию посланца, разделенную длинным шрамом на две неравные части, где верхней из них был бугристый лоб, редко встречающийся у обитателей равнины.
— Поедающие Глину — смелые охотники. Наше племя не желает лучшего соседства, чем жители степи. — Пхан старался одолеть неприязнь Бодучего Рога. — Юноши из стойбища Людей Камня по-прежнему хотели бы выбирать здоровых и плодовитых подруг в землянках, вырытых среди блестящей на солнце травы...
Слушатели явно смягчились. А оратор продолжал:
— Так оно. Так. Наши мужчины презирают одержимых злыми духами. они предпочитают дружбу с Поедающими Глину, Мы всегда жили с вами в мире, обменивая острые скребки и наконечники на прочные, красивые шкуры, выделанные в жилищах за болотом...
— А сегодня, — уродливая переносица Бодучего Рога ожила, — мы требуем обмена наших убитых охотников на ваших… еще живых.
Юмор степняка был столь же мрачным, сколь мрачным выглядело его лицо.
— Да! Так будет справедливо, — зашумели посланцы. — Наше требование согласуется с древним обычаем...
Скулы Пхана побелели. Он больше не походил на зверя с черными полосами на морде; загнанно-хищно раздулись его широкие ноздри.
— Поедающие Глину сбились со следа: то они соглашаются проводить нас к месту гибели своих охотников, то отказываются...
Толстяк осклабился:
— Никак нас пытаются уговорить, словно молодых женщин?
— Бодучий Рог заблуждается...
— Враки! Бодучий Рог требует положенного.
Запахло открытым скандалом, когда уступить — для каждой из сторон означало поражение. Уступать никто не собирался. И опять заговорил Много Знающий. Гладя вдоль шерсти, можно и косолапого уложить на пузо. Поэтому Много Знающий начал издалека. Он упомянул про величие степных родов, про возмездие преступникам, какие бы сильные и злобные духи не помогали последним; и, наконец, подошел к главному:
— Многие из людей мечтают сравняться в мудрости с Живущим За Рекой Симом. Кто способен сравняться с ним в наблюдательности и уме? Я? Пхан? Расщепленный Кедр? Нет!
Предводитель степняков, напряженно ожидавший, когда будет назван он, выказал разочарование. Знахарь избежал соблазна. Он не упомянул имени Бодучего Рога. А жаль. Повод для скандала шел прямо в руки. И все же посланец помимо собственной воли испытал удовольствие: кому приятно слышать, что его не считают очень умным. А Бодучий Рог, коль он не назван, тем самым признается не глупее Живущего За Рекой. Нет, если хорошенько подумать, Много Знающий — не дурак. Вот кому предводитель посланцев мог бы отдать ь подруги рожденную от него. Большие Ушки игривы и мягки на ошупь. Мужчине будет тепло рядом с ней…
Веселые мысли степняка перебил, продолжавший избранную им линию, знахарь:
— ...Мы должны увидеть след преступников своими глазами, прежде чем примем решение. Это также справедливо. Посланцы настаивают на жертве. Они говорят о справедливости и обычаях. Но и мы хотим справедливости. Принесенные в жертву будут убиты. А убивая во имя обычая и справедливости, умервщляют и то и другое.
— М-м-м, — озадачился Бодучий Рог. — Что решит Пхан, увидев след?
К старшему охотнику возвратилась уверенность:
— Раз вина племени будет доказана, мы примем условия Поедающих Глину. Так оно. Так. Но прежде... Мы обязаны посмотреть на след.
Нагревшиеся блохи, густо заселившие мех штанов, допекали толстяка. Он ежился. Однако терпел, будучи заинтересованным.
— Люди Камня уйдут. Пусть! Что станет с виновными?
Шиш напрягся. Посунулся, вперед. Значительно посмотрел на Пхана. Перевел взгляд на посланцев:
— Люди Камня накажут убийц, — Добавил. — Преступники перестанут дышать.
Степняки перевели дух. С деланной неохотой уступили. Запал Бодучего Рога изошел в пустоту. Сопротивления не было: все остальное не будило азарта в душе заядлого спорщика. Наоборот. Теперь ему хотелось поверить Пхану, а заодно — горячим словам знахаря. У Сломанной Переносицы появилась возможность покрасоваться перед своими спутниками. Опровергая все, в чем сам он только что настаивал больше других.
— М-м-м, ладно. Мы проводим Пхана и его людей. Но оружие они оставят здесь.
Первым возмутился Шиш:
— Степняков много! На целую руку больше, чем нас. Чего же опасаются посланцы? Если Бодучий Рог трусит, пусть идет сзади.
Пхан и знахарь переглянулись. Поддержали охотника.
— Поедающие Глину сомневаются в силе своих рук? — знахарь подпустил яда. — Они могут держаться за нашими спинами.
Ехидный выпад достиг цели. Ни посмешищем, ни трусом Бодучий Рог прослыть не желал. Пренебрежительно оттопырив без того пухлые губы, он положил на землю копье — предмет всеобщей зависти: древко копья покрывал редкостный по красоте узор, состоящий из насечек, большая часть которых складывалась в перекрещенные еловые лапки. Узор неизвестного мастера не мешал руке и, вместе с тем, был настолько рельефен, что хвоя казалась, живой, едва ли не вздрагивающей от ветра. Нужна была крепкая воля, чтобы, — пусть на день, — оставить без присмотра столь редкую вещь. Предводитель посланцев широким жестом показал — вожаком он являлся по праву...
Шли долго. По склонам гор долетал маральник, подожженный вспышками летучих, дурманящих мозг, выделений. Пары эфирных масел взрывались на солнце бесцветными шарами, издавая трескучие звуки. Невесомое пламя проносилось над зарослями — верхушки кустов бурели, сбрасывая серебристый пепел на заголившуюся землю. Справа, за рекой, ходило взад-вперед пыльное марево, толща которого отдавала красным. Скрипела под ногами, и колко крошилась омертвевшая от безводья да осевшего праха трава. Просматривались черные, убитые еще до цветения, бутоны. Впереди задыхалась в испарениях топь, тут и там крытая плитками затвердевшей грязи. Топь дышала затхлостью перепревшей растительной плоти. Над головами идущих, — поверх всего, — ни птицы, ни стрекоз — только прерывистый комариный плач да въедливое зудение трупных мух.
Веселость оставила охотника. Чем дальше продвигались люди, огибая полосу камыша, придерживаясь цепи холмов с плоскими, будто срезанными вершинами, тем скучнее делались лица. Щемило сердце; холодило низ живота. Досаждала лоснящаяся, мерно покачивающаяся при ходьбе, спина Бодучего Рога. Противно стукались в слепом полете о лицо мухи. Целое зеленовато-синее облако их висело над головами идущих. Наиболее предприимчивые экземпляры срывались вниз, метили прямо в глаза людей.
В голове Шиша растревоженной муравьиной кучей копошились тревожные мысли. События последних дней следовали косяком. Он не успевал за ними. Не успевал выделить главное — подобное ничем не примечательному сучку, затерянному среди великого множества других обломков. Но которому единству суждено вдруг треснуть под крадущейся ногой. Подняв до времени настороженного зверя. Кажущиеся второстепенными, такие события исключительно важны. Нужно лишь уметь выделить главное звено. Отыскать в обширной повседневности тот самый замковый камень, самое малое смешение которого вызовет лавину событий. Здесь лучше полагаться на интуицию...
Предчувствие спасительно. Когда отдельные сигналы, из вызываемых ливнем ощущений, достигают тонких структур мозга, а потом просачиваются через плотную кору сознания, не оставляя в последней ясного следа, они отражаются вовне; столкнувшись на нижнем ярусе с непробиваемыми, ячейками инстинкта — клочками того, что некогда составляло сплошной панцирь самосохранения. Именно этот монолитный, большого запаса прочности, панцирь стал губителен для живого в непрерывно изменяющихся условиях. Сложным организмам требовалась гибкая система защиты. Мало сказать — гибкая. Возникла необходимость в системе алогичной. Ибо природа не терпит жестких законов. Правил, не допускающих исключений... Природа бесконечна для познания. Бесконечна оттого, что, якобы всеобъемлющий, принцип причинности сам никогда не имел первопричины. Уже одно существование Вселенной абсурдно с точки зрения примитивной логики — «вершины» научной мысли Длинноногих. Алогичная система защиты, — она и только она, — дает людям шанс на выживание в сложной среде. Но она же, случается, подталкивает на истребление одной части людей другими, что не свойственно никому из млекопитающих. За исключением человека. Апофеозом абсурда является армия Длинноногих — специально обученная, отлично оснащенная, изначально предназначенная для убийства себе подобных. Что может быть нелепей? Что может быть противоестественней?! Появление во Вселенной разумного существа не может служить основанием для его осознанного самоубийства. Армия создается для убийства. Убийство служит Идее. А Идеи придумываются для оправдания убийств. Такова логика пришельцев...
Интуиция подсказала: «Берегись!» Шиш уловил сигнал. Остановился. Повернул голову...
Много Знающий был спокоен, как только можно быть спокойным в его положении. Кажется, гибель охотника из соседнего племени выходила кстати. Люди Камня потрясены требованием степняков, а значит разоблачение заворовавшихся Пхана и знахаря отодвигается на неопределенный срок. От Шиша отмахнутся, попробуй он именно теперь рассказать про кражу мяса.
Много Знающего не мучило раскаяние. Пусть Тонкое Дерево верит в равенство между людьми, как Треснутое Копыто — сказкам о тех временах, когда в роду главенствовала женщина. Знахарь понимал: слабым требуется вымысел о их прежнем, или будущем, величии; слабость живет надеждой. Много Знающий поддерживал такие сказки, сам же не питал иллюзий. Одно — подбодрить того, кому тяжелее тебя; самому при этом ничего не теряя. Совсем другое — лично следовать вымыслам. Кстати, Длинноногие призывают ко второму, причиняя тем самым вред его авторитету. Шиш думает, что Пхан, да и знахарь, утруждаясь больше остальных, должны иметь равные с другими доли. Наивность охотника чревата сварой: кое-кто в толк не возьмет, что во все времена сильный получал лучший кусок и лучшую шкуру. Но что будет, когда об этом заговорят вслух?..
Знахарь встрепенулся — отстал Шиш. Тревогой пахнуло в воздухе...
Мухи избегали садиться на Пхана. Комары, и те, — избегали его. Из-за сухости кожи или их отвращал крепкий запах его пота, но как бы то ни было, а настырные твари не липли к старшему охотнику. Зато Пхана донимала зависть. Копье Бодучего Рога стояло перед его глазами. Он прикидывал и так и этак, смекая: каким образом выманить копье у степняка? Разумеется, когда тот убедится в непричастности Людей Камня к преступлению.
Вожделение овладело Пханом. Угроза со стороны Шиша больше не волновала. Ну чем собственно он хуже предшественников? Охотники постарше могли бы припомнить, какую долю когда-то брал Чага.
... Подсознание охотника всколыхнулось. Замешательство пробежало среди его спутников.
Каким законом подчиняется интуиция — это наитие человека?
И есть ли они — всеобъемлющие законы, которым послушен хаос? Длинноногие — те благоговеют перед различного рода закономерностями. Наблюдая ничтожную часть действительности, они принимают совпадения и случайности за непреложные истины. Они не отдают себе отчета в том, что появление разума не имело высшей причины, но было обусловлено все той же случайностью. Возникшей в точке разрыва поля причинности. Замените слово «дух» на «поле причинности» и... ничего не изменится... Наличие духов — гипотеза ничем не хуже физической; а Вселенная, где отсутствует причинно-следственная связь, не абсурдней Вселенной пришельцев. Но в данном случае упомянутая связь была налицо — уши путников уловили далекие крики, «О-о-ой... И-и-ись». Шиш наморщил лоб, всматриваясь в бегущего к ним, часто размахивающего руками, человека. Тогда как Бодучий Рог вдруг пожалел об оставленном сгоряча оружии.
Это была Длинноногая.
Она летела так, словно за ней гнались волки.
Пришелица была в десятке шагов от них, когда со стороны болота донесся скрежет.
Резкий звук вызвал озноб: кожа людей сделалась шершавой, как у годовалого свежеощипанного гуся. Одновременно на поверхности топи вздулся огромный грязевый пузырь, зловеще подсвеченный изнутри... Скрежет перешел в сухой треск, походивший на стоны лопающегося кожаного ремня.
Происходящее предвещало беду. Люди ощутили приближающуюся опасность. Метнулись прочь. Но было поздно...
Дымясь, переломился в пояснице, а затем рухнул Пхан. Безумные от дикой боли глаза его вылезли из орбит; полным ртом пробилась и расплескалась из мохнатой груди кровь, чтобы тотчас загустеть от жары. Мускулистые ноги некоторое время судорожно дергались, прежде чем старший охотник замер окончательно. Следом за Пханом подпрыгнул и жутко замычал Бодучий Рог, сбивая на губах пену. Пошатываясь, он слепо шагнул раз-другой. Нутряной вопль рванулся из его груди, и толстяк тяжело упал в пыль, прямо под ноги охотнику. Могучий торс степняка за какое-то мгновение превратился в сплошную рану, подобную которой не сумел бы нанести даже косолапый.
Ужасаясь, Шиш смотрел как пляшут коптящие язычки огня на меховых штанах убитого. Он стоял в полном оцепенении, а мимо его пронеслась коренастая фигура. Быстрый Волк, рыча и вращая белками глаз, стремглав бежал к камышам. Густой волос на голове и обнаженной спине равнинного охотника поднялся дыбом. Быстрый Волк бежал навстречу смерти. Она встретила его шипением и треском. В опавший было пузырь полетел дротик, ранее спрятанный под накидкой из козьей шкуры.
Атака не удалась. Да и не могла удасться. Под вой болотного духа дротик распался на куски.
В толще жирной грязи фиолетово засветился нарождающийся пузырь. Фиолетово-рыжая полусфера приподнялась, раздалась объеме и звонко плюнула огнем.
Несущийся во весь мах Быстрый Волк достиг топи. Каким-то образом он освободился от обуви и теперь сминал босыми подошвами упругий чакан. «Зачем он бежит?» — мелькнуло в голове охотника. Что мог степняк сделать болотному чудовищу голыми руками?
«Почему он не вернется?» — Шиш застонал от бессилия. И ту же отчаянный посланец налетел на невидимую преграду. Его голова отделилась от туловища. Шея истаяла, как сосулька у костра. Тело Быстрого Волка кувыркалось. Еще и еще... Наконец застыло среди поломанных стеблей рогоза.
Пятый по счету пузырь едва приподнялся над трясиной. Шматки жижи вяло попадали окрест. Сопутствующий вспышке звук прошелестел пожухлой листвой. Походило на то, что свирепый дух зaпыxaлcя, подустал. Оцепенение оставило охотника; дальше он действовал рефлекторно. Только стих зловещий шелест, от которого ломило в челюстях, и дымящаяся земля расплескалась рядом с Шишом, он подхватил Бодучего Рога и потащил к холмам, куда бежали Много Знающий и уцелевшие степняки...
Спасительная гряда, справа от которой кремнистым лезвием высвечивала река, казалась невыразимо далекой. Раскаленный воздух обжигал легкие. Тяжелая ноша рвалась из рук. Вдобавок мешала Длинноногая, семенившая рядом. Она силилась удержать на весу ноги Поедающего Глину, но спотыкалась, и тормозила бег.
Загнанные беглецы остановились на высоком берегу. Спутники Шиша уже были здесь, приходя в себя после страшной бойни.
Длинноногая свалилась на землю. Поймала воспаленным ртом живительный воздух. Волосы, ее спутались. Мокрые от пота пряди облепили лоб.
Невнятные причитания Длинноногой, сбивчивые из-за обильных слез и всхлипываний, едва доходили до него. Требовалось усилие, чтобы уловить смысл горячечных фраз.
— Я предупреждала...
Этого он не отрицал.
— Я надеялась, что Шиш останется в стойбище...
Она прикрыла лицо руками:
— Пойми: Пхан и Знахарь навсегда стали твоими врагами. Рано или поздно они расквитались бы с тобой..
Знахарь не мог ее слышать. Он хлопотал подле умирающего.
Степняки устало следили за ним.
— ... Теперь поедающие Глину лишились предлога для ссоры с Людьми Камня.
Ну конечно. Ссоры не будет. Преступников не пришлось долго искать.
Странно, что женщина чужого племени знала наперед, чем может кончиться совместное расследование.
— ... Остроносый прав: будет лучше, если вслед за Пханом злые духи прихватят и Много Знающего.
Вот оно! Еще не доверяя себе, он переспросил:
— Разве Остроносый уже сталкивался с болотным чудовищем?
— И да и нет. Он только предполагал... В прежней Жизни мы встречали нечто напоминающее ваше (именно ваше) чудовище. Но мы не хотели бы ошибиться.
Ого! Наивность пришельцев на поверку оборачивалась, если не хитростью, то уж, по меньшей мере, каким-то расчетом. Складывалось так, что телесная слабость Длинноногих служила маскировкой. Наподобие зимней шкурки Большеухого. Который, при весьма скромных размерах, обладал отличной прытью. Выходит, потаен в кажущейся своей простоте мир пришельцев, и, соприкасаясь с ним, следует держать ухо востро. Впервые, имея дело с пришелицей, он не ощутил покровительственного чувства — в ее зеленых глазах проглянула большая, незнакомая ему сила.
Он еще взвешивал: чего в этой силе больше — дружеского участия, неземного равнодушия, отвержения таких, как он? А изумрудная глыбь широких глаз Длинноногой уже вызвала ассоциации, какие вызывает огромная масса перекристаллизовавшегося окаменевшего, и в то же время живоподобного в своей текучести, льда, сползающего с гор.
Между обличьем этой женщины и сущностью духа, заключенного в ее хрупкой оболочке, не было органической связи. Дух пришелицы сформировался волей случая, хаотически проявившейся в том, что и пустой-то назвать нельзя; Миром правит случай — вот единственное правило, которому подчиняется Бесконечное. И сам человек непостижим по меркам условно принятых законов. Бесчисленное множество случайностей, и вариантов таковых, заключенных в конечном объеме, — это и его общество разумных. Просчитывать будущее человечества — все равно, что поверять случайность необходимостью; Времени на просчеты требуется, больше, нежели для наступления самого oпределяемого будущего...
Повязка из листьев подорожника обильно протекала. Дыхание раненого слабело. Виски обносило желтизной. Было очевидно, что степняки принесут в родное стойбище уже остывшее тело вожака. А пока они разбрелись в поисках жердей для носилок.
Дорожки слез на щеках пришелицы высохли. Уклончивей сделался разговор между ней и Шишом.
— Я сказала — Пхан превратился в обузу для племени, — он явно повторялась.
— Он покинул бы стойбище...
— Возможно. А если бы он воспротивился?
Шиш пожал плечами. Такое невозможно вообразить. Кто переступал обычаи, навсегда становился отщепенцем. Он по-прежнему получал еду. Спал в кругу сородичей... Охотился... Разговаривал... Но его не было для людей. Человек сознает себя лишь общаясь с ему подобными. И утрачивает человеческую суть, если сородичи отворачиваются от него.
— Что Пхан мог противопоставить решению племени?
— Силу своих мышц! — Длинноногая не шутила. Он хотел возразить, но зримо припомнил сучковатую дубину старшего охотника.
— Люди покоряются силе, так устроено природой. Когда Шиш станет вожаком, он должен помнить об этом. Подкармливай трех-четырех крепких мужчин; лишай, с их помощью, мяса того кто тебе неугоден и ни один рот в стойбище не откроется против тебя...
Между тем Поедающие Глину изготовились в путь. Общее горе пересилило отчуждение. Прощаясь, возглавивший посланцев Дуг коснулся лбом плеча Много Знающего, а затем Шиша. На пришелицу он не взглянул. Зато выразительно состроил гримасу, по которой охотник понял, что сухощавый житель равнины не прочь перемолвиться с ним наедине. Ни пришелице, ни знахарю он, похоже, не доверял, и, даже умей они толковать со степняками, он все равно не стал бы с ними откровенничать. Шиш прежде встречался с Дугом. Правда, жилистый, словно сплетенный из сыромятных ремней, Дуг мало выделялся из общей массы. Бросалось в глаза одно — выдержанный, постоянно щуривший левый глаз, — так что он казался вдвое меньше правого, — малоразговорчивый степняк недолюбливал Бодучего Рога за вздорность характера. Дуг избегал скандалов. Миролюбие наполняло его. Но это было миролюбие строгое, лишенное ярких чувственных проявлений.
В этот раз обычно спокойное лицо Дуга было изможденным и грустным.
— Поедающие Глину наказаны за плохие мысли о соседях. Бодучий Рог пренебрег советами Живущего за Рекой Сима. Злые духи забрали Бодучего Рога. Впрочем, о погибших не принято говорить плохо.
Посланец стоял, опираясь на разукрашенное древко копья. Протянутая рука охотника коснулась узора; насечки были выполнены настолько острым лезвием, что волокна не были потревожены, а срезы отсвечивали благородным кедровым блеском.
Немой вопрос охотника не остался без ответа. Дуг вскользь пояснил:
— Красивое древко Бодучий Рог принес в стойбище пару лун тому назад.
И дальше:
— Наши люди не слыхали от него, в каком из соседних племен живет мастер по таким узорам. Последнее время толстяк стал очень скрытным. Непонятно, что за скверный дух нашептал ему о вине Людей Камня в убийстве наших мужчин. — Худощавый степняк проследил за реакцией собеседника. — Мы сомневаемся, чтобы толстяк самостоятельно придумал насчет искупительной жертвы. До сих пор мы, как и вы, удовлетворялись в возмещении нанесенного нам ущерба мясом животных. И это было разумно. Теперь кто-то научил Бодучего Рога плохому. Но совсем плохо, что наши люди послушались его. Ведь он пользуется доверием среди многих родов.
Грусть в голосе Дуга переплелась с осуждением:
— Толстяк настаивал, чтобы Поедающие Глину бросили промысел и готовились для охоты... на человека. Он пытался превратить нас в охотников-убийц. Чего ради племя должно кормить преступников, протыкающих копьями соседей? — Он вскинул голову. — Худые времена пришли не землю отцов. Чудовище, умертвившее Пхана и Бодучего Рога, скоро сожрет всех. Надо спасаться. Люди равнины перенесут стойбища вниз по реке. На день пути от болота. Людям Камня тоже следует переменить место. Не ожидая, пока злые духи доберутся до них. Я думаю, вам следует подняться выше в горы. Ну, а теперь прощай, человек!
Шиш покачал головой, соглашаясь. А маленький отряд уже тронулся в путь, и скоро исчез за желтой стеной прошлогодней травы.
* * *
Луна похудела на треть, как вожаком признали Много Знающего. Шиш и Тонкое Дерево помалкивали про украденное мясо. Молчал и Много Знающий. Не заикались о проступке знахаря и пришельцы. Охотник решил, что до поры до времени знахаря лучше оставить в покое. Так как утрата Пхана ослабила племя, Тонкое Дерево во всем копировал Шиша. А Длинноногие, глядя на охотника, не рисковали будоражить хозяев. В результате случилось то, что должно было случиться: старшинство получил уже обладающий властью, при полном безучастии остальных.
...Племя медлило с уходом. Болотные духи утихомирились, безвылазно сидели в грязи, словно тощие мохнатые свиньи, измученные клещом. Ну, а коли чудовище вело себя смирно, людям не было нужды суетиться и бежать куда-то. Тем более, не за горами была зима... Всегда лучше выждать. Пускай болотные духи полезут первыми. Пускай они покинут обжитую трясину и выйдут на свет. Промышлять в чужих угодьях намного трудней. Стоит посмотреть, насколько чудовище будет проворно и неуязвимо, открыв человеческому глазу свой вонючий зад и пропахший тиной живот...
Шло время. Топь не тревожила людей.
* * *
Чуткий сон Шиша разладился, сделался зыбким, прерывался от малейшего шума. Короткие моменты забытья заполнились смутными видениями. Он начал разговаривать во сне. Расщепленный Кедр сострил по этому поводу: мол у Шиша не все в голове, а если и все, то не те. Пробудившись; охотник долго вглядывался в сумрак, сквозь толщу которого виднелись плетеные стены и крыша, застланная лапником и подсохшей травой. Слева крыша покато спускалась к земле. Там, в узком углу, мрак сгущался. Походило на то, что серые тени скатывались по изнанке кровли и оседали грудой на полу. Было тихо. Знобко.
Лишь у самого плеча сопела, свернувшись по-кошачьи, Длинноногая. Она ежилась от предутренней свежести. Вздрагивала. Бессознательно тянулась к мужскому теплу, дыша ему в ухо. Он жмурился и смущенно улыбался в темноту.
Их близость приметили быстро: кривые клыки не укроешь в пасти. Люди приметили и то, как мало она занималась его одеждой, и то, что живот ее оставался порожним, а, следовательно, ждать от нее приплода в ближайшие луны — было напрасным занятием. Будь он внимательней, обратил бы внимание на усмешливое сочувствие старух. Сочувствие, разбавленное неприязнью к Длинноногой. Собственно он и сам не знал наверное: стала ли она настоящей подругой ему? Хотя втайне был доволен тем, что она больше не спорила по всякому поводу, избегала в разговоре малопонятных слов, а главное — позволяла себя ласкать. Последнее разрешалось, если рядом не было ни единой души. Шиш довольствовался малым. Он был терпелив, точно скрадывал пугливую дичь, и твердо полагался на будущее.
Загнанное в летней охоте солнце устало. День ото дня тускнело пламя большого небесного костра: верхние духи берегли сушняк для зимы, когда валежник закроется снегом, и станет трудно собирать пищу для огня. Начали корчиться, обливаться желчью и кровью листья берез и осин, редкой калины да густого тальника. Скрипящие в руках, как Позапрошлогодняя береста, опята, подъедались слизнями. Просверкивала перламутром паутина, здесь и там, развешенная меж стволов, накинутая поверх задубевшей от избытка солей травы, мягко плывущая по воздуху, ниспадающая с оттопыренных в стороны еловых лап. Припозднившаяся осень глядела из засады. Ее сырой, лохматый, грязный загривок уже мелькал в просветах между гор...
Треснутое Копыто сердилась.
Она подгребала увечной ногой мягкую золу и неладно поминала того слабоумного сурка, который подарил жизнь Длинноногой. Застарелое старушечье бельмо светилось бешенством. Впрочем, недовольной она была всегда. Благо тому доставало причин: дождь, не ко времени промочивший ее насквозь, солнечный жар, стунявший складками свежевыделанную шкуру и вызвавший сгущение крови в голове. Раздражали ее замызганные девчонки, отправленные к ручью за водой, и проторчавшие там до вечера на ловле юрких и таких приятных головастиков.
Треснутое Копыто злило чавканье ненавистных мужчин, обжирающихся мясом, непосильным для ее десен и крайне редко попадавшим ей в рот... Короче, она прямо-таки задыхалась от непрестанной злобы на дикий, плохо приспособленный для удобств хромой старухи, мир. Она злилась днем, злилась ночью, когда спящее лицо ее привычно сохраняло дневную раздраженную гримасу.
Сегодня, ее раздосадовала зола. Пыльная дрянь расплескивалась, обтекала искореженную ступню. Не желая попадать в заполненное свежей мочой углубление. Несговорчивость перегоревшей в прах древесины могла взбесить кого угодно. Особенно, если человек расстроен наперед.
— Только рожденная сурком в состоянии сломать такую хорошую иголку. — Причитания старухи сверлили уши присутствующим. — Эту иголку выточил еще родитель Пхана. Она служила мне много лет и зим. Эта иголка сделана из самой крепкой кости, которая когда-либо попадалась людям. Она прокалывала любую шкуру, будь это шкура косолапого или старого козла. Теперь не бывает столь твердой и прочной кости для иголок. — Старуха перевела дух. — Нынешняя кость крошится, будто глина. Больше не рождаются мастера, каким был старший Пхан, способный обтачивать удобные для работы иглы... _
Плакальщица умолкла, дабы запастись воздухом для очередных воплей.
— Только коротколапая сурчиха способна испортить такую хорошую вещь... Эх, был бы жив Пхан! Он не позволил бы косорукой чужачке хватать острую иглу...
Треснутое Копыто закашлялось в приступе гнева, тогда как наблюдавший за ней Тонкое Дерево умирал от смеха.
Шум привлек знахаря. Он сунул голову в проем входа и, поняв происходящее, скривился.
Примолкшая было старуха сверкнула в сторону юноши бельмастым глазом, отчасти довольная тем, что ее слушают. Конечно. Она предпочла бы иную реакцию присутствующих, но за неимением лучшего приходилось довольствоваться ржанием молодого недоноска. Лучшего определения для Тонкого Дерева она подобрать не могла.
— ...Какой испорченный ум станет ждать потомства от женщины без живота? От дурной женщины. Ломающей лучшую иголку в стойбище, вместо того, чтобы сшить мужчине крепкие штаны. — Причитавшая хихикнула. Ей представился Шиш в донельзя изношенных штанах, Через проpexу в которых вывалилось его охотничье достоинство. — Уважающий себя охотник не возьмет себе в подруги тощую выдру...
Треснутое Копыто настроилась завывать до утра. Но внезапно осеклась. Показалось, будто у входа выросла фигура Шиша. Она напрягла зрение — площадка перед жилищем была пуста. И все же кто-то только что прошел за стеной... Нет, старуха не ошиблась. Острый слух компенсировал ей увечье и потускневшее зрение. Слухом и обонянием она могла гордиться с полным на то правом. Вот хотя бы теперь; ее длинный нос уловил изменение в привычном букете жилья — пахнуло затхло-дурманящим. Она вспомнила про Много Знающего. Наверное это он возился по другую сторону входа. Треснутое Копыто вновь посмотрела во двор — знахарь медленно направлялся к стойбищу со связкой березовых жердей на плече. Удивление старухи достигло предела.
Много Знающий уже исчез из вида, когда прекратилась странная возня. Бельмо повернулось и принялось буравить юношу, который перхал от еле сдерживаемого хохота. Он ничего не заметил — этот пустоголовый балбес! Новый приступ ругани всколыхнул воздух.
Стенания увечной прекратил знахарь-вожак. Он вошел, держа в руках засаленную кожаную повязку, и цыкнул на калеку. Та поджала губы поковыляла вон, цепляясь за продольную жердь стены. Молодому охотнику сделалось жаль ее.
... Когда-то давным-давно шалый зверь, в одночасье испортил жизнь старухи. Увечье превратило жизнь Треснутого Копыта в длинную череду скорбных дней и лун.
Косолапый ворвался в пещеру, когда ни Шиша, ни тем более Тонкого Дерева еще не было на свете. Однако шкура того косолапого сохранилась и поныне; она висит над входом в зимнее прибежище Людей Камня, Видно права Треснутое Копыто, утверждая, что в пору ее молодости звериные шкуры были добротней нынешних. Нынешний мех ползет под рукой, словно шерсть дохлой кошки.
Памятный старухе зверь, как выяснилось позже, освирепел по веской причине: много дней он носил в боку обломок копья. Вот так оно и бывает. Брошенное чьей-то неверной рукой оружие обернулось бедой для ни в чем не повинного человека...
* * *
Юношу кутило. Питье, которое дал знахарь, не принесло облегчения. У больного кружилась голова. Тело время от времени содрогалось. Тонкому Дереву было настолько плохо, что он не сразу заметил наклонившегося над ним охотника, а вместо жалоб с пересохших губ сорвалось горячечное бормотание. Духи недуга завладели языком юноши: Шиш не понял речи.
Громкие споры заинтересовали Треснутое Копыто. Она закряхтела; вползла под навес, где с самого утра мучился больной...
Много Знающий бросал на мраморную плиту пучки бурой травы и растирал в кашицу. Он спешил; то и дело вскидывал голову, бросая взгляд на подопечного, и с каждым новым вскриком последнего руки его двигались все проворней. Торопиться следовало: больной слабел на глазах.
Старуха благополучно миновала озабоченного вожака. Хоть в этом калеке повезло. Накануне ее допекали духи ночи: до самого рассвета снились жирные лесные куры. Сон выходил пустой. Хорошо не привиделась рыба или, — того хуже, — сырое мясо. От кур плохого не предвиделось. Для нее. А вот молодому грубияну, похоже, изменило везение; и теперь он метался в бреду. Любопытно: какая из трясовиц вселилась в Тонкое Дерево? В том, что здесь замешаны духи женского рода, старуха была уверена. Мужчины вечно пыжатся; но стоит им заболеть, как они тотчас скисают. Не оттого ль мужские духи сплошь и рядом уступают женским? Нет было же юнцу потешаться над Треснутым Копытом!
Плечистая спина Шиша заслоняла больного, Увечная подсунулась под руку охотника. Больно ударилась хребтом о его локоть и зашипела, досадуя. Впрочем, увиденного ею оказалось более чем достаточно, чтобы забыть и про ушибленный позвонок и даже про затрещину рассерженного Шиша. Ох, напрасно возгордился знахарь, сделавшись вожаком. Окрепший голос не означает возросшего ума. Зазнайство лишило Много Знающего острого зрения. Пхан привел бы его в чувство.
Следующая попытка была удачней. Охотник потеснился, давая место настырной старухе. Знахарь запротестовал было, но его возражения повисли в воздухе. Ругань Много Знающего осталась безответной и позже, когда вослед старухе пришла Длинноногая. Помимо пришелицы, охотника и Треснутого Копыта в жилище находились только близнецы-замарашки. Усевшиеся в кучу золы, экономно собранной Треснутым Копытом. Поэтому знахарь решил не замечать брошенного ему вызова...
Суетливые пальцы пробежали по груди и впалому животу юноши. На порозовевшей от старушечьих щипков коже проступили грязные мазки; испачканные в золе руки повернули голову больного, приподняли веки — показались белки закатившихся глаз.
Чем больше разминалось напряженное тело лежащего, тем уродливей кривилось лицо Треснутого Копыта. Пока, наконец, не превратилось в торжествующе-ехидную маску.
— Темные рожки — причина мук желторотого, — заявила она. — Треснутое Копыто видела однажды, что творят духи темных рожек с неосторожными. Тонкое Дерево — сопляк! Ростом перегнал пятилетний кедр, но не набрался ума. Ему надо гоняться за жирными свиньями, чтобы в стойбище не переводилось нежное мясо, — она пошлепала голыми деснами, сглатывая слюну, — мясо, посильное челюстям старой женщины... — Треснутое Копыто дернула кадыком. Серые губы ее увлажнились. Очевидно, мысль о мягкой, истекающей розовым соком свинине взволновала вечно недоедающую калеку. Отчего продолжила она вовсе сердито — ... А вместо того Тонкое Дерево набивает живот семенами, на которых угнездились ядовитые рожки.
Увечная распалилась, оборвать визгливый поток ее болтовни казалось невозможным. Внезапное заявление, наглая уверенность в своей правоте и бешено работающий язык старухи вызвали шок у Много Знающего. Он выпучил глаза устрашающе — раздул ноздри, и... и не смог вставить ни слова.
— Только круглый дурак, каким был, и всегда будет (если переживет ближайшую ночь), Тонкое Дерево, способен тащить в рот всякую дрянь. Кто другой станет жрать черную гадость, от которой раздирает живот, безумеет голова и начинается понос? Кто?! Во времена моей молодости мужчины были гораздо умнее.
Выгоревшие старушечьи глаза наполнились мечтательностью. Это оказалось настолько внезапным, что Шиш затаил дыхание.
— Да! Мужчины были сильными и красивыми. Они не рыскали по кучам отбросов, словно крысы. Они не подражали большеухим. Не жевали кору и траву, как козлы. Но каждый день приносили в стойбище упитанные оленьи и свиные туши...
Умиление смягчило черты говорившей. Напротив, искривленный рот выразил неприятие ублюдочной, утратившей добрый пещерный облик, действительности. Прорезавшаяся у нее догадка, что она, — увечная и никем не принимаемая всерьез, обошла зазнавшегося знахаря, сделала старуху почти счастливой. Морщинистые щеки ее надулись. Но, как она не пыжилась, под глазами у нее по-прежнему зияли провалы, а серые клочья волос жалко топорщились на верхушке заостренного черепа.
«Важный» облик убогой способен был тронуть ее одну, да пожалуй близнецов, занятых разгребанием золы, и поспешно юркнувших за ворох подстилки при первых воплях раздражительной наставницы. Их осторожность объяснялась просто: тощим ягодицам близнецов не раз доставалось от Треснутого Копыта. О чем говорили не только ягодицы, но и припухшие мочки ребячьих ушей.
Первым прорвало Шиша. Он ткнул старуху большим пальце в бок и спросил без затей:
— Треснутое Копыто знает, как изгнать ядовитых духов из живота молодого охотника? Если знает, почему тратит время на зряшные вопли? А может она врет?! Тогда пусть она не мешает Много Знающему заниматься делом, иначе ей будет плохо.
Раззадоренная старуха суетливо замахала руками. Заворожённо глядя на сурового охотника, она поспешила удовлетворить общее любопытство:
— О-о-о! Я хорошо помню тот давний случай. Я хорошо помню в чем заключается лечение человека, отравившегося темными рожками. У меня хорошая память... Это нынешняя молодежь забывчивей древней старухи... О-о-о! Людей с моей памятью в наше время все меньше и меньше. Слышал бы меня Пхан, он сказал бы тоже самое... Я...
— У тебя расколется череп, — прошипел уязвленный знахарь. — Тьфу! Скажет старуха о нужном или заткнется. — Лежащая у него под рукой палица заставила калеку перейти к делу.
— Я же толкую...
Много Знающий зажмурился, взял палицу на колени.
— ... Нужно, — несчастная советчица зачастила. Вырубленная из тяжелого березового корня палица гипнотизировала ее, словно змея, — вливать в рот больному воду, пока кишки не промоются. Это все! Треснутое Копыто...
Пятерня знахаря обхватила рукоять оружия — увечная подавилась языком. — Я чуть не забыла: Много Знающий промывал Живот Тонкому Дереву, но он брал травяной отвар, а нужно вливать больному воду, настоянную на горькой земле.
Горькую землю Шиш видел часто. Ее охотно грызут олени, свиньи, да мало ли крупного зверя — охотников полакомиться землей, поверх которой выступают белые пятна. Неважно, что эта земля обжигает человеческий рот; зато рогатые тянутся к ней, как к любимому лакомству...
Вскоре больному полегчало. Благотворное действие горькой воды усилилось снадобьем знахаря, размягчившим живот. На подбородок юноши больше не стекала слюна. Жажда оставила его. Прекратилось одуряющее кружение в голове. Он пришел в себя едва прошли судороги и улыбнулся Шишу, сидящему рядом.
...В тот же день Расщепленный Кедр обнаружил в лесу Остроносого. Пришелец в отличие от Тонкого Дерева уже не нуждался в лечении. Бездыханный, он лежал под разлапистой елью.
Измазанная в земле щека, искусанные до крови губы и неестественная поза, в которой он находился, — указывали, что конец Остроносого был мучительным.
* * *
Живущий За Рекой Сим хмурился. Ядовитые зерна не могли свалиться с неба. Однако Тонкое Дерево твердил одно и то же: дескать, накануне отравления он не брал в рот ничего, хотя бы отдаленно напоминающего растительную пищу. Другая задача: почему отравились, только юноша и один из пришельцев? Почему именно они?
Сим кружил по окрестностям. Трава, пораженная ядовитой напастью, нигде не попадалась. Неужели Треснутое Копыто ошиблась? Но ведь ей вторил Много Знающий. А у следопыта не было оснований сомневаться в опытности знахаря. Тем более что сам Живущий За Рекой не видел иной причины несчастья.
Сим хорошо разбирался в признаках многих болезней. Он не только читал следы, но умел бороться с духами хворей, заготавливать целительные коренья, плоды, почки, травы. Его мало смутила первоначальная ошибка Много Знающего. Духи болезней зачастую схожи, как мыши одного помета. Бывало, случайность наводила на верный путь и невежду. Но случалось, что даже опытные знахари заблуждались.
Расследование Сима застопорилось. Впервые за многие годы он сбился со следа.
Иная зараза приносится ветром... Иная приходит с талой водой, или вдогонку за пронизывающим дождем... Пути, по которым шастают злые духи, запутаны. Но рано или поздно становится ясно, откуда недуг подобрался к человеку. Теперь же было пусто. И Сим сдался. Отступил с горьким убеждением, что таинственная причина беды находится где-то рядом, а он попросту одряхлел, и уже не способен видеть открытое.
* * *
Треснутое Копыто бросила думать про чудесную иглу. Хотя какая это была вещь! Теперешние мужчины ленятся обрабатывать твердую кость. Они довольствуются хрупкими птичьими косточками. Их изделие страшно-таки держать в руках. Оно рассыпается при малейшем нажиме пальцев. А какова шлифовка! Обдерут голубинное ребрышко о первый попавшийся булыжник — и довольно. Вот прежде... Прежде что скребок, что нож что игла сверкали на солнце. Когда-то любая вещь обрабатывалась старательно, доводилась до ума. Эх! Надо было ей дожить до поры, когда тонкую работу доверяют бездельникам. Тому же Тонкому Дереву...
Здесь она вновь забывала про свою утрату и переполнялась спесью за проявленный днями талант. Тщедушное тело начинало корежиться в тщетных потугах обрести горделивую осанку. Она пыжилась, дабы окружающие еще раз обратили на нее внимание, подумав: «Э-э, из этой важной женщины получился бы отменный знахарь». Мечтая подобным образом, Треснутое Копыто вздрагивала, зябко косилась на Много Знающего. Будто последний умел читать чужие мысли.
Усилия калеки пропадали зря. Сколько старуха не дулась, ей не удавалось принять достойной случаю позы. По-старому впалой оставалась грудь. Да разве назовешь грудью пару сморщенных кожаных мешочков, присохших к ребрам? Деформированные старостью и отложениями солей позвонки удерживали спину в полусогнутом положении, а черно-синие, с венозными шишками ноги отвращали взгляд. Но несмотря ни на что воспоминания о недавнем торжестве грели ее кровь. Треснутое Копыто втайне была благодарна желторотому охотнику за его болезнь. Благодаря которой племя узнало про достоинства старейшей обитательницы стойбища. Спасибо Тонкому Дереву, и его неразборчивости в еде! Смотри-ка: и среди современной молодежи попадаются невольно приличные экземпляры. Незатейливый дурак лишний раз оттеняет способности умного человека, и тем полезен. Вот и Сим, при всех его достоинствах, довольно прост. Будь у него под черепом хоть чуточку мозга, он обратился бы за советом к ней. А уж у Треснутого Копыта всегда имеются кой-какие соображения, познакомиться с которыми кое для кого было бы очень полезно.
Разобраться хорошенько, так старуха, действительно, обладала острой наблюдательностью. Физическая ущербность, понуждающая ее большую часть жизни проводить в жилище, способствовала обостренному восприятию сторонних событий и чужих поступков. Единственный здоровый глаз Треснутого Копыта примечал все: натянутость в отношениях Шиша и знахаря, ненависть Тонкого Дерева к новому Вожаку, и подчеркнутую неприязнь последнего к пришельцам. Подсмотренное, унюханное, нащупанное и подслушанное копилось в ней, чтобы когда-нибудь обратиться в действие. Следопыта постигла неудача? Тем хуже для Живущего За Рекой и тем лучше для старухи: она начнет собственное расследование, которое само собой разумеется, увенчается успехом... В иссохшем теле калеки поселилась страсть к сыску.
* * *
Небольшой горсти зерен, пораженных темными рожками, хватило бы для целого племени. Для умерщвления двух человек достаточно крохотной щепотки. Столь малое количество трудно заметить, если оно попало в еду: черные крупицы отравы неразличимы среди порошинок угля и золы, обычно усеивающих жаркое. Все-таки почему злые духи выбрали только двоих? Или это произошло случайно? Откуда, в таком случае, появился яд, и где он находился прежде, до того как попасть в мясо?.. Случайное отравление она исключила сразу: части оленьей туши перед обжариванием промываются в ручье — Люди Камня брезгливы к грязи.
Треснутое Копыто не брала в расчет, что, рассуждая подобным образом, она подразумевала чей-то преступный умысел. Это было несущественно. Даже намекни ей кто-нибудь про умышленное отравление, она поразилась бы. Треснутое Копыто занимала чисто, техническая сторона проблемы. Ей хотелось понять, где находились темные рожки накануне несчастья. В самом деле не просыпались же они с крыши... Стоп! Как раз с крышей что-то было такое...
На дворе все оставалось по-прежнему: вытоптанная добела поляна, с множеством отпечатков босых ног после вчерашнего дождя, редкие березы возле спуска в лог, куча кремневых сколов на срезе широкого пня, излюбленном месте работы Много Знающего, неизменная треугольная гранитная плита по левую руку от жилища... И ни одной живой души — днем стойбище пустовало.
Она, раз за разом, обшаривала глазами привычный пейзаж, пока внимание ее не привлек кем-то, — и совсем недавно, потревоженный край крыши. Прилизанное дождевыми струями и ветром травяное покрытие по всей площади сохраняло однотонный бурый цвет. Только справа от входа проглядывало коричнево-зеленое неправильной формы пятно. Оно походило на развороченный, а затем искусно прилаженный на старое место пласт слежавшейся травы. По нижней границе пятна топорщились стебли гладыша.
Треснутому Копыту снова повезло. Покрытые светлыми ворсинками стебли были пустотелыми, как им и полагалось от природы. Одновременно они выказывали свежие осаднения на наружной поверхности. Не будучи следопытом, каждый мог сообразить — пучок гладыша шевелили еще до дождя, отчего трубки стеблей надломились, а отдельные расщепились во всю длину.
Старуха привстала на цыпочки. Ее скособоченная фигура страшно перекосилась; резко заныла спина, а в основании хребта что-то явственно щелкнуло. Превозмогая себя, она балансировала на одной ноге...
Осмотр трофея завершился довольным чмоканьем. Ай да Треснутое Копыто! Предпринятые усилия вознаградились с лихвой. Осталось вернуть помятые стебли туда, где они лежали раньше.
Обратная операция удалась с третьей попытки. Правда, удалась не полностью — дудки лесной моркови топорщились заметней прежнего. На большее не хватило терпения. Внутренний голос подсказывал, что лучше поспешить и убраться восвояси. Тревога была безотчетной. Хотя... В какое-то мгновение почудилось, что в кустах за поляной промелькнул человек. На всякий случай она проковыляла под навес и оттуда глянула на подозрительное место. Из кустов выбежала крупная мышь...
Больше собственной смерти Треснутое Копыто опасалась нечаянного свидетеля своего расследования. Люди давно потеряли совесть. Самый порядочный из них не постеснялся бы присвоить плоды ее трудов. Доказывай после, что именно ты, а не кто-нибудь другой, первой натыкалась на серьезную улику. С каждой луной люди портятся все больше; так что подозрительность старухи вполне оправдана. Ныне она не могла бы поручиться за сохранность даже растрескавшейся клюки, на которую опиралась при ходьбе. Только отвернись, сопрут! Утащат обязательно. Судите сами. Сегодня разбрасывают собранную вами золу. Завтра обламывают конец вашей любимой иголки. Чего ждать дальше? Скоро ту же клюку она не сможет доверить и Шишу. Тот, кто путается со зловредной пришелицей, оставившей старуху без острого инструмента, тот сам способен на всякие пакости... Мысли Треснутого Копыта повернули в привычном направлении.
* * *
Ночами в далекой степи, где ярко-синий мрамор неба упирается в многоцветный гранит земли, судорожно полыхали зарницы. Время гроз миновало; всполохи были столь же неуместны, как неуместна капель в разгаре зимы. Природа по-своему досадовала на человека, отчего рушился извечный порядок, а приметы больше не сбывались. Знахарь ворчал: мол, у духов равнины кончилось терпение — слишком часто Поедающие Глину выжигали траву, устраивая облавы. Дым от полыни, мятлика и типчака застилал горизонт. От частых загонов вытаптывалась зелень у родников. Лишенные благодатной тени духи воды покидали поверхность земли и уходили вглубь.
«Если люди не возьмутся за ум, они скоро перемрут, не найдя на голой земле ни сладкой воды, ни свежего мяса», — предрекал знахарь. Живущий За Рекой Сим поддакивал ему: «Молодежь попусту изводит добрые кремни. Если так пойдет и дальше, то Люди Камня будут выходить на охоту с голыми руками», — печалился Много Знающий, и Расщепленный Кедр раздавал юнцам подзатыльники за каждый расколотый наконечник. Кремни, действительно, кончались. Приносившие их степняки давно не показывались в предгорьях...
Сказки, которые рассказывала Длинноногая, вызывали у Шиша оторопь. Короткими летними вечерами он размышлял над ними. Возможно женщина выдумала лишнее и настоящая жизнь пришельцев была иной. Но тем хуже для Длинноногих. Взять их отношения с духами. Кто-кто, а Шиш отлично знал, что духи есть, и одновременно, их как бы нет. Духи нуждаются в жилище, как орех в скорлупе. Утратив оболочку, незримое не способно проявить себя, и наоборот — оболочка без духа мертва. Взять пришельцев. Поначалу они с пеной у рта доказывали, что духи — это выдумка. Что (ха, ха и ха!) любая вещь или животное существуют сами по себе. Пусть Людям Камня придется целую луну питаться только жгучим луком, если пришельцы правы. Проткните большеухого копьем, тотчас что-то тонкое и крайне важное для жизни покинет зверька. В природе все обладает двойным содержанием. Дух — это характер вещи. О чем тут говорить! Но приходит день, когда женщина чужого племени вдруг заявляет о вере Длинноногих... в духов! Заявляет так, словно духи пришельцев несравненно крупнее здешних. Ну, в таком вопросе не важны размеры. В малом теле бывает огромная сила; в крупном звере нередко гнездится большой страх.
Если придерживаться истины, Длинноногая вела речь о двух духах. Она называла их — Белым и Черным. Дальше ее вымыслы заползали выше гор. Добрый Белый Дух умел все. Он сделал мир, а заодно и пришельцев. Последнее говорило не в его пользу.
Черный занимался только тем, что мешал Белому...
Сотворив людей, Белый Дух принялся требовать от них слишком многого. Если верить пришелице, этот дух, похоже, крепко надоел Длинноногим бесконечными претензиями и нытьем о стремлении к самому лучшему — «Идеалу»... Если на каждое добытое животное непременно приходится еще лучшее, пока что не попавшее под удар копья. К чему, высунув язык, гоняться за «идеальным» рогачом, если он не существует в природе? До и сам охотник не хотел бы стать «идеалом». Не такой уж он дурак.
Пришелица обиделась на его слова, и сказала, что Шиш «утрирует». То есть перевирает смысл сказанного ею. «Идеального нет и быть не может. Весь смысл — в стремлении к нему».
Хорош гусь — этот Белый Дух пришельцев! Пусть страдают охотники. Пусть они бьют себе ноги устраивал загон. Но им, видите ли, не важна добыча. Главное — пролитый пот и натруженные легкие. Так что ли? Дудки! Люди желают лучшего, но достижимого. Направлять их в бесконечность за каким-то вымыслом способен лишь враг человеческого племени. Здесь охотник на стороне Черного Духа. Тот не обещает лишнего. Не призывает ограничиваться в еде и мечтать о богатой «охоте» после смерти. Знахари Длинноногих, которые сочиняют сказки о добром Белом, ни капли не смыслят в серьезных вопросах. Обитающее внутри человека — еще не человек...
Физическая суть охотника и его дух — две разные вещи. Пусть дух помогает телу при жизни, а тело закаляет дух для того, чтобы в последующем тот был достоин очередного хозяина...
Слушая Шиша, жёнщина пришла в ужас. Побледнела от злости. Заозиралась. Будто большие духи пришельцев вот-вот заявятся в стойбище, и набросятся на людей. Пришлось шлепнуть ее по мягкому месту; не больно, но чувствительно. От такой игривости она залилась краской:
— Перестань, Шиш! И, прошу тебя, не болтай ерунды о Белом. Ведь он — Бо-о-ог!
Вот те на! Белый Дух пришельцев получил новое имя. Создается впечатление, что в стойбищах пришельцев тараторят на трех языках сразу. Вряд ли это удобно. То-то охотник замечал, как неловки Длинноногие в общении друг с другом. Их речь сродни речи степняков, где громко или быстро произнесенное слово означает иное понятие, нежели тихое или распевное.
— Ты слушаешь меня?
Он отмахнулся:
— Мне надоело... Шиш сомневается в сказках пришельцев. Их знахари кормятся за счет «доброго» Белого Духа. Как Много Знающий кормился за счет болотного чудовища. — Он засмеялся. — Я согласен поверить в Большого Духа, когда при нем не будет знахарей. Дело знахарей лечить людей, а не бегать вокруг Бо-о-ога, пожирая мясо и коренья... — Смех сделался громче. — Сородичи Длинноногой чрезмерно хлопочут о духах. Что Людям Духи? «Они» и «мы». Они — это мы. А мы — не то же самое, что они. Шиш, по своей дикости, не сознает величия божьего. Он не видел...
— Чтобы съесть яйцо, не обязательно видеть курицу.
— Дикарь до смерти останется дикарем. — Судя по виду женщины, в ней, как раз, духа не оставалось — одно присутствие. — Белый Дух выше всех...
Он отпарировал по-охотничьи, «влет», словно добывал вставшего на крыло гуся. По этой части равных ему не имелось.
— Выше всех сидит ворона.
— Жалкий питекантроп!
Запахло руганью и слезами. Он отвернулся. Прищурился. Бить зарвавшуюся подругу не было настроения.
* * *
Зачастившие дожди превратили тропинку в грязный ручей, со скользкими, как однодневный ледок, берегами. Осень запаздывала, потому спешно опрастывалась влагой, туманами и остатками листвы на горных березах, обмерших в предчувствии морозов.
Поясницу Много Знающего ломило — верный признак буранной зимы. Несмотря на слякоть, люди запасались валежником. Подбирали то, что поближе и посильно для спины; валили сухостой; выдирали желтые от натеков смолы пеньки и корневища, особо ценимые знатоками огня.
Ожидание сделалось нестерпимым. Добрую часть луны Треснутое Копыто терпеливо помалкивала. Запутанный след ядовитых семян выводил на крупного зверя, и требовалась пустяковина, чтобы верная улика попала в трясущиеся старухины руки. Ожидать — тяжелее всего. Но для нее ожидание было делом привычным. Она ждала, когда поправится изувеченная нога и можно будет двигаться по-прежнему легко и свободно. Когда эта мечта не сбылась, приучила себя к ожиданию чуда, благодаря которому вернутся (кто не тешился подобной верой?) молодость и бодрость. Треснутое Копыто привыкла ждать. Однако теперь время тянулось исключительно медленно. Случались дни, когда старуха приходила в отчаяние. Подозревая, что ее могут опередить, что кто-то настырный и пронырливый уже ходит за ней по пятам, карауля момент, чтобы перехватить добычу. В такие минуты ее обдавало жаром лихорадочного возбуждения. В нетерпении она подползала к лазу, пожирая взглядом тропинку и с трудом успокаиваясь. У нее не оставалось сомнений — мясо темными рожками посыпал человек! Некто желающий избавиться от Тонкого Дерева и Остроносого. Случайность исключалась. Преступник не мог ошибиться; мясо всяк для себя жарил в отдельности, следовательно подбросить отраву мог только тот, кто считался другом обеих жертв и имел возможность сесть рядом с ними, не вызывая удивления у окружающих.
Снова и снова Треснутое Копыто перебирала в уме самые незначительные события того злополучного дня. Подозрение падало на пятерых. Дважды она предпринимала попытку разговорить Тонкое Дерево, но легкомысленный юноша начисто запамятовал, кто сидел рядом с ним у костра.
Настаивать на расспросах не хотелось — это значило вызвать ответный интерес. Всякий разговор приходилось заводить издалека. Следуя к цели окольными путями. На что, позабавленный внезапным приливом дружелюбия со стороны увечной, недалекий юнец отвечал хохотом и дурацкими шуточками.
От разговора с ним она так выматывалась, что еле сдерживалась. Порой ей хотелось выхватить из рук юноши прутик, которым он помахивал в ходе беседы, и отстегать Тонкое Дерево. Длинный тальниковый прут, непрестанно мелькающий у нее перед зрячим глазом, доводил Треснутое Копыто до бешенства. Зато молодой дурак был в восторге от изукрашенной замысловатыми рисунками палки...
Треснутое Копыто вскочила. Добраться до конца лога, где заготавливалось топливо для костра, выглядело сущим пустяком. Для здорового человека. Другое дело — она. Предстоящий путь казался долгим и полным мытарств путешествием, в котором на каждом шагу подкарауливает опасность сверзиться в грязь или сломать себе шею. Никогда прежде она не рисковала отлучаться так далеко от стойбища. Даже в добрую пору. Ныне же... Дождь, правда, кончился, и предзакатное небо мало-помалу очищалось от туч. Но все-таки стоило хорошенько подумать.
Старуха помедлила, и, наконец, решилась. Уже выбравшись на тропинку, она тут же запрыгала назад. Щит, которым прикрывали вход в жилище, был увесистым. Переплетенные прутья щита плотно прилегали друг к другу, не пропуская внутрь прохладный сырой воздух. Она сунула голову в теплый полумрак, прикинула на таинственно сопевшую ребятню, и подперла щит обломком жерди.
Постояла, прислушиваясь. Ладони хранили ощущение неошкуренной древесины. Кстати, куда девались жерди, принесенные знахарем из леса незадолго до гибели Остроносого? Еще одна загадка в ряду других. Треснутое Копыто будто сейчас увидела, как Много Знающий пересекает поляну с грузом березовых палок на плече. Любопытно! Она покачала головой. А затем поковыляла вниз по склону, временами припадая на зад, иногда устремляясь корпусом по ходу движения и тяжело работая клюкой.
Опасным участком дороги был узкий переход над провалом. Отвесные стены сходились вместе где-то глубоко под ногами. На самом дне провала шелестела вода. Пара окоренных стволов, служивших мостом, отсвечивали сыростью. Минувшие дожди усугубили положение, захлестав подходы к мосту грязью. Но Треснутое Копыто полагалась на тонкий в обхват ладоней сосновый хлыст, подвязанный за концы на уровне пояса, чтобы служить перилами.
К провалу старуха добралась благополучно; лишь в десятке шагов от моста растянулась во весь рост, проклиная раскисшую дорогу.
На мост она ступила сразу, будучи донельзя злой. Не разозлись она так, вряд ли бы начала переход очертя голову.
Сумрачный воздух затушевывал пустоту под ногами. Создавалось впечатление, что переход по мосту — дело не столь трудное: глазам бояться, ногам шагать. Она цеплялась одной рукой за хлыст, Перенося клюку вперед. Затем переносила упор на здоровую ногу, переводила дух и повторяла прием. Споткнулась старуха только раз, когда до противоположного края моста оставалось менее трети расстояния, и страх перед провалом почти прошел. Пытаясь сохранить равновесие, она усилила хватку; налегла на перила всем телом, но... опора ушла из рук. Перило подалось в сторону так свободно, словно сбитое каменной глыбой.
Пискнув по-щенячьи, Треснутое Копыто полетела в провал... Наверное, ее разыскивали бы долго, не насторожи возвращающихся охотников оторванные перила.
Зависший с одного конца хлыст был приделан на прежнее место, когда слух Расщепленного Кедра уловил идущие снизу стоны.
... Падение лишило увечную остатков подвижности. Жизнь едва теплилась в разбитом теле. Минула одна луна, потом другая, прежде чем Треснутое Копыто выкарабкалась. Немало изумив сородичей. Она вошла в сознание, но так и осталась лежать безгласной — язык ее онемел...
Знахарь еле сдерживался. Это чувствовали все, кто попадал ему под руку. Несчастье за несчастьем преследовали племя, и бедам не было видно конца. Ладно удалось разобраться с падением в провал проклятой старухи. Но кому стало от этого легче? Кому стало легче от того, что причиной несчастья послужил ремень пересохший за долгое лето, и лопнувший так некстати.
Охотники видели жалкие обрывки ремня своими глазами. И все-таки... Что погнало Треснутое Копыто на ночь глядя, да еще столь скверной дороге? Напрашивались и другие вопросы. Например: почему смущенно хмыкал Расщепленный Кедр, разглядывая лопнувший ремень? Ни на этот, ни на прочие вопросы ответов не было. Парализованная только мычала, бессмысленно поводя глазами. А Расщепленный Кедр пренебрежительно помалкивал. Не считая нужным поделиться догадками с вожаком. Этот старый пень большую часть жизни держался особняком, и никто не мог с полной уверенностью сказать, что у него на уме.
* * *
У Длинноногой резались зубы. Было, зубы мудрости у пришельцев развивались нормальным образом. Но проходили десятилетия, поколения, и однажды Длинноногие заметили, что последние из коренных зубов показываются на свет с большим опозданием. Первое время случаи были единичными, волнения в обществе не вызывали, представляя чисто научный интерес для специалистов. Постепенно загадочные случаи участились. Вскоре каждый из Длинноногих имел возможность испытать на себе прелесть «умудренности» в зрелом возрасте, когда десны становились непреодолимым препятствием для пробивающихся снизу коронок...
Все начиналось с зуда во рту. Через день-два зуд переходил в пульсирующую боль, от которой голову опоясывало жаром. Наконец, из багрово-водянистого пузыря проклевывалось нечто угольное, сгнившее в зародышевом состоянии.
Пришелицу не столько угнетала сама болезнь, сколько наивное удивление хозяев. Смолоду обретая законченный комплект твердых белых зубов, они поражались невиданной хвори Длинноногой. Их грубоватые насмешки и допотопные остроты сыпались со всех сторон. Бр-р-р! Но если бы только насмешки! Не меньшим унижением показалась ей отвратительная процедура здешнего лечения. В ходе которой знахарь залез к ней в рот заскорузлыми век не мытыми пальцами. Он радовался удачному, случаю продемонстрировать свое искусство, а вместе с тем — превосходство над чужаками. Заостренной палочкой он проколол наболевшую ткань в нескольких точках, посоветовав полоскать рот настоем ромашки и подорожника. С каким удовольствием она выплюнула бы в волосатую заносчивую рожу Много Знающего эту жгуче-горькую жидкость. Чаша терпения Длинноногой переполнилась: ее интеллект, ее достоинство день ото дня подавлялись своевольством окружающей стихии, неустройством здешнего мира, толстокожестью аборигенов — двуногих обитателей тесных продымленных пещер и землянок. Она была не просто чужой, она была враждебной духу этих людей. Ее изощренней в науках и логике разум оказывался беспомощным здесь — среди камня и зелени предгорий. Где не имелось потаенной щели, проникнув в которую, цивилизованный ум мог продемонстрировать могущество пришельцев. Теоретически последнее исключалось. В действительности же дело обстояло именно так.
... На земле пришельцев, с незапамятных времен, существовал единый народ, сплачиваемый единым государством. Объективности ради следует указать на то, что некоторые сложности в жизни Длинноногих все-таки наблюдались. Высказывались мнения, что громадные размеры государства-планеты придают обществу колоссальную инерцию, а следовательно, тормозят духовный прогресс. Авторы подобных высказываний забывали про плюсы инерции, благодаря которой общество могло скорее погибнуть, чем выйти из равновесного состояния. Человечество долго жаждало стабильности. Оно ее получило.
Государство-планета, общество-государство представляло собой сложную систему. Ничего не поделаешь: сложность — обязательная плата за совершенство. Большее число деталей и узлов системы — частые сбои в ее работе. Да, указы правительства порой достигали провинции неузнаваемыми. По такому случаю ходил анекдот: «Вышел указ — ввести совместное образование. А на окраинах расслышали — вводятся телесные наказания. Ладно, анекдот-анекдотом, но хватало и явных злоумышленников, смущающих народ. Время от времени, подогретые их речами ущербные граждане высыпали на улицы. Настаивая на межэтнических национальных особенностях отдельных групп. Крупнейшей государственный деятель Велес как-то остроумно и провидчески заметил: «Наше государство стоит любых материальных и человеческих издержек. Оно заслуживает возвеличивания хотя бы из-за величины подвластных ему территорий. Действительно. Разве Длинноногие имеют право поступаться завоеваниями, за которые предки пролили столько крови. «...Дело свято, когда под ним струится кровь.» На этом фоне заявления некоторых беспринципных типов по поводу какого-то самоопределения звучат по меньшей мере бестактно, если не кощунственно. Эти типы не в состоянии осмыслить элементарную истину: существующий — порядок — это реализованная мечта сотен поколений, спрогнозированная головами лучших представителей человечества. Поразительно, что обществу раз за разом приходится противопоставлять умственным завихрениям одиночек могучую волю объединенного народа — миллионов простых тружеников. Ибо безошибочен только здоровый инстинкт рядового работника. В противовес завирательству духовно-растленных индивидуалистов. Результирующая устремлений масс — основной закон для всех. Дело Центрального Форума и Главы государства выявить данную результирующую. Тот же Велес говорил: «Народ может, все. Но он не в состоянии сделать одного — понять, чего он собственно хочет. Наша задача — сказать ему об этом...».
Глава избирается народом. Форум назначается Главой. Форум в целях укрепления общества-государства обновляет Силы Спасения. Дабы никто не посягнул. Посягать, правда, давным-давно некому. Но тем хуже для гипотетических посягателей в будущем... . -
Среди Людей Камня чей-то голос решает многое, а чей-то, например Поздней Луны, не значит ровным счетом ничего. Далеко то время, когда обитатели предгорий, Живущие За Рекой и Поедающие Глину познают терпкую сладость растворения индивидуального в общественном. В государстве пришельцев всякий обладает основным правом — «осудить» человека выступившего против закона. «Закон суров, но это закон». Конечно, без привычки зрелище «осуждения» может вызвать тягостные эмоции. В чем она убедилась на собственном опыте. В день, когда большая толпа на перекрестке использовала свое высшее право.
... Зажатый в кольцо «оракул самобытности» мелко дрожал. Впередистоящие пояснили Длинноногой вину «осуждаемого».
Грузный рабочий сунулся острым, словно лезвие ножа, лицом к ее уху и усмешливо шепнул: «Этот хмырь додумался выйти на улицу с плакатом. Подучил кто, наверное. Плакатик не ахти какой... масляной краской: Государство бьет народ именем народа!"
От синей мешковатой спецовки и берета рабочего пахло ржавчиной. Он посторонился, пропуская ее ближе к «осужденному». Духота, спецовочная вонь, а главное — запах крови вызывали дурноту. Крупным планом промелькнули беззвучно шевелящиеся губы «хмыря», похоже он молился. Или нет... Подобные ему далеки от религии. Их набожность — просто маскировка.
По ходу «осуждения» она уловила один эпизод. Остро заточенный арматурный прут толщиной с большой палец уткнулся меж позвонков упавшего. Прут держал уже знакомый ей рабочий в синей спецовке. Рабочий был жилист, мышцы его заголившейся шеи отсвечивали кованой медью, однако она приметила с каким трудом заостренный прут входил в костлявую спину. Окружающие только мешали обладателю прута; толпа горячилась — большинство, ударов и пинков не достигали цели. Тупоносый ботинок на толстенной черной подошве вместо ребер «осуждаемого» пришелся в лодыжку «синей спецовки». Рабочий сморщился. Коротко охнул. Сузившиеся, как шилья, зрачки его выказали боль. Все-таки через пару секунд он подобрался; широкие кисти с утроенной силой налегли на прут. Глянув ниже, она сообразила, что крепышу в берете мешала не только толпа, но и сам «поклонник самобытности». Который часто дергал ногами, поводил спиной, увлекая за собой вонзившийся конец ребристой арматурины.
Это продолжалось бесконечно долго. До тех пор, пока железо не подалось вглубь еще на полсантиметра. Раздался услышанный всеми хруст. Пронзительный крик «осуждаемого» оборвался. Рабочий облегченно вытер пот со лба, вырвал прут и ударил умирающего по затылку...
Потом ей было стыдно за проявленную слабость. И в последующем она держалась более достойно. Ведь если подумать здраво, осуждение — зрелище для здоровых людей. А духовное здоровье общества дороже десятка-другого аморальных личностей.
Кликушество «хмырей» раздражало Длинноногую. Тем большей трагедией для нее стало то, что одним из вечно недовольных, обиженных на власть и общество явился, как оказалось, был Остроносый. Недаром от его высказываний и прежде у нее горчило во рту. Это была особая ни на что не похожая горечь, возникающая спонтанно и воспринимающаяся как болевой спазм. Рафинированный полынный вкус, попавшая на язык желчь, ожог слизистой хинином — производные той горечи. От нее зябли глаза, а сочные цвета красок распадались скоплениями бесцветных точек — словно газетные клише при большом увеличении. А эта противная привычка Остроносого отдуваться и кривить рот в разговоре. Эти набухающие с левой стороны жилки на шее, точь-в-точь как у престарелой, но упорно молодящейся женщины? Кажется Остроносого постоянно тянет оглянуться — не следит ли кто? «Народ и Силы Спасения едины!» — уголок его рта сползает к краю нижней челюсти... «Уф! Что там у древних: «Пахари все о волах, мореход толкует о ветрах, перечисляет раны солдат, пастух же — овец.» А наши распорядители — все о народе... И невдомек им, что нет никакого цельноделанного монолитного народа. Глупо, отрицать разницу в устремлениях разных социумов. «Вышли мы все...» Может и вышли, но обратной дорогой не запаслись... Человек — существо стадное... на стадии обезьяны. Но уж если отдельный член общества становится личностью, то общество обязано считаться с его интересами. Государство не может быть самоцелью... Пора понять, что на одной и той же почве произрастают разные овощи. А единство грядки не придает свекле вкус редьки... Всеобщее равенство — величайшая из иллюзий, для утешения... простофиль. Интересы Велеса никогда не станут печься о благополучии собратьев больше, нежели о собственном преуспевании. Никогда! Парадокс власти заключается в служении меньшинства в ущерб большинству. Только власть Личности над собой способна уравнять наши шансы на полноценную жизнь. Но это требует совершенно иной культуры».
Челюсти Длинноногой сжались. Щемяще отдалось в израненных деснах...
За недолгий срок пребывания среди Людей Камня Остроносый ухитрился изгадить все святое в ее душе, он надругался над идейными ценностями Длинноногих. Но если он прав, пускай на йоту, зачем Жил сам? Зачем не умер от тоски? Как он мог, как смел существовать с опустошенной душой! Ведь это его слова: «Власть над людьми людьми же и создается, и сами люди страдают от нее.» Чудовищный силлогизм! По мнению Остроносого человек обречен изначально; рождаясь, он обрекается на смерть; существуя, обречен изначально; рождаясь, он обрекается на смерть; существуя, обречен на непрестанные физические и душевные усилия; умирая, обрекается на забвение.
Она тоскливо сморщилась. Пришелица устала от тесного соседства аборигенов; ловила себя на мысли о том, что начинает считаться с ними словно с равными. Вот вчера она искренне оскорбилась на замечание Шиша: дескать, при еде она двигает кончиком носа. Его позабавила ее чисто анатомическая особенность. Она же почувствовала себя уязвленной. Отпарировав в ответ что-то насчет его волосатости. Зря конечно. Лобная кость охотника могла выдержать выпады и посильней. Он принял подковырку за комплимент, ощерился и прорычал: «Густой волос к счастью.» Остряк пещерный! Хорошо что духи прибрали Пхана. Иначе вовсе не было бы житья. Так в день прихода Длинноногих в стойбище Пхан задержал пришелицу и бесцеремонно ощупал ее с ног до головы. Все произошло настолько быстро, что она не успела возмутиться. Жесткие пальцы оставили на ее плечах, груди и ягодицах здоровенные синяки. В конце процедуры Пхан заржал, будто его выходка была невесть какой забавной. К чести старшего охотника с того дня и до последнего он больше не приставал к ней. Может на быкоподобного вожака повлияла дружба пришелицы с Шишем. Может его отвратило хрупкое телосложение женщины. Неизвестно. Однако страх перед Пханом прочно застрял в ее сознании. И разве в синяках дело. В минуты, когда мускулистые лапы, дикаря тискали ее, Длинноногой представилось, якобы огромный глаз холодно изучает жалкую жертву, в которой он видел не человека, не женщину, но выявил, доселе скрытое под хрупкой оболочкой, примитивное существо...
Протяжно замычала Треснутое Копыто. Пришелица склонилась над ней. В раскосых прорезях глаз парализованной мелькнул слабый свет...
Вода из свернутой кулечком бересты, прошитой оленьими жилами и залитой живицей, капля по капле впиталась меж губ старухи. Светлая влага окропила острый подбородок, всасываясь в пересохшую кожу. Отдельные капли скатывались вдоль ключицы на грудь, оставляя за собой светлые дорожки. «Еще?» Треснутое Копыто опустила веки. Длинноногая склонилась ниже. Слипшиеся от гноя глаза раздвинулись, оттуда на пришелицу глянула тьма. Когда Длинноногая заговорила, в ее голосе было смущение: «Бабушка, не сердись из-за иголки. Клянусь духами! Я попрошу Живущую За Рекой выточить тебе новую из кости Большого Клыка.» Свет в здоровом глазу старухи потускнел. Может услышанное пробудило в ней веру в выздоровление, в то, что ей снова может понадобиться острая игла, что, ее немые сейчас руки обретут прежнюю ловкость, а сама она станет ковылять по стойбищу, привычно ворча на глупую молодежь и предрекая вырождение племени. Однако в следующий момент парализованная припомнила, недавние события, почти раскрытую ею тайну, вслед за расследованием которой перед ней разверзся провал.
Плоское тело больной встрепенулось. Она повторила призывное мычание. Но возбуждение уже оставило ее. Она заснула бесшумным сном, каким обычно спят парализованные.
«Когда умрет ужаленный змеей
И снадобья не даст ему другой,
То вправе человек убить злодея:
Не спас больного снадобьем владея.
«Не все мы умрем, но все переменимся».
Цепь сходила, по склону. Охотник двигался в центре цепи. Подошвы его ног, ступая по земле, чутко ловили опору, не производя шума. Поднимать зверя было рано. Прежде требовалось охватить лес с трех сторон, тем самым перекрыв добыче путь к бегству. Потом загонщики поднимут крик, заулюлюкают, застучат колотушками по стволам, заухают по-совиному. Отчего чаша обезумеет, наполнится гвалтом и тревожно-переливчатым рокотом. Подобно длинному ремню шум удавкой стянет лес; хлеща по нежным ушам и дрожащим оленьим крупам; понуждая зверя к безрассудочному полету над землей — поверх мшистых валунов, через густой чапурник... Зверь побежит, не разбирая дороги, упреждая загонщиков. Вперед! Только вперед! На копья засады. Шарахаясь от диких воплей. Разбивая грудь о бурелом и сбивая в кровь копыта. Вперед! В спасительную тишину. За которой не предчувствуется сходящаяся клином загородка, с глубокой ямой на острие...
На ходу Шишу помстилось, а может кто рассказывал однажды, что было время и не знали люди мясной пищи. Насыщаясь мякотью плодов, да зеленью. Но многое изменилось в одночасье: другой стала зелень, утратили прежний вкус сочные плоды и коренья. Рухнула былая жизнь. Подобно тому как ушел в небытие Большой Клык. В этом мире постоянно лишь непостоянство. Зачастую мир меняется по определенной причине, а бывает и так, что следствие опережает причину, тогда окружающее выходит из-под власти всеобщих связей. Тогда разум застывает в оцепенении, не замечая разрыва в цепи познания. Ибо и разум — есть часть Вселенной. А летаргия Пространства — Материи — есть его беспамятство. Вот так когда-то расцепилась причинно-следственная связь, и обеспамятовали духи деревьев, кустарников и трав, обеспамятовал слух Большого Клыка. А когда небытие закончилось, духу Большого Клыка не осталось места на Земле. Природа и он сделались несовместимы на тончайшем уровне. Хотя не было тому ни скрытой, ни явной причины, коль сама всеобщая связь обусловлена беспричинностью.
Перед острым скребком времени бессильны роды и племена. Всему грозит исчезновение, если приток извне свежих духов не обновит вырождающуюся породу. На что был могуч Большой Клык, а скребок времени (безвременья ли) пересек становую жилу его бытия. Заблуждается Длинноногая, уверяя, что именно люди истребили зверя с тяжелыми клыками. Много Знающий помнит место, где остановилось дыхание сотен обладателей таких клыков. Где пожелтевшие кости Большого Клыка лежат толстым слоем, а Поколение за поколением Люди Камня испытывают трепет перед необъяснимой гибелью Большого Клыка. Предки человека пережили полуобморочное состояние мира, не заметив его. Человеческий дух молод и неприхотлив. Человечье нутро, подобно желудку свиньи или утробе косолапого, некогда ощутило вкус мяса и не отвергло его...
Многое знает знахарь. Еще больше знает Сим. Но никто не ведает, когда состарятся духи людей. Когда остановится время для разумного рода? Как некогда для Большого Клыка?..
Он появился в конце облавы. Его увидели на опушке, где худосочный осиновый подрост сменялся предзимним, не ко времени воспрянувшим травостоем, среди которого по-весеннему рдели распускающиеся бутоны касатика, купальницы и первоцвета. Он появился и две пары его темных изнуренных глаз пристально глянули на загонщиков.
Ему было меньше года. Он пошатывался на тонких без обычной звериной мощи ногах, шерсть на его узкой груди почернела от пота, а стройная шея натужно поддерживала голову... с двумя парами глаз. Глаза рельефно выступали на желто-кремовой мордочке, попарно располагаясь по вертикали.
Тонкое Дерево протянул руку.
Существо попятилось, присев на задние ноги. Замерло. Что-то сообразив, потянулось к человеку. Под влажной пленкой в угольно-сизой глубине зрачков таился счетверенный ужас. «Э-э-э», — отшатнулся юноша. Скрывая испуг, пошутил: «Олений дух ошибся. Лучше бы он послал Людям Камня две туши при двух глазах. На шутку не отозвались.
Знахарь шагнул вперед. Охотники затаили дыхание. Много Знающий обошел зверя по кругу — загадочные глаза следили за ним. Человек присел на корточки — зверь наклонил голову, в свою очередь уставясь на собственный живот. Хотя ничего интересного там не было.
Старший охотник выпрямился. Решение было принято, а важность момента требовала соответствующего выражения лица. Много Знающий приосанился. Вот когда пожалеешь, что духи предков обидели ростом и объемом груди. Трудно тягаться с покойным Пханом. У которого голос — и тот был погуще. Все ж таки знахарь оттопырил щеки выдохнул: «Табу!».
Охотники облегченно переглянулись. Расщепленный Кедр хмуро улыбнулся наивной хитрости Много Знающего. Интересно, кто бы осмелился поднять руку на диковинного урода, не наложи знахарь табу? Духи недаром подарили оленьему детенышу лишнюю пару глаз. Трудно сказать, чего они хотели этим добиться? и чем могла завершиться охота на такого зверя? Здесь — не сказка про летающую многоголовую змею. Слушать сказки безопасно. Куда опасней повстречаться с невиданным существом лицом к лицу. Много Знающий поступил правильно: лучше обойтись без риска. Попусту рискуют обиженные духом, да юнцы, которым приспело обзаводиться подругой... Ничто так скоро не достигает носа, как запах жареной печени. Проворней всего достигают ушей интересные слухи. Едва духи неба запалили костер, прибыли Живущие За Рекой, предводительствуемые Симом.
Следопыт сильно изменился с последней луной. Волос его побелел, почти как у большеухого холодной поры. Обожженная солнцем и ветрами кожа вылиняла. Загар сполз с лица, как старая кожа с ужа. На пути к стойбищу он дышал часто и сбивчиво; поднимаясь по отлогому склону, заметно запыхался, покрылся липким потом. Создавалось впечатление, что время, долго щадившее старика, наконец опомнилось и вонзило в ускользавшую жертву ядовитые клыки. Оно мстило за возможный промах: поспешно вылущивало зубы, выдирало волосы, нагоняло морщины на лоб и щеки следопыта.
Да, Живущий За Рекой постарел. Постарел и Много Знающий. В облике обоих появилось немало схожего. Шишу подумалось: «Никак знахарь и Сим больны одинаковой хворью?».
Примостившаяся подле охотника пришелица словно угадала его мысли, показав глазами на стариков. Шепнула: «Злой недуг овладел ими».
Охотник понимал ее неприязненное отношение к Много Знающему, однако накликать духов болезни на кого бы то ни было женщине не следовало. Но почему она решила, что это болезнь? Каждый человек стареет по-своему. А разве старость не схожа с затянувшейся болезнью? Он окинул внимательным взглядом Много Знающего. Безбровое лицо знахаря приобрело синюшный оттенок. Изредился некогда густой волос. Может Длинноногая и права, подхвати в его догадку, и старость здесь действительно ни при чем?
— Пятнистый хочет потолковать с Шишом, — коснулся сознания мягкий голос. Деланное равнодушие, с которым она смотрела куда-то в сторону, могло обмануть кого угодно только не охотника. Он достаточно изучил пришельцев, их надоедливую манеру не договаривать. Если Люди Камня скрадывали зверя, то пришельцы скрадывали собеседника. Они нуждались в недомолвках, напускали таинственность по любому поводу, а порой и без. Пора покончить с их хитростями. Уже последний хорек сообразил бы, что странные события предшествующих лун так или иначе имеют отношение к Длинноногим.
— Где Пятнистый ожидает Шиша?
— Неподалеку. Я провожу охотника.
— Пятнистый ждет только меня?
Женщина молча кивнула.
Этого следовало ожидать. Боязнь посторонних ушей была у чужаков в крови.
Конопатый пришелец ловил мотыльков. Вернее не одних мотыльков. Значительная часть его улова состояла из бабочек разной величины и окраски: голубянок, пальцекрылок, листоверток, многоцветниц и прочей порхающей пустяковины. Столь несерьезное занятие вызвало усмешку Шиша. Увлеченный «промыслом» пришелец этой улыбки не заметил. Он напоминал бестолкового щенка, которого донимали мухи. Пятнистого от щенка отличало одно — "охота" пришельца была несравненно удачней. Хотя «добыча» эта органически претила Человеку Камня. А впрочем... Дело вкуса. Поедающие Глину готовы ладонями вычерпать воду из первой попавшейся затхлой лужи, чтобы добыть головастиков или прыгучих крикливых тварёй, скользких и слизистых на ощупь. Которых степняки поедали с видимым наслаждением. Но те же степняки брезговали содержимым речных ракушек. Уважающий себя обитатель равнины не возьмет в рот ракушку, даже загибаясь от голода. Однако, к чести Поедающих Глину они не считают соплеменников Шиша дикарями за любовь к моллюскам и не выказывают отвращения к чужой трапезе. Не в пример Длинноногим.
Конопатый оставил бабочек в покое. Отряхнул ладони. С ходу «взял быка за рога».
— Шиш — храбрый охотник...
Ого! Сладкая приманка губит даже косолапого. Когда лиса ползет на брюхе — это не означает, что она хочет добра косачу. Лесть служит западней для спесивого. Охотник не хуже пришельца знает меру собственной храбрости.
— Болотные духи угрожают Людям Камня. Опасность день ото дня увеличивается.
Примечательная новость.
— Пятнистый был у болота?
Последовал утвердительный ответ.
— Пришлось. — Пятнистый смотрел в землю, но охотник кожей ощутил, сколь бдительно чужак улавливал каждое движение собеседника. — Я не думаю, чтобы табу вашего племени распространялось на меня.
Помолчали. Шиш насупился. Превозмогая себя, пришелец пояснил:
— Я бросал камни. Если они пролетали без помех, я шел следом. Смекалка чужака вызывала уважение. Шиш до подобного не додумался бы. Как не осмелился бы нарушить табу. Ну, если Пятнистый настолько смекалист, чего же он ждет от Шиша?
— Я.. буду говорить. Пусть охотник, со вниманием выслушает меня. Итак. Что мы знаем о болотном чудовище — обиталище злых и беспощадных духов? Первым погиб Ме-Ме... Чудовище напало на него у камышей, то есть — на краю болота. Откуда до места, где прячутся злые духи, можно достать копьем. Дальше... Поедающие Глину лишились жизни на расстоянии трех-четырех полетов копья от топи. Но с другой стороны. Я говорю — с другой, хотя последнее неважно: с любой из сторон расстояние до нужной нам точки, которую назовем центром, примерно одинаковое. Если брать от края болота, — растолковывал пришелец, видя затруднения охотника. — Пойдем дальше... — Он обрывал крылья пойманным бабочкам. Одной... Другой... Третьей... Радужные, белые, желтые, голубые лоскутки, вращаясь, скользили к земле. Шиша передернуло. Это было ничем не оправданное, неряшливое умервщление живых тварей. — ...Взять последнее нападение. — Длинноногий покончил, с бабочками. Повернулся к собеседнику. — ...Как близко от топи находились посланцы?
Обстоятельства гибели Пхана и его спутников еще не остыли в памяти Шиша. Он прикинул: болото плюнуло огнем, когда они поджидали Длинноногую. Тогда от них до камышей было изрядно. Однако... Во-о-он куда гнет конопатый пришелец! Рассуждая этаким образом, нужно учесть и более свежий случай — гусей, свалившихся на голову Тонкого Дерева.
Подсказку приняли с охотой:
— Вот-вот, думали мы и про гусей. Вчера мной дорога к болоту проверялась вновь. Чудовище разбило камень у начала тропинки ведущей к пригорку.
Озноб прокатился по телу Шиша. Скверно. Выходит, чудовище хорошо подкормилось за последнее время. Оно набралось достаточно сил, если смогло бросить огонь в пять раз дальше прежнего. Дельный совет давал Дуг: стойбище нужно переносить, Стоп! А если...
— Пятнистый когда-нибудь встречал чудовище, подобное тому, которое убило Пхана, Ме-Ме и других? — Он впился в чужака глазами; Склоненное лицо того выглядело непроницаемым.
— Пришельцу известно уязвимое место чудовища?
Вопрос, как говорится, в точку. У самой свирепой твари обязательно найдется или живот, или горло, которые не выдержат удара копья. Разумеется, когда оружие находится в крепких и опытных руках. Имеет ли болотное чудовище глаза? Почему бы нет. Коль оно видит добычу. В крайнем случае — слабым местом хищника может быть нос. Или он обходится без ноздрей?! В такую несуразицу охотник не поверит ни за что. Нет и, быть не может существа, способного уцелеть в этом мире, без обоняния и зрения одновременно.
Уклончивость собеседника мало обнадеживала. Он пространно и путанно «петлял»:
— Схватываться с существом, — он слегка запнулся, — которое Шиш именует «болотным чудовищем», мне не приходилось. Блестящезубый… — Нет. Ему явно было не по себе — крапинки на его лице позеленели. — Блестящезубый...
Продолжение звучало монотонно. Словно Пятнистому разом сделалось скучно. А может его клонило в сон? Скорее всего пришельца что-то смущало. Хотя уши охотника не улавливали посторонних звуков. Кроме длинноногих и Шиша в перелеске никого не было — он ручался за это.
— В общем так. — О Блестящезубом Остроносый больше не упоминал. — У меня имеются кое-какие соображения. М-м-мда... Чудовище нападает выборочно. Оно не бросается несколько раз кряду. До сего дня было так... Поразив Ме-Ме, оно отпустило с миром охотников, пришедших вослед косоглазому. Растерзав степняков, чудовище оставило в живых их сородичей. Зато через два дня оно яростно набросилось на посланцев и Пхана. Дав уйти остальным. О чем это говорит? Только о том, что, умертвив две-три жертвы, страшный хищник на время затихает или… или временно становится беспомощным. Да злые болотные духи владеют страшным оружием. — Говорящий оживился. Повеселел. Неужели его радуют огненные зубы чудовища? Ну, конечно, Шишу попросту привиделось, что Пятнистый симпатизирует людоеду. Ни один человек, будь он в здравом уме и рассудке, не станет сочувствовать опасному хищнику. Злые духи напоминают мне ловушку для лис. Чтобы она сработала, ее всякий раз нужно настраивать.
Вот это лучше! А то Шиш уже начал подозревать, что Длинноногий не в состоянии говорить кратко и внятно. Так думал охотник. А конопатый пришелец в это время мучительно соображал, как «разжевать» для Человека Камня понятия, которыми привыкли пользоваться пришельцы. Он думать не смел о духовной пластичности их интеллекта. Он отвергал, казавшееся диким, предположение, что человек во все эпохи равно велик и одинаково ничтожен как перед Пространством — Материей так и перед собственным Духом! Будучи малой частью этих величин. Длинноногие гордились дистанцией отделяющей их от первобытного состояния. Будто дистанция эта была непрерывной и поддавалась элементарному исчислению. Сам Пятнистый снисходил до Людей Камня. Однако эта снисходительность умиляла лишь его самого. Снисходительность всегда сродни заносчивости. А для заносчивости у пришельцев не могло быть оснований. Однажды народившись, разум не менялся качественно. Сознание Шиша столь же пытливо и просветленно, как забывчиво и поспешно сознание пришельцев. Если соплеменники Шиша безотчетно преувеличивали животную часть собственной сущности, справедливо наделяя способностью мыслить даже зверя, то Длинноногие непомерно превозносили сознательное начало, пренебрегая своими животными корнями. И тех и других могло бы примирить одно — человечество не одиноко в бесконечном времени. Позади и впереди его всегда есть другие. Страдающие подобно ему. Радующиеся как он. Нет ничего фатального в бренном мире. Животворящий Дух вечен. Вечна его обитель. И равная мера отпущена каждому поколению: Шишу доступна отвлеченность мышления Длинноногих, а пришельцы хранят в себе первородную кровожадность Пхана. И если обитатель пещеры считает кровожадность ничем не оправданной свирепостью, то Длинноногие, запамятовав о том, за давностью лет, допускают жесткость, как печальную, но приемлемую необходимость...
Шиш легко представил картину будущей схватки. Охотничьи: владения чудовища быстро увеличиваются в размерах. Как ни крути для Людей Камня осталось всего две возможности: бежать или уничтожить хищника. Выяснилось и кое-что отрадное: чудовище атакует только тогда, когда, его жертва находится в пределах прямой видимости. Значит обоняние можно исключить. А большой камень, толстый пень, высокая кочка — надежно прикроют охотника.
Пришелец покривился:
— Если бы. Никто не спорит, до настоящего времени злые духи смирно отсиживались под слоем грязи. Но кто может поручиться, что они будут сидеть там и впредь? А ну как они выберутся на сушу? Хуже того — взлетят? — Лапы и крылья! Лицо Шиша запламенело. Как он мог упустить из виду! Длинноногий прав: в борьбе с чудовищем шансов на успех у охотника гораздо меньше, чем ему показалось на первым взгляд. Что же, и он не прост: на его стороне быстрота движений и точность удара. Не зря Пятнистый выбрал именно его…
Шиш лукавил сам с собой. К кому еще мог обратиться чужак? К Расщепленному Кедру? Старый добытчик отказался бы наотрез, он не принимал Длинноногих всерьез. К Много Знающему? Результат был известен наперед. Нет, нет и нет! Кроме Шиша не было кандидатур.
Охотник не ошибался, хотя многого пока не знал. Он не знал, например, что его смелость Длинноногий объяснял недостатком развитого воображения. Что вероятность остаться в живых после схватки с чудовищем для Шиша равнялось нулю. Что обсуждая вариант с Шишом, Длинноногая упирала на моральную сторону дела, Но о какой морали шла речь? Какие нравственные нормы применимы в пещерном мире, на фоне грязных блохатых шкур? Нужно быть реалистом: бытие определяет сознание Пятнистый добавил бы — и мораль. Что касается Длинноногой, Пятнистому было ясно: женщина симпатизирует крупному, полному первобытных сил самцу. Ох уж этот атавизм женских пристрастий! Однако он, Пятнистый, не вправе идти на поводу у первобытных чувств...
Лицо пришельца передернулось.
... Длинноногая не доискивается сути вещей. А ведь разум не просто «две ноги, две руки и зачаток речи». Разумеется, Люди Камня разумные. В определенной степени. Но разум их одномерен, иллюстративен, как одномерна и конкретна живопись Тонкого Дерева. Длинноногая в восторге от пещерных карикатур: «Ах волшебный примитивизм! Ах таинство первобытной искусства!». Она забывает, что это — потом, позже, спустя тысячи лет. Потом будет фурор: гениальная пластика… первобытный шедевр... Это через много веков инфантильным «знатокам» пещерного искусства мазня Тонкого Дерева покажется идеальной. Те-те-те… Талант? Талант сродни помешательству. Достигая многого в одном, личность неизбежно теряет в чем-то другом. Зато абсолютно «нормальный» человек — это полное безумие. Конопатый пришелец любил мыслить парадоксами.
... Мазня, пещерного «художника» гениальна в пределах своего пещерного времени. Как гениален рисунок трехлетней девочки. Он гениален в силу того, что он... трехлетен. Карандашная мазня шимпанзе — всегда шедевр, потому что обезьяне не должны рисовать...
Он вернулся мыслями к охотнику. Рослый дикарь являлся отличным полуфабрикатом. Длинноногим присущ естественный гуманизм по отношению к живому. Однако высшее проявление гуманизма заключается в жертвовании простым на благо сложных структур. На пути к совершенству необходимы затраты. Сородичи пришельца уплатили по счетам. Настала очередь Людей Камня...
Было заметно, что пришелец хитрит, но охотник прикинулся слепым. Ныне племя нуждается в каждом, кто хоть на что-либо пригоден.
Задача, которую ставил Пятнистый перед Шишом, получалась головоломной. Чужак потел, стараясь предусмотреть каждый шаг. Кучка влажной глины принимала в его руках причудливые очертания. «Болотное чудовище», — показал он наконец на глиняного урода. Сомнительно, чтобы до ушей измазавшийся в жирной глине пришелец сумел изобразить жестокого хищника. Ему явно не хватало сноровки. Обитатели равнины надорвали бы животы, глядя на нелепое изделие, похожее на вывороченный из земли пень. Высыхая, «чудовище», обязательно растрескается и развалится на куски. Не в пример горшкам степняков. Надо заметить, что соплеменники Шиша не признавали глиняных сосудов. Ведь глина — та же грязь. Глиняные горшки неустойчивы и хрупки. Каменные плошки надежней. Правда, они тяжелы. Но хранящаяся в них пища не утрачивает приятного вкуса. А полежавшее в глиняном горшке мясо начинает отдавать землей. Кому охота глотать грязь! Пусть ее едят красные черви да степняки. Охотник ничего не имеет против Поедающих Глину. Но себя он уважает ничуть не меньше.
Уязвимое место чудовища, по мнению пришельца, выглядело совсем крохотным. Нечего было и думать попасть в него копьем. Кабаний глаз был бы лучшей мишенью.
В предстоящем поединке главное зависело от настроения злых духов. Приподнимется ли чудовище над поверхностью болота, при виде охотника? Высунется ли оно настолько, чтобы можно было поразить его в сердце? Этого Пятнистый также не знал. Он обещал лишь отвлечь внимание злых духов, пока охотник подбирается к цели.
Единственное на чем пришелец настаивал решительно — это чтобы Человек Камня оставил в покое голову чудовища. Череп которого толще черепа, косолапого, и не треснет под тяжелой дубиной.
— Необходимо — убежден пришелец, — попасть на спину зверя, тогда успех обеспечен. Пятнистый сыпал советами и указаниями; словно раньше не занимался ничем другим кроме как Охотой на болотных чудовищ. Истребляя их целыми стадами.
Шиш терпел. Помалкивал, хотя язык у него прямо-таки чесался. Ну что сказать на такое предложение Пятнистого — отправится на борьбу с хищником... без оружия? Оружие-де будет только мешать. Вот те на! Сколько помнится, копье и дубина еще никому не мешали подобных случаях. С чего вдруг они помешают Шишу в столь опасном деле? Э-э-э, пусть пришелец талдычит свое. Когда охотник подберется к чудовищу, он увидит сам; куда и чем бить. А раз назойливый советчик так умен, пусть попробует унять чудовище без Шиша.
* * *
Горы фиолетово светились. Искры небесного костра густым роем проплывали вверху. Целый сноп искр, пересекая небо, уходил за край земли. Выказывая тем самым где духи грядущего дня сохраняли жар для нового костра. Искры мерцали в полете: одни из них гасли, но поднимались и зависали над землей другие, когда духи неба шевелили подернутые темно-сизым дымом головни.
Пятнистого охотник видел со спины. Шиш кружил возле чужака; отовсюду взгляд натыкался на спину пришельца, с резко очерченными на ней тенями от острых лопаток. В охотнике не было удивления. Каким-то образом он понимал: это время и страх перед окружающим миром сыграли с пришельцем нехорошую шутку, лишив его лица, и оставив только спину и тощий, будто у молодого волка, зад.
Каждому ведом страх, люди знают глаза страха. Они всегда разные: по-рысиному желтые, кроваво-точечные, как у разъяренного косолапого, смертельно-льдистые, словно выстуженные зимним ветром...
Страх пришельца виделся иначе — у него вовсе не было глаз. Он был бесформенным и бесцветным. Такое случается, если человек боится... самого себя.
— Кто ты? — палец Шиша проткнул пустоту. Тотчас неведомое внутри черного чучела шевельнулось, оттеснив руку охотника.
Темная фигура ответила, по-прежнему не имея лица:
— Я человек.
— Как твое прозвище?
— Что тебе в имени моем? Когда-то меня назовут Чудотворцем. Этого достаточно? Шиш повторил последние слова пришельца. Набор звуков оцарапал язык, резанул губы, но не вызвал отклика ни в памяти, ни в сердце. Имя чужака было пустым и лохматым, точно расклеванная еловая шишка. Имя его походило на такую шишку. Именно походило не более. Потому что где-то в центре его, под слоем растопыренных чешуек, не содержалось ничего, никакой плотной ткани — только эфемерный стерженек, давно утративший, свое предназначение...
Распухала фиолетовая шкура над остроконечными вершинами гор. Сине-лилово-сиреневые блестки пятнали небосвод, приглушая искры Большого Костра.
Охотник искал, но не находил рта пришельца. Звуки зарождались сами по себе, в недрах мрачной, свернувшейся в цилиндр, спины.
— Зачем Пятнистый пришел к Людям Камня?
— Я пришел, чтобы встретиться с гобой, чтобы дать бессмертие Шишу. Ибо я — есть ты.
В руках охотника лопнуло древко копья. Оно давно нуждалось в замене. Обломки упали на камни. Наконечник высек о гальку искру. Острые лопатки пришельца трепыхались в испуге, будто крылья; сошлись ближе.
— Бессмертие?! Зачем оно Человеку Камня. Вечен только дух. Зачем Шишу удерживать дух при себе так долго? Рано или поздно второму «я» охотника потребуется здоровый и молодой хозяин. Шиш не желает обкрадывать нарождающуюся жизнь. Нельзя рушить извечный порядок вещей.
А голос пришельца предупреждал;
— Бессметрие необходимо для познания вечности. С его помощью можно подняться выше всех и облагодетельствовать человечество.
Хотелось сказать, что Пятнистый запутался в двух соснах. Невозможно сделать человека бессмертным: ведь конец всякой жизни — есть начало иной. Шиш засмеялся, сглатывая едкие от соли слезы:
— Мне хорошо среди людей, с которыми я вырос. Я не хочу жить дольше других. Пусть вечностью владеют невидимые. Шишу незачем быть выше остальных...
— Охотник не знает себя. Человеку свойственно каждодневное недовольство своим положением в племени. А племя постоянно нуждается в вожаке. Совершенная власть — это бессмертие властителя. Лишь практически вечный властитель гарантирован от банальных изъянов и пороков — пристрастий и привязанностей...
Холодом потянуло от чужака. Со стороны высоких скал большими прыжками приближалась зима, с прищуркой поглядывая на нечаянную красоту бабьего лета.
— Но кто ты?
— Я говорил: что тебе в имени моем? Перед тобой тот, кого ты считаешь своим духом.
— Вранье, — отмахнулся охотник. Тотчас дневной свет проник в его глаза; задавило в висках, сухостью опалило рот. Далеко впереди мелькнула фигура пришельца, пробиравшегося к стойбищу. Или то был не Длинноногий?
Он соскользнул к ручью, где долго глотал пахнущую талым воду, тяжело переводя дыхание в промежутках между глотками.
* * *
«Охота» на болотное чудовище откладывалась со дня на день. Во-первых, глупо спешить в важном деле. Во-вторых, опять зарядил дождь, и шел с перерывами трое суток. А когда дождь прекратился, понадобилось время для подготовки.
Предстояло разведать подходы к топи. Прокаленный летней жарой грунт, по счастью, не успел перенасытиться влагой, но кое-где образовались лужи, а лог, в узкой части своей, оказался непроходимым. Этот длинный, мелеющий в направлении камышей, лог был облюбован Шишом в качестве укрытия по дороге к болоту. Крутые от провала стенки в дальнейшем переходили в отлогие склоны, делая, однако, человека невидимым для чудовища. Привлекало и то, что мелкая часть лога завершалась в самой гуще рогоза и тростника, откуда до чудовища было рукой подать. Таким образом, следуя намеченным путем, охотник находился в относительно безопасности. Сложности начнутся потом. Когда высокие стебли прибрежной растительности останутся позади. Болото обмелело, но преодолеть широкую полосу вязкой грязи в один прием вряд ли удастся. Оставалось надеяться на предприимчивость конопатого пришельца, да на подстраховку, придуманную охотником вопреки наставлениям пришельца. Человек Камня не думал целиком полагаться на Пятнистого. Появиться во весь рост на глазах у злых духов можно, если иметь в запасе кое-что еще, помимо быстрых ног и подозрительного напарника. Поэтому в критический момент в игру должен вступить Тонкое Дерево.
Юноша принял предложение Шиша с восторгом. В порыве благодарности у него увлажнились глаза: как-никак один из лучших охотников предгорий берет его в помощники. А он всегда готов идти куда угодно, и для чего угодно, если позовет Шиш. Хоть в волчью нору голышом! Не говоря уж про участие в невиданной за всю историю Людей Камня охоте...
Намеченный на утро поход снова был перенесен и снова не по вине людей.
Они появились на закате. Сияющие отраженным солнечным светом они появились в воздухе одно за другим. Мгновение тому назад яркие точки, они в считанный секунды выросли в десятки раз. Сверкающие тела надвигались от равнины в сторону гор.
Когда охотник выскочил из жилища, они уже представляли собой гигантские, похожие на перловиц, раковины.
Летающие раковины передвигались с бешеной скоростью. Отдельные замирали на миг. Срывались снова, круто меняя направление. Другие заворачивали под произвольным углом, не теряя при этом хода. Были и такие, что исчезали вдруг, без видимой на то причины. Создавалось впечатление, будто они испарялись, превращаясь в тончайший прах. Чтобы тотчас засиять на прежнем месте с удесятеренной силой. Нельзя было исключить, что, взамен исчезнувших, из плотного воздуха выныривали новые. Но все раковины походили друг на друга и глаз не был в состоянии различать их.
На высокий валун, запаршивевший от лишайника, и известково-белый от древности, охотник заскочил одним рывком. Изготовленное оружие ему не пригодилось: на его немой вопрос Пятнистый ответил отрицательным желтом — летающие раковины не имели отношения к болотистому чудовищу. Пришелец сохранял спокойствие. Впрочем замечалось что и его взволновало происходящее. Иначе отчего он недоуменно пожимал плечами?
Люда Камня стояли, высоко задрав головы и разинув рты. Тогда как пространство над поляной заполнялось множеством летающих тварей. Невзирая на кажущуюся беспорядочность движений, «раковины» ухитрялись не сталкиваться друг с другом. Они расходились невредимыми и тогда, когда встречались лоб в лоб на встречных курсах. Летающие «моллюски» всякий раз избегали соприкосновений. Было очевидно: светящиеся тела не подчинялись земным законам.
Длинноногая дрожала рядом с охотником. Она не смела покинуть валун, подъем на который стоил ей ободранных коленок Как бы то ни было она не оставляла Шиша и он был благодарен за это. Хотя сейчас он не поручился бы ни за нее, ни за себя. Ни за Много Знающего, разверстой пастью которого можно но было ловить птиц.
Наверное Шиш все-таки моргнул, прогоняя набежавшую на глаза влагу, так как пропустил пугающий момент, когда один из сверкающих летунов круто упал вниз, и застыл над головами остолбеневших людей. Теперь «раковину» видели отчетливо. На ее поверхности не имелось четких деталей; по слепящей глаза выпуклости скользили смазанные фиолетовые пятна в виде кругов, полос и змеек.
После короткого замешательства послышался предостерегающий возглас знахаря. Чуть позже в воздух взлетел камень...
Тонкое Дерево радостно взвыл. Брошенная им галька попала точно в центр «раковины». Юноша мог гордиться собой: он сумел попасть в мишень с первого броска. А это было сложно, если учитывать, что летающая тварь находилась прямо над поляной и траектория камня выходила предельно крутой
Но торжествовал он недолго и преждевременно: галька вошла в светящуюся плоть, и... исчезла, не вызвав заметных последствий.
Улыбка остывала на лице молодого охотника, когда «раковина» слегка сплюснулась; фиолетовые тени на ее боках замелькали чаще. Сыграл ли какую-то роль попавший в нее камень, может просто пришел черед нового маневра, только летающая тварь упала прямо на Шиша с Длинноногой... На виду у племени они оба исчезли в ярком свете поглотившей их «раковины».
Сияние прекратилась неожиданно для всех. Полуослепшие люди напряженно вперились в подступившую тьму, которая быстро разредилась, открыв небо. Небо было пустым и чистым, словно отродясь не было летающих «тарелок», ни внезапного затемнения. А был далекий закат. И все так же шелестели листья на деревьях.
Охотник и пришелица стояли на верхушке валуна, как ни в чем ни бывало. Светящиеся «моллюски» пропали. Более не напоминая своим голубоватым свечением о громадности окружающего мира.
Первым прорвало чужака. Кажется штуки, которые Много Знающий обозвал летающими раковинами, никому не причинили вреда.
— Чего бы ради они причиняли нам вред? — Громыхнул Расщепленный Кедр. — Это человеку положено есть ракушек, но никак не наоборот.
Подруга Поздней Луны, юная Ракушка, сконфуженно придержала руками пухлый живот, словно ее имя было причастно к случившемуся нападению.
Пришла в себя Длинноногая:
— Когда взбеленившаяся тварь налетела на нас, я ничего особенного не почувствовала. Это похоже на туман. — Поправилась.
— На плотный, сухой туман.
Повернулась к Шишу:
— Люди Камня когда-нибудь наблюдали подобное?
Острый слух знахаря дал себя знать. Он подошел ближе: — Наше племя не встречало такого. Людям Камня все равно — птицы это или плавающие по воздуху ракушки... — Слушатели почувствовали напряжение в его голосе. — Пятнистый имел дело с болотными духами? Если и нет, почему он решил, что кружившие над нами «раковины» не сродни чудовищу, прячущемуся в вонючей грязи? Разве он не видел, откуда прилетели светящиеся твари? Чужак побледнел, а знахарь уже наседал.
— Может пришелец ослеп? Но зато видели мы. Раковины прилетели со стороны топи, от того проклятого болота, на которое наложено табу!
Пальцы Длинноногой стиснули запястье охотника. Она как и ее опешивший сородич попала в довольно затруднительное положение, ибо Много Знающий выбрал удачный момент для мести. И теперь открыто издевался над пришельцами.
— Чужак молчит? Пусть Длинноногая ответит за него. Ага! Она тоже проглотила язык. Уж не она ли приманила в наши края опасную дрянь? Я уверен, что пришельцы могли бы о многом поведать нам, не откажи им дар речи. О чем Пятнистый сигналил Шишу, когда светящиеся твари кружили здесь, словно голодные вороны? Или меж створок крылатых «ракушек» имеется вкусное содержимое, которое чужаки берегут для себя...
Много Знающий бил наугад. Koe-какие сомнения относительно пришельцев у, него зародились давно, еще с момента гибели Ме-Ме. Тогда своими сомнениями он поделился с Пханом. Однако старшего охотника подвела самоуверенность; за что он в конце концов и поплатился. За последнюю луну сомнения знахаря перешли в уверенность. Но одной уверенности было мало, зато покуда Длинноногим покровительствовал Шиш. Требовались серьезные улики, а их то как раз не находилось. Недавняя встреча в лесу могла бы кое-что прояснить, ибо даже на расстоянии было заметно, что между Шишом и пришельцами шла речь о чем-то важном. Подслушать беседующих не удалось, знахарь видел, сколь осторожен и опаслив Пятнистый, не зря же он заманил охотника на такую глухую поляну...
Образовавшаяся пауза позволила Длинноногой перейти от обороны к наступлению:
— Много Знающий — мудрый человек. Мы — Длинноногие убеждены: летающие «раковины» безопасны. Правда, — она обратилась к Тонкому Дереву, — нельзя швырять камнями во все, что движется. Целясь в большеухого, можно угодить в косолапого. — Знахарь сбился, сурово глянул на молодого охотника даже кивнул, одобряя пришелицу. Правда, его согласие не означало, что почтительность женщины усыпила знахаря. — Мне кажется... — Длинноногая умолкла на полуслове, сделав вид, будто ей помешали грубоватые шутки Расщепленного Кедра, который напал на юношу.
— ...Хо! Юнец обмочился при виде взлетевших ракушек, — допекал Тонкое Дерево истребитель кабанов.
— Крылатая перловица стащила твой камень, сопляк. Она приняла его за жирную муху. Хорошо что Тонкое Дерево не бросил копье... Хо и хо! Юнец мог остаться без копья.
Расщепленный Кедр разошелся вовсю. Жесткая грива его нечесанных волос встопорщилась от удовольствия:
— Правильно, мальчик, делай так, и не думай. Если тебе что-нибудь не нравится, бей камнем. Ох-хо! Тебя следовало назвать не Тонким Деревом, а Каменной Башкой...
Знахарь не дослушал. Отошел в сторону. «Старый безмозглый кабан!» Вмешавшись, он сорвал замысел Много Знающего. Без того последнее время в стойбище происходит что-то неладное Охотники пасмурны, вспоминают Пхана. Еще нет злых криков в адрес нового вожака, но знахарь видит как приближаете день, когда мужские голоса перекроются женскими. Беда, если выйдут из повиновения подруги охотников. Беспощадных в ярости самок Много Знающий опасался больше громкоголосых, но замолкающих после сытной еды мужчин. Назревает мятеж, воду мутят пришельцы. Их замысел прост. Они хотят верховодить в стойбище, чтобы получать лучшее мясо.
Знахарь облизнулся. В животе засосало. Но до еды ли. Необходимо скорее избавиться от чужаков. Эх, если бы не Шиш! Глупый, недалекий Шиш! Везде успевающий Шиш помалкивает до поры до времени. Дай ему повод, и он заговорит. Сейчас он вновь затевает что-то рискованное — знахарь чувствует это хребтом. Не зря конопатый пришелец крутится лисой, а Тонкое Дерево — тот — сам не свой от радости. Назревают большие события, а Много Знающий в полном неведении. Опередить? Сорвать замыслы пришельцев? Каким образом? Когда бы он был уверен, что племя безропотно последует за ним, покинув, землю, где лежат кости их предков, он не раздумывал бы ни дня. Но вдруг племя заупрямится? Тогда гибель всему. Знахарь ослаб от дум. Ему неоткуда ждать совета. Живущий За Рекой Сим, говорят, слег в ожидании конца. Вот дух Много Знающего крепко сидит в теле, легким остается дыхание знахаря и живот не засоряется пищей. Недаром он пьет воду, настоянную на редких корешках. Отведав которых даже ленивый барсук становится проворным и бодрым. Много Знающий потер грудь и пошел досыпать...
Предъявленные им обвинения были серьезными. Пятнистый слонялся по поляне, прикидывая, чем конкретно располагает Много Знающий.
... Однообразный заунывный писк действовал на нервы. Поздняя Луна упоенно наигрывал на своем инструменте — спелом стручке, из которого он предварительно вылущил горошины, расщепив стручок, и обрезав узкий конец его на полпальца. Пронзительные звуки резали уши. Пятнистый скривился. Поманил Длинноногую за собой. В спину уходящим донесся грохот. Тонкое Дерево вторил стручковому писку ударами по пустотелому бревну.
— Музыка шутов и идиотов, — бросил пришелец на ходу, вздрогнув, словно от зубной боли.
Женщина возразила:
— Молодым людям не откажешь в чувстве ритма. У нас на родине мне приходилось слышать номера и похуже. Вспомни эстрадную музыку в исполнении гастролеров. Тех самых — с жестяными глазами. Трижды предусмотрителен был Велес, предупреждая, что «звуковая какофония сначала вызывает сумятицу в голове, а потом неустройство в государстве». Мы снисходительны к мелочам, упуская из виду их вездесущность.
— Оставь. — Он резко повернулся, и она вздрогнула. — Право не до эстрады. И не надо цитировать на каждом шагу самовлюбленного фюрериста Велеса... Оставь! — Он предупредил новые возражения, — Кому не известно, что ар-р-рхидемократ Велес был безумно влюблен только в себя ненаглядного. В чем пользовался исключительной взаимностью... Еще раз говорю — оставь! Пришло время подумать о главном. Нас двое. Мы безоружны и полностью зависим от благосклонности твоего (он подчеркнул) протеже, а также от способностей знахаря по части интриг, и еще от... от... От чего угодно.
Его собеседница вспыхнула:
— А кто в этом виноват? Кто виноват в том, что мы очутились на этой дикой земле? Блестящезубый говорил о каком-то смещении. О пространственно-временной деформации... Однако все его гипотезы обладают существенным изъяном: они противоречат фундаментальным постулатам.
Теперь улыбнулся Пятнистый. Жидкая грива волос падала ему на глаза, он то и дело поправлял ее. Недавно Шиш предлагал ему укоротить волосы. Но инквизиторская процедура местной стрижки привела чужака в ужас. Названная процедура заключалась в отрубании излишней растительности, с помощью острейшего (по уверению Шиша) кремневого рубила, голову очередного модника укладывали на мраморную плиту, словно намереваясь перерубить несчастному шею. Затем волосы на голове оттягивались так, что лицо пациента наливалось вишневым соком, а сам он выкатывал глаза. Наконец, рубило стукало по плите. Голова модника дергалась вниз. А тело сжималось в ожидании нового удара...
— Моя гипотеза проще. Хотя и согласуется с привычными нам истинами. Повезло нам или нет — это еще как посмотреть. Мне кажется — мы попали в точку разрыва поля причинности. Нет-нет! Я не уверен на сто процентов. Однако факты убедительно свидетельствуют в пользу подобной гипотезы... Давай восстановим последовательность событий. Помнишь случай с аварией на пульте управления холодной плазмой? Вначале пульт загорелся. Это потом приборы зафиксировали короткое замыкание. Потом. Но не до. Запоздание составило несколько секунд.
— Неисправный прибор? Если бы! Мы проверили аппаратуру сразу же после аварии. Она была в идеальнейшем состоянии. А вспомни, как закричал Блестящезубый от ожога. Мы были в уверенности, что на него попали брызги от расплавившейся панели.
— Но ведь так и было.
— Да. Капли горящей пластмассы обожгли ему щеку. Однако он закричал прежде (понимаешь — прежде!) чем лопнула вспыхнувшая панель. Тут расхождение получилось незначительным. Отчего никто, если не считать меня, не успел заметить, что огненные брызги легли на уже возникшие ожоги...
— Чепуха!!!
— Отрицание — не есть довод. Подумай вот над чем. У нас не было причин попадать сюда, но мы здесь оказались. Перенеслись в этот мир наперекор всем существующим теориям. Мы здесь, потому что мы... здесь. В этом и следствие, и причина.
Она оживилась:
— Ты говоришь — поле? Разрыв в нем является причиной?
— Говоря о поле, я всего-навсего придаю картине случившегося иллюстративность. Реально поля нет. Так как для возникновения самого поля причинности не может быть... причин. Причина, порождающая первопричину — это, действительно, абсурд.
— Софистика.
— Не знаю, не знаю. Меня смущает и другой парадокс — появление летающих маковин. За несколько лет до нашего эксперимента газеты писали о так называемых «неопознанных летающих объектах». Вчера мы столкнулись с такими объектами наяву. — Он почесал лоб, — Есть какая-то зависимость между нашим появлением здесь и светящимися «раковинами»? По крайней мере я думаю, что есть. Похоже «раковины» — пузыри. Под тонкой оболочкой которых вещества в общепринятом смысле названного слова нет. Там, — внутри, нет ни материи, ни пространства.
— И все-таки нам с Шишом «раковина» не причинила вреда. Вот чисто женский довод.
— С вами и не могло что-либо приключиться. Для каких-либо последствий просто не существовало причин. Где наличествует Ничто, там невозможны причины и события. Ибо там отсутствует время.
Видеть и запоминать — было профессий Пятнистого. Если прочие скользили по поверхности явлений, его тренированный мозг фиксировал великое множество деталей. Чтобы позднее осознать схваченное, а затем составить из него всевозможные комбинации. Так он помнил каждую строчку сенсационных сообщений, кликушествующих по поводу летающих «тарелок», «блюдец», «шаров»... Его нейроны навсегда запечатлели, как в момент аварии, всплеснув руками, откачнулся к стене Блестящезубый. Как на щеке закричавшего вздулся багровый пузырь ожога и, как спустя какие-то секунды огненные брызги взорвавшегося пульта легли на поврежденное лицо биолога, точно по конфигурации ожоговых пузырей. Пришелец помнил все. И теперь спустя год, построив все возможные комбинации, он отобрал единственную, наиболее вероятную. Просчитанная комбинация была хороша уже тем, что имела резерв, позволяющий объяснять новые и новые факты. С ее помощью объяснялось и проникновение летающих «тарелок» из прежнего мира в предгорье, где нашли приют Длинноногие... Единственное, чего Пятнистый не мог объяснить — это как им найти обратный путь.
Лицо слушавшей намокло от слез:
— Мы обречены?! Но за что?! Неужели нельзя вернуться? Лично его не тянуло назад. Он постарался сказать ей об этом по возможности мягко. Ему был ненавистен тот, прежний, мир. В стойбище Людей Камня дышалось легче. Временами ему чудилось, будто окружающее, уже было в его жизни, в раннем детстве.
Длинноногая ощетинилась когда он продолжил.
— ...Всякая система, если она дееспособна, есть система завершенная. — Нравоучительная манера излагать мысли раздражала ее. Глаза женщины сыпали искрами. А он говорил, ничуть не смущаясь. — В подобной системе невозможно усовершенствовать какой-нибудь узел, не изменив все прочие. В итоге получим принципиально новую систему. И я далеко не уверен, что порученное будет предпочтительней исходного. «Усовершенствования» подобного рода обойдутся дороже, чем суммарный ущерб от минусов предыдущей системы.
— Выходит, попытки ускорить прогресс заведомо обречены на провал? А усилия политических деятелей напрасны или, — хуже того, — способны принести вред? Раньше ты помалкивал о таком.
В усмешке Пятнистого засквозила ирония:
— Во мне нет склонности к самоубийству. Лучше скрывать свои убеждения. Чем доставлять удовольствие толпе, готовой растерзать всякого, кто не разделяет ее мышиную философию — философию «подавляющего большинства». — Даже здесь я молчал до сего дня по весьма серьезной причине: мне не импонирует «случайная» смерть. От которой не уберегся Остроносый.
Ее возмущение было неподдельным:
— Трус! Двоедушец! Мерзавец! Разумеется, таких лицемеров как ты на родине ожидает возмездие...
Он вскинул руки ладонями вверх, будто готовясь поймать что-то мягкое и круглое. На лице его исчезла улыбка, глаза выразили угрозу:
— Ба-ба-ба. Ты уверена в нашем возвращении?
— Выходит...
— Угадала. Блестящезубый сообразил это много раньше. Уж он-то сразу скумекал, что обратной дороги нет. Что наша участь — навсегда поселиться в этом, смею сказать, далеко не худшем-мире. — Пятнистый встряхнул руками. Казалось, ему жгло ладони. — Твой патриотический пыл пропадет зря. Среди здешних камней и лесов некому доносить. Некому! Тут никто не нуждается в доносах. Может только Много Знающий. У него уши давно шевелятся. Боюсь однако, высокопоставленный туземец выслушает донос о моих убеждениях без особого интереса.
Видел бы Шиш чужака в эти минуты. Длинноногая ревела, но ее слезы не трогали пришельца. Первый раз в жизни Пятнистый вел себя так, как подобает мужчине.
— Я не кончил... Знай. Я был бы счастлив вернуться, дабы плюнуть в глаза нашим «величайшим политическим деятелям». А заодно — всему оболваненному скопищу, которое сбежится «судить» меня. И те, и другие достойны друг друга. Первые достаточно умны, чтобы красиво жить, прикрываясь идеей. Вторые в нужной степени хитры, чтобы не замечать, как первые существуют за их счет. Одни обманывают, чтобы сладко есть. Другие живут, обманываясь, лишь бы не утруждать собственный мозг. Их полуживотное состояние обладает определенным преимуществом — своеобразной прелестью бездумья. Я против насильственного изменения хода истории уже потому, что сила, отвыкшая мыслить, способна только разрушать.
Руки его повисли вдоль тела.
— Ускорить прогресс? Даже Господь Бог не решается менять путь человечества. Он же он не ведает смысла прогресса, не постигает конечной цели его. Всевышнему достает смирения, чтобы призвать к покорности перед непознанным. Ведь Всевышний — лишь часть необъятного. Усилия гениальных деятелей успешны постольку, поскольку согласуются с законами случайного. С законами, по которым развивается бесконечно сложная система, именуемая сообществом разумных; с законами динамичными, непрерывно меняющимися, согласно правилам более высокого порядка...
В пылу ораторства он забыл про подавленную его красноречием собеседницу:
— Слава Богу, мы лишены возможности познать самих себя до конца... Абсолютное познание будет означать конец света... Кстати, не советую предпринимать что-либо против меня. Что-нибудь эдакое, в духе нашей почтеннейшей Службы Профилактики. Со мной подобный номер не пройдет...
— Ты намекаешь? Но я ничего не слыхала про Службу Профилактики. Клянусь! К смерти Остроносого я также не причастна. Подло обвинять меня черт знает в чем!
— То, что ты не слыхала про названную мной Службу — меня не удивляет. Мало кто слыхал о ней. Редкие могут похвастаться знакомством с сотрудниками указанной Службы. И уж тем более никто и никогда не сознавался в содействии Службе. Такое возможно благодаря всеохватывающей анонимности могущества.
— Почему ты подозреваешь меня?
Конопатый не ответил. Любой ответ был излишним. Сразу же после укомплектования группы людьми стало ясно — их не оставят без присмотра. Вначале он запутался и некоторое время находился в неведении. Длинноногая? Слишком просто. Служба Профилактики держится на профессионалах. Она не будет подставлять человека, способного привлечь к себе нездоровый интерес. А Длинноногая? Единственная женщина в группе — раз. Специальность непрофильная — два. Верноподданность так и прет из нее — три. Ей подошла бы роль дешевого провокатора, но никак не опытного осведомителя.
Соглядатая выдала случайность...
Засаду Тонкое Дерево устроил ближе к болоту. Бугор впереди засады служил отличным прикрытием, а с вершины бугра открывался отличный обзор — без малого вся топь. Но до поры до времени юноша сидел тихо. Шиш на этот счет предупредил строго.
Со вчерашнего вечера, сгибаясь в три погибели, Тонкое Дерево натаскал здоровенную кучу гальки и теперь удобно расположился подле нее.
Он был готов к неожиданностям. Тяжелое копье и убоистая дубина Шиша лежали в ряд с его оружием. Оставалось дождаться сигнала. Он ждал, мечтая о том, как начнется «охота», и как он отличится в потасовке. Требовалось показать чудовищу, где раки зимуют, тут уж за юношей не станет задержки; он сделает все, на что способен настоящий мужчина, кормилец и защитник рода.
Над широким логом, над обмелевшей топью, над бесконечной равниной с далекими-далекими дымками костров томилась в призрачном тепле бабьего лета хрупкая тишина...
Пришелец раздразнил чудовище.
Брошенные Пятнистым камни сбивались безостановочно, они вспыхивали в верхней точке траектории; воздух звенел от прерывистого свиста, заглушая шипение осколков. В носу охотника свербило от пыли, его тянуло чихнуть. Он сдерживался, опасаясь вспугнуть опасную добычу.
Трижды Шиш готовился к прыжку. Однако всякий раз истошные звуки возобновлялись и спина его вздрагивала от частых щелчков. Время затягивалось, а злые духи постанывали как и вначале превращая гальку в дымящийся щебень. Кремнистая крошка дотлевала в желтой траве, шипела на глади единственного в округе ручья.
Чудовище неистовствовало долго. Намного дольше, чем предполагал Шиш. Еще раз или два он собирался, готовясь вскочить, но свист нарастал и Шиш прижимался к земле.
Он уже перестал надеяться, когда наступившее безмолвие подсказало — пора! И охотник побежал.
Он бежал по прямой, бешено работая ногами. Он бежал так, как убегает рогатый от стаи волков. Вначале за ним осталась полоска смятого камыша, затем подошвы его ног зашлепали по жиже, давя торфяные кочки, а чуть дальше под ним упруго заколыхались пласты болотной растительности. Бег его был на диво собранным, казалось на подошвах охотника прорезались глаза и ноги сами выбирали дорогу.
Шиш старался не думать о предстоящем поединке. Внутри его что-то лихорадочно колотилось. Ему приходилось беречь дыхание: негоже начинать схватку с дрожащими руками. Уж больно неравны силы. Нет, он доберется до цели готовым к борьбе. А сейчас главное — быстрее пересечь открытое пространство, отделяющее камыши от того места, в котором затаился утомленный враг.
* * *
... Непонятным образом перед ним оказался Пятнистый. Пришелец стоял лицом к охотнику...
Шиш лег грудью на отвердевший воздух. Ясно слышались удары подошв по холодному месиву, однако он оставался недвижим.
Налитыми кровью глазами охотник ловил и не мог поймать выражения лица пришельца — впереди колыхалась, оплывая, фиолетовая фигура.
«С дор-р-р...», — язык не повиновался Шишу. Фигура взметнулась столбом.
— Ты кто-о-о? — наждачный хрип ободрал губы.
— Что тебе в имени моем? Я пришел за носителем Идеи. Людям нужен вождь, — прошипело над болотом.
— Я вождь! — удивляясь самому себе, возгласил охотник. — Я вождь, но я не хочу им быть.
В отдалении чмокнуло. Шиш озверело трепыхался на незримой привязи. Ощущая быстрый ход времени.
— Я вождь? Но отчего?.. Зачем?..
— Так надо природе человеческой... Ты поведешь людей на соседние и дальние племена — и кровь зальет землю. Позже, когда устанешь от ее яркого цвета, ты начнешь убивать души. Колонны живоподобных тел будут передвигаться по обезображенной земле, прославляя тебя, призывая тебя и проклиная тебя.
— Какой в этом смысл?
— Спроси у себя. Спроси у своих сородичей. На земле все открыто, все сказано. Имеющий глаза, да видит. Имеющий уши, да слышит-ит-ит... Смысл заключается в самой жизни-и-и... — И вдруг. — Падай!
* * *
Он был у самой земли, когда понял, что отпущенное ему время вышло. В падении он поторопил тело и все же обжигающий толчок достал его... В момент падения Шиша Пятнистым овладела паника. Затем подступило бешенство; он извергал ругательства, прыгал, метал оставшиеся камни, палки и комья земли.
Болотное чудовище больше не колебалось. Считая одного из своих противников Мертвым, оно с холодной яростью встретило летящие в его сторону предметы…
Тонкое Дерево прислушался в ожидании призывного клича. Интуиции его наставника можно было позавидовать: добрые духи надоумили охотника позаботиться о засаде. Но всего нельзя предусмотреть. Мог ли он знать наперед, что окажется в полубессознательном состоянии, и не сможет издать условленный крик.
...Скрежетнули зубы. Охотник вздрогнул; очнулся. Сильно припекало левое плечо. Скосив глаза, и сохраняя неподвижность, он осмотрел себя. Одежда на левом боку была распорота от ворота до пояса. Мех по краям прорехи выглядел так, словно побывал в пламени костра. Через прореху сочилась и быстро густела на воздухе кровь. Натекающие капли казались черными или, действительно, были такими от пыли. Курчавый от сильного жара мех тормозил скольжение капель, постепенно намокая.
По счастью кровотечение не было столь обильным, как могло показаться на первый взгляд. Да и рука пострадала меньше ожидаемого. Он пошевелил ею, она подчинилась его воле. Огненный коготь чудовища достал плечо на излете, на пределе дальности, отчего оказалась целой кость и почти не пострадали мышцы. Судьба дарила ему еще один шанс, и Шиш не был бы Шишом, если бы упустил его. Положение выглядело сложным. Первое же неловкое движение охотника не ускользнуло от хищных глаз — кочка справа от его головы разлетелась на куски. Тогда он стал закапываться в торфяную крошку, точно кабан, спасавшийся от полуденного зноя.
Он зарылся в грунт. Полежал некоторое время. Затем, уловив долгую паузу, вскинул лицо.
По притихшему болоту, нелепо загребая руками и длинными, прямыми, как тонкие жерди, ногами, полз пришелец. Он цеплялся за кочки. Подтягивался. Взбрыкивал ногами, отталкиваясь. Падал грудью на рыхлую поверхность, и замирал, чтобы в следующее мгновение повторить все сначала.
Болото молчало. Пришелец полз, злые духи, казалось, ошалели в предвкушении добычи, направляющейся прямиком им в пасть. Охотнику оставалось наблюдать за суматошными действиями Длинноногого. Помочь которому он был не в состоянии.
Шиш понял насколько они с пришельцем промахнулись: застигнуть чудовище врасплох не удалось, оно не нуждалось в передышке.
Едкая рыжая пыль набилась в ноздри, зато колени отсырели — под тяжестью человеческого тела снизу выступила вода. Мешало и то, что обзор закрывали ольховые стволы, невесть как укоренившиеся посреди топи и торчащие в разные стороны, словно растопыренные пальцы рук. Два засушливых лета выпили болотную воду; ранее зыбкая поверхность уплотнилась, а местами просела. В одной из таких просадин и находилась ольховая поросль, подле которой укрылся раненый охотник.
Лежать, как выяснилось, было безопасно; однако полученной передышкой следовало распорядиться с большим толком. Шиш выглянул вновь. Чужак продолжал ползти. Его колени и локти бороздили корку подсохшей грязи; жижа поднималась вслед ползущему пришельцу, золотисто высверкивая на солнце. Охотник сморщился, облизал губы. Что-то им упущено важное. Но что? «Тонкое Дерево!» — вспомнил он наконец.
Крик вышел глухим, будто задавленным. Шиш испугался, решив, что сигнал не достигает юноши, и крикнул вновь. На сей раз из его груди вырвалось стонущее: «Ху-у-х».
Повторный сигнал слился с трескучим звуком. Прямо над охотником пронесся ком огня...
Скорее всего Пятнистый умер мгновенно, так как вслед за страшным ударом его растерзанная оболочка взметнулась над землей, а в том месте, где огонь настиг пришельца, образовалась воронка. Похоже, что вспышка разметала Длинноногого на мелкие части и брызги окровавленной плоти долетели до Шиша, тревожа ядовито-зеленые пучки осоки и обагряя жесткие листья.
В ярости поднимаясь с колен, охотник почувствовал себя сверчком, выползающим из трещины к ярко пылающему костру. Черное усатое насекомое неодолимо притягивает огонь. Оно лишается воли, и не может юркнуть в спасительную тень. Сверчок ковыляет, подергивая тонкими лапками, вздрагивает, останавливается, пугаясь своего противоестественного влечения, — но вопреки всему тянется усиками к огню, нелепая тварь подается и подается вперед, чтобы быть испепеленной в ужасающем и одновременно чарующем пламени, чтобы застыть угольной точкой среди груды пепла, ибо всякий жар со временем окружается перегоревшим прахом — останками былых надежд, мечтаний, неосознанных помыслов и безрассудных вожделений.
Он превращаться в пепел не желал. Пусть даже ценою гибели чудовища. Отделенная от жизни победа терялась для него, а значит утрачивала всякий смысл. В детстве Шиш жалел ночных певцов. Он отодвигал усачей, только что уютно поскрипывавших в стене, подальше от костра. Однако они будто не замечали преграды, и вновь, и вновь ползли к раскаленным углям. Ползли, чтобы разом закружиться, дымясь и сворачиваясь в бесформенные комочки...
Шиш вскочил. На вершине пригорка суетливо приплясывал Тонкое Дерево, из рук которого летели камни. Летели, казалось, в самое лицо охотника. Было слышно, как округлая галька шлепалась где-то рядом: шлеп, шлеп, шлеп...
Юноша явно увлекся. Он запамятовал наставления Шиша и вылез из укрытия — чего в любом случае делать не следовало. Такое непослушание объяснялось просто: Тонкое Дерево был потрясен кажущейся гибелью охотника и Длинноногого. Теперь же каждый миг мог стать последним для него самого.
Охотник сделал первый прыжок. Всякий раз, когда его ноги касались грунта, они проваливались в торф, и чем дальше тем громче чавкало под подошвами.
Вскоре овальной формы окно, из которого выступала макушка чудовища, оказалось в двух шагах. Над покатым без единого выступа черепом хищника красовался длинный, лоснящийся от влаги, рог. Череп плавно переходил в громадную, судя по размерам горба, — бугристую тушу. То, что она была действительно массивной, подтверждало обширное окно, проделанное ею в слое ряски. Между основанием черепа и корпусом виднелась узкая щель, в мрачной глубине которой светился, бегая взад и вперед, лютый огонек — налитый кровью глаз чудовища. Огонек угасал, и вновь разгорался. Хищник был растерян. Он не знал какую из двух целей растерзать в первую очередь — охотника или Тонкое Дерево? Пока чудовище раздумывало, а Шиш собирался с духом перед решающим прыжком, юноша спустился с пригорка и заторопился к месту схватки. На бегу он изготовил копье. Невидимый в грязи ольховый корень заставил Шиша покачнуться. Но охотник мгновенно выпрямился и прыгнул на спину хищника. Красный огонек рванулся ему навстречу, но человек ускользнул.
Черный горб подбросило. Охотник соскользнул в желто-бурую взбаламученную воду, ухнул по пояс, нащупал опору и полез обратно, уцепившись за один из безобразных выступов, опоясывающих горб чудовища.
Вот когда начали сбываться слова Пятнистого. На дышащей теплом, шершавой, неподатливой, словно кремневый желвак коже хищника виднелось углубление, ведущее к сердцу страшного зверя. К сердцу, которое свистяще пульсировало где-то в недрах Туши. Теперь суетиться не следовало....
В двухстах шагах от чудовища едко курилась торфяная крошка. Там погиб конопатый пришелец. По сторонам воронки чадили какие-то комья и лоскуты — по всей видимости останки погибшего. Охотник взглянул и отвел глаза. Совсем рядом оказался Тонкое Дерево — по серой коже зверя скрежетнуло копье. В месте удара остался матовый след, словно копье ударило не по живому существу, а встретилось со скалой. Шиш готов был поклясться, что наконечник в момент удара сыпанул искрами.
Озадаченный таким результатом юноша устремился к болотному окну, подпрыгнул раз-другой; по пояс увяз в грязи, шипя от возбуждения.
Безволосая морда гневно дернулась. Жуткая пасть пыталась ухватить трепыхавшегося в бочажине человека. Однако голова хищника двигалась неуверенно, какими-то конвульсивными рывками, будто обладатель свирепого глаза изнемог или по природе своей не был в состоянии развернуть голову под столь острым углом. Последнее больше походило на правду, если подумать о необычайно твердой шкуре зверя.
Оседлать трепыхавшуюся громадину удалось без труда. Охотник продвинулся вперед. Рука проникла в углубление. Именно о таком отверстии говорил пришелец, но если кисть Длинноногого легко вошла бы в отверстие, то пятерня Человека Камня едва пролезла.
Обдирая суставы пальцев, он дотянулся до дна углубления. Нажал и... кожа чудовища прорвалась! Злые духи, сидящие внутри огромного зверя, взвыли на разные голоса. Пальцы охотника ощутили тысячи острых щемяще-холодных колючек. Мышцы перехватило судорогой. Про колючки пришелец не предупреждал. Мыча от внезапности и боли, он высвободил руку и спрыгнул на торфяную подушку. Раненое плечо стрельнуло болью.
Злые духи умолкли окончательно. Глаз чудовища потух. В щели под черепом сделалось темно. Выбравшийся из топкого плена юноша сообразил: болотный хищник больше не представляет угрозы.
Победители оглядели добычу. Облик безжалостного убийцы был не так уж нелеп. Он напоминал груду валунов, меньший из которых громоздился на краю того что побольше. Причем, верхний валун несколько выдавался вперед, образуя закругленным по краям основанием схожим с беззубой челюстью, широкий козырек над щелью, где помещался глаз.
Отныне Шиш не боялся чудовища. Он его презирал.
«Зло становится невыносимым, как только заметишь, что оно невыносимо».
Треснутое Копыто узрела свет.
Облегчение пришло внезапно и было полным. Ей показалось, что вернулось детство, когда все происходило легко и естественно, когда были непредугаданно далекими: и нападение косолапого, и долгая череда обид, в общем-то пустяковых для здорового человека, но болезненно царапающих самолюбие калеки, и частые насмешки, угнетавшие дух Треснутого Копыта до тех пор пока он не превратился в одну воспаленную рану... Все это предстояло. А сейчас она была девчонкой, позабывшей про раздражительность и проклятый недуг. Ей было хорошо. Хотелось поделиться чувством обретенной легкости, но рядом никого не оказалось.
Резкий прилив энергии сломал онемение мышц. Старуха перевалилась на бок, шевельнула губами. Послышалось тихое: «Эй, люди». Кто бы помог ей подняться и выйти из душной норы? Хотелось наружу, где полным-полно травы, света и жизни.
Она подумала, что надо крикнуть громче. Однако вспомнила про свое открытие. Старуху охватил озноб. Она застонала в нетерпении; сипло позвала Шиша.
Этот, зов настиг Тонкое Дерево. Он управлялся с большой охапкой растяжек для шкур. Юноша насупился. При вполне благожелательном отношении к парализованной старухе, он не считал для себя возможным ухаживать за ней. Малопривлекательные хлопоты возле больной — удел бездетных женщин или девушек, не успевших стать подругами разборчивых охотников из племени Живущих За Рекой.
Тонкое Дерево покрутил головой, высматривая такую особу Окрест было безлюдно. А Треснутое Копыто продолжала кричать.
Победа над болотным чудовищем вскружила голову Тонкому Дереву. Пускай большая часть этой победы принадлежала Шишу, но отсвет славы падал и на юношу. Потрясенный содеянным знахарь отнесся к победителям с опаской. Если можно предположить такое, чтобы Много Знающий перед кем-то испытывал робость. В общем получалось, что возиться со старухой Тонкому Дереву было не с руки.
Высохшее лицо Треснутого Копыта серело в полутьме, там, где на земляном полу лежала облысевшая козья шкура. Присутствие параличной выдавал кислый запах болезни. Всяк человек имеет лишь ему присущий запах. Этот запах меняется с возрастом. Он зависит от состояния организма и времени суток. Спящий пахнет иначе, нежели бодрствующий. Например, от Тонкого Дерева отдает потом, как от бегущего оленя. Женская кожа распространяет пряный запах. Разумеется, если ее обладательницу не успели утомить прожитые годы... Из угла Треснутой Копыта, помимо запаха болезни, наносило духом близкого тления, ибо близкая смерть также обладает собственным запахом. Юноша содрогнулся.
Старуха снова впала в забытье. «Темные рожки... В стеблях у входа... отрава». Язык ее начал отказывать; «...спря… убить хотел... ремень над пров-в-в-м-м-м-м». Тонкое Дерево насторожился.
— «Убийство!» — она вскрикнула.
О чем она бредит? Лоскуты слов и фраз не желали соединяться в законченную мысль. Треснутое Копыто бормотала и звала Шиша.
От вони крутило в носу. Следовало покинуть жилище, чтобы послать к больной кого-нибудь из женщин, но Тонкое Дереве задержался. Отрава? Отрава? Он схватил парализованную за ее бестелесную руку, задергал, надеясь успеть: «Какая отрава?! Кто хотел убить?.. Кого?!» Губы старухи раздвинулись, оголяя обломки зубов; «Пхан...». «Кто-кто?» — он остолбенел. В следующий миг исстрадавшийся дух больной покинул убогое пристанище, выпрыгнул, дабы в очередной раз пройти по извечному кругу. Пройти в надежде, что новая оболочка окажется не в пример удачливей, прежней. Правда, Тонкое Дерево сильно сомневался, чтобы старухин дух мог кому бы то ни было принести счастье...
Настил крыши выглядел как обычно. Дожди смыли следы преступных рук, если таковые когда-то имелись. Потребовался острый глаз молодого охотника, чтобы заметить разворошенный пучок стеблей. Он перебрал травяные дудки одну за другой. Выяснилось, что часть стеблей, прежде составляющих пучок, исчезла. Укороченные концы дудок создавали выемку в толще настила. Оставалось гадать: кому понадобилась жесткая трава, пригодная разве что как строительный материал. Но ему повезло. В размолоченном стебле на краю пучка сохранилась щепотка бурых крупинок. Цветом и запахом крупинки напоминали нечто дополняющее предсмертный старуший бред. Находка умалчивала о том, кто являлся хозяином этих крупинок и за что пытались отравить Тонкое Дерево. Если бы дух темных рожек имел язык! Возможно он рассказал бы много любопытного. Но ядовитые крупинки молчали. А если они и говорили что-то, то речь их была непонятна ему.
...Новость взбудоражила стойбище. Оно загалдело. Каждый понимал: преступник, поднявший руку на соплеменника, опаснее косолапого, опасней стаи волков, что возможно новое преступление, причем успешное, ибо замыслы отравителя никому не ведомы, в то время как он был волен выбирать себе жертву, а жертвой мог стать всякий, вольно или невольно досадивший ему. Подозрение ворвалось к людям, он бежало по стойбищу, кусая встречных за лица. На клыках подозрения пенилась злоба; укушенные преображались в мгновение ока, обретая звериный оскал.
Теперь племя ощутило всю горечь утраты, постигшее Людей Камня со смертью Живущего За Рекой. Старый следопыт ушел к предкам, как до него уходили многие, далеко не худшие из людей.
Хриплый бас Расщепленного Кедра призвал к порядку. Истребитель кабанов и косолапых обрушился на знахаря:
— Что такое?! Много Знающий перестал быть главой племени? Пора успокоить детей и женщин, а старший охотник мечется по поляне, как наступившая на угли роженица. — Заросшие кустистым волосом щеки Расщепленного Кедра налились кровью. — Пусть знахарь назовет виновного. Немедленно! Иначе он передаст копье старшего охотника более достойному, а сам станет нянчить сосунков, утирать им сопли и нажевывать им сладки корешки.
— Га-а-а! — согласно зашумели охотники.
Знахарь понурился.
— Расщепленный Кедр своим ревом разгонит всех собак на равнине, — выйдя из толпы, шутливо воскликнул Шиш. — Самое время заниматься выборами вожака. Что еще полезного подскажет охотник на кабанов!
— А что умного предложит Шиш? — отпарировал тот. Суковатый дрын, служивший ему опорой, нижним концом глубоко вдавился в землю.
Видя ярость хозяина дубины, Тонкое Дерево придвинулся ближе к Шишу. Последний будто не замечал горячности старого добытчика. Он призвал к разгадке таинственного преступления
— Пусть Шиш не столь умен, как Расщепленный Кедр, но Шиш старается думать. Надо выяснить: кто раньше других ушел из лога в тот вечер, когда разбилось Треснутое Копыто?
Шиш был уверен, что преступник находится среди мужчин. Не зная старуха повторяла в бреду слово «он». Но и без того маловероятно, чтобы на убийство решилась женщина. Увечная досадила многим и преизрядно, но он отвергал предположение что на старуху покушались ее бывшие подопечные. Шиш знал по себе: Треснутое Копыто могла вызывать насмешки, может быть неприязнь, но не желание убить. Сверх всего — покушение на старуху плохо увязывалось с попыткой отравления Тонко Дерева и Длинноногого.
Он дождался наступления тишины. Люди приготовились слушать. Стоящий в первом ряду Поздняя Луна горделиво посматривал в рот охотнику. Его подруга, недавно покинувшая другой берег реки Ракушка, вперилась туда же, словно оттуда должна была вылететь птичка.
Озадаченный Расщепленный Кедр кряхтел. Казалось, коричневый ремешок, который поддерживал тяжелую гриву волос над его бугристым лбом вот-вот лопнет. Истребитель кабанов что-то прикидывал про себя, поочередно разгибая широкие пальцы. Дойдя до указательного на правой руке, в которой был дрын, он задержался. С сомнением опростал руку. Уставился на ороговевший от мозолей палец так, будто это был вовсе не палец, а малознакомый предмет.
Спустя минуту он забасил снова:
— В тот день никто не уходил из лога в одиночку. Напрасно Шиш вынюхивает преступника среди охотников. — Он говорил, но указательный палец по-прежнему смущал его.
Шиш кивком выразил согласие. Добавил однако:
— Может кто-нибудь покидал лог на время? Чтобы позднее вернуться в стойбище со всеми?
Этот вопрос был сложнее первого. Спросивший задал его нерешительно, точно пробуя на вкус, и опасаясь убедиться в несъедобности попавшего в рот.
— Ага! — крякнул Расщепленный Кедр. — Ага!
Он перечислил быстро:
— Тонкое Дерево, Поздняя Луна с подругой и Шиш были рядом со мной до конца. Пых на пару с Ящерицей увязывал собранный валежник. Тот… тот… и тот..: — Истребитель кабанов споткнулся. — Много Знающий?.. Много Знающего я не видел... Он...
— Врешь!!! — подскочил знахарь. — Я до поздних сумерек возился с огромной корягой. — Он завертел головой. — Вот! Поздняя Луна подтвердит. Он помогал мне.
Увесистый дрын оказался в руках Расщепленного Кедра. Старый добытчик был себе на уме.
— Куда же девалась та огромная коряга? Мы не видели ее. Заглушая гвалт, знахарь пояснил:
— Она оказалась чересчур тяжелой для двоих. Если бы не этот байбак, — он пренебрежительно оттопырил губу, указывая на Позднюю Луну, — мы за один присест заготовили бы добрую кучу смолистых дров. А так... Я и Поздняя Луна смогли докатить, корягу только до места, где начиналась тропинка.
Оказавшись в центре внимания, чувствуя на себе пронзительный взгляд Много Знающего, Поздняя Луна стушевался. Его смутили слова знахаря. Он отступил на шаг, потеснив спиной Ракушку:
— Ну... ну... Много Знающий... я... Мы, конечно, тащили корягу. Мы ее катили... Тяжелая, потому что. Значит... — Тут он вскрикнул с обидой в голосе. — Поздняя Луна не слабее знахаря! Много Знающий сам пыхтел, точно разжиревший барсук.
Юноша шмыгнул носом:
— …Но только... Тащили-то мы — это верно. Но тащили когда… Тащили, как стало меркнуть пламя большого костра. Все уже собрались в стойбище. Тогда и тащили... Катили значит. И при чем я? Много Знающий подошел и говорит: «Потащили вот ту корягу». Ну мы и поволокли. — Он вздохнул. — А до этого я знахаря в глаза не видел. Может он за кустами был, что ли. Ну не видал я его. Пусть меня, если я вру, сожрут духи болезней! Вот... все! — высказавшись, он победоносно посмотрел назад, где притаилась его молоденькая подруга.
С этого момента племя ополчилось на Много Знающего. Общее подозрение, наконец, отыскало цель. Оно обернулось уверенностью, поколебать которую не смогли бы ни Расщепленный Кедр, ни Шиш, ни Живущий За Рекой Сим, будь он жив.
Вслед за общим страхом всегда приходит фанатизм.
Знахарь отходил спиной к лесу. Растерянность и бешенство попеременно овладевали им. С того момента как Шиш застал его и Пхана за кражей мяса и Пхан едва не раздробил череп Шишу, с того самого дня знахарь не единожды думал о возмездии. Этот час пришел! Много Знающий ощутил насколько он сдал, насколько ослабел его несгибаемый прежде дух. Кто он теперь? Ничто — перед взбесившейся толпой, которая называлась племенем. Да. Разношерстная куча людей может раздавить его… его, кому она — эта толпа — подчинялась много лун, не прекословя ни в чем; по одному сигналу которого охотники шли под когти могучего зверя, рискуя жизнью; кому стойбище уступало лучшие части освежеванной туши и от которого, случалось принимало ругань и оплеухи без попытки дать сдачи. И вот оно осудила его. Оно вознамерилась его изгнать. Дух Много Знающего был сломлен. Он принял необратимость перемен и примирился. Однако подступившая к сердцу горечь требовала исхода.
Коротким жестом истребитель кабанов отодвинул с дороги Позднюю Луну. Тот отступил излишне торопливо; заостренный на конце подбородок его задрожал, а вогнутое лицо, придававшее Поздней Луне плачущее выражение, окончательно скисло.
На секунду гнев толпы остыл.
Раздосадованный возникшим молчанием Расщепленный Кедр буквально взревел:
— Почему знахарь покушался на жизнь увечной старухи? Какой злой дух вселился в него? Он забыл, что человеческая жизнь — табу?!
Подозреваемый ответил не вмиг. Едкие, процеженные сквозь зубы слова полетели в толпу, как потревоженные шершни:
— Через пару лун вы пожалеете о своей глупости. Вы доверились пришельцам. — В ярости он упустил из виду, что из чужаков осталась одна Длинноногая. — Пришельцы навлекут на племя множество новых бед, даже будучи мертвыми. Ибо коварный дух Длинноногих будет вечно искать себе пристанища и, не находя, будет вредить нашим детям. Посмотрите на Шиша и Тонкое Дерево! Они оглохли и ослепли от близости Длинноногой...
Знахарь, швырнул копье на землю. Толпа ахнула — знахарь поддал древко ногой.
— Я хотел обезопасить племя... — В воздух взметнулась дубина Шиша. Не следи Много Знающий за толпой, сучковатая палка угодила бы ему в лоб.
Такой поступок обычно уравновешенного охотника вызвал оторопь у людей: когда имеется язык, незачем пускать в ход оружие. Провинившийся вправе оправдываться, незачем затыкать ему рот. То, что дозволено племени, осуждается в отдельно взятом человеке. Будто убийство по приговору толпы — не преступление вовсе, так как, в этом случае, ответственность делится на всех, и никто конкретно не чувствует себя повинным в умерщвлении собрата. Шиш знал не хуже других, что поспешная расправа ему не к лицу; руки мужчины не должны опережать его речь. Осознав промах, он крякнул, и обратился к толпе:
— Много Знающий мстит. Он клевещет на меня, на Тонкое Дерево, на Длинноногую. Он лжет, чтобы люди забыли о его собственном преступлении...
Охотника била дрожь:
— «Знахарь» воровал мясо, утверждая, что такой жертвы требуют болотные духи. — Он ткнул пальцем в сторону знахаря. — Много Знающий и теперь пытается обмануть вас. Болотные духи не нуждаются в мясе... Шиш покончил с чудовищем. Шиш требует изгнания лжеца и убийцы. Много Знающий обязан уйти, ибо он нарушил запрет.
— Шиш также нарушил табу, — ощерился обвиняемый. — Пхан наложил запрет на болото, но Шиш с Тонким Деревом пошли туда. Что происходит? Сегодня под влиянием Шиша и Длинноногой, запреты нарушает даже такой щенок как Тонкое Дерево. Завтра же всякий сопляк может решить, что обычаи для кого угодно, но не для него.
Много Знающий набрал полную грудь воздуха и выкликнул с тоской, перекрывая поднявшийся на поляне гвалт:
— Напрасно радуетесь победе над чудовищем!.. Напрасно Шиш задирает нос!.. Если чудовище не притворяется и действительно издохло, все равно злой дух его по-прежнему прячется в болотной жиже. Дух зла не убит. Соприкоснувшись, с ним, охотник заразился злом. Истинно говорю вам: бойтесь того, кто соприкасался с нечистью!
И Много Знающий ушел.
Он уходил неровными шагами, словно взгляды остающихся толкали его в спину. У поворота в лес знахарь вздрогнул и обернулся в момент, когда крупная зеленая муха прожужжала у его виска. Однако тут же устыдился своего испуга, пошел увереннее, чтобы через минуту исчезнуть в зарослях.
* * *
Поздняя Луна ступал след в след за Тонким Деревом.
С утра молодые охотники сделали порядочный крюк в надежде напасть на свежую кабанью тропу.
Цепочку отпечатков четырехпалых ног, попавшую им в самом начале, Тонкое Дерево оставил без внимания, бросив на ходу: «Старик». Матерый кабан прошел от камышей в сторону поросшей осинником ложбины, на дне которой чернели ямы до половины заполненные водой и соленой грязью. Местами секач терся о деревья, роняя у комлей жесткую шерсть: Солидный вес кабана не прельщал Тонкое Дерево: волокнистое мясо старого вожака отдавало мочой, длинные, острее клыки, толстая шкура и неимоверная мощь зверя делали его трудной добычей. Честно говоря, юноша предпочитал годовалых свинок. Как раз таких, какие имелись в большом стаде именно в эту пору. Поздняя Луна был солидарен с ним: молодняк легко поддавался панике, и всегда можно было завладеть отбившимся от стада сосунком.
Вскоре, им подвернулась подходящая группа животных. Стадо только что покинуло ложбину. Тонкое Дерево мог поклясться, что два десятка свиней и поросят, не считая тройки кабанов, еще не достигли ельника, где преследовать зверей не имело смысла. Итак, добыча находилась рядом. Следовало опередить животных, перекрыв им путь к большому лесу.
Замысел понравился Поздней Луне. Это здорово, если удастся загнать свиней к провалу. Там стены так круты, что, падая в провал, свиньи наверняка переломают себе ноги. Да, Тонкое Дерево хитер. Не зря его опекает Шиш.
Судя по отпечаткам ног, охота могла получиться большой, будь охотники многочисленней. Однако все мужчины во главе с Расщепленным Кедром и Шишом рано утром отправились в горы, чтобы пополнить запас кремней и присмотреть новые участки для охоты, так как на прежних зверь нуждался в отдыхе. Люди Камня ходили в глубь гор и прежде; но большую часть сведений про богатые угодья унес с собой Много Знающий.
Через заросли ежевики юноши еле продрались. Кусты разрослись густо, были мохнатыми от шипов и щетинок; их колючие стебли обжигали ноги. Поздняя Луна шипел, плетясь вслед за рослым приятелем. Он начал жалеть, что увязался за Тонким Деревом. Куда лучше сидеть в стойбище и смотреть, как Ракушка растирает меж двух плоских камней луковички саранки.
Поздняя Луна расстроился бы сильней, заметь свежую проплешину на сосне. Освежеванная заболонь увлажнилась соком; капли сосновой крови отдавали смолой и скипидаром. Ниже и над проплешиной на пластинках коры виднелись глубокие борозды. Они начинались высоко от земли, куда Поздняя Луна не смог бы дотянуться рукой, даже встав на цыпочки. Однако юноша миновал сосну, занятый тем, что слизывал кровь с оцарапанной ладони. От встречи с ежевичником пострадали не только его руки, досталось и икрам ног. Слизать кровь с ноги Поздняя Луна, разумеется, не мог, иначе проделал бы это с полным удовольствием. Может, подобная процедура прекратила бы зуд в поцарапанных местах...
Скорбные размышления Поздней Луны разом оборвались — он боднул спину резко затормозившего спутника, который не почувствовал этого, а остановился как вкопанный и уставился прямо перед собой.
К далекому горизонту уходила степь, перечеркнутая цепью болот. В центре ближайшей топи огромным увязнувшим в липкой массе жуком темнело чудовище. Его единственный рог слепо указывал в небо. Туда же устремлялся опалесцирующий сгусток, похожий на комок голубовато тумана. Сгусток пульсировал. Одновременно на его поверхности отслаивались серебристые пряди, тут же накручивающиеся на невидимую ось. Скоро сгусток принял форму грязно-белой пены, сбитой в кучу водоворотом, утратил свечение, пряди уплотнились, вспыхнули горячечно-фиолетовым светом и сплавились в единое целое. Прямо на глазах образовалось тело, разительно напоминающее раковину, которая пыталась проглотить Шиша и Длинноногую.
Между тем чудеса продолжались. В десятке шагов от камышей, на достаточном удалении от бездвижного чудовища находилась... пришелица! Юноши видели, как развевались на ветру ее волосы. Как мотался взад и вперед короткий подол накидки, сплетенный из волокон конопли. Создавалось впечатление, что там, внизу, где стояла женщина, дул сильный ветер, хотя на вершинах холмов царил штиль.
Летающая раковина качнулась и, взмыв, унеслась за реку. Поза Длинноногой не изменилась, лишь реже выпрыгивали из ее волос и одежды голубоватые искры, да сделалось тише сухое потрескивание, еще недавно слышное на значительном расстоянии.
Если для молодых охотников искры виделись голубоватой пылью, а потрескивание едва достигало слуха, то для пришелицы дела обстояли иначе. Вихрь длинных, величиной с палец, искр создавал близ нее оглушительный рев, под который формировалась странная субстанция. Длинноногая могла поручиться, что «летающая раковина» сродни образованию, состоящему из неравновесной плазмы, каковой по некоторым предположениям и является шаровая молния. Взаимодействием каких полей вызывались светящиеся сгустки? Влияет ли их активность на живое?.. Надо признать, Длинноногая владела знаниями, позволяющими проникать в суть большинства природных процессов и строить довольно смелые гипотезы. На этот раз ее умозаключения, говоря языком Людей Камня, заключались в следующем: толчком для зарождения сгустков послужил «дурной характер» чудовища, огненные копья которого насытили окружающее пространство энергией. Взбудораженное пространство-материя локализовало избыток энергии в особой форме, напоминающей круто замешанное тесто из разнородных полей.
Длинноногая пьянела в море озона. Голова ее сделалась невесомой, и казалось уже, что глубинные силы, движущие этим миром, полностью находятся в ее власти. Однако материальное повинуется безличностным законам. Законам, существующим постольку, поскольку пробил их час, и действующий оттого, что время их еще не вышло. Человеческий разум пасует перед безличностью — этим условием объективности. Разум способен объяснять лишь то, что поддается очеловечиванию. Он не в состоянии исчислить смысл собственного бытия, а равно — непостижимость смерти. Материальная основа разума пространственно ограничена. Выплеснуться вовне ему не дано изначально. В полном соответствии со свойствами пространства-материи, ибо часть меньше целого. И все-таки, в бездушных правилах многомерного мира не содержится никакой трагедии для разумных. Ничтожно узкие границы, отведенные для познания, бесконечно протяженны во времени. Таким образом, весьма малое и невообразимое большое сливаются в конечном...
Сиреневые сумерки царили в голове пришелицы...
Летающая раковина исчезла за холмами. Длинноногая вздохнула. Пригладила взъерошенные волосы и побрела к чудовищу, по щиколотку увязая в грязи.
«Хо!» — воскликнул Поздняя Луна. Румянец возмущения окрасил его щеки, затопил скулы, поднялся выше и, наконец, полностью залил вогнутое лицо.
«Женщина забыла про запрет!» — он присел в изумлении.
«A-а», —отмахнулся Тонкое Дерево, а затем осекся, Длинноногая осилила грязь. Запрыгнула на каменную твердую спину зверя. Дальше события ускорились. После легкого удара кулаком по холодно отсвечивающей шкуре животного женщина провалилась внутрь, но вскоре вылезла обратно.
— Наблюдатели замерли. Тонкое Дерево позабыл про свиней, а дух Поздней Луны ворчал в животе от голода и потрясения. Поздняя Луна мечтал вернуться в стойбище, чтобы, подкрепиться, а позже прийти обратно на пару с Ракушкой. Пусть его подруга полюбуется на «дохлое» чудовище, проглотившее и отрыгнувшее назад женщину чужого племени, словно та была маленьким, хрящиком. Будет отлично, если Ракушка, убедится в бахвальстве Тонкого Дерева и его могучего опекуна. Тогда ей станет ясно, что Тонкое Дерево — враль, каких не видел свет. А заодно и... Нет, с Шишом лучше не связываться.
Молодой охотник подтянул ремень. Поерзал костлявым задом по колкому щебню, пытаясь встать. Колючий взгляд спутника вернул его на место.
«Г-о-о-ох»; — Поздняя Луна поперхнулся слюной — женщина спускалась по отлогой спине чудовища как ни в чем не бывало.
Это было чересчур. Нервы потрясенного зрителя сдали. Его за трясло. Хорошо хоть дерзкие мысли насчет Шиша остались при нем.
Позднюю Луну колотило столь сильно, что зубы его выбивали дробь. Тонкому Дереву пришлось толкнуть недотепу в бок. Длинноногая в это время успела пересечь камыши и направиться к лесу...
Поздняя Луна непрерывно выскакивал вперед. Тропа виляла меж толстенных сосен, протискивалась в щели, образованные валунами; стенки валунов сочились слизью, несмотря на жарки день. Кое-где почва чавкала под ногами, выплевывая темную насыщенную кремнеземом влагу. Потертые подошвы из лыковых плетенок пропускали воду. Поздняя Луна не чувствовал сырости; его распирало от новостей. Он очень спешил и потому даже после страшного удара в поясницу успел сделать несколько шагов, прежде чем завалился на корточки.
Вспарывая одежду и тело, длинное лезвие вышло через из живота. Какое-то мгновение лезвие оставалось чистым, потом г нему скатились красные струйки, а живот обдало жаром. «3ачем?» — юноша беззвучно распялил рот. Ему показалось, скажи он что-нибудь вслух, и тотчас прекратится этот ужас. Однако страшная явь продолжалась. Он лежал на влажной земле, изогнувшись, запрокинув левую руку назад, в попытке извлечь лезвие. Но извлечь не мог. Только рвал пальцами свободной руки упругий мох, пока пальцы не свело судорогой, а ладонь не раскрылась и замерла, роняя прихваченные побеги мния...
* * *
Расщепленный Кедр первым спустился в долину. Он быстр наткнулся на свежие следы свиного стада, параллельно которым тянулись отпечатки обутых ног. Проверив снаряжение, Расщепленный Кедр повернул от стойбища туда, куда прошло стадо.
Местами отпечатки подошв накладывались на кабанью тропу кое-где уходили далеко в сторону, а метров через триста завернули, да так круто, что опытному промысловику тотчас сделалось понятно: стремясь обойти зверя, юноши разминулись со стадом. «Свиньи показали сопливым охотникам обгаженные хвосты и удрали через лог».
Старый добытчик был ворчлив. Последний в своем роду он никогда не имел подруги и детей. Случись такое с кем-нибудь другим, насмешкам не было бы конца. Возможно, некогда над Расщепленным Кедром и посмеивались, но уже на памяти Шиша его трогать остерегались. На что Пхан, и тот старался не замечать колкостей Расщепленного Кедра. Упрямый добытчик редко появлялся в жилище, будь то летом или зимой. Жгучие зимние морозы он пережидал в шалаше, без огня, кутаясь в медвежью шкуру, и не признавая ничьих команд. Истребитель кабанов мало считался с Пханом. Хладнокровно принял старшинство Много Знающего, оставшись впоследствии довольным изгнанием знахаря. Свирепея, когда ему надоедали, он был настолько отходчив, что у Шиша по этому поводу имелись подозрения насчет напускной свирепости Расщепленного Кедра и насчет того, что дела племени интересовали последнего куда больше, нежели он выказывал. Рассуждал добытчик столь же четко, сколь грубо, смущая резкостью своих выражений старух и молодежь. Так, согласно ему, Люди Камня прекрасно могли обойтись без вожака, пожиравшего лакомые куски. Мол, человек имеет право жить и охотиться, как ему заблагорассудится, был бы толк для него самого и для племени. Расщепленный Кедр считал излишним наличие в стойбище знахаря: природа-де мудра и не нужно пытаться ее перехитрить, так как дух человеческий способен безо всякого вмешательства со стороны, совладать со многими хворями, основная причина которых — лишнее тепло да жареное мясо. Сам старик потреблял мясо полусырым, сохранив на склоне лет в отменном состоянии желудок и зубы.
Расщепленный Кедр костерил оплошавших юнцов, когда на него наткнулась Длинноногая, отчего остатки стариковского негодования достались ей. Она сжалась под градом тяжеловесных слов. Ошметки тины на ногах выдали ее с головой. Старый добытчик взбеленился, запамятовав про истинных виновников его досады:
— Длинноногая шатается по болоту, где нет ни ягод, ни грибов, нет никакой добычи кроме квакающих тварей... Странное занятие для молодой женщины лазать по грязи, нарушая табу...
Вдосталь наругавшись, он гневно махнул рукой, пересек поляну перед жилищем и, усевшись на поваленную лесину, принял из рук подоспевшей к нему Ракушки берцовую оленью кость, на которой виднелись остатки мяса.
Оленьи жилы заскрипели на крепких зубах. Зрелище жующего старика пробудило аппетит у остальных. Вскоре Длинноногая оказалась в одиночестве. Она подошла к Шишу. Виновато заглянула тому в глаза. Ну что поделаешь с женщиной, привыкшей следовать обычаям своего племени?
* * *
...Из великого множества клеток уцелели немногие. Непреложный закон, согласно которому определяются случайные события, сохранил отдельные ячейки живого...
Миром правит случайность. Та самая случайность, что не укладывается в закономерность первого порядка. Что способна прорвать эластичную пленку повседневного. Из чего слагаются качественно иные поверхности. За счет чего энергоносители меняют свои уровни...
Пути развития пролагают вероятности. Пучок вероятностей во многом схож с видимым светом, который складывается из разноцветия, испускаемого гранями предопределенности...
Хаотически вращается в континууме кристалл возможного. Непрерывно меняются цвета спектра, образуя — в своем единении — однотонный свет с измененным цветовым кодом, возросшей или понизившейся интенсивностью и новым воздействием на освещаемые структуры...
Губительный поток жесткой энергии разрушил одни и травмировал другие клетки. Уцелевшие совладали с потрясением. Перестроились. Запаслись для потомства информацией о полученных изменениях. Вскоре облученный вид покинул ставшую неприемлемой нишу. Дабы обрести новую.
* * *
Зуд усиливался.
Косолапый брел наобум. Порой зуд делался нестерпимым, переходил в жжение, а затем в пронзительную боль. Зверь рычал, приседая на зад, по-человечески размахивая передними лапами. Подошел полдень, а он все метался по ельнику, словно убегал от неведомого мучителя. Уже дважды косолапый выходил к обрыву и возвращался в чащу, где мимоходом разметал кучу лесной трухи, поддую рыжих тварей, остро щиплющих нос, приятно кисловатых на вкус. Вместе с трухой просыпалась крупа муравьиных яиц. Однако зверю было не до кормежки.
Наступали моменты, когда зуд утихал, В такие минуты могучее тело косолапого испытывало нездоровое томление. Он вставал на дыбы; из-под страшных когтей летела еловая кора и крупные ветки. Но скоро зуд возобновлялся. Тогда подбрасывая зад и устало хрюкая, он бросался к логу в надежде утишить боль холодной водой. Только по случайности он разминулся с молодыми охотниками, поднявшимися перед тем на бугор...
В рытвине лежал крупный кабан. Обоняние подсказало косолапому, что совсем недавно секач был жив: туша хранила терпкий запах, свойственный сильному животному, хотя заостренная кпереди голова и часть крупа успели разложиться, а светло-желтая пыль распада усеяла дно рытвины.
Хищник обнюхал останки. Фыркнул. Потер нос лапой — золотисто-коричневые частицы проникли в ноздри. Лохматый зверь попятился от рытвины, зачихал. Чихая, он недоумевал: накануне вечером ни кабана, ни прилипчивой пыли на этом месте не было.
В конце концов косолапый прочихался. Поднял голову. Оскалился. К рытвине приближался враг. Кто бы он ни был, он ответит за все. Возникновение зуда имело определенную причину, и наверняка тот, кто сейчас находился в логу, являлся прямым или косвенным виновником тяжких мук разъяренного животного. Но если предположить, что неизвестное существо было ни при чем, ему полагалось возмездие за причиняемое беспокойство.
«Уф-ф-ф», — хищник поймал слабый ток воздуха. Враг шел по ветру, спускаясь по мере понижения грунта. Он не чуял опасности; и косолапый залег, чтобы действовать наверняка...
Многопудовая живая глыба обрушилась на неосторожного; зубы рвали мягкую плоть, перекусывали кости. Застигнутое врасплох существо погибло сразу. Оно не издало предсмертного вопля: первый же удар изогнутых когтей располосовал горло жертвы... Через полчаса перепаханная земля близ рытвины впитала разбрызгавшуюся кровь.
* * *
— Снова говорю, я не могу стать подругой Шиша, — женщина злилась. — Я благодарна Людям Камня, приютившим нас… меня.
Лицо ее сделалось скорбным, будто лишь сейчас она осознала большую утрату. Казалось, Длинноногая вот-вот зальется слезами...
— Я ценю приязнь Шиша, но… — она развела руками, — слишком разные духи обитают внутри Длинноногих и Людей Камня.
Сидящий на корточках охотник промолчал. Он ждал продолжения. И услышал его.
— Тебе следует позаботиться о главном. Я дам Шишу силу болотного чудовища.
Он запротестовал:
— Чудовище лишилось огненных когтей…
— Оружие хищника не пропало. Оно находится внутри чудовища. Ты ошибаешься, если думаешь, что чудовище мертво. Это не так.
— Пятнистый утверждал... — Тень досады накрыла его лицо.
— Пятнистый врал. Болотный хищник не может умереть. Он... спит. Я могу разбудить его. О-о-о!..
Твердые пальцы перехватили горло. Еще немного, и хрящи гортани уступили бы натиску. Охотник ослабил хватку.
Люди Камня редко прибегали к запретам. Но единожды наложенный, он соблюдался десятилетиями. Любого нарушителя ждала судьба Много Знающего. Любого, за исключением Шиша. Ибо его проступок был вынужденным и оправданным победой (довольно сомнительной, как он теперь понимал) над духами топи.
Нуждался ли Шиш в огненных когтях? В целом идея была заманчивой. Однако страшное оружие может; выйти из повиновения и обжечь того, на ком нет такой крепкой и толстой шкуры, каковой обладает чудовище. Опять же, огненные когти портят добычу и издают громкий шум. Этот шум будет пугать добычу. Напуганные олени, кабаны и косолапые рано или поздно уйдут восвояси, оставив племя голодать. Так что пусть Длинноногая помалкивает. Она достаточно намутила воду, пока он был терпелив. Но сегодня ночью он проверит, сколь мягко ее тело. А заодно — способна ли она стать матерью маленьких Шишей? И если и в этот раз пришелица возразит ему, он поколотит ее и выгонит вон.
* * *
...Едкая боль распространялась вдоль хребта. Она просачивалась вглубь позвонков, захватывала межреберье, пронзала кости, словно их скоблило наждачным камнем. Косолапый тянулся мордой к спине, чтобы зализать рану. Тянулся до хруста в шее, но не отваживался лизнуть — от раны смердило чужим. В конце концов, он наткнулся сухим кожистым носом в палую, перехватившую от земли сырость листву, и задрожал.
Началась агония...
При ходьбе Расщепленный Кедр сутулился. Торс охотника сгибался под тяжестью разросшихся мышц груди. Приземленность фигуры не мешала проворству, как его прагматизм не исключал тонкость чувств и игры воображения. У старого добытчика имелась мечта. Каждый погожий день он устремлялся на промысел, лелея надежду, что когда-нибудь сразит такую добычу, которая станет непревзойденной по величине. О которой завистливо будут вспоминать многие и многие поколения охотников. Великое тщеславие гнездилось в широченной груди добытчика.
Однажды увиденный гигантский скелет косолапого запал ему в душу. Судя по объему и толщине черепной кости, зверь был способен удержать в пасти взрослого кабана, а ударом лапы мог переломить березовый ствол. О победе над таким хищником мечтал Расщепленный Кедр. Мечтая, он, полюбил одиночество. Полюбил зимние ночи и летние сумерки, когда так легко мечталось. Полюбил тесный шалаш, где ему никто не мешал предаваться иллюзиям. Копнуть глубже, он робел перед будущей смертью. Он, привыкший денно и нощно полагаться на собственные глаза и уши, не доверял россказням знахарей и старух о бессмертии человеческого духа. Возможно, придет день, когда и его дух покинет изношенную плоть, чтобы перелиться в тело какого-нибудь сопляка. Возможно, дух отважного охотника придаст новому хозяину мощь и быстроту ушедшего, наделит его отвагой. Возможно... Предполагать можно всякое. Ну, а если дух собьется с пути? Если получится, что дух попросту исчезнет? Тогда выйдет так, якобы Расщепленного Кедра и не было? Никогда?! При мысли о полном забвении его охватывал трепет.
Громкая победа Шиша не вызвала у старого добытчика ни зависти, ни восхищения. Разумеется, Шиш — смелый охотник. И все-таки, в подробностях этой схватки было что-то сомнительное. Сложно сказать, в чем это выражалось, но Расщепленный Кедр сознавал: подобная победа лично ему — не по душе. В поединке с неведомым, страшным и нелепым существом мало проку. Похоже, что и Шиш до сих пор не возьмет в ум, кого он одолел? Да и одолел ли? Разве опасная схватка принесла сочное мясо? Или обезопасила людей от последующих бед? Конечно, кто будет утверждать, что диковинный хищник не представлял собой источник опасности? Для тех, кто презирал табу, совался к логову хищника. Так не надо лезть! И камнепад опасен. Но какой безумец бросается с копьем на падающие глыбы? Лучше обойти стороной сомнительную осыпь. Засовывая голову в берлогу, можно лишиться не только ушей.
Округлые отпечатки лап зачастили: что-то встревожило зверя… Безо всякой нужды он разметал по земле муравьиное жилище; чаще обычного срывал кору с деревьев; почесывался о стволы через каждый десяток шагов. Последнее особенно заинтересовало старого добытчика: все-таки, косолапый — не свинья, которую заедает клещ.
Почесы встречались все чаще, тут и там серели пряди шерсти: в расщелинах высоких пней, меж пластинок коры на стволах...
Ближе к провалу следы засбоили... Вот они разредились вновь, зверь перешел на мах. Зачастили по-новой... А здесь зверь начал красться...
Перед рытвиной добытчик задержался. Рытвину заполняла буроватая, вскипающая фонтанчиками пыль. Пожав плечами, Расщепленный Кедр пошел дальше, но вскоре вынужден был остановиться. Он заметил ноги. Хозяина ног не было видно. Добытчик шагнул влево — на том месте, где предполагалось тело, оплывали бугорки шевелящегося праха. Желтовато-бурая пыль лежала неровным слоем. Дальше от останков ног ее было больше, а на расстоянии метра она образовывала бесформенный по очертаниям пласт. Здесь след косолапого обрывался; и сколько добытчик не оглядывался, не мог разглядеть обратного следа.
Древком копья Расщепленный Кедр пошевелил оплывающую массу. Среди пыли выступили клочья меховой одежды. Он подцепил лезвием клочок покрупнее и поднял, — сквозь дыры в меху просеивалась все та же подозрительная на вид маслянисто поблескивающая пыль. Жалкие обрывки одежды да чем-то знакомый узор из ремешков вызывали тревожное чувство. Он порылся еще. Но ничего такого, что могло бы подсказать имя погибшего, не обнаружил. Неизвестный будто растворился в вонючей пыли. Оставив после себя только ноги, да и те — до колен.
Шершавый плитняк накрыл останки. Расщепленный Кедр исполнил неприятную обязанность, уложил камни поверх шевелящегося месива.
Узор в виде двойного переплетения в подъемах бахил кое-что прояснил; такую обувь носил Много Знающий. Впрочем не один он. Водонепроницаемые, удобные при ходьбе бахилы были в широком ходу у степняков. Люди Камня предпочитали иную обувь, не оскальзывающуюся на склонах и гладком льду, подошвы которой предохраняли ногу от острого щебня...
Малоприятная работа подошла к концу. Истребитель кабанов отряхнул руки от известковой пыли. В это время частицы другой, даже не пыли — пудры осели среди меха накидки.
* * *
Ветку отсекли наискосок, одним движением. Он готов был пожертвовать своей долей оленьей печени в подтверждение того, что это произошло действительно так. Срез выглядел ровном. Свежеобнаженная древесина отливала девственной белизной, словно рубило и не касалось ее.
Похожее юноша где-то встречал. Только где? Возможно предыдущий раз он пропустил увиденное мимо сознания. Но где ему попадался такой поразительно ровный разрез?
Он повертел ветку в руках. Она мало отличалась от множества других. Хотя какое-то отличие имелось: вдоль ветки светлели зарубки, слагающиеся в неяркий, но привлекательный узор. Помнилось, на древке копья Поедающего Глину красовался похожий рисунок. Чья-то искусная рука скопировала понравившимся орнамент. Правда, линии на этот раз были тоньше, воздушней — миниатюрная хвоя накладывалась на глянцевую кору фиолетово-зеленым слоем.
Пальцы потянулись к уху. Тонкое Дерево оттянул мочку, а затем отпустил. Привычный жест не помог. Ну где, где он видел, следы столь острого и тонкого рубила? С чьей помощью украшена эта ветка? И украшена только что: сок на срезе едва проступил.
Ноздри юноши раздулись. Помимо наблюдательности, тонкого слуха и острого обоняния, какими он обладал, требовалось и другое качество, определяемое словом «талант». Вот Шиш был талантлив. Многое давалось Пхану. Ему не уступал Расщепленный Кедр... Зато прочие часто сбивались, взяв запутанный след. Точное Дерево не составлял исключение среди прочих. И теперь, стоя на опушке, на щедро прокаленной солнцем и твердой, будто кость, земле, покрытой низкорослой травой и корявыми кустами, он тщетно насиловал органы чувств. Место было мало подходящим для игры в прятки. Доведись Тонкому Дереву, он крепко подумал бы, прежде чем устраивать засаду среди здешних редких берез. В любом направлении на сотни шагов не было крупной валежины или пня. Все мало-мальски пригодное на топливо перекочевало в стойбище. А укрыться за худосочными стволами не сумел бы даже подросток. Некоторого внимания заслуживал лишь ощетинившийся иглами куст, нависающая Крона которого могла прикрыть человека.
Крюк получался солидным.
Неприметно озираясь и придав лицу нарочито-равнодушное выражение, отчего сложилась, кисловато-обиженная мина (живым чертам Тонкого Дерева плохо удавалось равнодушие), он направился в чащу.
Наддал он в лощине, уверившись в том, что его не видно со стороны подозрительного куста. Перебираясь через изувеченную громобоинами, поваленную с корнем сосну, он ухитрился вляпаться ладонью в натеки свежевыступившей живицы...
Задержка все испортила. Укромное место под кустом опустело, неизвестный бежал.
Молодой охотник разозлился. Кому понравится такая скрытность, неизвестного, который улизнул по-воровски? Происшедшее скверно характеризовало таинственную личность. А вдруг... Тонкое Дерево задумался. Взгляд его скользнул вдоль колючих веток к стволу, опустился ниже и замер. Среди вороха палого прошлогоднего листа торчало что-то, напоминающее рубило, а вокруг багровела россыпь ярких пятен. Кто-то наколол руку о длинные иглы боярышника, во множестве усеивающих землю.
Такого блестящего камня, из которого было сделано обнаруженное им рубило, юноша нигде не встречал. Режущая кромка рубила была оббита, а затем отполирована настолько хитро, что, подобно речной глади, отражала свет. Он провел пальцем по лезвию — чуткая кожа не ощутила ни одной шероховатости. Это, сколько же времени надо шеркать рубилом о наждак, а затем натирать рубило влажным песком, чтобы добиться столь изящной формы орудия! Непривычно выглядела и рукоять находки. Выскобленная из желтой кости, она завершалась копытцем; большая часть ее поверхности щеголяла знакомым узором.
Тонкая пластина, представляющая собой лезвие, пружинила не ломаясь. Он нажал сильнее. Лезвие уступило, но не хрупнуло. А стоило ему ослабить пальцы, как оно распрямилось вновь. Тогда он взмахнул рукой — длинная ветка отделилась от куста, словно только и ждала этого момента. Юноша опять полюбовался на блестящее оружие; наморщил лоб и… его осенило — порезы на ремне у провала! На ремне, которым удерживалось перило. Ремень иссекли этим самым рубилом! Иссекли не насквозь, дабы придать видимость случайного порыва застаревшей кожи.
С чудесным рубилом в руках он кинулся на поиски Шиша.
Для охотника день выдался удачным. В каждой второй ловушке сидело по большеухому. Завершая обход, Шиш направился лощиной, ответвляющейся от лога. Большая связка упитанных грызунов свисала с его плеча.
Возьми Шиш левее, они бы разминулись. Издали заметив его, Тонкое Дерево встрепенулся и перешел на бег.
Охотник остановился, встречая юношу. На тыльной стороне его ладони краснела свежая рана, оставленная колющим предметом. Ранка располагалась так, что не заметить ее мог только слепой...
«Опасней всего те злые люди, которые не совсем лишены доброты»
Желтая язва на ладони образовалась не сразу.
Сначала, на покрасневшей коже возникло серое пятнышко. Расщепленный Кедр подосадовал на него, поцарапал ногтем зазудевшее место, и на какое-то время забыл о нарождающейся болячке.
Наконечник требовалось сменить. У старого скололся угол, когда копье попало в лопатку здоровенного рогача. Вот уже с пол-луны острие, вернее, сохранившийся в оправе осколок, торчало в стороне от оси древка. Привести в порядок оружие он собирался еще накануне вечером. Что может быть хуже неисправного копья! Правда, у него имелось в запасе другое. Но оно предназначалось для очень крупной добычи и хранилось для особого случая. Расщепленный Кедр не привык полагаться на дубину. Попробуйте ею свалить кабана, когда он пойдет в атаку. Скошенный кабаний череп на редкость, крепок и надежно защищен двухпальцевым слоем тугого сала. Пусть старого добытчика замучают злые духи, но без колющего оружия он не рискнет промышлять крупного зверя.
Старое копье кормило, Расщепленного Кедра много лун. Только непосвященному манипуляции с копьем могли показаться простыми — шаг в сторону... замах... и грудь бегущего зверя вспарывается смертоносным жалом. Однако Расщепленный Кедр владел и другими приемами. Он умел, к примеру, отскочив, нанести боковой удар — в самое сердце стремительной добычи... Впрочем, он много умел, этот охотник на крупного зверя.
...Он почти заканчивал. Оставалось заплести седло вместе с зажатым в расщепке мыском наконечника. Тут он заметил, что неясное пятно на руке приобрело песочно-желтый оттенок, а ладонь взбугрилась и уже не зудела, но обдавалась жаром.
Родниковая вода ослабила жжение. Сидя на корточках, он макал в воду заболевшую кисть. Боль поднималась все выше. Одновременно разрасталась язва...
К обеду близ родника сидел измученный человек и с содроганием наблюдал, как среди распадающихся тканей его руки накапливались, хаотически шевелясь, частицы золотистой пыли. Багровая полоска, окаймляющая язву, перехватила запястье, а необычное разложение уже достигло кости, и та слоилась, точно сгорая на костре.
Паническое чувство колыхнулось в сердце старого добытчика. Его подташнивало при виде обезображенной болезнью руки. Плоть его бескровно разрушалась; мириады крошечных «муравьев» вгрызались в тело.
Разведенный в начале дня костер еще тлел. Расщепленный Кедр наскреб здоровой рукой смолы...
Янтарные капли падали на рану, но он не ощущал ожогов. Вспыхивающая живица обездвиживала желтую пыль — мгновение спустя страшный процесс возобновлялся с новой силой.
Нужно было решаться на крайнюю меру, на которую отважится далеко не каждый. Лучше пожертвовать рукой, нежели погибнуть. Были случаи, когда человеку отрубали загнившую конечность и жестокая операция спасала жизнь. Может, и сейчас коварные духи удовольствуются малым. Отступятся, проглотив руку истребителя кабанов, забыв напустить на него огненную трясовицу?
Операцию он перенес без единого стона.
С перетянутой гибким прутом культей побрел до стойбища, отмечая пройденный путь редкими алыми пятнами.
По дороге Расщепленный Кедр припадал от изнеможения на траву, но окончательно лег только в виду жилища.
От уютного навеса отделяла поляна с десятком застарелых пней, густо крытых семействами тугоногих опят. Старый добытчик не отважился пересечь поляну, как до этого не смел приблизиться к нахоженной тропе. Дорогой он обходил людные места, невзирая на слабость, из-за которой каждый лишний шаг вызывал сердцебиение и темноту в глазах. Петлял он сознательно, а к стойбищу пробирался единственно затем, чтобы предупредить об опасности. Привыкший полагаться на себя, старый добытчик не помышлял о том, что кто-либо поможет ему. Частые опасности и лишения, которые принимались им за собственно нормальную жизнь, приучили его безропотно встречать удары судьбы. Так; и теперь. Он противоборствовал с духами болезни один на один. Делая все возможное, чтобы не пропустить заразу в стойбище...
Когда б не боли и не тревога, лежать было отрадно. Жар небесного костра согревал плечи; валежина за спиной позволяла принять позу поудобней.
Пролежал он так недолго. У навеса показались женщины. Заслышав голос, они направились к нему, но замерли как вкопанные, когда предостерегающий окрик повторился.
Расщепленный Кедр потребовал Шиша. К великой досаде старика Шиша поблизости не оказалось. Пришлось положиться на растерянных женщин, понятливость коих вызывала у него большие сомнения. Однако тройка молодых матерей, разглядев растерзанного добытчика, довольно скоро уразумела — грозная беда коснулась предгорий. Большего от них и не требовалось.
...Наиболее скверное заключалось в вездесущности диковинной заразы. Болезнь разносилась прилипчивой желтой пылью. От последней не было укрытия. Она могла проникнуть через самую узкую щель, через самое крохотное отверстие. Отныне враг грозил отовсюду, хотя сам он был недоступен человеческому глазу...
В это самое время Шиш смотрел на Тонкое Дерево, едва не сбившего охотника с ног.
В руке у юноши сверкало нечто.
«Дай!» — потребовал Шиш.
Тонкое Дерево мотнул головой, спрятал руку за спину. Ранка на внешней стороне кисти Шиша, казалось, околдовала юношу. Брови Шиша приподнялись.
Не то вздох, не то всхлип раздался за большими камнями. Тонкое Дерево шагнул туда.
«О-о!»
Охотник кинулся к нему, споткнувшись о распростертое тело Поздней Луны...
Место, куда был ранен Поздняя Луна, выдавалось пятном почерневшего меха. Охотник коснулся щеки лежащего — она хранила живое тепло, хотя дыхание не обнаруживалось.
Оголенный живот Поздней Луны пересекала резаная рана, проходящая от пояса до паха. Ранение было скверным. Тот, кто покушался на жизнь несчастного, нанес удар снизу вверх, держа оружие лезвием от себя, а потом развернул его по вертикали, в результате чего острый конец лезвия описал большую дугу и буквально вспахал брюшину. Достичь подобного эффекта при помощи обычного оружия было невозможно. Но подобное удалось бы без труда, владей преступник чудесным рубилом вроде того, которое в настоящую минуту находилось у Тонкого Дерева.
Сидя на корточках, Шиш поднял голову. Гибкое лезвие в руке молодого охотника казалось чистым. Однако там, где оно соединялось с костяной ручкой, явственно виднелась бурая полоска.
Рывок!.. Захват!... Сияющее рубило звякнуло о камень.
Тонкое Дерево скорчился от боли…
— Ну, — голос Шиша предвещал дальнейшие осложнения.
Лишь теперь юношу осенило, что на него пало подозрение в убийстве. И это тогда, когда он сам в немалой степени грешил на наставника.
Ситуация становилась нелепой. Впрочем, юноша испытывал облегчение при мысли о том, что ни в чем плохом Шиш не замешан. Иначе, с чего бы ему подозревать Тонкое Дерево? А коль у наставника совесть чиста, то следовало не медля объясниться с ним.
— Тонкое Дерево нашел это, — он протянул рубило Шишу, — в сотне шагов отсюда...
Рассказ его был сбивчив, но охотник поверил сразу, омрачившись сильней. С недавних пор Тонкое Дерево вызывал у него неприязненное чувство. Ведь никто иной как Тонкое Дерево был свидетелем его торжества над болотным чудовищем. Поспешного торжества. Кроме того, юноша позволял себе вмешиваться в дела Шиша. А только что признался в плохих мыслях об охотнике. Причиной тому послужила ерундовская царапина. Здесь Тонкое Дерево что называется, попал пальцем в небо, но даже минутное сомнение его в репутации наставника было оскорбительным. «Чего он лезет? Чего высовывается?» Будто такой опытный охотник, каким считался Шиш, нуждается в советах и участии молокососа.
Поздняя Луна вздрогнул... или это показалось?
Убитого было жаль. Он не выделялся обаянием и добычливостью, однако его покладистость искупала перечисленные недостатки.
Только что бездвижное тело, кажется, шевельнулось вновь. Нет. Поза лежащего не изменилась. Вот кожа убитого приобрела синий цвет. Чересчур синий, сказал бы охотник. В отдельных местах синева сгущалась до черноты. Нормальные покойники ведут себя иначе. Трупные пятна у них проступают через несколько часов. Конечно, многое зависит от погоды, но и в теплый день мертвяки не меняют цвет мгновенно. А этот только начал остывать, а уже налился сизым цветом, словно выкрасился в соке ягод вороньего глаза.
...В голове шумело. Холодно щипало кожу. Он чувствовал, как смертельная тоска коснулась сердца, разошлась с током крови по телу, лишая зрения, слуха и обоняния.
На какой-то миг охотник отключился. Тонкое Дерево смотрел на потемневшее лицо Шиша, на пляску сиреневых волн вокруг Поздней Луны и стучал зубами.
Каким образом закрылась рана Поздней Луны? Этого юноша не заметил. Волнение его было столь сильным, что происходящее виднелось ему будто через плотный сиреневый туман. Перед глазами у него троилось.
Когда картина сделалась четкой, он увидел, что на животе мертвого, умирающего ли, вместо жуткой дыры осталось бледно-розовая полоса...
Заживлением дело не ограничилось. Сине-фиолетово-сиреневые пряди, протянувшиеся от Шиша к Поздней Луне, продолжали трепетать. Это трепетание будило соки на лице бывшего покойника.
Тонкое Дерево по-женски взвизгнул — запрокинутая ладонью вверх рука лежащего приподнялась, а пальцы, медленно сжались в кулак. Впервые юноша встретился с невероятной причудой духа, возвратившегося в оставленное им тело, вместо того, чтобы искать новое. И причиной случившегося явился не знахарь, а Шиш.
...Прошлое не оставляет человека. Оно незримо присутствует в настоящем, готовит засады в будущем. Можно сказать: прошлое — это будущее, повернувшееся к нам спиной. Прошлое встречается в лицах, которые узнаваемы, знакомы нам.
Прошлое подстерегает нас в предутренних снах, что-то обманчиво предвещая на завтра. А будто, те предвещие сны и сбываются, то лишь оттого, что прошлое забежало вперед, сменив личину безвозвратно-упущенного на бесконечно-обещающее. Не верьте «завтра». Оно солжёт, как лгало «вчера». Надейтесь на новый день, он даст не меньше, чем старый. А может и более того. Завтрашний день ничем не хуже минувшего, ибо время в любой свой момент необычайно, будь то прошлогоднее бабье лето с опостылевшей дробью солнечных зерен, дырявящих красный лист год ногами, с извечными шляпками поздних грибов, бодрячески проснувшихся меж стеблей травы, подушечек мха и перекрестьев прутьев, будь то грядущая весна, когда расхристанный снег пьяно расплывается по сторонам, а игольчатая шкура на реке шипит по-гадючьи под ногами. Все это наше — неповторимое для каждого время. Это неизбывное прошлое. С нашей смертной виной перед ним. С нашими мелкими заслугами перед людьми...
Длинноногая запуталась в прошлом.
Она плакала не по Пятнистому и не по Блестящезубому. О них не стоило жалеть.
Она тосковала об утраченной борьбе. Истинно сказано: «Умерший враг делается дороже живого друга».
Были моменты, и пришелица грызла пальцы, горюя о Пятнистом. Он не имел права улизнуть «неосужденным». Знать бы его растленную натуру еще на родине! Ныне же, когда было поздно, она с уверенностью могла сказать, что он был «реформистом-предельщиком».
Слухи про нелегальное общество «реформистов» доходили до нее еще в студенческую пору. Дальнейшие события подтвердили справедливость этих слухов. «Реформисты» делали все, дабы нарушить равновесие в стране. Сам Велес был бессилен перед этими оборотнями. Избравшими полем действия общественные кухни, подворотни, загаженные пивные и другие места, где собирались для сплетен и анекдотов вечно недовольные интеллектуалы. Оружием «реформистов» являлась клевета. Страшась открытой борьбы, они подставляли «осуждению» честных людей. Так ушел «осужденным» близкий друг Велеса Пирун.
Сведения, подбрасываемые «реформистами», были клеветой постольку, поскольку угрожали стабильности и вызывали ничем неоправданные жертвы.
Где-то на втором курсе она столкнулась с методами «реформистов» вплотную...
Туалетная комната Института «Демократических преобразований» размещалась в полуподвальном помещении. Чтобы попасть к умывальникам или в кабинки, прикрывающие посетителей стенками из листового железа отовсюду, за исключением той стороны, которая смотрела на лестницу, требовалось спуститься на четыре ступени ниже уровня коридора. В тот день подходы к ступенькам загораживали две упитанные девицы с чужого факультета. В любом случае она прежде не видела этих грязно размалеванных лиц. Лишь потом сообразила, что неряшливый макияж и не соответствующая возрасту искусственная полнота девиц служили маскировкой.
Занятые беседой девицы игнорировали подошедшую.
.... Длинноногая помялась. Сунулась было в щель между студентками, но одна из толстушек словно ненароком перекрыла путь, выставив в проход по-мужски. жилистую ногу. Подобная грубость нуждалась в ответе. Чего-чего, она умела постоять за себя. Резко повернувшись, Длинноногая расчистила дорогу плечом. Маневр был неожиданным; левая девица пошатнулась и загремела по ступенькам. Однако порадоваться своей маленькой победе пришелице не довелось. Толчок в шею — и она очутилась в туалете, то есть там, куда, по мнению наглых девиц, ей попадать не следовало.
Между угловой кабиной и дощатой перегородкой, за которой находился склад наглядных пособий, шесть человек избивали одного.
Драчуны представляли собой таких же ряженых, как и девицы с лестницы. А то, что на первый взгляд показалось дракой, на деле таковой не являлось: избиваемый был связан, изо рта у него торчал конец какой-то грязной тряпки. Жертву обрекли на молчание; она могла лишь сдавленно стонать.
Длинноногая признала избиваемого; им оказался молодой, приятной внешности преподаватель с соседнего факультета. Кто-то ей рассказывал про этого многообещающего «светила» с кафедры народоведения. Говорили и о том, что он — принципиальный сторонник системы «осуждения», вызывающей лютую ненависть у «реформистов»...
Обычно аккуратного преподавателя накрыли спины мучителей. Она услышала тяжелые хрипы, прежде чем опомнившиеся «толстухи» снова накинулись на нее.
Дрожащий от ненависти голос крикнул, адресуясь к дверным стражам:
— Как сюда попала эта?..
Потом Длинноногую оглушили.
...Выйдя из больницы, пришелица узнала, что симпатичный преподаватель был убит; его останки обнаружили там же — на заплеванном кафеле туалетной комнаты. Самой Длинноногой повезло больше: покончив с жертвой, «реформисты» в спешке оставили в живых единственного свидетеля. А впрочем... Что бы она поведала властям? Да ничего. Описание масок, укрупненных ватой фигур, умышленно искаженных голосов — подобные детали вряд ли бы удовлетворили самого покладистого следователя. А вот ей пришлось бы объяснять, каким образом, будучи без сознания, она попала в коридор, где ее подобрали сердобольные однокурсники?
* * *
Следующей «желтая» болезнь одолела Ракушку. Как сказал бы Расщепленный Кедр — это было чересчур. Но старый добытчик сказать этого не мог, ибо не ведал о последних событиях. Он валялся на жесткой подстилке под сводами своего шалаша и бредил. По-молодому крепкий организм его боролся с воспалением.
Истребитель кабанов и косолапых сделал все, чтобы уберечь Людей Камня от коварной хвори. Но он не учел удивительных свойств «желтой пыли»...
Ракушка ополоснула лицо в ручейке, там, где до прозрачности чистая вода стекала по травянистому ложу. Стекала с бугра, на лесистой вершине которого Расщепленный Кедр оборудовал себе убежище.
Умывшись, Ракушка зябко передернула смуглыми полными плечами и не стала пить, хотя испытывала жажду: вода показалась слишком холодной для ее слабых в беременности зубов.
Болезнь накинулась на молодую женщину стремительно, ещё на пути от ручья. Увлажнившийся после подъема в гору лоб зазудел, вскоре на нем проявились, точно нарисованная комочком глины, обширная язва.
Последний отрезок дороги Ракушка бежала, вскрикивая от ужаса, оступаясь на ослабевших ногах. Раз-другой она принималась плакать, ощупывая трясущимися пальцами лицо. Зараза липла к пальцам, спускаясь все ниже, и минут через пять край язвы приблизился к горлу...
Ее увидели издалека. Завизжали ребятишки… Их испуганный рев поднял на ноги стойбище. Заболевшая брела к жилищу, а люди расступались перед ней, пятились за угол; кое-кто оглядывался при этом, посматривал через плечо, намечая путь к бегству.
Дорогу заразной преградил Шиш:
— Нельзя!
Ослепшая и оглохшая Ракушка продолжала идти…
— Ракушка, стой! — загремел охотник.
Он крикнул дважды, срывая горло. Судя по остекленевшим глазам, она не слышала его; сейчас Ракушку не сумел бы остановить и рев косолапого.
Копье охотника стояло под навесом. Раздумывать далее было опасно. Привычно перехватив древко, он откинулся корпусом назад. Грозное оружие устремилось к цели... Ноги женщины подсеклись. Она упала плашмя, переломив копье, наконечник которого торчал между лопаток убитой, как острый побег пырея,
Предсмертное «О-о-ой» заставило содрогнуться. Случившееся произошло в мгновение ока, и только Тонкое Дерево поспел за событием, пытаясь остановить Шиша... Копье было в воздухе, когда юношу настигла оплеуха.
— Охотник жесток. Зачем он убивал Ракушку? — Побледневший от ярости юноша сжал кулаки.
Убийца не выказал сожаления:
— Я спас племя.
— Убийство человека ни для кого не может служить спасением. Шиш нарушил Большое Табу, — юноша плакал. Еще вчера преклонится он перед наставником. Теперь он его презирал. — Почему ты решил за всех? Ведь ты — не вожак.
Да, — у племени не было вожака. Расщепленный Кедр исчез. Странная болезнь одолела его.
Охотник пресек ропот, заговорив громче.
— Теперь я — старший охотник! Нет. Я буду не старшим охотником. Я буду... вождем! Я уберег вас от заразы, остановив Ракушку. И я же загнал дух Поздней Луны в остывшее тело...
— Так верни дух Ракушки! — Поздняя Луна держался за стойку входа и с надеждой смотрел на Шиша.
Охотник вскинулся. Собственно, в нем не было полной уверенности в собственных чудесных способностях. Оживить Ракушку? Ну-ну. Можно рискнуть жизнью, единоборствуя, например, с косолапым. Но у него нет желания мучиться ради полуженщины-полудевчонки, недавно приведенной с другого берега реки и, следовательно, доводящейся ему чем-то вроде дальней родственницы соседской синицы. Убитая меж тем распадалась шевелящимся желтым прахом. Шиша передернуло.
Да, он убил. Но на пользу племени. Да, он нарушил Большое Табу. Но стало ли людям от этого хуже? Не стало. Оказывается, любые запреты похожи на людей: проходит какое-то время, и самое суровое табу начинает стареть. Стареют и уходят в Прошлое одни запреты, появляются другие. Кому сегодня нужны заумные табу, придуманные Пханом или Много Знающим? Их табу не вечно. Вечным будет то, что прикажет людям он, Шиш. Только у него есть право накладывать вечное табу, ибо он заслужил это право, а не выпросил его у людей. Он поборол болотное чудовище. А кто, в конце концов, сумел загнать духа жизни в остывшее тело? Один он последние луны думал о людях, каждый из которых заботился только о себе. Разве они оценили его заботу? Вот и Сейчас от него требуют новой жертвы — его здоровья. Разве это справедливо? Что ж!
— Охотники предгорий и женщины! Шиш скажет вам то, чего вы не поняли до сих пор: главное — это племя! Племя неприкосновенно. Вождь неприкосновенен вдвойне. Жизнь человека имеет какое-то значение, если речь идет о сохранности племени. Пускай погибнут десятки охотников, старух и детей, но племя и его обычаи должны сохраниться навсегда...
Он глох от собственного крика; звуки его голоса двоились, будто одновременно с ним кричал Пятнистый. Шиш замолк на мгновение, пытаясь выделить голос пришельца, однако тот умолк вместе с ним. Это было наваждением.
— Люди Камня — дети единого духа! Лишь вождь знает, чего хочет Дух. Вождь — это я.
— Что-что? — возразил Тонкое Дерево.
Охотник был начеку — новая пощечина лишила юношу слов. Заискивающе всунулся Поздняя Луна:
— Вождь прав. Тонкое Дерево глуп. Хотя желает казаться умнее всех. Вождь прав, заколов Ракушку, ведь она указывала духам болезни дорогу в стойбище. Все равно из Ракушки не получилось бы хорошей подруги: скоро пять лун, как она впервые заночевала с Поздней Луной, но до сих пор у Поздней Луны нет потомства. — Он хихикнул. — А ведь она могла бы и поторопиться...
Юнец трещал долго. Длинноногая поглядывала то на него, то на Шиша. Выражение се глаз было непонятным. О чем она думала? Кто знает. Вот она снова улыбнулась. Может, потешалась над Поздней Луной?
...С Пятнистым Длинноногая познакомилась на курсах. Профилирующий предмет читал усеченный в размерах и языке человечек, который постоянно спешил, шепелявил, перевирал Велеса и, поправляясь, встрепанной курицей метался у доски. Внимать ему было забавно. Хотя чаше всего он нес заумную тягомотину: «Передающиеся по наследству властные заряды. Закон сохранения потенциала власти... Делегирование массами атомов власти лидеру и компенсации заряда... Закономерность распространения единственно научной системы на территории планеты, а в дальнейшем...»
Длинноногую смущал запутанный механизм наследственной передачи властных зарядов. Он казался таким сложным и многоступенчатым, что трудно было понять: кому и через сколько поколений достанутся заряды, обрекающие личность на лидерство. Успокаивало, однако, то, что природа грамотнее курсантов, и в их век пресловутые заряды ухитрялись попадать к достойным претендентам на лидерство.
Через десяток лекций она на все махнула рукой. Уследить за ходом мыслей шепелявого лектора было абсолютно невозможно. Вроде бы и сам он понимал это. Потому нарочно завирался, чтобы смягчить сухость материала.
Сидя рядом с Длинноногой, Пятнистый дремал. Такое небрежение учебным материалом ее угнетало. Каждый социально-порядочный гражданин должен быть неравнодушен к проблемам общественного устройства. Позже антипатия прошла — сонливость одолела и ее. Вскоре Пятнистый признался — он на курсах вторично, по спецнаправлению, но, несмотря на второй заход, поумневшим себя не чувствовал. Его признание рассмешило Длинноногую.
В следующем семестре к образовавшемуся дуэту присоединился Блестящезубый. Вот тогда она и свела их со своим другом — точнее, женихом. Собиралась ли она замуж? Трудно сказать. Но вот уже четыре года как их общие знакомые уверились в неотвратимости брачных уз для нее и ее друга.
...Брачная перспектива лопнула самым трагическим образом. Печальный финал пришелся на последний день занятий.
В тот страшный день и час ей довелось осознать, сколь близок для нее был давний друг. Она представляла себе его узкое, интеллигентное лицо, где нижняя, будто припухшая, губа имела родинку. Однако его глаза и голос память не сохранила. Получался какой-то плоский портрет, точно снятый стоп-камерой. В портрете отсутствовал малейший намек на движение, отчего он смотрелся фотороботом никогда не существовавшего гражданина. А вот чего она забыть не могла — его привычки шутить на самые рискованные темы. Шутил он дерзко, кривя уголки красивых губ.
Шутки пугали окружающих; они непроизвольно оглядывались, а потом неловко меняли тему, относя бестактность шутника на счет его происхождения, так как каждая собака в городе знала, что он доводился потомком великому Велесу. Последняя шутка стоила ему жизни.
Кощунственный экспромт слышали только трое. Она могла бы поклясться, что за весь вечер ни Блестящезубый, ни Пятнистый не подходили к телефону, как поклялась бы и в том, что и тот, и другой услышали смертоносную остроту впервые. Жених сочинил ее тут же, по ходу разговора.
С вечеринки они расходились поодиночке. А спустя час у квартиры ее друга, как показывали очевидцы, собралась толпа...
«Осужденный» потомок Велеса пролежал на бетонном полу подъезда до утра. Проводили его без нее. Она не боялась скомпрометировать себя, и не знала за собой вины, ее отговорил участковый врач жениха: внешность «осужденного» пострадала и деликатный медик не ручался за выдержку близкой покойника. Он долго объяснял ей неуместность участия в похоронах, а когда последовал безвольный кивок, означающий согласие, он вынул из-под халата и сунул ей в руки что-то холодящее пальцы. «Он умер с этой штукой в спине». Потом врач вздохнул, заскрипел подошвами ботинок по лестнице, оставив в распоряжении Длинноногой обоюдоострый клинок с резной рукояткой из кости.
Накидка Шиша распахнулась от рывка. За поясом торчало невиданное рубило, лезвие которого вспыхивало синевой.
— Духи желтой болезни малы; они разносятся ветром, они не тонут в воде. Шиш посоветуется с Духом племени о том, как избежать опасности.
Уголками глаз он проверил реакцию толпы. Люди смолкли, затаив дыхание. А Шиш повернулся лицом к бесформенной груде, что совсем недавно называлось Ракушкой. Слабый сиреневый луч протянулся от охотника к останкам.
Желто-бурый прах прекратил шевеление. Внезапно охотника стошнило. Он сглотнул, подавляя спазм, и расслабился, чтобы спустя секунду обратиться к племени, презрев попытки оживить Ракушку: .
— Нам следует уйти за горы. Так повелел мне дух. И я, послушный его воле, говорю вам — собирайтесь! — Кремневые желваки вздулись по краям его скул.
«О-о-о», — застонали женщины. Дети прижались к матерям. Даже «желтая» хворь казалась нестрашной перед лицом враждебного пространства, находящегося по ту сторону гор. Ох, горько покидать обжитые лес и пещеру, бросая кучу нужных вещей.
Тонкое Дерево смотрел, на Шиша. Голова юноши противилась откровениям охотника.
— Духи служат людям, а не наоборот. Злой дух или добрый, он может быть сильнее Тонкого Дерева, но Тонкое Дерево выше всякого духа.
Широко раскрыв рот, охотники и женщины глядели то на юношу, то на Шиша. Смельчак обреченно добавил:
— Для Шиша не существует, запретов. Он плюет на обычаи племени. Еще до убийства Ракушки он хотел убить Треснутое Копыто...
— Что-о-о?! — ошарашенный вождь потянулся за оружием. Однако дубины не было рядом, а концы сломанное копья виднелись среди праха молодой женщины, над которым кружились зеленые мухи, непонятным образом избегая посадки на привлекшие их останки.
— Вот чем Шиш изрезал ремень у провала, палец Тонкого Дерева указал на блестящее рубило. — Шиш прятал оружие в лесу, но я нашел его. Я видел кровь охотника на листве, под кустом, где он зарыл рубило. Вон ранка на руке Шиша!
Он горько усмехнулся:
— Тонкое Дерево верил убийце. Теперь я не верю ему. Однажды поднявший оружие на собрата станет убивать и дальше. Так говорил Сим.
Настроение людей быстро менялось. Затылком, спиной охотник ощущал возрастающую неприязнь. Отрицать сказанное Тонким Деревом было глупо: всех заворожил блеск чудесного рубила — главной улики. Хорошо бы отвлечь, сбить с толку горластых: охотников, изменив тем самым ситуацию в свою пользу. Косолапого валит не тот, у кого больше силы, и не тот, кто первым кидает копье. Могучего, зверя одолевает знающий куда нанести удар.
Пока он собирался с мыслями, Длинноногая отделилась от толпы и пошла через площадку. Двигалась она решительно, с таким видом, будто направлялась по важному делу. Он окликнул ее не вдруг, а лишь когда ее стройная фигура достигла тропинки, убегающей в лес.
Уже второй раз за этот несчастный день ему выказывают неповиновение. Окрик подстегнул пришелицу, она ускорила шаг.
Похожий на бегство уход Длинноногой возмутил вождя. Ее уход был подозрителен хотя бы тем, что уходила она с пустыми руками, не захватив корзины, без которой любой женщине нечего делать в лесу. Выходит, Длинноногая не собиралась туда заранее, а решилась в самый последний момент, далеко не подходящий для каких-либо отлучек.
И опять врожденное добродушие изменило ему. Подобные женские фокусы могли разозлить кого угодно. Бешеный рык пролетел над площадкой: «Гр-р-р!» И следом:
— Стоять! Назад! Я кому говорю!
Пришелица встала. Оборотилась. В продолговатых кошачьих зрачках отразились стоящие напротив люди. Она смотрела на них так, словно это были не они, а стая галок, надоедливых и гомонливых.
— Ну? — в сухом вопросе чувствовался вызов, — Что вождю надобно от меня?
Между ними лежала гладкая земля — каких-нибудь двадцать-тридцать шагов. Гладкая земля, на ней — немного травы да холмик бурлящей пыли на том месте, где испустила дух Ракушка. Глинистого цвета пыль расплескалась среди жестких пучков подорожника, и чудилось, что былинки содрогаются без ветра.
— Мясо темными рожками посыпала я... Ну да, мясо, которым отравился Длинноногий, от которого едва не скончался Тонкое Дерево.
Юноша ойкнул. В знак великого удивления шлепнул себя ладонью по губам Шиш.
— Но… — почему?
Улыбка пришелицы была лишней на ее построжавшем лице.
— Мне не известно, каким образом обнаруженное Деревом рубило попало под куст. Но я знаю, чье оно. Это оружие Длинноногих. Оно принадлежало Пятнистому. Мы называли такое рубило ножом. У Пятнистого его украла... я. А потом... Потом оно исчезло. Хотя я надежно спрятала его... — Вздохнула. — Впрочем, вождя интересует кое-что другое. Не так ли? Его интересуют темные рожки.
Шиша обдало жаром: пришелица, назвав его вождем, явно издевалась. С чего бы? Разве не она, на пару с Пятнистым, предлагала ему решиться на подобный шаг?
Он тронулся к навесу, еще не сознавая зачем.
— Пусть вождь остается на месте. Иначе он больше ничего не услышит. Надеюсь, Люди Камня поверят, что отравление Тонкого Дерева было случайностью...
Теперь он понял. Никто иной как Пхан, явился причиной той трагической случайности. Когда Пхан вырвал приглянувшийся ему кусок мяса из рук Длинноногой, он тут же сморщил нос и сунул мясо Тонкому Дереву. А юноша поделился с Длинноногим. Но кому предназначалась отрава?..
Длинноногая между тем продолжала. В голосе ее появилась хрипота, ибо ей приходилось кричать, чтобы быть услышанной:
— Кто подстроил падение Треснутого Копыта в провал? Кажется, я начинаю догадываться. Изрезать ремень, которым держалось перило, а затем утащить нож из моего тайника мог лишь один человек. Если только он... — Длинноногая задумалась. — Впрочем, от моей догадки Людям Камня мало пользы. Тот, про кого я подумала — не из племени Шиша.
Толпа подалась вперед. У охотника пропала злость, приходилось радоваться выходке женщины, отвлекшей внимание толпы. Вместе с тем, в нем росло недоумение: что заставило ее повиниться так кстати? Однако, какой бы причиной она не руководствовалась, у Шиша появилась возможность обдумать дальнейшие шаги.
— Вы напрасно разделались с Много Знающим...
Он вздрогнул: что еще неожиданного откроет пришелица насторожившейся толпе?
— Знахарь действительно отлучался от лога. Однако, к провалу он не ходил. Не было его у моста... Я видела знахаря все время в тот злополучный день. Много Знающий не резал ремень. Он не подстраивал ловушки Треснутому Копыту. Он был занят другим делом. Он... следил за мной.
Она обежала слушателей презрительным взглядом.
— Вождь поражен? Повторяю: знахарь следил за мной, и в результате, сам того не желая, спас мою жизнь. Ибо никто не покушался на увечную старуху. Этот никто или некто никак не предполагал, что калека надумает куда-то идти. Да и кто мог такое предположить! По мосту предстояло пройти мне, и злоумышленник знал об этом. Правда, он не учел другого обстоятельства — слежки знахаря, из-за которой я вернулась с полпути, не дойдя до провала. — Зеленые глаза пришелицы потемнели. — Теперь я ухожу. Хватит с меня смертей и человеческой крови... — Она говорила тише и тише, ей напряженно внимали. — Всегда кровь... Кровь среди Длинноногих... Кровь на обитателях предгорий... Что ж! Добряк Шиш получил власть над людьми, и тоже начал с убийства...
Шепча себе под нос и качая головой, она походила на умалишенную. Минут пять Длинноногая всплескивала руками, жалобно поглядывая на охотника. Он хотел приблизиться к ней. Она дико вскрикнула, метнулась прочь...
Тропинка изгибалась колесом. Раскаленные полосы света рушились сквозь кроны деревьев, сталкивались, пересекались, накладывались одна на другую, ломались о землю, сливаясь в ослепительные круги и ленты. Избитая подошвами тропа прыгала через толстые корни, ныряла в гущу кустов; возле глаз бегущей проносились затейливые выкройки ..листьев, — острые иглы боярышника, щетина хвои, слабый оранжевый румянец яблочек, собранных в щитки...
«Скорее! Скорее!» — У нее еще было время — отважный вождь не кинется в погоню безоружным. Он смел, но осторожен, рассудочно осторожен. Ему потребуется пара минут, чтобы добежать до навеса, где хранилось оружие. От навеса он поспешит к началу тропы, обогнув площадку, посреди которой лежит прах Ракушки...
Шиш оказался проворней, нежели она рассчитывала. Тяжелая палица догнала ее. Под черепным сводом Длинноногой что-то гулко треснуло — тело женщины скатилось под откос.
...Вновь Тонкое Дерево пытался задержать взбесившегося охотника. Но пальцы юноши соскользнули с чудовищных бицепсов вождя, чтобы пойматься за пояс бывшего наставника.
По чистой случайности кисть правой руки Тонкого Дерева сомкнулась на рукоятке диковинного рубила.
Свирепая гримаса исказила черты охотника. Запястье юноши хрустнуло. Одновременно оружие вернулось к Шишу. С легким треском рубило вошло острым концом в грудь Тонкого Дерева.
Шиш было задержался у раненого. Вождь не желал юноше зла. Он лишь хотел остановить женщину. Хотел подчинить ее своей воле. Шиш..., любил Длинноногую.
Пришелица точно прикинула разницу в скорости бега: массивный охотник двигался тяжелее Длинноногих. Разница была мизерной, но ее достало бы, чтобы уйти от преследования. Ошиблась она в другом: мощные ноги Человека Камня позволяли ему с каждым скачком покрывать расстояние втрое больше, чем удавалось ей. Поэтому он настиг убегающую.
Дальше произошло неожиданное. Палица Шиша поднялась, в его руке, в подтверждение грозного окрика взметнулась в воздух, описывая траекторию...
Обхватив окрасившийся кровью затылок, преследуемая упала на землю, затем скатилась вниз. Он посмотрел ей вслед и увидел в том месте, где упала Длинноногая... собственную палицу!!! И уж потом оружие настигло цель, столкнувшись с невидимой преградой в точке, где за секунду до того находилась пришелица. Затем палица коснулась земли; подпрыгивая, достигла уже лежащей женщины и... молниеносно слились в единое целое с первой палицей...
Спускаться к убитой не имело смыла, никаких сомнений в отношении ее гибели у него не было. Похоже, в происходящем приняли участие злые духи. Беспредельная тоска навалилась на плечи охотника. Наверно, он поддался бы печали, когда б не странное чувство освобождения. Отныне и навсегда рядом с ним уже не будет никого, кто мог бы позволить себе контролировать его поступки, усмешливо следить за каждым его шагом, дерзить ему по поводу и без...
Ковыляя к болоту, Длинноногая лишний раз поражалась выносливости человеческого организма. Ее подташнивало — характерный симптом сотрясения мозга. Чьи-то острые, словно шилья, зубы вонзались в затылок. «Все-таки, он поднял на меня руку. Его привязанность ко мне испустила дух, как только столкнулась с дикарской спесью. Что ж, кто-кто; а я должна была знать, что он способен на крайние меры. Оставалось загадкой одно: под каким соусом он преподнесет эти неординарные меры? И вот... преподнес! Ни дать, ни взять — выразитель племенной идеи, для которого и дружба, и любовь, и родственные узы — ничто по сравнению с величием власти...»
Что Длинноногая, что Шиш — равно не догадывались о возможных последствиях происшедшего между ними разрыва. Каждый из них торопился спасать то, что принимал за главное. Он мысленно прокладывал дорогу, идти которой предстояло его племени. Она брела по пояс в зелено-бурой жиже по направлению к спящему чудовищу, чтобы смертью попрать смерть. Противоречивый смысл этого древнего принципа не тревожил ее. Но всякий раз, спасая ближнего смертный вправе попрать только собственную жизнь. Иначе он превращался в банального убийцу. Однако так уж получилось, что и пришелица, и новоиспеченный вождь в равной степени были далеки от познания сокровенного смысла вечной мудрости.
...Посадкой руководил Остроносый. За двадцать наносекунд до контакта с поверхностью земли техническое могущество Длинноногих получило чувствительный щелчок — в болотную грязь плюхнулась куча разлаженных механизмов, только что представлявших, собой идеально настроенную машину.
Скоротечная паника лишила благоразумия небольшой экипаж. Началось поспешное бегство.
Уже будучи за бортом, барахтаясь в вонючей жиже, Длинноногая услышала причитания Блестящезубого. Он загребал руками грязь, в которую окунулся по плечи, и что-то кричал про энергетический центр, якобы, вышедший из-под контроля... А еще через час некогда могущественные, а теперь лишенные самого необходимого, покрытые ржавой коростой болотной жижи, ссадинами и синяками, безоружные, беспомощные, словно зайцы, они бежали к горам, а земля под их ногами смеялась над хрупкостью человеческого естества...
Женщина покачнулась. До бронированной махины оставалось с полсотни метров.
...Беду накликал Остроносый же, за сутки до крушения шутливо заметив, что нужно досконально разобраться с понятием внутренней энергии вещества, прежде чем создавать двигатели, работающие за счет того, чего не ведает никто. «Спешим. Вечно спешим. Шагаем, оставляя далеко позади собственную голову. Кидаемся запрягать черта, не приглядевшись, где у него перед, а где хвост. Так вместо седла можно угодить задом на рога»
...Катастрофу довершил промах Блестящезубого. Согласно аварийному расписанию, ему полагалось покидать рубку последним, предварительно отключив наружную защиту. Но он испугался — этот Блестящезубый. Он везде и всегда боялся. А страх одного губителен для многих. Бросив, растерянный взгляд на табло, Блестящезубый решил, что защита мертва, и, что ее электронные узлы разрушены окончательно и бесповоротно — табло было темным по всей площади.
Но так вышло, что в хаотических закоулках энергетического центра уцелели крохи энергии. Их оказалось достаточно для регенерации электронной схемы... Хлопотливая и безумная автоматика принялась за ремонт, начав с подачи питания на защиту.
Задним числом трудно представить, как происходило восстановление. Ясно одно — автоматике удалось маловероятное.
Задействованная защита постаралась оправдать свое предназначение: любое тело, которое приближалось к топи, расстреливалось с упорством, достойным лучшего применения. По мере того как вступали в строй новые и новые секции, обеспечивающие подачу энергии, возрастала и дальность поражения «врага».
Расчетливый квазиразум скупо расходовал киловатты. Лишь благодаря этому задерживался вылет патрульного робота, оборудованного для поражения целей вне прямой видимости, а следовательно — сохранялась жизнь в предгорьях. Пока сохранялась...
В последние дни болото огрузло влагой. Ей пришлось брести, раздвигая грудью густую взвесь из торфяной крошки, лоскутов растительного войлока и великого множества пробудившихся к жизни коловраток. Затылок припекало по-прежнему, в отдельные моменты глаза застилало сиреневой пеленой.
Плотно сжав губы и стараясь не дышать, она вылила на голову пригоршню темно-коричневой жидкости из болота. Прохладная влага утишила жар.
Разносимая ветром заразная пыль повсюду стерегла человека и зверя. Остановить желтую хворь могло лишь средство чрезвычайное. Зловещий микроорганизм-мутант должен погибнуть при высокой температуре. Он должен сгореть. Длинноногой претило, что заодно с адским прахом вспыхнут предгорья. Однако время колебаний вышло. Она приняла решение. Пусть гибель части поможет спасению целого, и тем загладит вину пришельцев перед дикой, ничего не подозревающей планетой. Что касается Людей Камня... одним малочисленным племенем будет меньше. Но не стоит делать трагедию. Предохранительный принцип «осуждения» применим и в этом случае. Следует думать о всеобщем благе, тогда перестанут мучить частности. Нет и никогда не было Шиша, Тонкого Дерева, Расщепленного Кедра... Не было Людей Камня... Не существовало Живущих За Рекой... Разве была какая-то высшая необходимость в заселении предгорий двуногими? Когда-нибудь сюда придут иные племена, история этих мест напишется с нуля, как от первоначала; ибо и лог, и скалы, и заново выросший на месте пожарища лес не имеют истории без человека, а бесследно исчезнувшие дикари не оставят после себя исписанных страниц...
Длинноногая осторожно коснулась затылка. Чуткие пальцы не обнаружили раны. Или ей почудилось?..
Споткнулся охотник весьма кстати.
Большой палец правой ноги заныл. Он обругал замшелый валун, торчащий на дороге, хотя тот был явно ни при чем: занятый тревожными мыслями, пешеход ничего не видел вокруг. Надо сказать, у него были основания для озабоченности.
... В двух шагах от охотника лежал человек. Вздувшееся багровое лицо, частое дыхание, спекшиеся губы говорили о тяжелом состоянии лежащего. Незнакомец был очень плох — обоняние улавливало застарелый запах гниющей плоти Обнаженная рука незнакомца сочилась гноем, напоминая бесформенный древесный обрубок. «Духов огонь», — мелькнуло в голове охотника. Человек разлепил веки:
— Ши-иш... Где она? — Пятнистый пронзительно глянул на Шиша.
— Кто — она?
В вопросе не было нужды. Пятнистый интересовался пришелицей.
— Женщина Длинноногих мертва.
Глубокий вздох. Затем:
— Шиш уверен в смерти Длинноногой?
Охотник пожал плечами. Если бы Пятнистый видел то, что довелось увидеть Шишу, он не стал бы тратить время на расспросы. Самому охотнику гораздо интересней другое — каким образом уцелел Пятнистый? Почему, оставшись в живых, он не давал о себе знать?
Больной настаивал:
— Кто-нибудь похоронил ее?
Шиш рассерженно выпрямился. Врать не хотелось. Однако объяснить Длинноногому, почему он бросил тело бывшей подруги непогребенным — было долго. А главное — незачем. Пути Людей Камня и пришельцев разошлись. Умирающий являлся последним из чужаков, о чем Шиш едва ли скорбел. Ведь появление Длинноногих принесло много несчастий обитателям предгорий.
Все-таки он вознамерился успокоить Пятнистого, но неясное чувство побудило его оглянуться и посмотреть на равнину... Посреди топи барахталась пришелица!
Выражение его лица было достаточно красноречивым, так как Пятнистый скривился:
— Она?!
— Да!
— Она... идет к нам? — он говорил с трудом, делая паузы.
— Вовсе нет. Пришелица идет к спящему чудовищу.
— Что?! — умирающий вздернул голову. Добавил тихо, — это конец.
«О чем он?» — подумал Шиш, Но Длинноногий продолжил сам:
— Людям Камня нужно срочно убираться из стойбища. Бежать, и бежать как можно дальше... Видимо, Длинноногая догадывается, что... Что я не погиб... там, на болоте. Теперь она не остановится ни перед чем. А все... проклятый нож! — Обостренное восприятие подсказало охотнику, что нож, скорее всего, — удивительное рубило. — Все чертов нож...
Пятнистый охнул. Уронил голову:
— В свое время я подстроил так, что был ликвидирован жених Длинноногой, подругой которого она хотела стать. Ее жених... Он — внук трижды проклятого вождя Длинноногих, Велеса. Благодаря Велесу нас превратили в ничтожество.
Две мутные слезинки сползли из глаз к вискам умирающего:
— У Шиша мало времени, но я успею доказать... Теперь я многое вижу иначе. Преступления деда не имели отношения к внуку. Тем более последний, как я понял задним числом, был человеком порядочным и несчастным. Я же принял участие в его убийстве. У нас такое называется — содействовать «осуждению». Все непотребное у нас именуется пристойными словами. Назови подлость иначе, и она вроде бы перестает быть подлостью...
Он помолчал.
— Но... мой нож остался в убитом. Хотя и без этого рано или поздно Длинноногая сумела бы вычислить виновника-трагедии. Она пыталась отравить меня… уже здесь. Тогда я подстроил западню ей. Но... в провал свалилась другая. Мне надо было остановиться еще тогда и честно объясниться с Длинноногой... Зло — не метод. Оно бьет вслепую, попадая в невиновных... Но я спрятался. Выслеживал ее. А выследил... Позднюю Луну.
Глаза Пятнистого закрылись, хотя сознания он не потерял:
— У меня началась гангрена. Зрение подвело... Уже всадив нож, я увидел, что ударил не того... не ту. Мы, Длинноногие, обрекли себя на жестокие игры: то в самобытность, то во всеобщее и поголовное равенство, то в национальное достоинство и имперское величие, то в монолитное единство народов, наций и племен. В любой из игр непременно возникает необходимость в направляющем стержне — системе, аксиома которой — лидерство, вождизм и — как итог — бесправие. За цветом кожи, за языками и наречиями, за помпезностью государственной структуры, за преклонением перед вождем, или, напротив, за восторгами перед совершенством демократической структуры мы не осознали одного — первичен сам человек, уже рожденный быть человеком. Эгоизм и стадность! Стадо может быть большим или маленьким. В ином случае оно низводит личность до положения животного, поэтому права личности не должны быть ниже общестадных. Права отдельного человека не могут быть выше стадных, ибо тогда восторжествует эгоизм...
Похоже, умирающий бредил. Шиш более не понимал его. Потому, оставив Пятнистого, он побежал к стойбищу. А покинутый им Длинноногий продолжал шептать:
— Человек, семья, социальная группа, народ — каждое из этих понятий — аналог личности. Личности с идентичными функциями и правами... Итак, я подаю иск — Пятнистый против государства Длинноногих! Выигрывает Пятнистый...
* * *
Людская вереница тянулась по распадку.
Женщины с большими корзинами за плечами походили на горбатых животных. В корзинах поверх скарба ныли сосунки, требуя материнской груди. Их кормили на ходу. Соленая влага выступающая на коже, мешалась с молоком, попадала в детские рты. Младенцы кидались в рев, воротили нашлепки носов от горько-соленого кормила.
Вождь глянул через плечо. Над предгорьями полыхало небо. Лес и камень корчились в судорогах. Тяжелый дым поднимался над хребтом, лип к горам, вытягивался цепью гигантских грибов, сотрясая материковый грунт. По всей площади предгорий пылали деревья, оплавлялся гранит, огненными комками метались птицы и звери. Столб пепла крутился на месте стойбища. Черный пепел и рои огненных пчел осыпали шалаши Живущих За Рекой.
Шиш представил себе участь Расщепленного Кедра, брошенного в лесу. Подумал о страшном конце Пятнистого, если пришелица не успела прикончить болезнь.
Мужчины, которые несли Тонкое Дерево, остановились. Юноша поднял измученные глаза. Шиш встретил его взгляд виноватой улыбкой. Великодушие вернулось к вождю: он снова был победителем, в очередной раз перехватив злых духов. Он снова был прав. Вождь обязан быть правым всегда.
Он сменил руку, удерживающую копье. Приподнял брови. Новый толчок подстегнул людей. Увесистый обломок, скалы пролетел над их головами. Передовые охотники взяли выше, уклоняясь от камнепада.
Пришелица, сидя в рубке с отрешенным лицом, наклонилась к пульту и утопила пурпурно-красную клавишу... Предгорья взорвались, Неистовый жар отразился от склонов, пал на болото. Занялся пересохший торф...
Вождь подержал на весу рубило пришельцев, завернутое в сурчиную шкурку, и, будучи устыдившись чего-то, сунул его в глубокую трещину скалы. Подвел черту: «Табу!»
Люди Камня двигались через горы. Начиналась большая подвижка племени.
Конец второй части.
Часть третья. ПОД ПЕПЛОМ
«Не все ли равно что я делаю.
Спросите, что я думаю».
И снова прошли дожди.
Здесь высоко в горах водяные струи были особенно густы, прозрачны и упруги. Это верно оттого, что, зародившись в чистых высотах, они пронизали разреженный, светлый от бездымья и малого количества пыли горный воздух.
Вода падала с неба, прыгала со стен ущелья, студеными пенными клочьями выплескивалась с поверхности речушки, грязными фонтанами выбивалась сквозь плетение подошв...
Он шел по скользкому от влаги камню, то и дело остерегая остальных. Уже виделся противоположный, похожий на темно-голубую прореху, конец ущелья. Уже вздохнул и перестал постанывать на носилках Тонкое Дерево. Уже Лесная Курочка, не стесняясь вкрадчивых взглядов молодых охотников, в очередной раз обнажила полные ягодицы и отжала травяной подол. Уже.... но тут Шиш оскользнулся.
Сильный удар затылком о гранитный уступ едва не порвал связки на шее вождя. И дождь, и ущелье исчезли из его глаз...
Когда он вновь разлепил веки, перед ним была шершавая поверхность стены, залитая багровым светом. Дождь стих. Теплый ветер со стороны долины успел просушить одежду и слипшиеся от крови волосы на голове. Тепло от костра согревало висок. И хотя он не видел самого пламени, все же сообразил, что костер разложили опытные руки: огонь не давал дыма, а свет от пламени не колебался. А впрочем, с чего он подумал про ветер? Кожа лица не улавливала тока воздуха. Он расслабленно смежил веки и задремал...
* * *
За окном что-то охнуло, следом раздался вскрик. Если бы Светлана не слыхала раньше, как постанывает на ветру засыхающий тополь, она подумала бы, что снаружи мучается живое существо. Но и зная про старое дерево, она сменилась в лице и поспешно перекрестилась.
Заметив замешательство жены, Павел улыбнулся. Улыбка его вывела супругу из равновесия.
— Ты можешь хотя бы минуту не щериться?
Умышленная грубость сделала его серьезным.
— Ну... чего?
— Ох, прекрати! Все люди как люди. Один ты…
— А что я? Работаю как и все.
Теперь улыбалась она, однако улыбка ее не предвещала ничего хорошего:
— Да уж вы работаете! Ты да твой Максим. Скупаете мед по 120 рублей за килограмм и продаете по 140. Пред-при-ни-ма-те-ли!
В нарочитой рассеченности последнего слова чувствовалось бешенство. Он, пожалуй, мог бы возразить, но предпочел не обострять ситуацию, Находясь в подобном состоянии, любое мужнино противодействие она принимала за оскорбление. Тогда с ней случалась истерика. А истерик он не переносил, как и всякий уважающий себя мужчина.
Впрочем, с некоторых пор уважать себя Павел как раз перестал. Угораздило его связаться со Светиной! Все чаще случались моменты, когда он с сочувствием думал о своем предшественнике, исчезновение которого потрясло поселок. И если бы только поселок...
Арест, а затем и бегство Пархомцева, когда вместе с ним пропали все те, кто его арестовал, вызывал ряд других загадочных исчезновений. Будто сквозь землю провалился участковый Жапис. Не показывались больше ни Валерик, ни его блудная мамаша. Однако огорчительней всего для посельчан была пропажа молодой и покладистой продавщицы.
Светлана в случившемся винила только Пархомцева. Хотя было видно, что в глубине души она не верила в законченную преступность его натуры.
Сам Павел относил жуткие события того лета на счет крупной, хорошо законспирированной банды, двумя членами которой, по его мнению, являлись оперативники и следователь, производившие обыск у Ростислава. Такие крепкие мужики за одну ночь могли ликвидировать целую улицу народа, да еще успели бы перекидать заготовленную ими кучу покойников в реку. А там и концы в воду! Нет, не напрасно приехавший из города «настоящий» следователь «копал» под участкового и своих липовых коллег.
* * *
В автобусе было как всегда. А как бывает всегда? Да никак.
Кузов автобуса приседал, дребезжа на поворотах, точно жестяной короб.
Внутренности двигателя хрипели, взлаивали от полупереваренного дурного горючего, обдавая обочину сизо-черной отрыжкой.
От автобусных выхлопов чернела придорожная трава.
Через люки вверху кузова мелко сеялась едучая пыль. От нее зудело тело, раздражалась слизистая глаз, обесцвечивались краски переводных картинок, густо-налепленных та перегородке между салоном и кабиной водителя. Содержание картинок хранило верность «застойному» периоду, судя по «соцреализмовскому» колориту, и в большей части своей пыталось воспрепятствовать экспансии СПИДа и маковых головок, пронзенных иглой шприца, по объему не уступающего кружке Коха.
Содержимое салона казалось плотным на глаз, и было таковым на ощупь. На остановках люди входили и выходили, они втискивались, ввинчивались, вклинивались в неподатливую массу, просачивались вглубь, оседая где-то в районе задней стенки, а потом исчезали вовсе, где-то за пределами автобуса. Непрерывная диффузия мятых человеческих тел казалась тем удивительней, что не работала задняя дверь; насыщение салона содержимым должно было с минуты на минуту достигнуть предела, но так и не достигало.
— К чертову куму вас, с вашей вежливостью! — невысокая тетка с багровым лицом, перечеркнутым оранжевой полоской напомаженных губ, тянулась свободной рукой к поручню. Дюралевая труба в двух местах выдранного с мясом поручня гуляла над головами, пачкала влажные ладони и угрожала целостности головных уборов. — Дармоеды зряшные! Всю жизнь над народом измываются. Болтают, болтают, а чего?
Высокая тулья велюровой шляпы нервно колыхнулась. Рыжеусая траченная молью физиономия повела горбатым носом:
— Трудиться надо... работать... А болтунов и демагогов призвать к порядку. Цэ-э-э...
— Во-во-во! так ты первый болтун и есть! Надоело. Ох, надоело! Всю жизнь трудимся, а чего? Мать моя с сумкой ходила... Я цельные дни хожу... Еще и дети мои ходить будут. — Она пыталась продемонстрировать эту несчастную сумку, дернула локтем — объемистая авоська не подалась. — И-и-их! Как были они богатые, так и останутся. А мы...
Прилипший к теткиной спине господин встрял усмешливо:
— Евреи, мать, виноваты. Да еще хохлы, да всякие инородцы. От них вся горечь.
По салону прошла волна. Двое молодых людей, царапая пассажиров широкими пряжками поясов, пробивались к господину.
Дрогнуло, прорезало толпу сизое сукно шинелей. Прокололи спертый воздух насупленные под яркими кокардами карие глаза. Реденькие щеточки волос под носами молодых людей ощетинились.
— Господин-товарищ чем-то недоволен? — спросил один из них другого.
— Господин-товарищ плачет по идиш, Володя, — грустно ответствовал тот.
Автобус стих. Жестяное бренчание кузова оборвалось на высокой ноте и замерло. Тетка, проклинающая сумку и болтунов, присела ниже. Велюровая шляпа плавно повернулась из стороны в сторону, туда и сюда, со спокойным любопытством взирая на окрестности.
Молодой человек по имени Володя вплотную приблизился к любителю иронических интонаций.
— Почем нынче держава у господ из Сиона? А может «Ще не вмерла?..» — голос сурового Володи подрагивал как подрагивает перетянутая струна в ожидании рвущего душу прикосновения. Господин-товарищ досадливо наморщил лоб:
— Дурачье! И откуда вы беретесь... такие? — Молодые люди насторожились. Испытующе уставились на говорившего. — Да уже и не осталось в стране ни немцев, ни евреев. И что с того? — Он прищурился. — Ваша братия довольна поди. Как же, рай наступил.
— Кабы... — Володя сплюнул через плечо.
Кто-то робко возмутился плевком. Но затем утерся молча.
— Если бы всех, извели. А то ведь: евреи по убеждению опаснее, чем евреи по крови.
— Лихо! Лихо, молодой человек! Красиво завернули. Только как же вы станете выявлять этих «убежденных» евреев? Метка какая на них проставлена? Или будете их... по запаху... вынюхивать? Может, прибор какой имеется по выявлению?
— Проще, мужик. Все гораздо проще, — открыл рот Володин напарник. — Мы их будем... как тебя сейчас — по языку поганому, масонскому.
Рука Володи дернулась снизу вверх. Господин-товарищ удивленно опустил глаза. Охнул. Лег спиной на пассажиров, дрожа всем телом и прикусив губу. Минуту спустя, по подбородку струйкой пролилась кровь.
— Ох ты! — до смерти перепуганная тетка рванулась к полу, но заклинилась в плотной толпе и повисла, поджав ноги, обморочно поводя зрачками...
Почуяв неладное, водитель вогнал педаль «ножника» в коврик пола. Приоткрыл дверцу, высунул, голову. Заостренная с конца монтировка выжидающе повисла в воздухе.
Тем временем в салоне нарождалась истерика: пассажиры пробивались к дверям, вминая груди и животы в преграждающие путь тела. Кто-то противно взвизгивал. Нервный парень студенческого возраста, скрипя тужуркой, лез к аварийному выходу. Резиновая лента не давалась, а разбить стекло было нечем: спецмолоток лежал в кабине под водительским сиденьем.
Наконец проход освободился. Пассажиры горохом просыпались из автобуса. Люди спрыгивали на землю, по-заячьи отскакивали в сторону.
«Полиция!!!»
Молодые люди в шинелях споро, но без излишней спешки, проследовали за угол, шаг в шаг за хозяином велюровой шляпы. Лица их были безмятежны; они не оглядывались, будто приключившееся касалось кого-то другого, но никак не этих молодцеватых ребят, туго перетянутых ремнями, четко, со стуком ставящих ногу.
И только потом от вестибюля пятизвездного «Аквариума» показались фигуры муниципальных полицейских, выскочивших на шум.
...На грязном полу салона растоптанной лягушкой лежал зарезанный. Вооруженный монтировкой водитель тянул шею, заглядывая поверх перегородки в салон. Опамятовавшиеся пассажиры готовились давать показания...
* * *
Супесь не уступала лопате; пришлось взяться за лом.
С помойной ямой Павел тянул достаточно долго, так что на этот раз жена завелась всерьез. Вроде бы нехитрое дело — метр на метр, и два двадцать глубиной, но он все откладывал и откладывал, подумывая, а не нанять ли кого. Так продолжалось с месяц. В конце концов он решился; и теперь натирал мозоли, проклиная жену, непривычную работу, а заодно Максима, обещавшего помочь, да запропастившегося куда-то. Скорее всего, на ловлю тощих пескарей, которые прятались под камнями между осклизлых свай сгоревшего в последней заварухе моста.
Ну, новый мост, в общем-то, отстроили быстро. Не в пример старому. Хотя и по новому мосту движение не ладилось; взявшие подряд фирмачи, по слухам, чересчур старательно экономили цемент. В результате этой экономии опоры моста непрерывно «линяли», не держали проектной нагрузки. По поводу моста разразился легкий скандал. Фирмачам пригрозили следствием, как выяснилось позже, судить было некого. Фирма оказалась подставной, ответственные лица оказались неответственными. Нити аферы дотянулись до губернских властей и... оборвались.
Зато на окраине губернского центра, в гуще кедрача, вдруг обнаружилось с полдюжины свежеотстроенных коттеджей...
Навязался ему этот мост! Тут от собственных забот голова раскалывается... Досадуя, Павел замахал ломом... Не то на седьмом, не то на восьмом ударе лом высек искру. Он ударил сильней — из-под бойка вылетел целый сноп искр, а звук был такой, словно он бил по чугуну. «Скальный грунт?!» — его глаза налились кровью. Угораздило же копать в самом углу двора. Выгадал называется. Он постарался успокоиться; расставил пошире ноги и стал зачищать яму.
Там, где лом нащупал препятствие, лопата скользнула. Он наклонился — черной проплешиной среди желто-бурого грунта виднелся металл. Что это был металл, а не камень, было понятно по характерному, блеску и особенностям фактуры черной поверхности... Ноги землекопа ослабли: «Клад!»
Через полчаса по всей площади дна вскрылся металл. Края толстой, не тронутой ржавчиной пластины уходили далеко в грунт под отвесные стенки. Это не могло быть горшком или крышкой сундука, хотя блестящая плоскость имела явственную кривизну. Сложная конфигурация плиты не вызывала знакомых ассоциаций...
Озадаченный землекоп прекратил работу.
Тщательно изучив находку, он сделал еще одно, пожалуй, решающее открытие: в том месте, где пластина круто загибалась вверх, вырисовывалось углубление правильной формы, плотно забитое песком. Резкий солнечный свет, попадающий на эту часть пластины, скрадывал мелкие детали, однако и без них было ясно, что пластина представляла собой не просто изогнутый лист, но была элементом какой-то крупной конструкции или механизма. Какой? — В этом еще предстояло разобраться.
Туго запрессованный песок не желал поддаваться. Павел сломал о него ноготь указательного пальца. Для дальнейшей работы требовалось нечто твердое и острое. Пришлось вылезать из ямы и пойти в дом.
Так уже водится: когда ищешь одно, на глаза попадается что угодно, но только не искомое. Он отлично помнил, где лежала отвертка, сейчас ее там не оказалось. Наконец, отвертка нашлась; он мог бы голову дать на отсечение, что в сервант ее засунула Светлана. М-да, опять она. Точно таким же был и ее отец. Тестя, слава богу, вовремя черти прибрали...
Павел сознавал всю несправедливость своих придирок к жене. Как ни говори, а «не дядя дал, сам взял». Да и тесть, вроде бы, ни при чем. Только Павел терпеть его не мог.
Незадолго до своей кончины Светланин родитель принялся чудить. Он и так-то был... не очень. А вот в последние месяцы спятил окончательно. Каковой факт признала даже родная дочь.
Перво-наперво тесть вырубил сад. Да-да, тот самый сад, который и раньше давал доход, а теперь, в условиях свободного предпринимательства, когда каждый разумный человек делал деньги из воздуха, мог просто озолотить. Лихой старик не, посчитался с наследниками. Вырубил под корень груши и яблони, сливы и вишни, предварительно повалив добротный забор.
С забором вышла отдельная история. Вся округа сбежалась смотреть на костер из крашеного теса. На невиданной высоты пламя примчались «пожарки». Примчались напрасно, так как чокнутый тесть караулил костер с ружьем в руках. Он не подпускал никого, караулил до тех пор, пока от бывшего забора не остался один пепел.
Сумятица с садом закончилась чувствительным убытком для супругов. Ружье у тестя изъяли. А ведь какое было ружье! Нынче подобную двустволку бельгийского производства, с вертикальным расположением стволов и инкрустированным ложем, при всем желании нельзя достать даже за валюту. Помимо конфискации муниципальные власти наложили на преступного родственника штраф «за пользование открытым огнем на территории населенного пункта». Тесть от уплаты штрафа отказался наотрез. Дабы избежать большего позора, требуемую сумму внесла Светлана.
Эх! Кабы на том все кончилось. Ведь чуяло у Павла сердце — не будет от переезда толку. Уже оттого не лежала душа, что родом отсюда был Ростислав — первый Светланин муж. Убегая от одного худа, набежишь на кучу лиха. Так оно и получилось...
Где-то через неделю тесть украсил калитку орденами и медалями. За любую из его медалей коллекционеры могли предложить пачку червонцев. Тесть же, пользуясь кратковременным отсутствием дочери и зятя, поприбивал почетные знаки к калитке, а к вечеру помер. Уже после смерти он подложил безутешным родственникам самую большую «свинью»...
Накопленный им более чем за полвека капитал оказался упакованным в промазученные наволочки, лежавшие на постели вместо подушек.
Подушек «с начинкой» отыскалось пять штук. Судя по степени загрязненности каждой из них, старик, спал на всех пяти подушках сразу.
Павел распарывал наглухо зашитые наволочки под присмотром дышавшей ему в ухо Светланы, а из наволочек сыпались и сыпались деньги. Вскоре на кровати образовалась метровой высоты груда банкнот. Здесь были: государственные казначейские билеты выпуска 1947 года достоинством в пять, десять и сто рублей; пореформенные «трешки» и «двадцатипятирублевки», отпечатанные после января 1961 года; «пятисотки» и «стотысячники» постперестроечного периода; боны и билеты однодневных коммерческих банков; платежные обязательства и сертификаты временных государственных образований номиналом в двадцать пять тысяч и миллионы рублей... Здесь было все. На глаза Павла попались ассигнации Бийского земельного банка, просуществовавшего в общей сложности четыре дня и растворившегося в воздухе на пятый, вместе с уставным капиталом в полтора триллиона «кремлевок». Единственное, чего не было в тестевых наволочках — конвертируемой валюты, имеющей хождение в настоящее время. Похоже, Светланин отец не признавал денежных реформ. Он год за годом набивал в подушки все новые и новые ценные бумаги, поверх уже обесценившихся. Таким образом, коночный капитал покойного на момент обнаружения «подушечного» клада равнялся нулю...
Павел проклял и предал забвению тестя. Но сейчас, когда сделанная им самим находка могла обернуться сокровищем, «подушечная» лихорадка вновь загуляла в его крови.
Руки Павла тряслись. Дважды отвертка ускользала от пальцев и оба раза он долго шарил по полу, прежде чем нашел ее.
Отвертка продолжала «плясать» и в яме. Он тыкал ей, попадая мимо углубления.
Песка оставалось на четверть, когда дело опять застопорилось. Он залез в образовавшуюся дыру пальцами. Поскреб, ухватил большим и указательным пальцами щепотку твердых крупинок... Трудную операцию пришлось повторить. Внезапно сильная боль пронизала руку. Показалось, будто кожи коснулись оголенные жилы высоковольтного кабеля.
Павел вскрикнул, откинулся назад.
Электрического ожога не оказалось. Правда, закровила ранка от сорванной заусеницы, но с этим можно было мириться. Землекоп хотел подняться с колен, как тут же остолбенел: выпуклая часть металлического листа рывками поднималась вверх, раздвигая более чем метровую толщу грунта... Целый пласт земли обрушился на Павла.
* * *
— Держи-и-и!!! Уплывает! Держи подобру, черт Копченый!
Крупная, с локоть, травянка изогнулась упругим телом, просверкнула серебром над неводом — посреди затона брызнула…
— Тьфу! Ушла... Прижимай низ, прижимай...
Дюжина острорылых, отливающих зеленью рыб сидела в ячеях...
Обирая невод, Володя продолжал кипеть:
— Задохлик косорукий! Трудно было низ придержать?
Темнолицый, редкозубый, сморщенный, как печеное яблоко, —Копченый добродушно скалился, показывая синюшные десны,
— Ну черт и черт! Чебак снулый. Спустить бы тебя башкой в яму...
— Не вяжись к Копченому. Ишь, холерик, нашел крайнего. Что сам-то губами шлепал? — крепко сбитый Потомок игриво пошлепал Копченого по костистой спине. — Он у нас ничего... Он еще пригодится. Так ведь, чудо природы?
Старший среди рыбаков перестал изучать собственные мохнатые от смоляного волоса ноги, отряхнул закатанные до колен штанины, пытливо воззрился на спорщиков.
Не замечая этого, Потомок продолжал:
— А кого-чего... Расскажи-ка нам, Копченый, про первую любовь. Как там у тебя? Ты вообще-то по всем видам — ходок! Наверно, и сейчас...
— Цхэ-э-э, — дал знать о себе горбоносый рыбак.
Смутившийся Потомок заюлил:
— А что я, Отец? Я просто так. Поинтересовался. Лично мне... ба... Все равно мне.
Глаза горбоносого сделались жесткими; потемнели.
Пугаясь их, Копченый отодвинулся к Володе, а тот и сам оробел.
И чего они пристали? Он не сделал им плохого. Честно разобраться: щучка ушла не по его вине. А с любовью... Копченый расплылся в жалкой улыбке. С любовью что-то было. Когда-то.
...Он поперхнулся крепким чаем. Выкатил глаза. Смех лохматой метлой забегал по зимовью. Мирза валенок, кожей туго «обсоюзненный», уронил, скривил гладкое лицо, пряча улыбку. Рыжий, дурачась, покатился по нарам в дальний стылый угол. На его заголившейся смуглой спине пестрела нескромная живопись.
— Во отломил, стиляга... — Чешет, забодай его!..
Бригадир оторвал голову от сложенного подушкой ватника, пихнул Рыжего коленом и обалдело уставился на хохочущих:
— Чего зашлись, на ночь глядя?
Рыжий вновь затрясся припадочным смехом. Начал объяснять — сам черт не поймет:
— У этого... письмо... хе-хе-хе! Ну уморил делец... это ж... «человек-человеку» такое... ой, сдохну!
— Кончай — отрубил Богданов. Поискал досадливо взглядом. — Валерий, кого приключилось-то?
Мирза, более не в силах таить улыбку на спелых губах, сощурил глаза. Пояснил:
— Малой письмо от девахи потерял... Я гляжу немного, красивая бумага валяется. Какая бумага? Почему? Документ может? Говорю Рыжему, посмотри, мол, чей бумага.
— Дураки! — взорвался студент.
— Почему дураки? Я в вашей грамоте сильно мало разбираюсь, а «человек-человеку» — грамотный, — сильнее сощурился татарин. — Вот все тело у Рыжего исписанный — значит, грамотный.
Рыжий хихикнул, а Мирза продолжал как ни в чем не бывало:
— ...Рыжий бумагу прочитал. Тут он пришел, нам весело стало.
— Говорю — придурки лагерные, — долбил он свое но уже без прежней досады в голосе. Резво прыгала по стене его тень, пугала копотный язык десятилинейки, так что сплевывала лампа густой сажей поверх стекла и стреляла крупной солью в залитом соляркой пузатом брюхе.
— Я у Рыжего письма не читаю... А он зачем?
Богданов сморщился. Сел, хмыкнул, вникая в суть происходящего:
— Ну, у Рыжего читать нечего. Ему только судоисполнитель депеши шлет... И все насчет алиментов...
— Во-во, опять, — зашебуршился Рыжий. Но поймал колкий взгляд небольших бригадировых глаз, глубоко утопленных на комковатом лице, и заюлил.
— Ты, Богданыч, послушай лучше, чего ему пишут-то. Прям, как в кино... Я с ходу запомнил.
Он покосился на привставшего было парнишку, улестил, будто кума за бутылкой:
— Да не для смеху я... У нас же интерес: больно занятно начирикано: какая она — любовь-то?
Прикрикнул:
— Чего жмешься? Тут чужих нет. Одну лесину на всех обнимаем.
Прокашлялся:
— А письмо так: «Дорогой петушок!» — выдохнул судорожно. — Гля, тоже не орел, а... петушок. .
Зачастил:
— Дальше значит: «Называю тебя так, ну ты знаешь почему. Я много думала над твоими словами. Помнишь, в тот вечер, у нас в Песчанке? Вовсе ты был не прав: я над тобой не смеюсь. Зачем я буду смеяться, если ты мне тоже очень-очень нравишься. Девчонки мне говорят, что ты водишься со всякой шпаной и, вообще, грубый. Мол, и танцевать не умеешь, и все такое-разное. Ну и пусть они себе сплетничают. Вовсе ты не грубый, а наоборот. А те бородатые мужики, с которыми ты стоял у магазина, на бандитов ничуть не похожи. Один из них так вовсе приятный; глаза у него умные. Но и он, все равно, хуже тебя. Так что ты не думай, не злись, пожалуйста. Ведь я люблю только тебя».
Он слушал это письмо вместе со всеми. Конфузился и гордость его брала. Последняя встреча с нею грела его душу... Как она тянулась обнять его, долговязого, за шею, а сама в руки не давалась. Увертывалась, задираясь на каждом слове. Прятала под мохнатой варежкой светло-серые, будто кора осинки, глаза...
— Вот и говорю... — снялся с тормозов «человек-человеку», — ...шпана мы против нашего «петушка». И ты, Богданыч, шпана бородатая. Но вот кто среди нас такой приятный, с «умными глазами»?
Выпятил Рыжий грудь, заиграл:
— Вроде бы, я! А что? Вполне даже... Человек-человеку всегда... Или это Мирза приятный? Слышь, Мирза? У-у-у, собака глухой! — передразнил Рыжий татарина, но Мирза и ухом не повел...
Ржали в зимовье не охально, однако, с полным удовольствием. Много ли радостных минут в тайге, забодай ее комар! Летом: мажешь репудин на рожу, будто масло на хлеб, а легче не становится — лезет в кумовья кровосос, угрызает до сукровицы, доводит до остервенения. Так допечет, что пилу бы — в валежник, а самому — в костер, и гореть там с комарами до кучи. Зимой — тоже небольшая сласть. Под валкой, при ватнике, ползаешь мокрой мышью, пот от тебя, будто от загнанного мерина. А без ватника? Чуть остановишься — рубаха на спине льдом хрустит. Сядешь к костру — один бок дымится, другой в куржаке. Леший бы, паразит, эту тайгу ворочал! Загнала мужиков в тайгу нужда... на большие рубли. Душит лесорубов тоска на вечерней заре, когда обдаст по горизонту багровым и присядут, ежась в сумраке, елки-лапушки, на неласковый, заячьим следом простроченный, снег. Вьется, вьется печаль морозными кольцами вкруг души. Эх! Появился бы кто со стороны; тонкий да ласковый. Дал бы избитым пальцам лесорубов мягкое тепло, увел бы с угрюмого сивера за зимовье... Только нет никого!
Злобятся мужики на пустые мечтания...
— Все они сперва ласковые, — подытожил Рыжий. — Не верь девкам, «петушок». Потом каяться будешь, когда они бабами обернутся. Гля, твоя уже сейчас намеки строит: подружки говорят... то да се...
— Зря балачки говоришь, — заспорил Мирза. — Не надо, Рыжий, плохо про бабу говорить. Баба ребят рожает... Баба моет... Баба махан варит...
— Ага, сварит она тебе!.. Что твоя, Валеич, тебя не грызет? Особенно, когда забутылишь?
Закрутил Мирза головой, пожал плечами.
Зряшный спор прекратил Богданов. Ему хотелось спать. Натруженные суставы скребло рашпилем.
— Закругляйтесь! Кончайте болтать по-пустому. Делов-то. Ну пишет девка... Всем пишут. Замуж ей пора.
— Никак и тебе, бригадир, пишет какая? — усомнился Рыжий, открыл дурашливо рот, — Чо за баба?
— Тебе чего? Давай, вались спать! Вот если ты завтра на эстакаде будешь зевать, я тебе отпишу... тросом чокеровочным. Ты у меня с первым же лесовозом в город поедешь — любовь искать.
...Наутро лес валили истово. Мужики ломились от комля к комлю, путаясь ногами в валежнике, скрытом под снегом, цепляясь полотном бензопилы за упругое плетево багульника сминая спинами чепур — худосочные березки и осинки. Лесорубы кликали друг друга нечеловеческими словами. Вгрызались в стылую древесину сорокаметровых листвениц, соря коричнево-желтыми опилками. Рыдала тайга от набега. Шарахалась в стороны...
Он махал топором. Лезвие выбивало остекленевшее крошево сучков.
Ему было невесело и пусто, как на заброшенной лесниковой заимке. Скучно было. Муторно, словно с похмелья. Крыл он про себя и тайгу и мужиков, с каждым часом злобясь сильнее: на себя вчерашнего, на девчонку, написавшую ему какое-то дурацкое письмо...
* * *
— Копченый, уснул? Прячься! — Володя зло толкнул его в бок; уродливая голова Копченого моталась от толчков из стороны в сторону, будто приклеенная к тщедушному телу. После особо сильного толчка блаженный встрепенулся и открыл глаза.
— Тебе говорят, прячься!
Встревоженный Потомок был уже на ногах. Держа руку щитком у лба, он смотрел на проходящую параллельно реки дорогу. Только горбоносый рыбак хранил невозмутимый вид и неспешно зашнуровывал ботинки.
Осоловевший Копченый полез в гущу зелени, где привычно затаился. Со стороны замечалось, что прятаться ему не впервой, что не в диковинку часами отсиживаться в укромном углу, затаив дыхание, не смаргивая даже, чтобы не выдать себя случайным движением век. Теперь он распластался на земле, блеклый, совершенно неразличимый на фоне засохшего ила, под прикрытием серо-зеленых, ломких у основания ракитовых ветвей. Лишь спустя минуту он вздрогнул в ответ на оглушительный треск мотоцикла, остановившегося в двух метрах от его головы.
Старший полицейский остался в коляске. Он заспорил с Володей, но о чем — не было слышно.
Спор достиг кульминации, когда к мотоциклу подошел горбоносый.
Очевидно, обладатель рыжих усов пользовался влиянием, потому что после первых же его слов полицейский понизил голос, а в дальнейшем только кивал, соглашаясь и выражая раскаяние. Копченый заметил квадратик яркого пластика, перешедший от горбоносого к полицейскому и обратно. Походило на то, что квадратик этот в выяснении отношений особой роли не играл, а предъявлялся для пущего соблюдения формальностей.
Вскоре полицейский откозырял рыбакам, и мотоцикл затарахтел восвояси. Но Копченый продолжал лежать, ожидая команды на выход.
* * *
— Я вам конфиденциально заявляю: союз теряет терпение.
— Перебьетесь!
— Фу-ух, как грубо.
— Kак умею. Не забывайте, что союз — это я.
— Ну допустим, не вы. Это Он! Вы его присвоили, а нас хотите держать за идиотов. Только мы не потерпим. — Полный господин отодвинул бумаги на противоположный край стола. Щелкнул зажигалкой. Прикурил. — Вы расходовали наши деньги. Поэтому обязаны дать отчет. Вместо того, чтобы... — он покачал головой, — ...крыситься. И где только вы набрались этих хамских слов?.. Впрочем, с кем поведешься...
Развалившийся в кресле мужчина привстал:
— Где-е-е?! Слушайте вы, квашня! Что надлежало сделать мне, я сделал. Сделал потому что никогда не прислушивался к вам и вам подобным. Теперь, когда осталось совсем немного, приходится ждать. И ждать по вашей вине... га-а-спода предприниматели.
«Квашня»| искусственно оскорбился:
— Мы предприниматели поневоле. Свою часть работы мы выполнили столь же тщательно, как и вы. Профсоюзы Его поддержат...
Брови сидящего в кресле поползли вверх:
— Откуда подобная уверенность?
Настала очередь торжествовать полному господину:
— Профсоюзы — это узкий круг лидеров. Лидеры рано или поздно устают от контроля со стороны толпы и начинают делать собственную политику.
— Очнитесь! Они — заклятые демократы, эти ваши лидеры.,
— Вот и вы стали бояться слов. Какие они к бесу демократы? Уж коли можно жить в демократической стране при полном отсутствии самих демократов, то надо приветствовать такой вариант.
Собеседники взаимно раскланялись.
Владелец уютного кабинета, в котором на журнальном столике размещался компьютер (кстати, не подключенный к сети), а в стенных нишах размещались ряды досье, подосадовал вслух:
— Огрубели вы в компании ваших «мальчиков». Подозрительны сделались. Службу, к примеру, завели...
— О какой Службе речь?
— Бросьте! О вашей (не нашей же) Службе речь. О Службе Профилактики...
— Вы злоупотребляете овощами: от ваших Догадок отдает силосом.
— Зато ваше серое святейшество, похоже, пренебрегает витаминами. Подобная диета ведет к оскудению... серого вещества.
Он вперился в собеседника.
— Какое еще «осуждение» провоцируют ваши «мальчики»? В домино играете? С начала года союз потерял четырех полезных людей, и все из-за вашего идиотского «осуждения». Что собственно происходит?!
Сухопарый выдернул ближайшее к нему досье, из картонной кассеты выползло душераздирающее «Убийство под занавес». Человек сплюнул. Вернул досье на место. Извлек из тугого гнезда следующее — в руки ему попало последнее слово диктофонной техники. Нарядная пластмассовая коробочка ойкнула и рассыпалась. Сухопарый продолжил как ни в чем не бывало:
— Накладные расходы — это «полезные люди». Непредвиденные издержки, говоря вашим языком. А вот «мальчиков» припутываете зря. Надо верить в инициативу масс.
— Подите в... с такой инициативой! Предупреждаем: или прекратите несогласованную с союзом самодеятельность, или... Не в школе, сами понимать должны.
— Понимаю. — Он подошел к окну, показав негостеприимному хозяину узкую спину. — Ты ведь врешь насчет своей идейности. — Переход к «ты» был оглушителен, оконное стекло, в которое как в зеркало смотрелся сухопарый, казалось, треснуло. — Ты врал всегда. Тебе не Идея была нужна, а поддержка, охрана. Чтобы ты мог сколачивать капитал, не опасаясь конкурентов. Первое время тебе требовалась защита от рэкета. И не от рэкета вообще, но от «мальчиков», которые могли пощипать твой карман. Позже ты настоял на «э-э-э, игнорировании», — он передразнил хозяина кабинета, — на «игнорировании» тех людей, чьи должности угрожали, опять же, твоему благополучию. И так все годы...
Пока полный господин зачарованно слушал обличительную речь, дверь кабинета беззвучно отъехала в сторону. В помещение вошли двое.
Глаза вошедших хранили то дерзкое выражение, с каким «авторитеты» встречают в камере новичков. Один из «дерзких» на ходу расправлял в руках что-то тонкое и гибкое, напоминающее гитарную струну. Второй, в черной кожаной куртке, мягко улыбался, извлекая из кармана сложенный вдвое лист плотной чертежной бумаги...
«Следует предпочитать невозможное вероятно возможному, но мало вероятному».
«Сознание наготы возникает лишь у того, кто видит себя нагим».
Наверно, Павел свалился бы в разверзнувшееся под ногами отверстие, когда б не земля, обрушившаяся на него: толстый пласт грунта площадью не менее квадратного метра заклинился меж стенок вырытой ямы, придав землекопу устойчивость.
Ему бы испугаться, закричать, позвать кого-нибудь, а он замер от неожиданности. В таком пригвожденном состоянии Павел пробыл около двух минут. За эти сто с лишним секунд он разглядел верхний край самой обыкновенной, судя, по всему, дюралевой лестницы, ведущей вниз, в пустоту, начинающуюся за срезом люка. Тут же виднелся поручень, служивший дополнительной опорой при спуске и подъеме по крутому пролету. Лестница не отличалась изяществом отделки, скорее, являлась продуктом серийного производства: местами рифление рабочей поверхности ступеньки было слабым и вызывало впечатление большой поспешности при обработке. Он не брался гадать, как выглядела часть лестницы, которая находилась вне его поля зрения, только видимый ему кусок хранил чей-то неряшливый след: сизовато-белые отпечатки грязной обуви.
Сознание того, что люк служил входом для человеческого существа, помогло Павлу сохранить благоразумие. Левой рукой он уперся в противоположную стенку ямы (если быть точным, в сохранившийся кусок ее) и налег животом на заклинившийся пласт... Куски черной, пронизанной корневищами трав, земли, с шумом просыпались в люк, засыпав ступеньки лестницы.
Плотное тело Павла неловко вошло в проем.
Он опустился до плеч, когда его вдруг осенило, не совершает ли он ошибки? Как бы позже ему не пришлось пожалеть о своей импульсивности. Кто знает, что это за люк? Может, это вход в преисподнюю? Копая яму, он не заметил ничего особенного, никаких нарушений в слоях глины и супеси. Разноцветные слои были девственно нетронутыми. Сколько ж лет пролежало похороненным здесь это загадочное сооружение?! Он порылся в памяти, отыскивая крохи известных ему сведений о возрастах осадочных пород, и ужаснулся: счет шел на десятки и сотни тысяч лет. Возможно, он заблуждался. Возможно, срок был на один-два порядка меньше, или более того; но все равно ему было страшно. Спину его сковало холодом, тогда как лоб и шея взмокли. Он подтянулся на руках и мячиком выпрыгнул из ямы.
На дворе за эти минуты ничего не изменилось; так же, боком-боком, перескакивали по бетонированной дорожке воробьи, выцеливая черными дробинками глаз не им предназначенные крошки: где-то у самого забора на меже стрекотала кобылка; редко взлаивали шины на дороге; иногда их лай переходил в визг и тогда за дворами вырастал столб пыли... Павлу сделалось обидно за свой испуг. Но нет худа без добра, задержка пошла ему на пользу. Ну что бы он делал в подземелье без фонарика или свечи? Хорошо, если там мелко и лестничная жуть сразу же завершится камерой. А вдруг...
Вскоре подневольный землекоп, преобразившийся в кладоискателя, спускался вниз, оснащенный круглым фонариком, острым ножом кустарной работы, которым забивали свиней, и полиэтиленовым пакетом с ручками и рисунком на тему: «Курортный бизнес — это ваше процветание. Вкладывайте миллионы в окрепшее здоровье сограждан и будете здоровы сами».
За время подготовки, тысячелетней выдержки подземельная атмосфера успела освежиться, отчего дышать, против ожидания, было легко.
Внизу горизонтальный ход «подземелья» открывался сразу в двух направлениях. Не раздумывая, он пошел вправо.
По коридору, в боковых ответвлениях, в тесном, заставленном мебелью и оборудованном помещении, попадались надоедливо-привычные предметы. Необычное кончилось на границе между верхней ступенькой лестницы и нижней прослойкой супеси. Хотя назначение иных щитов, скрытых выпуклым кожухом коммуникаций и прочей дребедени определить органолептически не удавалось — все равно это были вполне земные вещи...
Возвращаясь из тупика к входному люку, он услышал шаги. Кто-то невидимый шел впереди. Звуки шагов раздавались тем отчетливей, чем уже делался проход: цельнометаллические стены отражали звуковые волны, многократно усиливая их. «Шлеп, шлеп». И снова: «Шлеп, шлеп...» Словно крадущийся призрак носил шлепанцы на босу ногу.
Слева за поворотом коридор расширился и перешел в довольно кубатуристое по здешним масштабам помещение. Перед входом в него «шлепанцы» зашагали быстрее.
Павел остановился. Звуки шагов затихли. Он поднял и опустил ногу. Нога коснулась пола, и тотчас впереди с незначительным запозданием отпечатался шлепок. «Лихая акустика!» Он стыло передернул плечами.
Просторное помещение могло сойти за аудиторию захудалого института, когда бы не богатый приборами, но порушенный пульт вместо кафедры. Павел ковырнул ногтем оплавленный пластик — пахнуло пережженным карболитом. Чуть ниже, у основания пульта, латунно поблескивали вопросительные знаки ручек. Стоило потянуть одну из них, как из стены показалась полость выдвижного ящика.
Содержимое ящиков заставило его присесть. Отдыхая, он перевел глаза поверх пульта и... всхлипнул — прямо на него холодно смотрело две пары глаз. Женский портрет был фотоснимком. Верно, потому он уступал по выразительности мужскому, который представлял собой портрет-рисунок.
Портреты понравились Павлу. Но это было первое впечатление; уже через минуту он решил, что излишняя хрупкость женских черт не сочетается с капризным изгибом ее полных губ.
Со вторым портретом дело обстояло сложнее. Чем дальше, тем больше он напоминал кого-то, ч6удто сквозь карандашные линии рисунка проступало живое лицо, каждую деталь которого Павел знал наизусть, но вспомнить которое ему мешало подсознание. Павел снял портреты со стены, сунул их в пакет.
* * *
В халупе Копченого завелись злыдни.
Злыдни были небольшими, но довольно вредными. Они не походили на людей, ни на фунт с осьмой; скорее, являлись существами иной породы, нежели прочие обитатели земли. Не было у них ничего общего и с домовыми. С последними Копченый встречался, их повадки напоминали Хохрика; кот не меньше домовых любил молоко, к тому же, в нем замечалась типично кошачья склонность к чистоте. Правда, Володя и Пасынок клеймили кота, если пропадало что-нибудь вкусное. Побывали бы они в его шкуре! Разве Хохрик — Христос, чтобы распинаться за чужие грехи?
Нет. Злыдни, определенно, не приходились сродни ни домовым, ни коту. Они не чистили зубы солью, как это делали домовые. Они не мылись и не вытирали ног, входя в избушку. Хохрик, прежде чем развалиться на единственной в доме кровати, брезгливо вытирал о наволочку дегтярные от сексуальных скитаний по угляркам, чердакам и влажному перегною лапы. Вообще-то, у Копченого и к коту имелись кой-какие претензии: ярко-рыжий, в темную полосочку зверь большую часть суток шлялся по соседям; дома кот лишь спал и отъедался. Защищая блудню от нападок Пасынка, Ростислав однако держал в уме, что Хохрик действительно тащил со стола не только то, что плохо лежало, но и все, что лежало хорошо, но недостаточно надежно.
Наконец, домовые-домоседы. У них нет назойливой привычки шляться по гостям: мы-де к вам, вы-де к нам. Да и не сильно. разгуляешься на их месте — в одной мохеровой шапочке да безрукавке на голо тело.
— Пасынок в домовых не верил. Здесь его радикализм пасовал перед махровым консерватизмом. Он издевался над рассказами Копченого с жестокостью, не снившейся отцам-инквизиторам: «Чечка с гречкой! Гольный обман... Ну и жук ты, Копченый! С таким рядом постой, карман будет пустой». Само собой разумеется, куда Пасынок, туда и Володя. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
В-общем, завелись на подмандатной Копченому территории злыдни. Обычно неуступчивый кот перед ними капитулировал, отступился от покраж, забыл про уютную кровать; вытеснился, подвывая, на чердак, где приютился близ трубы.
Однако от лихой беды не спрячешься даже на чердаке. Нет-нет, да и слышится Хохриков визг. Судя по воплям, можно подумать, что кота заживо препарируют, снимают с него шкуру и набивают ватой вперемежку с пенопластовой крошкой. Но — поднимется Копченый на чердак — вкруг трубы только рыжая шерсть клочьями да пыль столбом, а никакого садиста-таксидермиста не видать. Хохрик, конечно, разбойник, приличная дрянь, или, как говорит Пасынок, продукт эпохи и обстоятельств. Последнее надо понимать в том смысле, что когда псарь — собака, тогда собаки — звери. Но, невзирая на это, хозяину делалось жаль кота.
Скоро злыдни стали появляться в самых неожиданных местах. Стоило минуту посидеть спокойно, как сразу же из темного угла высовывалась зловещая фигурка в костюме-тройке, при галстуке прельстительного рисунка.
Осмелев, фигурка принималась шнырять по комнате, размахивая лапками и мельтеша ножками, точь-в-точь — уховертка. Иные злыдни появлялись нагишом. М-м-м-да... Им не стоило бы демонстрировать собственную безнравственность. Оголение — процесс многозначительный, далеко идущий...
Вечерами Копченый замирал на стуле и уходил в себя но чаще просто пребывал в оцепенении. Глаза его стекленели. Подбородок отвисал. Казалось, он не в состоянии дышать. Это были блаженные минуты: мозг Копченого отдыхал. Зато остальное время он испытывал беспричинную тревогу.
Впервые ему сделалось тревожно с неделю назад, когда Потомок взял его с собой в город.
...Худощавая женщина рассеянно глянула на подошедших.
— Тс-с-с, стерва!
Потомок присел, прячась среди очереди.
Копченый удивился: обычно прятался он, однако на этот раз такой команды не поступало.
— Иди к автовокзалу, — прошипел снизу Потомок.
— Что? — не расслышал он.
— К автовокзалу шуруй, — бесился крепыш, смешно, на корточках пробираясь за людскими спинами в сторону павильона. — Жди меня там.
Копченый подчинился. Повернулся, чтобы идти; глянул назад — женщина пристально смотрела на него. Чего он напугался? — Копченый сообразить не мог. Кинжальная боль чуть повыше ключицы заставила его шатнуться. Когда опомнился, женщина по-прежнему буравила его взглядом. Удалось заметить, что она была напугана не меньше его. Во всяком случае, тут же заторопилась. Шагнула прочь. Заозиралась. Потом метнулась через улицы.
В тот вечер Потомок избил его. Он пинал Копченого ногами, обутыми в австрийские туфли. Избиваемый вздрагивал от ударов, опуская голову ниже и ниже, а экзекутор пьянел от беззащитности жертвы и старался угодить в живот.
Безобразная сцена прекратилась с приходом Отца, Горбоносого старика. Потомок стеснялся, у Копченого было подозрение, что стеснительность эта основывалась на страхе...
С появлением злыдней сожители оставили Копченого в покое. Хотя неизвестно, что лучше: терпеть издевательства. Потомка или бороться с нашествием вредных существ?
Вот и сегодня... Прямо из-за печной дверцы вылезла бесстыжая харя, цветом и формой похожая на морковку. Высунулась, уставилась на Копченого, сажу с носа слизнула оранжевым язычком, взялась поучать:
— О воле мечтаешь, хозяин? Дас-с-с, куцая у тебя жизнь. На свободу надо? А что такое свобода? Непостижимое состояние духа, которое, будучи лишено одного-единственного из своих атомов, перестает быть собой. Лишите свободу какой-нибудь из степеней, хотя бы совести, и на ее месте воздвигнется тюрьма...
От неожиданности человек чуть не свалился на пол. Ответил механически:
— Не возникай!
Злыдень выдернулся наружу до пояса:
— Сам дурак!
Хозяин помянул черта, хотел перекреститься, но спохватился: не помнил, в каком порядке кладут крест — справа налево или наоборот? Он пожалел, что помянул нечистого. Был ли Копченый суеверен? Кто знает. Но как в каждом пламенном революционере таится монархист, так во всяком безбожии содержится суеверие. Хитро устроена человеческая природа: все перехлестывающее через край рано или поздно переходит в собственную противоположность.
На мгновение утратив добродушие, Копченый схватил кочергу, сунул ею в злыдня. Кочерга припечатала жертву, в копотной мгле мелькнули дергающиеся ножки. Копченый злорадно засмеялся. И тотчас вскрикнул: сильно заболела голова. Его черное, спорно обугленное, лицо сложилось морщинками, сделавшись размерами с кукиш...
* * *
В карьере мало что изменилось за прошедшие годы: гуще наросли лебеда и подорожник, да прибавилось ржавой красноты на боках опрокинутой вагонетки.
Месяца три назад представитель строительной фирмы «Аякс» посетил указанное место в сопровождении двух специалистов и чиновника из муниципалитета.
Специалисты, пожилые господа в спецовках, осмотрели кучи бута, скололи образец для анализов, восхищенно поцокали языками а затем отбыли восвояси...
Молодой чиновник азиатского типа зябко прохаживался по карьеру. Насмелившись, толкнул ногой вагонетку. Ему было не по себе. Он не считал нужным это скрывать и осуждающе поглядывал на фирмача.
Здесь было нечисто. На прошлой неделе чиновник приезжал в карьер с прибором. Стрелка прибора задергалась как сумасшедшая. Честно говоря, он плохо разбирался в радиометрах, самый обычный вольтметр представлял для него большую загадку. Что поделаешь: филология не способствует знакомству с техникой. Калмыковатый чиновник был филологом и до недавнего времени не жалел о сделанном выборе. Хотя теперь впору было пожалеть. Кто так или иначе наслышаны про здешние места, удивительно единодушны — в районе карьера происходят странные вещи. Чего стоят, например, здешние травы и насекомые, гигантизм которых не поддается объяснению...
На следующий день представитель «Аякса» скончался от острой сердечной недостаточности. Следом молодой чиновник получил извещение о переводе в метрополию.
И снова в заброшенном карьере наступила тишина.
...На станцию съезжались респектабельные господа.
Долговязый путеец приспустил тяжелые веки, сглотнул слюну и ненавидяще покосился на туристов: «Приватизаторы! Мать вашу греб». Затем он сошел с перрона и отправился снимать социальное напряжение.
Деловито обогнул сияющие лаком лимузины озабоченной требами священник, вежливо изогнув стройный стан в ответ на приветствия и благословляя пассажиров. Юркая собачонка скакнула ближе. Обнюхала составленные в ряд рюкзаки. Собачонку нервировала объемистая поклажа. Взлаяв, она задрала ногу, но получила пинка и нырнула под платформу, где задумалась о мести. А так как в собачью голову ничего дельного не приходило, да и не могло прийти из-за обилия мух, запаха мочи и оглушающего топота ног по платформе, она сочла разумный забиться подальше в щель и там пересидеть обиду...
В «красной» комнате подземелья сделалось чадно. Бумажные полумаски белой грудной лежали на столе; приезжие не обращали на них внимания; без того потные лица багровели на глазах.
— Предлагаю почтить вставанием...
Присутствующие изобразили вставание, слегка оторвав зады от сидений, чтобы тотчас принять исходное положение.
Пара в конце стола переглянулась:
— Ради, этого балагана мы тащились в такую даль? У меня в Астрахани сделка прогорает на астрономическую сумму, а я сижу здесь, как... как...
— Как член весьма и весьма влиятельного союза. Не забывайте об этом, пожалуйста, — улыбнулся второй.
— Наш союз — анахронизм, — огрызнулся первый. — Хватит совать деньги кобыле под хвост. — Он повысил голос.
— Эй, вы! Что вы сказали?
Председательствующий, пламенея голым, словно стеклянным, черепом, навис над столом. Огненно сверкнули линзы очков.
— Что сказал, то и сказал. — Скандалист также поднялся. — Я повторяю: пора кончать с балаганом, господа. Ныне у нас, миль пардон, иные задачи. Задачи, ничуть не совпадающие с проблемами бывшего, подчеркиваю: бывшего союза!
Лицо председательствующего закаменело. Прочая публика внимательно следила за спором.
— Господ мы прикончили еще в семнадцатом!
— Ну не знаю, кого вы там прикончили, только лично я вам... не товари-и-ищ. Напрасно думаете, что здесь сидящие настолько глупы, чтобы действительно уверовать в Идею.
— Очень жаль. Когда Она восторжествует...
— Не юродствуйте. Никогда она не восторжествует. Сколько бы вы ни рассказывали притч о Нем, о смене, быстрой или медленной, поколений... Христианству тысяча с лишним лет, но идеи Спасителя по-прежнему бесплодны. — Он пресек возникшие было возражения. — Вы можете сказать, что Христу поклоняются миллионы. Я же отвечу — ну и что? Соблюдается форма. Но бездеятельна суть. В противном случае, как обстоят дела с «не убий? не укради? не возжелай»?.. Будем реалистами. Мне надоели проповедники в хромовых сапогах с чекистским прошлым.
— Заткнись!!!
— Не орите на меня, анахронизм... в очках. Я не из глупых.
Спорщик с ласковыми гладами кивнул в направлении коридора.
— «Предупрежден — значит вооружен». Ваших «мальчиков» там нет. Мы их несколько… э-э-э, проигнорировали, — он явно кого-то изобразил. — Припоминаете?
Лысый «очкарик» слепо пошарил перед собой. Приятные глаза его оппонента указали на дверь:
— Можете... «э-э-э, уходить».
Хромовые сапоги скрипнули. Скрип их достиг порога. Переместился в темный коридор. Сделался тише. И вдруг заглушился взлязгами выстрелов.
В комнате облегченно перевели дух. Ставший во главе собрания ласковоглазый господин поиграл перстнями на правой руке; розовый и синий топазы с сухим звуком потерлись друг о друга:
— Все-таки, любопытно...
Он полюбовался на игру камней.
— Любопытно, сколько лет этому ископаемому чекисту, если уже в девятнадцатом ему было не меньше двадцати восьми?
Он не успел удовлетворить любопытство — через порог ступил и обрушился на пол атлетически сложенный парень, бывший штангист. Рубаха на животе упавшего сочилась кровью. «Ушел!»
* * *
Хотелось настоящего турецкого табака. Отец сплюнул, вытер сухие губы и посмотрел в окно. В двух шагах от окна желтел подсолнух; на тонком стебле висело сразу с десяток корзинок. Корзинки были мелкими. Они обещали тощее семя и чреватую осложнениями зиму.
Отец сдержанно вздохнул. Потянулся за сигаретами. Очкастый Соратник обещал папирос, но все тянул. Те сигареты, которые приносил Володя, отдавали парфюмерией, в ущерб крепости. От них даже не желтела слюна. «Проклятые янки! Всегда и во всем от них надо ждать подвоха»... Следовало сходить в церковь. Соратник уже попрекал его набожностью, намекая на отцово семинаристское прошлое.
Что он понимал в таких личностях, как Отец, этот закомплексованный мещанин. Отец смутно припоминал восторженно-стылую физиономию Соратника, молодого тогда чекиста, одного из многих сотен и тысяч, попадавшихся ему на глаза. Сколько воды, а главное крови, утекло с тех пор. Он прикинул, пару раз качнул головой. Ему мало импонировала эмоциональность Соратника: «Резв не по летам». А его друзья. Кому могут нравиться типы со свинячьими глазками и слюнявыми ртами, которых представлял ему Соратник?
Вчера бывший чекист пушил Потомка, по вине которого едва не попал в западню. Цх! Очкарик много нервничает. Отец никогда не доверял очкарикам. Хотя при чем здесь очки? Или между очками и его антипатией имеется какая-то связь? Вот и теперь Соратник носится с довольно опасным прожектором. Нельзя населять мир призраками. Прошлое всегда представляет опасность для будущего...
Копченого жаль. Сатрапы древности, и те щадили убогих. Копченый пропал бы, заставь Отец вытащить его из стен страшного заведения…
* * *
Заведение ему вначале понравилось. Здесь каждый говорил и делал то, что делал и говорил, не оглядываясь при разговорах на типов вроде Пасынка. Позже он уяснил, что это далеко не так: можно было все, за исключением действий и слов, которые приходилось не в нюх санитарам, а также вечно раздраженным медсестрам.
Общество в палате подобралось пестрое. Слева от Копченого пресмыкался желто-зеленый, но жутко цивилизованный субъект, бывший по совместительству лидером Всемирного Сообщества Микроорганизмов.
Желто-зеленый непрерывно питался. В перерывах между едой он выступал от имени и по поручению проглоченной им белковой массы.
Еще интересней оказался другой сосед. Если пожиратель белка родился инфузорией и оставался таковой всегда, то второй сосед переродился в ходе очередной сессии Верховного Совета довольно захудалой временной Республики, где-то на далекой окраине бывшей Империи. Проникающая радиация оппозиционно настроенных фракций пробила дубленую шкуру соседа, вызвав редкостную мутацию, в результате которой возник индивидуум чрезвычайного пола. Мутант не имел возможности указать про себя в анкете что-либо определенное: «Муж.» или «Жен.», на худой конец, что-нибудь нейтральное. Словом, на свет явилось ни то ни се, ни первое, ни второе, ни третье. Это было что называется «ни богу свечка, ни черту кочерга». Однако мутировавшая особь могла-мог-могло совокупляться с лицами конкретного пола, отчего порождалось возвышенное бесплодие духа.
Целые дни пролеживали по палатам муниципальные тюфяки; слонялась по коридору, напрашиваясь на неприятности и получая их сполна, «стреляла» в туалете сигареты и захламляла унитазы, получала экзотические препараты, названия которых не значились нм в одном фармацевтическом проспекте, многоликая толпа. Временами сквозь толпу прокладывала путь в кабинет и обратно, сшибая оглушенных лекарствами больных, заведующая клиникой. Среди попираемых ею больных значился и родной супруг заведующей. Уличенный в супружеской неверности, он был госпитализирован собственной супругой, имея за душой скорбный диагноз и гриф «Социально опасен».
По убеждению заведующей психически здоровых людей не было. Околочивающаяся вне стен клиники публика состояла из ее будущих пациентов, временно пребывающих.на свободе исключительно по недосмотру и нехватке больничных мест. В излечиваемость пациентов заведующая верила так же, как в канцерогенные свойства редьки. Единственным спасением для больных она считала строгую изоляцию и пожизненный учет. Все люди, по ее мнению, нуждались в следующем: замках на палатной двери, решетках на окнах, смирительных вязках и окрике...
Постепенно Копченый заметил, что народ в палатах все же меняется. То притащат одного, то прищучат другого, а то, глядишь, кого-нибудь вытолкнут вон. Так он познакомился с мыломаном, которого подкинули, точнее, привезли упакованным в собственном соку.
Мыломан попался веселый. Едва его распеленали, он принялся за дело и уже к выходному в палатах нельзя было отыскать крошечного обмылка.
Следом за мыломаном привезли оригинального любителя живности. Это был тощий, всегда насупленный предприниматель Он держал голову вбок и щурил глаза. На свободе любитель первое время интересовался только букашками. Ну занимается человек для души, для интересу, и дай ему Господь. Но вскоре он перешел на крупных существ. Завез к себе домой посредством бартера натурального аллигатора. А крокодил-то пятиметровый! А крокодил-то не дурак, и каждодневно испытывал настроение к еде. А жрал он только мясо! Вот и начал любитель-предприниматель выпускать аллигатора по ночам на подножный корм. Выйдет человек звездной теменью на двор и... аминь! Где-то через месяц Копченого задолбили. Подсаживается к нему в столовой красномордый больной, протягивает вилку и цепляет котлету Копченого. Съел больной котлету, вытер губы, потом заявляет: «Чего вылупился, задохлик? Голоса у меня, понял? Болезнь такая. Рогатиком буду, весь измучился».
На хворого красномордый походил слабо. А уходя весело пообещал: «Если ты, придурок, на меня в обиде, можешь жаловаться Лепиле. Я — политический. Мне все равно ничего не будет».
Только исчез красномордый, следом подвалил второй хворый, полнее первого пудов этак на пять. Залез он Копченому губами в самое ухо и сипит: «Гордись! Мне Пасынок передал, чтобы я с тобой покорешился. Вот, шизик библейский, ты оказался в приличном обществе. Я тебя век одного не оставлю, даже если тебя, психа плешивого, отошлют в спецклинику».
Вот уж называется «велика честь, да нечего есть». Хотел Копченый отойти в сторонку, а новоявленный кореш саданул его в подбородок...
Когда на шум подоспели санитары, мускулистый больной скромно стоял у стены и держался за живот. «Психует шизик», — он указал пальцем на Копченого. Кончилось дело тем, что убогого привязали к кровати до утра.
Чаще и чаще в голове затравленного Копченого путались явь и бред. А в день, когда по настоянию Отца его освободили, у него оказалось два сломанных ребра. Поэтому несколько недель после выписки он лежал пластом, изредка откашливаясь сгустками крови.
И вот теперь его осаждали злыдни.
Дальше — больше. Шныряет нечисть по комнате, словно тараканы, лезет изо всех углов. Дом небольшой — одна комната, в углу печь, в другом — кровать, подле единственного окна — табуретка и круглый столик, из тех, что когда-то служили подставкой для кадки с фикусами. Тесней некуда, а тут еще эти... Куда ни шагни, какой-то горбатенький путается в ногах. Из лекарств у Копченого только валерианка, так горбатенький и до нее добрался. Перебрал злыдень валерьянки, и опаскудил туфли хозяина. Правда, туфли — не ахти, без шнурков, со стоптанными задниками. Но других у Копченого не было. Местами пощипанный Хохрик, увидя опустевший флакончик, стонал от такого бесчинства и разграбления; зажмурил зеленые глаза, взвыл по-кошачьи: зачем, мол, так-то? Ему бы этого флакончика до издоха не вылизать, а горбатый злыдень выхлестал в две минуты.
Горбатенькому на Хохриково горе наплевать. Уселся липким от валериановой настойки задом на чистую табуретку, остренькое усатое рыльце задрал к потолку и давай наяривать на расческе:
«...И рыдают бабки у околицы,
Не хотят, чтоб был капитализм».
Еще злыдень, повыше первого ростом, гуляет афеней от окна до двери. Дергается на ходу, словно параличный. Навязывает встречным и поперечным ржавые кнопки, которыми Копченый пришпиливает газету на окно. Торгует злыдень по безбожной цене, поштучно, пятак за пару. Интересная прибыль получается: спер ходовой товар, рекламирует в качестве импортного и налога не платит.
Назойливей других — карлик сложной наружности, со странным произношением, напоминающим нечто между жеванием манной каши и причмокиванием. Карлик выдавал себя за чистопородного злыдня, важничал; задирался с кем ни попадя, бодал неуступчивых собратьев, кидался на занемогшего животом Хохрика, доводя обалдевшее животное до зверского исступления. Ближе к вечеру карлик вырвал у кота большую часть усов, сломал левый клык и сделал попытку завязать полосатый хвост двойным морским узлом.
Венцом деяний темпераментного карлика явился укус хозяйской ноги. В момент укуса Копченый решился растоптать хулигана. Однако тот поспешно отскочил в сторону, визжа что-то неудобопереводимое, напоминающее: «Да здравствует влкая ская нация!» От кусачего злыдня наносило псиной и шовинизмом. После его выкриков яснее стали мотивы нападок горбатенького злыдня на кота. А печной «квартирант» окончательно раскрыл глаза Копченому на низменную сущность ядовитого собрата:
— Бесстыдство совести! С учетом того, что общественная совесть есть ядро национального сознания.
Поедая собранные с пола хлебные крошки, чумазый приживала разглагольствовал:
— Направление против отдельно взятой нации направлено против человечества в целом и против каждой конкретной личности. Отсюда антикошачья направленность карлика. При условии, что слабосвязанное кошачье сообщество можно считать... чм-м-м, в некотором роде, нацией...
Незванные гости плодились день ото дня. Вскоре они заселили двор. Наконец пробил час, когда к Копченому приволокся Сосед, держа за шиворот упитанного злыдня, точно нашкодившего щенка.
Сосед-пенсионер криво улыбался, подергивая жухлым личиком и на редкость красочно сквернословил в адрес вяло сучившей лапками добычи…
Пенсионер накрыл злыдня помойным ведром в тот самый момент, когда злыдень, находясь в тесной крысиной компании, поедал свиной корм. Злыдень уплетал чужой рацион за обе щеки. В недолгие паузы между приемами запаренного комбикорма и картофельной мелочи в, мундире травил анекдоты с сексуальным уклоном, слушание которых совсем недавно попахивало строгой мерой социальной зашиты с последующим поражением в правах.
Крысы охотно слушали злыдня. Заглядывали поганцу в рот. Взвизгивали в наиболее пикантных местах. Восторженно стучали жесткими хвостами о деревянный пол. Копченый заподозрил, что и сам сосед, допреж повязать рассказчика, выслушал не менее дюжины анекдотов таясь за углом стайки. Иначе с чего на его впалых щеках блуждали фиолетовые пятна смущения?
Изловив злыдня, пенсионер пошел по его следам, которые привели к домику Копченого. Тут сосед швырнул увесистую добычу прямо на пол, прошептав Копчёному на ухо: «Агитирует, провокатор, за всеобщее равенство и повсеместное строительство социализма... грызунам на потеху».
Понесло пенсионера закоулками. Присел он на табуретку; прямо на разомлевшего уродца. Горбатенький пискнул, вырвался, убежал под кровать...
Лопнуло у Копченого терпение. Объявил общее собрание с обязательной для злыдней явкой, с завлекательной повесткой дня: «О частной собственности». Выкинул аншлаг: «Грабь награбленное!».
Злыдни сбежались дружно. Расселись. Горбатенький пробку от флакончика понюхал, встал в позу:
«Как должно поступать с жрецами Фальшивых свергнутых богов?»
Карлик почуял любимую тему, восторженно затрепетал: «Разить и стрэльять! Стрелить и ризать!»
Он визжал, а сам к Хохрику подбирался. Под пиджаком на груди у него не то перочинный нож, не то увесистая гайка спрятана.
Через поддувало вылез печной затворник. Опух от философского образа жизни. Раздулся. Маститно смотрится, как сказал бы Хохрик, не будь он котом.
Вылез злыдень и начал давить эрудицией:
— Мы выяснили... вопрос заключается в том... предшественники наши оказались преступно-бездеятельными... что поставило наше дальнейшее существование под вопросом... и... — Он перевел дух... вопрос о сопричастности... судить или бить?.. каяться или?..
— Никаких каяться! — зашелся карлик. — Всех рэзать! Робить грязь! Пущать кровянку!!!
Злыдень-афеня выскочил вперед, из его карманов посыпались медяки.
— Господа, мы никак не можем осознать того, что наши предшественники осознать не могли. Я согласен с принципом сопричастности. Но не во имя дальнейшего, кровопролития, а в предупреждение. Дабы было неповадно потомкам... Не мочно тяжелую наследственность поменять на крупное наследство. Мочно, лишь предотвратить дальнейшую пагубу...
Карлик выхватил из-за пазухи бритву, полосанул афеню по шее, во все стороны метнулись брызги крови. Часть их попала Копченому в лицо.
«Взжи-и-ик!». У хозяина домика сделалось темно в глазах.
...Сиреневый шквал захлестнул Копченого. «Кровь? Люди, я прошу — не надо крови! Наташа-а-а!»
Страшная метаморфоза происходила с увечным: кожа его светлела, растягивая сухожилия и хрящи, росло и раздувалось тело, светлели, теряя идиотское выражение, глаза...
«Наташа!»
Ростислав возвращался...
«Боги принимают сторону победителя».
Ростислав вспомнил все. Вспомнил сразу. Походило на то, что он и не забывал ничего, сознавая себя всякую минуту. Только сознание это существовало где-то отдельно от него: находилось за непроницаемой для слов и поступков перегородкой, по другую сторону которой чуть мерцало проявление его второй, фактически уродливой жизни. Теперь перегородка рухнула и два его бытия, две ипостаси вовсе не смешались в однородную массу, но четко обозначились различными слоями — он и его многомесячный бред.
Пожалуй, единственное, чего он не знал, да и знать не мог. это продолжительность безумия. Время — исключение из правил. Зачастую самый обычный сон смещает временные точки. Уже проснувшись, человек нелегко реставрирует хронологию событий, путая «вчера» с реальностью десятилетней давности. У «вчера», «сегодня» и «давно» нет образов. Названные символы безлики; само время напоминает змею, хвост которой находится в ее пасти. «Вчера» и «завтра», «начало» и «конец» — безостановочный бег по кругу…
Судя по солнечному свету, проникающему через небольшое окно, время приближалось к четырем. Следовало уходить, если он не хотел встречи с Володей и Валериком. При мысли о последнем у Ростислава сжались кулаки. От начала и до конца предшествующих событий Валерик водил его за нос. Сейчас Ростислав понимал: простофилей был кто угодно, но только, не его «приятель», на совести которого, по-видимому, осталось убийство Мих-Миха. Стоило лишь сопоставить факты. Это длительное отсутствие Валерика... Сколько его не было тогда в поселке? Около недели. Достаточный срок, чтобы настичь и убить художника, а затем вернуться обратно. А загадочное появление нагана и денег в квартире, где жил Пархомцев... А пожар...
Не совсем ясной оставалась роль очкастого любителя хромовых сапог, его участие в воскрешении Отца. Зато Володю Ростислав запомнил хорошо. Им оказался тот самый крепыш в черной кожанке, что, в компании, с другим парнем, крепко отделал Ростислава возле моста за Титовской сопкой. Эх, если бы не Валерик! Если бы не Валерик, не было бы и крепыша и кожанке, не было бы драки, не было бы ещё многого, искалечившего жизнь Ростислава...
Он чуть-чуть опоздал. Голоса «задушевных приятелей» уже доносились со двора.
Ростислав обежал взглядом комнату в поисках убежища. Ничего! Голоса приближались. Он метнулся к окну, вспомнив свой предыдущий побег, но окно не открывалось.
В сенях стукнули дверью.
Ростислав втиснулся в щель между полом и ржавой панцирной сеткой кровати. Ржавая пыль просыпалась в глаза, он заморгал, а в комнате затопали.
— Где этот полудурок?
— Я знаю? Говорил — задавить его надо, — Валерик был категоричен. Так как на стуле сидел Володя, он плюхнулся задом на кровать. Пружины взвизгнули, частой пудрой поднялась в воздух летучая дрянь; продавленная сетка коснулась лежащего под кроватью.
— Мне-то бара-бир, а вот Соратник еще пожалеет, что не дал прикончить чокнутого.
Находясь в отчаянном положении, Пархомцев все-таки повернул голову поудобней. На том месте, где сидел Володя, виднелись только табуреточные ножки и пара штанин, приспущенных на черные полуботинки. Это слегка успокоило; значит, и Володя не мог видеть Ростислава. Но встревожило другое; тяжелый Валериков зад мог почувствовать помеху, препятствующую дальнейшему прогибу сетки. По счастью, бывший приятель увлекся спором.
— Бара-бала... Услышит Соратник — поучит тебя конспирации.
— Видал я его! — Запальчивость Валерика были притворной. — Что я сделаю, если привык выражовываться?
— Отвыкнешь. Поменьше цепляйся к Копченому. Отец запретил...
— Отец! Все Отец, да Отец! Поглядеть хорошенько, так от него навара...
Передние ножки табуретки оторвались от пола, со стуком вернулись в исходное положение.
— Укороти язык, доиграешься...
— Заложишь?!
— Зачем... — табуретка придвинулась к кровати, одновременно голос Володи понизился. — ...Ты еще много не знаешь. — Он сделал многозначительную паузу. — И Отец, и Соратник... они не сами по себе. Они — пешки.
— Ха-ха!
— Не хакай. Не о союзе речь. Здесь... люди посерьезней. Наши стариканы против них — ерунда. — Он почти шептал. — Для тех, настоящих, мы с тобой — пустое место, рвань, мокрушники. Я точно не выяснил, но картина получается, скажу я тебе! так что ты лучше не рискуй. За тобой без того грехов накопилось... Тальку упустил — раз. Павлик преподобный со Светланой сюда заявились — два. Упущенная тобой Наталья тоже здесь обнаружилась днями. Ты ее видел и промолчал при этом — три.
У Пархомцева захватило дух — Валерик вскочил, точно ошпаренный:
— Ты чо?! Очумел, как Копченый? Я что — Магомед? Откуда мне знать, за ради чего Пантеля сюда переехал, да еще стерву свою приволок?
Даже не видя Валерика, Ростислав ощутил, насколько тот перепуган.
— Это Соратник свою дурь на меня актирует! Это он, змей очкастый, парашу гонит, что я Тальку душить не стал... Я ему сразу сказал: «Шиита из меня не сделаешь». Я душить не могу. Ножом могу... Из ствола могу... А он мне: «Надо без крови». Хочешь без крови? Души сам. Ну он и... — Валерик затрепыхался, изворачиваясь. — Тальку я видел. На остановке. Но я подумал — вдруг не она? Вдруг — похожий кто? Вышло... сикось-накось. Ведь я покойников боюсь. — Запричитал. — Она же мертвая была!
— Любишь ты ее — вот и «мертвая», вот и «вдруг не она». Ты Пархомцева только из-за нее. Соратнику на блюдечке поднес. Ты и нас предашь из-за нее. Нет, как хочешь, но с Натальей ты разберись...
Крики спорщиков вспугнули кота, до последней минуты прятавшегося за печкой. Кот метнулся на подоконник, спрыгнул на пол, заскочил под кровать — прямо к самому лицу оцепеневшего Ростислава.
Хохрик, считая, что оказался под надежной защитой, требовательно замяукал, уставившись на хозяина светящимися в подкроватной мгле зелеными глазами.
Счастье в этот день держалось стороны Пархомцева: Валерик перешел в наступление, не обратив внимания на кошачьи вопли:
— Следишь за мной, гомик кожаный?!
Володя пропустил «гомика» мимо ушей:
— Зачем? Хотелось бы унюхать, кто следит за мной. Все мы у Соратника под микроскопом, а он — у тех...
Перепалка продолжалась еще минут пять. Затем разобиженный «приятель» Ростислава хлопнул дверью. Помедлив, покинул помещение и Володя. Пархомцев остался наедине с голодным котом.
В полицейском участке творилось несообразное. В кабинет Закурдаева лезли все, кому не день. Наймушин отталкивал любопытствующих широкой, почти квадратной спиной, а народ усиливал натиск.
— Какого черта! Людмила...
Секретарь оказалась тут же; вяло откликнулась на призыв шефа.
— Выпроводи их!
Юркую секретаршу побаивались сильнее начальника. Разочарованная публика подалась к выходу. Раскинув руки, Людмила выжимала публику из комнаты, словно поршнем, пока последний человек не оказался за порогом. Затем дверь захлопнулась с треском, говорящем о нежелании секретарши скучать в приемной, когда в кабинете у шефа творились такие чудеса.
— Что скажешь?
Закурдаев прикурил от массивной зажигалки. Зажигалка скрипнула, робко заискрила. По фитилю вплелась золотая нить; фитиль стрельнул огнем, погнав в лицо курильщика струйку дыма.
— Сначала вонь, потом огонь, — проворчал Закурдаев. Фитиль задохнулся под выпуклой бронзовой крышкой — новая порция легкой копоти рассеялась в воздухе, омрачая реноме фирмы — изготовителя роскошного прибора «Братья Росс и К0».
— Что я скажу? — просипел. Наймушин. — Я кто — «Ювелирторг»?
— Мысль!
Закурдаев потянулся к телефону. Кучка сияющих камней рассыпалась по столу; ореховая полировка испятналась разноцветными бликами. Присевший было Наймушин испуганно подставил ладони, — пронзительно-зеленый берилл замер у самого края стола.
Была ли это красивая шестигранная призма бериллом — этого, собственно говоря, алтаец, не знал. Все его знания о драгоценных камнях ограничивались сведениями, почерпнутыми в детстве из занимательной книжки Ферсмана. Так запомнилось, что достоинствами настоящего драгоценного камня являются: «Красота, долговечность и редкость». Ну и кое-что еще. Кажется, в той же самой книжке упоминались две или даже три разновидности берилла, самая редкая из которых называлась изумрудом. Названий других, изъятых из самоцветов, он припомнить не мог, сколько ни напрягал свою в общем-то, отличную память. В голове крутилось: «топаз», «гранат», «опал», «нефрит»... Однако звучные слова не желали никак определяться...
Приглашенный Закурдаевым эксперт прибыл через час. Он был вздорен и сер. Если бы не его массивные очки, он выглядел бы совершенно безликим.
Эксперт от минералогии явно тянул время в противовес собственным утверждениям о непомерной занятости. Он долго препирался с шефом региональной полиции. Но препирался скучно, от его слов отдавало казенщиной, невыразительностью и слабым знанием государственного языка, что лишний раз оправдывало прибалтийскую фамилию специалиста. Ассимилировавший прибалт был неприятен Наймушину. Неприятен обликом, а также доскональностью, с которой он рядился в оплате демонстрацией своего брюзгливого превосходства и неуступчивостью. В конце концов, эксперт приступил к делу; ради которого приглашался, и присутствующие вздохнули с облегчением.
Безликий прибалт брал камни один за другим, изредка выдавливая из себя загадочное: «Зона»... «Габитус»... «Двойникование»... «Огонь»... «Карбункул»...
У Наймушина затекла спина, пока эксперт занимался органолептикой, чтобы затем снизойти до собеседников.
— Откуда эта коллекция?
Закурдаев ощерился:
— Мы тоже хотели бы это знать. И надеялись, что вы (он сделал упор на последнем слога) просветите нас.
Эксперт подозрительно-удивленно взглянул на шефа:
— Я — геолог, вернее, геофизик...
— Вот вам и карты в руки, — перебил его Закурдаев. — Где и в каком месте можно набрать таких симпатичных камушков?
— Вы что? Хотите сказать, что все ого, вся эта куча, местного происхождения?
— А разве нет?
Лицо эксперта смялось, как фольга, сжатая в горсти. Он заговорил с угрозой в голосе:
— Скорее я поверю в природный кристалл, имеющий форму «Звезды Кэра», или бриолета, или маркизы... — Он набрал полную грудь воздуха и зашипел, будто ему на большой палец у ноги свалился утюг, — Такого быть не может, потому что не может быть никогда! Гранат... Огненный опал... Изумруд... Турмалин... Оникс... Все находящееся здесь не может быть обнаружено в местных горах. Эти камни не могут быть найдены в одном-единственном месте.
— Хорошо, хорошо... — шеф полиции затушил очередную сигарету. — Во сколько вы оцениваете это собрание?
— Поищите оценщика. Я всего-навсего геофизик. Меня не волнуют ваши... ваши полицейские дела.
Наймушин тронул пояс, на котором рядом с револьвером висела дубинка:
— Может, шеф, его привести в соответствие?
Начальник зло глянул на прибалта. Тот приподнялся со стула:
— Только попробуйте! Я сегодня же обращусь к адвокату...
— Вы плохо о нас думаете. Никто не собирался вас трогать... пока, — раздумчиво добавил шеф.
— Однако я на вашем месте способствовал бы нам охотней.
— Поучите своих подчиненных!
— На вашем месте, — продолжал начальник полиции, — я помогал бы местной власти с большей охотой.
— Мне, повторяю, нету дела ни до ваших полицейских забот, ни до сепаратизма ваших властей...
— Кстати, — эксперт прямо-таки сочился ехидством, — нынешняя администрация не приветствует, мягко говоря, столь узко очерченные тенденции.
Рот Закурдаева растянулся в широкой улыбке:
— Стоит ли касаться далекой от нас администрации, мудро запамятовавшей о Вашем членстве в Верховном Совете небезызвестной республики. А ведь об этом нетрудно напомнить...
Эксперт вскочил:
— Мое членство было противодействием. Я боролся изнутри.
— Ага-га. Стенограммы сохранили «яростный накал» вашей борьбы.
— Чушь! Не было никакой стенограммы!
— Было. Все было. Подобные вещи всегда закрепляются документальным образом, когда официально, а когда... Хм-м-м.
Прибалт-геофизик смотрел на шефа полиции, беззвучно шевеля губами. Затем выскочил вон.
Закурдаев повернулся к подчиненному:
— Зажми намертво доходягу, у которого изъял камни. Зажми в тиски. Хочешь — поджигай ему пятки, выдергивай через рот кишки, но узнай, откуда шел товар...
* * *
Ростислава хватились вечером. Вызванный Володей Соратник заявился сам не свой, в глазах черти высвечивали. Не доверяя подопечным, самолично обыскал комнату. В заключение обыска глянул под кровать, завернув жалкую подстилку к изножью. Отчетливый след подкроватного «лежбища» на пропыленном полу отразился в его очках. Сухой кулак Соратника выбил каплю крови из Валериковой губы. Осмотрительный Володя уклонился от причитающегося ему удара.
— Он вас подслушивал!
Валерик забыл про рассеченную губу. Дико уставился на панцирную сетку.
— О многом болтали? — слегка остывший Соратник Начал допрос...
* * *
Как и предполагал очкастый поклонник хромовых сапог, Ростислав отправился на поиски Наташи. Ее приезд сюда, в предгорье, мог объясниться только одним — она надеялась встретить здесь Пархомцева. В крайнем случае — нащупать конец той ниточки, которая привела бы ее к нему. Можно было предположить, что она направилась прямо в горы, к прабабке Ростислава. Ведь ей не было известно то, о чем догадывался он, а именно — о смерти Хатый. На автостанции могла ждать засада. Пришлось отказаться и от такси: он не запасся деньгами. Откуда бы Ростислав их взял? В редкие случаи, когда Володя вкупе с бывшим приятелем брали его с собой, за всех расплачивались первые два.
Попутки шли густо, но ему долго не везло. Водители косились на потрепанную фигуру, а затем или прибавляли скорость, или, тормознув, тотчас срывались с места, выстреливая черными клубами полусгоревшего топлива. Лишь на исходе второго часа ожидания взвизг тормозов смеялся звуком открываемой дверцы.
— Куда? — Вытянутые по вертикали овалы светозащитных очков чудом держались на курносом лике. В первый момент трудно было определить, кто сидел за рулем — мужчина или женщина. Но следом, по припухлости губ и высокой груди, Ростислав догадался, что перед ним особа женского пола.
— Куда вам?
Особа содрала очки. Именно содрала — он заметил на внутренней стороне дужек присоски. И это было не все: с таким типом лица, который скрывался за зеркальными стеклами, он встречался впервые.
Глаза особы располагались пол острыми углами к линии носа, отчего лицо женщины напоминало... напоминала что-то оленье.
— Садитесь, — она указала на свободное место рядом с собой. Голос попутчицы был низковат. А черты лица, если брать по отдельности, могли показаться излишне оригинальными. Однако в совокупности они могли вызвать шоковое состояние или грудную боль. Попутчица знала об этом, потому предупредила:
— Учтите, монтировка у меня под рукой.
Он осторожно захлопнул дверцу и уже затем спросил:
— Зачем подобрали, если не доверяете?
Плечи особы передернулись.
— Это не ответ.
— Скучно... — Ростислав не понял. Тогда ему пояснили.
— Я предпочитаю скуке боязнь.
Машина тронулась.
— Алик?.. Нарк?..
Он повернулся к «боязливой» попутчице с вопросительным видам.
— Упряжь на вас... незавидная. Как у алкоголика или наркомана.
— А-а-а. Нет-нет... Мое хобби — сумасшествие.
Его лицо хранило серьезное выражение. Особа за рулем стрельнула глазами сквозь тонкие стекла, убеждаясь, что странный попутчик не шутит.
— Это опасно?
— Что?
— Ваше хобби?
— Я тихий. Наоборот, меня обижают, — с отчетливой грустью пояснил Пархомцев.
— Ха-ха-ха...
Он обиделся. Дама-олень почувствовала его обиду:
— Не делайте плаксивой мины. Клянусь здоровьем президента, мой смех не относится к вам. Я считала чокнутой себя, но вот познакомилась с натуральным сумасшедшим и уже начинаю жалеть о собственной нормальности. Кстати, как вас называла мама? Ваша мама.
— Она называла меня Ростиславом.
— Архаика. — Что-то упало ему на колени. — Когда расчешетесь, выбросьте щетку в окно. Подозреваю, ваша голова давно не встречалась с шампунем.
Ростислав смущенно пригладил волосы:
— Думается, до того, на что вы намекаете, пока не дошло. Но щетку выкину обязательно.
Плавная смена спусков и подъемов убаюкивала; мягкое сиденье располагало ко сну. Автомобиль двигался плавно; управление находилось в твердых руках, хотя по внешнему виду узких длинных пальцев, оснащенных миндалевидными ногтями, этого нельзя было предполагать.
— Эй, ненормальный! Заснули?
Липкие тенета опутали сознание.
— Будете нагонять на меня сон, выкину на ходу. — Пархомцев посмотрел на водителя потусторонним взглядом. — Непременным условием нашего совместного путешествия является ваше бодрствование.
Смысл витиевато закрученной фразы не сразу осознался пассажиром — он клевал носом. Автомобиль тормознул, потом резко дернулся.
— Последнее предупреждение. — И почти жалобно. — Расскажите о своем сумасшествии. В противном случае усну, тогда мы оба окажемся в Катуни... Да откройте же глаза, наконец! Что вам — стриптиз продемонстрировать, чтобы взбодрить? — После минутного раздумья. — Сомневаюсь, чтобы столь крутая мера подействовала на законченного бродягу. Глаза у вас какие-то... — произнесла с отвращением, — ...снулые.
Ростислав очнулся. Залился краской.
— Осторожней. — Было непонятно, о чем он. Однако женщина олень ободряюще хихикнула...
Он испытывал удушье. Что-то жесткое ощущалось на горле, тянуло вверх, словно петля. Вот уже подошвы отделились от земли... Дыхание пресеклось... В легких, зародился хрип... Перед глазами — многоцветные миражи, в ушах — стократное эхо... Ни внизу, ни над головой, ни по бокам — нигде нет опоры, только склизкая зыбь. Эх, сказочный век! Какая бабка, неужто безумная Арахланиха, нашептала небылицы о земном рае? Какой спрос с безумной старухи? Надобно ль самим быть простофилями да верить в бредни ловких людей. Любому ведомо: сладки речи по хитрой нужде ведутся.
Арахланиха? Да вот она! Наискосок от Ростислава прибежища. В бобылках обретается.
...С некоторых пор уверовала убогая в телекомментаторов. Уверовала истово, не в пример новообращенным мусульманам, которые столь сильно почитают Коран, что не имеют ни времени, ни сил, дабы следовать самим наставлениям Книги Книг.
Итак. Вещают комментаторы с экрана, а Арахланиха ловит информацию открытым ртом. Попадает информация на вспаханную, густо унавоженную слухами почву; возгоняется теория в практику. Только пригорюнится комментатор го поводу неурожая на острове Пасхи, Арахланиха слезы соболезнования утрет и боженьку помянет. Конечно, бог — он не Яшка, знает, кому тяжко. При всем том всевышний не в состоянии всякой пенсионной, для общества бесполезной, старушке, чай подсластить.
Успокоит телеэкран убогую: дескать, ввиду стабилизации рынка, золотые, платиновые и прочие изделия производятся в избытке и по вполне приемлемым ценам, а бериллы, топаз да яхонты продаются дешевле груш — Арахланиха узелок в охапку, и дробным галопом в лавку. Круп в мыле... лоб в поту... Глаза навыкате... Прибежит, а там... отлив. Ничего и никого. Все уже были. Осталось убогой завалящее бриллиантовое колье, на ее сиротское пособие. Да еще ту многокаратную безделушку приходится транспортировать до дома на личном риске. Инкассаторов-то бабке не положено. А время нынче — золотые коронки на ходу рвут, вместе с прической.
Разобраться, так Арахланихе ничуть не тяжелее других. Копченый подглядел как-то: ей скотник Коля-Коля из туристической поездки в Гонконг доставил универсальный путеводитель, составленный на исключительно государственном языке. С приложением в виде лазерного стрелкового тренажера.
«Из-за этого тренажера, — делился впечатлениями племянник-турист, — тамошние аборигены нашим коммивояжерам заодно с товаром руки обрывают, по самые плечи».
Не глядите, что Коля-Коля — рядовой фермы, что образованием он не страдает и на интеллект не падкий. Сообразил же, чем тетке угодить.
С того дня, по наблюдениям Копченого, воспрянула бабка духом. Отыщет в путеводителе прибыльную цель, и телепортируется вдоль лазерного луча, будто ведьма на помеле; забыв калитку запереть. Пришел на Арахланихину улицу праздник. Стала она голос подавать. Выйдет, будто встарь, за околицу, да как запоет фальцетом:
«Широка страна моя родная...
Ехала деревня мимо мужика...»
...Слушая Ростислава, женщина-олень то и дело прыскала. Тягучий, как смола, подъем, завершался въездом в ущелье. Примерно в двухстах метрах от въезда тракт был перекрыт — перпендикулярно осевой стояла красная машина. Пархомцев плохо разбирался в импортных марках машин, но та, что ограничивала проезд, смотрелась внушительно.
— Приехали, — в груди у него похолодело.
— Это за тобой?
Спутница Ростислава напряженно смотрела через лобовое стекло. Опершись о капот машины, стояли двое. За рулем сидел третий. Даже на таком расстоянии было заметно, что водитель красной машины был лыс.
— Из федерального?
— Ху-ке, — он зачем-то расстегнул ворот рубахи.
Засада приближалась. Валерик и Володя отклеили зады от капота. Выпрямились. Правая рука Володи нырнула за отворот неизменной кожаной куртки. Одновременно бывший приятель Пархомцева торопливо развернул плащ, малоуместный в жаркий солнечный день. Складки плаща запутались. Валерик рванул — синтетическая ткань скользнула, на землю, обнажив маслянисто поблескивающий предмет, который пугающе уставился на подъезжающих.
— Остановите.
Женщина-олень послушно затормозила.
— Слушайте внимательно, — губы Пархомцева прыгали. — Это бандиты. По их милости я чуть не стал идиотом. На этот раз, похоже, живым меня не отпустят. Сейчас я вылезу и пойду к ним. Вы же дайте задний ход... В конце спуска есть возможность развернуться... Надо надеяться, вам дадут уйти. Им нужен только я.
— Сидите... пока. Она извлекла из сумочки, лежащей на сиденье между ней и пассажиром, ярко раскрашенный цилиндрик, С силой толкнула дверцу и направилась к красной машине, пряча в кулаке цилиндрик.
Зачарованные видом роскошной женской фигуры, бандиты остались на месте. Соратник опустил стекло, высунул голову наружу, удивленно наблюдая за действиями решительной особы.
Как она шла! Несмотря на смертельную опасность, у Ростислава пересохло во рту. Автомат Валерика опустился коротким стволом вниз. Широко раскрытым Володиным ртом можно было ловить мух.
Когда между ней и засадой осталось чуть более метра, раздался отчетливый хлопок. Дюралевый цилиндрик запрыгал по асфальту. Пархомцев растерянно наблюдал за происходящим. Соратник свесился из машины, приоткрыв телом дверцу. Остальные двое обрушились на дорогу. Дальше он отвлекся от засады, настолько колдовскими казались движения подбегавшей к нему женщины…
— Чем вы их?
Она отмахнулась:
— Уносим ноги.
— Вам есть что уносить...
Уже на ходу она отпарировала:
— Теперь верю, что ты сумасшедший. У меня, например, от страха сердце заходится.
— Зачем же рисковала? — Настала очередь Ростислава перейти на «ты». Женщина-олень покосилась в его сторону:
— Ты уверен, что эти... оставили бы меня для свидетельства в суде? — Оглянулась. — Минут сорок нам гарантировано, а дальше?
Он тяжело задумался.
«Из любой человеческой толпы может быть воссоздана первобытная орда».
Закрутился Павел со своим кладом, как собачий хвост с репьями. Найденного хватило бы за глаза всему районному центру. Но, оказывается, не штука натыкаться на богатство, штука, как его в дело произвести. Еще одна проблема, самая деликатная, — каким образом уберечь клад так, чтобы о нем не прознали? Ему достало бы и четверти найденного, но чего ради дарить государству остальное?
Что оно ему — кум? сват? брат? Среди государственного аппарата у Павлика родственников не было. Оно, разлюбезное чиновничество, ограбило бы его не задумываясь, оно облупило бы Павлика, будто вареное яйцо. Он же всей бюрократической мощи мог противопоставить лишь уловки изворотливого и деятельного человека, каковым считал себя все время, за исключением коротких минут душевного разлада.
Среди непосвященных в тайну выгребной ямы оказалась и Светлана. Осторожный супруг перекрыл бесценный пятачок двора неподъемным горбылем. А затем спровадил супругу на давно заслуженный ею отдых.
Избавиться от Светланы не составило сложности, учитывая сумму, которую он передал в полное ее распоряжение. Солидная пачка валюты выглядела так прельстительно, что жертва будущего курортного безделья забыла поинтересоваться происхождением Павликовой заначки.
Уже на автобусной остановке он внимательно посмотрел на жену, отмечая увядшую кожу, острый загривок, шелушащиеся от застарелого лака волосы. Она почувствовала его взгляд, повернулась, ободрила готового временно осиротеть мужа решительным взором и нацелилась в открывшуюся дверь салона.
...Целую неделю он «пас» Доходягу, однако тот не показывался в обусловленном месте: или перекупщик лишний раз подстраховывался или был занят более прибыльным делом. Хотя, какое дело могло быть важнее того огромного куша, на который намекал перекупщику Павлик.
На четвертый день пустого ожидания Павел, заметил назойливое любопытство ярмарочного шпика и сообразил, что успел намозолить глаза торгующей публике. Пришлось менять место, после чего шпик утратил к нему интерес.
Перекупщик не объявился и в понедельник. Ну, не могли же его замести? Он так твердил о собственной неуловимости, о принятых им мерах безопасности, о имеющихся, наконец, связях в полиции, что не поверить ему мог только разуверившийся во всем пессимист...
Павлик толкался у входа на ярмарочную площадь.
Изображая озабоченного затяжным похмельем петуха, он повторил заход к пивному киоску, где орудовал тощий, как глист, бледно-лимонный владелец киоска, подтверждающий собственным чахлым, нетипичным для продавцов такого рода товара, обликом сомнительное качество продукции. Пиво отдавало отрубями и отчего-то картофельным крахмалом. Его приходилось крепко подсаливать, иначе оно не лезло в рот. На картонных кружках-подставках чернильно синела голова марала, бессмысленно вперившаяся в чернильного же цвета кедровую шишку. Края картонок разбухли, обтрепались; восьмигранная пивная посудина удерживалась на них несколько боком. К пестрого цвета жидкости, гордо именуемой «Пиво Улалинское», полагались раки. Членистоногих завозили издалека. По пути следования они теряли клешни, часть брюшка, усы и даже красный цвет. То, что попадало страждущим на столики уже не могло считаться раками. Брезгливый к обжевкам Павел игнорировал отечественный деликатес...
Внезапное волнение среди любителей улалинского пива не миновало Павлика. «Облава», — пронзительным шепотом доложил ему бывший «нацбатальонец» со свернутым набок носом. Принадлежность кривоносого к разогнанному несколько лет тому назад формированию выдавал треугольник тельняшки, видимый в вырезе рубахи. Косые полосы «нацтельняшки» вызывали раздумье: то ли угол наклона был так и задуман, в полном соответствии развороту носа «батальонщика», то ли выступающая часть лица была подогнана кем-то под косой узор обмундирования? «Батальонщик» застегнулся на все пуговицы, а затем юркнул за киоск.
Более заинтересованный, чем встревоженный предстоящими событиями кладовладелец сунулся к двустворчатым воротам, но тотчас отлетел назад. К воротам хода не было. Стоящий там полицейский отошел подальше, к киоску, где сделался недосягаем для раздражительного служаки.
Как выяснилось, ярмарочную площадь шерстили не только полицейские: тут и там проглядывали крепкоскулые физиономии «безвнуковцев».
Это попахивало серьезным. Парни из внутренней безопасности не занимались шелухой вроде Доходяги; их интересовали сепаратисты, «национальщики», функционеры ряда подпольных партий. Парни из Службы Внутренней Безопасности молниеносно пресекали любые возражения, не задумываясь пускали оружие в ход, и горе было тому, кто злонамеренно или по недомыслию путался у них под ногами. Поговаривали о наследований «безвнуковцами» темных, традиций ОМОНа, о контактах, устанавливаемых первыми с мифической Службой Профилактики, бороться с которой, в первую очередь, и были призваны «безвнуковцы».
Благоразумие требовало затаиться, что он и попытался сделать, нырнув в толпу. Но кто-то нахрапистый планомерно оттеснял сгуртовавшихся людей в дальний угол рыночной площади. Полиция на сей раз задействовала все наличествующие силы; публика запрессовывалась в узкое пространство между мясным и зеленым рядами. Оттуда имели единственный выход — прогон шириной в полтора метра. В этом прогоне и происходило главное действие: четверо в штатском осматривали пропускаемых по одному, сверяясь с определенными приметами, обыскивали, проверяли документы. Кое-кого выхватывали из тонкой цепочки и отводили в сторону.
Павлик затосковал. Образец очередной партии товара лежал у него в кармане. Выбросить образец, который сам по себе обладал приличной стоимостью, было жалко. Сохранить? Но на импровизированной проходной камень так или иначе отберут, сам же Павлик схлопочет по морде, и это в лучшем случае.
— Ну-ка, подними. Чо сказано!
Стоящий за ним мужчина вряд ли состоял в полиции или Службе Внутренней Безопасности. Не был он и шпиком. Рожа как у него больше приличествовала уголовнику средней руки, настырный тон его голоса возмутил оплошавшего кладовладельца.
— Шел бы... — У Павла отвисла челюсть. — Ты?
— Вот-те фунт с осьмой! Пантеля?
Встреча ошарашила обоих. Первым опамятовался Валерик. Он нагнулся, а когда Павлик снова увидел его торжествующее лицо, в руке Валерика исходил розовыми искрами топаз величиной с теннисный шарик.
— Это чо? Это зачем выкинул? — приглушенно скандалил закадычный «приятель» Пархомцева, прочно сжимая топаз в мосластом кулаке. Совсем некстати возник взмыленный Володя, Валерик упрятал трофей. Затем молча и сноровисто он обшарил карманы кладовладельца. Последний старался показать, что камень был единственным. Горячая мимика кладовладельца не оказала должного впечатления, ибо Валерика интересовало нечто другое, а именно, документы жертвы, изъяв которые налетчик исчез.
Соваться к выходу без карточки, удостоверяющей личность, было не просто чревато, а прямо-таки смертельно опасно.
Обмирая на ходу, Павел еле переставлял ноги, увлекаемый толпой в направлении досмотра...
Впереди оставалось человек двадцать. Очередь сокращалась быстро. Очередной досмотрщик впивался в подозреваемого; прилипал к нему, словно минога; резко встряхивал, выворачивая наизнанку; неуловимыми движениями доставал дно карманов, изнанку обшлагов, оборотную сторону манжет. Зазевавшихся, рефлекторно сопротивляющихся брали на прием. Оглушив, обыскивали, придерживая на весу за широрот; петом волокли к патрульной машине, белый борт которой украшал шутливый девиз: «Мы не за безгрешных. Мы против греха». Коротконогий господин, подпирающий Павлика сзади, прочел надпись, сплюнул зло: «Для плутов и бог — плут». Павлик опасливо отшатнулся.
— «Предельщика» поймали!!!
Люди кинулись на крик. Полицейские в штатском и румяный «безвнуковец» открыли дорогу толпе. Охнула пожилая госпожа. Треснула загородка, обрамляющая проход.
«Предельщиков» Павлик прежде не встречал. Да и вряд ли кто-нибудь из бегущей «публики видывал хоть одного, «предельщика». Толпу раздирало любопытство, а главное — радость избавления от досмотра. Господа были раздражены, взвинчены, заинтригованы и жаждали разрядки. Лучшим объектом такой разрядки мог служить загадочный «пределыцик» — один из тех, кто пытался низвергнуть демократию, кто выступал за ограничение гражданских прав, за монотеизм, за диктатуру, за произвол... Толпа окружила «предельщика». Смяла...
Павлик счел удобным воздержаться от проявления гражданских эмоций и скромно удалился, свернув за угол.
* * *
Последние три месяца Отец читал. Часто помаргивающий телевизионный экран ему не глянулся. Телепередачи раздражали или нагоняли сонливость. Соратника удивила хладнокровная реакция Отца на «голубое чудо». Бессмертный чекист, при всей изворотливости ума, представить не мог столь высокой степени адаптации воскрешенного. Будь он на месте Отца, телевидение, реактивная и ядерная техника явились бы для него совершенным откровением. Отец же был подготовлен ко многому еще в послевоенные годы. Информированности, цепкой памяти его могли позавидовать тысячи из ныне живущих.
Первые дни Отец внутренне усмехался неуклюжей деликатности очкастого «поводыря», по всегдашней привычке своей сохраняя бесстрастный вид. Он всегда исповедывал принцип: «побеждает молчащий». И молчал, и молча осматривался, чтобы распознать среду, могущие послужить ему обстоятельства и людей, окружавших его. Понадобятся ли когда-нибудь накопленные им сведения? Над этим он пока не задумывался, но продолжал накапливать знания, в полном соответствии с натурой. Он готовился к действию, ибо действовать — означало жить.
Книги попадались легковесные, Отец фыркал в усы. Быстро шелестел страницами, попутно тратя сигареты из Валерикового запаса. Да-да, он знал подлинные имена опекунов (и не только Валерика), так как клички и прочие атрибуты конспирации существовали для дураков. Он же привык владеть сутью; и если называл Соратника Соратником, то единственно отдавая дань памяти «стальной когорте», одним из творцов которой считал себя. Имеющееся чтиво казалось обедненным по содержанию. Авторы книг пренебрегали анализом — вершиной деятельности творческого ума. Поначалу он делал правку, размечая на полях аз пунктам. Но скоро сбился; великое множество полутонов, четвертьтонов и более дробных оценок излагаемых событий и мыслей выходило за рамки любой классификации. Пестрота изложения раздражала сетчатку глаз, угнетала мозг.
Читая о самом себе, Отец поражался смелости публикаторов. Пишущий сильно рискует, указывая мотивы, которыми руководствуется в своей деятельности Личность...
За малым предполагается великое, а вместо великого порой ухватываются незначительные детали. Так, поведение, обусловленное банальным несварением желудка, видится близорукому глазу проявлением вселенской скорби, личная приязнь — выражением общественных тенденций, случайная улыбка — симптомом социального торжества. Но главное, чего Отец не мог простить авторам трудов, претендующих на серьезное исследование, — расчеловечивание его самого. Он искал, но не находил себя, обуреваемого затяжными страстями и кратковременными увлечениями, подверженного обычным слабостям, любящего вкусно поесть, вздорного семьянина и страдающего статиста. В каждом из писаний он представал то богом, подобным Яхве или Перуну, то сатаной, вроде Архимана или, бери выше, — Люцифера, но нигде он не был... человеком.
Писательские потуги наводили на грустные ассоциации: а не был ли и он также зашорен, также подвержен крайностям, уценивая своих предшественников и современников?
Вновь и вновь Отец посылал Валерика в библиотеку. «Чистокровный гуран» тихо бесился. Прятал от Отца сигареты. Таскал книги с великой неохотой, подумывая при этом, что вождей нужно, давить будто тараканов, что от вождей русскому человеку — одна срамота и никакого навара. Его ненависть к воскрешенному подпитывалась благосклонностью Отца к Копченому. Кабы не Отец, Ростислав давно бы загнулся в психушке и не мозолил бы глаза бывшему приятелю. Валерик не догадывался, что воскрешенный сам подсознательно опасался чудотворца. Ну, может не опасался, но уважал; хотя любви к Пархомцеву, конечно, не испытывал. Убогий, лишенный разума, беззащитный Копченый ворвался в заново возродившееся сознание Отца независимой, никому не подконтрольной силой. А сила достойна уважения.
* * *
Особа-олень крутанула руль. Машина взлягнула, щелкнула колесами о гравий на обочине, вильнула в просвет между березами; потом, зарычав на крутизну склона, развернулась боком и встала, невидимая от тракта.
Двигатель смолк.
Случайная спутница Ростислава уткнулась лбом в руки, сомкнутые мертвой хваткой на ребристом ободе рулевого колеса. Так она просидела минут десять. И все это время он сохранял неподвижность, не желая тревожить ее.
— Там были все? Или их гораздо больше?
Он вздрогнул. Спутница косила глазом в его сторону, по-прежнему не поднимая головы,
— Есть и другие. Те гораздо опасней.
— Кто они?
— Какая-то Служба Профилактики.
Дама-олень выпрямилась и присвистнула. Затем протянула:
— Проблема-а-а...
Ее реакция настораживала.
— Тебе знакома Служба?
— Наслышана. Замечательная перспектива — лишиться здоровья и головы.
Хлопнула дверца. Он посидел с полминуты в одиночестве и тоже вышел из машины. Женщина посмотрела на него в упор. Теперь, без очков, ее взгляд буквально гипнотизировал.
— За обычным бродягой мальчики из Службы гоняться не будут. Их внимание еще надо заслужить...
Окончила она вопросом в лоб.
— Что ты им сделал... хорошего?
— Действительно. Что я им сделал?
Возможно, психолог из него не получился бы, однако сейчас он с пронзительной ясностью осознал, что сделался опасной обузой для попутчицы, что она тоже понимает это и что единственно приемлемый выход для нее — уехать, бросив Ростислава, как сбрасывают ставший неподъемным балласт, наконец, что именно так она и сделает, если только не сошла с ума или не придумала откупиться им.
Ему следовало начать первым. Он промолчал.
— Мне жаль...
— Не стоит. Я без того вам обязан...
Дама-олень куснула ноготь указательного пальца. Ростислав посочувствовал ей:
— Скверно, если тебя перехватят.
— Какие у них претензии ко мне? Подсадила пассажира? Да. Испортила настроение трем молодцам из красной машины? Тоже да. Но должны же они понимать, что сопротивлялась я от испуга, по незнанию. Откуда мне знать, кто они такие. Могла я допустить, что это — угонщики? Или кто похуже? Вправе я опасаться за свою честь при таком квелом спутнике?
Шутовски сморщившись, он замахал руками:
— Достаточно, достаточно... Меня ты уже убедила. Осталось убедить «строгих специалистов по профилактике», — Он прикинул варианты. С большой неохотой предложил: — Оставайтесь здесь. Я выйду на тракт, а там проголосую. Допустим, засада с красной машиной — не единственная. Тогда первым пробиваться буду я. Ребята из Службы будут вынуждены заняться мной и тогда...
Плечи дамы передернулись, ей стало зябко.
— Не люблю ждать, поэтому первой поеду я. Где-то у перевала есть пост... Полицейские примут меры для обеспечения моей и твоей безопасности. Хотя, — ее нижняя губа пренебрежительно оттопырилась. При виде полных соблазнительных розовых губ Ростислав затаил дух. — Полицейские — такие скоты.
Противоречить было глупо. Ростислав кивнул. Осталось непонятным: то ли его кивок означал согласие с тем, что полицейские — скоты, то ли он соглашался с отъездом дамы-оленя. Она предпочла думать второе.
На полицейских Пархомцев полагался меньше, чем только уехавшая особа. А что делать? Поэтому он уселся на шершавый от лишайников валун, собираясь с духом, прежде чем покинуть уютную поляну. Нервная дрожь волнами пробегала по телу. Хотелось покоя. Хотелось, чтобы дама-олень сидела рядом, глядя на него странно-раскосыми глазами.
Хохрик не был преступным котом ни по убеждениям, ни по натуре. Он вообще не считал себя существом аморальным. Как заметил Копченый, мыслил кот широко, но беспорядочно, отчего то и дело завирался. Например: Хохрик утверждал, что люди противоречат себе на каждом шагу, чем причиняют друг другу всевозможный вред. «Заколготился ныне народ», — рассуждал он. — «Последние грибы поднялись на дыбы».
В таком духе хвостатый мятежник шпарил напропалую, заверяя: в поведении людей, на его кошачий взгляд, отсутствует всякая логика. Какой кот, раздобыв молока, станет хранить его в железном стылом ящике, вместо, того, чтобы сразу же вылакать... Люди не ловят мышей... Ищут блох у ближнего... Правда, Хохрик тоже мышей... не так чтобы уж очень. Нет единственно по причине расхождения интересов — своих и мышиных. Ведь юркие твари берут от жизни одно, он — другое. А чего, да сколько — дело десятое. В конце концов, пузо счета на знает; добытое надо съедать, к не исчислять...
Люди бездарны, несамостоятельны, в чем признаются сами, без всякого стеснения. Они не в состоянии добыть себе корм без так называемого руководства. Это же околеть можно? Попробовал бы соседский Барсик указать Хохрику в отношении того, с какого конца есть колбасную шкурку. Да, Барсик еще на Конек крыши не был в состоянии влезть, когда на счету Хохрика уже имелась преогромнейшая крыса. Опять же, сам Хохрик не собирался обучать соседа искусству снимать сливки. Что, Барсик своим умой не дойдет? Какой он после этого кот?
Хохрик неоднократно убеждал Копченого в том, что люди — подлецы и недотепы. Сделав глупость, они не конфузятся, а стараются свалить вину на того, кто пониже ростом. Хотя бы, на без вины виноватых котов. Сколько Хохрик себя помнит, двуногие поклонялись бумаге, плану и обстоятельствам, которые перечеркивали план. Такой, значит, план! Вот он план на нюх не обонял. Кошачье племя отроду не пеняет на обстоятельства: скверную погоду, чересчур узкие заборные щели, слишком проворных мышей иди злых собак. Кошачий принцип — действие и выносливость. Терпение и труд все перетрут. И нечего ныть! Такова жизнь: всегда были, есть и будут препятствия на неверном пути к успеху. Что ж! Промахнулся раз — прыгай другой, и не жди хозяйской подсказки да ласки, тогда избежишь и таски. Ходи сам по себе — с голоду не сдохнешь...
Наконец, хвостатый квартирант был уверен, что блохи заводятся от тоски, а злыдни — по причине человеческой дури. Эх! Если бы так.
Звук автомобильного сигнала вспугнул дрему. Пархомцев вскочил.
Озираясь и прячась за березовые стволы, он приблизился к дороге. Знакомый автомобиль жался у обочины.
Дама-олень приглашающе махнула рукой. Он вновь осмотрелся. На дороге было пусто. Не было никого и в машине, если не считать знакомой особы за рулем, которая нетерпеливым жестом распахнула дверцу.
— Влезай. Скорее!
— Зачем ты вернулась?
— Не бросать же в лесу такое сокровище, за которым охотится столько народу. Подобная добыча сгодится и самой.
Ростислав поперхнулся смехом. Все время, пока он смеялся, она пристально глядела на него, не трогая машину с места. Ее оценивающий взгляд настораживал и одновременно расслаблял.
— Угу. А ты вполне... Просто тебя следует привести в порядок: помыть, постричь, одеть соответственно эпохе...
— И занимаемому положению, — зло перебил ее.
— Это лишнее. Если принять во внимание, что общественное положение господина, сидящего в настоящий момент подле очаровательной дамы, весьма и весьма неопределенно...
Она излагала мысли нарочито сложными оборотами, отчего Ростислав начинал злиться. Но злость попутчика ее, похоже, только забавляла.
— Решено! Тобой займусь я.
Последнее звучало двусмысленно. Утверждая последнее, и утверждая довольно решительно, даже провокационно, дама-олень вольно изогнулась в его сторону. Теперь ему приходилось туго. Незатейливый наряд попутчицы, — юбка и блузка, — оттенял достоинства женской фигуры. Нет. Скорее, высветлял определенные детали. Например, грудь. Сравнительно небольшие округлости странным образом выходили за отведенные им пределы, означенные блузкой. Высвободиться полностью им препятствовал сущий пустяк — напряженные соски, туго упиравшиеся в шелковистую ткань.
От оценки других подробностей гибкого женского тела Ростислав попросту отказался, опасаюсь пошлых сравнений и боясь выдать себя.
Благое намерение пришло с опозданием: лицо его покраснело, а брови дамы-оленя удивленно-насмешливо приподнялись.
Сконфуженный, он торопливо и сбивчиво стал рассказывать о цели предпринятой им поездки. Хотя его об этом не просили.
— Действительно — псих! — таково было заключение. — Просить женщину о помощи в поисках другой? Впрочем... В этом есть нечто утонченное.
Машина медленно двинулась по свежеукатанному асфальту.
— Если, ко всему, ты проинформируешь меня о прочих нюансах своей романтической истории, можно надеяться на ее приличный конец... У меня имеются кое-какие связи. Как же без них? Тс-с-с!.. Речь идет не о постельных связях. Правда, покривлю душой, если заверю, что мое целомудрие страдает при виде совмещенной спальни. Нет. Имеются в виду знакомства как в официальных, так и полулегальных кругах. Разумеется, не затрагивающих криминальную сферу...
Их действительно поджидали. И именно в том месте, где предполагала она.
Предусмотрительность попутчицы еще раз выручила обоих.
Она затормозила метрах в пятидесяти от скалы, обозначавшей крутой поворот.
На этот раз капкан был оборудован достаточно профессионально. Четверо мужчин в форме дорожной полиции стерегли участок тракта. Точнее, это не было собственно трактом: крупные глыбы камня перегораживали дорогу. Оставшийся просвет казался таким узким, что сквозь него могла протиснуться, пожалуй, только малолитражка.
Будь Пархомцев один, он поверил бы в подлинность полицейских, стерегших окрестности с автоматами наизготовку. Да и попутчица Ростислава не сразу выявила подмену. А может, полицейские действительно были таковыми; только платил им кто-то другой, но никак не муниципалитет, ибо от происходящего на дороге попахивало тухлятиной.
Попутчица потянула Ростислава назад за скалу:
— Легче. Заметят.
Пояснила:
— На вооружении дорожной полиции нет автоматов «узи». Один мой приятель как-то просвещал на этот счет...
Ее наблюдательность поражала. Конечно, не следовало забывать о том, что сам он видел дорожную полицию впервые в своей сознательной жизни. После долгой болезни он как бы заново народился на свет, в котором слишком многое переменилось. Так или иначе, ему было за что благодарить свою спутницу...
Ближайший свороток уводил в лес. Выбирать не приходилось. Наверняка все приличные дороги, ведущие из капкана, в котором оказались Ростислав и его попутчица, были перекрыты. Дама-олень направила машину по проселку.
— Надо где-нибудь пересидеть ночь. Возможно, ребятам из Службы надоест торчать у камней. А может, они решат, что птичка от них ускользнула. В том и другом случае к утру засаду снимут, а тракт станет свободным.
Он не разделял ее оптимизма. Однако, кивнул согласно, подбадривая себя и попутчицу. Знать бы ему всю трагичность собственного положения! С каждой минутой, с каждым часом шансов на спасение становилось все меньше. Соратник делался бесконтрольным, благоразумная часть Союза была разогнана, наиболее несговорчивые члены его уничтожены. Полиция сбивалась с ног, подбирая трупы респектабельных господ, солидных отставников, маститых функционеров некогда могущественной партии, дважды и трижды лауреатов на ниве соцреализма, профсоюзных и демократических боссов, с многократно незапятнанной репутацией бесстрашных защитников общественных интересов...
Загадочный мор прошел по городам и весям. Покойников находили в самых неподходящих для упокоения и возвышенных эпитафий углах: в выгребных ямах, на чердаке дома свиданий, в болотной жиже, на городской свалке... Повезло, если удушение в мало-мальски приличном месте можно считать везением, очень немногим. Бывший чекист, выказывал былую беспощадность. Но, будучи занятым множеством «горящих» дел, он ни на секунду не забывал о Пархомцеве. Новые и новые, высвободившиеся после проведения экзекуций, ребята, бросались на поиски чудотворца. Наказ им давался твердый: брать Пархомцева живым, а ликвидировать лишь в случае чрезвычайной необходимости. О запрете ни побои и увечья в наказе не говорилось ничего.
В помощь без того многочисленным «службистам» подъезжали поджарые ребята-боевики с Кавказа и из глухих азиатских кишлаков, молчаливые парни Балтии, румянощекие крепыши из Малороссии.... Среди прибывающих попадались даже «запредельщики». К ним относились особо деликатно, памятуя об общей задаче, и в объекты «осуждения» не намечали. Не ущемляли и «реформистов», также встречающихся среди гостей. Благо, материала для утоления общественного темперамента хватало и без «реформистов». «Осуждаемых» легко подбирали среди Многоумствующих «умеренных». Таким образом, как и встарь, больше всего доставалось обывателю. Конечно, это было гнусно. Но что еще делать с обывателем? Не на божницу же его сажать.
Кольцо вокруг гор уплотнялось. Стягивалось туго-натуго. Мышь не сумела бы проскочить через частую есть засад. Однако» чудотворец по-прежнему ускользал.
Ростислав дремал, неудобно скорчившись, на переднем сиденье роскошной машины, ничуть не ведая о масштабах облавы. Через лобовое стекло тупо пялилась на него желтая до отвращения луна, освещающая полурасстегнутую блузку попутчицы, тихо дышавшей у Ростислава за спиной. Много ниже машины пришепетывала на перекатах Катунь. Облизывала молочно-черным языком неподатливые берега. Пескариные хвосты запятыми высовывались из-под гальки, вздрагивали, принимая колкие удары песчинок, скрывались на миг в тени и проглядывали вновь, рискуя быть схваченными жиреющими ленком или тайменем. По ту сторону реки наемный пастух жег костер. Искры отлого ложились в воде. Шипели, угасая. Пескари пружинили ото дна. Ловили обмирающие искры беззубым ртом. Досадующе поводили короткими усами. Открытая грудь дамы-оленя золотилась в свете луны, будто осыпанная этими искрами. Приподнимаясь, чтобы устроиться поудобней, он ловил взглядом ее зачарованное сном лицо, яркие округлости ее груди и ежился от прилива крови к голове, подозревая, что дама-олень не спит. Иначе отчего мимолетная улыбка нет-нет, да и коснется пухлых губ, а в затушенных тенью глазницах мелькают частые просверки?
Ближе к рассвету он изнемог от, ломоты в теле, от давно не удовлетворяемого желания. Видение высокой женской груди вызывало жажду и едва ли не обморок...
* * *
Арахланихина развалюха от домика Копченого наискосок. Ох уж эта Арахланиха! Она в прежних годах, да молодого соку была ведьма-ведьмой, обладала сноровкой на ворожбу и на порчу. Любого стоящего мужика к последней кикиморе могла приворожить.
Первый Арахланихин супруг затерялся в войну. Да разве ей одной такое горе? Много баб вдовствовало в ту пору. Но только ни к кому другому, а именно к ней присох кузнец.
Местный кузнец был мужчиной здоровым, видным из себя, ну разве увечным немного, так это самую малость. Имелось у него от фронтовой контузии невнимательность на уши. Какой же это дефект? И что до его частичной глухоты изголодавшейся бабе? Вдовы в кузнецовом слухе мало нуждались.
Эх! Какие девки по селу незанятыми ходили! Однако бравый кузнец, как рассказывали Копченому, на них без всякого взимания. Взял, да и посватал Арахланиху. Но она и после того запиралась в колдовстве. «на коль, — отругивалась, — мне этакая болячка, кабы я присушивать умела? выродись я колдуньей, приворожила бы в таком разе нашего председателя. Ведь он-то, кузнец, он, бабы чересчур съестной; умнет зараз буханку хлеба и не охнет. Его прокормить — убить дешевле».
Кликала, кликала она, да и накликала кузнецу заупокой. Был мужик, а вишь... помер. Зато председателя Арахланиха попортить не успела. Ликвидировали к тому времени колхоз, и съехал председатель. Перевели сельский люд в советское хозяйство, где начальником — не председатель, но бери выше — директор. Замахиваться на директора дважды вдова, похоже, не насмелилась. Потому и зачахла в одиночестве. Вот такая любовь...
Арахланихина история — полбеды. Помнится, в палату, где мордовали Копченого, поместили вальяжного товарища по прозвищу Марксист. Был Марксист великим знатоком «Капитала», а заодно, страстным поклонником всякого рода собраний. Что ж, когда нет доброго заделья, и собрание сойдет за праздник. Который десяток лет село держится на собраниях. Оно ведь и не тяжко, и не валко, языка ничуть не жалко. Приспособился люд к мероприятиям. Пособираются... Посовещаются... И. хоть молока с зерном от того не прибавится, зато появится ощущение чего-то сотворенного. Ишь как просто! Ударили о зубы языком стронулась глыба. А дале сама пойдет. Ав-то-ма-ти-чес-ки. Сказано же: «Вначале было слово». Словом оно и осталось. Пустым Порожним. А на большее, один черт! ни у кого прав нетути… Надели обывателю ботало на шею. Ходи по собраниям, звук подавай. По звуку определится — туда ли идешь? Не заносит ли тебя влево-вправо, в сторону от выделенной поскотины? Не крадешься ли туда, где трава посочней, не про тебя которая? Затем и надобны собрания, советы, заседания, чтобы мужик всегда был в узде, да тьму специалистов по навешиванию ботал не оставил бы без дела и прикормки. Скотина при ботале себя не слышит.
Копченый Марксисту не раз говорил: «Насилие — не есть метод. Гляди-ка, не вышло бы большее худо». Тому же все нипочем: призывает больных революцию делать, санитаров бить. Будто на свете нет горшего зла, чем санитары. Начинать, так уж с лекарей.
В больницу вальяжный Марксист угодил единственно из-за влечения к насилию и природного отвращения к пацифизму. Взялся он травить в квартире тараканов. Достал за приличные деньги на основе конверсии у армейских подходящее средство и... вывел усачей. А заодно с полсотни кур, породистого кобеля, соседскую свинью со всем семейством и проезжего функционера либерально-демократической партии. Вдобавок, надо еще подумать, отчего Марксистовы жабры, что с правой стороны, вдруг заспешили на свидание к богу? А он: «Чего греха бояться, коли и так черти снятся?»
* * *
Светало...
Ростислав голову, поднял. Попутчица, не оправляя блузки, причесывалась. Дремотно улыбнулась встречь. Перегнулась через спинку сиденья, тронула обнаженной кожей колючей щеки...
«Нет, не случайно, боль тая,
Идет ко мне тропой печальной
На кладбище любовь моя.
Которую я звал случайно.»
«Даже американский президент имеет право не отвечать на вопросы корреспондентов, хотя спрашивать его могут о чем угодно».
Отец в раздражении хотел отшвырнуть очередной опус, но привычно сдержался. Что-то лисье скользнуло в его желтых глазах. Расчетливо медленно он гильотинировал очередную сигарету, раздавил ее коричневыми от никотина пальцами, вынул из пачки другую и закурил. «Цх-х-х. Получается: я питался младенцами? Надо ли так беспардонно врать. Хотя... » Он прищурил глаза. В его время врали не меньше, и, если придерживаться истины, он сам способствовал лжи. А что оставалось? Ложь, пропагандистское вранье, всесветное завирательство — были единственными материалами, которых доставало в избытке, за счет которых в города притекал хлеб, на которых закладывались новые и новые предприятия. Из неправды выплавлялся металл и ковалось оружие. С помощью лжи заправлялись баки машин и тракторов. Враньем выстилались железнодорожные и шоссейные пути... А разве ему это было надобно?! Сегодняшний автор обвиняет Отца в смерти миллионов людей. Кто виноват, что ложь материализуется в нечто конкретное только посредством загубленных жизней? Разве недостаточно того, что он, подобно Господу, сотворил подобное творение? Каково сырье, таков и продукт. Ну, а эти, — нынешние, — лучше его? Нет, они гораздо коварней. Вытащив его из чистилища, где он не осознавал себя, в чистилище осознаваемое! Вытащить, дабы, прячась за его спиной, делать страшное дело. А отвечать ему?
Вчера исчез Пархомцев. Поднявшаяся суета означала одно — Пархомцева ищут. Окажись поиски успешными, чудотворцу несдобровать. Горе побежденным!
В отношении Пархомцева Отец уже пытался кое-что предпринять. Выслушав его, Соратник повел себя более чем странно. Цх-х-х... В последнее время бывший чекист охладел к нему. Стучались моменты, когда Соратник откровенно досадовал на Отца. А вчера в его снулых глазах скользнуло едва ли не презрение. Воскресший становился помехой, и ощущал это. Планы очкастого любителя хромовых сапог решительно менялись. В новых замыслах его оставалось все меньше места для Отца и других.
Опытный тактик, не менее опытный психолог, — извлеченный из небытия Отец сохранил первоначальные способности и просчитывал ситуацию на несколько ходов вперед. Итак, он становится лишним? Отлично! Только не Соратнику обучать его мастерству интриг. Здесь он мог дать фору кой-кому посерьезней вечного чекиста. Он давно озаботился предпринять определенные шаги и теперь ждал результатов.
Володя явился по первому зову. Володин нос хранил последствия знакомства с шикарной попутчицей Ростислава, был припухшим и отливал сизым. Настроение явившегося желало лучшего, а сам он жаждал реванша, поэтому предложение Отца пришлось ему не по душе.
— Соратник недоволен вами. — Воскресший раздумчиво посмотрел в окно. — Он винит вас во всех неудачах.
Парень в кожаной куртке оскалился. Он давно ждал продолжения.
— Соратником сказано: «Придет время и мы избавимся от шантрапы. Уголовники пачкают движение». — Отец предпринял неуклюжую попытку несколько сгладить впечатление от уже сказанного. — Я возражал против... столь резкой критики в твой и Валериков адрес. Цх-х-х... Но кто я, и кто Соратник? И все-таки он неправ. Разбрасываться такими... сотрудниками, как вы,.. мхм... преступно.
Лицо кожаной куртки зачугунело.
— Мне кажется, господин (этим «господин» было сказано многое) Соратник поддался слабости, пока еще простительной, и теперь мечтает о единоличном руководстве. Надо помочь ему... осознать ошибку.
— Согласен, — кожаная куртка был краток.
Характер помощи, которую собирался оказать своему шефу Володя, понравился Отцу настолько, что, помешкав, он извлек из кармана и протянул парню наган. — Такая вещь пригодится в твоем деле. Мало ли что. Ходят слухи... на дороге шалят.
Наган пренебрежительно отвергли. Володя распахнул куртку; воскресший уважительно глянул на автомат и две гранаты, размещенные в специальных кармашках на внутренней стороне кожанки.
... Догадка Володи оправдалась скоро. Скорее, чем они ожидали. От поста, где Ростислава видели в последний раз, и до ближайшей засады тракт наматывал серпантин протяженностью в четыре километра. На этом, свободном от парней из Службы Профилактики, участке затаится для двоих не составляло труда. Куда сложнее — спрятать автомобиль. Насколько Володя был в курсе последних донесений (портативная рация хрипела не переставая) автомобиль шикарной дамы и по сю минуту находился в розыске.
Узкий съезд на проселок маскировался кустарником. Они было проскочили его. Пришлось дать задний ход, чтобы «уазик» вписался в просвет между полосами ивняка.
Миновав кустарник, Володя затормозил.
— Дальше придется пешедралом. Эта дорога далеко не идет. Там. — он неопределенно махнул рукой, — когда-то стояла летняя дойка. Молоковозники колею накатали...
Он поставил автомат на стрельбу очередями; пошел вперед, держась кустов.
«Службисты» подобрались к поляне, на которой стоял автомобиль дамы-оленя, минутой раньше Отца и его спутника. Поляна в самой широкой части своей, не достигала двадцати метров. Слева от поляны виднелся скотопрогон. Он давно зарос травой и угадывался частыми рядами кочек; набитых за десятки сезонов копытами коровьих гуртов. Один край поляны сползал к ручью. Берег ручья хранил следы обваловки — здесь некогда был водопой. Сама площадка, где стояла дойка, напоминала о себе парами обуглившихся столбов да окислившимся металлом, проглядывающим из полутораметровых зарослей крапивы.
«Службистов» было четверо. Одетые в маскировочные комбинезоны времен «покорения» Афганистана, они залегли неподалеку от ручья и терпеливо выжидали момента для броска.
Сколько Володя ни вглядывался в противоположный край поляны, больше никого он не обнаружил. Отец расслышал, как он бормотнул себе под нос: «Лопухи, архангелов мать. Скопились в одном месте, будто куропатки». Чуть слышно скрипнуло железо — продолговатый глушитель сел на конец ствола Володиного автомата.
«Службисты» насторожились. Машина дамы-оленя была им видна полностью. Тогда как со стороны Отца просматривался лишь край капота. В ответ на немой Володин вопрос Отец рубяще опустил ладонь. Кожаная куртка улыбчиво показал, что понял, тронул затвор...
Частые хлопки разорвали утреннюю тишину.
Женщина в машине прянула назад. Вдавилась спиной в сиденье. Лобовое стекло автомобиля взорвалось трещинами; цепочка круглых отверстий пробежала по стеклу, что-то с силой вспороло обшивку кресла у самого плеча Ростислава.
Рывок! Пархомцев выпал на траву. Перекатился. Дернул заднюю дверцу. Потянул попутчицу за руку. Коротко охнув, она свалилась на него. Ростислав поднял попутчицу, налег всем телом, ожидая продолжения стрельбы...
Первая же очередь кожаной куртки сразила двоих. Еще один был задет, как видно, несерьезно.
Подпольная выучка «службистов» не уступала японским стандартам: затихли хлопки Володиного автомата, как началась ответная прицельная пальба.
В считанные секунды парни из Службы обрушили огонь на машину, так как решили, что стреляли оттуда. Однако через четверть минуты сделалось горячо уже Володе. Пули секли листву. Визгливо натыкались на бункера, кормушки, мятые трубы, сваленные грудой среди кустов. На голову Отца сыпались срезанные свинцом ветки. Он пожалел об оставленной в «уазике» шляпе. Приник к земле... Преодолел потрясение... На корточках передвинулся влево и пальнул из нагана.
Теперь оставшиеся в живых «службисты» деловито взялись за Отца. Ливень пуль хлестал над его лежбищем. Оставалось поражаться тому, что он еще жив.
Передышка, полученная Володей, пошла тому во благо. Он сменил позицию, дал очередь, ужом прополз старым руслом ручья, и появился в тылу у противника.
Здесь он мог не церемонится. Выпрямившись во весь рост, он расстрелял «службистов» в упор...
Ботинки на рубчатой, подошве остановились у самого лица. Смотреть снизу вверх на подошедшего было тяжело. Голубые глаза «кожаной куртки» бесстрастно взирали на Ростислава, выдерживая встречный взгляд. Наконец Володя отвернулся. Тяжело ступая, пошагал туда, где находился владелец старого нагана. Уже на ходу он буркнул: «Отец...» Этого хватило, чтобы Ростислав поднялся, не опасаясь более.
... Коренастый человек страдал молча. Две тупоносые пули прошили его живот... Однажды он уже познал смерть. Потому сейчас к возможности умереть заново отнесся философски. Хотя кончина предстояла мучительная. Наверно также уходили из жизни тысячи смертных, которые отправлялись в небытие по его,. Отца, воле. И совсем неважно в каком месте настигал их конец. Гораздо важнее — с чем они уходили? А он? Сейчас в эти минуты, он был обычным маленьким человеком. Не всесильным. Таким, каким его сотворила природа... Он думал о матери. О тех редких мгновениях, когда заботился не он, а о нем заботилась мать... Умирающий жалел. Себя ли? О себе ли? О величественной и жалкой судьбе своей?.. Отец жалел человека. Пожалуй впервые у него оказалось время на размышления... Они втащили его в салон. Попутчица Ростислава куснула губу. Хрипло кашлянула в кулак, усаживаясь за руль.
— Как ты?
Сонный Володин голос ответил:
— За меня, Пархомцев, не боись. Отца... выручи! Привязался я к нему.
— Ты убил Мих-Миха?
— Брехать не стану — не я. Хотя, послали бы меня.
— Наташу... кто?
Плечи кожаной куртки поднялись и опустились.
— Пошел я. — Он протянул руку, тут же отдернул. — Дорогу на Перевал я очищу. Береги Отца. Не убережешь — под землей разыщу. — Понял, что перестарался. Умолк. Положил на колени Пархомцеву один на трофейных автоматов. — Бывайте!
Ростислав кивнул.
С большим грохотом Доходяга обрушился на стул. На мгновение показалось; что ножки стула отлетят, однако казенная мебель, спроектированная с учетом больших нагрузок и потрясений, устояла.
— Влип ты капитально...
Тщедушный перекупщик взвыл:
— За что, начальник?
— А за советскую власть.
Доходяга взвыл вторично:
— Ей-ей, начальник, не пойму...
— Понимаешь. Ты у нас умненький.
— Не-а.
Торжествующий смех Закурдаева шевельнул бумаги на столе:
— Первый раз встречаюсь с человеком, который не согласен с тем, что он — умный.
Мосластые руки шефа задвигались перед носом арестованного. Тот боязливо сощурился.
— А камушки?! Ты их у себя в почках накопил? Так мы тебя вылечим. Здесь многие болезни лечатся, не только почечно-каменная... У нас твои дела имеются, аж... с восьмидесятых годов.
Арестованный недоверчиво хмыкнул.
— Напрасно сомневаешься. На других не имеются — сожгли в переполохе, а тебе « повезло»: твое досье уцелело. Корочки, правда, чуть-чуть обуглились.
В черносливовых глазах доходяги вспыхнула решимость:
— Не имеете права стращать. Требую адвоката, так как адвокат мне полагается по закону.
—Будет! Все будет. Но если ты, — вкрадчивость переполняла Закурдаева, — будешь выкобениваться адвокат поможет тебе, как верблюду третий горб. Куча свидетелей покажет: к нам ты поступил уже без камушков и без… почек, здесь тебя никто пальцем не трогал, зато ты кидался на всех, и по нашему недосмотру, разумеется, изувечил сокамерника.
Кажется сокамерник Доходяги в самом деле выглядел не блестяще, потому что перекупщик окончательно поблек.
— Ну, не надо расстраиваться, начальник. Нервные клетки не восстанавливаются. Обойдемся без адвоката. Только... Честность тоже чего-нибудь стоит. А?
— Гарантирую...
— Спрашивайте.
— Чьи камни?
— Черт его!.. Нет-нет, внешность этого лоха я запомнил по гроб жизни. Но вот кто он? откуда?..
Голос перекупщика сделался жалобным. — Ей-ей, мы с ним снюхались случайно. Мне его фамилия и адрес ни к чему. Вы же знаете, у, нашего брата глаз-рентген. Паспортов не спрашиваем, так вникаем. Этот жук, которого камушки, он — мужик легкий, не из ваших. Опять же, товар у него роскошный. Люди из вашей епархии с такой приманкой на охоту не ходят. За такой товар «тихарю» кучу бумаг исписать надо, пока его ему доверят в руки взять...
Терпение Закурдаева кончилось. Понимая это, Доходяга перешел к конкретной части своих показаний:
— ...Я его разок, еще до камушков, видел.
— Кого?
— Да жука, которого ищете. По-моему его еще в прошлый раз пасли. Но пасли не ваши, не «безвнуковцы»...
Он важно замолчал.
— Кто же?
— Серьезный парнишка был в «топтунах». — Взглянул скорбно. — Я на вашем вопросе решительно могу пострадать.
— Не жмись, мы слово держим.
— Ну... Мне кажется, тот, кто водил интересующего вас человека, был из... Службы.
— Заливаешь. Нету такой.
— Есть, начальник, есть! Богом клянусь! Пиши адресок парнишки. Но обо мне, чтоб ни-ни...
Шеф полиции записал. Раздумчиво посмотрел на задержанного.
— Как насчет нашего условия?
— Будет. Пересидишь у нас до утра. А там... гуляй Вася. Сам понимаешь, твой отпуск, — посмеялся сказанной двусмысленности, — оформить нужно надлежащим образом, не то разговоры пойдут.
Когда Доходягу увели, в кабинет вошел Наймушкин.
— Как?
Закурдаев бросил через стол листы с показаниями... Ознакомившись, Наймушкин подвигал челюстями. Записи смял. Сунул к огню зажигалки.
Воспламенившаяся бумага упала дотлевать в объемистую пепельницу. А Наймушкин также неспешно, как за пару минут до того шеф, взглянул на дверь, через которую вывели задержанного.
— Понято. Перекупщики обществу не нужны. Один вред от них. Так я пойду распоряжусь?
Закурдаев помотал головой:
— Сделаешь сам. Ориентируйся на сердечную недостаточность. Все.
В горле Отца слышались хрипы. Лоб его был сухим и походил цветом на свинцовые белила. Бесконечность готовилась поглотить умирающего, а он, изнуряя себя, говорил и говорил, словно хотел наверстать то, что по молчаливой и скрытной природе своей упустил за время двукратного пребывания на суетной земле. Выносливость, которую он выказывал, если не поражала, то уж во всяком случае трогала. Он говорил. А свидетели его агонии видели, что его слова предназначались не им, а кому-то огромному, непостижимо далекому, находящемуся по другую сторону гор. Дама-олень достала из машины сифон с минеральной водой. Вода не потребовалась: умирающий не чувствовал жажды.
— Твой талант, Пархомцев, излишен на этот раз. Я запрещаю трогать меня.
Ростислав вздрогнул: мысли Отца совпали с его собственными. Только в отличие от раненого он думал о том, что не сумел бы помочь последнему, даже если бы захотел. Не хотел.
— Я считаю: нельзя менять природу. Уходя — уходи! Зачем человеку вторая жизнь? Подсчитывать ошибки первой? Ни вторая, ни третья жизнь не сделает человека счастливее, не сделает мудрей. Наша мудрость, как и наше счастье, — разовый капитал... И десять жизней не вытравят страха перед концом. Что ж. Лучше отбояться единожды. Но навсегда. Мне нечего завещать. Я лишен права что-либо оставлять после себя. Разве может малая часть завещать целому? Ведь я — лишь часть того праха, который где-то покоится. На мне вина перед тем Отцом, который был до меня. Однако главная вина на тебе, Пархомцев... Живое в мертвом, мертвое — в живом! Страшно!.. Две жизни — это две смерти! Помни...
— Бредит, — не то спросила, не то охнула, жалеючи умирающего, обладательница теперь уже не роскошной, а в грязи и пробоинах от пуль машины.
— Он не бредит, — никого не стесняясь рыдал Ростислав. Вдалеке протрещали автоматные очереди. В районе боя пару раз гукнуло. Стало понятно, что на тракте сработали гранаты. Прямо над головами со звоном промчался вертолет с синей полосой и латинской буквой «р» на фюзеляже. Верхушки берез рвануло током воздуха; из гнезд на пузе металлической «стрекозы» просыпались газовые снаряды, с шипом унеслись к месту схватки.
Веки Отца сомкнулись. Поднесенная к его губам ладонь не ощутила тепла...
«Уазик» ворвался на поляну, словно выпущенный из пращи. Юзанул. Осел на бок, хлопнув истерзанной покрышкой. Кабина «уазика» представляла собой дуршлаг. Траектории пуль, пронизавших кабину, пересекались внутри ее столь часто, что безопасного пространства попросту не оставалось. И все-таки водитель изрешеченной машины был невредим. Он выпрыгнул наружу на ходу. Приземлился на корточки. Не вставая, и удерживая оружие наизготове, он зыркнул глазами по окрестностям. Глянул вверх, опасаясь вертолета.
— Ни черта хорошего!
Потом коротко выругался.
— Там этих чурок и хохлов набилось столько — «градом» не прошибешь.
Тут он заметил мертвого Отца. Рассвирепел. Схватился за автомат. В третий раз за истекшие сутки страшное дульное отверстие глянуло в лицо Ростислава.
— Тебе что было сказано?!
Ростислав тоже обозлился:
— Заткни свою железку себе в зад!— смутился прорвавшейся грубости, но вовсе не из-за Володи. — Так решил он. Не тебе решать за него, и... за меня.
— Он правда так хотел?
Дама-олень кивнула. С каждой минутой она все внимательней приглядывалась к Ростиславу. Временами ею овладевал испуг, хотя она выглядела уверенней, чем это удавалось ее спутнику.
— Ну вот что. Моим колесам, — Володя пнул расхристанную покрышку, — каюк.. На вашем же ландолете далеко не уедешь. — Он ловко сменил обойму, швырнув разряженную, в кусты. — Спасибо полиции. Часа два три засранцы из Службы будут утирать сопли и слезы после газовой атаки. Попытайтесь проехать березняком на другую сторону гряды. Проберетесь в лощину, а там проходит дорога... Возможно вам удастся объезд. Терять все равно нечего.
Проходя мимо Пархомцева, он взвился:
— Пристрелить бы тебя!
Обернулся к телу Отца, перешел на деловой тон:
— Точно пристрелю, если тебе повезет и ты выскочишь из этой мясорубки живым, но забудешь похоронить Его.
— Прежде чем убить меня, — огрызнулся невесело Ростислав.
— Я-то уцелею. Я обязательно уцелею. Зато дружку твоему бывшему долгой жизни гарантировать не могу.
Спустя минуту разодранная на левом плече Володина кожаная куртка скрылась среди камней и деревьев...
Дорога за грядой была. Не дорога — парная колея, приметная лентами короткорослого, словно прикатанного, подорожника.
Ростислав оглянулся. Каким-то чудом неразворотливая машина одолела подъем, усыпанный валежником, а затем сползла по противоположному склону, протискиваясь между корявых стволов, сминая березовый и осиновый подрост. Местами колеса глубоко проседали в прелом грунте. Примерно на середине спуска двигатель запсиховал, загоняя автомобиль между плотно сбежавшимися друг к дружке деревьями.
Дорогой голова Отца покачивалась, слепо указывая направление, которого следовало придерживаться. В какой-то момент тело его зависло, налегло на спинку переднего сиденья, так что остывший лоб ткнулся меж лопаток водительницы.
— Да положи ты его!— не выдержала дама. Резко подалась к рулю, содрогаясь от мерзкого ощущения мертвой головы у себя на спине.
Ростислав, неловко развернувшись и морщась, толкал мертвеца в грудь до тех пор, пока чугунно-тяжелый торс не опрокинулся вбок, и не лег вдоль сиденья. Следом за падением мертвеца послышался отчетливый звук соприкосновения его головы с металлом. «Вот он мой крест!»— подумал чудотворец.
На первом бугре машина встала.
— Что случилось?
— Мы что — поедем с ним до конца?— Тонкий палец с вишневого цвета ногтем показал назад. — Оригинально — наткнуться на полицию, имея в компании бездыханное тело. И не просто бездыханное, а с двумя пулевыми отверстиями в животе. Куда как интересно. Если не забывать, что смертную казнь за убийство пока не отменили.
— Не мы же убили его...
— Этот несущественный факт нам придется доказать.
Дама-олень поморщилась:
— Я уж молчу о твоем обязательстве, данном знакомому нам Володе.
— Гм... — Он смутился.
— Темпераментный молодой человек. — Уточнила. — Этот самый Володя, обещавший тебя пристрелить.
На такую характеристику «кожаной куртки» Пархомцев отреагировал кисло. Ответствовал расплывчиво:
— Да уж...
— Не да уж. Постарайся быть объективным. У знакомого нам Володи вероятно имелись веские основания недовольствовать бродягой вроде тебя... — Ростислав саркастически поклонился Она ответила ему тем же.
— Я не буду доискиваться, что это за основания. Суть не в них. Будь я на месте Володи, обязательно припомнила бы и некий газовый баллончик. Он этого не сделал. Напротив — выхватил нас из лап ребят Службы Профилактики. — Два последних слова она произнесла гораздо тише. — Скажи теперь, что «кожаная куртка» — не джентльмен. А коснуться его внешности...
— Не надо... касаться.
— О, о, о! Какие нежности при нашей бедности. Подвезла его, называется! Меня дважды чуть не убили... Продырявили мой автомобиль... С десяток раз напугали до смерти... Наконец — посадили на мою шею труп. И после всего я не должна касаться приятных тем. Увольте, дорогой попутчик. Дальше потрюхаешь один. А я желаю, чтобы тебя пристрелили, и как можно быстрей. Только тогда я поеду спокойно.
Оскорбительное «потрюхаешь» обидело его. Почему он должен «трюхать»?
— Нашли могильщика...
— Полезному никогда не вредно учиться. Или бросим Его на дороге? Под первым попавшимся кустом?
Со стороны их разговор мог показаться диким. Но всегда ли плачут на похоронах? Откуда люди взяли, что чья-то смерть — важнейшее событие для всех? Для Ростислава, например? Для его попутчицы? У которых впереди вырисовывалась возможность оказаться в положении Отца?..
Могила получилась мелкой. На большее у Пархомцева не достало ни сил, ни умения. Лопатка, валявшаяся в багажнике, годилась на что угодно, но только не для рытья могил. Чему случайный пассажир даже не удивился. Если сам автомобиль сошел с конвейера в одном из западных Штатов, то инвентарь при нем отдавал отечественной придурью.
Продолговатый бугорок он пригладил обратной стороной лопатки. Настроил на скорбный лад. Одновременно из-за леса донесся звук выстрела: не то охранители порядка начали отлов экстремистов, не то отдышавшиеся бандиты сбивали редкие полицейские заслоны, не то «службисты» Профилактики, прочесывая осинник, вспугивали Пархомцева, словно дикого зверя.
Прощальный взгляд наткнулся на свеженасыпанную землю. Вот и все! Но все ли? Нельзя похоронить однажды погребенного так, чтобы это осталось без последствий. Мир уходящему. Горе вам, если он вернется! Ну, а Ростиславу пришло время уходить. Прищурившись, попутчица спросила в спину:
— Куда?
— «Уходя, уходи».
— Как прикажешь поступить мне?
— Хватит с вас моей компании...
— Прекрасно. Мы снова на «вы». А «вам» не кажется, что «ваша» решимость отдает хамством?
— Вы же мечтали отделаться от столь незадачливого попутчика...
— О, о, о. Ты сбежишь, смоешься слиняешь, провалишься неизвестно куда, а я?
Он устал удивляться.
— Ты поедешь...
— На, чем? У меня нет запасной канистры с горючим.
— Что?!
Ростислав подошел к машине. Просунул руку, повернул ключ зажигания — стрелка указателя уровня топлива дрожала на «нуле».
Хозяйка машины улыбнулась. В ее обуви хорошо прогуливаться по асфальту: высокие каблуки туфлей уступали толщиной карандашу. Как она исхитрялась управлять педалями — в. этих-то туфлях?
До настоящего момента он не обращал внимания ее обувь... Нет, бросать даму нельзя. Пусть вместе с ним она рискует гораздо большим. Решено: он проводит попутчицу до тракта, где ей окажут помощь горючим, а сам отправится дальше.
На том и порешили.
* * *
— Возродить традиции? Возродить то, что перешло к нам? Чушь собачья! — Последовала серия тычков. Не указательным палец — веер ножей выметнулся в лицо Ростислава. «Когда-нибудь я оплошаю. В тот черный день Мих-Мих напишет с меня портрет Гомера, не слишком утруждая свою фантазию по поводу слепоты натурщика». — А если не перешло и нуждается возрождении, — продолжал философ от палитры, — это уже в традиции... Возрождение обычаев? Зачем? Ну зачем натужно загонять себя в прошлое и устанавливать вчерашние порядки Разве обязательно, чтобы «сегодня» было хуже «вчера»? Вчерашние порядки предпочтительней тому, кого «сегодня» могут оставить без власти... Неправедной власти. Ибо праведный, то есть — непогрешивший против высшей нравственности, не стремится подчинять. Общество, бредящее возвратом минувших дней, покоится во лжи. И главное здесь — уяснить, кому выгодна ложь...
Измазанные сепией и ультрамарином, — почему-то всегда только ими, — кисти полетели в траву.
— Возродить! Возродить! Возродить! Возродить культуру... Национальное достоинство... Всякому времени — своя культура. Концу двадцатого столетия неприлично напяливать одеяния Ренессанса... Шуты! Откуда такое количество шутов? Раз невозможно вернуть прошлое, будем подражать?
Тут пришлось взять художника за руки, дабы предотвратить новую вспышку чувств, с последующей, небезопасной для собеседника, жестикуляцией. Мих-Мих рассеянно глянул на Пархомцева. Сделал недоуменные попытки освободиться.
— Молодость прекрасна в воспоминаниях. Но не следует ее реанимировать. Иначе получится полутруп, а все «полу» ох как не эстетично... Распространяясь на тему о национальном достоинстве, обязательно забывают про достоинство вообще. Да нет никакого нацдостоинства! Есть жажда власти! Есть жажда превосходства! Или так: я хорош уже потому, что — я негр... русак... телеут..? Я могу быть вором, подонком, отребьем, и все-таки я выше тебя, ибо я являюсь татарином, а ты нет. Какова «заслуга»! Каков дар судьбы! Родился мордвином, и гордись, и пыжся, и бей в морду русских, да черемисов. Действительно, чего они? Чего не родились мордвинами? Гордились бы вместе со мной. Отлично! Храните свою самобытность. Обусловленную географическими особенностями... Выкованную в горниле истоке исторических коллизий... Сохраняйте человеку на пользу. Но не пытайтесь считать константой то, что непрерывно изменяется. Не пытайтесь сменить костюм-тройку на жупан или камзол, тем паче меховое облачение пещерного Шиша. Люди! Начните умнеть!..
«Шиша?.. Мих-Мих?.. Но его же убили!»
Выходит Ростислав сомлел на ходу? И Мих-Мих ему почудился?
Чудотворец стряхнул одурь. Искоса глянул на прихрамывающую попутчицу. Дама-олень стоически следовала за ним.
До тракта оставалось с десяток метров...
* * *
Бывший поселковый участковый Жапис, по прозвищу Пил-Киртон, свыше года мотался по Руси. В первые дни после бегства он только и думал, как ноги унести. Из богатства, кроме формы, он прихватил табельное оружие.
Пистолет оказался ходовым товаром. Покупатель, развязный и совершенно бесстрашный армянин, торговался горячо. Жапис не поспевал за смуглорожим обитателем Кавказа; а сбыв пистолет, мучительно жалел о проявленной уступчивости. Вырученные тыщи скоропостижно тощали. Спиртное приходилось доставать из-под полы, вдесятеро переплачивая против красной цены. — Добиваясь скидки, он как-то решил давануть барыгу своей формой и липовым ныне званием. Рискованный трюк оказался глупостью. Пил-Киртон понял это, очнувшись в тесном закоулке с пробитой головой и пустыми карманами. Оруженосцы — барыги унесли все. Побитый Пил-Киртон оказался без денег, без документов, без кителя, сохранив жалкие остатки былой дородности и былого здоровья.
Тем временем исчезновение погранично-ярмарочного столба приносило свои горькие плоды. Районные межи и местечковые границы множились с невиданной быстротой, разрубая наезженные дороги, удавкой захлестывая огороды и перелески, налезая одна на другую, сплетаясь в клубки, затягиваясь штопористыми, выбленочными, пьяными, брамшкотовыми и просто двойными беседочными или штыковыми узлами. Колхозно-поселковый экстремизм рвал границы, как подгулявшая брага рвет обручи тесного лагуна. Осколки падали на еще не тронутую кордонами почву; разрастались сразу в двух направлениях, словно двухвостая ящерица, отращивающая новые хвосты, взамен, утерянным. Вслед за региональными гигантами, о суверенизации, деколонизации и национальном величии заголосили единицы размерами поскромнее. Ущемленное национальное достоинство хватало зубастой пастью за пятки проходящих и проезжающих. Ущемленный в своей национальном достоинстве индивид, забыв о человеческом достоинстве, караулил на большой дороге соседей, дабы ущемить и их, и не мучиться больше в единственном числе. Количество ущемленных росло. Отовсюду доносились оханье и взвизги.
Жапис суетился. Шмыгал через кордон. Боком протискивался в прорехи между только что образовавшимися гособразованиями, плохо отличая либеральную демократию от конституционной монархии. На исходе лета он повстречался с Марксистом, сопалатником Ростислава, временно выпущенным из «психушки» ввиду кратковременного режимного перепада. Около недели Марксист шатался на пару с Пил-Киртоном. Он проповедовал возврат к первобытнообщинному коммунизму, жутко храпел по ночам и мошенничал при дележе водки.
Бывший участковый ловил мошенника за руку, когда тот мухлевал. Однако Марксист был неисправим. В конце концов с ним пришлось расстаться.
Четырежды Жаписа хватали. Отсутствие документов, удостоверяющих личность, делало его легкой добычей. В четвертый раз его чуть не придушили коллеги по камере, признав в нем «мента». Впрочем, быть «ментом» становилось чуть ли не почетно. Заменившая прежние органы полиция, не говоря уж про «безвнуковцев», въелась уголовникам в печенку. Ворам достало ума предаться ностальгии по прежним вольготным временам. Посему Жапис не был придушен, но даже получил удобное место близ окна...
Закурдаев отнесся к Пил-Картону строже, чем затосковавшие нарушители режима. После первого удара кулаком Жапис признался во всех настоящих и былых прегрешениях. Былое Пил-Картона заинтересовало шефа полиции больше, нежели настоящее. И он приложил дополнительные усилия для выяснения некоторых подробностей из эпопеи «жандарма застойно-перестроечных лет».
Себя шеф полиции жандармом не считал, так как мордобитием занимался редко, лишь для поощрения малосговорчивых к доверительной беседе.
К концу «разговора» бродяга-участковый был прощен. Пуча воспаленные хроническим похмельем глаза, он радовался обретенному покровителю. Найти приют и регулярный заработок, после многих месяцев скитаний, означало благо, оттого Ж апис с полным вниманием выслушал инструкцию грозного шефа...
Пугающим казалось то, что тракт пустовал. За двадцать минут ожидания ни в ту, ни в другую сторону не прошло ни одной машины. Не показались даже мотоциклисты. А ведь туристический сезон находился в разгаре. Получалось, что полиция полностью остановила движение.
Надежды разживиться бензином скоро улетучились как дым. От чековой карточки, имеющейся у дамы-оленя, выходило не больше прока, чем от дырявых карманов Пархомцева. Единственным утешением для злополучных вояжеров явилась крепнувшая уверенность в отсутствии засад. Кордоны Службы на какое-то время ликвидированы, и можно было пусть с оглядкой, выйти на тракт.
— Ближайшая заправка?..
— Километрах в двух. Там же — кафе, но перекусить удастся. В нем обычно обедают водители-дальнерейсовики и их... спутницы. — Она тонко улыбнулась.
Дама-олень бодрилась на пределе возможностей. Присмотревшись, можно было заметить, насколько она утомлена и подавлена.
— В кафе при заправочной бывает людно, публика у столиков пестрая. Там никто не приглядывается к состоянию чужих костюмов.
— Отлично. Полезно быть завсегдатаем придорожного трактира.
— Кретин!
Ростислав состроил глупую гримасу.
— Господи! Зачем я подсадила этого психа? Он имеет наглость оскорблять меня... Дай бог добраться до места, я раздеру твою постную физиономию в кровь...
Попутчица ругалась минут пять. Ростислав слушал внимательно, наклонив голову вбок. Теперь за нее можно не тревожиться полученного заряда бодрости ей должно хватить на пару часов.
Заведение, которое называлось кафе, с большой натяжкой можно было назвать забегаловкой. Валерик, не к добру будь помянут, говорил про такие закусочные — «чипок». «Чипок» — где безнаказанно поедается то, что в ином месте послужило бы причиной скоропостижной смерти. «Чипок» — где буфетчицы швыряет порцию студня или сухарей, запеченных в форме котлеты прямо вам в голову, будучи уверенной, что каждый уложенный ею клиент — завзятый проходимец, потенциальный взломщик кассовых аппаратов. «Чипок» — то самое чистилище где первый попавшийся стервец готов помочиться в ваш карман лишь на том основании, что кто-то другой помочился ему. В «чипке» под маркой «Кагора» наливают в стаканы «Бычью кровь» к тому же разбавляют чаем. В дальнем углу «чипка» вам задешево предложат свежеукраденную вещь; иногда украденную у вас же. Этой вещью может быть: подфарник от «роллс-ройса», коллекция ложек из здешнего буфета, наконец — несвежие дамские панталоны.
Так вот: Дама-олень привела Ростислава именно в «чипок», Э-э-э, нет. Это он привел ее, придерживая под руку. А она непонятным образом исхитрялась вышагивать на своих игольчатых каблуках.
Народ в закусочной выглядел лоскутным образом. Здесь были: водители большегрузных трейлеров, в синих комбинезонах с яркой фирменной эмблемой на левой стороне груди и левом рукаве; озабоченные дальней дорогой девицы; пара бродяг, оснащенных чуть лучше Ростислава, и разнокалиберная группа начинающих альпинистов, которые начинали с покупки горы снаряжения и билета на ближайший самолет, а кончали свое «восхождение» за стойкой буфета, подкрепляясь горячительными, прежде чем вернуться «в опостылевший город».
Альпинисты рвались к глетчерам и заоблачным вершинам. Тяжелое снаряжение и выпитое удерживало их в «чипке». Битые-перебитые водители сплевывали при виде зеленых «романтиков», сосущих слюнявыми губами смесь, предложенную им в качестве «Альпийской Мэри».
На сей раз «чипковая» клиентура казалась особенно раздраженной. Поводом чему служил рослый полицейский, плоское калмыковатое лицо которого выглядывало из окна патрульной машины, перекрывающей кузовом выезд со стоянки. Время от времени полицейский коротко рычал в пространство перед собой. Очевидно, сообразил Ростислав, патрульный безотлучно находился на связи. На какую-то секунду возникла мысль обратиться за содействием к «калмыку». Но, вздохнув, Пархомцев от нее отказался. Слишком долго пришлось бы объяснять собственную «беспартошносгь» и косвенное соучастие в ряде тяжелых преступлений. Он вспомнил давний «арест», переодетых «милиционеров» и, вздохнув еще раз, нырнул в распахнутую. из-за летней жары дверь.
Пил-Киртона чудотворец заметил сразу. Даже не поверил себе — за каким чертом Жапис окажется здесь? Но ошибиться Ростислав не мог: слишком характерной была ненавистная Жаписова харя, слишком хорошо запали в памяти удары в живот, нанесенные участковым уполномоченным в день ареста.
Четкие наставления шефа Пил-Киртон вызубрил в той части, которая не касалась его многолетней жажды. Полуслепые от дурного вина глаза филера поймали знакомое лицо. Наводящие на размышление черты мелькнули, и потерялись.
«Ерунда какая-то», — подумал Жапис, допивая стакан. Означенная привычка губила его карьеру. Как он ни старался, как ни лез из кожи, однако выше филера подняться не мог. А ведь обидно в его-то годы прозябать рядовым стукачом. Глаза Пил-Киртона расстроенно увлажнились.
Сигнал встревоженного попутчика дама-олень поймала на ходу. Расплатилась. Скривила рот, оценив полученную снедь. Отодвинула. Рагу пахло не бараниной, а испорченным свиным жиром. Купленные два стакана сельтерской не могли заменить обеда. Проталкиваясь на выход, она сглотнула слюну. Веселый шоферюга, лапнул ее за бедро, посчитав за одну из дорожных «простушек». Яростный взгляд остудил ухажера.
Разыгравшийся, водитель притупил все-таки внимание Ростиславовой попутчицы, В ярости она пренебрегла прицепившимся в закусочной «хвостом». Испитую, ярко размалеванную старуху пропустил и Жапис. А ему бы не следовало этого делать. Кто-кто, а он-то знал крадущуюся следом за интересной женщиной старуху, и знал довольно хорошо.
«Природа везде совершенна, доколе
С бедою в нее человек не вступил".
«Нет ничего досаднее, чем человек, задающий вопросы».
— Сосед, землетрясение проспал.
Павлик дурашливо помотал головой.
— Так наблюдал, или нет?
Кажется соседка привязалась всерьез.
— Да что-то, было... вроде.
— Вот-те раз! Ничего себе — что-то. У меня, хрусталь из серванта попадал.
Полная, завлекательная соседка хихикнула:
— И спишь же ты... без жены. А тут... Поспать бы, да не с кем.
— Кликнула бы меня.
— С каких пор я звать должна, у меня звание женское. Сам-то — недоумок разве?
Его охватила томление:
— Ну-у-у. Ну и зайду.
— Сейчас прямо? Или попозже?
— Ближе к ночи. Дверь не запирай.
Теперь она хихикнула смущенно:
— Договоришься... Твоя приедет, да узнает... Тогда как?
Беспечный взмах рукой:
— С чего ей узнать?
По-прежнему посмеиваясь, соседка ушла в дом. Что было кстати: ему требовалось перевести дух. Чертова клавиша! Не хватало еще, чтобы вчерашними колебаниями почвы заинтересовались специалисты. Если колебания вышли достаточно мощными и попали на самописцы, определить эпицентр колебаний для ученых раз плюнуть. Тогда он попадет как кур в ощип. Лучше бы ему заявить о находке. А вдруг обойдется? Оглашать секрет теперь — довольно поздно. Валерик прилип, будто клещ. Получалось, что Павел — уже не хозяин кладу. Правда, и тут он вроде бы выкрутился удачно. Версия про обнаруженный на остановке портфель с камнями, кажется сработала. Для пущей убедительности он пожертвовал еще двумя топазами — «остатками» того, что «хранилось» в портфеле. И все же. Что придет в голову Валерика завтра? Вдруг он усомнится в искренности земляка. Что тогда? И тогда бывший приятель вряд ли заявит в полицию. Он мало похож на простака. Ему не с руки иметь дело с законом. С точки зрения которого полученные шантажистом самоцветы являются собственностью государства.
Фривольное настроение кладовладельца начисто улетучилось. Впрочем, нет худа без добра: отныне ему ясно, что большая клавиша на пульте, окрашенная в голубой цвет, включает двигатель ископаемой машины. Сверхъестественная техника! Погребенная на тысячи лет в земле, она вот так вот запросто сработала.
Павел вернулся мыслями к кладу. Расстроенно подвигал желваками. Попробовал настроиться на мажорный лад. Переживать — грех. Сумма, вырученная за первую партию драгоценных кристаллов, получилась приличной; даже с вычетом десяти кусков, отданных проклятому Валерику. А сколько добра хранится внизу, в отсеках и закоулочках удивительного сооружения? Вот и с ручным оружием загадочного, бесследно исчезнувшего экипажа он разобрался быстро. Поразительно, но факт — оружие из подземелья мало отличается от современного. Только за него можно отхватить приличный куш. Конечно, торговля боеприпасами — занятие сложное, продажа его попахивает немилосердным сроком. Это — если попадешься. Павлик попадаться не собирался. И совесть его не будет мучиться. Сколько оружия расторговано армией в конце восьмидесятых и в начале девяностых годов! Генералы обеспечивались приварком к пенсии, и без того немалой, а на скамью подсудимых залетели рядовые да лейтенанты. Шумихи-то было, шумихи: «Злонамеренные элементы обливают российскую армию грязью...», «Благородство, присущее нашей армии, которая плоть, от плоти… не допускает и мысли...» Каин и Авель тоже... наследовали одну плоть... Больше всего кричат о благородстве там, где попахивает элементарным убийством. Убийство в широких масштабах... Он не спорит: воины могут быть, каждый в отдельности, благородными личностями. Преимущественно в мирное время. Вопреки своему ремеслу. И неважно — о чьей армии идет речь. Соль — она соленая и в Тамбове. Ремесло солдата — убивать. Сочетание типа «благородный убийца» — уже соль сладкая. Он, Павлик, умом понимает: армия нужна, чтобы защищать его... от ой армии. Лучшим защитником отяжелевшего с возрастом Павлика является воин-профессионал. Все так. Только не приемлет душа разницы между тем, кто тебя заколет, пристрелит, разорвет в куски снарядом — профессионал или жалкий любитель-кустарь полузнайка всеобщей воинской обязанности. И того, и другого содержит налогоплательщик. Каковым является Павлик. Убийство, а заодно торговля оружием, — благородный удел политика но и военных, но Павел также хочет быть благородным...
Пацифистски-преступный настрой кладовладельца порушило бы вмиг, умей он видеть сквозь стены. Шли вторые сутки слежки за ним. К его счастью, обложившие двор наблюдатели никак не связывали ночное землетрясение с противозаконно деятельностью отслеживаемого. Другое его везение заключалось в том, что приборы ночного видения не проникали за слой теса, из которого состояла стенка туалета, прикрывавшего спуск в таинственное подземелье. Подчиненные Наймушина, заметив, что объект проследовал к нужнику, выждали, пока он снова возникнет в поле зрения, и на том успокоились. А в утреннем рапорте появилась лаконичная запись: «В 23 часа 48 минут подозреваемый вышел из дома по нужде. В 24.35 проследовал обратно».
Рапорт не фиксировался в журнале. Он попал прямо в руки Закурдаева. Обычно хмурый шеф, ознакомившись с вышеупомянутой записью, развеселился! Сминусовал; прикинул время, потребное объекту для удовлетворения естественной нужды, и, теша себя, наложил на рапорт краткую резолюцию: «Засранец!» Разумеется этого Павел так и не узнал.
* * *
Размалеванная, словно петрушка, старуха нагнала Ростислава уже за стоянкой.
— Постой...
Пархомцев вздрогнул, круто обернулся.
— Не спеши на тот свет, там кабаков нет. Ух! — она тяжело дышала.
— Чего вам?
— Во, все такой же. Все на «вы». Может и мне тебя, по-теперешнему, «господином» величать? Так одежонкой не вышел.
Он стоял, всматриваясь в обезображенное временем и разгульной жизнью лицо, медленно узнавая. Конечно! Это была она — Валерикова мамаша. Дважды она появлялась в его жизни, и всякий раз следом за ней приходило несчастье. Вот она вновь возникла, как черный вестник, но у него не было ненависти к ней. Чувствовала она это? Наверное. Потому без страха или смущения встала на его пути.
— Потолкуем.
Подбородок Ростиславовой спутницы дрогнул:
— Чего надо этой?..
— Не твое дело, киса. Не о тебе речь. — И к Пархомцеву. — Надо бы... без свидетелей.
— У меня нет от нее секретов.
— Ой ли? Ладно, тебе жить — тебе мучиться. Пил-Киртона засек?— Увидела по его глазам, что не ошиблась, пояснила. — Жапис — не по твою душу. А вот кто и где тебя караулит — знаю во всех подробностях. Но... за информацию, как теперь заведено, надо платить.
Разговаривая, она часто и сноровисто осматривалась.
— У меня нет денег. — Он грустно развел руками.
— Зато у барышни твоей имеются.
Не удержалась все же, подколола:
— По тебе красивше бабу следует. А эта, поди, тебе и цены настоящей не знает.
В приоткрытом рту дамы-оленя перламутрово блеснули зубы. Ростислав заспешил, предупреждая гнев спутницы:
—Напрасно вы так. Никакая она не моя — случайная попутчица. Об оплате—повторяю: у меня нет ни копейки.
Плохо скрытое недоверие пробежало волной по слою пудры, румян и крема.
— Как же. За дуру держишь?..
Взвизгнула фальцетом. — У нее на физиономии написано — хоть сейчас под тебя ляжет! Я барынек насквозь без телескопа вижу.
Дама-олень и Ростислав густо покраснели.
— Эй... — начал было он, но попутчица перебила его.
— Помолчи.
Быстро проверила карманы. Наличных оказалось негусто.
— Возьми! Здесь хватит.
Валерикова мамаша с победоносным видом приняла чековую карточку:
— Сколько?
— Пятнадцать.
— Кусков?!
— Разумеется. — Это «разумеется» было просто великолепным. — Ваша взяла.
Карточка исчезла меж складок бесформенного, платья.
— Цена что надо. За эту цену будет вам полный сервис, по классу люкс...
Через десять минут они знали все. Согласно последнему распоряжению Соратника ни их, ни Отца, о гибели которого Соратник еще не знал, не велено оставлять в живых.
— Что вы помните о письме, посланном моему отцу? — Старуха наморщила лоб.
— Кто его писал?
— Чего не знаю, того не знаю. Мне его передал Соратник... Столь же неопределенными были ее ответы на другие вопросы — К концу разговора Пархомцев убедился, что осведомленность матери Валерика исчерпывалась уже известными ему подробностями.
— Будете на могиле Змеегорыча, поклонитесь от меня.
— Поклонюсь. — Впервые размалеванная особа говорила без шутовства.
Он позволил себе проехаться на ее счёт:
— Как вы можете иметь дело с Соратникам, который убил Кадыла, извиняюсь, — Зиновия Егоровича — вашего родителя?
Реакции ее испугался не один он..
— Врешь!— Потом тише. — Разве убил не?..
— Это сделал Соратник! Я видел смерть Зиновия Егоровича собственными глазами...
— Та-а-ак. Спасибо за весточку от покойного. А теперь уходите, пока не заметил Жапис...
Ростислав и дама-олень скрылись за оградой стоянки.
Старуха проводила их остекленевшим взглядом. «Хорошо, доброе — за доброе. Пару часов форы я вам обещаю. Клянусь, что передам о встрече, с вами не раньше, чем через пару часов! И я знаю, кому передать в первую очередь... Чтобы вышло смешнее».
Камера была тесной. Треть помещения занимали, невесть зачем облицованные листами нержавеющей стали — словно то была не камера, а морг, — нары.
Валерик пересек камеру юзом. Чувствительно ударился лбом о чугунный радиатор отопления, также неуместного для спецпомещения полицейского участка. Квадратная фигура полицейского заняла собою проход. Наймушин умел подбирать кадры. «Слон» в форме работал кулаками так, как Валерику сроду не снилось.
— Раскормили тебя...
Стоять на четвереньках — унизительно, Подняться сразу не хватало сил. Ногти Валерика скребанули по скользкому, будто лед, железному полу и, сорвались.
Двуногий «слон» наблюдал за усилиями арестованного с полнейшим равнодушием. Вот он пожевал губами, изображая работу мысли. Мозги «слона» взвизгнули от напряжения. Или нет — это Валериковы пальцы повторно сорвались с края бронированных нар.
— Помоги встать.
Полицейский приблизится. Поднял Валерика одной рукой и... рубанул кулаком в живот...
Он корчился на полу. Плохо сознавал, как его раз за разом ставили на ноги, чтобы следом вышибить из него дух... Так продолжалось бесконечно долго. Пожалуй, впервые в жизни Валерик соскочил с наезженных рельс, больше не ориентируясь в пространстве и времени; не представляя, что его ожидает в ближайшие же минуты.
— Хорош... Буду говорить.
— А мне без разницы. Можешь молчать. Молчаливого «полировать» удобней.
Боль отпустила. Он удивился вслух:
— Мне, конечно, бара-бир, но зачем утруждать, если тебе от меня ничего не надо? — Про себя подумал: «Испекся! Шанцев у меня... Коли напустили такого облома, значит — конец! Он же законченный дебил; убьет и не охнет»… — А смысл?
— Какой тебе смысл нужен, гомункулус?— внезапно растянул рот в улыбке «слон».
Валерик встрепенулся:
— Ни себе черта! Словечко! Грамотный чо ли?
— Академию кончал.
— Ты? Загибаешь.
Квадратный полицейский молча присел.
— Нет, чего от меня надо?
— Мне? Ничего. Мне приказано, я выполняю, Разговаривать будешь с господином Наймушиным. Моя задача — воспитать в тебе стремление к откровениям. Думаю, задача оказалась выполнимой. Если возражаешь, можем продолжись курс процедур.
— Забавник. — Видя, что «слон» поднимается, Валерик поправился, — Согласен я, согласен.
— То-то. Имеющий уши, да услышит; имеющий голову, да побережет ее.
Он снял с пояса наручники, защелкнул их на запястьях избитого Валерика и вышел, прикрыв дверь.
Арестованного не беспокоили до глубокой ночи.
Дважды он стучал в дверь скованными руками. Первый раз его безропотно проводили в туалет, и обратно; во второй — посоветовали уняться до утра. Господин Наймушин медлил со встречей. Выжидал, в расчете на то, что за ночь Валерик дозреет до кондиции и добровольно упадет в объятия полицейского начальства. «Рисковый шеф. Или плохо осведомленный?» Не может быть, чтобы Соратник оставил Пасынка в узилище. Соратник должен сообразить, Валерик — не камикадзе. Возможно уже сейчас полумифическая Служба Профилактики готовит налет на здание, в котором по вине стервеца Наймушина пребывает многознающий помощник Соратника. Так или иначе, но что-то обязательно произойдет в ближайшие часы.
Ему удалось прилечь. Скованные железом руки он поместил на груди; левый локоть свисал, отчего цепочка наручников натягивалась, передавая напряжение на хитроумный механизм импортных оков; зубья храповика проскакивали над собачкой, и запястья пережимались все сильнее. Вдобавок избитому телу было, неловко на ровной твердой поверхности. Ощутимо ныли мышцы живота: «слон» с академическим образованием, нанося удары, метил ниже пояса, а кулаки его годились для забивания стопятидесятимиллиметровых гвоздей.
В дверной глазок посмотрели из коридора. Пришлось сесть. Снаружи, клацнула массивная, под стать «слону», задвижка.
— Жалобы у пациента имеются?— квадратный служака спросил без ироний...
— Изыди.
— Стало быть пациент доволен, — «слон» шагнул за порог.
— Не опасаетесь — ты и твой господин Наймушин?
— Кого?
— Есть кого. Мне лично бара-бир. Зато у вас могут выйти крупные неприятности.
— Любопытно взглянуть на того, кто пожелает доставить мне неприятности. — Голос полицейского упал октавой ниже. — Я бы его огорчил. — Он многозначительно покосился на свой огромный кулак.
— Кандалы-то сними...
— Поди ж ты! Держался гоголем, аж в уважение у меня попал, а из-за ерундовых побрякушек размяк.
«Слон» вернулся. Побренчал отмычкой. Ослабил наручники.
— Снять не могу, — не было приказа. Но на стопор поставил. Так что жать больше не будет. Радуйся, владей помещением. До первой зари.
Простившись со «слоном», Валерик зло сплюнул: «Попался бы ты мне, бегемотище, на воле». Впрочем, о воле оставалось только мечтать.
Подступила дрема. Он сидел, скособочившись, в углу нар. Стараясь не думать о завтрашнем дне. Строить домыслы было бесполезно. Камни и деньги у него отобрали, как совсем недавно он отобрал их у Павлика. По поводу изъятых ценностей он не тревожился. Этот след заведет полицию в тупик. В крайнем случае придется сдать Наймушину разлюбезного земляка. Заложил же Павлик его. Иначе с какой стати фараоны сели Валерику на хвост. Пусть теперь шеф полиции — выслушает сказочку про беспризорный портфель. Не было у него причин тревожиться и по поводу давних грехов: то уже списано. Вот кое-что из свежего может потянуть на... Эх! Лучше не гадать!..
На улице тоже кому-то не спалось. Тихо рокотнул, а потом смолк где-то напротив высоко расположенного окна камеры автомобиль.
Валерик насторожился.
Спустя минуту послышалась возня. Ломали оконную раму.
— Приехали!
Он вскочил. Встал посреди „камеры, заслоняя телом вид на окно.
С рамой копались долго. И это хваленые специалисты Соратника?
Наконец дерево уступило металлу. Стали видны мужские пуки, освобождающие оконный переплет от остатков матового стекла. Снова зарокотал двигатель. Через решетку проглянули тормозные огни машины.
Стальной крюк, которым завершался конец троса, вцепился перекрестье железных прутьев. Красные огоньки исчезли. Рывок!!! Решетка выскочила с меньшим треском, нежели Валерик предполагал, так что за дверью, в коридоре, все оставалось спокойно.
Наступил последний этап. Если окно, по счастливой случайности, выходило в проулок и располагалось чуть выше уровня земли, то от пола камеры до дыры, ведущей на свободу, требовалась лестница... Вместо лестницы спустилась веревка.
Экономя секунды, Валерик намертво стиснул пальцы. Нейлоновые пряди скользили в ладонях, и он сорвался бы, не додумайся спасители навязать на веревке узлы. Все-таки ему досталось, когда пальцы зажало меж веревкой и шершавым подоконником.
— В машину!
Свет в салоне отсутствовал. Он боком упал на заднее сиденье поджав ноги, чтобы их не зашибло дверцей. Автомобиль выкатил из проулка. Завернул. Затем резко рванулся вперед…
В 1.40 через восемь минут после бегства, у здания полиции громыхнула очередь. Тишину ночного города разогнали несколько револьверных выстрелов. Потом городского обывателя сбросил с кровати истошный рев многосильных двигателей, перемежаемых воем сирен.
Тощая черная кошка стремглав перебежала дорогу бешено мчащемуся лимузину. Заскочила во двор трехэтажного доходного дома. Прыгнула на контейнер с мусором. Не удержалась на узком, перепачканном помоями ребре. Оскользнулась. Комом свалилась внутрь, на спину здоровенной серой крысе. У крысы зашлось сердце, но уже в следующий момент она пустила в ход игольчатые резцы.
Бродячая кошка была битой-перебитой, не гнушалась разбоя и драк, и, коль речь зашла о сохранности живота, умела постоять за себя.
Леденящие кровь визги заполнили двор. Через верх контейнера полетели осклизлые картофельные очистки, луковая шелуха, обертки от жевательной резинки... Рыжий пес, мучившийся за контейнером от несварения желудка, поднялся на дыбы. Скакнул раз... Скакнул другой... Попал в гнилостное нутро железной коробки... Залязгал хищной пастью... Покусанная кошка пружиной выметнулась прочь, растворилась в густой темноте.
Удивленная собачьими челюстями крыса еще подергивала задними лапами, когда рыжее чудовище приступило к трапезе...
Километрах в десяти от города двигатель стих…
— Где мы?
Молчание.
— Вас послал Соратник?
Смуглая фигура на водительском месте хмыкнула. Определенно в этой фигуре что-то было не так. Вспыхни розовый свет на приборном щитке поярче, он сумел бы проверить свои подозрения. А подозрения его сводились к тому, что человек, сидящий за рулем, был... женщиной. Тонкий аромат духов буквально лез ему в ноздри. Он не решился бы утверждать о французском происхождении духов. Их могли изготовить где угодно, но только не в Нижнем Новгороде или Саранске. Судя по букету они стоили умопомрачительных денег. В последнем он ничуть не сомневался.
— Кто Вы?
Кнопка внутреннего освещения мягко утонула в панели. На Валерика глядел Пархомцев!
— Е-мое! _
Это был Пархомцев;, И это был не он — не тот позавчерашний Копченый. Даже не тот Пархомцев, каким он был три года тому назад. От сидящего вполоборота к Валерику человека не следовало ждать добра. Жесткость в чертах изменившегося лица бывший приятель заметил сразу. Фиолетовые крапинки на радужках Ростиславовых глаз сделались гуще, черные, с легким сиреневым налетом глаза буравили взопревшего пленника, молочно-бронзовая кожа напоминала безжизненный слепок, а вишнево-сизый изгиб отвердевших губ вгонял в дрожь.
— Вот-те бимс!— Валерик рванулся вперед. Запоздало сообразив, что у него по-прежнему скованы руки.
Его порыв вызвал усмешку у Пархомцева.
— Требуется прояснить кое-что. — Ржавчина в голосе попутчика удивила даму-оленя.
— Нам не о чем говорить.
— Ты уверен?
— Уверен. От меня ты ничего не узнаешь. Кто знает. Конечно, преимущество на твоей стороне: ты отлично знаешь, что бить или пытать тебя я не стану. Однако ответь на один-единственный вопрос — почему ты оказался трусом?
— Я?! Чего ради?
— Это не оскорбление. Посуди сам. Допустим, я когда-то досадил тебе, отчего ты меня возненавидел. Но Наташа! Она, действительно, нравилась тебе. Ты же предал ее и убил!
— А хо-хо не хо-хоо? Я Тальку пальцем не трогал.
— Зато содействовал ее убийству.
— Как раз. Я тебя-то не думал трогать. — Он взвился. Ярость клокотала в выпуклой Валериковой груди. — И не тронул бы. Мне это западло... Ты сам полез туда, куда фраерам ход заказан. И не я сидел у Соратника на кукане. Сидел дед! Я деда пожалел, — закончил он устало.
— Жалел Змеегорыча, а его убийцу простил.
— К тому времени на крючок попался я сам.
— Письмо с угрозами — чья работа?
— Ну моя. Думал, напугаешься, — зачастил, — уедешь. Про письмо Соратник знать не знал. Я тебя выручить хотел.
— Наташа... Где?
Валерик возликовал:
— Ищи. Я тебе не помощник. Ищи. Не запыхайся.
— Не суетись. Что тебе известно про отряд Манохина?
Валерик откинулся назад. Нехотя процедил ответ. В том как он это сделал не чувствовался прежней увалень, забавник, балагур, рубаха-парень.
— Дед поминал как-то... В общем он грешил на себя. А там кто его знает. — Внезапно пленник напрягся. — Мне ваши манохинцы — бара-бир. Змеегорыч несколько раз поминал одного мужика. У него прозвище такое забавное... Ага! Московский жулик! Якобы некий «Московский жулик» мог прояснить судьбу партизан.
Собеседники вздрогнули — дама-олень вмешалась в разговор:
— «Преданье старины глубокой...» Кому какое дело до истории кучки партизан? Кому в наше время это нужно?
Она взялась за руль:
— Пора двигаться. Мой совет, достопочтимый попутчик — скорее расстаться с этим господином. Расстаться наиболее решительным и пикантным способом.
— Неподалеку будет мост. Надо выгрузить твоего приятеля в реку. Иначе он наделает много хлопот.
Ростислав опешил:
— Он же в наручниках. А у нас нет ключа.
— И не надо. Кто сказал, что перед отправкой в реку ему следует освободить руки?
До ее последних слов пленник сидел спокойно. Зато потом произошло непредвиденное. Утяжеленные металлическими «браслетами» кулаки обрушились на голову Пархомцева. Низкий потолок салона ослабил замах и поспособствовал сохранности головы чудотворца. Но пока Ростислав разбирался в ситуации, пленник вышиб ногами дверцу — хрупкий замок импортной машины не выдержал бешеного толчка и хрупнул. Извернувшись дугой, — в воздухе мелькнули каблуки полусапожек, — Валерик вылетел вон. Коснулся боком асфальта, охнул. Рывком поднялся с колен, и кинулся прочь от дороги.
Дама-олень присвистнула, глядя на Ростислава, который с отсутствующим видом провожал взглядом убегающего. Похоже ее попутчик не жалел о случившемся.
* * *
...Этот день на исходе зимы был морозным. Черная переохлажденная влага наледей возгонялась суровым солнцем. Микроскопические иголки льда танцевали в стылом воздухе, вызывая резь в глазах, занавешивая дали, жгуче покалывая щеки. Воротник полушубка касался шеи как холодный компресс:
— Господин поручик, как на духу...
Невысокого роста офицерский чин стряхнул куржак с отворотов полушубка. Белая пудра просеялась на носки франтоватых катанок.
— Где гарантия, что не брешешь?
— Помилуйте, какие гарантии? Мало вам, что головой рискую? Тогда как вы и ваши люди не рискуете ничем, ни синь пороха.
— Каким образом ты объяснишь отрядникам нынешнюю отлучку?
— Так не своей волей... Он, —Манохин, —меня и в старый лагерь, да по заячьим ловушкам... Кто учтет, сколь времени я потрачу? Однако чересчур долго мне рядиться с вами нельзя.
— Не забывайся, — поручик ощерился. — Я тебе — не базарная тетка, рядиться не стану. Сблудишь — тут же закопаю.
Молодой собеседник хитро прищурился:
— Навару с меня, с убитого-то.
— А нам с тебя взвар не пить — грязен больно.
Парень, действительно, не блистал чистотой. Куцые полы зимнего пальто и каракулевый воротник лоснились. Местами драповая ткань пальто выказывала дырочки — обычное приобретение таежных новичков. Плохо освоивших искусство ночевок, у костра. Каштановый волос бороды и усов был неряшливо разбросан по лицу, много месяцев не знакомому с бритвой. Судя по количеству зольной пыли, скопившейся среди меха шапки, последняя долго служила изголовьем и теперь годилась, разве что для пугала. Да. Человек в драповом пальто был неаппетитен. Сам же он чертовски хотел есть. Поручик видел это по лихорадочно-яркому блеску в глазах партизана, да по тому как часто и натужно тот сглатывал слюну.
— Так-с, так-с... Предположим, план удастся, и бандиты попадутся. — При слове «бандиты» парень передернулся. —Бросьте, милейший. Бандиты — есть бандиты. Партизаны дрались с французами. Нельзя считать партизанами сброд, который стреляет из-за угла, и стреляет, опять же, в своих соотечественников.
— Позвольте! Вы, господин поручик, тоже имеете дело, скажем так, не с французами, и даже не с тевтонами;
Сказав такое, — человек в драповом пальто сжался, словно в предчувствии удара. Но удара не последовало — поручик беззвучно хохотал.
— Оставим спор. Я — бандит в неменьшей степени, —чем манохинцы. Все мы — выродки! Упыри, сосущие святую кровь Отечества. И, однако, меня в какой-то степени оправдывает благородная цель. Я защищаю порядок, дерусь на стороне законной власти. А Манохин, и иже с ним, — на стороне Лжедмитриев, вскормленных на германские деньги. Взять тебя... Ну отчего твоя милость вначале бежит к отрядникам, а затем идет на поклон к властям?
Молодой человек вновь хитро прищурился:
— Здесь нет никакой загадки. За манохинцами будущее. Они предоставляют возможность выдвинуться тысячам таких, как я. Всяк слаб и грешен, всяк желает побыть, еще при жизни, «вашим благородием», а не «Ванькой». Порываю же я с отрядниками оттого, что, если уцелеет Манохин, «вашим благородием» в ближайшее время будет он. Он, а не я. На всех благородных мест не хватит.
— Жрать тебе захотелось! Боишься сдохнуть где-нибудь под елкой.
— Тоже верно... Кстати. У вас не найдется хлеба? Хорошо бы и сала.
Поручик качнул крутолобой башкой.
— Умен, а дурак. Отрядники сало учуют за версту. Чем объяснишь? Скажешь, в снегу нашел?
Драповое пальто неохотно согласилось. Офицер продолжал:
— Последнее. Хлопнем мы бандитов, а ты, милейший, как же? Ведь на тебя пальцем показывать будут — предатель-де. Или пристукнут где-нибудь на повороте: у манохинцев на селе родова имеется — целый край.
— Я человек губернский, для здешних мест — приезжий. О моем уходе к партизанам не известно ни одной душе. Кроме того, — молодой человек прищурился в третий раз, — подозрение падет на другого. Во всяком случае мне так кажется.
— Кажется, или?..
— Или.
— Убежден?
— Да-да-да.
Досада заставила поручика поморщиться: надоедливое «да-да-да» звучало уже раз пять или шесть. Не считая себя Цицероном, поручик тем не менее был привередлив — бессмысленное присловье собеседника резало ему слух…
Партизан поднялся:
— Наганчик дайте.
— Да-а-а?
Соображения драпового пальто могли показаться вполне резонными:
— Наган — не сало. Его на нюх не возьмешь. С наганом спокойнее как-то. Мало ли чего...
— Так-с. Я тебе — наган. Ты из этого нагана, да мне в живот. Как знать, милейший, может тебя специально подослали.
— Да-да-да. На покушение ходят с готовым оружием. С тем оружием, что у отрядников, только на ворон покушаться. А значит — есть резон обзавестись наганом у меня. Чтобы потом: моим салом — меня же по мусалам?
— Грех быть столь недоверчивым, господин поручик...
— Недоверчив? А кто нынче верит?! За бога, царя и отечество? Царя нет. В бога кроют на всех фронтах. Остается отечество. Остается ли? Отечество ныне у каждого свое... Долго нам ждать новой веры. Не скоро уверует народ во что-то святое. Ох нескоро! В древней истории тому тьма примеров. Корни всякой веры тянутся из глубины веков. Перережь их — на порушенном месте ничего доброго не вырастет. Только огородный хрен растет с посеченного корня. Так на то он и хрен...
Рожнов вышел из задумчивости. Глянул — толкнул глазами перебежчика. Эк, лиходей! Молод, а уже заподлел. И далеко пойдет. Сколько таких — голодных до власти, жаждущих невыслуженного звания? Нет понятия у отребья, что не эполеты делают генерала. На что надеются? На большевистское чудо? Чудо, бывает, приходит к человеку. Но не следует в расчете на чудеса строить будущее. Гадостно сделалось офицеру: молодой бандит полагается на кровавое чудо, поручик же растерял надежды, чужая кровь уже не пьянит его...
...Молодой человек в прожженом драповом пальто не получил нагана от осторожного поручика. Зато, как ему и предсказывали. он пошел далеко. Очень далеко.
«В сухой пустыне, на движущемся песке для жаждущего все равно, будет ли во рту его жемчуг или раковина.»
«Если действительно на одного спасенного приходится сто тысяч погибших, то дьявол в самом деле остался в выигрыше, даже не послав на смерть своего сына.»
«Погорел!»— внизу живота Павла пульсировал-бился какой-то сосуд.
Застигнутый врасплох, он оставался в майке да застиранном трико. Его подняли прямо с постели, не разрешив ополоснуть лица. Нечищенные зубы свербило. Павел не привык ходить с нечищенными зубами. Каждое утро он спешил съесть бутерброд, на худой конец — выпить чашку сладкого чая. Тогда первая утренняя сигарета не приходила натощак. Сейчас ему нестерпимо хотелось курить. Он терпел, зная наперед, — что табачный дым вызовет дурноту в пустом желудке.
Санкцию на обыск ему предъявили тотчас. Он ничего не понял в этой процедуре, и все последующие часы гадал: санкция на обыск — хорошо или плохо? Является ли санкция на обыск заодно и санкцией на арест? Или задержание оформляется отдельно? Обладая смутными познаниями в области права, Павел путал меру пресечения, состоящую в заключении под стражу, с кратковременной мерой принуждения. Спутаться было легко. Вышеназванные меры старательно путались теми же полицейскими, предоставляя адвокатам поле для выигрышной деятельности. Адвокаты витийствовали на тему о произволе и беззаконии. Обвиняли в покушении на основу основ — права человека. Полиция скучно, сквозь зубы, извинялась. Местный бюджет оплачивал душевно-травмированным гражданам причиненный полицией ущерб. А полиция ошибалась снова и снова. Будто ей на роду писано, чтобы всегда а стыкаться на одном и том же месте. Выходило так: законы Тагора-Менделя касались не только каждого человека в отдельности, они распространялись целые кланы и службы. Права человека плохи одним: контроль за их соблюдением возложен на человеков же. Перевернув в доме решительно все, мастера досмотра взялись за двор и надворные постройки.
Сорок раз душа Павла замирала и вновь отходила. Особенно «горячо» пришлось в тот момент, когда юркие спецы подобрались к туалету, справа от которого находилась «помойная» яма. Дружно приподнялись лома... Слаженно ухнули обыскивающие... Шаткая туалетная будка дрогнула, качнулась! ухнула набок!!! В сторону присутствующих вымахнула удушливая волна запахов.
Стиснув зубы, и зажав нос респираторами, люди в серых комбинезонах довели дело до конца. Заполненный жижей объем тщательно протралили. Упавший в ходе обыска нужник остался валяться на боку, прикрывая вход в металлическое подземелье, вынуждая полицию принять за очевидную, хота и маловероятную, версию о случайно найденном среди бела дня портфеле, с драгоценными камнями в нем.
* * *
Ситуация создалась хуже не придумаешь. Закурдаев второй час мерял шагами кабинет. Упершись в несчетный раз в панель, отделанную, легкомысленно изукрашенным финским пластиком, он секунд пять словно принюхивался, а затем по-армейски, — грудь колесом, плечо вперед, — разворачивался на месте и направлялся к противоположной стене, продавливая ботинками палас.
Взвинченное настроение шефа вынуждало Наймушина соблюдать предельную осторожность.
— Легенда с «портфелем» рассчитана на остолопов. Как я теперь вижу, — отплевывался Закурдаев, — мне приходится иметь дело со стопроцентными остолопами. Портфели, набитые драгоценными камнями, оставляют без присмотра в анекдотах или в криминальных романах мадам Ревю. Перво-наперво, вы по-дурацки упускаете Валерика. Затем решаетесь на поспешный обыск, который ничего не дает и, разумеется, дать не может. А под занавес ваши люди вспугивают хозяина «случайно найденного» портфеля, и, придя в великое изумление перед собственной глупостью, незамедлительно прекращают слежку, за подозреваемым. Прекращают в момент, когда подозреваемый способен навестила след. Расстроенный Наймушин, будто занузданный конь, согласно кивнул. Насмелился:
— Имеются сведения, что сбежавший Валерик каким-то образом связан с мощной террористической организацией…
— С какой?— Заостренные уши Закурдаева порозовели. Помощник спрятал глаза.
— Со Службой Профилактики, — выдавил он неохотно, выказывая безадресное опасение.
— Надо же!— к большому удивлению Наймушина шеф не выказал удивления.
— «Безвнуковцы» взяли парочку типов из Службы. Прыткие ребята, — он уточнил, — эти террористы. На 42-ом километре их высыпало, точно грибов. Похоже, они устроили там охоту. Но на кого? С абсолютной уверенностью можно сказать одно: кто бы ни был этот неизвестный — человек он крайне отчаянный. Я не помню другого такого случая, чтобы Служба Профилактики бросала такое количество боевиков на одного. Вот бы...
— Не выйдет. Между нами, и руководством «безвнуковцев» давние разногласия. По мне, — Внутренняя Безопасность сует нос не в свои дела. Что поделаешь? «Безвнуковцы» — опора президента. Он не даст и волосу упасть с их голов.
Китель на груди Закурдаева собрался складками.
— От «Безвнуковцев» информации мы не получил. Надо обходиться собственными силами.
Минут пять мучительного раздумья хватило Наймушину для перехода к решающему разговору, начать который он собирался еще накануне, но в течение суток так и не решился:
— Что будем делать с найденными камнями?
Громкий хохот.
— А что с ними делать? Возвратим владельцу. Если таковой обнаружится. Не обнаружится? Тогда передадим государству, согласно описи и заключения оценщика... — Шеф полиции шутливо ткнул помощника пальцем в живот. — Никак тебе пришло в голову кое-что другое? — Резкие складки; идущие от носа к уголкам рта, перечеркнули веселость начальника. — В любом случае нам будет выплачено вознаграждение. Чем больше камней мы изымем у похитителей, тем больше окажется наша доля.
Он принялся сызнова мерить шагами кабинет:
— Страсть любопытно узнать — кто обладает подобным сокровищем?.. Ненавижу! Толстосумы!.. Заср... буржуа! Наворовавшие миллионы!.. Теперь-то они — хозяева жизни.. Мы с тобой за пятьсот в неделю рискуем, подставляя лоб под пулю, в то время как разжиревшая бражка презирает нас и не подаст руки.
Здесь шеф явно преувеличивал. Кому-кому, а лично Закурдаеву не приходилось играть со смертью в прятки. Такое приключалось с другими. В остальном Наймушин был согласен. Хотя состоятельные клиенты, — то есть потерпевшие, — при встрече руку все же подавали, однако делали это с явным нежеланием если не сказать — с пренебрежением.
— Как Заида?
Помощник слегка удавился.
— Не жалуется... Собирается к родителям.
Дальше удивление его возросло: из бордовой, с серебряным тиснением папки шеф извлек голубоватого цвета документ.
— Отправь жену с детьми куда потеплей. Семейный пансионат для них уже оплачен. На средства фирмы.
Изумление помощника достигло предела. Посылать домашних на отдых в теплые края в разгар лета? Когда и здесь теплее некуда?
— Мои уехали вчера. — Шеф криво усмехнулся. — Тут может стать чересчур жарко.
— А если все-таки рискнуть и пойти на контакт с «безвнуковцами»?
— Это всегда успеется. Знаешь: связался черт с младенцем… Выгорит, дельце — сливки им, профырится — шишки в нас полетят. Вопли начнутся. «Влезли не в свои сани!.» Сорвал операцию, запланированную безопасностью!.. «Мы — муниципальники. Нам положено по крошечкам клевать. Сегодня утром звонил комиссар: что там, мол, за пальба по ночам, у вас под самым носом? А я чего? Машину-то упустили. С какой стати два налета подряд? Разберись тут. Кто-то освобождает задержанного. Затем подлетает бронированная колымага, из которая открывают пальбу. Зачем? Отчего! У них половина тракта под огнем, трупы сутками штабелюют... И хоть бы хны.
Шеф подобрал живот:
— Ты вот что. Ты наблюдателей к дому того счастливчика! Который портфели находит почем зря, верни. Людишек своих погоняй! Нечего им сало в дежурке наращивать. Нам сбежавший Валерик — позарез! Нам тип, по поводу которого мордовороты из Службы Профилактики хлопочут, он нам нужнее, чем «безопасникам». Чувствую: такой человек много-много чего может дать...
Внимая начальству, Наймушин восхитился.
* * *
— Зря отпустил. — Попутчица не то сердилась, не то констатировала случившееся. — Напрасно.
— Человек я.
— Много ли в человеке человеческого? В чем его отличие от животного?
Ростислав потянулся. Щелкнул задней дверцей. И уж потом заговорил:
— Есть отличие. Человек существует как бы в нескольких мирах сразу. Миры те сотворены его собственным воображением. Прочее живое обретается в единственном мире, называемом реальным. Будто среда вымышленная, но претворенная, менее реальна.
— Существование бога — вымысел. Где тут реальность?
— Сочинив божество, живя по законам, якобы предписанным Верховным существом, общество рано или поздно материализует то, что некогда было только выдумкой.
— Философически мыслящий псих — вот кто ты.
Дама-олёнь выгнулась и зевнула. Твердые соски ее грудей сместились вослед изгибу тела. Даже в призрачном салонном свете они явственно бросались в глаза, будоража его чувства. Она выпрямилась; махнула рукой:
— Вольному. — воля, прощенному — рай.
Ехали недолго. Вскоре свет фар уткнулся в сплошную зелень...
Укромная поляна позволяла, наконец-то, отоспаться. Без риска быть замеченными раньше утра. С минуту дама-олень возилась, откидывая сиденья, доставая из багажника тонкое подобие одеяла. Пошуршала тканью. Тихо щелкнула чем-то, следом ее сонный голос спросил: «Бродяга, не хотите отдохнуть?»
Ростислав сунулся внутрь машины. Пахнущая кремом и духами ладонь толкнула его в лоб.
— Порядочные господа не лезут в брюках на пост ель. — катился по салону задорный смех.
Потоптавшись, он разделся; затем неловко забрался в теплый салон. Поискал место, чтобы лечь.
Свободное место имелось, но угораздило же его попасть руками на занятое.
Захватило дух: пальцы коснулись обнаженного живота попутчицы.
Ростислав дернулся назад, стоя коленками на упругом сиденье. Качнулся... Сверзился лицом вниз... Уткнулся лицом в ароматную теплую кожу. Забарахтался, будучи не в состоянии подняться, путаясь в каких-то тряпках, — то и дело касаясь груди, бедер и живота ошеломленной бурным натиском женщины.
— Так сразу?!.
— Простите... Я не хотел... Я нечаянно… О черт!
Последнее восклицание пришлось на наиболее пикантный момент — рука его угодила туда, куда ей вовсе не следовало попадать. К оправданию Пархомцева надо заметить, что указанному месту полагалось быть прикрытым хоть бы полоской материи. Даже в ночное время. Однако об этом он подумать не успел. Пылал от смущения.
— Ничего, ничего. Располагайся. — Она опять прыснула. Сдвинулась вбок, высвобождая место подле себя
Он лег, и затих.
— Секундочку... — Теперь она налегла на Ростислава горячим телом. Мягко стукнуло, войдя в верхний паз, оконное стекло. Наполненное ароматами парфюмерии и косметики пространство отсеклось от большого мира...
Он честно старался оставаться благородным до конца. Кто из них был более неосторожным? «Игнат не виноват и Авгинья невинна. Виновата хата, что пустила на ночь Игната.»
— Уф, отпустило!
Послышался его вздох.
— Сударь чем-то недоволен?
У него щемило внутри. Ладонь женщины легла на лицо. Тонкие пальцы зажали нос. Он высвободился:
— Тебя не мучает связь с незнакомым человеком?
— Проще говоря, ты сомневаешься в моей репутации? Тебя интересует — не являюсь ли я женщиной легкого поведения? Вот признательность!
Помолчали. Затем дама-олень добила раненую совесть пылкого партнера:
— Стыдно ли мне? Нет, нет, нет! Является ли ваша милость первой для меня? Опять трижды нет. И снова мне не стыдно. Я тебе нравлюсь. Ты мне интересен. Чего ж еще? Надеюсь, тебе было приятно?
— Ну и самомнение, — он попытался обратить разговор в шутку. Она проявила настойчивость:
— Отвечай!
— Ну... конечно.
— Не так... Повторяй за мной: «Мне было дьявольски приятно!»
Нелепое озлобление прошло. Внезапно он испытал нежность к этой... даме. Называть ее иначе, даже про себя, Пархомцев не мог.
— Может это и нехорошо... Лучше позже, чем никогда. Мне до сих пор неизвестно ваше... твое имя...
— «Что тебе в имени моем.»
Ужас стиснул его сердце.
— Как?.. Как?!
— Разве ты не слышал это прежде?
«Слышал. Но когда? Но где? Почему сказанная ею фраза пугает меня?... Она, правда, красива. Изумительно красива... Эти экстравагантные черты лица... А какие у нее стройные, красивые ноги! Ноги? О чем это я?!
— Я... я должно быть влюбился в тебя.
Гибкое, светлое на фоне ночного мрака, тело развернулось к нему. Шепот ее сделался хриплым:
— Псих... как правило, такое говорят «до». Ты первый, кто сказал «после». Я оценила. Я даже верю. Но как же?..
— Молчи!— Он зажал уши. — Послушай, не надо...
— Ростислав, у тебя было прозвище?
— О чем ты?
— Ничего. Просто вспомнилось. Например: — «Московский жулик». Ты знал такого человека?
— He-а. Он уехал, когда я был еще маленьким.
— Кем он был?
— Да ну его!
Ответил все-таки:
— Коновалом… кажется. По-теперешнему — ветеринаром. Зачем тебе эта старина?
— Та-а-ак, — пропела женщина. — Зашло в голову...
Мягкие руки притянули Ростислава, прижали к груди. Они забылись.
* * *
Светящееся тело эллипсоидной формы пронеслось над трактом со стороны далекого города. Оно взмывало вверх; круто пикировало к земле. Временами «летающая тарелка» поднималась так высоко, что терялась тусклой точкой среди мириадов брызг разлитого по небу «звездного молока». Но проходили мгновения, и сплющенная неимоверной скоростью голубовато-белая чечевица ныряла в гущу деревьев. Где неспешно проплывала меж стволов, часто меняя траекторию. Удивительным образом избегая столкновений со всем, что плотнее воздуха. Происходящее походило на затейливую игру невиданной доселе медузы, избравшей средой обитания атмосферу.
В очередной раз приблизившись к земле, «летающая тарелка» затрепетала. Накренилась... Выправилась... Осела к самой траве... Подпрыгнула раз-другой... И помчалась рывками к цели. Ее рыскающие движения становились целеустремленными. Пока не перешли в финишную прямую.
Разреженная плоть достигла лакированной стенки автомобильного салона. Распустив веер голубоватых искр. Тут же растаявших. И проникла внутрь машины. Струя светящегося тумана пролилась на спящего мужчину. Залила обнаженное тело. Уплотнилась. Собралась в кокон. Вскоре кокон трансформировался в мениск с закругленным ребром. Опалесцирующий мениск пару секунд колыхался на теплой человеческой груди, А затем снялся с насиженного места, и вылетел через лобовое стекло...
Измотанная злоключениями предшествующих суток очаровательная попутчица Ростислава вздохнула во сне, плотнее прильнула к лежащему рядом с ней мужчине. В остаточном свете «летающей тарелки» кожа дамы-оленя приобрела нежно-сиреневый оттенок...
Внезапно женщина вздрогнула. Подобралась. Ей привиделось ослепительное сияние фар встречной машины. Идущей в лоб автомобилю, за рулем которого сидела она сама. Напрягшиеся руки крутанули «баранку». Огненные фары рванулись влево. Дама-олень довернула руль, раскрутила его в обратном направлении — дорога впереди была свободной.
* * *
...Играли без азарта. Шлепали старыми и пухлыми, как утопленники, картами по исструганной, но до гладкости вышарканной рукавами столешнице. Натужено разгоняли сонливость, да осевшую в глубинах тела немоту.
По плахе стола шмыгали вконец обнаглевшие; мыши. Отдельные из них затаивались за консервной банкой, скорбя по неухваченным хлебным крошкам. Мыши шерились. Вмиг уходили от постылого человеческого взгляда в густую тень.
Горящая осина в железной печи стреляла очередями. Брызгала струями тепла на замусоренный пол.
...Валка стояла, уже третьи сутки. По вершинам лиственниц словно кнутом стегал буран. Он слепо тыкался в оконное стекло, изредка пиная тяжелую дверь.
На столе между тем накапливалось серебро «казны». Очередь банковать перешла к Копченому, когда Рыжий слез со скамейки и унырнул под нары — в самый черный угол. Рыжий покопошился там, затем вернулся на прежнее место, почему-то досадуя. По дороге он наступил на распущенные завязки стеганых брюк, подпрыгнул, и завершил свой путь под вопрошающим взглядом Богданова.
— Какая разиня мои валенки запсотила?
Бригадир недоверчиво повел носом:
— На место надо класть...
Посоображал:
— С чего ты вдруг стал мерзнуть?
Но Рыжему бригадирова воркотня — впустую. Ухватил в руку карты... Залоснился... Вошел в раж... В конце кона перебил Копченов ход парой тузов; радостный потянулся к куче монет. Разом заохал Лапин, перекосив рот. Поймал Рыжего за рукав.
— Мужики, да вить он махлюет — хорек вонючий! Где он второго туза взял? Вить крестовый туз из игры в самом начале вышел... Не давайте ему банк!
Пойманный задергался. Коршуном пошел на доходягу:
— Что заливаешь!..
— Богданыч, гадом буду! Когда это я мухлевал, хотя бы раз? Мирза, скажи им…
Мирза молчал. Ловил носом воздух. Зато Лапин не унимался по-прежнему. Егозил задом по скамейке. Тыкал в горячке Ростислава острым локтем в бок.
— Стырил же, гад, туза...
Наконец Мирза усмешливо разжал губы:
— А ведь Рыжий... этого-того.
Он прошел в угол. Разворошил под нарами тряпье. Разогнулся с пустой поллитровкой в руке. И закрутил крупной башкой:
— Ты, бригадир, бутылку спрятать велел. Я спрятал... Рыжий нашел. Весь арак выпил.
Богданов в скулах затвердел. Косо глянул на провинившегося, лицо которого покрылось пятнами.
Уличенный зашелся криком:
— Чо на меня-то?.. Нечаянно я, ей-бо. Как человек человеку говорю... Зуб у меня... Мочи не было.
И к Лапину:
— Ты-то че щеришься? Тебе бы не тузьев моих считать. Тебе бы лучше бабу свою постеречь, сохатый.
Будто дымом забило зимовье. Недобрым, чугунным сделался бригадир. Сидящим показалось даже, что над их головами навис уросливый в момент падения сосновый ствол. Грозя оставить от картежников сырое место. Навис. И бежать некуда. И поздно уже убегать.
У Копченого захолодело в животе. Быстрее остальных он осознал, что Рыжий болтнул о том, о чем болтать никак нельзя было.
Еще в первые дни работы Копченого на деляне Богданова предупредили: «С Лапиным о бабах не трепись, студент.» «А в чем дело?» — Растерялся парень. «Стукнутый он на бабах. Свою первую жену поймал в кровати с хахалем... Обоих порезал насмерть.» «До смерти?»— ужаснулся Копченый. «А то! Срок мотал за убийство. Потом, видать, чокнулся он по бабьей части.»
Теперь посиневший, с дергающимся лицом, Лапин и шапки не взял. Сразу же после слов Рыжего вылетел в дверь, сбив с ног старика Семирекова.
— Дурак!— Кинулся Копченый на Рыжего. — И в картах ты мухлевал... Видел я, как ты шарил рукой... Только не понял сразу.
— Иди ты!— Остервенел красномордый.
Замаха не заметили. Только у Копченого губы обожгло и рот переполнился соленым.
За первым ударом последовал другой. — Мужики вмешаться не успели. Копченый упал спиной на подскочившего Мирзу.
Пока шла свалка, за стеной сквозь шум бурана просыпался конский топот. «Лапин на лесниковом коне ускакал,» — враз опомнился, и затосковал Валеич.
— Домой верхом побежал...
— Не остынет дорогой, так дома шухеру наделает…
— Э-э-эх! Балашек напугает... Бабу убьет... Он же больной! — горевал татарин…
Перехватил Рыжего бригадир. Отбросил к порогу. Помедлил на миг. Затем пошел на «человек-человеку», топча просыпавшиеся карты, выставив перед собой бурые клешни рук. Ползла за Богдановым широкая, безногая тень, вздрагивающая от бешенства.
Стало видно, как Рыжего проняло от страха; хмель его холодными каплями вышел через поры лица.
— Мужики... — не сказал, просипел. — Мужики... Не посчитайте западло. Сдуру я...
Огромная Богдановская пятерня не дала ему договорить, —стянула на горле Рыжего ворот рубахи:
— Догоняй Лапина! Вернешься без него — под ближайшей осиной похороню, и трупа не найдут.
Стукнула за Рыжим дверь. Морозные клубы прокатились по-над полом. Бригадир на корявую чурку сел, словно дело сделал. Копченый на него уставился:
— Богданыч? Зачем? Рыжий... Он без спичек даже. Окоченеет. Ему до Домны пешком не дойти.
Но Богданов не отвечал. Сидел, осунувшись. А в глазах его таилась непривычная для Копченого растерянность…
Вскоре глаза бригадира подернулись пеленой. А еще через мгновение на Пархомцева глянули въедливые глаза Мих-Миха. Художник-непрофессионал жестикулировал столь эмоционально, что в отдельные моменты, казалось, выскакивал из собственной блузы. На миг никем не наполняемая, она оставалась висеть в воздухе, в метре от пола, изредка пошевеливая полами, словно морской тряпичник жабрами. Тотчас конвульсии Мих-Миха меняли вектор на противоположный — стремительный бюст художника проникал в блузу. Чтобы незамедлительно выскочить вон, но уже с обратной стороны.
— Откуда в людях безжалостность? Лукавишь, Ростик… Фашизм? Отнюдь. Фашизм не порождается жестокостью; он воспроизводит ее в качестве одного из побочных для него самого, продуктов. Нежелательных, потому что тотальная жестокость угрожает самому режиму. Фашизм — это мы с тобой. Фашизм — это наша жажда большого чуда. Чуда, сотворенного любой ценой. Хотя бы на крови сородичей. Фашизм — это наше стремление достичь благостной, но нереальной цели с помощью чрезвычайных мер. Примером «чрезвычайки» может служить вариант, когда твой друг — медведь убивает на твоем лбу комара. Убивает сокрушительным ударом лапы...
«Мих-Мих», — Ростислав сделал шаг к приятелю. Досмотрел художнику в лицо. Перед ним слабо проступало во мраке красивое лицо его попутчицы.
* * *
Одеваясь, дама-олень не выказывала смущения. Не предложила Ростиславу выйти из машины или хотя бы отвернуться. У него грешным делом мелькнуло в голове, что при внешних данных, как у его попутчицы, можно ходить нагишом. И не только можно, но и желательно. Это прибавило бы красоты окружающему миру. Она, похоже, умела ценить собственные достоинства. Поэтому наряжалась неспешно.
— Отдых у меня получился, благодаря вашей милости... Насупленный вид Пархомцева ее не остудил. — Сыта по горло.
— Я предлагал уехать.
— Предлагал, предлагал. Ну нет. Теперь — финиш! Поеду обратно, под папочкино крыло.
— Под папочкино?
— Да уж.
Его сомнение истолковали должным образом.
— Довожу до вашего сведения: — супруг, как таковой, отсутствует. Невзирая на многочисленность претендентов, желающих занять место подле меня на супружеском ложе.
Витиеватое изложение интимных обстоятельств личной жизни попутчицы могло быть вызвано горечью, с которой она взирала на собственное прошлое. Эта горечь не мешала ей подправить помаду на губах, тронуть пуховкой щеки и расправить пышный, настрадавшийся за ночь, волос прически.
Он вылез у первой же остановки междугороднего автобуса. В нагрудный карман его рубахи ее тонкие пальцы всунули визитку — квадратик добротной бумаги с позолотой по обрезу, адресом и стройной колонкой телефонных номеров.
— Надеюсь на звонок, псих. — Поправилась. — Не думай, что умираю от неразделенной любви. Просто интересно, чем закончатся поиски таинственной незнакомки...
Дама фыркнула.
— Может сверхчеловеки из Службы Профилактики скальпируют тебя не столь скоро, как им этого хочется. Так что — до свидания, бродяга!
* * *
Двое мордоворотов, которые мертвой хваткой держали его за руки, напоминали культуристов в расцвете сил. Во всяком случае походили на таковых. Горы мышц, упакованные в добротные костюмы, слагались упорядоченно, определяя рельеф тела согласно с анатомическим атласом. Сказать, что мордовороты крепко сбиты, значило погрешить против истины. Их корпуса и конечности не нуждались в гвоздях, скорее монтажные работы по сборке гигантов проводились опытным мастером электросварки; так прочно и искусно были скреплены детали. Швы, оставленные электрической дугой, может и прощупывались на телах мордоворотов, однако Ростислав не стал проверять. И поступил благоразумно; гиганты могли рассвирепеть от щекотки.
Строение с большой натяжкой можно было бы принять за конспиративную квартиру. Шлакоблочная кладка растрескалась, плиты перекрытия держались на честном слове, и, если мастодонтам, доставившим сюда Ростислава, падение этих плит мало чем угрожало, то для других они представляли смертельную опасность.
Здесь же находился Соратник; вечный чекист и бетон были неразделимы; как мокрицы обожают сырые углы, так и Соратника постоянно влекло к железобетонной сырости.
— Куда девал Отца?
Ростислав изобразил идиота;
— Кого еще?
Страшный хлопок огромной ладонью сделал его правое плечо много ниже левого. Резкая боль пронзила позвоночник. «А чтоб вас!»
— Попытайте Валерика...
Соратник обменялся взглядами с «культуристами». — Где ты видел его?
— Вам лучше знать..
— Что известно. Нам — наше дело. Твоя единственная возможность уцелеть заключается в том, чтобы говорить правду.
Вряд ли стоит разыгрывать из себя храбреца. Надо схитрить; проницательность Соратника мирно уживалась с ограниченностью. Ростислав открыл рот; однако его опередили.
— А чтобы информация, полученная от тебя, максимально походила на правду, мы тебе кое-что продемонстрируем.
Стоящий слева гигант подтащил Пархомцева к дальней стене. Там лежал человек. Хотя у лежащего не было головы, Ростислав сразу опознал его. Ворот черной кожаной куртки хранил следы засохшей крови. Находящееся внутри ворота могло потрясти даже человека со стальными нервами. Каковыми чудотворец, увы, не обладал.
Так же волоком Пархомцева вернули на прежнее место.
— Изуверы!
— Ах-ах-ах, — закудахтал любитель хромовых сапог. — Ради Идеи, — он сделался напыщенно-серьезным, — мы готовы отдать всю свою кровь, всю — до последней капли.
— Свиньи! Пока что вы проливаете чужую кровь, идейные живодеры.
Соратник направился к двери;
— Он ничего не понял. Жаль. Определите его, и дайте ему возможность подумать.
Взболтнув руками, Ростислав пролетел по воздуху и звучно приземлился в подвале. Ход в который маскировала кладка из тех же шлакобетонных блоков. Ржавые петли металлической двери громким скрежетом приветствовали завершение полета узника.
...Что происходит с человеком, попавшим в изоляцию? Ответ тривиален: всяк попавший под замок начинает жаждать немедленной свободы, а значит — искать выход из тюрьмы. Выход, не предусмотренный тюремщиками. Ростислав не был оригинальным. Он начал искать.
Густой мрак, который скопился в подвале, можно было резать ножом. Но именно нож у Пархомцева отсутствовал. Не было и спичек, ибо чудотворец не курил. Прокладывать дорогу на ощупь — хлопотное занятие. Очень скоро он понял это, ударившись лбом о какую-то балку, узник с холодком в душе подумал о том, что там, где как попало натыканы двутавровые громадины, возможны и другие сюрпризы. Например, приямки. Или колодцы.
Хорошая гипотеза должна быть безумной. Гипотеза о колодце под ногами выглядела достаточно безумной, а следовательно — вероятной. Поэтому он предпочел держаться стены. Еще лучше было бы передвигаться на четвереньках. Но что нащупаешь, находясь в столь неудобной позе.
Через десять-двенадцать шагов его рука вошла в стену. Вернее — это была уже не стена, а глубокая ниша, в бетонной толще стены. Внимательное изучение показало: некогда ниша служила монтажным проемом для ввода в подвал полудюжины труб. Концы труб, уложенных в лоток, а позднее грубо срезанных по линии подвальной стены, были разного диаметра. Пэобразный лоток перекрывался настилом из горбыля. Древесину изъел грибок: горбылины провисли под гнетом толстого, что свободно крошилась пальцами.
Он рванул посильней. Перекрытие лопнуло. На голову Ростислава обрушилась масса гнилушек и комьев земли.
Стряхнув сор, попавший за шиворот, чудотворец воспрял духом. Слой грунта над локтем вряд ли превышал полтора метра. Но что такое сто пятьдесят сантиметров, если речь идет о спасении от смерти и смерти мучительной? Наименее тронутый грибком и гниением обломок горбыля помог ускорить работу. Ростислав ударял острым концом обломка туда, откуда безостановочно сыпалась земля. Потом он отскакивал в сторону. Вслед ему ниша извергала кучи камней, песка, земли и глины — обычного строительного мусора, которым строители засыпали траншею.
Дело продвигалось быстро.
Вскоре Ростислав мог стоять вровень с нишей, попирая ногами образовавшийся у стены бугор. А минут через двадцать начал отгребать землю подальше от стены, освобождая место для новых порций...
Сумерки пришлись кстати. Когда узник прополз образовавшимся ходом и выбрался наружу, он представлял собой отличную мишень.
Жалкое строение окружал пустырь. На расстоянии километра от бывшей Ростиславовой тюрьмы виднелись огоньки домов.
Территория пустыря служила свалкой; тут и там возвышались бугры, от которых наносило несвежим. Пахло кирпичной пылью, старой древесиной, выгоревшей на солнце газетной бумагой, прелыми тряпками...
У развалин, из-под которых, словно крот, выполз чудотворец, никого не было. Едва он успел порадоваться везению, как вынужден был присесть. Из-за ближайшего бугра в сторону чудотворца проследовала пара существ. Смутные фигуры выглядели гротескно. Передняя была выше ростом, но уступала задней в дородности, и имела на макушке остроконечной головы нечто вроде швабры или завядшего букета. В целом голова фигуры выглядела цветочной вазой, в которую позабыли налить воду. Вторая фигура обладала своеобразной полнотой: максимальная ширина тела приходилась на линию бедер. Было заметно, что прежде объемистый живот существа не то чтобы опал, но одряб и свисал одной складкой. Утрата жира в нижней части компенсировалась мощным загривком, отчего задняя фигура казалась перевернутой. Таким образом шествующая пара представляла собой деформированных недоеданием, непрерывной травлей и хроническим ревматизмом дрессированных крыс.
Налетев на затаившегося Ростислава, незнакомцы отреагировали по-разному. Тощая фигура угрожающе вскинула когтистые лапы. Полная икнула, оцепенев от страха.
— Тьфу, холера!— Агрессивное существо выругалось на манер Валериковой мамаши. Ее спутником, к великому соблазну бывшего педагога, оказался... Жапис.
Тяжелый обрезок двухдюймовой трубы был занесен для удара.
— Очнись!— Решительная особа прикрыла экс-участкового своей плоской грудью. — Не тронь Жору.
— Жору?— Тупо переспросил Ростислав.
— А то кого. Что мне его — Жопой звать?
— Он же...
— Он же, он же, — передразнивала она, — Никакой он больше не филер. И вообще... Поженились мы с ним.
— Да ну?— Ростислав не находил слов. — Тогда... Поздравляю, следовательно.
— Э-э-э, что тут поздравлять. Нам бы лет сорок тому сойтись...
Она смилостивилась:
— Но все равно спасибо. — И добавила. — Смываемся мы с Жорой.
Последнее требовало разъяснении:
— Куда? И зачем вы здесь? Кто еще с вами?
— Да одни мы. Чего кудахчешь? Хочешь, чтобы и тебя накрыли, и нас?
Притаившись позади нее Жапис всхлипнул:
— К сыночку мы.
— Сына его хоронить идем.
— Так Володя?
— Жапису он сын.
Многое стало понятным. Ростислав глянул в сторону темного проема, где лежал обезглавленный труп. Содрогнулся.
... Похороны не заняли много времени. Трудно было принять за похороны погребение того, кто не имел лица. Ведь голову казненного они так и не обнаружили. Прощаясь с сыном, Жапис присел на корточки перед свежей насыпью, плохо различимой среди множества уже имеющихся бугров и куч, и тихо шепнул:
— Володенька...
Ростислав и Валерикова мать отвернулись. Ибо в эту самую минуту Жапис, он же Пил-Киртон, уже не напоминал потрепанную сумчатую крысу — у могилы сына стоял на коленях раздавленный горем и сознанием своей вины пожилой человек...
— Куда вы теперь?
Экс-участковый отвернулся. Ответила женщина:
— Куда подальше... от этих. Человекоядные они! Мы с Жорой отыщем где-нибудь тихий уголок. Чтоб как в монастыре. Нам покой нужен. Устали мы от себя, от людей... Ты ж не забывай, что я в прошлый раз рассказывала. Помни. Не ошибись.
Они ушли.
Ростислав скорым шагом направился в противоположную сторону. К огонькам далекого селения.
* * *
Слежку за усадьбой Павлика он приметил издалека. Самая современная аппаратура не делает человека грамотней или умней, если он ленив от природы. Олухи из ведомства Закурдаева вели себя нагло. Загорающий на соседней крышке «приезжий гость» мог бы пореже проверять сохранность казенного оружия, прикрытого штанами в непосредственной близости от «загорающего», а переодетый в гражданское шпик каждые пять секунд щупал засалившуюся от частных прикосновений потной руки материю и воображал, что делает это незаметно. В принципе шпик должен был изжариться на солнце; оставалось поражаться огнеупорности полицейской шкуры, выдерживающей шестичасовое пребывание под палящими лучами. Еще непрофессиональней вел наблюдение другой служивый олух. Засевший. в дрянном сарае, напротив жилища подопечного. Оптика в окне сарая отсвечивала столь ярко, что сидящему на крыльце дома Павлику грозила преждевременная слепота. Шефу полиции следовало бы урезать денежное довольствие филеров. По мнению Валерика за такую «работу» полагалось бить морду. Как хотите, а он не терпел халтуры.
Запасной револьвер отлично сохранился в тайнике. Валерик проверил барабан, отлично зная, что барабан полон. Но такая уж была у него привычка: кроме халтуры, он не переносил легкомыслия при подготовке к серьезной акции. Шутовская маска на его лице исчезла. Дурашливая гримаса уступила место сосредоточенности. Преображение было настолько полным, что изменилась конфигурация физиономии: округлое лицо будто сузилось, а подбородок отяжелел. Собственно, револьвер был ни к чему: мараться о филеров он не собирался. На кой? Шум ему был не с руки: бывшие соратники Валерика охотились за ним, как за диким зверем. И неизвестно еще, кого они искали азартней «просветлевшего» чудотворца или его?
Позиций, занятых наблюдателями, недоставало для полного контроля за усадьбой. Оставшейся прорехи хватило, чтобы подобраться к цели невидимым для филеров. А может — шпиков? Тонкости в различиях между отдельными категориями полицейских ищеек его не занимали.
Прижимаясь к стене, он толкнул створку. Окно распахнулось. Дорога внутрь помещения была открытой...
В новом свидании с земляком имелась острая необходимость. Закурдаевские геркулесы выгребли у Валерика все. И он как никогда раньше нуждался в деньгах. Валюта требовалась, чтобы отрубить старые концы, а затем нырнуть на дно — Туда, где его не достанет Служба Профилактики. Куда не дотянутся безжалостные руки Соратника. От матери он знал про жуткую Володину участь. Знал, что опостылевший ему чудотворец снова влип, и, похоже, на этот раз основательно. Валерик был в курсе намерений матери и бывшего участкового, сделавшегося Валерику, в некотором роде, папашей. Он нисколько не возражал против последней материной причуды. Ему только стало чуточку жаль и ее, и погибшего Володю, и этого «фраера» Ростислава. Последний мог легко разбогатеть. Благодаря своему дару. Но Пархомцев происходил из сословия упрямых остолопов, действующих по принципу: и сам не ам, и другим не дам. Однако сейчас Валерик жалел и его. Он сочувствовал даже Пантеле, ведь тому предстояло еще раз тряхнуть мошной.
А Павлу было наплевать на чье-либо сочувствие; его одолевала чесотка. Он кривился. Чесался, не стесняясь «гостя». Он упорно твердил, что ни денег, ни камней у него не имеется.
Ставка на револьвер провалилась. Оружие произвело на хозяина дома слабое впечатление. Павел страдальчески оттолкнул от своей груди револьверный ствол, а потом зачесался с утроенной силой. Чертов павиан! Пришлось дать ему по физиономии. И опять напрасно. Карман Валерика оставался пустым. Самого же его начало мутить от вида запаршивевших Пантелиных рук. Какая-то золотисто-коричневая короста насохла на пальцах, запястьях и левом локте обедневшего земляка.
От нового удара в челюсть Павел взвизгнул. Поднятый им шухер был опасен. Следующий удар восстановил тишину — рукоятка револьвера пришлась точно в затылок хозяина дома. Густобровый красавец сполз на пол.
Денег в доме, действительно, не, оказалось. Стало быть оглушенный не лгал. Если и имелись у него какие камушки, они находились в столь потаенном месте, куда посторонним вход был заказан.
В результате часовых хлопот добыча экспроприатора составила пятерку «зелененьких», найденных на дне супницы, среди фаянсового сервиза на дюжину персон, который красовался на средней полке постперестроечного серванта.
... Быть битым или вновь арестованным Павел не желал. После ухода налетчика он, пошатываясь, выполз за порог.
Соседский «гость» по-прежнему принимал солнечные ванны, периодически прощупывая затертые брюки. К непереносимому зуду в руках и груди добавилась ломота в затылке. «Надо к дерматологу... Дерьмотологу», — поправил он себя, пробуя усмехнуться. Но прежде ему требовалось вооружиться. Там, внизу, этого добра хватает; он оснастится так, что ни одна сволочь начиная с сегодняшнего дня, больше не тронет его пальцем.
По дороге к лазу кладовладелец окончательно рассвирепел. Забыв о мерах предосторожности.
Маскирующий яму щит опустился над его головой. Крышка открытого люка как вчера и позавчера, и на предшествующей неделе торчала вверх ребром. А вот проклятые ступени куда-то задевались.
Ноги повисли в пустоте. Теряя равновесие, он ухватился за металлическую крышку. Вторично взболтнул ногами. Острое ребро крышки уступило нажиму рук. Через долю секунды внутри металла сощелкал какой-то механизм. — Крышка стала опускаться. Павел рухнул в люк.
... Внезапное и казалось бы, беспричинное исчезновение хозяина дома напугало вернувшуюся с юга Светлану. Были и другие пострадавшие. Тут Валерик точно в воду глядел: закурдаевские спецы по слежке лишились-таки двухнедельной оплаты.
* * *
Дорога к прабабкиному аилу, где могла быть Наташа, для него оставалась закрытой. Следовало искать обходной путь, то есть — последовать совету Валериковой мамаши.
Усадьбу бывшей супруги он отыскал без особых хлопот. Расхристанный оборванец, отирающийся близ остановки, ткнул пальцем в направлении переулка, выходящего другим концом к реке. «Вот сады».
Оборванец страдал похмельем, часто сплевывал, без конца отдувался, словно корова, потерявшая жвачку. В пластиковом, продранном по углам пакете он держал порожние бутылки из-под вина; среди десятка которых вальяжно торчала, горлышком вниз, пузатая тара с золотисто-черной наклейкой. Нездешние буквы крикливо утверждали, что когда-нибудь в красивой емкости вновь заплещется маслянистая на вкус, пронзительно-янтарная жидкость. Еще меньшим было впечатление, будто опорожнил бутылку ее нынешний владелец. Грешить на него не было повода. Поверх выпуклых, точно беременных, собратьев, позвякивал граненый мерзавчик из под уксусной кислоты.
Расхристанный алкоголик тащился за Ростиславом, уповая на оказанную услугу и на доброхотство Ростиславово. А Пархомцев решал на ходу неразрешимую задачу бродяжнического бытия: «Ну причем здесь пузырек из-под уксуса?» Пузырек, как ни крути, был явно ни при чем. Похоже знал об этом и сам оборванец. Однако упорно хранил при себе никчемушный элемент стеклотары. Хранил, словно таскал свой крест. Опасаясь, что всякая иная, предопределенная судьбой ноша, могла оказаться ему не по силам.
Странной обузе услужливого бродяги Ростислав не так чтобы очень поразился. Пару часов тому назад ему повстречался тип, тащивший перепущенную по плечам и поясу якорную цепь. На одном из свободных концов цепи болтался чугунный крест, величиной с полметра. Фиолетовая скуфейка волосатого типа была взмокшей от пота. На левом плече верижника висел транзистор, а волосяной покров на лице достигал такой плотности, что голубого цвета глазки казались бусинками, кинутыми поверх русого меха. Полутонная набожность типа вызывала сострадание. Ему пытались подавать. Но при виде транзистора руки подающих усыхали; а бывший учитель подумал: «Если Господу Богу угоден сей груз на человеческой шее, то почему он не создал Адама с грудой металлолома на шее? И отчего христопоклонники стремятся быть умнее самого Создателя? Почему он, в свою очередь, терпеливо сносит их дурь?..»
Павлик исчез. Светлана выпалила это сразу, с надрывом, едва притворив дверь. Выпалила, а уж затем узнала Ростислава.
— Ой!
— Это я. Не пугайся, пожалуйста.
Впрочем, он сказал так, вовсе не думая, что она испугается: слишком хорошо Пархомцев знал бывшую супругу. Ее не устрашило бы появление Сатаны. Разумеется, повстречав царя ада, она обязательно воспроизвела бы пассы и восклицания, полагающиеся в подобных случаях для женщины чувствующей, склонной к слабости. Но в душе осталась бы непотрясенной. А весь необходимый репертуар был бы только данью приличия, не более.
— Уходи! Шляетесь тут.
Помимо Ростислава, к ней «шлялись» одни полицейские. Да и те вторые сутки не заглядывали.
Он повернулся к калитке. Внезапно смягчившийся голос остановил:
—Постой... Как ты нас разыскал?
— По случаю. Так где... твой благоверный?
Слезные железы хозяйки сымитировали бурную деятельность:
— Удрал, скот! Профырил деньги и утек. Подонок! Тварь!
Эго уже также знакомо. Она и ругалась как-то скучно, избитыми словами. От ее брани тянуло в сон. Любая женщина, претендующая на то, чтобы выглядеть интересной, зачастую смотрится манерной. Именно такой была Светлана. А ведь некогда она казалась ему красивой. К голосу ее он прислушивался с удовольствием... Да, время — азартный игрок. Сегодня оно подбрасывает нам предел наших мечтаний, в образе «шестерки». Завтра выясняется, что «шестерка» — лишь одна из граней кости; случайный поворот — и перед нами одно-единственное очко. Кто из нас застрахован от этого?
Полнокровное Светланино лицо расправилось. Подол цветастого сарафана уплыл в сторону, высвобождая путь.
— Заходи.
Спорить с ней не стоило. И он не спорил, а настойчиво сводил разговор к интересующей его теме.
— Выходит, в пансионат ты не собиралась? Но кто из вас решил, что тебе следует поехать туда?
— Дай припомнить... — И здесь она не желала уступать. Досадуя от признания, косвенно указывающего на решительную роль мужа в вопросе о поездке. Лишь поэтому ответила не враз, по возможности уклончиво. — Мне кажется... Ах да! Так оно и было. Павлик очень просил меня. Он заботился о моем здоровье.
«Скот» и «подонок» был временно реабилитирован. Это не было прощением. Просто гильотина улыбалась разверстой пастью, по причине бегства приговоренного.
Ростислав воздал полной мерой тактическому искусству собеседницы, но продемонстрировал чистейшей воды прагматизм;
— Говоришь, полиция смотрела везде?
— В подполе землю исковыряли...
Ее воображение требовалось подстегнуть. Он коротко поведал о драгоценностях. До сего дня здоровое сердце хозяйки дома вдруг засбоило.
— Постарайся вспомнить: какие события предшествовали твоему незапланированному отъезду? Чем занимался Павел до того, как заговорил про поездку на юг?
— И вспоминать нечего яму рыл.
— Какую яму?!
— Обыкновенную помойную яму.
Она могла не продолжать...
Когда Ростислав сдвинул щит, стала ясной незаурядная хитрость творца «помойки», которая служила камуфляжем и состояла из остроумно сколоченного, герметично обшитого полиэтиленовой пленкой короба. Под дном «помойки» находилось действительно интересное.
Секрет механизма, управляющего замком люка, разгадал бы последний дурак.
Захватив принесенный Светланой фонарь, Ростислав полез вглубь. Странное чувство одолевало его: и люк, и лестница, и остальные предметы и механизмы, находящиеся внутри подземного сооружения, были знакомы. Он словно уже приходил сюда, касался этих стен, жил в одном из тесных помещений, напоминающих корабельную каюту для пассажиров второго класса...
Хриплое эхо отдалось по коридору — Светлана кричала в люк. Но Ростислав не стал возвращаться.
Помещения внутри подземелья были связаны таким образом, что, следуя в одном направлении, неизбежно придешь в комнату, находящуюся в центре всего сооружения.
Внимание Пархомцева привлек пульт. А уж затем взгляд скользнул ниже. Именно в такой последовательности: пульт-выступ, напоминающий гребень в желто-коричневой массе, слабо шевелящейся на полу, точно закипающая гречневая каша. Ростислав отступил назад.
Из глубин подсознания резким звоном выметнулось: «Опасность!!!»
Поднятые током воздуха желтые пылинки приблизились к нему. Отдельные коснулись было замершей человеческой фигуры. Бледно-голубые иголки искр окружили Ростислава. Желтые пылинки сгорали, будучи не в состоянии пересечь невидимый панцирь, образовавшийся вокруг человека.
И вновь происходящее было узнаваемо. Генетическая память подсказывала о большой угрозе со стороны «пылинок». Опасность угрожала не ему. Он был защищен от заразы. Ростислав наблюдал, как избегали его пылинки, планируя в стороны.
«Желтая» зараза несла смерть другим — всему живому.
Чудотворец обошел пульт. Хладнокровно взглянул на портреты, один из них походил на самого Ростислава, другой — не то на Наташу, не на даму-олень. Осмотр всего требовал времени, которого не было, пока зараза не проникла к выходу. У основания пульта валялось ручное оружие и несколько крупных изумрудов. Ради этого стоило рискнуть.
«Пистолет» и изумруды ярко вспыхнули в руках, очищаясь от заразы. Для страховки он потер каждый предмет ладонью. И чуть ли не бегом поспешил к люку...
О печальной участи Павла красноречиво поведала одежда, валявшаяся среди «желтого» мусора. С гибелью Светланиного мужа оборвалась еще одна нить, могущая привести к Наташе. Оставалось уповать на счастливую случайность.
...Затейливая «игра» камней проняла Светлану. Она накрыла их руками. Убрала руки — изумруды засияли вновь. «Ослепленные, как змеи, пристально глядящие на чистый цвет изумруда», — вспомнил Ростислав. Каждый из бериллов весил сотни карат — это было видно на глаз. Единственным недостатком обнаруженных Ростиславом камней являлась их некоторая бледность. Или дело в слабом освещении? Светлана зашторила окна. Освещение было ни при чем. Изумруд славится тем, что из всех камней он один сохранял свет при комнатном освещении. Несмотря на указанный недостаток, стоимость восьми прозрачно-зеленых кристаллов достигала умопомрачительной величины. Они сообразили это, даже являясь дилетантами.
Бывшая супруга раз-другой прощупала чудотворца пытливым взглядом. Она сомневалась в нем. Изумрудная прозелень падала на ее лицо. — Кусочки бутылочного стекла засорили сузившиеся зрачки. Он чувствовал, как с каждой секундой она верила ему меньше и меньше. «Ага, нашел дуру малахольную!» Будто нечаянно Светлана подсела поближе, выцепила зрачками оттопыренный карман брюк.
— Будь благоразумна. — Отвращение делало его косноязычным. — Там опасность! Ну что ты кривишься? Ты можешь, хотя бы раз, не считать собственную особу умнее других?
Он взмолился про себя: «Господи! Отчего рядом с этой женщиной я делаюсь кретином? Она подавляет меня. Неужели ограниченность так заразительна?» Сделал попытку:
—Не знаю зачем, но я принес все, что представляет ценность. Больше ничего нет. А теперь тебе лучше уехать. Пока тобой не заинтересовалась полиция, или кто-нибудь похуже.
— Я не дура.
— Дай слово, что не полезешь туда. — Он ткнул пальцем в пол.
— Я подумаю.
— И не думай даже! Собирайся тотчас и уезжай. Бросай все, за исключением самого ценного. Того, что я отдал тебе, хватит для обеспеченной жизни.
Светлана дернулась:
— Хорошо указывать, когда... ни детей, ни плетей. А мне надо дождаться Павлика. Без него я никуда не поеду.
Хорошо, что он вовремя спохватился. Брякни Ростислав про останки, ее не удержать.
— Послушай...
Как раз этого она не собиралась делать.
— Я говорю...
С таким же успехом он мог бы молчать. Ибо за его спиной происходило более интересное. Светлана пристально смотрела в сторону двери. Верхняя губа ее приподнялась, а нижняя влажно блестела. Любопытно, что на нее нашло?
Он проследил за ее взглядом. Пару секунд он сохранял радостное выражение. Затем тонкие Светланины брови переместились на лоб, подбородок ушел вниз; разгладив складки на щеках. Еще через секунду расширились зрачки, а губы изломились так, словно Светлана собиралась всплакнуть. Похоже это ей расхотелось, отчего она решила сказать, что вовсе не думает плакать, однако не проронила ни звука. Напротив — губы ее сжались, зубы стиснулись и, стиснувшись, прикусили кончик языка.
Понял! Он по-прежнему сидел, не напрягая спины. Оглядываться было излишне: происходящее сзади как в зеркале читалось на лице перепуганной женщины...
Выходя из-под удара, он увел голову вниз, насколько было возможно. А в ту сотую долю секунды, когда Светланины веки всполошено дрогнули (перед тем как сомкнуться от ужаса), он резко осел.
Хрясь! Тело его подпрыгнуло. Изогнулось. Сползло со стула. Он постарался, чтобы падение выглядело естественным. И больно приложился виском к половице. Жаловаться на боль не приходилось. Ростислав покладисто смолчал. Словно бессознательно перевалился на живот. Затих.
По комнате протопало несколько пар ног. Послышалась короткая возня. Кто-то охнул.
— Где твой?..
— Не-е-е знаю... А-а-а! Басовитый голос прицыкнул:
— Кончай выть!
Светлана завывала надрывно:
— Ой же, ой! Правда не знаю.
У лица Ростислава появились хромовые сапоги. Удушливый скипидарный запах свеженачищенной кожи попал в ноздри. Сапоги развернулись носками к лежащему. Болезненный толчок в подребье заставил вздрогнуть.
— Этого ликвидировать. — Знакомый старческий фальцет подал команду.
— А ее?— Голос помоложе.
— Поспрашивай пока.
Удерживаемая тренированными мужскими руками хозяйка дома расслышала предрешенность в последнем слове. Отчего коротко взвизгнула. Скрипнул хром, сапоги оставили комнату.
Ждать было нечего. По миллиметру Пархомцев вытянул из кармана пистолет. При военной кафедре вуза, который закончил чудотворец, имелось похожее оружие. Теперь он надеялся, что конструкционное отличие между тем, вузовским, пистолетом и этим, найденным в металлическом подземелье, невелико, и ему удастся пустить оружие в ход.
Большой палец сдвинул «собачку». Сдвинул и замер: неизвестно, какую позицию занимала «собачка» до последнего момента. Выяснять правильность этой позиции не имелось, возможности.
Занятые Светланой налетчики упустили «оглушенного» из виду. Он слегка, повернул голову. Видимая часть комнаты была свободной от мебели, лишь в левом углу поверх полированной тумбочки торчал телеприемник, единственный выпуклый глаз-экран которого наводил на мысли о базедовой болезни. На зелено-песчаном паласе топтались мужчины. Между ними трепыхалась хозяйка дома. Корявый налетчик, — тот что слева, — одной рукой зажимал ей рот, а другой рвал белье. Сразу сделалась понятной природа сухого треска, озадачившего перед тем Ростислава. На оголенной Светланиной груди краснели борозды, живот кровоточил в нескольких местах.
На фоне простеньких, «в березку», обоев прошагали сапоги с заправленными в них бриджами.
— Это лишнее. Этого не надо.
— Не пропадать же добру. Она понежится с нами, да и разговорится.
Сапоги тактично развернулись в противоположном направлении. Ствол пистолета дрогнул. Застыл, наложившись мушкой на затылок корявого налетчика. В тот же миг в дверях грохнуло: «Полиция!» Вслед за тревожным выкриком на дворе застучала стрельба.
«Уходим!»
Корявый любитель женщин вывернулся из-под прицела, выпустил из рук Светлану. Его напарник трижды пальнул в женщину. Сгреб со стола изумруды. Кинулся к двери. Туда же поспешил и корявый. Но налетел на уставившийся в живот ствол, отпрыгнул, исчез в соседней комнате. Послышался звон высаживаемого стекла.
Все, что успел Пархомцев — пальнуть корявому вдогонку. Выстрела не последовало. Он суетливо сдвинул «собачку». Снова нажал на спуск. «Ф-ф-фух-ти-и-у» Неизвестного калибра пуля расщепила притолоку...
Светлана была мертва.
Оставаться подле убитой не имело смысла. Что полиция, что команда Соратника — от тех, и от других не приходилось ждать поблажки. Следовало исчезнуть, по возможности, незаметно.
Ростислав переждал в прихожей, пока звуки выстрелов отдалились на приличное расстояние, и выбежал наружу…
«О, если бы был яд, которым можно потчевать всех, а убивать избранных!»
«Сразу никто не бывал негодяем».
В первый момент бригадир новоявленному сучкорубу не понравился. Он и стоял как-то не так, сиротски сутулясь, не приходя в восторг от пополнения.
На бумажку из отдела кадров бригадир смотреть не стал, а скомкал ее и пихнул в карман ватника.
Скучно поинтересовался: «Аванса много взял?» Без интереса выслушал Ростислава, подвел черту: «Тридцатку отдашь на жратву. Не то... знаю я вас, студентов: насидишься не жравши, как шикнешь разок». Усмотрел конец ножен, торчавший из-под полы приехавшего:
— Снимай секач. Здесь есть чем хлеб крошить.
Осмотрел нож. Не восхитился.
— Резак у меня побудет. Надумаешь когти рвать, верну.
— Да я так, — попытался объясниться Ростислав. — Для охоты прихватил.
— Тут поохотишься, — неопределенно обещал Богданов. Пояснил:
— С ножом тут одна суета...
Лесосека была из дальних, у черта на куличках. Начальство наезжало редко. А приехав, суетливо, ежилось, словно от хиуса, под неласковым богдановским взглядом. Торопливо обещало гору премиальных. Давало ОЦУ — особо ценные указания; поясняя, что сосна — это дерево, но только с иголками, а валить-де такое дерево лучше с комля, но не как-нибудь иначе. Начальство стучало дятлом по бригадировым мозгам. Прикидывая про себя: что тутошние дела идут к распаду, что в бригаде наличествует медвежья этика, и даже есть подозрения в том, что богдановские лесорубы людоедствуют и грабят приезжий люд. Бригада на руководство не обижалась. Ну что с него взять? Известное дело — при шляпе...
Сомнительная любовь между бригадой и начальством казалась взаимной. Рыжий при виде галстуков и бекеш срывался из зимовья по спешному делу. Бормоча всякий раз что-то вроде: «мозолить глаза» и «лизать задницу»...
Работали по-бешеному. Богданов твердо «держал» расценки, перекрывая план на один-два процента, не более. Он игнорировал многочисленные блага, обещанные победителям «соцсоревнования». Бригада не желала побеждать. Кто-то дырявил пиджак под «орден сутулого», принимал обязательства, перекрывал нормативы, «ошивался» в президиумах, призывал всех... А «черный люд», возглавляемый Богдановым, душил в сердцах багряные искры, великое множество которых слетало с пламенеющих по городам и весям транспарантов и стендов. Рыжий по этому поводу говорил так:
— У нас биография не та. С нашим поросячьим рылом да рябину клевать?.. Человек — человеку — друг, товарищ и брат? Какой он мне брательник — тот, что в шляпе? Он на трибуну закорячится: «коры»-шевро! спинжак-бостон! А у меня с Дуськой — одна пальта на двоих.
Мирза ехидничал:
— Арачку лакай меньше.
— Как ее не пить?— изумлялся Рыжий. — Без нее — одна муть в голове.
Обижался на Мирзу:
— Что я — алкаш? Не больше других принимаю. Кто сейчас не пьет? Фраера да разная культурная сволочь? Да они пуще нашего хлещут... Прячутся только.
За исключением бригадира и Ростислава читатели в бригаде отсутствовали. Богданов — тот и с прессой обращался по особенному. Изучив газету от первой строчки до последней, он тщательно складывал ее в восьмеро, а затем убирал под тюфяк. Откуда газеты растаскивались мужиками на прямые нужды. А хозяин газет еще долго переваривал прочитанное, внешне этого не выражая...
Встрепенулся он только однажды...
Находившиеся в зимовье заметили как «бугор» налился жаром. В следующее мгновение бригадир поразил мужиков, перечитав внезапно севшим голосом заметку: «Председателем энского райисполкома назначен, — бригадир помедлил, — Федоренко... М... Н. Федоренко…»
Рыжий хмыкнул:
Чо ты, Богданыч, до сраного хохла прицепился? Сродни он тебе што ли?
«Бугор» качнулся. Скомкал в кулаке газету:
— Куда ближе... родственник. «Мишей-вежливым» его называли. Он уже тогда в сильно грамотные метил: все буквы от первой до последней знал. Другие начальники как начальники, а этот... Он по-первости больно чудным показался. Матом — ни-ни. Выстроит нас и культурненько так: «Граждане заключенные! Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Мне вас жаль, но при попытке к бегству полагается пуля!»
Рассказчика перекорежило:
— Болтали, другой раз из этапа до места больше трех десятков не доходило. Когда начальником этапа «Миша-вежливый» шел. Стрелок из него, был отменный... с десяти шагов.
Обычно сдержанный татарин витиевато выругался...
Богданов знал множество диких, неприемлемых для Ростиславова сознания, историй. Выйдут лесорубы на застарелые деляны, уставленные высокими, до пояса, отрухлявевшими, кой-где тронутыми огнем пнями — у бригадира на этот счет объяснение готово:
— Японцы портачили. Военнопленные. У них с нашей баланды — сплошной понос. Ну и обессиливали. А снега в те зимы как на грех — в человеческий рост. За снегами — мороз! Глянешь... узкоглазые кучками жмутся у лесин. В своих дохлых шубейках. — Вздохнул. — Крикнешь им — молчат. Начнешь тормошить, а они... уже деревянные будто.
Он поворачивал прочь от старой лесосеки, заканчивая на ходу:
— Эх! Померзло самураев. Копни здесь — сплошные кости. Про бывшего начальника конвоя, М. Н. Федоренко, бригадир больше не поминал. Пояснил правда, что «Миша-вежливый» сам не без греха, одно время лежал на нарах наравне с другими заключенными. И прозвище он прежде носил иное: то ли «псковский», то ли «могилевский жулик». Потом, по своей образованности, бывший «жулик» произвелся в «лепилы». А как он стал вольным, да еще начальником конвоя — того Богданов не знал...
Спустя сутки нанесло в бригаду директора. Нанесло не ко времени. Считай третью неделю копилась в мужиках злоба — стояла валка.
Пронизывающий ветер круглосуточно обметал низкое небо верхушками лиственниц и сосен. Ясным днем без дыма и копоти горел план. Снежные заметы на дорогах держали лесовозы, травили суетливую руководящую жизнь.
Директор ввалился в зимовье. Лба не перекрестивши, швырнул ондатровую шапку на стол. Помял на мясистом лице (не померз ли?) бугристый нос и ударился в крик.
Мирза его придержал;
— Зачем шумишь? Нас послушай. Поварки нет — человек с деляны на варку махана гоняем... Газет не везут... Радио батарейка сел... Воды совсем нет — снег-лед на печке греем...
Выслушав его краем уха, директор не успокоился. Перешел на басы. Перебирая по ходу «беседы» всех богов и боженят, вкупе с заподлевшей «рабочей совестью» лесорубов.
— Вы мне билль о правах не качайте! Вас сюда послали не газеты читать! Вы мне план давайте...
Он орал минут десять, пока не наткнулся на неподвижный льдисто-мерцающий взор бригадира. Дернув щекой, директор остыл. Зато Рыжий, — как всегда «к месту», — высказался: «На горячий утюг плюнешь — шипит. А на горячего человека — зашипит?»
Только отбыл разрядившийся директор, с первом же лесовозом уехал Богданов.
Вернулся он через неделю. На вопросительное выражение Ростиславовой физиономии криво усмехнулся. Вынул из привезенного с собой чехла ружье. Повесил на стену. Коротко бросил: «Удрал». Кто удрал? До студента дошло не враз, что бригадир имел в виду М. Н. Федоренко. А еще через два дня в областной газете лесорубы прочли о перестановке в исполкоме. Взамен выбывшего по семейным обстоятельствам М. Н. Федоренко был назначен новый председатель...
* * *
Ростислав продолжал поиски. Он петлял. Уходил от погони. Ночами скрывался в загаженных подвалах многоэтажных домов, или за городом под кустами. Менял обличье и имя. Тысячу и один раз он успевал проклясть навязанный ему роком дар. Не уставая удивляться. собственной везучести, благодаря которой оставался живым.
Между тем на огромном куске земной поверхности всплывали и затухали, чтобы чуть позже разгореться с большей силой, никем не предугаданные пожары. Возникали и лопались словно мыльные пузыри государственные образования. Создавались самые невероятные союзы, содружества и объединения. Создавались, чтобы завтра же рассыпаться в прах. Политики врали и клялись. Клялись и врали. Политикой была и оставалась ложь. Замешанный на лжи хлеб крошился под ножом. От него горчило во рту. Ложь делалась традицией. Ложь оставалась религией. Историю продолжали писать вруны. История изворачивалась как могла; ее подрезали, пересаживали на новое место, делали ей прививки, временами слегка кастрировали, и даже выворачивали наизнанку. Но она не становилась правдивей.
Провинция устала от смены флагов, гимнов и лидеров. От партий рябило в глазах. Сами партии частенько путались, забывая: под каким флагом они шли вчера.
Кое-где по-прежнему стреляли. По окрестностям села, в котором родился и вырос Пархомцев, на черных «тоетах» носились банды отдыхающих, мелкие уголовники и просто праздношатающиеся. Временами в перелесках находили трупы, но чаще — забалдевших наркоманов.
Полиция устраивала облавы и засады...
«Реформисты» подрывали сторонников «единой и неделимой» прямо в квартирах...
Служба Профилактики охотилась за всеми, от кого попахивало «чужим духом»...
Уголовники спасались от полиции, от «безвнуковцев», потроша в свою очередь обывателей...
А обыватель жил. Изворачивался. Снимал последние штаны, тащил их на блошиный рынок. Где попадал в облаву.
Его, обывателя, притесняли все. Он — никого. Разномастные партии боролись за его счастье и за короны. Корон было мало. Партийных сил хватало на корону. На счастье сил не хватало...
Он казался живучим как сорняк — этот обыватель. Лозунги, символика, гимны, уверения в любви мало трогали его. Он питался чем бог пошлет. Плодился, как ему на роду написано. Слушал ложь. Терпел притеснения. И жил...
Газеты опять не вышли. Вчера рано утром — еще молчали будильники и петухи — по улице проскрежетали траки. Ядовито-зелено-серые борта туполобых бронированных машин промелькнули у самого носа. Ростислав отшатнулся. Отступил назад в глубину подъезда, служившего ему в эту ночь прихожей, коль ночевал он под лестницей. Он отступил; спускавшаяся со второго этажа тетка прянула в сторону. «Что б тебя! Шляются тут... И ходют, и ходют.» У тетки было маленькое личико, похожее на четыре, уложенных ромбом по вертикали, яблока: яблоко — подбородок, пара яблок — щеки, яблоко лоб. Мало того: все теткино фруктовое лицо напоминало одно бугристое румяное яблоко. Он поклонился разгневанной жиличке. Вышел. Вдохнув влажный предутренний воздух.
Влага маслянисто оседала на мостовую — на ней присутствовал конденсат выхлопных газов.
От полусгоревшей солярки свербило в носу. Шагнув на крыльцо, он чихнул. Из подъезда долетело приветливое теткино: «Будь здоров… пока тебя не разорвало.»
Он опять поклонился, теперь уже закрывшейся двери, и вежливо поблагодарил: «Спасибо. Умру здоровым».
Большинство газет не выходило уже четвертый день. А те, которые все-таки выходили, были малоинтересны: в одних — реклама и диеты, в других — экономические прогнозы на прошлую неделю. Пресса не поспевала за горячечным пульсом общественной жизни; ей не хватало то бумаги, то краски, или того и другого вместе. Упорней остальных оказывались рупоры политических партий находящихся в подполье. Даже оппозиционные партии уступали подпольным. Находиться на нелегальном положении было делом престижным. В подполье как и в Греции имелось все: множительная техника, бумага, краски и наиболее опытные кадры по выпуску печатной продукции. Поэтому партии стремились уйти туда, куда охотно уходят крысы. Там среди запахов овощей, сала и развешанных на зиму окороков нельзя было зачахнуть с голоду. А на сытый желудок, как известно, слетаются фривольные мысли. «Середка сыта — концы играют». В подпольных изданиях встречались обнаженная натура и натуральный мат. На страницах таких газет призывали вешать: демократов, большевиков, жидов и хохлов, атеистов и клерикалов, анархистов и аполитичных обывателей... Материалы о развешивании той или иной категории людей отличались деловитостью, носили сугубо прикладной характер. В отдельных статьях потрясенного читателя знакомили с подробной технологией этой увлекательной процедуры. На протяжении четырехсот с лишим строк густо встречались: «веревочная петля», «намыленная веревка», «удавить на ближайшем суку» и «эти проклятые висельники». Получалось, если следовать рекомендациям многоопытных в палаческом деле публицистов, то перевешанными должны быть все без исключения. Единственным отличием статей друг от друга являлась эмоциональность подхода к существу вопроса Кто-то из авторов напускал угрюмости. Другие не обходились без философского обоснования, отчего «висельный» материал выглядел солидно, но нечитабельно. Третьи резвились; между прок проскальзывало веселенькое «хи-хи-с», будто вздергивание людей на суках являлось юмористическим моментом, а сам вид удавленника мог распотешить публику. Писания четвертых состояли из нецензурной брани. Четвертые чуждались аргументов. Они утверждали, что вешать нужно уже потому что вешать надо обязательно, а кого и как — вопрос второстепенный. Да и нельзя не вешать, коли пишущие «четвертые» столь сильно гневались.
Газет не было — не было новостей. Без новостей жизнь в горном крае замерла. Мертво стыли на перекрестках газетные ларьки. Бездыханной стояла бронетехника, редко-редко подергивая стволами орудий. Будто отгоняли мух, угревшихся на теплом металле. По-мертвому, словно механическая, взлаивала гнусавая собачонка. Бросалась на многотонную коробку. Яростно грызла башмаки гусениц... Но вот она взвыла привидением, когда из люка бронетранспортера высунулась сонная рука, удлиненная автоматом, и тяжелый приклад перешиб хребет собачонки...
Чудотворцу предстоял новый визит. Путешествие обещало быть безопасным: у Ростислава, наконец-то, появились документы. Юркий пройдоха с прямым пробором жгуче-смоляных волос сдержал слово. Уж больно ему пришелся по душе предложенный чудотворцем «пистолет». На виновато-смущенное объяснение, что к «пистолету» нет запаса патронов, он махнул рукой. Перечеркнув пояснение коротким: «Подберем».
Документы появились в тот же день. Получив желаемое, пройдоха «слинял», виляя узким задом. А Ростислав дождался вечера и направился по знакомому адресу.
Особняк Павлика и Светланы стоял опечатанным.
Требовалось сделать две вещи: достать оружие (Ростислав обвыкся с «пистолетом» и более не мыслил себя безоружным) и капитально замаскировать вход в таинственное подземелье. Чтобы в будущем никто не отыскал его.
То и другое удалось полностью.
* * *
Двое в комнате.
Спор, если это было спором, продолжался четвертый десяток минут. Старший собеседник проявлял хладнокровие. А вот противник его горячился:
— ...Любой из нас способен на лукавство. Но иногда мы не просто хитрим. Порой мы способны на гадости. Однако то, что делал и продолжаешь делать ты — это подлость. Даже не подлость — этому нет названия.
— Успокойся. Я плохо понимаю твой лексикон.
— Понимаешь! Но стараешься изобразить непонятливый вид. А зря. Твоя благостная мина способна ввести с заблуждение кого угодно, но не меня.
— Что я обязан понять?
В нервном голосе зазвучали скептические нотки:
— Мне ты не обязан ничем. Наоборот тебе обязана я. Тебе обязан любой из наших знакомых, любой из приятелей. Очень многим обязаны тебе, хотя бы самой малостью.
— Это плохо?
— Да, по моему разумению. И неплохо. Гораздо хуже. Подло.
— Кто же тогда я?
— Сейчас выясним... У меня появился способ, с помощью которого мы найдем ответ на твой вопрос.
— Да-а-а?
Старший собеседник изумленно приподнял брови. Но приподнял в меру. Его изумление было подано в той степени, в какой оно не казалось проявлением экзальтации, однако было способно уязвить противника.
— Да?— повторил он для пущего эффекта и отошел к окну. Тронул рычажок. С тихим шелестом повернулись планки жалюзи — солнечный свет захлестнул комнату, расплескался на золотых корешках книг, отразился о зеркальные поверхности мебели, матовыми бликами лег на картины и портреты.
Выигрышное место среди картин занимал Дюрер. Содержание ксилографии вызывало дрожь — четверка всадников сеяла смерть! Гравюра не могла быть подлинником. Но тем более поражала мастерством копииста.
Под стать гравюре были подобраны портреты, закрепленные по обе стороны — на одном уровне с ксилографией. Слева висело полотно неизвестного художника — изображение Томаса Торквемады, справа — портрет Фридриха Ницше.
Среди книг виднелись только редкие и дорогостоящие издания, такие как: «Человеческое, слишком человеческое», «Молот ведьм», «Моя борьба», «Евангелие от Адама» и другие.
Пожилой собеседник вернулся в удобное кресло. Кресло было единственным, что резало глаз своим несоответствием остальной обстановка Ничто в нем не говорило о принадлежности к антиквариату. Оно не было редкостью минувших эпох; в нем не замечалось блеска и изящества присущих другим предметам, Это было самое обычное кресло. Ценимое владельцем в силу многолетней привычки.
— Сомневаюсь в наличии подобного способа, — сказал, наконец, человек, общей характеристикой которого служило одно-единственное слово — барство.
— Московский жулик!— выстрелило в ответ.
Тонкие пальцы второго собеседника развернули лист ошершавевшей, сделавшейся ломкой бумаги.
Черты пожилого утратили невозмутимость.
— Что за бред?
— Пожалуйста, не надо делать индифферентный вид. Это твоя кличка. Или прозвище, если так тебе будет угодно. По твоему доносу истреблен отряд некоего Манохина. Ты, а не кто-нибудь иной, тренировался в стрельбе на заключенных, будучи начальником конвоя. Это все ты! Мне известна и другая твоя кличка — «Миша-вежливый».
— Ну-и-что?
— Как что?— обличитель растерялся.
— Где тут моя вина? Рассмотрим каждый из пунктов произнесенной тобой филиппики. Кто вправе решать на чьей стороне была правда — манохинцев или белых? Кто возьмет на себя смелость сказать, что мой поступок был большим злом, нежели все то, что творили и еще могли натворить отрядники предводительствуемые Манохиным? История уже оценила деяния этих людей. Или нет?
— Предательство — есть предательство. Тебе доверяли…
— Мне доверяли и позже. Доверяли... кирку и тачку, когда по доносу одного подонка меня отправили в места не столь отдаленные. Знаешь: «Колыма — второе Сочи, солнце светит, но не очень».
— Ха, ха, ха! Когда доносил ты, то считал себя порядочным человеком. А на тебя донесли, выходит, подонки?
— На меня донесли из зависти, корысти ради. Я же оказал содействие законным (понимаешь разницу?) властям, не преследуя меркантильных целей.
— Властя-я-ям?
— Именно. Но продолжим... Да. Мне повезло. Я сумел избавиться от тачки. То есть — сделал то, о чем мечтали другие. Мечтали, но не смогли. Покорностью и бездействием эти другие потворствовали насилию над собой. Покорство перед злом — вот величайшее зло! И не надо задним числом из быдла делать героев. Видели бы вы их, как я. Ограниченные. Трусливые до мозга костей. Пугающиеся собственных мыслей. Готовые сожрать друг друга...
Он провел ладонью по лицу, словно снимая паутину.
— Став начальником конвоя (не стану распространяться о том, как мне это удалось), я стрелял в тех, кто чуть ранее конвоировал меня. Тех, кто животным смирением укреплял изуверский строй. Я стрелял тех, кто за секунду до смерти не находил в себе воли, решимости и достоинства возмутиться насилию.
— Волк — санитар леса? Было. Уже было. Сверхчеловек?
— Увы, просто человек. Но человек. А те? Они умирали по-нищенски. Ожидая отсрочки гибели как подачку. Они всегда чего-то ждали от других. Не от себя. Умирая, ждали, что их воскресят в последний момент. Воскресят, если они будут послушны. Воскресят за их пресмыкательство. И эта дрянь!..
Пожилой задохнулся;
— А Пархомцев? За что пытаешься «расстрелять» его?
— Чем он лучше тех?! Он хуже. Обладать такими способностями и не решать ничего!
— Он хочет добра для людей.
— Не способный творить для себя, не может принести добро кому бы то ни было. Он пустоцвет. Благодаря Пархомцеву существуют Соратники.
— А кстати: кто такой — Соратник?
— Сомневаюсь, чтобы сохранились его анкетные данные. Соратник появился из ничего. Туда он и уйдет.
— Разве личности подобные ему не в твоем вкусе?
— Боже упаси! Они фанатики. А фанатизм — оборотная сторона трусости. Фанатизм — это трусость, доведенная до абсурда. Лишь жалкий страх перед собственными сомнениями вынуждает Соратников слепо преклоняться перед Идеей, Вождем, Богом, перед кем угодно, только бы не отвечать самому за себя. История знала многих Соратников. Каждый раз они выскакивали откуда-то из потаенных уголков, дабы навести ужас, а затем исчезнуть. Соратники не замотивированы. Они схожи с навозными мухами: стоит появиться навозу, как тотчас объявляются жужжащие твари, все назначение которых — разносить заразу...
— Вернемся к нашим баранам. Зачем тебе некая Наташа?
Он и тут не растерялся:
— Она — труп. А покойники должны лежать, покойненько. — Усмехнулся каламбуру. — Прошлое должно помнить. Его не следует реанимировать. Многое станется, если, мертвые поднимутся из могил. Откровение Иоанна, в таком случае, покажется развлекательной программой. Нет, пусть мертвые молчат.
— Фу-у-у. Убивать ни в чем не повинную женщину...
— Она уже мертва, мертва давным-давно.
— Но Пархомцев...
— Пархомцев — великий мастер иллюзий, он ищет несбывшееся.
Рука пожилого отворила стенку бара — на свет показалась затейливой формы бутылка. Тягучая бордовая жидкость заполнила тонкостенные фужеры на треть. Острый хрящевой нос клюнул полость фужера.
— Выпьешь?
— Тебе известно: у меня от сладкого изжога... Оставь Пархомцева в покое.
— Мне он не мешает. Напротив, я хотел бы встретиться с ним, с живым, и попросить его об одной услуге. Боюсь только, что нашей встрече помешают.
Молодой голос удивился:
— Помешать тебе?!
— Прискорбно, но так. Служба Профилактики мне не подконтрольна. Иногда меня посещает мысль, что Служба Профилактики представляет «вещь в себе», и нет ни кого; кому бы она вообще подчинялась.
— Однако, должен же кто-нибудь ею руководить!
— Лесным пожаром управляет чья-нибудь воля? А радиоактивный распад происходит согласно чьему-либо желанию? Существование Службы Профилактики — процесс. А процессы бывают и самопроизвольными.
— Мистика!
— Как знать. Чудесные способности Пархомцева тоже из ряда мистических.
— В любом случае требую, чтобы ему не чинили зла.
— Свое зло он носит в себе. Не в моей воле помочь ему.,
* * *
Временами он считал Мих-Миха провидцем. Все происходило так, как предрекал художник-самоучка. Выведенная из равновесного состояния система судорожно пульсировала. Экономические, национальные, религиозные и чисто властные проявления деформировали политические и географические рамки. «Политически сознательные массы» на поверку оказывались разрушительными толпами. Ревнители национальных идей оборачивались корыстолюбивыми мошенниками. Иерархи Святых Идей — беспринципными политиканами. Не было разницы между политикой и политиканством. Да и не могли политики быть принципиальными, ибо политика — искусство беспринципности.
Дважды Ростислава ссаживали с поезда. Каждый раз он подолгу крутился на вокзале, улучая момент, чтобы проскочить в вагон очередного состава. За дни мытарств он похудел, оброс, одежда его обтрепалась. С таким видом в поезде было особенно трудно: проводники «накалывали» безбилетника с первого взгляда. Зато на станциях потрепанный вид чудотворца приносил дивиденты. Ему подавали. Он мучился, но брал. Лишь однажды какая-то страдающая слоновой болезнью дама бросила ему в лицо: «Трудиться надо!» Тогда он брать перестал. Как-то над ним сжалился вокзальный вор...
Сытый карманник швырнул в урну недоеденный пломбир. Ростислав вздохнул, зло отвернулся. Карманник сощурился. Пружинной походкой приблизился к сидящему на жесткой скамье Ростиславу. «Давно от хозяина?» Вор наелся жирного и утратил нюх. Объясняться не хотелось. Тем более, что собеседник уже осознал ошибку. Модно одетый карманник с ассиметричным невыразительным лицом пожевал губами. Смерил Пархомцева сочувственно-ироническим взглядом. Молча полез в карман... Банкноты были крупного достоинства. Это мало походило на доброхотное подаяние. «За что?»— сипло выдавил чудотворец. «За мою удачу... Будь здоров», — последовал ответ. И мягкосердечный вор растаял в глубине огромного зала.
Полученные деньги он выкидывать не стал. Как не стал жертвовать их на богоугодные цели. Деньги Ростислав частично проел, частично истратил на билет. И теперь ехал на удобном месте, независимо поглядывал на проводников и на мечущихся в погоне за безбилетниками контролеров. Он чувствовал себя умиротворенным. Правда, на одной из станций ему показалось, что к вагону проследовал Соратник. Но это было ошибкой. Его сбили с толку блестящие хромовые сапоги. Сапог оказалось несколько пар — в соседний вагон усаживался цыганский табор.
В купе толкли воду в ступе: двое ростовчан доказывали кавказцам ущербность горских наций. Тройка смуглых молодых людей традиционно горячилась, хваталась за рукоятки кинжалов, болтающихся на поясе, быстро забывала про острое оружие и цепко бралась за вилки. И ростовчане и кавказцы ели из одной посудины. Закуска в глубоком судке представляла невообразимую смесь из кусочков баранины, долек чеснока, колец репчатого лука, огненно-красных стручков перца, стеблей зелени, пластиков помидор, подсолнечного масло и... азотной кислоты. Ну кислоты может и не было, однако Ростислав примечал, как от холодного кушанья восходили едкие пары. Шумная компания принуждала угощаться и его. Риск действительно, был велик: после первого глотка он задохнулся, убедившись окончательно, что, помимо азотной, в судке присутствовали уксусная и муравьиные кислоты, а также каустическая сода.
Оказав первую помощь, его оставили в покое. Он полоскал минеральной водой обожженный рот, а огнепоклонники продолжали искать рациональное зерно. Они искали там, где вовек но сеяли. Бритоголовые ростовчане азартно приводили доводы в пользу того, что все кавказцы склочники, головорезы и барыги, каких прежде не было на этой земле. Из приводимых аргументов получалось, что быть головорезом — не существенно, главное — торговать по совести. Горцы бряцали рукоятками кинжалов о серебряные украшения поясов, парируя пройдошливостью ростовчан. По мнению смуглолицых людей: их сотрапезники тоже... жуки порядочные и торгаши преотменные. С этим жители великого города не спорили, охотно соглашались, и, хохоча, предлагали тост за интернациональную дружбу.
Вскоре Ростиславу сделалось скучно. Поэтому он вышел из купе. Уже на пороге он расслышал предложение: расселить часть ростовчан на Кавказ, в горы, поближе к озону и богу, а соответствующее количество гортанноголосых аборигенов — в Ростов.
В проходе вялился на солнце узнаваемый тип. На поджарой фигуре бездельничающего типа аршинными буквами были прописаны курсы дзю-до, каратэ и еще с полдюжины единоборств, не исключая самбо. Такие ухари являлись крупными поставщиками сырья для травматологических клиник. Они владели множеством калечащих приемов. Могли отнять жизнь посредством подручного материала: камня, палки, — осколка стекла, кусочка шпагата, полиэтиленового пакета и пробки от шампанского.
«По мою душу», — мелькнуло у Пархомцева. Выходит, он не ошибся, признав на перроне Соратника.
Нужно срочно уходить. Но куда? Спрыгнуть на ходу с поезда? Акробатика — удел избранных или безумцев. Безумцем он был совсем недавно. Однако прыгать с бешено мчащегося поезда не хотелось.
«Пистолет» находился на месте. Ростислав, сохраняя спокойствие, прошел тамбур, на ходу демонстративно пересчитывая наличность.
Тип из прохода должен поверить, что преследуемый направляется в ресторан. Необходимо на какое-то время отделаться от слежки, а дальше... Дальше выход найдется.
«Спокойствие» Ростислава не выдержало проверки. «Тип» усомнился в поведении чудотворца и двинулся следом за ним. Одна за другой хлопали вагонные двери. «Хвост» не отставал. Вагон-ресторан встретил замком. Обычное дело: «Ввиду...» и тому подобное. Пришлось вернуться в тамбур.
Дверь, ведущая из тамбура на улицу, не поддавалась.
Столь же бдительно была задраена дверь противоположной стороны. Таким образом утечка пассажиров на пути следования совершенно исключалась. Не менее капитально охранялись верхние, застекленные, половинки дверей: частая решетка из никелированных прутьев превращала пассажирский состав в своеобразный «спецзак».
Ничего больше не оставалось как запереться в туалете. Только эта идея слегка запоздала — в тамбур ворвался «тип»...
По чистой случайности Ростислав, не попался на прием, бестолково отшатнувшись от нападающего. Дрессированный «тип» пораженно выругался: с подобной беспомощностью жертвы он сталкивался впервые.
Прижимаясь спиной к стенке, Пархомцев попытался продвинуться к проходу в соседний вагон.
«Фу!»— пугнул его «тип», выбросив вперед, и вверх обе руки сразу.
В последний момент перед прыжком нападающего Ростислав сделал, казалось, самое нелепое — плюхнулся на задницу... собранное в пружину тело пронеслось над его головой, чтобы с грохотом врезаться в перегородку.
Ростислав устремился вперед. Но оглушенный боевик снова опередил его — дорога к спасению оставалась закрытой.
Теперь «тип» решил действовать основательно; из его рукава выпорхнул длинный узкий стилет.
Неотрывно глядя на мерцающее лезвие, чудотворец тащил и никак не мог вытащить запутавшееся в складках рубахи оружие. Когда же он извлек его, то увидел как озадачился противник.
«Ш-ш-ших.., ш-ш-ших.., ш-ш-ших...»
Тесное помещение наполнилось дымом. Было странно, что какое-то шипение породило столь смертоносный эффект — «тип» завалился на бок и, дернувшись, застыл.
В ярости Пархомцев обрушился на дверь. Та устояла. Тогда он истратил остаток обоймы, целясь в замок. Этого хитрая конструкция не перенесла.
* * *
На маленькой станции было без изменений. Все также мозолил глаза красный карандаш водонапорной башни; лишь сами по себе полопались, а потом выпали из рам остатки стекол в круглых окошках под самой крышей, да потемнела кирпичная кладка, там, где цоколь башни был ближе всего к земле. По-прежнему лоснилась под солнцем мазутная грязь бывшей «Сельхозтехники», хотя остатков самой техники: рыхлителей, разбрасывателей, сеялок, и прочего, — уже не наблюдалось. Только в дальнем углу двора топорщился опрокинутый вверх тормашками десятикорпусной скоростной плуг, походивший на перевернутую мокрицу. Неизменными были и сопки; правда, чуть более порыжевшими за истекшие дни. Вольготно прогуливались куры. По-старому тявкали поселковые псы. Хотя ныне их лай принадлежал представителям породистого племени и только изредка — полукровкам. Во дворе одной из усадеб можно было увидеть бульдога, сосредоточенно выгуливавшего самого себя. Все было как и раньше. Немного изменились сами жители. Поселковые обитатели измельчали, в отличие от псов. В глазах жителей, словно в глазах дворняжек, поблескивала гадостная смесь нахальства и испуга. Встречные поглядывали таким образом, словно застали тебя за малоприличным хотя и естественным занятием. Пугало и обнадеживало местное кладбище. Оно сильно разрослось. Но могилки, которые посвежей, не смотрелись заброшенными: отдельные из них просто светились ухоженностью. Глядя на кладбище, любой приходил к выводу: осатанение не задавило людской памяти, а следовательно сохранилась надежда.
Чудотворец также надеялся. Его надежда имела прикладной характер: он надеялся, что ему удалось пересечь поселок неузнаваемым. Ростислав не жаждал популярности.
Чудеса ему обрыдли. Он не желал чудес. Чего же он хотел? Только одного — найти Наташу.
К заброшенной избушке Ростислав подобрался в темноте. Больше часа прождал под тополем, у знакомой калитки, в ожидании восхода луны.
Суррогат светила показался на небосводе в назначенное время. В щедром свете полной луны избушка выглядела, развалиной. Заколоченные березовыми дощечками окна походили на бельма. Чья-то заботливая рука заколотила двери. Окислившиеся шляпки кровельных гвоздей налазили одна на другую; три рядом вбитых гвоздя расщепили косяк, чуть выше был вбит четвертый гвоздь.
Верхний гвоздь выглядел хлипким. Эх! если бы да кабы. Если бы у Пархомцева были клещи. Но таких не имелось. Поэтому он уделил внимание спальному окну. Когда-то в такую же ночь он уже стоял на этом самом месте. Стоял охваченный ужасом.
Теперь ужаса не было. Была грусть и смутное ощущение того, что избушка смотрела на него сквозь тонкие березовые планки загадочным взглядом.
Чего он ждал, явившись сюда? Ведь в полусгнившем строении давным-давно никто не жил, расхлестанная дождями печная труба готовилась рухнуть на тесовый скат, покоробленные тесины которого выгнулись горбами, а палисадник зарос малиной, крапивой и гигантским лопухом. Чего он ждал? Ростислав нащупывал утерянный след, предполагая, что Наташа уже побывала здесь после памятного бегства и оставила знак понятный лишь ему.
Дощечки осыпались под ноги, словно до того держались на честном слове да канцелярском клее...
Внутри его ждали! Присутствие людей он ощутил тотчас, как только ноги коснулись пола. Одновременно в комнате вспыхнул свет. За спиной Ростислава кто-то опустил шторы, отсекая свет от улицы. Кто-то дышал в затылок, однако оглянуться не было возможности — прямо ему в переносицу нацелился зрачок автоматного ствола.
— Дышите глубже, Пархомцев, — стоящий перед ним мужчина успокаивающе поднял свободную от оружия руку.
— Просил бы обойтись без эмоций. У нас нет намерений применять в отношении вас меры принудительного характера.
— Ап!— обладатель бархатистого голоса перекинул автомат из руки в руку. Заразительно рассмеялся б восторге от собственной ловкости. Стоявший за спиной Ростислава кашлянул, предупредил:
— Не паникуйте, пожалуйста. Мы вынуждены вас обыскать. Во избежание ненужных эксцессов...
Продолжая говорить, он повел руками по бокам чудотворца, охлопал карманы, тронул пояс. Было заметно, что с процедурой обыска он был знаком заочно. Иначе, не проявил бы неосмотрительности, упустив из вида штанины обыскиваемого, в одной из которых находилось то, чем пренебрегать ни в коем случае не следовало. Проникновение Ростислава через окно сыграло с присутствующими непредвиденную шутку. Хранящийся за поясом чудотворца «пистолет» соскользнул в брюки, и сейчас находился в нижней части штанины, задержавшись там в качестве распорки. Тень от обладателя бархатистого голоса прикрывала ноги Ростислава. Отчего подозрительное вздутие было незаметным. Особенности конструкции оружия пока способствовали его хозяину.
— Вы плохо слышите? У вас шок?.. Любезный, подайте ему стул. — Глаза говорившего заглянули в лицо задержанного.
С облегчением, вместе с тем осторожно, будто подставленный стул был хрустальным, Ростислав присел.
Устроители засады не имели ничего общего со Службой Профилактики. Как любил выражаться Мих-Мих у этих мужчин: «И колер не тот, и колорит другой, и фактура выглядит иной». Обладателя бархатистого голоса Мих-Мих написал бы сепией, непременно назвав картину «Этюдом в коричневых тонах». Второго участника можно было написать углем, в карандашной манере: резкие очертания его фигуры и контуры отдельных деталей казались хорошо проработанными, и в должной мере заштрихованными.
— Итак...
— Я весь внимание, — Ростислав старался попасть в тон говорившему.
— Мы признательны вам, что начало нашей встречи проходит на деловой основе. Надо заметить, я ничуть не сомневался в вашей выдержке. Хотя кое-кто, — мужчина с бархатистым голосом иронически указал округлым подбородком на своего молчаливого спутника, — придерживался иного мнения. Однако теперь, как мне кажется, сомнений больше нет. Мы восхищены вашим присутствием духа.
— Взаимно.
Ростислав воспользовался образовавшейся паузой. Вежливо наклонил голову, сохраняя, однако, мрачное выражение лица.
— Примите и вы заверения в совершеннейшем к вам почтении.
Коротко подстриженные усы широко раздвинулись:
— Ха-ха-ха! С вами приятно вести разговор. Ныне осталось так мало чувствующих, способных оценить юмор людей. Ныне редко кто воспринимает на слух и способен различить иронию, насмешку, сарказм. Утрачивается искусство вести беседу, искусство занимать собеседника. Нет-нет, я не оговорился — именно «слышать». Слушающих — легион, услышавших — одиночки...
«Краснобай!» — презрительно констатировал про себя чудотворец. «Или того хуже — садист. Из тех мальчиков, которые в детстве отрывали пойманным мухам лапки, а позднее выкручивали руки приятелям, любопытствуя муками жертвы.
— Как вы думаете, кто мы?
— ?
— Понимаю ваше недоумение, поэтому не будем напускать туману. Мы — люди влиятельные, свободные от идеологических шор, стремящиеся обрести выгоду там, где это возможно. Скажу начистоту — мы в курсе ваших бед. Добавлю — у нас нет ничего общего ни со Службой Профилактики, ни с... — он саркастически усмехнулся, — Соратником. В общем: мы не едим младенцев, даже будучи голодны.
Черно-карандашный мужчина хмыкнул. Это было то же самое, как если бы засмеялась закопченная эмалированная кастрюля. «Бархатистый голос» удивленно повернулся, к развеселившемуся спутнику. Такого момента Ростислав ожидал с самого начала разговора. Молниеносным движением извлек из штанины и сунул под полу пиджака «пистолет».
«Бархатистый голос» развернулся к чудотворцу:
— Что с вами?
— Не понимаю.
— Но у вас такой напряженный вид. Мы сделали что-то не то? Вас взволновали мои слова?
Следовало успокоить его.
— Откуда вы появились? Каким образом определили, что я приду именно сюда? Следили за мной? Откуда вам известно про меня? Как вы попали в дом?
Он выстреливал вопросами, не дожидаясь ответов.
В облике «бархатистого голоса» прибавилось сепии. Шоколадные глаза его выпучились, рельефно выделившись на каштанового цвета лице.
— Тысяча извинений... Можно попросить: не так быстро... У нас имеется предложение...
— Никаких предложений! Хотите, чтобы я рехнулся?
— Нет уж, — пожалуйста, воздержитесь от этого. Участь психического больного вам должна быть уже знакома. Нужно ли повторяться... В нашей осведомленности отсутствует сверхъестественное. Просто в окружении Соратника есть наш человек. То же самое можно сказать и о Службе Профилактики. По поводу проникновения в дом... Осмотрите входную дверь и убедитесь, что гвозди перекушены...
Его рассудительные интонации должны были смягчить ситуацию. Но Ростислава понесло:
— В та-та-таком разе вам должно быть известно, где находится Наташа?
Противники поедания младенцев заметно сконфузились:
— К сожалению...
— На этот счет у нас нет информации.
В последнем он сомневался.
— Что вам нужно?
С каждой минутой Ростислав делался грубее, а его собеседники уступчивей. «Бархатистый голос» старательно добавлял елея:
— У нас нет причин что-либо скрывать от вас. Не стану утверждать, что мы — меценаты, но позволю себе заметить на совпадение ваших интересов с нашими.
— В чем заключается это совпадение?
— Поясню. Нам выгодно ваше благополучие. Как в материальном, так и чисто физическом отношениях. Проводить доходные дела можно лишь с заинтересованными людьми. С персонами, которые (буду прямолинеен) уже познали вкус бытия. Которых прельщают прелести жизни. У которых душа повязана многими узами. Мы устанавливаем контакты с живыми и грешными людьми. Правда, нам нет нужды в преступниках и идеалистах. Первые — потенциальная угроза для всех, и для нас тоже. Преступник не способен быть деловым (извиняюсь за каламбур) человеком, ибо всегда преступает рамки морали. Идеалисты же плохи тем, что они косно замыкаются на морали. Легко превращаясь в начетчиков. И те, и другие нетерпимы ко всему, что плохо согласуется с их узколобыми принципами. Они агрессивны. Истеричны. И преступники, и идеалисты убеждены в преимуществе грубой силы. Преступники уповают на силу физическую. Идеалисты, насаждая свою «единственную правду», не чувствуют ни физического, ни духовного насилия; и здесь не известно: какой вид насилия более противен человеческой природе.
Он остановился. Хохотнул.
— Мда-а-а... Кажется меня повлекло на философскую стезю. Чур меня! Поговорим о деле... Мы готовы платить. И платить хорошо. Помимо оплаты наши люди обеспечат вашу безопасность. У нас хватает сил, чтобы остановить поползновение любой из организаций. Тех же «безвнуковцев». Дабы убедить вас, открою маленький секрет; все серьезные организации подкармливаются из нашего кармана.
— Вашего?— Ростислав оценивающе посмотрел на разнородную парочку.
— Ну не совсем так. Мы только представители. Мы говорим от имени солидных людей. А-а-а, вас удивляет несвойственная нашему положению роль? Видите ли. Такое соглашение, которое нам предстоит сегодня, исключает участие рядовых исполнителей. Лишь поэтому... Вы нас понимаете?
Эти: «нас», «наше», «мы», «у нас», «нами» — усиливали ярость Пархомцева.
— Вы же обязуетесь...
— Я ни перед кем не обязуюсь!— Взорвался Ростислав.
— Позвольте закончить... Вы обязуетесь время от времени использовать свой талант. Использовать, согласно нашей заявке, в медицинских и рекламных целях.
— Кончили?
Чудотворец напрягся.
— Если вы закончили, то подите...
«Бархатистый голос» вскочил. Его черно-карандашный приятель зло передернулся.
— В таком случае мы уступаем вас Соратнику!
— Погодите!— «бархатистый голос» пытался исправить ошибку, допущенную его спутником. — Погодите! Вы не так по...
В проеме кухонной двери показалась новая фигура.
— Пархомцев! Не надо-о-о!
«Пистолет» вздрагивал в руке Ростислава, откашливаясь, точно гриппозный больной. Заостренные кусочки металла бороздили штукатурку. Дырявили перегородку. Расщепляли мебель. С визгом отскакивали от печки. С жадным причмокиванием буравили человеческие тела...
— А подите вы!.. Провалитесь!..
Ненасытная жажда разрушения овладела им. Хватит травли! Хватит издевательств! Его загнали в угол? Так пусть попробуют удержать!
— Нечисть!.. Проклятые пришельцы!..
— Ни слова больше! Кто сказал о пришельцах?— низкий голос донесся из-под пола. Дрогнули, подпрыгнули вверх половицы— Шиш — означает «бродяга» и «разбойник»... Шишига — нечистая сила. Пошто льешь кровь? Тебе назначено воскрешать. А ты что делаешь?
— Не желаю!— воскликнул Пархомцев. — Будь они прокляты-ы-ы!!!
— Слабосилец, — снова колыхнулся пол.
— Кого воскрешать-то? Этих?
— А хоть бы и их. Разве они — не собратья твои?
— Не-е-е мо-о-о-огу...
— Тогда беги. Возможно ты догонишь того, от кого убегаешь.
* * *
Злыдни настигли. Они больно щипали Ростислава За икры. Свирепый уродец, превозмогая одышку, полоснул бритвой по штанине. Пархомцев, изловчившись, поддал карлику «с носка». Жестокий заостренный носок туфли разбил уродцу грудную клетку. Злыдень сплюнул кровью. Однако не отстал. Искаженное ненавистью кукольное лицо его сделалось, лиловым.
— Резать! Пущать кровянку! Бей по сусалу инородца!
— Дурак, — сказал ему Ростислав. — Во мне две крови.
— Москаль заср... Бей великодержавного шовиниста! Кроши чернозадого! Режь всех, кто не нашей масти!..
— А шиш тебе, — выплюнул с желчью чудотворец.
— Сам, — Шиш! У тебя на лбу написано…
— Сам-то. Сам-то, — по-школярски обрадовался уродец.
— Сколько душ загубил, мерзавец?
Ростислав обиделся до слез:
— Я... от безысходности. Я... защищался. Меня вынудили.
— А я, по-твоему, что?— в свою очередь насупился карлик. Куснул себя за палец. Скрежетнул зубами.
— Я, по-твоему, таким родился? Да меня, если хочешь, тоже затравили, как... как... как... Даже не знаю как.
— Кто тебя травил?— пренебрежительно фыркнул Ростислав.
— Известно кто — жиды да инородцы, москали да масоны, хохлы да Киргизия...
Он долго перечислял.
— И нас. И нас, — пищали остальные злыдни.
— Мы все затравленные — перетравленные.
— Постой, — обратился к уродцу Пархомцев. — Я же тебя убил.
— Вот такой ты наесть — убивец. Только ты меня и воскресил. А где Хохрик?
Он вдруг вспомнил про кота.
— А Хохрик, действительно, был не нашей масти, — загалдели злыдни...
На их пути оказалась глубокая рытвина. Заднее тракторное колесо разбило колею. Набросав позади себя гору ошметков.
Злыдень-уродец свалился в рытвину. Под влиянием внезапно нахлынувшей жалости чудотворец извлек карлика из рытвины; попытался обтереть его. Извернувшийся злыдень расцарапал руку спасителя.
— Ты чего?.
— Того самого, — истерично рыдал уродец. — Не нашей веры, а хватаешься. Осквернил меня, масон.
— Масо-о-он, — передразнил Ростислав, — Значения слов не знаешь, а туда же.
— Хто не знает? Хто не знает? — закудахтал карлик. Кинулся за оброненной бритвой. Ростислав нагнал. Дал щелчка в острую макушку. Выхватил бритву из-под носа злыдня и переломил ее. Карлик от щелчка да от большой досады по-стариковски заохал. В несчетный раз укусил себя за пальцы.
Сам ты ничего не знаешь. Масон — это который хочет захватить власть. Чтобы всех уничтожить...
Злыдни притихли, настороженно глядя на горбатого уродца. Карлик-афеня подмигнул Ростиславу левым глазом, усмешливо заявил:
— Кому — масоны, а кому — тьфу! Мне масоны ни капельки не мешают.
Горбатенький взревел:
— Христопродавец! На тебя — тьфу!
— А я на тебя...
— А я...
— А я...
Бессильный переплюнуть оппонента уродец приспустил грязно-синие штаны. Нагнулся и показал афене голый зад.
Афеня звонко рассмеялся:
— Зад-то — не наш. Он желтый, как у китайца.
Показал уродцу «козу».
— У-y-у, азиат.
Горбатенький дал «свечку». Молниеносно надернул штаны.
Суетясь, затянул нитку, служившую ему поясом. Остренькие глазки уродца забегали по сторонам.
Вслед за афеней хихикнул чудотворец. Вскоре вновь поугрюмее:
— Да ну вас. О чем с вами толковать? Ведь вы мне только чудитесь.
— Не скажи, — протянул уродец.
Карлики зашумели:
— Чего надумал!
— Шлангом прикидывается...
— Ваньку валяет...
— Ущипни себя...
Чумазенький печной житель призывно махнул лапкой. Обращая на себя внимание чудотворца.
— Констатируя данное высказывание, имеем два взаимоисключающих варианта: или мы — фантомы, или мы — реальность. Исходя из...
— Есть третий вариант, —громыхнул потусторонний голос.
Напуганные громкими звуками воробьи метнулись на обочину. Вспорхнули. Разлетелись в стороны. Со стороны ближайшей сопки взметнулись полупрозрачные, светящиеся в предутреннем свете линзообразные тела. Одна из «летающих тарелок» нависла над Ростиславом.
При виде низко спустившейся к ним «тарелки» злыдни захлопали в ладоши.
Вокруг Пархомцева заискрились фиолетовый кокон. Кожу чудотворца защипало.
— То, что ты называешь «злыднями» — не игра воображения, но и не порождение природы. Это овеществленные символы.
— Что сие значит?
— Спроси у них, — скрежетнуло из-под земли.
«Летающая тарелка» взмыла в небо. Фиолетовый кокон померк и растаял. Из глубины недр вырвалось приглушенное: «Memento more».
— Маму морим, — взвизгнул горбатенький уродец.
— Помни о смерти, — назидательно сказал печной приживала.
— Цени жизнь. Ибо жизнь бесценна, а конец ее — подтверждение тому.
Человек передернул плечами:
— И это жизнь?! Да тебе жить не стоит! Обременитель.
Мордочка горбатенького кривилась в приступе ненависти:
— Нынче кто в почете?
Коричневый палец уродца указал на афеню:
— Торгаши, да жулики!
Ростислав механически продекламировал:
«Когда у власти воры,
Тогда в почете вор».
— Про этих двоих бабушка надвое сказала, — рассудительно изрек печной обитатель. Подразумевая горбатенького и афеню. — Не надо никем пренебрегать. Всякое сущее неприкосновенно.
— А это что?
Ростислав задрал распоротую бритвой штанину.
— Но давай уродцу бритву.
— Он сам возьмет.
— Отними. В природе многое противно нам. Мы стремимся исправить природу. Она поправляет нас.
— Где Наташа?
— Ищи, — обнадежил чумазенький.
— Черта лысого найдешь, — возликовал уродец.
— Поторгуйся со мной. — Афеня прищурил глаза. — Сойдемся в цене, подскажу.
— Ерунда! — донеслось издалека...
Символы знают лишь то, что известно тебе самому.
— А мой чудесный дар? Что мне делать с ним?
Он кричал в голубое небо, — высоко задрав голову.
— Он твой. Тебе и решать. Живи-и-и...
Тяжелое небо опрокинулось. Легло на плечи Пархомцева.
* * *
Комиссия следовала за комиссией. Богданов устал отругиваться. Потемнел с лица.
Бригаду таскали в прокуратуру. Дважды побывал у следователя и Ростислав. Следователем был строгий, рыжий телом человек. Про которого Мирза отозвался неблагожелательно: «Пфуй. Штаны носит, а лицо — мягкий бабий задница».
С Ростислава что взять? Ему легче всех. Он в бригаде человек новый. Вот Рыжий попотел. За Рыжим старые грехи имелись. После третьего вызова Рыжий поплакался бригадиру: «Бо-ог-даныч, тебе как человек человеку... Я што ли виноват? Ты ж знаешь, я в тот день на валке не стоял. Вот Мирза стоял. Студент стоял...».
Плевок бригадира впечатался в грязь.
... Завидное счастье у Богданова: с утра была его очередь первым идти на деляну. Таков был порядок, установленный невесть кем и невесть когда, задолго до бригадирства Богданова. Очередник покидал зимовье на час раньше других. Чтобы к приходу бригады подготовить костер, заправить бензопилы и переделать кучу незначительных, но досадных дел.
Так что по закону зависшая с вечера сосна полагалась бригадиру. Но легла она на широкую лапинскую грудь. Смяв грудную клетку вальщика в кровавый комок.
Зависшие на кронах соседей стволы считались грязной работой. Спускать «парашютистов» полагалось, в соответствии с инструкцией, незамедлительно. Чего в тот раз бригада не сделала, бросив зависшую сосну до утра. И то. Вокруг на сотню верст не было ни души, если не считать самих лесорубов. Да и ствол заклинился туго. Рыжий утверждал, что спустить сосну можно при одном условии: подпилив здоровенную лиственницу, которая подпирала зависший ствол с левой стороны.
Конечно, Рыжего считали трепачем. Но во всем, что касалось валки, на него полагались безоговорочно. Полагались даже теперь — после гибели Лапина. Уж видно леший сыграл злую шутку. А может лесорубов подвел отсыревший грунт. Как бы то ни было, но в этот раз приключилось то самое, что происходит раз в сто лет, чего предвидеть не в Состоянии и лохматый таежный бог.
Горюя, Мирза был все-таки краток: «Лапин зря вперед шел. Зачем спешил? Богданыча очередь полагалась... Чужой смертью Лапин взял». Бригадир на это кивнул согласно, Следом за ним бригада согласилась, что грешно забегать вперед очереди. А потом бригадир достал бутылку спирта, дабы мужики могли помянуть погибшего.
А на улице шел первый дождь пополам с мокрым снегом. Снежная грязь лепила на узкое стекло единственного окна и там таяла. Стекая на сруб мутными каплями. Сквозь мутное стекло виднелась земля, усыпанная серо-белыми пятнами, точно не вылинявшая до конца зимняя шкурка длинноухого. Где-то далеко дождь и снег ложились на свежую могильную насыпь. Насыпь раскисала, некрасиво расплывалась по сторонам жестяной пирамидки, на вершине которой кособочился небольшой, с ладонь, также жестяной крест.
Свою порцию спирта Ростислав разбавил сырой водой. Содержимое стакана замутилось. Стало похожим на мокрое оконное стекло. Он понюхал образовавшуюся смесь, раздумал пить.
Его долю выпил Мирза.
Сглотнув спирт, татарин прикрыл глаза. Сожалеючи просипел обожженным горлом, адресуясь в пространство за окном: «Хороший спирт. Зачем добро водой портил? Не делай так больше, студент...»
Срок, отпущенный судьбой Богданову, истек через месяц. К тому времени Ростислав ушел из бригады.
О случившемся студенту поведал Мирза:
— Ночью изба загорелся. Меня Рыжий будил... Меня Рыжий тащил... Мы наружу вылезли... А бригадир сгорел.
Рассказчик по-детски всхлипнул:
— Снова прокурор приезжал. Меня допрашивал... Семиреков допрашивал... Всех допрашивал. Я «человек человеку» хвалил. Семиреков хвалил... Потом прокурор хвалил. А бригадир сгорел.
Он вытер глаза.
— Говорят, врач Богданыча резал. Что резал? Если уголь один... Задохнулся бригадир, потому сгорел? Почему другой не задохнулся? Богданыч крепче всех был...
И без всякого перехода:
— Пфуй. Пойдем студент ко мне, махам будем кушать, водку пить, балашек смотреть...
Татарин ушел.
Пархомцев долго глядел вслед. Красная сорочка Мирзы, заправленная в широкие штаны, штанины которых, в свою очередь, заправлены в белые шерстяные носки, мелькнула раз-другой у перекрестка, проглянула на углу квартала и исчезла навсегда.
Но была еще одна «встреча». Несостоявшаяся.
... Телефон стоял в кабинете директрисы.
Когда раздался звонок и к телефону попросили Пархомцева. застарело-молодящаяся директор бросила трубку. Ей не понравился новый учитель. С одной стороны — он был мужчиной. Она любила иметь в коллективе мужчин, и не просто «брюконосителей», но молодых цивилизованных людей. Наличие в учительской представителей сильного пола ее вдохновляло. Здесь Пархомцев пришелся ко двору. Однако, с другой стороны: присланный для пополнения математик сразу показал себя «сухарем». Он мало улыбался. Избегал пикантных шалостей, так скрашивающих казенно-педагогическую жизнь. У него не возникло желания, обменивая классные журналы, с высоты своего роста метнуть взгляд за вырез кофточки хорошенькой учительницы. Прочитала бы наедине, а в голосе ее звучала бы материнская забота и ни грамма осуждения.
Пархомцев директрису презирал. Претили ее фамильярный тон и вульгарный язык. К его презрению добавлялась доля брезгливой жалости, когда он слушал рассказы о «боевом прошлом» руководительницы. В своих устных мемуарах она заходила слишком далеко. Так, впервые он содрогнулся, слушая, как немцы сдавались в плен из желания увидеть ту, слухи о красоте которой просачивались через фронт. Разумеется, этой боевой красавицей была директриса...
Стальная выдержка математика подвергалась большим испытаниям. Наконец — пришел момент, и он сорвался. Забывшись в приступе деланного дружелюбия, директриса окликнула его: «Ростислав, заср...ц». «Какой я вам заср...ц!»— взорвался учитель. Начальство незамедлительно сделало озабоченное лицо: «Ну если тебе не нравится по-простому, я буду обращаться к вам(!) только официально».
... Больше в тот день Пархомцеву не звонили. Уже вечером соседка передала ему записку.
С первого слова можно было догадаться об авторе записки. Мирза писал, что хотел бы встретиться с Ростиславом. Далее неразборчиво говорилось про арест Рыжего, якобы умышленно поджегшего зимовье и предварившего поджог убийством бригадира.
В конце записки татарин излагал явную чушь: мол, Рыжий убил Богданыча потому, что кто-то подговорил его на убийство, заплатив Рыжему большие деньги, Мирза явно перебрал араки, когда черкал записку. Но как бы то ни было Ростислав обрадовался гостю. И ожидал его с нетерпением, ибо Мирза обещал зайти снова.
Стемнело, а гость не появлялся. Прошла ночь. Потом рассвело. Минул новый день. Мирза как в воду канул.
Пресса полнилась слухами о партийном кладе. О спрятанных до лучших времен сокровищах. По пути на родину Пархомцев внимательно просматривал газеты, которые, пестрили сообщениями сенсационного характера. Много писали про таинственные бункера, заполненные контейнерами с драгоценными металлами, золотыми и платиновыми слитками. Заголовки резали глаза: «Ранее изъятые средства партии — надводная часть айсберга!». «Сокровища партийной Голконды», «Уходя, они хлопнули! дверью Гохрана», «Приемы НСДАП не умерли»…
Сенсация казалась затяжной. Газетчики воспрянули духом, тиражи газет удвоились. Ряд изданий по такому случаю незамедлительно ушел в подполье и оттуда забрасывал грязью всех! — от бывших сановников до уборщицы.
Предположения прессы вызывали у обывателя коматозное состояние. Участились случаи самоубийств. Зато партийные лидеры корпоративно отмалчивались, и в петлю не лезли. Коротко взлаял, тут же замолчав, орган компартии. Что-то осуждающе-угрожающее в адрес продажной власти изрекла руками малоформатная газета Демократической партии России. Анархисты всех уклонов не сказали ничего — они были заняты розысками сокровищ.
Скандальное чтиво развлекало чудотворца до тех пор, пока в одной из бульварных газет он не встретил упоминание о... самом себе.
В небольшой колонке фамилия Ростислава туго увязывалась с именем его бывшей жены и ее второго мужа. Прочие затронутые ушлым автором личности приводились вскользь. В коротком тексте Пархомцев дважды именовался «одним из партийных эмиссаров», вернувшимся из-за рубежа для ревизии спрятанных сокровищ. Светлана и Павлик именовались его правой рукой. Абзац с «правой рукой» он перечитал дважды. Походило на то, что в названном месте воображение автора статьи достигало потолка образности. Впору было воскликнуть: — Если не можешь писать — не пиши, а если все-таки можешь — не пиши все равно!»
В общем, аукнулись Ростиславу камушки, найденные им металлическом подземелье.
Кончалась статейка соблазнительным предположением чудотворцу: явиться с повинной. Еще более соблазнительным выглядела приписка о том, что всякий, могущий сообщить что-либо о теперешнем местонахождении Пархомцева, получит солидное вознаграждение. Таким образом, перед чудотворцем встал двойной соблазн: он мог явиться с повинной, а заодно потребовать «солидное вознаграждение за сообщение о самом себе.
Ростислав преодолел искушение. Сделался крайне осторожным. Предпринятые им меры должны были огорчить автора статьи господина Наймушина, знай о том последний.
Вскоре за бульварной прессой на чудотворца обрушилась официальная власть. Многостраничный, объемом схожий с еженедельником «Совет» инкриминировал новоявленному «партийному эмиссару» целый ряд мелких и крупных злодеяний. Из крупных наиболее зловещими выглядели обвинения: в многолетнем подрыве финансового и экономического могущества государства, в корыстном предательстве народных интересов, в нарушении государственной монополии на торговые операции драгоценными камнями и металлами. Мелкие злодеяния Пархомцева приводились бегло. Среди «мелочи» числилось убийство не то шести, не то шестидесяти человек. Целый «подвал» отводился способам, посредством коих чудотворец лишал жизни невинных людей, женщин и господ обоего пола. Описываемые способы впечатляли не меньше размеров контролируемых им сокровищ. Легендарному Джеку-Потрошителю полагалось краснеть перед Ростиславом. Но краснел и непривычно сквернословил Ростислав. Отныне на него объявлялась массовая облава.
«Человек имеет право только на те ошибки, за которые сам в силах расплатиться. Только сам».
«Боги принимают сторону победителя, Катон остается на стороне побежденного».
«Говорил Христу сосед по кресту...»
Ростислав обернулся. В очереди кто-то шумел. Походило на то, что назревала ссора. Пархомцеву не светило быть замешанным в скандале. На крики могла набежать полиция и потребовать документы. Малейшее сомнение полицейских в достоверности Ростиславовых документов привела бы к гибели их обладателя.
Он протиснулся сквозь галдящую толпу, размеренным шагом прошел в хвост очереди, а уж оттуда скользнул за угол серого пятиэтажного дома.
По счастью он не выкинул визитную карточку прелестной попутчицы. Карточка лежала в заднем кармане брюк. Она не выскочила во время схватки с «типом». Ее не отнял карандашно-черный мужчина, обыскивающей чудотворца. Ею побрезговали вокзальные воры. И сейчас так кстати был адрес, указанный на этой визитке. Ведь человеку надо куда-то пойти. Вот он и пойдет по адресу, который выведен золотыми буковками на блестящей бумаге.
Квартира находилась на четвертом этаже престижного, как раньше говорили, дома.
Ковровая дорожка вела через роскошный холл к кабине лифта. Помпезность холла заключалась в смеси барокко и функционализма в стиле Корбюзье. Ленточные окна и открытые опоры непостижимым образом, увязывались с текучестью, сложных форм лепнины и вычурностью болюстрад. Но несмотря на это Ростислав почувствовал разочарование: вопреки потугам на неповторимость внутренности громадного здания наводили на мысль о номенклатурном вмешательстве в архитектуру.
Неудивительно, что там, где побывала сановная рука, оригинальность отдаст типовыми нормами. — Это как лекало, чтобы все остальные казались похожими на него. Словом Ростислав совсем иначе представлял себе здание, где обитала дама-олень.
Нужная дверь оказалась единственной на площадке. Вход, в квартиру располагался таким образом, что порог возвышался над мозаичным полом, ввиду чего перед входом имелась пара широких ступенек. Оформленная под эбеновое дерево дверь при ближайшем рассмотрении предстала листом легированной стали. В стальном листке не имелось ни привычной замочной скважины, ни смотрового глазка. Герметически запечатанный вход можно было открыть лишь изнутри, так как отсутствовала дверная ручка. На анодированном металле вообще не было выступов или углублений. Исключением являлся направленный в верхней части двери номер квартиры. Посетителей утешала только кнопка звонка, врезанная в правый косяк.
Нажав кнопку, Ростислав повертел головой. Сверху на него взирала линза телемонитора, рядом с черным цилиндром которого выступала пластиковая сетка переговорного устройства.
В следующее мгновение золотая пластина двери освободила вход.
— Войдите, пожалуйста, — донеслось отчетливо.
Он вошел. Женский голос, прозвучавший в переговорном устройстве, исказился динамиком, однако была уверенность, что он принадлежал хозяйке визитной карточки. Но в помещении, куда попал Ростислав, ее не оказалось. Блеклый, незатейливого рисунка ковер скрадывал звуки шагов.
Гость перешел в следующую комнату, назначение которой трудно было определить. В центре комнаты зеленел сорокаведерный аквариум, Вдоль стен стояли скамейки, принявшие на себя тяжесть цветочных ящиков и горшков. Глухую стену закрывала плотная шеренга книжных шкафов. Сочетание казалось рисованым: повышенная влажность, создаваемая аквариумом и множеством растений, едва ли способствовала сохранности книг. Похоже, чудаки-хозяева мало дорожили уникальным содержанием шкафов.
Наверное из-за обилия растительности, судя по табличкам каких-то, ангиоптерисов, пеллионий, панданусов, миргусов, арбунтусов, саговников и кучи других, он не сразу отыскал глазами хозяйку.
В оранжерейных условиях она выглядела еще привлекательнее, словно яркий экзотический плод. Он усомнился на минуту — та ли это женщина, познакомиться с которой довелось при весьма необычных обстоятельствах? И уж вовсе нереальным сделалось воспоминание о часах близости с ней.
— Я рада твоему появлению.
Эластичная ткань платья обволакивала стройное тело дамы, Скрывая то немногое, что домысливать было волнующим занятием. Ее одеяние превосходило по эффекту обнаженную натуру; Ростислав судорожно сглотнул.
Его рука повисла в воздухе. Дама-олень словно не заметила ее. Она подошла вплотную к гостю. Слегка запрокинула голову. Коснулась губами его губ. Дабы тотчас отступить на шаг, сделав приглашающий жест:
— Пойдем, я познакомлю тебя с папой...
Отец дамы-оленя не ждал визитеров. Внешность владельца респектабельной квартиры произвела на гостя ошеломляющий эффект — рассмотрев глаза и забинтованный лоб коричнево-шоколадного мужчины, чудотворец выхватил оружие...
Покрытый бинтами хозяин что-то закричал, когда оружие вынырнуло на свет.
— Оставь! Я вправе приказывать тебе. Не тронь его!
Это был голос его попутчицы.
Перехваченный гибкими пальцами пистолет вырвался из рук Ростислава, который продолжал ненавидяще смотреть перед собой.
— Садись, псих! — Он упал в подставленное кресло.
— Уф-ф-ф.
Испуг хозяина квартиры прошел. И, как почудилось незваному гостю, на губах дамы промелькнула язвительная улыбка, адресованная отцу. Не зря тон заговорившего был ворчливым:
— Анастасия...
— Что угодно, папа?
— Еще один подобный сюрприз...
Она перехватила инициативу:
— Но ведь это твои слова, что ты ничего-не имеешь против Пархомцева, и даже хотел бы видеть его, если... Если он доберется сюда живым. Вот он — перед тобой! И, оказывается, не так уж он мягкотел и нерешителен.
— Ну да, конечно.
Разговор отца с дочерью смутил чудотворца.
— Вы живы?..
— Вашими молитвами, Пархомцев. Откуда у вас такой пугач? Наделал он бед.
— Вы живы!
— Вижу ваше облегчение, Пархомцев. Признателен вам за него. Жив не только я. Уцелел и мой коллега. Но одного из наших спутников вам удалось уложить.
— ?
— Помните вальщика леса? Да-да, Рыжего?
— Что?!
— Угу. Проведение все-таки существует. Именно вашими руками исполнен приговор. Поверьте, я не жалею о смерти этого подонка, да и вам не советую. Ведь это Рыжий убил Богданова.
Пархомцева озарило:
— Неправда! Богданова убили вы. Вы! Правда, руками Рыжего, но...
Ростислав вскочил.
— Я понял, кто вы такой. Вы — «Миша-веждивый».
— Не только, — вмешалась дама-олень. — Он у нас еще и «Московский жулик».
Ситуация снова сделалась взрывоопасной. Дабы разрядить ее, человек с забинтованной головой поспешно стал оправдываться:
— Вы удивлены, что я называю Рыжего подонком. Да он действовал в моих интересах. По-вашему: я и это отребье — мазаны одним миром. Заблуждаетесь. Мы с Рыжим антиподы. Я — хозяин судьбы. Он — наемник. Я — личность. Он — ничтожество. Вредоносное, но ничтожество. Я только защищался, оберегая жизнь и репутацию моих близких. А вот он был готов на все ради тридцати серебренников. За весьма скромную сумму он убил двух товарищей по бригаде. Двух, если не считать Лапина.
— Двух?
— А вы, Пархомцев, не знали? Он зарезал татарина, который заподозрил его...
Голова чудотворца поникла. Сколько смертей. Сколько горя. И это для того, чтобы мог существовать этот вальяжный, всем обеспеченный господин. Получалась удивительная вещь: своевременно умертвив будущего родителя дамы-оленя, можно было сохранить жизнь десяткам людей. До смешного жуткая вещь — пребывание на белом свете «Московского жулика» стало причиной исчезновения множества разумных «миров». Но почему? Зачем боги, зачем люди допускают подобную несправедливость?
— Зачем?— переспросил «Московский жулик». Оказывается Ростислав размышлял вслух, а присутствующие внимательно слушали его.
— Зачем? А затем, что арифметика здесь неуместна. Жизнь бесценна. Три человеческих жизни — это не утроенная одна. Разве убить человека менее грешно, менее преступно, нежели убить двоих… пятерых… сто?..
— Так зачем вы лишили жизни эту сотню?
— Я никого не убивал.
Смертельная усталость навалилась на чудотворца.
— И от Отца спасались?
Коричневый господин посмотрел удивленно;
— Отца вызвал к жизни, а затем «проигнорировал» вечный чекист в хромовых сапогах. Пример некорректен, пусть он и подтверждает мою правоту. Соратник воскресил Отца с вашей помощью. Здесь усматривается аналогия; я и Соратник — Рыжий и вы.
Дама-олень приняла сторону гостя;
— Однако Соратник действовал в твоих интересах, папа. И потом… Что значит — воскресить?
Оставив без внимания вопрос дочери, хозяин квартиры пояснил Ростиславу:
— Игры Соратника не касались меня или моих... приятелей. Лысый фанатик каким-то образом повязан со Службой Профилактики, еще с год тому назад мы задействовали определенный круг лиц, израсходовали много денег, потеряли несколько отборных людей, но не сумели выяснить — кто и каким образом курирует эту чертову Службу. Никто не мог сказать, что она, чья она и откуда взялась. Создается впечатление, что ее извергла преисподняя. Шучу, разумеется. Наши люди внедрялись в вышеупомянутую организацию. Увы. Им не препятствовали. За дни пребывания в рядах Службы они не обнаружили никого, кто бы являлся руководителем или координатором организации. Да приказы поступали. Откуда? Отовсюду. Все узнавали одновременно, что приказ поступил, но не знали от кого.
— А люди? Те люди, которых вы засылали? — Пархомцев уже догадывался об ответе, он спрашивал по инерции. — Что скажете о сокровищах партии?
— Блеф! Горючего в огонь добавили ваши камни. Не спрашиваю, где вы их взяли. Однако кое-кто из моих друзей очень встревожился. Пошли взаимные обвинения... раздоры. К счастью скоро выяснилось, таких камней в Гохране и в партийном фонде никогда не было. Это уникальные камни.
Пархомцев промолчал. Он не собирался удовлетворять завуалированную любезность хозяина квартиры.
— Что касается наших людей... Я же сказал — увы. Вскоре они исчезли один за другим. Их находили, но... обезглавленными.
— Почему проявляется такой интерес к нашей семье?
— Мотивы лежат на поверхности. Думается, вы успели догадаться сами. Нужен был ложный след. Отсюда письмо в органы.
— Письмо без подписи, — Ростислав почувствовал отвращение.
— Разумеется. Мной не указывалась и конкретная фамилия «виновника» гибели манохинцев. Так... кое-какие намёки. Лучшим вариантом был такой, когда бы органы заподозрили самого Манохина. Считалось, он убит, а труп его сброшен в полынью. Пойди органы по этому пути, никто не пострадал бы. Зато я на длительное время оказался бы вне подозрений. Это на случай, если бы кто-нибудь пронюхал о моем пребывании в отряде. Вообще-то знать про такое не мог никто. Кроме... поручика. Должен был я целиком и полностью полагаться на его офицерскую — честь? Я ответил, себе — нет.
Рассказчик покачал головой,
— Один бог знает почему письмо попало к Соратнику. Еще тогда он продумал комбинацию с воскрешением Отца. А предварительно лишил отца вас, Пархомцев. Работа в органах обогатила опыт вечного чекиста. Органы...
Не раз и не два он повторил слово «органы». Выделяя его таким образом, что Ростиславу привиделись окровавленные трепещущие органы, заполняющие человеческую грудь и живот.
— Как у вас с совестью?
— Она мучает каждого. Я — не исключение. Если б можно было добиться своего, не причиняя зла другим!
Он был определенно неисправим.
— Поговорим о Наташе... О том, как спасти ее.
Дама-олень шевельнулась.
— Служба Профилактики... Кто они по убеждениям — парни из Службы? Где их слабое место? Кто их союзники? Националисты?.. Большевики?.. Можно ли их стравить с кем-нибудь сильным? Говорите!
Хозяин квартиры послушно кивнул.
— Убеждения Членов Службы Профилактики — что-то новое. Этому нет аналогии. Их трудно сформулировать на обычном языке. Ни с демократами, ни с коммунистами, ни с фашистами Службе не по пути. Что националисты? Миф. Способ удержаться у власти. Дайте им возможность задавить конкурентов, они трансформируются в социалистов, в коммунистов, в кого угодно. Убеждения умных людей не строятся по национальному признаку. Национализм — кость для «черной кости». Передайте теперешним «националистам» власть на территории бывшей Империи, и тотчас забудется «национальная Идея». Ну. Для начала постреляют кой-кого. А затем будет провозглашен «нерушимый интернационализм». Вы — глупец, Пархомцев, если думаете, что несложно принудить одного человека резать другого. Для такого дела, — приучать резать, — нужна большая организация. Нужны немалые средства. Межнациональные конфликты не возникают спонтанно. Их бережно и целеустремленно подготавливают. А Служба? Служба интернациональна по составу, даже не обладая законченной властью, — вот в чем парадокс! Службу Профилактики не интересуют национальные интересы. Она равнодушна к любой из религий. И это, пожалуй, наиболее тревожное. Она прикидывается то юдофобом, то национал-шовинистом, то демократом... Но это лишь маски. Хотел бы я понять, к чему стремится Служба.
Терпение слушателя иссякло:
— О Наташе...
— Ах да! Только вчера я был способен ей помочь. Сегодня — нет. — Он покосился на дочь. — Мне сообщили, что парни из Службы выкрали Наташу с сыном из отеля, куда я их поместил. Наташа потеряна для вас, Пархомцев.
Ростислав ослеп от ярости. Сизая пелена встала перед его глазами. Рука чудотворца взметнулась вверх.
... Огромная волосатая лапа нависла над столом, сжимая в кулаке тяжелую дубину. Господин с забинтованной головой вскрикнул. Хотел уклониться. Суковатая дубина опустилась в мгновение ока. С сухим звуком раскололся череп. Хозяин квартиры повалился под стол...
Пархомцев зачарованно следил за тем, как падает окровавленный человек. В глубокой ране на голове которого застряла массивная хрустальная пепельница. В то же время эта пепельница, или ее точная копия, находилась в центре овального стола. Не веря своим глазам, он потрогал стоящую перед ним пепельницу. Потом, схватил ее, швырнул прочь, словно дорогой хрусталь жег ему пальцы.
Брошенная им пепельница зависла над креслом. Исчезла... Возникла снова, совместившись с окровавленным двойником.
Сизая пелена разредилась. Перед Ростиславом стояла дама-олень.
— Зачем?
— Это не я!
— Так кто же?
Она обогнула стол. Приподняла голову отца. Ростислав кинулся ей на помощь. Вдвоем они усадили хозяина квартиры, прислонив спиной к креслу.
— Он умер, — сказала Анастасия. — Папа умер.
Она заплакала.
Жалость обуяла чудотворца:
— Чего ты хочешь?
Слезы остановились.
— Скорую... Врача...
— Он мертв.
Изумрудные, диковинного разреза глаза посмотрели на него с мольбой:
— Может как-нибудь... У нас есть знакомый профессор медицины. Наверно, он что-то... Ведь это только клиническая смерть...
— Ты хочешь, чтобы он жил? Зачем он... такой?
— Он — отец! Нельзя...
... Вздрогнул наборный паркет под ногами. Сбежалась, сгустилась вкруг чудотворца синева, до поры до времени таившаяся в дальних уголках Веселенной. Невидимое веретено завертелось вокруг своей оси. Окручивая в нить сиренево-фиолетовые пряди. Вскоре от образовавшегося кокона отделился искрящий жгут, потянулся к убитому. Распался миллионами волокон оплетая ими неподвижное тело. Застонал в беспамятстве Ростислав.
... Скользили по улицам цепочки плечистых мужчин, упрятанных в пятнистые комбинезоны, с колючими глазами на лиловых лицах. Гремела пальба в подъездах, на этажах, на открытых пространствах улиц и площадей. Где-то в подворотне жестяным басом грохотал мегафон: «Человек — для природы! ...Всякая тварь изначально выше человека...»
— Что вы делаете! — прокричал чудотворец.
— Как что, — изумился мегафон. — Мы на Службе!
— Откуда вы взялись? Из Космоса?
— Мы — ваше продолжение-е-е...
— Как?
— Ага — как!— ответило мегафонное эхо. Коричнево-шоколадный хозяин очухался. Вздрогнул. Сонно повел глазами. Ухватил повязку на голове, стащил бинты. У присутствующих появилась возможность лицезреть девственно-целую голову воскресшего.
— Вот и все.
Чудотворец шаткой походкой пошел вон из комнаты.
— Все только начинается. — Сбросив оцепенение дама-олень догнала его.
— Пойдем вместе. Кажется мы спасем Наташу и ее сына. Вскинутые брови Ростислава на мгновение остановили ее. Она пожала плечами:
— Надо же кому-то искупить грехи «Московского жулика»... «Миша-вежливый» — отвратителен и мне, но от родителей не отрекаются. Может оттого и происходит зло, что на каком-то этапе нас приучают бросать собственных детей, отрекаться от родителей. Отречься — значит забыть. Всякий, кто забывает прошлое, осужден повторить его.
— Ты говоришь книжным языком...
— Книги пишут люди. — Она заторопила его. — Пошли, иначе мы можем опоздать.
С тихим чмоканьем затворились двери лифта.
* * *
Из завтрашних газет:
«В энской губернии четверо горожан заболели неизвестной болезнью. Спустя шесть часов после появления признаков болезни инфицированные скончались. Принимаются необходимые меры для распознания характера, а также источника инфекции. Делается все для локализации зараженной местности...»
«По непроверенным данным федеральной полицией разыскивается некий Пархомцев за совершение ряда тягчайших преступлений. Р. Пархомцев в отдельных случаях выдавал себя за чудотворца-воскресителя. Поиски новоявленного Калиостро продолжаются. Руководители заинтересованных служб заверяют население, что преступник будет задержан и предстанет перед судом...»
«Глава департамента края сообщает: «Домыслы о существовании некоей Службы Профилактики, распускаемые злонамеренными лицами в целях дестабилизации обстановки в Республике, не соответствуют действительности...»
Этих газет Ростислав пока не читал.
Конец первой книги.
село Майма 1982 — 1991 годы.









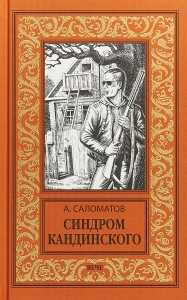


Комментарии к книге «Костер для сверчка», Борис Александрович Прохоров
Всего 0 комментариев