Ант Скаландис Катализ
ПРИГОТОВЬТЕСЬ ЗАДУМАТЬСЯ!
Этот роман читается на едином дыхании и наводит на серьезные размышления о серьезных вещах. Подозреваю, что одной этой фразы более чем достаточно для любого предисловия, но не могу тем не менее удержаться от нескольких замечаний — характера, скорее, лирического.
Этот роман написан молодым человеком для молодого читателя. Именно в молодости особенно остро и мучительно рвут человечью душу вечные вопросы: кто мы? куда идем? куда НАДО идти? Что делать с человечеством,- не с абстрактно-теоретическим, идеализированным, плакатным человечеством школьных учебников и утопических романов, а с реальным, невообразимо огромным и разнообразным, страшным, грозным, несчастным, опасным, жалким, непобедимым, больным, отвратительным и прекрасным, — с этими неописуемыми толпами, стаями, стадами, бандами, сгрудившимися в мегаполисах, надрывающимися на полях, изнывающими в казармах, жрущими, пьющими, беспорядочно совокупляющимися, ежедневно и ежечасно порождающими преступления, великие открытия, эпидемии, высочайшие подвиги духа и глубочайшие бездны безнравственности… Что делать нам с нами? Какие жертвы принести и кому? Какие богатства отдать и где взять эти богатства?..
Когда мы были молодыми И чушь прекрасную несли……как хотелось тогда стать всемогущим, чтобы все свое всемогущество обратить на счастье людей! Как потрясала тогда нас мысль, что ведь не знаем мы, в чем же состоит это счастье! Как странно и страшно было — медленно, год за годом — осознавать, что нет единого счастья для всех, нет единого человечества, и нет на свете такого всемогущества, которое в одночасье или хотя бы на протяжении одного поколения могло сделать человека прямостоящего Человеком Разумным…
С годами разные люди меняются по-разному, но есть одно качество, которым каждый пожилой человек отличается от любого молодого: годы делают человека терпимее. Эту спокойную терпимость к происходящему иногда принимают за мудрость. И напрасно. Просто человек словно бы привыкает, притирается к миру, который казался ему в молодости таким неудобным, неверно скроенным и неладно сшитым. Человек узнает, что почти все истины этого мира отдают горечью, что почти все изменения в этом мире — это изменения к худшему, цари в этом мире — глупцы, герои — тираны, а Бог… Божьи мельницы мелют медленно.
Ничего этого молодость не знает и знать не хочет. Что и прекрасно, между прочим! В конце концов, может быть, человечество только потому и меняется со временем, что каждое новое поколение жаждет (хотя и не может) его изменить?! Может быть, молодость и есть тот волшебный Апельсин, который через тернии реальности приведет нас под звезды утопии?.. Может быть, может быть…
Человечество. Счастье. Будущее. Предположим, что все это в наших руках. Мы с вами молодые, вполне обыкновенные люди — не из лучших, но и не из худших же! — и в наших руках судьба человечества, его счастье и будущее… Согласитесь, здесь есть о чем задуматься.
Так вот: приготовьтесь задуматься.
Борис Стругацкий
…Разве цивилизация не может достичь свободы выбора дальнейшего пути? Какие условия нужны для достижения такой свободы? Общество должно стать независимым от технологии, обеспечивающей удовлетворение элементарных потребностей. Удовлетворение этих потребностей должно стать незримым, как воздух, избыток которого был до сих пор единственным избытком в человеческой истории.
Станислав Лем. Голос неба
ПРОЛОГ
Водки было больше, чем надо. Хотя никто не знает наверняка, сколько именно ее надо. Быть может, этого и нельзя знать. Ведь водки никогда не бывает в самый раз. Водки бывает либо много, и тогда она остается на столе и под столом, в холодильнике и на балконе, но никто уже не ищет ее, мы как бы забываем, зачем она нужна; либо водки бывает мало, и тогда, веселые, злые и жадные, мы выскакиваем на улицу, а на улице скверная погода: какой-нибудь противный липкий дождик или собачий холод и снегопад, и обязательно свежий, пронзительно свежий воздух, и ближайший магазин, конечно, оказывается закрыт, потому что уже не семь и даже не восемь, и нам удается купить пузырь за чирик со служебного входа у небритого грузчика в грязном халате, или не удается, и тогда мы ищем таксиста, и у того в заначке непременно есть бутылка, где-нибудь под сидением или в бардачке, и, видя наши пьяные морды, он заламывает несуразную цену — ну, скажем, червонца два, — и мы начинаем торговаться и сходимся на четырнадцати рублях, и это радость, и мы возвращаемся, и влажные хлопья снега тают на наших лицах…
Однако в этот день водки было явно больше, чем надо. Никто уже не мог даже смотреть на нее, а на столе оставалось еще две недопитых бутылки. И только Вадик вопреки всякой логике достал откуда-то еще одну, притом непочатую, емкость, вскрыл ее, сидя в кресле, и, отхлебнув из горлышка, поставил, на пол. Брусилов посмотрел на Вадика, и к горлу его подкатила тошнота. «Неужели опять блевать?» — c грустью подумал он. Помимо водки, он выпил много сухого вина и много разного съел, он чувствовал, что наполнился до краев. И все-таки блевать очень не хотелось. Не такой это был вечер.
Это был вечер совершенно особенный. Прощальный вечер. И, быть может, последний. Самый последний. И ощущение чего-то последнего, а точнее, всего последнего, ощущение, ностальгически горькое и вместе с тем сладостно пьянящее, как запах ранней осени, — ощущение это мучило всех. Оно возникло в самом начале вечера, сразу, и зудело внутри каждого, неуловимое, непонятное и неотвязное. И никто не мог бы объяснить настоящей причины этого чувства, потому что еще никто не знал, что случится через два месяца, никто не знал, какая чудовищная сила сорвет весь мир с насиженного места, в какой крутой вираж швырнет она нашу планету, сколько шуму будет на всю Галактику. Никто не мог этого знать. Но предчувствие было, глухое, томительное, как у зверья перед грозой. Ведь не случайно же все так спешили напиться и так старательно избегали серьезных разговоров. И не случайно Любомир, произнося первый тост, сказал:
— Мы собрались сегодня на наш последний вечер.
И стало тихо. И Черный шепнул:
— Не последний, Любомир, просто… прощальный вечер.
— Я хотел сказать последний вечер перед нашей экспедицией, — неуклюже соврал Любомир.
И Женька с мрачной откровенностью высказался за всех:
— Мы поняли, что ты хотел сказать.
Потом угрюмый настрой постепенно рассеялся в полном соответствии с количеством выпитого, но эпизод этот запал Брусилову в душу, и он весь вечер не мог отделаться от впечатления раздражающей несообразности, несоответствия всех остальных произносившихся тостов тому страшному, что так неотвратимо надвигалось на мир.
А тосты поднимались бодрые: за успех экспедиции, за здоровье участников, за хозяев дома, за гостей, ну и конечно, персонально за Эдика Станского и за его изобретение — антропоантифриз или сокращенно — анаф.
Эдику исполнилось уже тридцать семь, и впору было называть его Эдуардом Исааковичем, тем более теперь, когда он защитил докторскую (не будучи, кстати, кандидатом), однако был он парень простой, свой в доску, и для всего института так и оставался Эдиком Станским. Анафу исполнилось только два года, но он уже успел совершить революцию в биологии и медицине. Гибернация, или криоконсервирование, или анабиоз, или, наконец, совсем по — простому — замораживание людей с последующим воскрешением — из фантастики превратилось в реальность благодаря этому чудодейственному препарату.
Анаф, нагретый до температуры тела или чуть выше, вводился в кровь и, быстро проникая во все ткани, делал человека незамерзающим. Вода с растворенным в ней анафом не кристаллизовалась, а просто густела, не меняя объема. Кроме того, сам анаф обладал консервирующим действием и интенсивно тормозил биологические процессы еще при плюсовой температуре. А ниже нуля человек начинал терять сознание. Субъективно это воспринималось как прием дозы снотворного.
Гибернация с помощью анафа была идеально обратима, для возвращения организма в нормальное состояние требовалось лишь прогреть тело минимум до плюс десяти градусов по Цельсию. Да еще — принять внутрь таблетку постанафина для ускорения вывода из организма продуктов разложения анафа. Все эти свойства антропоантифриза были как нельзя более кстати для гибернации не только в специальных глубоко охлажденных резервуарах, на длительное время, но и для краткого замораживания в походных условиях. Так что в первую очередь анаф-гибернация призвана была спасать зимних путешественников от голода, болезней, ранений, наконец, просто от замерзаний. Разумеется, подумывали уже и о космосе, о межзвездных полетах. Заинтересовались изобретением Станского хирурги: как универсальный наркоз и одновременно кровоостанавливающее средство, для них он должен был стать просто манной небесной. И это только то, что лежало на поверхности, а дальше открывались ну прямо сверкающие перспективы.
Уже проводились опыты на людях и по глубокой, и по субнулевой гибернации (в безвредности анафа Станский убедился сначала на собственной шкуре); уже существовали и различные конструкции криокамер, и различные проекты применения анаф-гибернации, и самые разные взгляды на моральные, социальные, политические аспекты проблемы замораживания человека. Но мир, по сути, еще только готовился к надвигающемуся гибернационному буму. Открытие Станского еще только начинало овладевать умами людей. Однако принято оно было с таким энтузиазмом, будто каждый отчаянно стремился, если не сегодня, то хотя бы завтра, залезть в холодильник и отсидеться там до лучших времен.
Мир, вознамерившийся стать одной огромной морозилкой, ждал ответов на свои вопросы, и один из этих ответов должна была дать экспедиция Чернова, первая экспедиция гибернатиков — субнулевиков.
Перед четверкой испытателей стояла очень трудная задача. Высаженные из вертолета на дрейфующие льды примерно в четырехстах километрах от Северного полюса, они должны были выйти к нему, разбить там лагерь, вколоть себе анаф и, установив радиостанцию на автоматику, ожидать вертолета с большой земли. Предполагалось оставить их в состоянии анабиоза лишь на сутки, но, на случай непредвиденных обстоятельств (подвижка льдов, белые медведи и прочее), каждый путешественник должен был поместить свое тело в решетчатый, складной и чрезвычайно прочный контейнер из специального ярко-розового пластика. Контейнеры все четверо единодушно и сразу окрестили гробами, и это мрачноватое название приклеилось к ним намертво. Наверное, настоящие полярники не стали бы так шутить — у людей, чья работа сопряжена со смертельным риском, не принято говорить о смерти, — но среди отчаянных гибернатиков не было ни одного полярника.
Таков был замысел Станского: испытать анаф в ситуации, максимально приближенной к несчастному случаю. И здесь нужны были именно непрофессионалы. Что и говорить, замысел выглядел более чем смелым, почти безумным, и если на экспресс-подготовку группы ушел год, то едва ли не вдвое больше понадобилось Станскому на то, чтобы, даже при активной поддержке покровительствовавшего ему академика с мировым именем, пробить именно такую экспедицию. Эдик везде и всюду, начиная со своих друзей и кончая самыми высшими кругами, упорно твердил, что сумасшедший бросок на полюс с исчезающе малой вероятностью успеха и почти обязательной аварийной ситуацией, из которой испытателей гарантированно вызволит анаф-гибернация, необходим, абсолютно необходим для науки.
Но Брусилов всегда догадывался, что истинной причиной настойчивости Станского было его честолюбивое стремление самому, непременно самому испробовать в действии, в жизни, в реальных критических обстоятельствах собственное — он был уверен в этом — гениальное изобретение. А еще могло быть и так, думал Брусилов: от предчувствия всеобщего гибернационного бума в Эдике заговорила совесть ученого, «синдром Оппенгеймера», и, чтобы забыться, потянуло на острые ощущения, потянуло на белый кошмар безнадежного путешествия во льдах. И Станскому разрешили пойти научным руководителем группы, в состав которой вошли Андрей Чернов — командир, мастер спорта по лыжным гонкам, Любомир Цанев — врач, кандидат в мастера спорта по плаванию и Евгений Вознесенко — радист, кандидат в мастера по боксу. Сам Станский в прошлом был неплохим бегуном и в период подготовки к экспедиции сумел выполнить второй разряд на средних дистанциях — это в его-то годы! Словом, никто из них не мог пожаловаться ни на выносливость, ни на закалку. Что, впрочем, не исключало риска. Риск был огромен. Они старались скрывать это, но сами хорошо понимали всю меру опасности. Они шли на риск сознательно. И когда в компании близких друзей бывали откровенны, оказывалось, что Эдик просто не думает об опасностях, а думает лишь о науке и о своих успехах в ней; оказывалось, что Цанев, обрусевший болгарин, родившийся в Москве и не знавший ни слова по-болгарски, идет не только на риск, но и ради риска, видя в нем, в риске, единственный смысл своей дурацкой жизни («Такой врач, как я, не нужен настоящей медицине, а такая медицина, как у нас, не может воспитать настоящего врача», — бывало, повторял он); оказывалось, что Женьке просто-напросто надоело все на свете, и, наконец, оказывалось, что Чернов, по прозвищу Рюша Черный, готов из одного лишь спортивного интереса — а это для него был интерес высший — идти не то что на полюс, а куда угодно: хоть на Эверест, хоть под пули афганских душманов, хоть к черту в пекло — главное, испытать себя.
Они уходили через день. Улетали из Домодедова в Мурманск. А оттуда — в базовый лагерь. И после месячных полевых испытаний — в точку начала маршрута. А оттуда — в неизвестность.
Вот какой это был вечер.
Вот кого провожала безбожно загулявшая пьяная братия. Провожала с болью и с горечью, потому что уж очень жутким представлялось все это: бесконечный полярный день, снега, торосы, ледяная серая вода в разломах, ядовито-желтый анаф в специальных сосудах и розовые «гробы» и, наконец, целое человечество, забравшееся в холодильник в ожидании светлого будущего, которое построит для него добрый дядя.
Брусилов вышел из гостиной и через коридор и кухню прошел на балкон. На балконе было прохладно и сыро. Хорошо было на балконе. Но вдруг захотелось курить. Брусилов курил редко, все больше спьяну, но иногда возникало очень сильное желание. Он не знал, была ли это действительно потребность в никотине или просто полудетское стремление подымить, но преодолевать себя не хотелось. Хорошие сигареты могли лежать в пиджаке у Валерки. Пиджак был в спальне на стуле. Валерка тоже оказался в спальне.
— Свет погаси, урод, — сказал он, когда Брусилов открыл дверь и привычно, не глядя, шмякнув по выключателю, зажег люстру.
Валерка лежал на кровати с Зиночкой.
— Тьфу ты, мать вашу, — сказал Брусилов, гася люстру, — вы бы хоть простыней накрылись.
— Переживешь, не маленький, — проворчал Валерка.
— Жарко, — пожаловалась Зиночка.
Брусилов хмыкнул:
— А ты думала, тебе холодно будет?
В дверь просунулась пьяная морда Любомира и спросила:
— Есть тут кто?
Никто не ответил. Тогда морда дополнилась рукой — и снова вспыхнул свет.
— Да чтоб вы все сдохли! — заорал Валерка. — Нельзя уже…
— Спокуха, — оборвал его Любомир. — Все приглашаются в гостиную. Светка будет танцевать.
— Ох уж этот мне стриптиз доморощенный! — со вздохом сказал Брусилов.
— Без никаких стриптизов, — возразил Любомир. — Просто танец.
— Знаем мы эти танцы! Надралась опять до белых чертиков, — мрачно заключил Валерка.
— Валерик, ты не прав, — сказала Зиночка. — Светлана всегда очень красиво танцует.
— Да вы одевайтесь, свиньи, — разозлился Любомир, — тоже мне ценители искусства, критики без штанов!
Брусилов забыл про сигареты и вместе со всеми вернулся в гостиную. Зрители в ожидании номера пили шампанское. Много проливали на пол. Артур в углу целовал Анюту. Анюта была почти не пьяной и смущенно косилась на Брусилова, на Светку, на Вадика. Все так, когда только еще знакомились с компанией Рюши Черного, в первый вечер бывали трезвыми и рассеянно-молчаливыми, пришибленными какими-то. Но привыкали быстро.
Анюту привел Артур, как раньше он же привел Зиночку и как еще раньше привел Светку. За Светку вся компания была ему благодарна по гроб жизни. Во-первых, Светка была чертовски красива. Во-вторых, Светка была в прошлом фигуристка и актриса ледового шоу. В-третьих… Впрочем, об этом не скажешь в двух словах.
Светке было только двадцать четыре, но все у нее уже было в прошлом. Ей не повезло в спорте и не повезло в искусстве. И в любви ей тоже не повезло. Поэтому она не верила в любовь. Светка работала в какой-то конторе, а по вечерам медленно губила хмельными пирушками свое подорванное спортом здоровье. Все, что у нее оставалось теперь, — это ее красота, ее прекрасное, натренированное, многоопытное во всех отношениях тело. Светка была убежденной сторонницей свободной любви и столь же убежденной противницей детей. Она даже подводила под это идейную базу: дескать, таким, как она, детей рожать просто безнравственно. И звучало это весьма правдоподобно. Но Брусилов знал, что дело совсем в другом. Идейная база возникла после, а вначале была болезнь, после которой медики вынесли приговор: бесплодие. И было это еще шесть лет назад. Но неудачи и беды не озлобили Светку, скорее, она стала равнодушной ко всему, а пьяная делалась веселой, жизнерадостной, ласковой, нежной и рвалась раздать себя всем и каждому в отдельности.
Брусилов знал Светку уже почти три года, и щедрая порция ее любви и нежности выпала в свой черед и на его долю. А потом, когда настала очередь следующего, они сделались просто хорошими друзьями. В этом было еще одно удивительное свойство Светкиной натуры: ее никто ни к кому не ревновал, из-за нее не только серьезных ссор, но даже пьяных драк не выходило. А у Брусилова тем более не было оснований обижаться на Светку, потому что трудно было сказать, кто из них кого бросил. Ведь в то же самое время, когда всеобщая любимица переметнулась к Валерке, у Брусилова начался неожиданный, как снег в июне, неправдоподобный, как всякая первая настоящая любовь, бурный, шальной, стремительный роман с Ленкой по прозвищу Малышка с параллельного потока (прозвище он придумал ей сам, пока не знал имени), завершившийся в один невозможный месяц счастливой женитьбой.
И, быть может, самое невероятное в этой истории было то, что, женившись, Брусилов оставался постоянным гостем традиционных Рюшиных оргий, только теперь он приходил вместе с женой, и, хотя Ленка вовсе не пошла по рукам, а Брусилов не кидался на всех девиц подряд, как случалось раньше, им обоим всегда нравилось у Черного, и компания любила эту веселую супружескую пару, единственную в своем роде, но отлично вписавшуюся в общую картину Рюшиного вертепа. И более того, Ленка, зная все про отношения Светки с Брусиловым, ухитрилась стать едва ли не лучшей ее подругой.
А в тот прощальный вечер Ленки не было. Ленка уехала в Чехословакию со стройотрядом. И, уезжая, чувствовала себя неловко: ребята на полюс уходят, а она не может попрощаться прийти. Но что поделать, если уж так все совпало?
В другой раз Брусилову было бы совестно пускаться в такой загул без жены — не привык он к этому, — но сейчас, когда она впервые в жизни оказалась за кордоном и смотрела своими огромными глазищами на красоты древней Праги, в душе Брусилова смешивались радость, гордость за свою Малышку и элементарная, постыдная, но, в сущности, очень понятная зависть. Сам он за границей ни разу не был, и казалось, что отчаянная пьяная удаль этой вечеринки хоть в какой-то мере компенсирует ему невозможность быть сейчас там, рядом с Ленкой, в недоступной чужой стране. И он почти не чувствовал неловкости, и уж совсем не собирался сдерживать себя ни в чем.
И только смутное ощущение тревоги мешало, мешало, как внезапно натягивающийся поводок, отдаться веселью и праздности до конца.
Брусилов смотрел на Светку и завидовал ее умению ни о чем не думать. А Светка сидела в кресле, еще расслабленная, но уже готовая вскочить в любую минуту и окунуться в горячую стихию танца. Глаза у нее были шалые, на щеках румянец, купальный халат не одет, а накинут на плечи, а кроме него на Светке были только золотые трусики, застегнутые кнопками на бедрах, да широкая, тоже золотая, шелковая лента, завязанная бантом поперек груди. Ясно было, что лента непременно упадет, даже если Светка не станет прилагать к тому специальных усилий. С трусиками тоже расстаться было несложно.
— А Любомир обещал просто танец, — с улыбкой шепнул Брусилов Черному.
Легкий на помине Любомир ввалился в гостиную, зацепив ковер и растянувшись у дверей. Его полили шампанским.
— Можно начинать! — крикнул появившийся Валерка, на ходу застегивая брюки. — Маэстро, музыку!
Артур оторвался от Анюты, подошел к вертаку и опустил на диск серебряный шар с иголкой. Светка взлетела на стол. Середина его была уже предусмотрительно освобождена от посуды, и прекрасные тренированные ножки замелькали среди бутылок в продуманной, точной последовательности движений.
Брусилов вдруг почувствовал, что ему совсем неинтересно смотреть на все это, что он совсем не ждет, когда же соскользнет лента со Светкиных грудей. Не такой это был вечер. Он вышел из гостиной и снова отправился на балкон.
По дороге вдруг захотелось подставить лоб под холодный кран, но ванная была заперта. Она уже около часа была заперта. Должно быть, это Женька пошел блевать, да так и задрых где-нибудь на полу под раковиной. Женька был большой любитель заснуть с перепою в самом неподходящем месте. Брусилов помнил, как однажды они ехали в Ереван дальним поездом и Женька, надравшись, отключился в вагонном сортире. Дело было ночью. Пришлось растолкать проводника, грузного пожилого армянина, тоже не очень трезвого, и брать у него ключ от клозета.
Из гостиной послышалось дружное, перекрывшее музыку сладострастное «Ах!»
«Лента упала, — равнодушно подумал Брусилов. — А может, и все сразу».
Дверь на балкон была открыта, и за ней открывалась чернота ночи. Чернота была абсолютной. Как ничто. Дверь из залитой светом кухни в эту тьму представилась дверью в никуда, в другой мир, в пятое измерение. И Брусилова охватил настоящий мистический ужас. Он машинально налил себе рюмку коньяку (коньяк стоял на кухонном столе), выпил и лишь тогда шагнул на балкон. На балконе было все так же прохладно и сыро. Внизу в бледном свете фонарей блестели мокрые листья на тополях, вдали стали различимы слабые огоньки, а небо было угрюмо серым, синевато-серым, тяжелым, темным, но не черным, как пустота межзвездного пространства. И все-таки образ этой жуткой черноты все стоял и стоял перед глазами Брусилова. Ему казалось почему-то, что завтра ребята уйдут именно в такую черноту, в черноту, из которой не возвращаются.
«Вот дьявол, — подумал он. — И что это мне лезут в голову такие мысли?»
На балкон вышел Черный.
— Ты чего, Витька?
— Ничего. Дышу.
— Правильно, — сказал Рюша, — здесь лучше.
Из гостиной слышался визг.
— Светка все танцует? — поинтересовался Брусилов.
— Нет, уже закончила. Теперь ее Артур шампанским поливает.
— Зачем? Она же липкая будет.
— А может, Эдику нравятся липкие женщины, пахнущие шампанским.
— Она сегодня с Эдиком? — удивился Брусилов.
И тут они увидели с балкона, как в коридор высыпала целая ватага. Светка была голая, ее вели под душ. Похоже было, что Эдик не любит липких женщин, пахнущих шампанским.
Чтобы прорваться к душу, пришлось сломать щеколду и растолкать уснувшего на краешке ванны Женьку. Женька отлепил щеку от умывальника и, постепенно соображая, где он и что с ним, побрел, качаясь, по коридору. Женьке было скверно. Он вышел на балкон и, ежась от холода, присел на перевернутую мокрую корзину. Брусилов и Черный молча смотрели на него. Потом Черный протянул Женьке сигарету, и Женька, сломав две спички, от третьей закурил.
— Какой паскудный мир! — объявил он.
И повторил проникновенно:
Какой паскудный мир! Даже когда зацветают вишни, Даже тогда…— Не изгаляйся над поэзией, сволочь, — сказал Брусилов.
— Но мир, действительно, очень грязная штука, — настаивал Женька. — Грязная и лживая. Вот мы гуляем, пьем, обжираемся… (тут он сорвался на матюги), а когда подохнем… — он внезапно сделал паузу, поднялся, держась за край балкона, и стал вещать все громче и громче. — А когда подохнем, они станут говорить, что это были лучшие люди человечества, славные сыны своей эпохи. Они же памятник нам поставят! А за что? За то, что со скуки и перепоя мы ушли подыхать к черту на рога? За это?!
— Что ты мелешь?! — взорвался Черный. — Мы же вернемся. Понимаешь, ты, скотина, мы для того и идем, чтобы вернуться! Мы не можем не вернуться!
— Да нет, мы подохнем, — устало и как-то слишком равнодушно сказал Женька и снова сел на корзину.
Брусилову стало страшно.
«Что это? — подумал он. — Совпадение? Или мы так давно знаем друг друга, что научились читать мысли?»
Большая холодная капля упала ему на нос. Он встряхнулся и сказал:
— Черный, где у тебя кофе? Я заварю.
А пока Брусилов возился с двумя большими кофейниками на плите, круглая жестянка из-под индийского чая, в которой у Черного хранился кофе, стояла на столе, на самом краю стола, и крышку Брусилов закрыл неплотно. Поэтому, когда в кухне появился Валерка, беспорядочно махавший руками, — то ли, чтобы удержать равновесие, то ли от избытка чувств, — банка как-то сама собой сверзилась на пол, точнее, никто не успел заметить, как это произошло. А Валерка, нисколько не смутившись, сел на пол среди рассыпанного кофе, взял пальцами щепотку и, швырнув ее в рот, принялся молча вдумчиво жевать. Черный сидел на столе и смотрел на Валерку очень внимательно. Женька, скрючившись у балконного порожка, окидывал всех и все рассеянным и грустным взором. А Брусилов только оглянулся раз, коротко выругался и снова углубился в процесс заваривания.
— Мне необходимо протрезветь! — заявил Валерка и сплюнул на пол кофейную гущу. — Как там у Хэма: Фредерик Генри жевал кофейные зерна, чтобы прочухаться перед встречей с Кэтрин.
— Эрнест Хемингуэй в переводе Валерия Гридина, — прокомментировал Женька.
— А Виктор Банев у Стругацких, — не оборачиваясь, сказал Брусилов, — чтобы протрезветь, жевал чай. Хочешь чаю, Валерка?
— Хочу.
— Чаю не дам, — мрачно откликнулся Черный.
В наступившей тишине запели кофейники. Сначала один и сразу за ним второй. Валерка взял еще щепотку кофе, пожевал и снова плюнул на пол.
— Изобилие, — изрек Черный, — делает человека свиньей.
— Это ты про кофе? — спросил Брусилов.
— Скорее, про водку. Человек не знает, сколько ему надо водки. И вообще не знает, чего и сколько ему надо. Поэтому изобилие делает человека свиньей.
— Человека нельзя сделать свиньей, — возразил Женька. — Человек — свинья по определению.
— Изыди отсюда, Евтушенский, — заворчал в ответ Валерка, — изыди, стихотворец хренов.
Это была ошибка. Женьке нельзя было напоминать, что он Евтушенский и, стало быть, стихотворец. Он тут же начинал читать свои вирши, особенно, если был пьян. А «Евтушенский» — это была Женькина кличка и одновременно поэтический псевдоним, который он сам себе придумал. Да и трудно было придумать иначе. Его настоящая фамилия была Вознесенко. Немыслимая фамилия, ошибка паспортистки, допущенная где-то в маленьком украинском городке на заре советской власти при выдаче документа Женькиному дедушке, разумеется, Вознесенскому. Получился Евгений Вознесенко. И внука назвали так же. Ну как еще он мог подписывать теперь свои стихи? Конечно, «Андрей Евтушенский».
Женька поднялся, откинул со лба мокрую прядь волос и зловеще продекламировал:
Я — поэт уходящего Полудохлого мира. Я — проклятье ходячее! Я — ходячая мина!— Чучело ты ходячее, — отозвался Черный.
— Чучело… — задумчиво произнес Женька. — Чу-че-ло. Чучело отлично рифмуется с фамилией поэта Тютчева:
В прошлом маячит Черное чучело. Вижу иначе Федора Тютчева.— Абракадабра, — буркнул Валерка.
Женька его не слышал. Женька увлекся.
— Богатое слово — чучело, — говорил он.
Ты меня замучила, Ты страшна, как чучело…«Ну вот, — подумал Брусилов, — теперь на всю ночь вариации на тему «Чучело»… Человек — свинья… Ну, Женька-то треплется, конечно. Как всегда. А Черный? Этот говорил серьезно. Изобилие делает человека свиньей… Да нет, неправда. Не прав он. А где доказательства? Доказательств нету. На Западе основная проблема сегодня — проблема бездуховности. Ведь это ж факт? Факт. Потому что они зажрались. А у нас? В общем, тоже не особо богатая духовная жизнь. Но у нас еще слишком многого не хватает. Из жратвы. Так что о духовности думать некогда. Не до грибов. А вообще-то, мы больше всех в мире думаем и больше всех читаем. Неужели лишь потому, что жрать нечего? А потом, когда всего будет в достатке? Медленное превращение в свиней? Да нет, чепуха это. Че-пу-ха. Знаю, что чепуха, а объяснить не могу. Почему же я так уверен, что Черный не прав?»
Кофейник вдруг яростно сплюнул на плиту, и Брусилов выключил обе конфорки сразу.
В кухню вошла Катя с подносом. Катя была в джинсах и в шлепанцах. Больше на Кате ничего не было. А на подносе были стаканчики с янтарно-желтой жидкостью, облепленные по кромке сахаром, и на каждом красовался ломтик апельсина. Соломинки торчали из коктейлей, пронзая апельсиновые ломтики.
— «Вана Таллинн» с шампанским! — объявила Катя.
— Мерси бьен, — сказал Брусилов, принимая стакан.
— Миль грасиас, — поднялся с пола Валерка.
— Обригадо, — все тем же мрачноватым голосом произнес Черный, протягивая руку.
— А это по-какомски? — удивилась Катя.
— Португалиш, — ответил Черный на языке, явно не португальском.
Женька прервал свое поэтическое словоблудие и тоже взял стаканчик. Несколько секунд он напряженно вспоминал слово «спасибо» на каком-нибудь экзотическом языке, но, так ничего и не вспомнив, поблагодарил на простом английском:
— Сэнк ю вери мач.
А потом не удержался и добавил:
— Чучело — не мяч. Мяч — не апельсин. Катя! Я — один.Он поставил свой стаканчик на стол и положил ладони на Катины плечи.
— Катюха, — сказал он, — есть предложение. Или совет. Как хочешь. Ты ходи раздетой до пояса, но с другой стороны.
— С другой стороны — это как? — не поняла Катя.
Потом до нее дошло. Она прыснула и чуть не уронила поднос.
— Интересная мысль, — изрек Вадик, тоже забредший в кухню в этот момент.
— Мысль интересная, — глухо отозвался Черный.
— Мужики, — сказал Вадик, — нужна кастрюля.
— Бери, — Черный указал на полку, и Вадик, забрав кастрюлю, ушел.
Катя села за стол и стала тянуть коктейль из последнего оставшегося стакана. Ее уговаривали сменить наряд по Женькиной рекомендации. Катя не возражала. «Вот только коктейль допью», — говорила она.
Брусилов вдруг заметил, что под столом валяется апельсин, и Катя машинально катает его ногой, как мячик, и ему стало жалко апельсин, словно тот был живой.
Женька возобновил поэтические упражнения. Он читал:
Мы такие: чуть чего — Враз, без содроганья Человека в чучело Превратим с рогами.Глядя вдоль по коридору, Брусилов заметил, что Светка скрылась в спальне вместе с Эдиком, а Артур ушел в кабинет, неся на руках Анюту. Вечеринка катилась к финишу.
Вошел Вадик с кастрюлей.
— Мужики! Водки кому?
Оказалось, он слил всю оставшуюся водку из бутылок и рюмок в одну кастрюлю.
— Чтобы не пропала, — пояснил Вадик.
Женька никогда еще не видел водку в кастрюлях и, не доверяя Вадику, решил понюхать. Нюхал он зря. Запах спирта ударил в голову, потом докатился тяжелой волной до живота и вернулся наверх омерзительной дрожью. Заметив у себя в руке стакан с коктейлем, Женька содрогнулся еще раз и выплеснул содержимое в Вадикову кастрюлю.
— Свинья, — сказал Вадик. — Так что? Никто не будет? — он был разочарован. — Тогда есть интересная мысль, мужики: сварить в водке картошку.
— Мысль интересная, — процедил Черный сквозь зубы.
Женька декламировал:
Жизнь, ты мне наскучила! И уже давно. В огороде чучело, В погребе вино…Черному надоели стихи, и он начал тихонько рычать от злости. Вадик чистил в раковине картошку. Женька декламировал:
В огороде чучело, В доме самогонка. Крикну спьяну кучеру: «Пожалей ребенка!»— Евтушенский, ты зациклился. Бросай эту тему, — сказал Валерка, сметая веником на совок остатки кофе. Банка уже была водворена на место.
Брусилов взглянул на кофе и объявил:
— Господа, кофий стынет. Прикажете подать чашки?
Подали чашки. Все кто не разошелся по кроватям, вновь собрались за столом. Исключение составляла Машуня, уснувшая на диванчике в гостиной, и Любомир, которого не удалось вытащить из-под стола. Этот не спал — этот отбрыкивался и требовал подать ему кофе под стол.
А кофе пили с ликером, коего оказалось необычайно много. После составления коктейлей осталось целых два пузыря «Старого Таллинна», а Вадикова Лариска притащила еще бутылку «Арктики». Поэтому некоторые пили не кофе с ликером, а ликер с кофе. Другие предпочитали разбавлять крепкий напиток апельсиновым соком. Зиночка, например, успевшая сильно набраться и вдруг решившая, что с нее хватит, вообще пила один сок да еще напихала себе полный стакан ледяных кубиков.
Женька взял гитару и затянул жутко тоскливую песню собственного сочинения о бессмертном пророке, который живет с людьми все века и все века открывает им истину, а люди не верят ему, гонят его, а он приходит вновь к каждому новому поколению, а по ночам мечтает умереть, но не умирает, даже когда его расстреливают или сжигают на костре, ведь он бессмертный. Брусилов знал, что концовка у этой песни фарсовая. Пророк там говорит такие слова:
Вот мне встретится бессмертная пророчиха, И тогда на ваше горе, вашу кровь — чихать! Буду жить себе, купаясь в удовольствиях, И навек покинет сердце мое боль сия.Но до конца Женька в этот раз не добрался, и на Брусилова это произвело прямо-таки давящее впечатление. А Лариска, большая поклонница Женькиного таланта, прильнула щекой к его плечу, и, когда она прикладывалась к чашке, кофе капал Женьке на пиджак. Пиджак у Женьки был белый.
— Брусника, а Брусника, — обратился вдруг к Брусилову Вадик, — слабо выпить стакан неразбавленного ликера одним залпом?
— Мне? Слабо?! Да Господи, хоть ведро!
Брусилов разошелся. Ему теперь было хорошо и казалось, что пить он может бесконечно.
— Ведро не надо. Стакан.
— Наливай! — с купеческой лихостью крикнул Брусилов.
— Ой, смотри, Витька, слипнется, — предостерег Черный.
Женька отложил гитару.
— Не надо, Витек, — сказал он, — не надо, ты пьян.
— Женька, друг, — повернулся к нему Брусилов, — ты меня уважаешь?
Женька промолчал, пытаясь понять, шутит Брусилов или это уже алкогольный бред. А тот продолжал:
— Это замечательный ликер, Женька! Ты только понюхай.
Женька встал и понюхал. Может быть, ликер и был хорош, но от него разило спиртом. И больше ничем. Давеча, когда Женьку передернуло от испарений из Вадиковой кастрюли, желудок его был идеально пуст, теперь же там обреталась чашка кофе. От запаха спирта чашка кофе встрепенулась и, как кабина скоростного лифта, взлетела по Женькиному пищеводу. Женька рванулся к двери. В коридоре раздался плеск.
— Не донес, — угрюмо констатировал Черный.
— Дурак, — сказал Брусилов. — Пить надо меньше. Только не мне, — добавил он и влил в себя стакан ликера. Быстро и беззвучно.
Все, что было потом, Брусилов помнил кусками. Помнил он, например, как в комнате появилась Катя, одетая в соответствии с Женькиным советом. Была на ней джинсовая куртка, застегнутая на все пуговицы, или батник, а может быть, вовсе водолазка. В руках она держала поднос с бананами или ананасами, а может быть, вовсе с какими-то омарами. И над самым ухом кто-то орал: «Браво, Катрин!»
Помнил Брусилов, как из-под стола вынули Любомира, как уложили его поверх неубранной посуды и что-то под Любомиром хрустело.
Очень смутно, но все же вспоминалась вареная картошка, тошнотворно пахнущая водкой. И почему-то — сиротливо лежащий на полу апельсин. Брусилов все порывался поднять его, но, кажется, ему так и не дали этого сделать. Еще Брусилов помнил таксиста, который все нудил: «Да не возьму я его, он мне машину заблюет». И Брусилов еще подумал тогда: «А что, ведь и в самом деле заблюю». Но с этим как будто обошлось.
Всплывала в памяти лесенка возле самого дома, где Брусилов падал раза три, когда друзья решили попробовать, может ли он идти сам.
Больше Брусилов ничего не помнил.
В комнате стоял желтоватый сумрак. Во рту было гнусно. Хотелось пить. И совсем нельзя было понять, который час. Друзей в комнате не было. Видимо, не было их и в квартире. Стояла тишина. Даже часы не тикали. В настенных села батарейка, а наручные оказались разбиты. Брусилов дотянулся до телефона, всунул в диск дрожащий палец и набрал «сто». «Двенадцать часов двадцать четыре минуты», — с нездоровой злобой произнес женский голос. Брусилов присвистнул и сел в постели.
«Самолет, — вспыхнула мысль. — Однако во сколько он, самолет-то? Ага, вспомнил: в час.» И еще вспомнил: «Не сегодня, а завтра. Слава Богу».
Он снова откинулся на спину. Однако лежать было нисколько не лучше, чем сидеть. Явилась дежурная мысль: «Завязывать надо с этими пьянками». Брусилов тут же одернул себя: «Только не об этом! Ведь есть же первая заповедь всех пьяниц — не зарекайся пить с похмелья. Женька даже стихотворение написал на эту тему. Как там у него?»
Не зарекайся пить, Когда тошнит с похмелья. Не зарекайся бить, Когда из носу — кровь. Не зарекайся быть Со шлюхою в постели, Когда противно утром Подумать про любовь.И была еще одна строфа, но Брусилов ее забыл. А вспоминать не хотелось. Не утешали Женькины строчки. Утешиться можно, когда огорчен чем-то конкретным. Когда же огорчен всем белым светом, обижен на все мироздание в целом, это уже не огорчение и не обида, это — вселенская скорбь и ненависть. Ненависть и омерзение.
Мир казался Брусилову большой грязной, зловонной помойкой. В таком мире не на чем было остановить взгляд, в таком мире ничего не хотелось. Но Брусилов тем не менее попытался придумать желание. Желание получилось весьма оригинальным: пусть пропадет все пропадом, начиная с меня.
— Боже! — возопил он, сбрасывая одеяло и опуская на пол ноги. — За что такие муки, Боже?!
Потом достал из холодильника банку с водой, предусмотрительно поставленную туда накануне. Первый глоток сделал с наслаждением, второй — со смешанным чувством, а третий был уже отвратителен: вода отдавала водкой. Отрады не было ни в чем. Словно незримый скальпель коварного хирурга ампутировал Брусилову орган радости.
«Черный, — подумал Брусилов, — надо позвонить Черному».
Трубку взяла Катя. Было слышно, как они там возятся. Черный ворчал спросонья. Потом он, наверное, полез через Катю к телефону, хотя можно было, растянув шнур, просто взять трубку. Катя вскрикнула, должно быть, он ей там что-то отдавил, и, наконец, раздался голос Черного:
— Командир полярной экспедиции слушает.
— Доброе утро, пьянь беспробудная. Ну как готовность?
— Готовность номер один.
— Отлично. А как последствия?
— Лучше, чем я думал. Грязновато, конечно, но мебель и окна целы. И даже посуда. Раздавили только два фужера и одно блюдце с чашкой. Мы с Катрин обязуемся все убрать нынче же вечером.
— Рюша, — Брусилов, наконец, решился задать вопрос, который давно его мучил. — Только честно. Тебе не страшно?
Черный молчал. И молчал довольно долго.
— Уходить? — спросил он, наконец.
— Нет, вообще.
— Вообще — страшно. За людей страшно. За то, что мы собираемся с ними сделать, за то, что Эдик уже сделал. Понимаешь, Эдик — отличный парень, но иногда мне кажется, что он советский вариант mad scientist[1]
— А Женька?
— Что Женька?
— Почему он талдычит все время, что вы не вернетесь?
— Потому что он дурак, — сказал Черный. — Потому что он романтик, поэт и неврастеник. Из тех, что любят красиво умереть. Но он прекрасный радист, отличный спортсмен и настоящий друг.
— Да, — сказал Брусилов, — наверное, ты прав. Извини. Голова тяжелая. Так, значит, завтра в десять на аэровокзале?
— Завтра в десять на аэровокзале.
Брусилов лежал, смотрел в потолок и думал. О Черном, о Женьке, о Цаневе и о Станском. И было у него такое ощущение, будто это не они уходят на полюс, а он уходит куда-то. Уходит далеко, навсегда, насовсем. А они остаются.
Странное это было ощущение.
Часть первая ОТЕЛЬ НА ЭВЕРЕСТЕ
…В эту минуту я походил на покорителя Эвереста, который после неслыханно трудного подъема оказался наверху и вдруг увидел отель, переполненный отдыхающими, потому что пока он карабкался на вершину в одиночку, с противоположной стороны горы проложили железнодорожную ветку и организовали городок аттракционов.
Ст. Лем «Возвращение со звезд»1
А снег продолжал падать.
— Все, — сказал Женька, — дальше я не пойду.
— Брось придуряться, старик, — добродушно откликнулся Цанев.
— Не до шаток сейчас, — процедил Станский, не шевеля потрескавшимися губами, из-за чего буква «у» звучала как «а».
А Черный коротко прохрипел, как припечатал:
— Сволочь.
Они двигались вдоль полыньи, и до поры такое направление устраивало их, но теперь граница открытой воды все заметнее забирала к востоку, и Черный начал подумывать о переправе, то и дело пробуя палкой толщину молодого льда. Однако из-за снегопада сильно потеплело, и лед был никудышный, тоньше оконного стекла, а на середине его и вовсе не было.
Женька шел первым, и, когда он бросил палки, остановиться пришлось всем. Они стояли теперь, сгрудившись, наступая друг другу на лыжи, слегка покачиваясь, тяжело дыша, и были похожи на компанию перепивших ханыг у пивного ларька, выясняющих, кто кого уважает.
— Я вам морду набью, товарищ радист Вознесенко, — говорил Черный.
А Женька бубнил страшным бесцветным голосом, как заведенный:
— Я не пойду дальше. Дальше я не пойду. Не пойду я дальше.
…В каком-то глубоко запрятанном уголке Женькиного сознания еще тлел огонек совести и долга. Но накативший из белой бесконечности холодный снежный ужас заливал все: логику, стыд, память, самолюбие. Невыносимо болела ушибленная и потому обмороженная нога. И спасение было только в одном — в тепле. А тепла поблизости не было. И быть не могло. Так зачем же идти вперед, думал Женька, в мороз и метель? Надо найти тепло внутри себя. Остановиться (главное — остановиться) и начать искать. В каждом из нас есть тепло, думал Женька, надо только уметь найти его. И тогда можно умереть. Тогда уже будет неважно. Главное — чтобы было тепло. А уж после смерти будет тепло непременно.
Он вспоминал, как не любил всегда наступление декабрьской стужи, как зима одним ударом твердого морозного кулака отправляла его в нокдаун и как тяжело было подниматься каждый раз. Будильник звенел, а он не находил в себе сил выбраться из-под одеяла. В комнате стоял почти мороз. Он специально открывал форточку настежь — приучал себя к холодам. Но Амундсен оказался прав: холод — это то единственное, к чему человек не способен привыкнуть. Женька как был ужасный мерзляк, так и остался им, хотя готовился, тренировался, закалял себя, учился преодолевать дрожь, осваивал аутотреннинг. И он многому успел научиться. Но он не знал, что это будет так тяжело. А тут еще нога. (Чтоб ей совсем отвалиться, ненависть какая!). потом он вспомнил горячий крупный песок керченского пляжа и теплое соленое, как суп, море с прозрачными клецками медуз. Вот тогда он остановился, бросил палки и сказал:
— Все. Дальше я не пойду…
— Сволочь, — хрипел Черный, — ты пойдешь, сволочь.
И это было, как в кино. Вот только что же это за фильм, мучился Женька, и ведь хороший какой-то фильм…
— Успокоительного? — деловито спросил Любомир, сняв рюкзак, полез за лекарством.
— Ща как двину раз по зубам, мигом успокоится, ублюдок хренов, все сильнее закипал Черный.
— Попробуй, — сказал Женька, вмиг оживившись.
Черный взмахнул рукой и нанес сокрушительный удар. Удар пришелся в воздух. И, если б не заботливые руки Станского, командир упал бы, сломав как минимум крепление.
— Тихо, ажики, — сказал Станский, не двигая ртом. — Рекратите. Хиниш. Ознесенко не дойдет. Надо колоться здесь.
— Что?! — переспросил Черный.
А Цанев деловито осведомился:
— Анаф?
— Анах, — ответил Станский.
— Нет! Только не это! — вдруг почти завизжал Женька. — Идиоты! Радио не работает третий день. Никто же не знает, где мы. Пурга, уроды! Нас заметет. Нас никогда не найдут.
— Найдут, — сказал Черный.
— Лет через двести, — пошутил Любомир.
— Именно, — подтвердил Женька на полном серьезе. — А я не хочу. Лучше сдохнуть здесь в снегу, чем оказаться в мире, который будет через двести лет. Кретины! Вы же там будете не просто чужими — вы же там будете древнее мамонтов. Я не хочу с вами!
— Что ты несешь, придурок? — зарычал Черный.
— Непосредственно перед анафом нельзя колоть успокоительное, — деловито сообщил Цанев.
А Женька присел, стал расстегивать крепления на лыжах и заплакал. Он плакал и бормотал себе под нос:
— Не надо анаф. Анаф — это очень холодно. Только сначала тепло. Кажется, что тепло. Иллюзия. А на самом деле очень холодно. Мы замерзнем. Нас никто не найдет. Радиосвязи не будет. Никогда не будет. Нога болит. А умирать не страшно. Мы проснемся в будущем, а там холодно. Я не хочу в будущее. Я хочу в прошлое. В прошлом тепло. И умирать тепло. Не надо анаф. Не надо.
Любомир, делая вид, что не слышит Женькиного бормотания, достал из рюкзака пенопластовую обойму с двумя спецсосудами, снял крышку, блеснули круглые стальные головки, и снова надел ее.
— Все в порядке? — спросил Черный. — Значит, так. Быстро приготовились. Собрать «гробы», раздеться, упаковаться. Пять минут на все. Цанев, шприц! Вопросы есть?
Вопросов не было. Была по-боксерски быстрая Женькина рука, растерянный взгляд Любомира, его широко раскрытый в крике рот и мелькающие пятки обезумевшего радиста. Все трое рванулись за ним одновременно и все трое упали, цепляя друг друга лыжами. А Женька подбежал к краю полыньи и, размахнувшись как метатель диска, швырнул похищенную обойму вперед и вверх. Пенопластовая коробка, похожая на ровно обтесанный кусок слежавшегося снега, потрепыхавшись над серой водой, упала на лед по ту сторону, метрах в двух от кромки.
— Вот так! — радостно крикнул Женька. — И никаких анафов.
И тут, хрипя и ругаясь, подбежал Черный и обрушил сильнейший, на какой только был способен, апперкот, и Женька повис на его кулаке, как белье на веревке.
Цанев кричал:
— Ты сам поплывешь теперь за ними! Понял? Сам поплывешь!
А Женька всхлипывал и повторял одно только слово:
— Нет, нет, нет…
Станский молчал. Говорить ему было трудно, и он старался не произносить ничего сверх необходимого.
— Плыви, плыви, тебе говорят, — глухо и без выражения ворчал Цанев. — Плыви…
— Отстань от него, идиот, — вмешался Черный. — У нас лодка есть.
Но Цанев его не слышал. Цанев смотрел по ту сторону полыньи совершенно безумными глазами. Черный даже успел подумать, что вот и еще один член экспедиции помутился рассудком.
— Ползет, — прошептал Цанев.
— Кто ползет? — в голосе Черного зазвучал испуг.
— Лед ползет, — пояснил Цанев.
А лед действительно двигался. Разводье расширялось на глазах, и берега его смещались друг относительно друга.
— Видишь место?! — в панике закричал Черный. — Место видишь, куда упало?
Непонятно было, кого он спрашивал, и ответил Женька:
— Вижу.
— Следи, чтоб не потерять!
— Слежу, — вяло откликнулся Женька.
— Лодку? — спросил Цанев.
— Палатку, — непонятно, словно передразнивая ответил Черный. — Забрось туда палатку. Ее за километр видно. А эти — завалит, не найдем. Забрось, пока не поздно!
Цанев взглянул на Станского. Станский молча кивнул. Достали палатку.
— Дай мне, — сказал Женька.
— Метатель хренов, — процедил сквозь зубы Черный.
Женька пробежал бегом и, поравнявшись с нужной точкой (он уже и сам не видел коробку, просто запомнил расположение льдин), размахнулся и, что было сил, швырнул оранжевый сверток. Палатка легла на удивление удачно. Вряд ли между ней и сосудами с анафом могла пройти трещина. Снег, впрочем, продолжал падать, но Черный был прав: палатку быстро не занесет. И яркое апельсиновое пятно светилось теперь сквозь марево круговерти, как последняя надежда на спасение среди белой бесконечности верной гибели. Вместе с тем, благодаря палатке стало еще лучше видно, как быстро уходит противоположный берег. Все четверо смотрели на это неподвластное им движение, точно завороженные, и теряли драгоценные секунды.
— Лодку давай, — вспомнил Цанев.
Прозвучало это очень глупо. Лодка лежала в рюкзаке у Цанева. Черный обернулся и тупо поглядел на Любомира. потом проворчал:
— Я же говорил, идиотизм: два сосуда держать в одной обойме.
— Ну, знаешь, — не согласился Цанев, — кто же мог предусмотреть появление шизоида среди четырех абсолютно здоровых людей?
— Вот ты и должен был предусмотреть, эскулап хренов.
А Женька снова сидел на снегу и, сняв руковицу, смотрел, как снежинки падают на раскрытую ладонь.
— К черта лодка, — неожиданно и очень отчетливо произнес Станский.
— Есть третий сосад.
— Какой такой третий сасад? — не понял Цанев.
— Еще один псих, — прошептал Черный.
— Есть, — упрямо повторил Станский. — Я ео зял на сякий слачий.
Все помолчали, обдумывая новую информацию и печально провожая глазами уплывающую палатку. Было во всем этом что-то очень неправильное. Женька вдруг с удивительной ясностью почувствовал, что они губят себя. И захотелось остановить ребят, сделать все по-другому. Но он не знал, как. Приступ отчаяния прошел, боль в ноге затихала, холод сделался безразличен. И он не знал, что надо делать, только почему-то было очень жаль брошенной палатки.
— Палатку верните, — сказал Женька. — Нужна палатка.
Кажется, его даже не услышали. Во всяком случае, он был им теперь не интересен.
— Дураки, — сказал Женька, — нельзя третий сосуд.
Он еще не знал, почему, но чувствовал: нельзя.
Черный посмотрел на него как на идиота.
Станский достал анаф.
Потом они все четверо будут удивляться, как можно было поступить так глупо. Но тогда… Это было какое-то наваждение, какое-то массовое помешательство. Свинцовая гладь полыньи, тихие крупные снежинки, удаляющееся оранжевое пятно палатки и голубоватый блеск спецсосуда, о котором не знал никто, кроме Станского. Самое удивительное, что они еще и обсудили свои шансы, прежде чем уколоться и уснуть.
— Рацию на автомат и дрыхнем до прихода спасателей, — сказал Любомир.
— Цанев, — злобно буркнул Женька, — ты мне надоел. Какая рация? Аккумуляторы сели.
— А без пеленга нас найдут? — как-то слишком легкомысленно для столь важного вопроса произнес Цанев.
— Естественно, — успокоил Черный, — нас же будут искать с вертолетов.
— А если занесет? — предположил Станский.
— Не занесет, — Черный говорил уверенно. — Во-первых, снег на исходе. Во-вторых, вертолеты будут здесь очень скоро. Сами подумайте, третий день без связи. И, наконец, мы же флажок поставим.
— Да, — согласился Цанев, — глупо думать, что не найдут.
Они уже скрепили лыжные палки и поставили флажок на растяжках, и собрали «гробы-контейнеры», и разделись, и аккуратно уложили вещи в герметичные пакеты, а пакеты в рюкзаки, и пристегнули все к «гробам», и, с усилием сдерживая дрожь, Станский свинтил и отжал последовательно три крышки на спецсосуде, наполнил анафом шприц, а Любомир протер спиртом руки всем четверым и, взяв шприц у Станского, по очереди, каждому, начиная с Женьки, ввел в два приема необходимую дозу препарата.
— С Богом, — сказал Цанев, защелкивая на себе контейнер.
— Тоже мне христианин, — усмехнулся Черный, — ни пуха!
— К черта! — откликнулся Станский, уже научившись выбирать слова, которые давались ему полегче.
Женька пошутил:
— Счастливо, братцы. До встречи в тридцатом веке!
Никто не ответил ему.
А Женьке было хорошо. Холод отпустил совсем. Нога болеть перестала. Анаф в крови давал блаженное ощущение растекающейся по всему телу теплоты, какое бывает, когда выпьешь с мороза стопку водки или легонько разотрешь все мышцы финалгоном. Теплота накатывала волнами убаюкивала, ласкала. Теплый, почти горячий туман таял, и прямо перед глазами прыгали сверкающие блики моря, подогретого солнцем, а вдоль берега лежали горячие серые камни и лохматые пальмы лениво шевелили большими теплыми листьями. Женька полулежал в шезлонге, а где-то у него за спиной рвался из динамика популярнейший шлягер шестидесятых — «Песенка о медведях» — его любимая. «Тоже мне, тридцатый век!» — думал Женька.
А потом началась чертовщина…
2
А потом началась чертовщина. Шипение, плеск, черное небо в звездах, огни сквозь туман, ржавая металлическая стена, розовые прутья «гроба», потоки воды, горячей и холодной вперемежку, скользкие льдины, крики, веревочная лестница, мелодия «Песенки о медведях» и надо всем этим — громкая английская брань. Судорожно дыша и отплевываясь, совершенно не понимая, где он и что происходит, и повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, Женька, беспомощный, в контейнере, как спеленутый младенец, вырывается, наконец, из него на свободу, некоторое время отчаянно и нелепо барахтается вместе с другими в странно теплой воде с ледышками и, наконец, поймав веревочную лестницу, лезет вверх. И когда все четверо оказываются на борту чудного потрепанного суденышка и каждый из них начинает допускать мысль, что все это на самом деле, хотя сразу поверить в такое трудно, — выясняется, что рюкзаки спасены все, а вот «гробы» и лыжи брошены на произвол судьбы. Женька вспоминает, что вместе с его «гробом» тонет один из карабинов (это обидно), но думать об этом уже некогда. Четырех голых путешественников приветствует на палубе немолодой очень добродушный, очень обросший и всклокоченный, очень рыжий и, как тут же выясняется, очень пьяный моряк с трубкой в углу рта, в расстегнутом, несмотря на мороз, бушлате, из-под которого виднеется давно не стиранная тельняшка, в пижонских клешах и в бескозырке с надписью «NORD». А на ногах у него совершенно невообразимые серебристые ботинки, словно отлитые из металла, но явно мягкие. Поймав задержавшиеся на ботинках взгляды, моряк непонятно говорит:
— Что вы так смотрите? Мы с вами не в Норде.
Женька схватывает смысл этих слов, сказанных по-английски, но вообще моряк говорит очень много, он говорит непрерывно, и Женька успевает перевести для себя далеко не все. Кажется, Эдик понимает все и оттого больше других удивляется, а Любомир и Черный не понимают вообще ни черта, и, наконец, не выдержав, Черный злобно рявкает:
— Ви а рашен!
— О, рашен! Русо! — восклицает моряк и неожиданно легко переходит на русский: — Замерзли, небось, черти полосатые! Надеретесь вечно, как свиньи, а старику Биллу вас спасать. Хорошо — боком прошел, хорошо — случайно заметил, а если бы под утюг? Ну, ладно. Одеваться будем? Или вы из этих, из оранжистов, которые голыми по морозу бегают?
Удивительно уже то, как здорово старик Билл говорит по-русски. Невозмутимость моряка — вторая неожиданность для четверки полярников. И потому содержание его бурного монолога пока на третьем месте, так что даже на непонятном слове «оранжисты» внимание задерживается недолго.
— Как вас угораздило в лед-то вмерзнуть, сибр вашу мать! — продолжает меж тем старик Билл. — Я уж думал, трупы. Ан, нет! Гляжу — в упаковочке. Тепленькие, значит. Ах ты, думаю, брусника тебя возьми, насосались опять ликера с анафом да и драпанули из Норда, квазисты окаянные!..
Женька слушает и все больше изумляется объяснениям Билла. Бред какой-то. Пьяный бред. И только одно становится понятно: они вмерзли в лед. Значит… Что же? Значит, произошел разлом, подвижка льдов. На дно они не пошли — это понятно, но погрузились все-таки, а лед схватился. Вот и вся недолга. Но когда все это произошло? Был день — теперь ночь. Полгода, как минимум. А может, полвека? Или полтысячелетия? Нет, пять веков — это вряд ли. Чтобы через пять веков — и вот такая пьяная морда?
А Станский выхватывает другую фразу.
— Ликер с анафом?! — спрашивает он оторопело.
Губы у Эдика шевелятся теперь нормально, размягченные действием анафа и внезапным теплом, но они, разумеется, не зажили, и из трещин течет кровь, капельками повисая на бороде.
— Хорош придуряться-то, — говорит Билл, — пьянь оранжевая. Пошли в тепло.
Лишь теперь они замечают, что стоят на морозе голые. И лишь теперь Женька понимает, что «Песенка о медведях» звучала не только во сне, но и наяву. Мелодия как раз смолкает и начинается другая, совсем незнакомая. А мороз вообще-то не такой уж и сильный, вернее, он здорово смягчен густыми облаками пара, поднимающегося со всех сторон от растаявшего льда. Маленький ледокол старика Билла, стоящий в полынье, окутан клубами тумана, совсем как бассейн «Москва» зимним вечером, и Женька начинает догадываться, что это и не ледокол никакой, а — как бы это сказать — «ледотай» или, может быть, «ледотоп». Нос его представляет собой огромный утюг, раскаляющийся, видимо, во время движения. Вот только откуда такая пропасть энергии? Впрочем, тридцатый век…
Туман меж тем рассеивается, садится инеем на все поверхности корабля, и воздух остывает, вот почему раздетой четверке становится холодно. Но дверь каюты от пинка уходит в стену, и старик Билл приглашает всех внутрь, а там тепло, и это замечательно. Вот только отмороженная нога у Женьки начинает болеть в ушибленном месте. Стены каюты и потолок тлеют зеленым сиянием, как кривые на осцилографе, и от такого непривычного освещения сразу делается неуютно — все предметы кажутся загадочными, зловещими, а назначение многих из них действительно непонятно и хочется поскорее выбраться наружу.
— Выпьем, — решительно предлагает капитан (Похоже, он один на «ледотопе», а значит, ему и быть капитаном).
У ребят полно вопросов, но теперь, пока не выпили, спрашивать становится совсем неприлично, и они окончательно теряются. С самого начала они ждали вопросов к себе: как-никак четыре голых дурака среди льда и снега. А этот старик Билл подбирает их с таким видом, будто только этим и занимается каждый день. О чем же теперь спрашивать? Куда плывем? Так он вроде сказал: в некий Норд. Название очень понятное. Какой-нибудь порт в Гренландии или на Шпицбергене. Спросить, как устроен «ледотоп»? Глупо. Конструкция явно не нова, а Билл принимает их за современников. Ну, что еще? Какой нынче год? Сочтет за издевку.
Мысли в голове ворочаются туго, хочется спать.
Билл извлекает откуда-то из угла квадратного сечения бутыль и два мутноватых стакана, наливает по самую кромку и говорит:
— За свиданку, ребята. Пейте по очереди. Стаканов больше нет.
И заглатывает свою порцию, быстро двигая кадыком.
Черный первым берет стакан и осторожно нюхает желтовато-зеленую в свете каюты жидкость.
— Думаю, можно выпить, — говорит он.
— Погоди, — останавливает его Любомир. — Чуть не забыли, уроды. Таблетку постанафина. А то уснули бы сейчас, как суслики.
Таблетки находятся быстро. Они в полной сохранности. А жидкость оказывается чем-то вроде виски или бурбона — в таких тонкостях люди советские разбираются слабо, однако качество напитка сомнений не вызывает и для запивания таблеток хоть и не очень, но он все-таки годится. На капитана таблетки никакого впечатления не производят. Правда, он вдруг лезет под койку, достает маленькую баночку и предлагает Станскому помазать губы. Это какая-то заживляющая мазь, и, судя по выражению лица Эдика, действует она эффективно.
Капитан же опрокидывает еще стаканчик, ему делается совсем хорошо и на гостей он почти перестает обращать внимание.
— Давайте чувствовать себя как дома, — предлагает Любомир, начиная одеваться.
— Трудновато, — говорит Черный, — если учитывать, что мы не знаем не только, где мы, но и когда мы.
И тогда Станский рожает, наконец, вопрос. Видя, что Билл совсем не слушает их, Эдик говорит громко и почти в ухо капитану:
— А что, командир, какой у нас нынче год?
В первый момент старик Билл как будто даже трезвеет, и Женька думает про себя: «Ну, наконец-то, проняло! Сейчас начнет спрашивать», однако почти сразу лицо капитана расплывается в хитрой улыбке:
— Ой, ребята-оранжата, не надо мне заливать, что вы продрыхли больше года. Сейчас, небось, скажете, что ушли из Норда в сто двенадцатом?
Женька чувствует, как по спине его пробегает дрожь. А Станский слабеющим голосом, безо всякой надежды на успех спрашивает:
— А теперь-то какой?!
— Сто пятнадцатый, сибр вашу мать! — неожиданно взрывается капитан. — Будто не знаете!
— Две тысячи сто пятнадцатый? — уже совсем испуганно и еще более робко переспрашивает Станский. — От рождества Христова?
— Но-но-но! — непонятно грозит пальцем Билл. — Про рождество Христово будете в Норде спрашивать. Допились до зеленых апельсинов…
И он торжественно провозглашает после паузы:
— Сто пятнадцатый год Великого Катаклизма!
Последние два слова произносятся значительно как написанные с большой буквы. Капитан поворачивается к гостям спиной, щелкает чем-то на пульте. Смолкает музыка, раздается мерное низкое гудение, потом шипение, треск, и, качнувшись слегка, посудина старика Билла трогается в путь.
— Вот так и начались необыкновенные приключения группы испытателей анаф — гибернации в сто пятнадцатом году Великого Катаклизма, — дурачась произносит Цанев.
3
А когда старик Билл вышел из каюты, четверо решились, наконец, посмотреть друг другу в глаза. У Рюши была совершенно черная от расширившихся зрачков радужка. Любомир же сиял от восторга, кусая губы и нервно массировал ладони. Только Станский оставался спокоен. А Женька боролся сразу с двумя желаниями: ущипнуть себя и закричать дурным голосом.
— Какие будут мнения? — солидно и невозмутимо, словно шло заседание кафедры, спросил Станский. Он был уже почти полностью обмундирован.
— Бред, — хрипло проговорил Черный, — мы спим.
Эту гипотезу пришлось отмести сразу как не конструктивную. По той же причине Любомир решительно отверг массовый психоз.
— Может быть, розыгрыш? — робко предложил Женька.
— Дороговато для розыгрыша, — скривился Черный.
— А что, если киносъемки фантастического фильма? — придумал Любомир.
— А что если старик Билл — космический пришелец? — передразнил Станский. — Хватит, ребята. Хватит прятаться от очевидной истины: мы в будущем. собственно, ничего удивительного в этом нет. По самим условиям эксперимента мы должны были оказаться в будущем. Правда, недалеком — спустя сутки, двое. Но вышла какая-то ошибка. Вовремя нас не нашли. Нас нашли позже. И теперь нам надлежит понять: когда же нас нашли. Ясна задача?
— Погоди, — сказал Черный, — есть еще один вопрос: почему нас не нашли вовремя?
— По-моему, это очевидно. Произошел разлом. И мы вместе со всеми вещичками, вместе с упавшим флажком вмерзли в лед, а снегопад довершил дело.
— Но это же не все, — возразил Черный. — Они должны были предвидеть такой вариант, они должны были искать нас.
— Где? — поинтересовался Любомир. — По всему океану?
— Зачем? — сказал Черный. — В районе последнего радиосигнала.
— В таком районе можно век искать, — заметил Женька, — мы же ушли на двое суток.
— А по палатке? — вспомнил Черный. — Почему они не нашли нас по палатке?
— Палатка далеко уплыла, — предположил Станский, — или ее занесло, или она тоже утонула…
— Или они не искали нас вообще.
Это сказал Черный, и все посмотрели на него, а он пояснил:
— Я не шучу. У них же случился Катаклизм. Стало не до нас.
Гипотезу не успели оценить, потому что Женька вдруг выдохнул:
— Понял! Третий сосуд. Я же предупреждал.
Он вспомнил, как совсем недавно говорил о третьем сосуде, и ему стало жутко от сознания, что это «недавно» отделено теперь от них бездной лет.
— При чем здесь третий сосуд? — агрессивно поинтересовался Станский.
— А при том! — закричал Женька. — Первые два лежали рядом с палаткой. Они их нашли. Понимаете, идиоты?! Они их нашли, а про третий никто не знал. Ведь никто не знал, правильно, Эдик? Ты гениальный дурак! Это благодаря тебе они решили, что мы погибли. Сосуды-то были полные. Они просто не стали нас искать.
Никто ничего не ответил Женьке. Все поняли, что он прав. И все были ошарашены. А Женька вдруг добавил:
— Надо было плыть. Это Станский виноват.
— Станский виноват?! — взревел Эдик. — А кто просил швырять обойму через разводье? С больной головы да на здоровую! Да тебя судить надо, Евтушенский!
— Все виноваты, — жестко сказал Черный. — Женька, конечно, больше других. Только не надо сейчас об этом.
— Не надо, — поддержал Цанев.
— Ладно, — Станский успокоился так же внезапно, как и вспылил, — ты сбил меня, Рюша. А нам все-таки необходимо решить задачу, когда нас нашли. Когда? Высказывайте ваши мнения.
И так он это деловито предложил, что невозможно было не откликнуться. Их смятение, их страх, их растерянность как бы отошли на второй план, единственно важной была теперь задача — сложная логическая задача, которую интересно будет решать. Станский потряс их своим самообладанием и основательностью. Сразу сделалось ясно, кто среди них старший. И Женька, как самый молодой, почувствовал это особенно остро. Несмотря на последнюю размолвку, ему захотелось, будто на экзамене, показать доценту Станскому все, на что он способен.
— Я начну? — предложил Женька. — Итак: что мы имеем? прежде всего — человека, безусловно, знающего, в каком году он живет. Человек, к сожалению, пьян, но информацию от него мы получили. Значит, есть два варианта: верить информации и не верить. Если верить, мы прыгнули в будущее минимум на сто пятнадцать лет. При нашей жизни «великих катаклизмов» не было.
— Это еще вопрос, — возразил Черный, — великим катаклизмом можно назвать и Октябрьскую революцию.
— Можно, — признал Женька, — но я не думаю. Мне вообще слабо верится, чтобы наши современники или их ближайшие потомки отказались от существующего летоисчисления.
— Ну, знаешь, — не согласился Черный, — это смотря какой был катаклизм. Может быть, рядом с ним вся история человечества — тьфу.
— Ядерная катастрофа, например, — предложил Цанев.
— Не верю, сказал Женька. — Слишком просто, чтобы быть правдой.
— Ну, ладно, — прервал их Станский, — давай про второй вариант.
— Вариант второй, — с готовностью отрапортовал Женька. — Информация ложная. Тогда, не принимая ее в расчет, рассмотрим приметы времени. Первое: катер. Лет тридцать, я думаю, хватит на изобретение такого катера. Второе: ботинки. При всей их странности лет через пять после нашего ухода они могли появиться. Третье: стены. Люминофор для бытового освещения — такая задача, по-моему, уже стояла в наши дни. Четвертое: лексикон капитана. Не принимаем в расчет, так как бесполезно искать логику в пьяном бреду. Итак: выводим общий срок по максимальному — так, кажется, делают юристы — и получаем двадцать первый век, начало.
— Близко к истине, — похвалил Станский, — правда, ботинки можно было и не упоминать, а вот две важные детали ты упустил. Задатки полиглота у нашего нового знакомого. Сразу вопрос: каков его социальный статус? И — это главное — его реакция на наше появление. Это, брат, попахивает не тридцатью годами, это, брат, наводит на мысль о Великом Катаклизме и ста пятнадцати годах после него.
Вероятно, Эдик прав, но Женька видел, что ребятам понравилось и его выкладки. Конечно, тридцать лет — это тоже страшно. Это — состарившиеся и умершие родственники, это — изменившийся уклад жизни, это — безнадежное отставание во всех областях деятельности. И все же. Тридцать лет, хоть и с грехом пополам, но умещались в голове, и потому хотелось, очень хотелось верить, что их действительно прошло только тридцать.
Одни, без чудака Билла, да к тому же согревшись, облачившись в привычную одежду и слегка захмелев от крепкой выпивки (после гибернации алкоголь действует сильнее), они теперь чувствовали себя гораздо уютнее. Странное освещение и незнакомые вещи в каюте перестали пугать. Да и такие ли уж они незнакомые? Пульт управления был, в целом, понятен, а для чего какая кнопка — не все ли равно, в конце концов. Стол, койка, темное пятно экрана — ничего особенного. В штуках, лежащих на одеяле, легко угадывались рыболовные снасти, в увесистом аппарате на стенке в углу — нечто вроде автоматической винтовки. А на столе, помимо бутылки и стаканов, торчал еще некий шарик на высокой ножке и на подставке с кнопочкой. Но тут Женька раньше других догадался: излучатель. стоило щелкнуть кнопочкой — и стены погасли. Еще раз — зажглись вновь. «Ерунда это, а не техника сто пятнадцатого года», — подумал Женька.
И тут вернулся старик Билл.
— Кстати, ребята-оранжата, у вас с собой, случаем, нету сейнера?
— Чего, простите? — ошалело переспросил Станский.
А Женька представил себе рыболовецкий сейнер, который четверо сбежавших из некоего Норда, как полагал про них старик Билл, прихватили с собой, чтобы где-то во льдах припрятать, и решил однозначно: допился капитан, теперь от него толку не добьешься.
А тот повторил настойчиво:
— Ну, сейнер, сейнер, — и добавил для ясности: — У меня там груз, в трюме, так я бы уж его прямо тут… зачем в Норд волохать, верно? Да вы пойдите, сами гляньте.
Он снова отпихнул в сторону дверь и показал, где искать трюм. Потом налил себе полстакана, быстро выпил и, подвинув к стене сваленные на койке снасти, вытянулся поверх одеяла. Все четверо стояли в нерешительности, и Билл, вопреки всякой логике, повторил свое приглашение по-английски и проворчал еще что-то. Станский любезно перевел:
— Почему вы стоите, как мачты?.. непереводимо… может быть, вы… зелено-черные?
— Ну вот, — прокомментировал Женька, — уже зеленые человечки. Пошли, ребята.
А капитан вдруг сам сказал по-русски:
— Эй, мужики, да вы не из этих ли, не из грин-блэков?
И, не дождавшись ответа, отпустил пару смешанных, русско-английских ругательств и уткнулся лицом в подушку.
— Да, Эдик, — заметил Цанев, — переводчиком тебе тут работать рановато. Не знаю, кто такие зелено-черные, а мы здесь очень и очень серые.
Рюша вздохнул и предложил:
— Пошли-ка лучше осмотрим трюм.
Мысль была здравой. И, строго говоря, стоило осмотреть не только трюм. Но начали они все-таки с трюма.
К плотно прикрытой овальной двери вела небольшая, заляпанная чем-то темным, лесенка, фонарь над входом был расколот, а свет других огней доходил сюда в сильно рассеянном виде.
Легкомысленный Женька, хромая, спустился первым и без труда отвернул засов. Он услышал предостерегающий крик Черного: «Стой! Мало ли что там!» — когда было уже поздно. Массивный овал со скрипом отошел от стены…
Разумеется, белый медведь из трюма не выскочил. Да и что вообще могло оттуда выскочить, выползти, вырваться такого, чему четверо полярных путешественников не сумели бы дать отпор, кабы подготовились? Ничего такого в трюме быть не могло. Но что-то там было.
Это что-то высыпалось темной массой сквозь проем двери прямо Женьке под ноги. И он невольно отпрыгнул, но оно не шевелилось. Оно просто перевалило через комингс, потому что трюм был переполнен этим, и оно подпирало дверь изнутри.
Привыкающими к темноте глазами Женька вглядывался в образовавшуюся возле ног кучу. Какие-то странные морские твари. Или нет — одни только плавники или ласты. Женька нагнулся и подобрал одну штуку…
Ему показалось, что кто-то ударил его в живот: тупая боль и зарождающийся крик, который застревает в горле, превращаясь в мерзкий ком тошноты.
Это были не морские твари. И не плавники. Это были отрубленные у запястья человеческие руки — полный трюм окровавленных обрубков.
«Да, славный груз везет на своей посудине старик Билл. пожалуй, и впрямь самое время перегрузить его на какой-нибудь сейнер», — успел подумать Женька. Потом он стоял, перегнувшись через бортик, и его рвало.
Остальные оказались покрепче — и Рюша, и Станский, а Любомиру и вовсе не привыкать. Он тут же исследовал несколько обрубленных кистей и сообщил:
— Честно говоря, мужики, я не представляю, чем удалось так ровно обрезать все ткани. Конечно, можно вообразить некий очень тонкий и очень быстрый нож, но вероятнее всего, это лазер, причем в наше время такого еще не было, разве что у военных, а медицинские лазеры я, слава Богу, знаю. И далее — руки обрезаны сутки назад, не больше, и, похоже, были все это время на морозе. Трупов в трюме нет. Одни руки. Кошмар, мужики, я ничего не понимаю.
Женьку уже не рвало. Он тупо смотрел в клубящийся перед ним туман, и ему было так страшно, что он боялся даже повернуться, даже оторвать руки от перил фальшборта. Им, разбуженным неведомо кем и неведомо когда, предстояло еще много потрясений, но и спустя десятки лет Женька неизменно, как самый страшный миг, как самый страшный эпизод своей жизни, будет вспоминать именно этот, когда он открыл трюм старика Билла, а потом стоял, держась за перильца, стиснутый, скованный, скрученный ужасом, и смотрел, как в бесконечной черноте полярной ночи клубится призрачный белый туман.
Страх отпускал постепенно. И не столько отпускал, сколько просто облекался в конкретные формы. Например, Женька вдруг вспомнил висевший в углу каюты смертоубийственный агрегат. Сразу пришла мысль, что это и есть тот лазер, который жуткий капитан Билл отрезает всем подряд руки. Ахинея, конечно, но, видно, Станский думал о том же.
— Где наши винтовки, ребята? — сурово спросил он.
— Моя с рюкзаком в каюте. Но вряд ли она стреляет, — сообщил Черный.
А Женька признался виновато:
— Моя утонула.
— С тобой вообще разговор будет особый, — огрызнулся Эдик, вспомнив, должно быть, сразу все Женькины закидоны. — А сейчас план такой. Забрать из каюты вещи, главное, винтовку Чернова, и очень желательно — оружие Билла. Ведь он, кажется, спит. Вот и прекрасно. Вопросов никаких задавать больше не будем. Хватит. Сразу по прибытии в этот проклятый Норд постараемся удрать. Кстати, вы поняли, куда мы плывем?
— Я понял одно, — сказал Черный, — мы идем строго на север.
— Вот именно: строго на север. И значит, Норд — это не город и не порт, а просто какой-нибудь большой корабль, дрейфующая станция, плавучая база на полюсе.
«И как это они успели заметить? — подумал Женька. — Приборов на пульте было до чертиков. Поди, разгляди, где там компас».
А Станский вдруг сказал:
— Рюш, ты извини, что я раскомандовался. Просто все надо делать быстро. Ну так как, принимаешь программу?
— В целом — да, а там посмотрим. Я бы, конечно, сдал властям этого рыжего, но кто знает, какие у них тут власти. Мы же как на чужой планете.
— Это точно, — согласился Станский. — Мы не знаем, что они делают с отрезанными руками и что они делают с безрукими людьми. Мы даже не знаем, кому они режут руки, за что и кто этим занимается. Так что не стоит лезть не в свое дело. Но там, в Норде, должна быть какая-то власть, а любая власть, будь она хоть оранжевая, хоть зелено-черная, хоть трижды фашистская, обязана относиться серьезно к пришельцам из прошлого.
— А если у них пришельцев этих пруд пруди? — язвительно спросил Любомир. — Похоже, кстати, так оно и есть — капитан-то совсем не удивился.
— Тогда должна быть система работы с пришельцами, — ответил Черный.
— И потом, — добавил Станский, — таких древних, как мы, едва ли у них много.
— А вы не допускаете, — встрял вдруг Женька, — что у них может вообще не быть никакой власти?
— Ты поэт, — улыбнулся Станский. — Только поэту может прийти в голову такая нелепая идея.
И тут они увидели Норд.
4
Это был не корабль. И не дрейфующая станция. Это было море огней, море светящихся стен и крыш. Это был город, проступавший из тумана, как проступает фотоснимок на лежащем в проявителе листке бумаги. И в центре этого города ослепительным огнем сверкала огромная, роскошная, невозможная, как сказка, башня с длинным и острым шпилем. Вокруг нее лепились многоэтажные дома, высокие и узкие, как сталагмиты — этакий Манхэттен в миниатюре. Следующее кольцо образовывали здания самых разных стилей: готика, восточный, барокко, псевдорусский, модерн. Среди них много было церквей. А в самом нижнем и самом дальнем от центра поясе пестрело множество маленьких, иногда почти плоских разноцветных флюоресцирующих домиков. И все это мигало, мерцало, переливалось. И впору было проснуться еще раз, чтобы оказавшись во льду, в палатке или просто в московской квартире, со жгучей досадой вспоминать чудесное видение и понимать, что в сны не возвращаются.
Город меж тем приближался, становясь все яснее, все четче, ярче, лоханка старика Билла пошла быстрее, тумана стало меньше, сделалось морозно, а они все стояли на палубе, глядели завороженно вперед, и было им непонятно, как это потомки, умеющие строить такую красоту, зачем-то еще рубят друг другу руки и грузят ими тесные темные трюмы. Впрочем, разве дела их предков не были такими же противоречивыми?
Первым опомнился Черный:
— Капитан проснулся. Чуете, быстрее идем. Подстрахуйте меня.
Крадучись, он подобрался к каюте. Дверь отошла почти беззвучно. Рыжий Билл спал, даже храпел, значит катер ускорился автоматически. Либо такая была программа, либо «ледотопом» управляли из города.
Черный тихо снял со стены непонятно как державшееся на ней оружие, потом вынес рюкзаки. Все сгрудились вокруг трофея. Рассматривали, осторожно трогали пальцами. И никакой это был не лазер. Тем более не бластер и не лучемет. А простой, вполне понятный автомат, помощнее только и системы незнакомой.
Женьке вдруг показалось очень странным, даже неуместным, войти в прекрасный светящийся город с автоматами наперевес. Но он ничего не сказал. Зачем? Решение принято. Они стояли теперь на носу в полной готовности. Но к чему? К тому, чего привыкли ждать в своем веке? А к чудесам века чужого, к страшным и восхитительным чудесам незнакомого мира — можно ли вообще подготовиться к ним?
— Дворцы на дрейфующих льдах строят, — ворчал Цанев, — летоисчисление изменили, руки режут почем зря… Оцениваю прошедший период времени века в четыре. Крышка нам тут, братцы.
— Уймись, Любомир, — сказал Станский, — в двадцать четвертом веке тоже жить можно. Пообвыкнемся как-нибудь. Вот старик Билл, например. Далеко ли от нас ушел? А живет.
— Старик Билл — это вообще загадка, — сказал Черный. — Не вяжется он с этим городом, никак не вяжется. И опять же архитектура — слишком уж наша. Конец двадцатого века, ей богу.
— Ну, это ты брось, — не согласился Станский. — С архитектурой как раз все понятно: город — памятник разным эпохам, музей под открытым небом.
А город-памятник был уже совсем близко. «Ледотоп» выключил свой мотор, и в наступившей тишине стало слышно, как он расталкивает носом последние льдинки, вплывая уже по инерции в специально, должно быть, подогреваемую полынью, протянувшуюся до самого берега. Заслоненный ближайшими домами город башен скрылся из глаз, от пристани виден был только вонзавшийся в небо золотой шпиль. И было в нем что-то до ужаса нереальное, что-то почти абсурдное. Женька вдруг понял, что: шпиль торчал из планеты, как кончик оси из глобуса. Архитектор, наверное, так и задумал.
Голубой светящийся квадрат возле самого берега оказался большим плакатом на ножках, с которого, написанные тоже светящимися, но густо синими буквами, смотрели четырнадцать строчек — две фразы на семи языках: английском, русском, испанском, французском, арабском, хинди и китайском. «Добро пожаловать в город Норд!» — гласила первая. «Вход в город с сеймерами категорически запрещен!» — предупреждала вторая.
— Так значит сеймер, а не сейнер, — первым высказал Цанев общую мысль. — Станский, ты все знаешь. Что такое сеймер?
— Спроси для начала что-нибудь полегче, — отозвался Эдик.
— Может, оружие какое, — предположил Черный.
— Вряд ли, — сказал Цанев, — оружие у капитана было, а сеймер он спрашивал и с помощью него собирался что-то делать с отрубленными руками.
— К чему гадать, — сказал Станский. — Наберитесь терпения. Скоро спросим у кого-нибудь.
— А вот этого как раз и не стоило бы делать, — попросил Черный. — У них же запрещены сеймеры.
— Тоже верно, — согласился Станский. — Но знаете что, очень может быть, что нам и не придется спрашивать. Сами поймем.
— Ни черта мы не поймем! — мрачно возразил Женька.
«Ледотоп» мягко ткнулся носом в причал и замер, удерживаемый непонятной силой. Старик Билл не проснулся, было даже слышно, как он храпит. Встречать прибывший катер никто не вышел, на пристани вообще не было ни души.
Черный с совершенно обалделым видом смотрел на бетонный край причала, на бетонную стену, уходившую в воду.
— Неужели вот так вот до самого дна бетон?
— Вряд ли, — усомнился Любомир. — Откуда столько бетона? Думаю, они затопили океан какой-нибудь породой, доставленной из космоса.
— Глупо заполнять океан, — сказал Станский. — Вероятнее всего, бетонная подушка лежит на сваях из сверхпрочного материала. Или еще есть вариант: при тех энергиях, которыми они тут располагают, можно было проморозить океан до дна — вот тебе и фундамент.
А Женька молчал. Ему стало невыносимо грустно, и инженерно-строительная дискуссия совсем не трогала его. Он вдруг понял, что потерял почти все, что мог потерять, хотя в той, прошлой жизни ему так часто казалось, что терять совсем нечего. Он даже бравировал этим, заявляя в разных компаниях: «Я — человек свободный. Мне, кроме свободы, терять нечего».
Кандидат в мастера по боксу, он не боялся потерять свой институт — это институт боялся потерять его. Радист, получивший квалификацию по окончании школы ДОСААФ, он всегда мог бросить учебу и найти работу. Но спорт надоел, и радио надоело. И то, и другое не жалко было терять. Отец был уже потерян. Он бросил их с матерью, когда Женьке было девять лет. Они не встречались. И он не любил отца. А мать любил постольку-поскольку, уставший за долгие годы безотцовщины от ее назойливой заботы и опеки. Быть может, он и не признался бы себе в этом, но мать он тоже не боялся потерять. Друзей всегда было много, так что и ими он не научился дорожить по-настоящему. Девушек было меньше, но были. Любимой — не было. С девушками вообще выходило всегда как-то нескладно. Ему все время было не до них. Все происходило внезапно и так же внезапно и заканчивалось. И почти никогда он не писал им стихов. А вообще стихи Женька писал с детства. Но и к творчеству своему не относился всерьез. Однажды, еще на первом курсе, по чьему-то совету показывал стихи в «Юности». И там вежливый редактор, похоже, так и не прочитавший их, спросил Женьку: «Кто ваш любимый поэт?» У Женьки не было любимого поэта, даже тогда он уже любил многих: Пушкина и Шекспира, Маяковского и Уитмена, Пастернака, Бедлера, Надсона, Вознесенского… А с собой у него случайно оказался сборник Семена Кирсанова, и так, ради эксперимента, Женька назвал его. «Ну, так это же «кирсановщина», молодой человек», — ответствовал редактор, показывая на Женькины стихи. С тех пор от редакций он держался подальше. Не печатают — и не надо. Уровень многотиражной газеты «Химик-технолог» его вполне устраивал. Но и сотрудничеством в многотиражке он тоже не дорожил.
А единственное — да, действительно, единственное — чем Женька по-настоящему дорожил, — это были воспоминания детства, воспоминания тех удивительных лет, когда отец еще жил с ними, и они все втроем ходили по выходным на утренний сеанс в кинотеатр «Аквариум» на Маяковке, а мороженое «эскимо» было круглым и в серебряной обертке, и в ларьках продавали чудесную воздушную кукурузу, а троллейбусы ездили синие с желтым и еще очень много встречалось на улицах «побед», а у мамы была красивая высокая прическа и замечательная, особенная — «воскресная» улыбка, а отец курил сигареты «Чайка» (по десять штук в маленькой пачке) и говорил с Женькой о самолетах. И много было еще всяких мелочей, которых теперь нету, но которые он помнил в подробностях, потому что именно из них складывалось его, Женькино, представление о счастье. И никому не мог он объяснить этого, даже матери (попробовал как-то, а она не поняла, расстроилась только, у нее-то свои воспоминания были), и стало это его тайной. А еще — главной отрадой, когда накатывала депрессия и уже ничего не помогало: ни портвейн с друзьями после института, ни красная линялая груша, о которую можно было с остервенением разбивать перчатки. Он начинал вспоминать, погружаясь, как наркоман, в мерцающую сладкую мглу видений, и тоска отпускала понемногу… Потом он стал уходить в прошлое все чаще. Странное, пьянящее ощущение сопричастности той эпохе жило с ним теперь постоянно. И он любил книги шестидесятых годов, журналы, газеты, песни и — главное — фильмы. Фильмы — это были целые большие куски «запечатленного времени», почти живые фрагменты прекрасной эпохи. И был особенно любимый фильм — «Кавказская пленница». Он стал для Женьки почти предметом культа. «Песенка о медведях» воспринималась как гимн эпохи, а счастливое улыбающееся лицо юной Натальи Варлей — как портрет мисс Шестидесятые Годы.
Конечно, Женька был достаточно образован, чтобы понимать: те годы имели свои плюсы и свои минусы, свои характерные черты, но в душе продолжал считать шестидесятые «золотым веком» и потому, стремясь хоть когда-нибудь вновь оказаться там, всерьез — (стыдно признаться кому-нибудь), совершенно всерьез мечтал о машине времени…
Вот таким был Женька. И так он жил. Бокс, мечты, пьянки, девушки, радиолюбительство, учеба, стихи, гитара… А потом появился Полюс. Сначала, конечно, Станский с анафом, но это было так, вроде острой приправы к мечтам, стихам и пьянкам, а потом — Черный с полюсом. И вот это уже было настоящее: цель, смысл, дело, шанс, счастье — словом, нечто, ради чего бросаешь все и уходишь не оглядываясь. Это было то, что, пусть неосознанно, но уже с самого начала он опасался потерять…
И теперь, ступив подошвой теплого унта конца двадцатого века на холодный бетонный монолит пристани Норда в сто пятнадцатом году Великого Катаклизма, он понял, что потерял это. Он потерял первое и последнее из того, что мог потерять. У него больше не было Полюса. У него ничего больше не было. И надо было все начинать с нуля.
— Ребята, проговорил Женька звенящим шепотом, — ребята, погодите! Вы хоть понимаете, что у нас с вами больше нету Полюса?
И они поняли. Черный раньше всех понял.
— Приплыли, — сказал он угрюмо. — Будь я проклят!
— Опоздали, — уточнил Цанев. — Лет на четыреста.
И даже Станский, эта бесчувственная льдина, и тот понял. Он молчал и хмуро смотрел на золотой шпиль.
— Прощальный салют, — сказал Женька и, вскинув грозное оружие старика Билла, выстрелил в небо.
— Салют, — повторил Черный, и его допотопная винтовка тоже дала залп.
А Станский, осторожный рассудительный Станский, не стал хватать их за руки. Он все смотрел и смотрел молча на сверкающий желтым металлом шпиль.
Голос раздался совсем рядом. Говорили по-итальянски или, может быть, по-испански. Человек был в форме. имел большую кобуру на поясе и сразу бросавшуюся в глаза привычку командовать. Перепуганный его внезапным появлением, Женька глупо спросил:
— Ду ю спик рашн?
— О, майн гот! — неожиданно вскричал человек в форме. — Рашн? А як же! Же парль рюс. Оф корзс. Ферштейн? Зачем шумите, ребята? Люди спят, — наконец-то он сказал то, с чего, видимо и начал на своем языке.
— Мы приносим наши извинения, — подоспел Черный, вмиг почувствовав ответственность за всю группу. — Мы не знали, который час. Полярная ночь, понимаете ли.
— А какая разница, который час? — недоуменно сказал местный полицейский. — Вы что, не понимаете, что это спальный район?
Таким неожиданным вопросом Черный оказался выбит из разговора, и пришлось вступить Станскому:
— Мы прибыли случайными попутчиками вот на этом судне.
И он показал на нелепо торчащий у берега, очень похожий на старый, просящий каши ботинок, «ледотоп» рыжего капитана.
— А, ледовый башман старика Билла! — воскликнул полицейский, словно только теперь увидел причалившую посудину, потом спросил: — Вы первый раз в Норде?
Все дружно кивнули.
— Добро пожаловать, друзья! — страж порядка расплылся в улыбке и даже снял свою голубую фуражку. — Вы прибыли в самый лучший город на свете. Только у нас вы сможете по-настоящему отдохнуть, только у нас найдете настоящую работу, только у нас познакомитесь с настоящими людьми… Впрочем, все это вы, конечно, знаете, — прервал он вдруг сам себя и представился, приложив три пальца к фуражке: — Майор Кальвини.
— Очень приятно. Станский, — сказал Эдик.
— О, у вас знаменитая фамилия! — заметил Кальвини.
— А я и сам знаменитый, — обиженно сказал Эдик, не зная точно, его ли имеет в виду этот человек.
Майор улыбнулся. Потом представились остальные. Приятная была обстановка. И как-то сразу забылись все страхи. и непонятно было, в кого тут стрелять. Не в этого же майора Кальвини, такого симпатичного и любезного. Он представитель власти. Так где же бдительность? Где диктат? Что-то совсем непохоже на ужасную тоталитарную систему, в которой подавляется все разумное и доброе, а инакомыслящим рубят руки. И Женька шепнул под шумок Черному:
— Скажем?
И показал глазами на «ледовый башмак». Черный решительно кивнул.
— Господин майор, — начал он, потом осекся (почему, собственно, господин?), но Кальвини не отреагировал, и Черный продолжил: — Мы хотели сообщить вам, что у Билла в трюме довольно странный груз… У него полный трюм отрезанных… ладоней.
— А, — Кальвини только рукой махнул, — старина Билл в своем репертуаре. Небось Хантега с Артемом опять наворотили. Идиоты! Но что поделаешь, — он развел руками, как бы извиняясь перед гостями города, — дуракам закон не писан. — Потом перешел на торопливый и решительный тон. — Ну, значит так, друзья. Вот это пятый радиус, — он показал на начинающуюся у пристани улицу, — пойдете по нему прямо, прямо, прямо, пересечете два кольца и через ворота попадете в центр. Андерстэнд? И не стреляйте больше. Договорились? Будьте счастливы. Чао.
Он повернулся и быстро зашагал в сторону города. Большая кобура смешно подпрыгивала у него на боку.
5
— Какие будут мнения? — поинтересовался Станский.
— Идти в центр, — простодушно ответил Любомир, — здесь тоска зеленая.
— Присоединяюсь, — сказал Черный, — идти надо, но насчет тоски — не согласен. По-моему, здесь очень весело: каждому можно носить оружие, а стрелять нельзя только потому, что люди спят. И уж конечно, отрубленные руки — здесь дело житейское. Подумаешь, какой-то Артем нарубил спьяну — что ж с него, с дурака возьмешь… Слушайте! А может, у них перенаселение? Чем больше народу перебьют, тем лучше.
— Бред, — сказал Цанев, — скажи еще, что у них очень много лишних рук. В некоторых странах — буквально по пять-шесть на душу.
— Ну, не знаю! — Черный обозлился. — Сумасшедший дом какой-то.
— А я не верю, что они могут рубить кому-то руки.
Это сказал Женька. Он долго думал и пришел к выводу, что ни о какой изощренной жестокости в этом мире не может быть и речи. Идеалист, скажут ребята, поэт, пусть подсмеиваются, а он все равно уверен в своей правоте.
— Может быть, эти руки не настоящие, — высказал Женька одну из утешительных догадок.
— Ну, знаешь, — Любомир даже обиделся, — кто здесь врач, Евтушенский, ты или я?
— Ты врач двадцатого века, — напомнил Женька, — а это могут быть руки биороботов.
— Запчасти что ли? Не смешите меня, дуся, я человек, измученный анафом.
— Кстати, рубить руки андроидам, может быть, еще большее варварство, чем людям, — заметил Станский. — Во всяком случае, это еще более ненормально. Больной мир.
— И все равно не верю, — упрямо повторил Женька. — Не верю. Просто здесь все по-другому. Слишком по-другому. Нам не понять.
— Ребята, не расслабляться, — в голосе Черного зазвенели командирские нотки. — Женька тут наплетет. По-другому, не по-другому — у нас с вами пока свои законы, своя жизнь, и мы ее должны защищать. Ясно? Старик Билл пьян, майор Кальвини — добродушен, а каким будет третий, мы не знаем. Так что — не расслабляться!
Но третий оказался таким, что не расслабиться стало совсем трудно.
Они уже отмахали по спящей улице почти квартал, и Женька, все время приволакивающий ногу, первый раз позволил себе пожаловаться, что ему трудно и хорошо бы идти помедленней, когда стало видно, что за перекрестком ряды все более высоких домов и гирлянды фонарей, бессмысленно ярких на фоне светящихся стен, начинают слегка поворачивать вправо. Вот тут-то и появился третий представитель нового века. Точнее, появилась. Она была стройная, фигуристая, черноволосая и очень хорошенькая, но поначалу все четверо, как они потом признались друг другу, приняли ее за робота. Наверно, под влиянием последнего разговора. Но вообще-то было с чего. Но вообще-то было с чего. На незнакомке сверкал скафандр — настолько облегающий, что она казалась обнаженной, тело выглядело как отлитая из серебра статуя, а голову накрывал сферический прозрачный шлем. На ногах прорисовывался каждый палец, но под ступней угадывалась довольно толстая, слитая со скафандром воедино, подошва. И еще — кобура на правом бедре из такого же серебристого материала. И, наконец, движения — медленные и как бы слишком правильные для человека.
Чем ближе она подходила, тем становилось яснее, что это, конечно, женщина, девушка, а не машина. Было только неясно, как можно не мерзнуть под такой пленкой, но вопросы, подобные этому, пришли позже, а поначалу был почти шок.
— Держите меня, — сказал Любомир, — я пять веков женщину не видел.
Станский мечтательно улыбался. Черный смотрел так, словно на него надвигалась пантера, восхитительно красивая, но смертельно опасная. А Женьку бросило в жар. Мир вокруг него закачался, поплыл дрожащими разводами, как бывает в кино, и только прекрасная незнакомка, идущая ему навстречу мягкой чарующей походкой, виделась ясно, резко, все резче и резче с каждым шагом.
«Гипнотизирует, стерва», — подумал Женька, но это была первая и последняя вспышка враждебности. А потом накатило откуда-то такое знакомое по мечтам о прошлом ощущение счастья. И Женька задохнулся от этого счастья, и смотрел в веселые рыжие глаза за стеклом скафандра, и ему казалось, что он смотрит в прошлое, в благословенную эпоху шестидесятых — уж такое лицо было у этой девушки. Счастливое лицо. В своем времени, откуда они четверо пришли, откуда они — к чему теперь кривить душой — попросту удрали, Женька никогда таких лиц не видел. Он видел их только в кино. И мечтал о них…
Женька смотрел в рыжие глаза незнакомки, и было тихо-тихо, и все двигались так, будто это фильм, снятый рапидом. Медленно-медленно опускалась стройная металлическая нога девушки, медленно-медленно взлетала ее рука, невообразимо медленно поднимал свою винтовку Черный, и Женька, успевший подумать, что скафандр должен быть пуленепробиваемым, вдруг увидел свои руки, едва заметно, но совершенно недвусмысленно разворачивающие тяжелый автомат Билла в сторону Черного, а Станский медленно-медленно поднимал глаза на Женьку.
Обстановку разрядил Цанев.
— Добрый вечер, мисс, — сказал он, и кадры снова замелькали в нормальном темпе. Никто ни в кого не стрелял. Наваждение пропало. — Мечтаю познакомиться с вами. Цанев, Любомир, врач-гинеколог.
«Врет и не краснеет, как всегда», — подумал Женька. Цанев был терапевтом.
— Привет, — сказала незнакомка. — Меня зовут Ли. Крошка Ли.
Общедоступности в Норде русского языка, должно быть, уже не стоило удивляться, но это «привет» было как-то уж слишком просто.
— А у вас знаменитая фамилия, — добавила Ли, обращаясь к Цаневу, и Женька подумал: «Неужели мы тут действительно знамениты, как погибшие покорители полюса? Вот это будет номер!» Цанев же почел за лучшее промолчать.
А Ли спросила:
— Куда путь держите, добры молодцы?
— В центр, — не задумываясь сказал Любомир.
— Впервые в Норде?
— Так точно! — это уже отрапортовал Черный.
— Рекомендую отель «Полюс». Лучший в городе. Как у вас с исходным кредитом?
— С исходным кредитом? — Черный был озадачен.
— Понимаю, — смутилась вдруг Ли, словно задала бестактный вопрос, — вы решили подписать чеки на весь остаток жизни. Кротов и Шейла будут вам лично признательны.
И тут не выдержал Женька. От всей этой непонятицы пропадало для него фантастическое очарование Крошки Ли. Было так, словно он слушал горячечный бред любимого человека. И Женька сказал:
— Милая моя Ли, мы не можем понять вас. Мы слишком долго спали. В состоянии гибернации. Мы не знаем этого мира.
Они были вполне готовы к ответу типа «Ну и что?» в духе старика Билла и майора Кальвини, но рыжие глаза Ли вдруг вспыхнули сумасшедшим радостным блеском.
— Сколько? Лет двадцать?
— Больше, — ответил Женька, боясь соврать.
— И все это время были в Норде?
— Нет… то есть… ну здесь, неподалеку.
На руке у Ли запел браслет, то ли радиотелефон, то ли таймер, и она заговорила очень быстро:
— Значит, никто на большой земле не знает о вас?
— Никто, — в этом Женька был уверен.
— Мальчики, какая прелесть! — щебетала Ли. — Я жутко спешу, поэтому вот что: обязательно поселитесь в «Полюсе», и я найду вас сегодня же вечером или… Привет, Юха!
Из-за поворота внезапно вылетела обтекаемая, как капля, ярко-красная машина, больше всего похожая на бобслейные сани. Она парила над улицей сантиметрах в двадцати, и поначалу Женька подумал об антигравитации, но когда эта сухопутная лодка подплыла ближе, стал явственно ощутим плотный поток воздуха, вырывающегося из-под нее. А сидела в лодке роскошная блондинка в таком же, как у Ли скафандре.
— Привет, Крошка, привет, мальчики, — сказала Юха, и ее красная «гондола» с тихим шипением опустилась на уличное покрытие. — Садись, поехали. Время — жизнь. Кстати, ты знаешь, что ракетника на Москву завтра не будет?
— Поеду подушкой, — Ли развела руками.
Черный кашлянул.
— Простите, вы говорили что-то про встречу в отеле «Полюс».
— Да-да, — Ли уже забралась в «гондолу», — любой номер в «Полюсе», а я буду у вас не позже полуночи. И главное, никому-никому не говорите, что вы из прошлого. Вы поняли меня? Это очень серьезно. Будьте счастливы!
— Будем ждать, — пообещал Черный с солидным видом начальника.
Цанев ухитрился поцеловать ручки обеим красавицам. Женька, глядевший на Ли неотрывно и одуревший от счастья, соображал туго. И только Станский догадался задать практический вопрос, когда лодка уже поднялась над землей:
— А сейчас, сейчас сколько времени?
— Шесть, — крикнула Юха, — Шесть часов вечера!
6
Улица, на которую они вышли, была шире той, что вела к пристани, ярче освещена, но почему-то менее ухожена, кое-где лежал снег. Направо вдалеке еще виднелась красная точка уезжающей машины, слева появилась другая машина — приближающаяся. Однако все четверо дружно решили не ждать новой случайной встречи, а двигаться прямиком в центр. До свидания с Крошкой Ли оставалось не так много времени, если учитывать всевозможные непредвиденные обстоятельства.
Миновав перекресток, где на всех углах синели большие цифры: «2» — вдоль кольцевой улицы и «5» — вдоль радиальной, а номера домов, написанные мельче, светились красным, они вновь увидели разнообразные, эффектные, вычурные здания центра. Теперь, с близкого расстояния, стало понятно, что город-сказка, город-памятник, город-музей построен как бы понарошку, составлен из уменьшенных копий знаменитых сооружений. Они узнали Нотр-Дам, Биг Бэн, Спасскую башню, Кельнский собор, Эмпайр Стейт Билдинг, Пирамиду Хеопса, Храм Василия Блаженного, Эйфелеву башню, Афинский Акрополь, Капитолий, Тадж-Махал, и много там было еще такого, что выходило за рамки знаний среднего эрудита, а специально архитектурой ни один из них не занимался. Меж тем самым забавным было то, что все эти здания стояли как бы погруженные в захлестывающий их хаос торосов. Конечно, никакой это был не лед — это было, наверное, стекло, но тщательно продуманные причудливые изломы его создавали впечатление совершенно естественного пейзажа широкой торосистой гряды, из которой торчали тут и там шедевры мировой архитектуры, словно сметенные со всей планеты сюда, на полюс, каким-то гигантским катаклизмом. И в то же время было понятно, что все сооружение образует над центром города глухой защитный колпак. И, как апофеоз победившего стихии человека, господствовала, царила надо всем невозможная, чудовищно прекрасная золотая башня, устремленная ввысь — нечто среднее между костелом в стиле «пламенеющей готики» и космическим кораблем на старте.
От созерцания города их отвлек шум пролетающего самолета. Первым рассеянно взглянул наверх Женька, а за ним и все задрали головы, как зеваки на базаре в начале двадцатого века. Это был не самолет, а наверное, тот самый ракетник, который упоминала Юха. Белый, светящийся, как диск луны в ясную погоду, продолговатый, как дирижабль, предмет двигался сначала вертикально вверх, а потом, почти остановившись, развернулся на девяносто градусов и с заметным на глаз ускорением умчался вдаль строго параллельно земле.
— Что я говорил — двадцать четвертый век! — прокомментировал Любомир.
— Тридцатый, — отозвался Женька.
— Ничего особенного, — злобно буркнул Черный, — сарделька летающая.
А Станский промолчал, обдумывал что-то.
Тем временем они вышли на первую кольцевую улицу, и Черный сказал:
— А вот и ворота.
Ворота и надвратная башня, вмерзшие в ненастоящий снег и лед, сделаны были под старину, и, как и все здесь, являлись копией чего-то.
— Ребята, — обрадовался Женька, — да это же Таллин! Морские ворота в старом городе.
Эдик и Черный кивнули, а Цанев, который в Таллине никогда не был и потому сентиментальных чувств к воротам не испытывал, первый трезво отметил, что вход наглухо закрыт, а апостола Петра поблизости что-то не видно. Проблема, однако, разрешилась до смешного просто: ворота любезно разъехались в стороны, стоило только подойти к ним. Женька поймал себя на том, что и этому как бы по инерции удивился, а ведь такие штуки и в их время были. «В том же Таллине, — вспомнил он, — в аэропорту.»
Они стояли теперь в узком и высоком, как колодец, тамбуре, и двери за их спиной закрылись, а свет сочился какой-то тусклый и странно пульсировал, так что каждый успел подумать, что вот наконец-то и попался, когда на стене напротив вспыхнуло большое табло с инструкцией все на тех же семи языках. Текст был такой: «Дорогой друг! Объединенное правительство вольного города Норда просит тебя набрать на дисплее свой персональный индекс. Если же ты впервые в Норде, дорогой друг, будь любезен, сообщи свои личные данные согласно заложенной программе, а также оставь на граф-пластинке образец своей личной подписи, а в фотокабине — свой портрет. Со всеми вопросами обращайся по б-телексу 0331. Добро пожаловать в вольный город Норд!» Вопросов было много, но как обращаться по б-телексу, никто не знал, и указаний на этот счет нигде найти не удалось.
— Что будем делать? — спросил Станский.
— Что приказано, сказал Черный. — Назад идти, полагаю, глупо, а скорее всего, и невозможно. И вообще — мы же пришли сдаваться властям.
И он первый шагнул к дисплею.
Именно там, в этой автоматизированной проходной двадцать какого-то века Женька, беспомощный и беззащитный, ощутил сполна всю нелепость железной тяжести автомата, наивно и глупо похищенного у ничего не подозревавшего старика Билла. Наверно, это был антикварный экспонат или семейная реликвия.
— Черный, — сказал Женька, — напиши там: профессия — вор. А мне стыдно таскаться по городу будущего с этой краденой пушкой-игрушкой.
— Ничего, до гостиницы допрешь, а при случае вернем капитану.
Вопросы в компьютерной программе оказались нехитрые, кроме некоторых, только уж больно неприятно отдавали они анкетой для приема на работу в «почтовый ящик».
Фамилия. Имя. Дата рождения. Дата вакцинации (здесь пришлось оставить пропуск, на который тут же выскочил вопрос — причина отказа, и Цанев хотел пошутить, но по трезвом размышлении они решили повторить ответ «пропуск»). Место рождения. Образование. Профессия. Место жительства в настоящее время. (Не было ни графы «подданство», ни графы «национальность»!) Принадлежность к политической партии. (Станский воздержался упоминать КПСС, а Черный написал — пусть знают). Те же сведения о ближайших родственниках: мать, отец, жена (муж), брат, сестра, сын, дочь (каким кощунственным фарсом было это заполнение анкеты на покойников! Но что оставалось делать?) Отношение к существующей мировой системе (опять пришлось поставить пропуск, но это была ценная информация: значит, уже есть единая мировая система. «Слава Богу, — подумал Женька и тут же себе возразил: — Система может быть и ужасной. В любом случае странновато выглядит система, допускающая существование вольного города Норда с его «рукорезкой».») Причина приезда в Норд (предлагалось на выбор: иммиграция, отдых с возвратом, отдых без возврата, экскурсия, деловая встреча, личная встреча). Они выбрали самое безобидное — экскурсию. На этом допрос кончался. Потом фотокабина выдала на экран их портреты в фас и профиль. На граф-пластинке они расписались чем-то вроде щупа на длинном проводе, и следов на ней не оставалось, а подпись возникала опять же на экране. После этого каждому из них был присвоен персональный индекс — семизначное число, которое предлагалось «ввести в память». Надо полагать, имелся ввиду компьютер, и за неимением такового пришлось использовать Женьку с его уникальной памятью на цифры (в институте он был ходячим справочником физических постоянных и телефонной книжкой всего факультета).
И, наконец, могучие двери, преграждавшие путь в город, сами собой ушли в стены. И это было, как выйти на стадион в день финального матча из полумрака и тишины подтрибунных помещений. Центр обрушился на них переплясом огней и звуков. Музыка, крики, стуки, звон, шипение, скрипы, смех, лязги — будоражащее, привычное, родное многоголосье большого города — все это было несказанно приятным после давящего безмолвия полярного дня в течение почти целого месяца и после настороженного молчания спальных районов Норда. Вакханалия света тоже радовала, но к свету они уже успели привыкнуть, просто здесь его было еще больше. Центр Норда напоминал знакомый по фильмам вечерний Токио или ночной Лас-Вегас. Только не было улиц в обычном понимании и не было автомобилей, а были лодки на воздушной подушке и — для любителей — нечто вроде игрушечных лошадок с тем же принципом движения. Все это скользило по навесным дорогам второго яруса, а первый был исключительно пешеходным, если не считать расползающихся во все стороны полос бегущих дорожек. Здания в большинстве своем упирались в прозрачный купол или, пронзая его, уходили выше, но были и такие, что размещались целиком внутри, некоторые даже дотягивались до «автомобильного уровня».
Людей было много. Одни просто шли, просто ехали (было бы глупо спрашивать, куда, хотя несколько озадачивало отсутствие сумок, портфелей, вообще ручной клади), другие стояли в очередях, толпились возле отдельных зданий, ларьков, третьи сидели, лежали прямо на земле. Были шумные, горланящие компании, некоторые — с клавишным музыкальным инструментом, носимым на ремне через плечо. Эти носились друг за другом, устраивали возню. Попадались также сидящие в позе «лотоса» и стоящие на голове. Были, разумеется, парочки. Часто встречались, например, целующиеся лежа в обнимку под стенами домов, иногда эти свалки были массовыми. Кстати, все кругом сияло чистотой, и поваляться было одно удовольствие. И вообще, при первом взгляде вся эта чехарда, вся эта куча-мала казалась достаточно невинной — просто взрослые резвятся, как дети. А вот детей-то как раз и не было. Совсем не было. Самые юные выглядели лет на шестнадцать. И еще одна особенность поразила пришельцев из прошлого: во всем центре им не встретилось человека старше тридцати, ну, может быть, сорока если предположить, что они теперь дольше сохраняют молодость. Впрочем, такое предположение тянуло за собой более смелую гипотезу. Они ведь могли научиться сохранять молодость вечно. И тогда, быть может, они сделали себя стерильными. Строго по Шопенгауэру. Женьке вдруг вспомнилась вычитанная где-то цитата (на цитаты память у него тоже была отличная): «Я сказал бы творцу: — Почему вместо половинного метода — беспрерывного создания новых людей и уничтожения живущих — ты не позволяешь совершенствоваться и жить в вечности тем, кто уже живет?» И вот у них нет детей. Жутковато. Слишком фантастично. И потом — старик Билл. Уж он-то совсем не вписывался в картину шопенгауэровского мира. Так что могла быть гипотеза и попроще: молодежный центр. Обыкновенный молодежный центр. А старики ютятся в спальных районах и, может быть, там же прячут детей от царящего в центре безобразия. А безобразия было немало. Бесчисленные, яркие, разноязыкие, прыгающие в глаза вывески и рекламные призывы говорили сами за себя и подтверждали самые нескромные догадки. Беснующаяся молодежь была, мягко говоря, нетрезвой, а точнее — предельно возбужденной и одурманенной каким-то зельем. Похоже было, что здесь, в центре Норда, разрешалось все. Здесь повсюду были рестораны, ночные клубы, бары, а кое-где совершенно открыто, с рекламой — даже наркобары; здесь процветали игорные заведения всех видов; здесь слово «бордель» писалось аршинными буквами над входом и были специальные притоны для сексуальных оригиналов — видимо, так ласково называли в городе извращенцев; здесь рекламировались секс-театры, порнокинотеатры, некое секс-цирк-шоу и еще черт знает что. Какие-то правила поведения в обществе, разумеется, существовали (несколько раз довелось увидеть в действии голубую фигуру полицейского, и гости поняли, что запрещалось приставать к гражданам, если те явно не желают с тобой общаться, запрещались так же драки, но разрешалось тут гораздо большее). Что касается одежды, ходили буквально в чем угодно. Не позволялось, очевидно, лишь оставаться совсем голышом. Но и этот запрет был достаточно условен. Женщины определенной профессии и соответствующих наклонностей виртуозно обнажались ровно настолько, насколько было необходимо. Так что запрет был явно направлен не на защиту нравственности, а на защиту интересов тех, кто содержал бордели и порнозрелища.
Женька понимал умом, как все это плохо и даже ужасался, до чего живучи человеческие пороки — ведь это ж какой век на дворе! — но душа его, застигнутая врасплох, смятенная, взбудораженная, жаждала всех этих соблазнов, таких далеких всегда, таких недоступных, таких сладостно запретных; истомившаяся по порочным наслаждениям, душа рвалась на части от восторга предвкушения. Он боялся признаться в этом, боялся выдать свою похоть, свое нездоровое любопытство, свою тягу к мрачным тайнам жизни, но он знал, что теперь, в этом мире, ему будет доступно все. Рано или поздно, но он все получит, все попробует, все узнает. Спешить было некуда. И от сознания этого делалось внутри одновременно щемяще-сладко и — пакостно, стыдно, грязно. Ведь это, по сути, был плевок в лицо самому себе. И еще — шаг назад, к обезьяне. И еще — шаг в сторону, к безумию. И еще — малодушие, мелкое, мерзкое, гаденькое; дескать, можно бы и не делать, но отчего ж не сделать, если хочется…
И так они шли сквозь этот пестрый, шумный, пахучий, жаркий содом, и пот лил с них градом (они ведь были одеты по-зимнему), и Женька бледнел и краснел, и его била дрожь от этих реклам, и от этих женщин, и от своих собственных мыслей, когда Станский вдруг сказал злобно, сквозь зубы:
— Скучно. Прав Николай Василич. Скучно жить на этом свете, господа. Продрыхли века, а очнулись все в том же свободном мире по-американски. Будь он трижды проклят.
«Пижон, — подумал Женька. — Подумаешь, был на симпозиумах в Женеве и в Дортмунде. Америку в глаза не видел, а туда же — будь проклята! Небось, мечтал о ней всю жизнь — не вышло. А теперь втихаря слюнки глотает».
— Брось, Эдик, — не согласился Черный. — А ракетник? А самокаты эти на подушке? А весь этот город посреди океана?!
— А! — Станский махнул рукой. — Для кого? Для этих ублюдков? Что им, лимузинов с телевизорами мало было?
— Философы, вашу мать! — подал голос Цанев. — От имени медицины двадцатого века уверяю вас, что всякие рассуждения на голодный желудок характеризуются немотивированной злобой в отношении всех и вся. Я жрать хочу, братцы, а вы как — не знаю.
— А куда мы вообще идем? — поинтересовался Женька.
— Мы идем в «Полюс», — сказал Черный.
— А кто-то из нас знает, где он находится?
— Стыдно, товарищ радист полярной экспедиции, не знать, где находится полюс.
— Ты хочешь сказать, что отель расположен аккурат в точке полюса?
— Уверен в этом. И если вдруг он окажется в другом месте, я позволю вам, Евтушенский, плюнуть мне в лицо.
Женьку не слишком прельщала возможность плюнуть в лицо Черному, но похоже было, что такой возможности у него и не будет. Подумав, Женька мысленно согласился с командиром. Идти точно в геометрический центр города — это была правильная идея. Во-первых, в центре издревле находилось что-то самое главное: цитадель, ратуша, храм, святыня, управляющий комплекс, в конце концов. Во-вторых, всем хотелось посмотреть на «земную ось» вблизи (почему-то они решили, что ось проходит сквозь башню до самого основания, хоть это и была явная глупость). Наконец, в-третьих, было интересно — просто как тест — не изменилась ли логика людей будущего настолько, что отель «Полюс» окажется размещен в стороне от полюса.
— И ты уверен, — спросил Любомир, — что в этой ночлежке светлого завтра нам дадут поесть?
— А Цаневу бы только пожрать, — буркнул Женька.
— И женщину, — поправил Цанев.
— В лучшем на весь город отеле не может не быть лучшего на весь город ресторана, — рассудил Черный.
— Кто знает, — усомнился Любомир. — От этих рукосеков можно ждать чего угодно. Так что я бы предпочел перекусить в ближайшей забегаловке. Видали, как их тут много?
— А чем ты думаешь платить? — поинтересовался Станский.
— Между прочим, — с гордостью сообщил Любомир, — у меня с собой десятка.
— У меня двадцать пять, — похвастался Женька.
— Идиоты, — сказал Станский. У него было рублей пятнадцать, а у всех вместе — около семидесяти. — Кому они здесь нужны, наши бумажки?
— Кто знает, — снова засомневался Цанев, — тут все так хорошо говорят по-русски…
— Если даже в ходу рубли, то не такие.
— Логично, Рюша, — Цанев согласился, — ну в отеле, что же, нас встретят, ты полагаешь, как родных, и не будут спрашивать этих самых нью-рублей?
— Не знаю, — огрызнулся Черный. — Просто нам надо в этот отель. И нету у нас других ориентиров в этом проклятом мире.
Женька никак не мог понять, отчего они так злятся, Рюша и Эдик. Да, странного и даже страшноватого обнаружилось много, но, черт возьми, все было жутко интересно. И была Крошка Ли. Женька вдруг очень отчетливо ощутил, что в нем сильнее всего, сильнее всех соблазнов и искушений его симпатия, его влечение, его страсть (он еще не решился сказать «любовь») к Крошке Ли. И теперь, когда роскошная, ошеломляющая пестрота города уже немного примелькалась, он снова думал о ней, только о ней, о прекрасной серебрянотелой девушке с пятого радиуса.
— А вот еще одна Крошка Ли, — сказал вдруг Любомир, и Женька вздрогнул, словно Цанев подслушал его мысли.
У входа в некое заведение, построенное в восточном стиле и с надписью только на хинди, собрав небольшую толпу зевак, красивая женщина с очень тонкой талией исполняла под индийскую музыку — и исполняла блестяще — танец живота. Конечно, Женька сразу понял, что это не Ли, но скафандр на ней был в точности такой же, и волосы были черные. А надо заметить, путники уже несколько раз встречали женщин в скафандрах, но ни разу они не были серебристыми, а все время цветными, более или менее прозрачными, и всякий раз, провожая взглядом их роскошные фигуры, Женька пытался догадаться, кто они: инопланетянки? Пилоты дальних рейсов? Охотницы за жемчугом?
Эта была танцовщицей. И танцевала она прекрасно. Все четверо невольно остановились и некоторое время смотрели на виртуозные, манящие таинственной прелестью движения.
— Жрать хочу, — напомнил Любомир.
— Тьфу на тебя, — сказал Черный и вдруг спросил: — Ребята, а помните Светку?
Вопрос показался глупым: кто так спрашивает о человеке, которого знаешь вот уже несколько лет и которого видел в последний раз месяц назад? Но потом, когда дошло, что ведь не месяц минул с тех пор, совсем не месяц, сделалось страшно.
— Померла давно наша Светка.
Это сказал Любомир, и в его циничной фразе, совсем не ставшей ответом на вопрос Черного, был весь ужас их положения и все пренебрежение к этому ужасу. И Женька понял, что Любомир прав, что говорить об утраченном прошлом можно теперь только так — грубо и просто — или не надо говорить вовсе.
Танцовщица меж тем закончила, наверно, она была зазывалой, многие зрители потянулись внутрь, а они четверо пошли дальше, и Женька, вернувшись мыслями к Крошке Ли, вслух предположил:
— Артисты у них, что ли, так одеваются?
Но никто ему не ответил, а когда Женька взглянул на Черного, то увидел на лице его выражение упрямства, спортивной злости и бесшабашного отчаяния, выражение человека, идущего на смертельный риск, выражение, слишком хорошо знакомое Женьке. Это был Черный, рвущийся к финишу: бегун на последней прямой, лыжник на последнем подъеме трассы, полярник на последнем километре маршрута. Черный шел к Полюсу, шел упорно и неостановимо, как безумный капитан Гаттерас у Жюля Верна, и плевать ему было, что полюс — теперь уже не точка во льдах, а шикарный отель с рестораном. Плевать! У него есть цель, и он обязан ее достигнуть.
И он заразил их всех своим сумасшедшим энтузиазмом. И взмокшие, голодные, злые, они шли, набычившись, переступая с бегущих дорожек на простые, а с них — опять на бегущие, шли, не замечая вокруг уже никого и ничего, шли, сжимая оружие побелевшими пальцами, шли, поднимаясь на мостики, перекинутые через быстроходные линии или через широкие каналы с прозрачной водой, в которой среди водорослей плавали красивые разноцветные рыбы, шли, не обращая внимания даже на появившийся справа лесной массив и замаячивший слева спортивный комплекс со знакомыми очертаниями площадок, рингов, кортов, бассейнов и большой чашей стадиона вдалеке. Они шли, зная только одно: впереди — Цель, впереди — Полюс, и Полюс возник перед их воспаленными взорами, возник из суеты, толчеи, мерцания и блеска, и они сразу поняли, что путь окончен.
7
Это было здание потрясающей архитектуры. Это была гигантская глыба льда, местами ослепительно гладкая, местами припорошенная снегом, местами сверкающая множеством кристаллов. Окон не было. Как и колпак над городом, здание отеля было прозрачным, а его верх (именно верх, о крыше говорить не приходилось) венчала такая же золотая башня, как и снаружи — огромный золотой сталагмит метров в двадцати в диаметре у основания, а вверху превратившийся в шпиль, в мачту, в ось, пронзавшую купол. И все сияло ярким до боли в глазах блеском отраженного света, льющегося непонятно откуда. И ледяная глыба дышала холодом, а золото над ней полыхало жаром, и у самого основания этот горячий сталагмит как бы плавился, тек и раскаленными до розовато-оранжевого оттенка, тяжелыми каплями оползал по морозным заиндевевшим граням огромного кристалла. И это парадоксальное, это невозможное зрелище завораживало, хотя, конечно, было понятно, что золото наверху абсолютно твердое, что лед — это вовсе не лед и что все вместе имеет комнатную температуру. Не лед-то оно не лед, а вот что? Женька, имевший по институту некоторое представление о кристаллографии и технологии роста кристаллов, задался этим вопросом сразу, еще не перестав восхищаться архитектурным шедевром. Стеклом это быть не могло: видно было даже на глаз, что коэффициент преломления гораздо выше, грани невероятного кристалла играли в лучах света, как у настоящего бриллианта. Да и по прочности для такой махины стекло не годилось. Значит, горный хрусталь, то бишь кварц. Или фианит? А может, лейко-сапфир? Но откуда же, черт возьми, этакая громадина?! Потом Женька словно очнулся: ему ли судить, откуда. Угодил дуриком бог знает в какой век — и туда же — лезет судить о здешней технологии со своими куцыми знаниями. Да что угодно это может быть! Супергиперлейко-хренатит. Или просто алмаз.
(Позднее они узнали, что все здание отеля «Полюс» действительно было сделано из алмаза).
А двери обнаружились не сразу, хотя яркая зеленая вывеска четко обозначала место входа. Двери выдавали себя лишь золотыми круглыми кнопочками размером с шарик для пинг-понга. Стоило нажать на одну из них, и тяжелые прозрачные плиты бесшумно уплыли в стены. А в просторном вестибюле оказалось прохладно, уютно и как-то очень знакомо: кресла, люстры, ковры, лестницы, лифты, кадки с фруктовыми деревьями, фонтан, длинный ряд дисплеев для регистрации и — уже совсем как приятный сюрприз — привычная, но такая неожиданная здесь фигура портье за конторкой. Портье приветливо улыбнулся. Это был здоровяк лет двадцати пяти с пышными золотыми кудрями; такая внешность как-то совсем не вязалась с его должностью.
— Мы бы хотели номер, — робко, чуть ли не заикаясь и даже забыв поздороваться, сказал Черный.
— Господа желают один четырехместный номер?
И у этого нордянина был изумительно чистый русский язык.
— Да, — согласился Черный.
— Господа желают с видом на лес?
— Да, — вновь подтвердил Черный, будто он напрочь позабыл все остальные слова.
— Рекомендую господам тридцать третий на двенадцатом этаже. Заполните, пожалуйста, — он показал рукой на четыре слабо замерцавших экрана и набрал что-то на своей клавиатуре.
А когда четверо в растерянности остановились каждый перед своим дисплеем, портье напомнил:
— Ваш персональный индекс, господа.
Вместе с индексами на экранах возникли фотопортреты, сделанные при входе в город, и некоторое время слышался тихий писк, видимо, происходило сличение внешности. Потом экраны погасли.
— Возьмите ключи, господа, — портье выложил на контурку четыре золотых монетки.
Черный сгреб их в ладонь и стал озадаченно рассматривать. Собственно, это были не ключи, а только бирки от ключей, бляшки с красиво отчеканенными рельефными цифрами номера.
— Желаю господам приятного отдыха, — сказал портье.
И все! И ни слова о деньгах. А спрашивать они побоялись. Уж больно не хотелось менять номер в шикарном отеле на камеру в полицейском участке, даже если в конце пути ждали еще более роскошные апартаменты, что, впрочем, было сомнительно. Меж тем доброжелательный, почти заискивающий тон портье действовал успокаивающе, и Любомир набрался наглости поинтересоваться, где можно поужинать.
— Господа желают ужин в номер или предпочтут провести вечер в нашем ресторане? — портье продолжал демонстрировать образец любезности.
— В ресторане, пожалуй, — Любомир переглянулся со Станским, тот кивнул. Женька мысленно согласился: побывать на публике было гораздо полезней.
— Ресторан на восьмом этаже. Желаю господам приятного аппетита.
«Черт возьми, — напряженно размышлял Женька, — неужели и в ресторане не спросят о деньгах? Не может быть, чтобы у них вообще не было денег. Впрочем, есть два варианта. Либо все приезжающие в Норд безумно богаты (что-то такое говорила крошка Ли), и тогда персональный индекс равнозначен номеру счета в банке. Либо, черт возьми, у них тут коммунизм. Но если так, то коммунизм это довольно странный…»
Они уже шли к лифту и, словно мелкие жулики, стянувшие калач на рынке, спешили затеряться в толпе. Но никакой толпы в «Полюсе» не было. Были отдельные редкие постояльцы. Молодые. Здоровые. Крепко сложенные. Красиво одетые. Не обращающие никакого внимания на вновь прибывших чудаков с оружием, с огромными рюкзаками и с обветренными лицами. Да, разумеется, незаметными быть удобно — умом они понимали это, но эмоциональное безразличие аборигенов подавляло. Быть может, поэтому неугомонный Любомир, увидев одиноко стоявшую под пальмой миловидную девчушку, одетую в этакие кожаные доспехи, пестрящие бляхами красной меди, подбежал к ней так быстро, что Черный даже не успел спросить, чего он хочет.
Разговор у Цанева с «будетлянкой» вышел короткий, но полный улыбок и выразительных жестов. Любомир почти все время стучал по часам и вернулся совершенно счастливым.
— Ты что, — спросил Женька, — договорился с ней о встрече?
Цанев молчал и глупо улыбался.
— Она сказала что-нибудь про нас? — полюбопытствовал Эдик.
— Что она тебе рассказала? — Черный произнес это страшным голосом, голосом человека, ведущего допрос. Черный вообще с тех самых пор, как они увидели эти проклятые руки в трюме, проявлял признаки шизофреника с манией преследования.
— Я узнал, — прорвало, наконец, Цанева, — я узнал, сколько лет мы проспали. Ровно сто пятнадцать.
— Как?! — это был общий выдох.
Потом заговорил Станский:
— Ты хочешь сказать, что Великий Катаклизм произошел в год нашего ухода на полюс?
— Именно. Но это не я хочу сказать — это так и есть.
Хитрый Любомир сказал той девушке под пальмой, что у него сбились все показания на часах, включая год, а поскольку часы у него древние, то и год его интересует по старому летоисчислению.
— Так это что же получается? — осенило вдруг Черного. — Изобретение анафа Эдиком и есть Великий Катаклизм?
— Вряд ли, — ответил Станский, и Женька сразу почувствовал, что Эдику хочется думать, больше всего на свете хочется думать, что это именно его изобретение перевернуло всю мировую историю — вот почему он пытается доказать обратное, — вряд ли, если б использование анафа приобрело характер катаклизма, это привело бы к регрессу. А здесь налицо явный прогресс. Учтите, сто пятнадцать лет не такой уж большой срок для создания города на Северном полюсе. Думаю, для этого понадобился какой-то более серьезный процесс, чем массовое общедоступное замораживание.
Безусловно, Эдик был прав, и Женька вдруг даже стало жаль его. Анаф, черт возьми, великая вещь! Что же там такое произошло? И главное, в тот же год! Женька поймал себя на мысли, что никогда раньше, несмотря на уйму прочитанной фантастики, не задавался вопросом, а каким же будет мир через сто лет, и потому сейчас не мог, как Эдик, с гениальной небрежностью оценить, перекрыло ли человечество нормальные темпы или отстало в своем развитии. Приходилось верить Станскому.
Возразить сумел Цанев:
— Чепуха, — сказал он. — Рисую элементарную схему Великого Катаклизма. Анаф на службе мира и прогресса. Представим себе: гибернация общедоступна. Кто захочет уйти от борьбы? Лентяи, трусы, подонки, мразь. А лучшие представители человечества принимаются, засучив рукава, — теперь им никто не мешает — строить дворцы на дрейфующих льдах. И вот прекрасный новый мир готов. Куда девать замороженную сволочь? Можно, конечно, пустить в расход. Но лучшие представители человечества гуманны. Подонков прошлого размораживают, создают им все условия. Резвитесь, теперь вы не опасны. И они резвятся, оплакивая прошлое, которое раньше проклинали, и барахтаясь в собственном дерьме. В такой, примерно, «резвятник» мы с вами и угодили. Уай нот? Как говорят англичане.
— Блестящая версия, — похвалил Женька. Ему понравились рассуждения Любомира.
— Но это же знаменитая концепция Сенклю, — хмыкнул Черный. — «Добровольная и принудительная селекция вида гомо сапиенс» — так, кажется, называлась эта статья?
— Да, — сказал оживившийся Станский, — но Любомир излагает по-своему. Так что я бы назвал это концепцией Цанева. А ты молодец, Рюша, помнишь еще наши дискуссии.
— Подумаешь, — ответил Черный, — продержать в памяти фамилию крупнейшего французского социолога и название его скандальной статьи в течение каких-то ста пятнадцати лет! Раз плюнуть.
И тут они вспомнили, что направлялись к лифту. В лифте тоже не обошлось без приключений. В кабину к ним вошла та самая девушка в кожаном с медью костюме. Любомиру она улыбнулась, как старому знакомому, но разговаривать была явно не намерена. Женька отметил про себя, что в глазах ее промелькнуло что-то необъяснимо странное, если не сказать, жуткое. Свой этаж девушка не назвала, и Черный растерянно произнес:
— Нам на двенадцатый.
После чего лифт бесшумно тронулся.
И вот тогда девушка, стоявшая в углу, закрыла глаза и стала медленно оседать на пол. Это было так неожиданно, что ни один из четверых даже не успел еще ничего сказать, когда лифт внезапно остановился, двери открылись, и вошли двое парней в джинсах и коротеньких курточках, точь-в-точь таких, какие носили сто пятнадцать лет назад. Парни перекрестились, потом очень грубо подняли девушку под мышки, с непонятной тщательностью изучили ее часы и, совершенно не обращая внимания на стоящих в лифте пришельцев, шагнули в дверной проем. Цанев первым вышел из оцепенения и, еще не придумав, что сказать, просто схватил одного из парней за рукав. Тот обернулся и произнес несколько слов на незнакомом языке.
— Что с ней? — спросил Цанев по-русски.
— Глупый вопрос, — по-русски ответил парень. — Она мертва.
— Вы что, врач?! — обозлился Цанев. — Может быть, ей просто стало плохо.
Парень выразительно постучал себя пальцем по голове, причем было ясно, что за сто пятнадцать лет смысл этого жеста изменился не слишком, а его спутник повернулся и, равнодушно двигая челюстями (он что-то жевал), коротко и непонятно выругался. После чего оба вышли на этаж и, не оглядываясь, поволокли недвижное тело по коридору. Двери лифта сомкнулись.
— Двенадцатый, — повторил Черный.
Кнопок в кабине не было, и он уже понял, что лифт воспринимает голос.
— Напьюсь, — сказал Любомир и в бессильной ярости сжал кулаки на лямках рюкзака.
— Все напьемся, — мрачно откликнулся Черный. — Только сначала я хочу избавиться от этой винтовки. Вы себе не представляете, как мне хотелось выстрелить! И не потому, что я собирался убить его. А просто, чтобы меня и мою винтовку, наконец, заметили, просто, чтобы расшевелить это болото!
— Ну, убил бы ты одного, — спокойно сказал Станский, — а второй поднял бы его и, не сказав ни слова, выволок бы из лифта два трупа.
— Сумасшедший дом, — сквозь зубы процедил Черный.
— Что-то вроде, — серьезно согласился Станский. — Думается, Норд — не совсем обычный город.
Дежурного на этаже не было. Не было и столика для дежурного. А у двери с номером 1233 они сразу поняли, как обращаться с ключами: вместо замочных скважин здесь были прорези для жетонов, как в метро. С противоположной стороны двери жетон падал в специальный карман.
— Подумаешь, «двадцать первый век»! — проворчал Цанев.
— Стиль «ретро» — предложил Женька.
— Именно, — подтвердил Станский. — Про что я и говорю, мужики. В концепции нашего эскулапа Цанева мне нравится то место, где он определяет Норд как резервацию для размороженной сволочи. Похоже на истину. Здесь слишком много примет нашего времени, а объяснение предельно просто: они и есть наши современники, и среди здешнего золота, хрусталя и мотоциклеток на воздушной подушке смотрятся идиотами. Ну, а на большой земле все иначе. Не верю, что весь мир такой.
— А я верю, — сказал Черный. — Все очень естественно. Катаклизм двинул вперед экономику, а нравственность, как водится, отбросил назад. И вот через сто лет у них всепланетное изобилие, в котором живут зажравшиеся свинки. Нет, хуже — жестокие, равнодушные моральные уроды. Уай нот? Как говорит Цанев.
— Чудовищный пессимизм, — заметил Женька, — дремучий пессимизм.
— И между прочим, тоже не ново, — сказал Станский. — В наше время такое будущее пророчил людям американец Стейнбридж.
— Слушайте, философы, сейчас я кого-нибудь пристукну, — Любомир стоял уже голый на пороге ванной в предвкушении горячего душа. — Давайте все делать быстро. Жрать хочу.
— Погоди, Цанев. А как ты думаешь, — спросил Женька, — эта девушка в лифте, она была мертвая?
— Я думаю, — раздельно и зло произнес Цанев, — что мы этой девушке ничем помочь не могли.
И хлопнул дверью.
— Не зли эскулапа, Евтушенский, — посоветовал Черный. — Думаешь, ему легко?
— А думаешь, мне легко?! — взорвался Женька.
— Всем трудно, мужики, — встрял Эдик. — Не надо ссориться. Ссориться нам нельзя. Нас только четверо, и мы должны держаться вместе. А ты, Женька, вообще помалкивал бы. По законам двадцатого века ты — преступник. Не забывай об этом.
А Женька и впрямь уже забыл о своей выходке там, в далеком прошлом, о выходке, давшей начало всей этой страшненькой истории. А, впрочем, такая ли уж она страшненькая? Так ли уж плохо, что они попали сюда, они — четверо несчастных детей больного века, которым нечего было терять. Еще спасибо скажут за экскурсию в будущее. А то — ишь, раскудахтался: преступник! преступник! Псих гениальный.
Но вслух Женька ничего не ответил Эдику, и тот не стал продолжать.
— Здесь есть второй душ, — поведал Черный. — Я пошел.
8
В ресторан они пришли как раз вовремя. Вот-вот должна была начаться вечерняя программа варьете. Об этом сообщил официант в белоснежном костюме с зелеными отворотами, который проводил их за свободный столик в центре зала почти у самой эстрады и очень скоро вернулся с меню в руках. В меню обнаружилось много знакомых названий, и настроение у четверки пришельцев из прошлого начало резко улучшаться. Ресторан «Полюс» вообще оказался удивительно симпатичным с его изысканным обслуживанием по высшему разряду, с его приятными белыми столиками и удобными мягкими темно-зелеными креслами и диванчиками, с его изумрудными коврами, похожими на поросшие травой дорожки, и большой зеркальной площадкой для танцев, с его радужно искрящимися люстрами, с его белыми и ноздреватыми, как весенний снег, стенами, с его роскошной, мощной, в три обхвата, уходящей в пол и потолок «земной осью», сияющей чистым золотом. Ось расположена была точно в центре зала, а вокруг оси ходили три белых медведя, старательно терлись об нее боками и то и дело норовили встать на задние лапы, словно хотели лечь спиной на золотую поверхность, и ось поворачивалась, как бы вращаемая ими, и звери были такие настоящие, что Черный даже пошутил:
— Эх, жаль винтовку в номере оставил!
А Женька смотрел на медведей и не мог отвести от них взгляда. Внимание его друзей уже переключилось на меню, Любомир громко зачитывал наименования понятных и непонятных блюд, а Женька слушал вполуха и все смотрел и смотрел на ось и на медведей.
«Не может быть, я просто схожу с ума. Ну, при чем здесь песня шестидесятых годов. Вон ребята даже и не вспомнили. Ну, ось, ну, медведи, ну и что? Элементарное совпадение».
И тут зазвучала музыка. И Женьку бросило в дрожь. Волшебные ноты простой, но прекрасной мелодии Зацепина нельзя было спутать ни с чем.
Где-то на белом свете, Там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи О земную ось. Мимо плывут столетья, Спят подо льдом моря, Трутся об ось медведи, Вертится земля…Черный, Станский и Цанев замерли и перестали говорить. Строки старой песенки били не в бровь, а в глаз, словно сочиненные только что. После припева вновь зазвучал первый куплет, но теперь уже на английском языке.
— Ты смотри-ка! — сказал Эдик. — И через сто лет живы песни нашей юности. Кто бы мог подумать!
— Женькина любимая, — вспомнил Черный. — Специально для него заводили. А помнишь, Евтушенский, как Светка под эту песенку отплясывала?
А песня звучала уже по-французски, потом по-испански. Потом — на каких-то восточных языках. И Женька понял, что здесь это нечто вроде позывных к началу программы, нечто вроде гимна отеля «Полюс», а может быть, и города Норда. Но почему? Ведь не для того же раскопали эту древнюю песню, чтобы теперь поиздеваться над ним, над Женькой, сбежавшим из настоящего в будущее, а оказавшимся в прошлом, в благословенных шестидесятых — с Крошкой Ли, так похожей на «кавказскую пленницу», с чудной песенкой, принадлежащей той эпохе… Необходимо было узнать, в чем тут дело.
Женька встал и подошел к соседнему столику.
— Простите, я впервые в Норде. Вы не смогли бы объяснить мне, почему здесь исполняется именно «Песенка о медведях»?
— Как, вы не знаете?! — воскликнул курчавый юноша в смокинге, явно рисуясь перед своей спутницей.
Он оказался из той породы людей, которым доставляет истинное удовольствие выдавать какому-нибудь простаку общеизвестные вещи за сногсшибательную новость. И Женька узнал, что по результатам компьютерного анализа еще в 2001 году «Песенка о медведях» 1966 года была признана лучшим шлягером всех времен и народов по разряду песен, имеющих отношение к полярной тематике. Женька воспользовался случаем и как бы невзначай спросил:
— А Норд-то в каком году построили? (Дескать, вечно я забываю эту дату).
Курчавый ответил обстоятельно:
— Начали еще в прошлом веке, а закончили в 2025-ом.
Потом он подманил Женьку пальцем и шепнул ему на ухо:
— Вы что, юный квазист?
— Нет, — сказал Женька и соврал. Он просто еще не знал тогда, что все они четверо по сути дела юные квазисты.
— Ну что, забавно? — спросил Женька, изложив весь свой разговор друзьям.
— Впечатляет, — сказал Черный. — Чем дальше в лес, тем больше дров.
Принесли водку и коньяк в графинчиках, две бутылки вина, закуски. На круглой эстраде, охватившей кольцом ось с медведями, шло яркое эстрадное представление с песнями, танцами, трюками, полуобнаженными девочками, то и дело сбрасывающими еще какие-то предметы своего туалета. И было оно в общем достаточно заурядным. Гости из двадцатого века отметили, разумеется, достоинства аппетитных фигурок танцовщиц «Полюса» и их безусловное мастерство, но мастерство поваров произвело на них более сильное впечатление, и, когда на сцене происходили не совсем понятные вещи или, наоборот, вполне понятные вещи в зале возникала странная реакция, они поначалу не придавали всему этому значения. Фантазия дельцов шоу-бизнеса всегда была неисчерпаемой, а люди с годами меняются. Но потом отдельные моменты в выступлениях артистов стали навязчиво повторяться, и не заметить это было уже невозможно.
Например, фокусник-иллюзионист жонглировал оранжевыми, похожими на апельсины мячами, которые внезапно прямо в его руках стали превращаться в этакие ящички наподобие портативных магнитофонов, ящички в свою очередь незаметно подменялись серебристыми, размером со спортивное ядро шарами, и, наконец, те вновь становились оранжевыми. Их фокусник один за другим ронял в отверстие в полу, а последний шар, оставшийся в его руках, оказывался настоящим апельсином, и под восторженные крики публики артист чистил его и съедал несколько долек.
Конечно, фокусник работал красиво, но чувствовалось, что экзальтация толпы не пропорциональна мастерству артиста и связана с чем-то еще.
Самое интересное началось, когда под рев, топот и визг на сцену выбрался из люка (а именно так появились и все остальные выступавшие) худощавый парень в линялых джинсах, трепаных кроссовках «Арена» и майке с эмблемой Олимпиады-80. Была у него короткая стрижка, темная бородка клинышком под Иисуса Христа и большие карие глаза.
— Витька! — невольно вырвалось у Черного.
Конечно, это был не Витька, но, черт возьми, кривлявшийся на сцене артист, как две капли воды, походил на Витьку Брусилова.
— Брусника, — прошептал Женька.
— Помер наш Брусника, — отозвался Любомир.
И, не говоря больше ни слова, все четверо дружно опрокинули свои рюмки.
А меж тем лже-Брусилов отплясывал на сцене сумасшедший танец. Изломанные движения были красивы и страшны одновременно. И чем больше Женька смотрел, тем лучше понимал, что никакой это, конечно, не Брусника, да и похож-то весьма относительно, так, наваждение одно, ностальгия, тоска по прошлому.
Внезапно сверху свалился огромный апельсин, и похожий на Витьку артист замер перед ним в нелепой позе. А кожура апельсина раскололась с треском на несколько долек, и вместо мякоти, как в старой итальянской сказке, внутри оказалась ослепительной красоты девушка в белоснежном купальнике. И она была страшно похожа на Светку, но это уж, конечно, с пьяных глаз, все они, красивые, на Светку похожи.
Вдруг все на сцене и в зале сделалось черно-белым. Монохроматические лампы врубили, догадался Женька, но от догадки этой легче не стало. Разум захлестывало ощущение ирреальной жути. Красавица из апельсина изламывалась еще ужаснее, чем лже-Брусилов, и медленно наступала на него, выбрасывая вперед скрюченные ноги и руки. И лже-Витька дергался, сгибался, корчился и, наконец, упал. И тогда освещение стало ярко-оранжевым, а из раскрытого апельсина одна за другой начали выходить изящные девушки в легких платьицах, и каждая несла в руках давешний ящичек, точь-в-точь такой же, каким жонглировал фокусник. Они танцевали вокруг лежащего ничком артиста, а потом поставили на пол свои ящички и, не прекращая слаженных ритмичных движений, принялись срывать с себя одежду и заталкивать ее в эти самые ящички, и оттуда повалил густой дым и стал обволакивать оранжевыми клубами уже почти обнаженные тела девушек, и те начали задыхаться, хватаясь за горло, качаясь, скрючиваясь, падая, а лже-Брусилов вскочил и метался меж ними… Потом на несколько секунд стало совсем темно, а когда сцена и зал вновь возникли во всем многоцветье, на эстраде порхали стройные девушки в зеленых пачках и с букетами цветов в руках.
— Вы что-нибудь поняли? — поинтересовался Черный, возвращаясь к тарелке.
— Я понял, что все это неспроста, — изрек Станский.
— Ты необычайно проницателен, — сказал Любомир.
Следующий номер начался под звуки бравурного марша, видимо, хорошо известного собравшимся в ресторане. Уже самые первые аккорды были встречены аплодисментами и одобрительным гулом. На сцену выбрался все тот же любимец публики, только теперь он был во фраке, белоснежной манишке и лаковых штиблетах. И размахивал дирижерской палочкой. Откуда-то с потолка, с преувеличенным свистом разрезая воздух, брякнулся на эстраду неизменный волшебный ящик — любимый атрибут здешних артистов. Лже-Брусилов взмахнул своей палочкой, и маленький ящичек, казавшийся до этого металлическим, начал раздуваться, словно резиновый. И чем сильнее он раздувался, тем лучше была заметна его хитрая конфигурация: он то терял форму параллелепипеда, то обретал ее вновь, и в итоге оказался открытым с двух боков, а сверху имел углубление круглой формы. Все углы сгладились, поверхность огромной теперь коробки сияла голубовато-серым металлическим блеском, а сечение черных провалов по бокам было достаточным, чтобы зайти в них, лишь слегка пригнувшись, что артист и делал время от времени в процессе своего дурашливого танца. И когда все зрители поняли, что он надувал ящик именно для того, чтобы в него залезть, лже-Брусилов поклонился и изящным жестом вызвал на сцену ослепительную красотку, ту же как будто, что появилась из апельсина, а может быть, просто все они были на одно лицо. Красотка в брюках, плаще и с сумкой через плечо, танцуя, приблизилась к лже-Брусилову, и тот, поцеловав ее в щеку, указал палочкой на черный проем, оказавшийся чем-то вроде шторок, за которыми она и исчезла. Музыка прекратилась. Артист взмахнул палочкой и замер, раскинув поднятые руки, как черные крылья. Под барабанную дробь, звучащую все громче и громче, резиновый ящик начал мелко дрожать, и девушка в плаще, вошедшая в него слева, выскочила теперь справа с несколько ошалелым видом. Публика почему-то была в восторге, а для четверки путешественников суть этого фокуса стала ясна лишь через несколько секунд, когда из левой половины ящика вышла точно такая же красотка, очень похожая внешне и так же одетая. Было это в общем довольно глупо, но всем нравилось, и спектакль с успехом продолжался. На левую красотку, скромно вставшую возле входа в ящик, лже-Брусилов никакого внимания не обратил, правая же — повергла его в величайшее уныние. Артист запрокинул голову, карикатурно, со стоном обхватил ее руками, и со звуком молота, бьющего по пустой цистерне, врезался лбом в стенку своего ящика. И это, пожалуй, было действительно смешно. Тут же, как по сигналу, левая девица вошла обратно сквозь шторки, а правая быстро и весьма изящно вскарабкалась наверх и скрылась в углублении, после чего послышалось бульканье и шипенье, вызвавшее взрыв смеха в зале. Лже-Брусилов сделал несколько отчаянных пассов руками, музыка опять смолкла, и под барабанную дробь снова затрясся серебристый ящик. Красавица, выскочившая справа, была теперь в джинсах, в футболке и босиком. А слева вышла со скучающим видом все та же, в плаще.
— Ну, братцы, — сказал Станский, — такого сверхоригинального стриптиза я еще ни разу не видел!
Женька обозлился: ишь, специалист по стриптизам! Можно подумать, что за две недели симпозиума в Дортмунде Станский обошел все тамошние ночные рестораны. Пижон! Почему-то Женьке очень не хотелось верить, что это просто стриптиз. Но события на сцене развивались бурно, спорить было некогда, хотелось побольше увидеть, услышать, прочувствовать. И хотелось побольше понять. Черт возьми, сквозь все низменные, свинские инстинкты пробилось-таки и это лишь человеку свойственное стремление — понять. И Женька смотрел во все глаза и думал, думал, думал.
В новом наряде лже-Брусилов принял свою красавицу спокойнее, но все-таки опять в отчаянии ударился лбом о стенку, и девице пришлось вновь исчезнуть в ящике, запрыгнув в него на этот раз рыбкой, и что-то вновь булькало и хлюпало, словно огромная раковина всасывала в себя воду.
На третий раз красотка оказалась в колготках и рубашке, завязанной на животе узлом, а в ящик прыгнула красивым, профессионально отработанным флопом. В четвертый — на ней был лишь бикини ярко-розового цвета, а скрытый в полу трамплин позволил сделать сальто, прежде чем упасть в ящик. В остальном все было так же. А вот пятое появление стало сюрпризом: красотка вышла в золотистом скафандре, таком, как был на Юхе, подруге Ли. И зал ответил на это шквалом аплодисментов, криками, пальбой из хлопушек, — словом, радостью небывалой. Женька растерялся, все мысли его спутались, и что-то говорил Станский, и Черный упрямо раскрыл рот, но ничего не было слышно.
А лже-Брусилов в ответ на скафандр изобразил гнев и ярость: подпрыгивал, топал ногами, рвал на себе волосы, клочьями бросая их на пол, а под занавес огреб в охапку прекрасное золотистое тело и собственноручно запихал его в ящик сверху.
От шестого же выхода Женьку бросило в жар.
Да, танцовщица была очаровательна даже в плаще, да, тело ее было само совершенство, да, в колготках и, тем более, в бикини она не могла не возбуждать, но все это были детские игрушки рядом с ее шестым выходом. Рядом с шестым выходом этой королевы секса казались смешными и несерьезными все самые блистательные танцы Светки, все когда-либо виденные Женькой эротические сцены в кино, наконец, все, что он успел увидеть и нафантазировать здесь, в Норде.
Наготу танцовщицы прикрывали теперь лишь две ярко-салатовых звездочки на сосках, да такого же цвета узкая полоска ткани между ног. Но не это было главным. Главным были ее движения, ее позы, жесты — невероятные, неподвластные уму, гипнотизирующие.
И лже-Брусилов упал на колени, издав вопль восторга, и на коленях пополз к ней. И вот тогда в шестой раз безропотно вышедшая из ящика слева девушка в плаще подошла к коленопреклоненному артисту и, подняв его за шиворот, под веселый смех публики подтащила к ящику и затолкала туда же, где исчезали все ее «двойняшки». И снова было бульканье, а обнаженная продолжала танцевать как ни в чем не бывало. Потом та, что в плаще, взяла и проткнула пальчиком пресловутый ящик, и он стал со свистом сдуваться, сморщиваться, а обнаженная все танцевала, и, наконец, волшебная конструкция легла грудой серебристого тряпья у ног девушек, и тогда в зале погас свет.
Вспыхнул он уже при пустой сцене. Только белые мохнатые звери все так же монотонно вращали ось, и тихо, будто откуда-то очень издалека, быть может, из прошлого века, доносилась мелодия «Песенки о медведях».
9
Любомир наполнил рюмки, и они выпили, молча и не чокаясь. Выпито было уже немало, но хмель не брал их. Или почти не брал.
— Никто не желает прогуляться в сортирное заведение? — спросил Женька.
— Пошли, — сказал Цанев.
Петляя между столиками, они прислушивались к разговорам. Здесь объяснялись на разных языках, в том числе и абсолютно незнакомых, но русский был все-таки очень популярен в Норде, и фразы на нем то и дело слышались отовсюду.
— Кротов сегодня будет здесь. Я тебе точно говорю. Кротов…
— … потрясающее впечатление. Она выходит из воды вся в грязи…
— Представляешь, он прямо так подваливает ко мне и говорит: «Оранжисточка ты моя…»
— Куда ведет сценический прогресс, этого еще никто не знает…
— … разговаривать с человеком, который не может отличить зеротан-А от зеротана-Б…
— Действительно, — тихо сказал Любомир, — о чем можно говорить с таким человеком.
Женька грустно хмыкнул.
Они уже входили в сверкающий белизной и зеркалами туалет.
— …так что я не против грин-блэков в принципе, но методы!..
— Сибр твою мать, прости Господи, но это же бардак!..
— …эти антисеймерные шоу. Они, по сути, превращаются в антибрусиловские. Противно…
«Вот именно, — подумал Женька. — Антибрусиловское шоу».
И тут же: «Что?!!»
Он чуть не бросился догонять говорившего, но тот уже скрылся за дверью.
— Слышал? — спросил Женька у Любомира.
— Что? — не понял Любомир.
— Про Брусилова.
— Про Брусилова — только от тебя.
И Женька понял: Цанев ничего не слышал. Может быть, и не было ничего.
— А что такое? — спросил Любомир.
— Да так, зеротан-Б, зеротан-А, лабуда всякая.
«Схожу с ума, — думал Женька в панике. — Антибрусиловское шоу и артист, похожий на Витьку. Впрочем, Брусиловых на свете много. Ведь так? Ну, а эта секс-бомба? Вылитая Светка. Может, Цанева спросить? И ведь еще не пьян. Антибрусиловское шоу… Зеротан-Б… Сибр вас пересибр! Господи, какой еще сибр?! Схожу с ума».
И снова со всех сторон доносились русские слова:
— Пей до дна! Пей до дна!
— Апельсины только резиновые…
— …говорить по большому счету, Конрад, конечно, не дурак…
— Мамочка, куда же ты пресся?
— А вот и наши сортирные гуляки. Ну, как оно там?
Спрашивал Черный.
— Нормально. Все сделано под старину, — сказал Цанев. — Двадцатый век.
— А вообще очень чисто, — добавил Женька, — и свежайший воздух.
— Предлагаю тост за чистоту сортиров, — провозгласил Цанев.
И тут подошел официант.
— Господа желают чего-нибудь?
— Принесите, пожалуйста, сигарет, — попросил Женька.
— Марка? — спросил официант.
— «Чайка», — брякнул Женька, почему-то вдруг вспомнив детство, школьный двор, майский солнечный день и сигарету «Чайка», одну на троих, которую он тайком стянул у отца.
Официант записал. Потом наклонился над столом очень низко и шепотом спросил:
— Господа не зеленые?
— Нет, — решительно сказал Черный.
— Я так и подумал, — официант расплылся в улыбке. — Тогда могу вам предложить восхитительный деликатес, который есть сегодня в меню — девичьи соски, обжаренные в оливковом масле.
Женька поперхнулся. Цанев приоткрыл рот. Черный смешно хлопал глазами. Станский переспросил:
— Какие, простите, соски?
— Девичьи, — повторил официант все тем же шепотом. — Соски девушек шестнадцати-семнадцати лет. Это лучший возраст, — пояснил он. И видя странную реакцию гостей «Полюса», счел нужным добавить: — Господа пугливы. Я понимаю. В случае чего говорите, что это… ну, я не знаю… пикадульки, что ли, или горох. Хорошо? А вообще имейте ввиду, мы почти не нарушаем закона. Мы получаем соски в виде консервов. Мы не любим рассказывать об этом, но раз уж господа так пугливы… Так что же? Я слушаю вас.
— Давайте соски, — сказал Станский.
— Четыре порции? — поинтересовался официант.
— Три, — сказал Станский, поглядев на белого, почти как столик, Женьку.
— Я тоже не буду есть, — сквозь зубы процедил Черный, когда официант уже ушел.
— Вегетарианцы всегда были мне смешны, — жестко сказал Станский. — А абстрактные гуманисты еще более нелепы в обществе каннибалов. Мне — так будет очень интересно откушать жареных сосков. И никого, заметьте, никого я этим не убью.
— Ты псих, Станский, — выдохнул Черный.
— Надо быть проще, Рюша, — вступился за Эдика Цанев.
— Молчи, эскулап. Вы, медики, все людоеды. По определению.
А Женька ничего не говорил. Женька вспоминал трюм с отрубленными руками и представлял себе другой трюм — полный консервных банок с сосками, нарезанными с шестнадцатилетних девочек… Мелькнула идиотская мысль: сколько же должно стоить такое блюдо? Это ведь даже не соловьиные язычки… Он вспоминал отрезанные руки и чувствовал, что весь роскошный ужин может очень скоро оказаться где-нибудь в невероятно чистом сортире со свежайшим воздухом.
— Очнись, Евтушенский! — толкнул его в бок Цанев. — На вот, выпей.
Рюмка водки пошла на пользу. Тошнота отступила. Но пришел страх. Мир, в который они попали, был до жути чужим. И коварным. Он расставлял повсюду потрясающе хитрые ловушки с восхитительными приманками в виде примитивных соблазнов, в виде красоты и любви, в виде тепла и уюта, в виде таинственно воскрешенных воспоминаний прошлого. Но на поверку он, этот мир, оказался гадким, грязным, уродливым. Мир, где царила бессмысленная жестокость, разврат, каннибализм и равнодушие к смерти.
Женька порадовался, что наконец-то в голове его зашумело, потому что шум этот все-таки заглушал страх и вместо страха вылезало что-то другое: ясность, злость, даже радость. И поперли стихи. Именно поперли, грубо расталкивая все и вся, и Женька забормотал:
Братцы, невыносимо! Встань из могилы, Брусилов, Чтобы со мною вместе Жрать запеченные в тесте Руки людей Земли…— Все, привет, — сказал Цанев. — Евтушенский допился.
— Напротив, — возразил Женька. — Я очень ясно соображаю. И я им сейчас прочту.
— Что, это? — спросил Цанев.
— Нет. «Мой апокалипсис».
— Ну, давай, — сказал Цанев.
— Пусть прочтет, — заметил Эдик, — я думаю, это будет интересно.
Черный промолчал. Видно, считал, что все это не всерьез.
А Женька встал и пошел к сцене, где в это время ребята из ансамбля настраивали свою аппаратуру, вспрыгнул к ним и сразу стал заметен в своих ярко-красных штанах из полиэстера и черном свитере грубой шерсти. Он ухватился за первый попавшийся микрофон и сообщил:
— Буду читать стихи.
Раздался свист и одобрительные возгласы. Пополам. Ребята из ансамбля бросили свои дела и оглянулись на Женьку.
— Андрей Евтушенский. «Последнее предупреждение», — объявил тот. И добавил после паузы. — Исполняет автор.
Потом он начал.
Я — поэт уходящего Полудохлого мира. Я — проклятье ходячее. Я — ходячая мина С часовым механизмом. В сердце тиканье слышу! Что, брат мир, к коммунизму Навострил свои лыжи?И весь ресторан «Полюс» затих. Ресторан насторожился. Женьку слушали. «Будетляне» слушали Женьку.
Коммунизм — это дело, Если дружно и разом. Но Земли нашей тело Разъедает проказа. Прокаженных не лечат, Даже трупы сжигают… Нам похвастаться нечем — Мир к закату шагает. И в кровавом сиянье Я стою средь кошмара, И мне мало страданья, И пожарищ мне мало! Мой анапест зловещий Сотрясает планету. Тихо, люди и вещи! Дайте слово поэту. Ахнет мир, как пузырь С перегревшейся кровью. Трепещите, тузы! Я могилу вам рою В черноземе пространства, Где звезды — песчинки. Вы у власти проштрафились — Так теперь не взыщите! Меч я выну из ножен, Будет бойня — не битва! И уже не поможет Никакая молитва!.. Но до смерти за миг У последних пристанищ Я прощу тебя, мир, Если правильным станешь.Включившийся в игру ударник ансамбля где-то на середине стихотворения начал выстукивать ритм, а под конец добавил и другие звуковые эффекты. И получилось здорово. Великолепно получилось. Непризнанного поэта двадцатого столетия с восторгом принял век двадцать первый. И Женьку распирало от гордости, он спрыгнул со сцены, как, бывало, спрыгивал с ринга после боев, красиво законченных нокаутом. А теперь он нокаутировал весь мир, весь этот проклятый, чужой, непонятный, ужасный мир. Вот он валяется у него под ногами. Ох, какая это была радость! Или, может быть, счастье? Наверное, счастье.
Это уже потом, на трезвую голову, Женька подумает, как это страшно, когда сочиненное тобой в кошмаре двадцатого века «Последнее предупреждение» спустя столько лет все еще звучит как только что написанное. А в тот момент, в тот прекрасный момент было только одно чувство — чувство упоения победой.
Друзья сразу налили водки. Сухо поздравили. Подходили какие-то люди. Говорили на всяких языках. На русском чаще.
— Преклоняюсь перед вашим талантом.
— Ура Андрею Евтушенскому!
— Что же это ты пишешь, сволочь?!
— Вы специально взяли такой псевдоним?
— Да это же издевка над памятью погибшего!
— Вы из Норда?
— Ах, он из Москвы! Вы слышали, это поэт из Москвы.
— Из Москвы — и такая силища. Каково!
— Не сходите с ума. Это же дешевка.
— Просто попал в струю.
— Это тоже надо уметь.
— Вы слышите, Евтушенский, вы попали в струю!
Потом все постепенно успокоились. Грянула музыка. Начались танцы. Цанев облапил какую-то полуодетую девочку и был счастлив. Станский танцевал с красоткой в строгом черном костюме и с зеленым бантом на шее. Рюша сидел и пил водку. Женька ему помогал. Официант принес три порции обжаренных в масле сосков и к ним фирменное блюдо ресторана «Полюс» — салат из брусники с апельсинами. Сигареты «Чайка» официант тоже принес. Сигареты были те самые, шестидесятых годов. Женька уже ничего не соображал. Он вынул сигарету из пачки и закурил. «Ничего особенного, — говорил он себе, — ресторан в стиле «ретро», и сигареты в нем старые. Ничего особенного». Кажется, Женька попробовал даже сосков из тарелки Черного, к которой тот даже не притронулся. А Станский, вернувшийся с танцулек, соски жевал вдумчиво и нахваливал их божественный вкус, особенно в сочетании с брусникой и апельсинами. Цанев есть не стал, зато развел за столом настоящую медицинскую экспертизу — исследовал соски на предмет установления природы среза. Потом выпили еще, и Цанев принялся традиционно ругать себя как врача, а заодно всех советских врачей и всю советскую медицину. Станский напомнил ему, что, скорее всего, никакой советской медицины уже давно нету, а остался только один советский врач — Любомир Цанев, и с ним еще три советских каннибала в качестве гостей вольного города Норда. На мгновение Цанев запнулся, призадумался, но тут же завелся снова, так, видимо, и не поняв горькой иронии Станского.
— В нашей медицине все кругом сволочи, — поведал он.
— В науке то же самое, — возразил Эдик.
Потом они еще выпили.
Потом Женьке стало плохо.
10
Женька сидел на полу в кабине идеально, невероятно, невозможно чистого клозета будущего и, обхватив руками унитаз, мучительно выворачивался наизнанку. Уже вышли грибки в сметане и несколько разных салатов, уже вышли ореховые хлебцы с икрой и розовые ломтики ветчины, уже вышли жульены, пикули, мясные крученки и жареные соски, если это были они, уже вышли водка, коньяк и вино, уже пошла пронзительно горькая зеленоватая желчь, а его все скручивали и скручивали новые спазмы. И было это так противно, так невыносимо — и так знакомо! — что весь пестрый, страшный и безумно чужой мир отодвинулся куда-то на третий, десятый, сто двадцать пятый план. И сквозь боль, усталость, омерзение, слезы сверлила мысль: «Абсурд, абсурд, нелепость! Вот так вот дуриком, чудом, посредством невероятного стечения обстоятельств попасть в далекое, неведомое, пусть страшное, но ведь необычайно интересное будущее, и не найти ничего лучшего, как только напиться вдрызг, упрятаться в сортире и блевать над унитазом, да так, что на все, абсолютно на все стало начхать. Абсурд! Абсурд и нелепость».
Сходное чувство Женька уже пережил однажды, когда двоюродная сестра, работавшая гримером в одном из лучших московских театров, пригласила его встречать Новый Год вместе со всеми сотрудниками, то бишь и с актерами тоже. И столики были накрыты в экспозиционном зале, и было невероятно много живых знаменитостей, собравшихся в одном месте, и любопытных забавных тостов, и веселых аттракционов, и остроумнейших шуток, и просто интересных разговоров, и был чудесный капустник, и танцы, и масса симпатичных молодых артисток… И ничего этого Женька не видел или не помнил, потому что в первый же час праздника ухитрился выпить какое-то чудовищное количество водки, благо никто выпитого не считал, и остаток ночи провел над унитазом в мучениях, потом — около него на полу в полудреме, а будучи разбужен, бродил по театру, как тень отца Гамлета. И, таким образом, вся культурная программа встречи Нового Года в знаменитом театре ограничивалась для Женьки прочтением за столом принятого «на ура» четверостишия, посвященного наступающему году и прозвучавшего пророчески, как ядовитая издевка над самим собой:
Из тьмы веков угрюмо смотрят сфинксы, А в будущем щебечут соловьи. В урочный час вступая в год свиньи, Его прожить должны мы не по-свински.И теперь, согнувшись над унитазом двадцать первого века, Женька вспоминал давнюю праздничную ночь в театре и удивлялся собственному умению наступать многократно на одни и те же грабли. Причем на этот раз грабли достигли поистине циклопических размеров. И в глубине Женькиного сознания забрезжила надежда: на то, что столь могучий удар по лбу имеет право, наконец-то, стать последним.
Все эти мысли заметно смягчили тяжесть его мучений, но новый приступ нескончаемой рвоты жестоко свел на нет достигнутые успехи. Женька стоял на коленях перед унитазом и плакал. Он плакал от обиды, презрения и жалости к самому себе.
Какое счастье, что он не защелкнул дверь, когда, качаясь, ввалился в кабинку! Станский нашел его сразу, как только начал искать, и доволок до лифта, а в лифте с ним ехал уже не Станский, а какой-то тип с большим зеленым значком на отвороте куртки. Почему-то запомнился этот значок. И еще запомнилось почему-то, отложилось в подсознании, что тип ехал не просто случайным попутчиком, а ехал именно с ним, но потом, на этаже, исчез куда-то.
Дальше — опять довольно смутно — мелькание номеров дверей, и вспышка радости в голове от номера 1233, и монетка, брошенная в щель, и неодолимое желание спать, и приглушенный свет в комнате, и в этом свете серебристая фигура в кресле, и жуткое, омерзительное самочувствие, и, сквозь усталость, тошноту и головную боль, — удивительные глаза Крошки Ли и ее слова: «Дурачок! Напился, как мальчишка. Забыл про все. На вот, полечись», и маленький брусочек, под пальцами Ли выросший вдруг в коробку размером с обувную, и в ней — стакан с темной жидкостью.
Удивительная это была жидкость. Ее название, не только по систематической номенклатуре, но и официальное сокращение, было неудобнопроизносимым. На жаргоне же чудодейственный напиток величали просто похмелином. Похмелин снимал разом все неприятные ощущения и придавал человеку необычайную бодрость. Уже после первого глотка жизнь показалась Женьке не такой уж пустой и не такой уж глупой шуткой, какой в свое время посчитал ее поэт, ну а после стаканчика радист полярной экспедиции Вознесенко просто решил, что, в полном соответствии со своей фамилией, он без особого труда, взмахнув руками, сможет улететь на небо. Конечно, дело тут было не только в похмелье. Разумеется. Ведь перед Женькой во всей своей дивной прелести стояла крошка Ли. Была она все в том же скафандре, только отстегнутый шлем лежал на столе и под ним небрежно стянутые, наполовину вывернутые серебряные перчатки и серебряная сумочка, при первой встрече принятая с перепугу за кобуру, а теперь показавшаяся Женьке просто косметичкой.
— Поцелуй меня, — сказала Ли.
Такого поворота событий Женька как-то не ожидал. Он растерялся. Все это было слишком уж быстро, слишком сразу. Впрочем, быть может, в этом их новом мире так и положено. Может быть, так и надо. Кто знает? В конце концов, тем, что едва знакомая девушка просит тебя поцеловать ее, и в двадцатом веке никого удивить было нельзя. Не в том дело, что Ли так быстро, так сразу кидается в его объятия — это-то здорово, ведь он любит ее! — а дело в том, что вообще все слишком быстро, всего слишком много. Еще вчера он был окоченелым трупом во льду, а теперь… Как все завертелось! Целый мир, огромный незнакомый мир свалился ему на голову, и меньше, чем за сутки он успел пережить в этом мире все мыслимые чувства и несколько совершенно немыслимых — таких, о которых раньше невозможно было даже догадываться. Это было чересчур для одного человека. Разум не справлялся, вдалеке маячил призрак безумия. И нужно было отбросить все. Отбросить и забыть.
Ли, прекрасная Ли, он хотел ее, он ждал ее, он мечтал о ней, но сейчас он не знал, что делать.
Наверное, в этот момент было весьма глупое выражение лица. И Крошка Ли рассмеялась. Весело, звонко и очень по-доброму.
— Я тебе не нравлюсь? — спросила она сквозь смех.
И Женька не нашелся, что ответить, он только улыбнулся и шагнул к ней. И его встретила прохладная, очень похожая на нежную, шелковистую кожу, ткань скафандра, и ласковые руки, и горячие влажные губы. И он задохнулся от счастья и понял, что это — главное, а может быть, вообще единственное, что ему нужно в этом мире. Любовь была лучшим спасением от подступающего безумия. В любви он мог раствориться, в любви он мог забыть и отбросить все, как и хотел. Потому что любовь была выше и сильнее всего. Сильнее страха. Сильнее тоски. Сильнее времени. Эта банальщина — любовь сильнее времени — приобретала для Женьки новый особый смысл: ведь Крошка Ли как бы принадлежала двум эпохам сразу, как бы протягивала тончайшую невидимую ниточку из мира чуждого и страшного через Женькино сердце к миру желанному, щемяще родному и еще тогда, еще в двадцатом веке, безвозвратно утраченному.
Он так долго прижимал ее к себе, что Ли сказала:
— Пусти. Душно.
— Открыть окно? — заботливо спросил Женька.
— Окно? — не поняла Ли. — Зачем?
— Ах, да, — сказал он, вспомнив, где находится. — Действительно, какое, к черту, окно, тут, наверно, кондиционер, или как это у вас называется…
— Душно, — повторила Ли, словно и не слушая Женькину болтовню, и добавила полувопросительно и как-то на удивление робко: — Я разденусь?
Женька вспомнил, как Ли ходила в этом же наряде по морозу, и торопливо произнес:
— Да-да, разумеется.
И это тоже прозвучало очень глупо.
А Крошка Ли закинула руку за голову — вроде как собралась расстегнуть пуговицу — и вдруг рванула скафандр красивым резким страстным жестом, словно больше была не в силах терпеть его на теле, и под скафандром, конечно, ничего больше не оказалось, и Женька обмер от восторга, но вместе с тем его поразило и другое: скафандр, роскошный серебряный скафандр с белой подкладкой из материала типа полиуретана был теперь явно и окончательно испорчен, неровный лоскут ткани, оторванный чуть ли не до пояса, болтался сбоку, обнажив правую грудь.
— Порвала? — испуганным шепотом спросил Женька.
— Что? — не поняла Ли. Она явно ждала совсем другой реакции.
— Порвала, — повторил Женька и показал рукой, будто Ли могла не видеть этого. — Такую вещь порвала.
— Господи, какой ты смешной! — она улыбнулась. — Да у меня на складе еще почти тысяча костюмов до следующей поставки. И потом, если… Ой, да! Ты же не понимаешь…
Она вдруг замолчала, а он действительно не понял. Тысяча костюмов… С ума сошли от изобилия. Впрочем, рвать на себе одежду, пожалуй, это красиво и эротично. Что ж, если они могут себе позволить…
— Помоги мне, — попросила она, и это было сказано так просто, будто речь шла о том, чтобы подержать сумочку или снять пальто.
И он протянул руку и взялся за край скафандра, теплый, мягкий, но в этот момент напомнивший вдруг кожуру апельсина. Может быть, потому, что серебристая оболочка так же легко и приятно счищалась — именно счищалась, а не снималась — с аппетитного, как спелый фрукт, тела Крошки Ли. У Женьки даже мелькнула нелепая мысль, что скафандры эти только так и снимаются. Как они в таком случае одеваются, подумать он не успел. Думать было уже некогда. Думать было невозможно. Три чувства затопили все — восторг, страсть и растерянность. Она стояла обнаженная в полумраке среди отсвечивающих металлом клочьев на полу, и серебристые звездочки плясали в ее черных глазах, а губы шептали ему ласковые слова. А он не знал, не помнил, не понимал, что должен делать. Ох, с каким наслаждением он разорвал бы свою одежду, но ни шерсть свитера, ни красный полиэстр брюк были ему не по зубам, и он стал просто яростно сдергивать с себя один за другим все эти ненавистные покровы…
…И потом он оказался очень плох. Он знал это точно, знал наверняка, и все-таки Крошке Ли непостижимым образом удавалось соответствовать каждому движению его, каждому мимолетному чувству, и он видел, он знал, он ощущал, что ей было тоже хорошо с ним. И от этого оставалось странное двойственное впечатление, словно тебя ведут за руку, все время ведут, но ведут именно так, как ты сам того хочешь.
И он вдруг вспомнил, как однажды — из чисто дружеских побуждений — с ним провел бой чемпион Европы Юрий П. Превосходство Юрия было колоссальным. Женька знал это, но не чувствовал совершенно. Если он вдруг раскрывался, Юрий не бил, а лишь обозначал удар, и Женька запоминал ошибку, но оставался уверен, что в последний момент все-таки сам, именно сам, сумел уйти от удара. А ударные комбинации Женьки Юрий подчеркивал, легонько, едва заметно подыгрывая ему и смачно натыкаясь на хлесткий джеб или быстрый и точный хук. И все это дарило изумительное ощущение собственной силы и мастерства, но где-то в глубине сознания горьковатым привкусом обиды, не переставая, сочилась мысль: «Обман, обман, обман…»
Что-то подобное было и теперь. Ли до такой степени совершенно владела своим телом, что мастерства ее с лихвой хватало на них обоих. И это было прекрасно. Это было восхитительно. И это же было обидно. «Обман, обман», — стучало в мозгу. Но не хотелось верить. И он придумал для себя другое объяснение: «Она любит меня. Она меня любит!» И он повторял эти слова вновь, вновь и вновь…
11
Они лежали утомленные, не одеваясь, лень было даже встать и пойти в душ.
В голове у Женьки внезапно с удивительной четкостью проступили вопросы. Вопросов было много, и Женька выбрал главный:
— А где ребята?
— Чернов спит в соседней комнате, а Эдик и Цанев в разных номерах с женщинами. Любомиру я сама подобрала подружку.
Некоторое время Женька переваривал эту информацию. Потом спросил:
— Так значит, ты уже разговаривала с ними?
— Разговаривала! — хмыкнула Ли. — Вы все укушались в сосиску, задавали массу совершенно идиотских вопросов. Особенно Цанев.
— А я?
— Да и ты что-то вякал.
Женьке стало совестно. Ничего себе, гости из прошлого!
— Слушай, Крошка, мы же были нужны тебе для чего-то. Так?
— Так. Вы мне и сейчас нужны.
— Зачем?
Она помолчала.
— Ты не поймешь, если я просто отвечу. Тут надо начинать с азов.
— Ну так и начинай с азов.
— Я думаю, — сказала Ли. — Я думаю, как начать. Это очень сложно, зайчик.
— Почему зайчик?
— Не знаю. По-моему, ты похож на зайчика.
— Ради Бога. Хоть на крокодильчика. Только расскажи мне, как вы тут дошли до жизни такой.
— Погоди, — Ли вдруг помрачнела. — Это очень долгая история. У нас может не хватить времени.
— А мы куда-то спешим? — удивился Женька.
— Нет, но я боюсь, что очень скоро нас поторопят.
— Кто?
— Кто? — она призадумалась на мгновение. — Люди Кротова.
Женька не знал, кто такой Кротов, хотя где-то и, кажется, даже не раз уже слышал это имя, но от этой новости пахнуло родным и знакомым духом двадцатого века. Придут, скрутят, доставят пред светлые очи большого начальника, допросят по форме, может быть, даже будут бить. Но все это, в сущности, не страшно. Потому что понятно. Потому что знакомо. А по-настоящему страшна только холодная жуть неведомого и, быть может, непостижимого, с которым здесь им пришлось столкнуться лицом к лицу.
— Кротов — это ваш… — Женька замялся, — хозяин?
— Н-ну, в каком-то смысле. Игнатий Кротов — председатель партии зеленых.
— А партия зеленых — это правящая партия?
— Да. То есть, нет. Погоди. Это дурацкий вопрос. Ты меня сбиваешь. Я хотела что-то сказать. Да!
Она поднялась и подошла к столу. Взяла еще один стакан похмелина из своей «обувной коробки», предложила Женьке, он взял; потом нажала кнопочку, и коробочка съежилась до первоначального размера (стала величиной эдак с ластик), при этом из нее вырывался плотный, но постепенно ослабевающий поток воздуха. Из сумочки Ли извлекла еще три таких же предмета разных цветов, собрала их в кулак и, сказав: «Не ходи за мной», — вышла из комнаты. Вернулась она тут же, но уже без этих штучек, и Женька не стал любопытствовать, куда они девались, он просто спросил:
— Что это?
— Это? — Ли опять призадумалась (говорить — не говорить). — Это — сибры.
— Сибры?
— Ну, сеймеры.
— Сеймеры, — повторил Женька. — Значит это и есть сеймеры. А что это?
— Горе ты мое, — вздохнула Ли, — неужели ты еще не понял?
— Откуда?!
— Не знаю, откуда. Но было бы лучше, если бы это объяснил тебе кто-нибудь другой. Понимаешь, это все равно, что рассказывать ребенку, откуда берутся дети. Или представь, в твой двадцатый век является дикарь из древних времен и просит объяснить, что такое деньги. Ты бы объяснил?
— По-моему, да. Ну, деньги — это такой универсальный товар…
— И ни черта не понял бы твой дикарь. Потому что деньги — это была первооснова вашей жизни в двадцатом веке. Понятие о них всасывалось с молоком матери, не нужно было объяснять, что это такое…
— Постой! — перебил ее Женька, ошарашенный внезапно возникшей мыслью. — А откуда ты знаешь, что я из двадцатого века? Ребята сказали?
— Нет, ребята твои ничего толкового сказать не могли. Я сама начала догадываться еще там, в ресторане, когда ты читал стихи и я узнала твое имя, а потом вспомнила Станского по картинке из учебника, но все боялась поверить. Все же знали, что вы погибли. Я и думала, что это просто красивый розыгрыш: кто-то подобрал двойников и устроил весь этот спектакль. А теперь, с тобой… я окончательно поняла, что вы — та самая знаменитая четверка. Ведь так?
Вот это был номер! Впрочем, чего-то подобного и следовало ожидать. Станский вошел в учебники. Изобретатель анафа — это вам не хухры-мухры. Ну и они трое нахалявку проскочили в великие. Ну, дела!
— Слушай, Ли, но почему же нас никто не узнал, кроме тебя, раз мы такие знаменитые?
— Да потому, что здесь, в Норде, некому вас узнавать. Вся эта пьянь, приехавшая сюда, чтобы сдохнуть послаще, ничего не помнит, ничем не интересуется и ничего не принимает всерьез. Вообще-то, я думаю, узнали вас многие, но здесь не принято ничему удивляться, и потом, я же говорю, большинство, наверняка, решило, что вы не настоящая четверка Черного, а группа артистов.
— Да у вас тут одни психи! — вырвалось у Женьки.
— Не одни, — сказала Ли. — Есть еще люди Кротова. И люди Шейлы. Они вас наверняка заметили, знают, кто вы, и им не до шуток.
— И что они с нами сделают? — Женька не испугался (сам тон разговора с Ли действовал успокаивающе), но все-таки спросил настороженно.
— Ничего они с вами не сделают. Пылинки будут сдувать. Но свободу перемещений, думаю, сильно ограничат.
— Арестуют что ли?
— Что-то вроде.
— Ну и ладно. Мы давно этого ждем. Надо же, наконец, выяснить свои отношения с властями.
Женька взглянул на Ли (они опять лежали рядом) и почувствовал, что все бесчисленные и очень важные вопросы, которые он еще не задал, вновь теряют для него всякое значение.
— Ли, — попросил он, — оденься, а то я не смогу с тобой больше разговаривать.
Она окинула его оценивающим взглядом, хмыкнула и сказала:
— Есть способ более приятный.
— Но у нас же мало времени!
— Ерунда, — улыбнулась Ли и прижалась к нему.
Потом, когда сумасшедшая карусель событий завертелась опять, когда новые потрясения, радостные и страшные, посыпались на него одно за другим, когда мир вокруг оказался еще сложнее, еще непонятнее, чем представлялся поначалу, он часто вспоминал эти самые прекрасные в своей жизни минуты. И он никогда не сомневался, он знал наверняка, что ничего прекраснее просто не может быть. Потому что в объятиях Ли он почувствовал себя в том самом светлом будущем, о котором только мечтали фантасты его времени. Потому что Ли была не просто женщиной — она была женщиной совершенной, идеальной, и она была женщиной, созданной для него. И теперь уже не было никакого обмана. Не было. А была только любовь. Настоящая, более чем настоящая — любовь женщины нового века. Мир, в котором существовала такая любовь, не мог быть плохим.
— А ты растешь на глазах, зайчик, — сказала Ли. — Это было потрясающе! Пожалуй, я останусь с тобой.
Что значит «останусь»? Он побоялся спросить, потому что боялся верить в самое лучшее, но слова ее звучали эхом в его мозгу, как дивная музыка, и он их слушал и наслаждался.
И вдруг как будто проснулся:
— А люди Кротова?
— Да ну их к черту! Они нас не разлучат.
Это было не совсем понятно, но он не стал интересоваться, почему не разлучат. Люди Кротова были еще где-то очень далеко. Они еще просто не существовали реально, а Ли, нежная, теплая, ласковая, была тут, рядом, и он сказал:
— Знаешь, почему я полюбил тебя?
— А ты всегда любишь по какой-то причине? — лукаво улыбнулась Ли.
— Нет. Я вообще никогда еще никого не любил. Я не знаю, по какой причине это происходит. Но в тебя я влюбился не случайно.
Она смотрела на него и ждала продолжения.
— Знаешь, Ли, ты удивительно похожа на героиню моего любимого фильма. Это очень старый фильм. Его снимали, когда еще я был маленьким. Ты себе не представляешь, какое это было время — 1966 год! А фильм назывался «Кавказская пленница». Может быть, ты видела его? (Она отрицательно покачала головой). Ну, конечно, о чем я? Он, наверно, давно похоронен в архивах… Так вот. Первый раз я его смотрел в детстве. А потом детство кончилось, и вместе с ним ушли шестидесятые годы. Все стало гораздо хуже. Но фильм остался. Понимаешь? И героиня его была все такой же: юной, веселой, красивой. Как ты. И я любил этот фильм и ее в фильме больше всего на свете.
— А та актриса, — спросила Ли, — ты познакомился с ней?
— Нет. Но я ее встретил спустя двенадцать лет. Ты понимаешь, она осталась красивой, даже молодой, но она была уже другая, понимаешь, совсем другой человек, а той, «кавказской пленницы», не было, она исчезла безвозвратно, она продолжала жить только в фильме и в прошлом, с которого фильм был снят, как яблоко с дерева. И потому я знал, что никогда не встречу ее. Но вот встретил. Тебя встретил. И я люблю тебя, Крошка.
Ли ничего не ответила. Он только почувствовал, как приближаются ее губы и поймал их своими.
Потом он сказал:
— Между прочим, «Песенка о медведях» как раз была написана для этого фильма.
— Для какого фильма?
— Для «Кавказской пленницы».
— А… Ну, тогда будет очень просто разыскать его. Я обязательно разыщу. Обязательно, — повторила она. — А вообще, зайчик, мы все очень плохо знаем историю. По совести говоря, стыдно не знать, из какого фильма взят супершлягер. Их ведь не так много, супершлягеров. Я в музыке профан и, кроме «Yesterday» Леннона и Маккартни, «Grunlied» Штарвица да «Апельсинов с неба» Чачина, пожалуй, ничего больше и не назову.
Женька потом удивлялся, о какой чепухе ухитрялись они говорить, в то время как он не знал, что такое сеймер, а она даже не представляла себе, как четверка Черного попала в Норд и что они намерены делать дальше.
— Слушай, — вспомнил вдруг Женька, — ты говорила про этого дикаря, которому я не смог бы объяснить, что такое деньги. Я вот что хотел спросить: что же, люди двадцатого века для вас теперь дикари?
— В каком-то смысле — да. Понимаешь, мы ушли от вас дальше, чем вы от дикарей. Это трудно понять, но это так. Не обижайся.
Мурашки пробежали по коже у Женьки. «Вот оно, настоящее объяснение сверхчеловеческих способностей Ли: четверо сапиенсов в мире гомо супер! Их посадят в клетку и будут изучать». Стало зябко. Он потянулся за рубашкой и надел ее. «Да нет, чушь, не может быть, не верю. Это обыкновенные люди, и у них все так же, и хорошее и плохое».
— А я не верю, — сказал Женька вслух. — Люди в ресторане — такие же, как мы. Они меня слушали, разинув рот.
— Ты не понимаешь, зайчик, это же Норд.
— Что значит «Норд»? — вспомнились рассуждения Цанева и Станского. — Это резервация для слабоумных?
— Не резервация, но что-то вроде. Понимаешь, здесь центр зеленых, поэтому…
— Черт возьми, но ты же не объяснила мне, кто такие зеленые!
Женька начал нервничать, вскочил, принялся почему-то одеваться. Ли все так же лежала на постели.
— Зеленые, — сказала она, — это те, кто выступает против сеймеров.
— Ура! — воскликнул Женька. — Теперь мне все понятно. А сеймеры — это то, против чего выступают зеленые. Ну, а если серьезно, Ли, что же такое сеймеры? Они же сибры. Я правильно запомнил?
— Правильно. Сеймеры… — Ли замялась. — Сеймеры — это все. Сеймеры — это основа жизни.
— Черт возьми! — снова взорвался Женька. — Но как же, в таком случае, можно против них выступать? Как можно выступать против основы жизни?
— Очень просто, — сказала Ли. — Жили же вы без сеймеров — и ничего. Так вот, зеленые считают, что надо и сейчас без них жить.
— Интересно, — произнес Женька. Он уже отчаялся понять, что такое сеймер (наверно, какой-то новый источник энергии), да и так ли это важно? — А можно без них жить на самом деле, без сеймеров?
— На самом деле — нельзя. Ну вот подумай, можно было в конце прошлого века жить без электричества? Теоретически, наверно, можно, а на самом деле — нельзя.
— Я понял! — объявил Женька.
— Молодец, — похвалила Ли.
И тут раздался стук в дверь.
12
Собственно это был не стук, а удар в дверь. Никто не спрашивал разрешения войти — они просто ворвались в номер. И за те короткие секунды, что прошли от первого услышанного Женькой громкого звука до появления зеленых в проеме двери, он успел подумать с горьким чувством обиды на самого себя о том, что так и не спросил у Ли о главном. Теперь, по мгновенной ассоциации с этим грубым вторжением, главные для Женьки вопросы — об отрубленных руках, о девушке в лифте, о каннибальском блюде — всплыли в мозгу во всей кошмарности их обнаженной сути, и нелепое, но вместе с тем страшное ощущение захлестнуло Женьку: поздно, теперь уже поздно, теперь он никогда не узнает ответов на свои вопросы. И это не было ожиданием смерти или страхом лишения свободы без права задавать вопросы — о такого рода последствиях Женька подумать не успел, — а была это именно обида, наивная, смешная, детская обида на то, что он не успел спросить у Ли обо всем, о чем хотелось, и теперь, как бы ни повернулись события, все будет уже не так, не так, не так…
Гостей было шестеро. Сначала в комнату буквально впрыгнули двое в зеленой одежде, являвшей собой странную смесь военной формы и спортивного костюма. Они замерли в напряженных позах, равно готовые к стрельбе и рукопашной. В вытянутой правой руке каждый из них держал небольшую плоскую коробочку с выемкой для указательного пальца, с кнопкой под большим и с угрожающим отверстием в торце. Следом в комнату величественно вступил чернявый красавчик в элегантнейшем темно-зеленом костюме-тройке с ярким изумрудным галстуком на белоснежной рубашке. Женька отметил его тонкие руки, очень бледное, до синевы выбритое лицо, тонкие словно поджатые губы, прямой нос и большие светлые, почти бесцветные, глаза.
— Сам Кротов, — шепнула Ли, и Женька удивился: красавчик с бесцветными глазами был удивительно молод — лет двадцати пяти, не больше.
«Черт знает что, — подумал Женька. — Резервация для чокнутой молодежи, борющейся с прогрессом, и юный маньяк во главе».
С некоторым запозданием и с громкой бранью ввалился в комнату следующий типчик. Вот это был экземпляр! Крупный, рыжий, с длинными волосатыми ручищами, с жирным красным лицом, тоже очень молодой и… в форме полковника погранвойск. То есть, скорее всего, этот детина и сам не понимал, какой китель напялил, но Женька, увидевший погоны советского офицера, тут же отметил и зеленые просветы на них. За «пограничником» вошли еще двое с огнестрельными коробочками и неслышно встали сзади.
И только тогда до Женьки дошло, что милая, славная Крошка Ли лежит перед этими подонками совершенно раздетая, а он сидит на постели рядом и даже не пытается прикрыть ее. Однако Ли совсем не смутилась.
— Привет, Кротов! — сказала она, не вставая.
— Встань, шлюха!! — взревел «пограничник».
Женька невольно вскочил, но Ли поймала его за руку: дескать, спокойно. Сама она и бровью не повела. И, не удостаивая вниманием орущего бугая, вновь перешедшего на мат, обратилась к Кротову:
— Игнат, утихомирь Китариса. Он мне надоел.
— Помолчите, пожалуйста, полковник, — негромко произнес Кротов, и громила в офицерской форме затих. — А ты, Крошка-шлюшка не очень-то выступай.
— Фи, господин Кротов, от вас такое слышать! — с притворным возмущением воскликнула Ли.
И тогда Кротов взорвался:
— Хватит, грязная потаскуха, корчить из себя принцессу!
«Интересно, — подумал Женька, — что будет, если я сейчас возьму и врежу по зубам этому зеленому недоноску?»
Идея показалась настолько привлекательной, что, не раздумывая более, Женька сделал два быстрых шага и провел очень резкий прямой правой.
Дальше ничего интересного не было. Председатель еще летел в угол комнаты, а Женьку уже держали за скрученные руки двое зеленых.
— Не бить! — крикнул вскочивший Кротов. — Не бить его! Слышали? Расстреляю мерзавцев! Спят на работе! На кого засмотрелись? Бабу не видели?! Кретины!
Губа у босса зеленых была разбита, и он то и дело прикладывал к ней тыльную сторону ладони и смотрел на пятнышко крови.
— Ты что, родной, — обратился он, наконец, к Женьке, — ты вообще соображаешь? Руками махать! Они должны были убить тебя. Тебе просто повезло. Так веди себя прилично, родной. Ты не дома!
Женькины руки были вывернуты, двигаться ему было почти невозможно, и он злился. С другой стороны, видя спокойствие Ли и вспоминая крик председателя «Не бить!», он почувствовал себя довольно уверенно. Он поднял глаза на этого юного предводителя психопатов и четко произнес:
— Вы тоже не дома, господин Кротов. Вы у меня в гостях. Поэтому: первое. Попрошу обращаться ко мне на «вы». Второе. Попрошу не оскорблять мою Ли. Третье. Скажите вашим болванам, чтобы они меня отпустили (при соблюдении первых двух условий я не намерен драться).
— Ого! — удивился Кротов. — А вы держитесь молодцом! Отпустите его, ребята.
Женьку отпустили, и он многозначительно помассировал кисти.
— Сволочь ископаемая! — проворчал Китарис.
— Товарищ полковник! — рявкнул Кротов. — Я прошу вас помолчать вплоть до особого распоряжения. — И продолжил уже спокойно. — Собственно говоря, никто никому не желает зла. Мы пришли просто познакомиться. Что поделаешь, если мой друг Китарис чуточку слишком горяч… Итак. Мы узнали о вашем счастливом возвращении… м-м-м… с того света и поспешили засвидетельствовать свое почтение от имени партии, а так же администрации вольного города Норда, с тем чтобы как можно скорее ввести вас в курс событий и присвоить вам статус полноправных граждан нового мира. Я понятно излагаю?
— Вполне, — сказал Женька. Он решил не иронизировать по поводу методов знакомства.
— А вот эта женщина, — Кротов встал у постели, и Женька весь напрягся, — хочет нам помешать. Она пытается перебежать нам дорогу. — Председатель нажал что-то на стене, и в ней открылась ниша, вверху которой мигали лампочки и блестели кнопки.
— Эта женщина думает, что способна одна решать за всех.
Он набрал какой-то цифровой код, и из ниши выпал прозрачный пакет с чем-то серебряным.
— Никто не имеет права решать за всех. За всех могут решать только все. Или, в крайнем случае, партия. На, оденься.
Он швырнул пакет Ли.
— Сначала — душ, — напомнила она с достоинством и встала. — Скажи своим людям, чтобы они отошли от двери минимум на два метра. Я этим кобелям не доверяю.
— Отойдите, товарищи, — сказал Кротов. — А ты шагай, Крошка, и не надо грубить. Твой клиент из прошлого, товарищ Вознесенко, просит нас не оскорблять тебя. Так будем же взаимно вежливы.
Крошка Ли вышла, и все стояли как вкопанные. Было слышно, как щелкнул замок на двери ванной. Потом Кротов вяло приказал:
— Обыщите помещение.
Зеленые принялись за работу. Между собой они переговаривались на незнакомом Женьке языке, но он смутно догадывался, что именно ищут эти люди. А когда один из них, повертев в пальцах стакан с остатками похмелина, подозвал к себе жирного борова Китариса и они все вместе принялись громко говорить и кивать головами, догадка переросла в уверенность. Люди Кротова искали сибры.
— Поднимите второго, — распорядился Кротов, и двое открыли дверь в комнату Черного. Оттуда послышалось нечленораздельное ворчание.
— Послушайте, Вознесенко, — сказал председатель, — Евгений… Как вас по батюшке?
— Валентинович.
— …Валентинович. Вы о многом успели с ней поговорить, Евгений Валентинович?
— А что? — осведомился Женька агрессивно.
— А то, что вы об этом сами пожалеете. Крошка Ли — не совсем тот человек, который вам сейчас нужен.
Женька не знал, о чем идет речь, и потому допускал, что Кротов может быть прав, — во всяком случае частично, — но тем большую злобу вызывал его самоуверенный тон.
— А почему вы, собственно, решаете, когда и какой человек мне нужен? А если я о чем-то и сожалею, то лишь о том, что местные власти — в вашем лице, господин Кротов! — начинают переговоры с нами с оскорблений дорогого для меня человека.
Председатель смотрел на него, подняв брови. Женька добавил:
— И больше я ни о чем жалеть не намерен!
— Ну-ну, — покивал головою Кротов. — А у вас что, простите, какие-то серьезные виды на Крошку Ли?
— Для наших с вами переговоров, — в Женькином голосе слышалась тихая ярость, — это не имеет никакого значения.
— Не имеет, — согласился Кротов. — просто я хотел объяснить вам: Крошка Ли — проститутка. Разумеется, высочайшего, «серебряного» класса, но ведь проститутка же. Вот видите, а вы и не знали.
Женька смотрел на председателя, приоткрыв рот и не мигая. Зеленые обернулись и приготовились к прыжку. Но Женька и не думал драться. Он почему-то сразу поверил. Должно быть, он уже давно был внутренне готов к такому известию и только сам себе не признавался в этом. А теперь Кротов с цинизмом сутенера объявил ему правду. И это был лишь еще один штрих, пусть несколько диковатый, но — делающий безумную картину мира, в который они попали, все более и более стройной.
— Ну и чем же, по вашему мнению, я смогу заплатить? У меня же нет денег.
И в этом вопросе прозвучала последняя робкая и наивная надежда на то, во что Женька уже почти не верил: а вдруг все — таки блеф? Но Кротов рассмеялся, и надежда рухнула.
— Санкта симплицитас! — воскликнул председатель зеленых. — Да ведь Крошка Ли — старейшая из гетер Норда. Ей сто два года, и сорок из них отданы нашему городу. У нее за плечами, точнее, за бедрами, больше пяти тысяч мужчин. И каких! В ее копилке… побывали, — добавил Кротов, хихикнул, — почти все политические деятели последних двух десятилетий, крупнейшие художники, артисты, спортсмены… И вы могли подумать, что эта женщина отдается вам за просто так?! Вот уж воистину, святая простота! Да вы же — один из богатейших людей на планете. Вы можете купить всех серебряных проституток чохом. Смешно останавливаться на одной, Евгений Валентинович!
В этот момент почти одновременно из смежной спальни вышел помятый Рюша, а из ванной появилась Ли со свежей, еще влажной кожей, элегантно подпоясанная ярко-оранжевым полотенцем и трогательно прикрывающая грудь ладонями.
Женька взглянул на нее, потом на Кротова. (Сто два года и пять тысяч мужчин.) Снова на нее и снова на Кротова. (Могу купить всех серебряных проституток чохом. Зачем именно эта?) И еще раз на нее. Нет, старейшая из гетер города Норда не сделалась ему неприятна. Он вспомнил героев Достоевского, он вспомнил апдайковского Кролика, он вспомнил проституток Ремарка, становившихся верными женами. А возраст? Возраст просто не воспринимался. Сто два, так сто два. Подумаешь! Да хоть тысяча два. Ведь ничего не изменилось. Это все та же Крошка Ли, все та же «кавказская пленница», все та же…
И он сказал:
— Товарищ Кротов, вы дурак!
А Кротов не успел ответить, потому что Черный, смотревшийся необычайно импозантно в одних кальсонах, громогласно объявил:
— Господа! В качестве командира полярной экспедиции я торжественно и официально хочу приветствовать всех вас, как представителей власти, и искренне надеюсь обнаружить в вашем лице горячую поддержку и всемерное содействие…
— Не проспался еще, — тихо прокомментировал Женька и взял со стола стакан с похмелином на донышке. — На вот, Рюша, глотни.
Черный умолк и глотнул. Кротов собрался ответить, но вновь не успел — заговорила Ли:
— Тебе тут все про меня рассказали?
Но и Женька не успел ответить. Распахнулась входная дверь, и в сопровождении еще двух зеленых вошли Станский и Цанев.
— Ребята, — объявил Эдик, — я уже кое-что знаю об этом мире. Это кошмар, ребята. Считайте, что мы в преисподней.
— Чушь, — возразил Цанев, — считайте, что мы в садах Эдема. Именно такой рай и представляли себе всегда мы и нам подобные. Да здравствуют сеймеры! — добавил он голосом ведомого на расстрел революционера.
— Тихо! — рявкнул Кротов.
И все как-то вдруг разом поняли, кто здесь хозяин. В воздухе повисло напряженное молчание. Гости из прошлого переглянулись. Ли поежилась, обхватив себя за плечи. Зеленые передвигались по комнатам неслышными шагами. Китарис ругался и громыхал чем-то в ванной.
— Сядьте все, — уже спокойно сказал Кротов. — А ты оденься, наконец, Крошка. Вы ничего не обнаружили, полковник? Я так и знал, у нее все с собой, — на этой фразе Кротов глупо улыбнуться. — Можете быть свободны.
И когда Китарис и шестеро зеленых покинули номер, а Ли вновь ушла в ванную, прихватив новый костюм в пакете, председатель партии зеленых Игнатий Кротов произнес доверительным вкрадчивым голосом, словно решился, наконец, сообщить оставшимся некую страшную тайну (Женьке даже почудилось, что он подмигнул ему):
— Ну вот, друзья. А теперь я хочу показать вам одну презабавную книжицу. Дело в том, — он посмотрел на часы, — что я вынужден вас оставить на время. Так вот, чтобы вы не скучали…
Но и с забавной книжицей ничего не получилось.
Со страшным грохотом, словно не открывая, а вышибая дверь, в номер опять ввалился Китарис. Китель его был забрызган кровью и еще чем-то светлым, глаза блестели, руки беспорядочно мелькали перед лицом.
— Белые смертники! — крикнул он.
Реакция Кротова была неожиданной. Он сначала метнулся в сторону, потом рухнул на пол с явным намерением залезть под кровать, затем передумал и, чуть ли не стоя на четвереньках, визгливо осведомился:
— Где Колберг?!
— Колберг? — Китарис как-то сразу сник, потом обернулся и сказал: — Да вот он, Колберг…
В дверях появился один из той четверки зеленых, что ворвались давеча, то есть, по-видимому, один из них: узнать вошедшего в лицо не представлялось возможным. Немного осталось от его лица: левый глаз, левая щека, левая часть носа и широко раскрытый рот. А вместо правой стороны зияла в черепе жуткая, размером с кулак, дыра, в глубине которой бордовая кровь густо перемешалась с желтовато-серым веществом мозга.
— Белые… камикадзе… ушли… — прохрипел этот кошмарный зомби и тихо осел в углу прихожей.
— Дурак, — произнес Кротов в наступающей тишине, — испачкал стену в хорошем номере. Извините, товарищи.
И от этих слов председателя Женьке сделалось даже страшнее, чем от вида изуродованного трупа. «Бред, — подумал он, — опять дикий бред. А ведь уже казалось, что все позади…»
— Унесите, — скомандовал Кротов, показав на мертвого двум живым зеленым охранникам, вошедшим в номер.
И обратился к гостям Норда:
— Придется нам пойти вместе, товарищи. Просто не могу бросить вас одних в такой обстановке. Кругом грин-уайты.
— И что же? — насмешливо спросила Крошка Ли, уже вернувшаяся к этому моменту в комнату.
— А то, что я не отдам им полярников так сразу! — огрызнулся Кротов. — Хватит того, что ты Вознесенко мозги крутила.
И вдруг Китарис сказал с немыслимой для него вежливостью:
— Оденьтесь, пожалуйста. Мы спешим.
Вконец растерявшиеся полярники начали торопливо собираться.
— Я с вами, — шепнула Ли на ухо Женьке, но Китарис расслышал и процедил сквозь зубы:
— Зараза.
13
Путаница переходов, лестничных маршей, лифтов, бегущих дорожек, эскалаторов не оставляла никакой надежды новичку запомнить обратную дорогу, а если учесть, что кое-где на поворотах коридоров и у дверей маячили угрюмые личности в черно-зеленой форме, не спрашивавшие ни о чем, естественно, лишь потому, что впереди шел Кротов, становилось и вовсе очевидно: без провожатых им в номер не вернуться. Да и нужно ли туда возвращаться?
Наконец, они попали в скромных размеров зал с усыпанной песком цирковой ареной в центре и рядами кресел вокруг, поднимавшимися амфитеатром. Зал был почти полон. Черные или темно-зеленые фраки и смокинги мужчин, тех же оттенков изысканные вечерние платья женщин — публика собралась явно солидная, но, как и повсюду здесь, исключительно молодая.
«Это что же? — ошарашенно подумал Женька. — Уже опять вечер? А когда же день прошел? Или все еще ночь не кончилась?»
Их появление встретили аплодисментами, не слишком бурными, скорее, просто вежливыми, но единодушными. Вместе с Кротовым и Китарисом все четверо расположились на безусловно царских местах, предусмотрительно не занятых никем. Только Ли спустилась на два ряда вниз — видимо, проституткам не полагалось по рангу садиться рядом с партийным руководством.
— Будет представление? — робко поинтересовался Цанев.
— Да, в некотором роде, — ответил Кротов.
— А почему, собственно, сейчас? — спросил Станский, уже вполне пришедший в себя и начинавший злиться. — Мы не позавтракали, даже душ не приняли. Попозже нельзя было привести нас в этот ваш балаганчик?
— Попозже было бы поздно. Именно сейчас состоятся три самых интересных поединка.
— Поединка? — удивленно переспросил Женька. — Это коррида, что ли, будет?
Но Кротов разговаривал со Станским, а того интересовало совсем другое:
— Так значит, вашей власти, товарищ Кротов, недостаточно, чтобы перенести эти поединки?
— Недостаточно, — зеленый председатель странно ухмыльнулся и, очевидно, хотел объяснить что-то, но в этот момент грянула бравурная музыка, и с двух сторон через специальные входы на арену выскочили… гладиаторы.
Да, это намечалась не мадридская фиеста. Это был Рим, Колизей, и этих двух атлетически сложенных, одетых древними воинами юношей нельзя было воспринять иначе. В правой руке у каждого блестел начищенной сталью меч, в левой — короткий, тонкий, обоюдоострый нож. Ох, не похоже это было на безобидную игру!
Они сошлись. И публика зашумела. Но даже сквозь гул были отчетливо слышны звенящие удары металла о металл и гортанные выкрики сражающихся. Наверное, это было весьма красивое зрелище. Но Женька почувствовал слабость и дурноту. Между ним и происходящим словно повесили какую-то пленку, через которую мир смотрелся нереально и зыбко, как старый фильм, да еще не в фокусе.
«Вот где делают отрубленные ладошки», — вертелось у Женьки в мозгу, и он даже не стал делиться этой мыслью с ребятами, настолько она казалась очевидной.
А меж тем грудь одного из бойцов уже была перечеркнута длинным алым порезом, а у другого кровоточило колено, и он припадал на левую ногу. Публика заводилась все больше, и было жутко смотреть на распаляющиеся в кровожадном, сладострастном угаре лица чопорных юных дам и столь же молодых элегантных мужчин.
Закончился поединок ко всеобщему восторгу очень эффективно. Один гладиатор буквально проткнул другого мечом, но тот, уже будучи нанизанным на широкое лезвие, сумел — мыслимо ли такое? — вонзить нож в грудь противника по самую рукоятку. И оба рухнули на залитый кровью песок.
— Каково! А? — хохотнул Кротов. — Небось, у вас такого не было?
Никто ему не ответил. Станский сидел какой-то задумчивый и ненормально спокойный, словно ничего особенного не происходило. Черный плотно сжал не только губы, но и кулаки и сдерживался, похоже, уже из последних сил. Цанев, подавшись вперед и повернув голову к Кротову, неопределенно улыбнулся, пожал плечами и кивнул, руки у него дрожали. А Женька перестал чувствовать под собой опору. Он падал, падал куда-то, и были звуки, и блики, и пятна, но все это где-то там, далеко, по ту сторону загадочной пленки, а его это не касается, совсем не касается, и чего они пристают, чего они хотят от него?..
Трупы убрали, кровь замели чистым песком, послышалась вновь уже знакомая музыка, и на арену выбежали две очаровательных девушки в очень условных костюмах — набедренных повязках из ярко-зеленых листьев. Обе держали в руках длинные, кривые и, как видно, не очень тяжелые сабли.
— А вот и соски, обжаренные в масле, — произнес Женька теперь уже вслух, но фраза потонула в восторженном реве зала.
Обе красавицы передвигались по арене ловко и грациозно, но очень скоро преимущество одной из них стало слишком явным. И часть зрителей свистом и криками выказывала свое возмущение. Другая часть — одобряюще гудела.
Та девушка, что была сильнее и выше, плечистая с огненно рыжей шевелюрой, атаковала теперь непрерывно, делая широкие резкие шаги и нанося размашистые удары. Вторая, изящная блондинка, отбивалась, но с каждым разом как-то все более неловко, и наконец, сабля фаворитки, лишь слегка звякнув о косо подставленный клинок, со свистом опустилась на плечо противницы, рассекла ей ключицу и глубоко вошла в тело. Блондинка громко охнула и упала на бок. Сабля осталась торчать у нее в груди. Тогда рыжая подошла и, поставив ногу на бедро поверженной, выдернула окровавленный клинок. Блондинка дернулась, изогнулась всем телом и захрипела. После чего с рыжей случился, как видно, обморок. Но размышлять об этом было уже некогда, потому что Цанев, не выдержав вдруг, крикнул «Дура!» и рванулся вниз, к арене. Служители, которые, наверно, должны были оттаскивать закончивших выступление девиц, вместо этого кинулись наперерез Любомиру, и одного из них Любомир отпихнул так, что тот упал, а второй, оказавшийся крепче, сумел остановить разъяренного Цанева.
Пленка перед глазами Женьки лопнула. Он понял, что пора идти на помощь.
— Аптечку! — орал Цанев, которого служитель в черно-зеленой форме держал за плечи.
— Она умрет! — орал поднявшийся с пола второй служитель. — Какую аптечку?! Она же умрет, — он посмотрел на часы, — через две с половиной минуты!
И тут налетел Женька, которого никто не ждал. И служители попадали на пол, а Цанев снова рванулся на арену.
— Стой! Туда нельзя! — истошно заорал кто-то.
Но Цанев не слышал или не хотел слышать. Он уже перемахнул через парапет и подбежал к изувеченной блондинке. Кровь у нее пошла горлом и пузырилась у приоткрытого рта, а рыжая все лежала рядом без движения. И Цанев склонился над ними и что-то говорил быстро и яростно. Женька не слышал, не мог слышать слов, но он догадывался, он знал, что говорит Цанев.
— Черта с два, — говорил Цанев, — черта с два умрет она через две минуты! Да, я плохой врач, но эту — я спасу. Я спасу ее! И черта вам лысого умрет она через две минуты!..
А дальше случилось что-то невообразимое. Сверху упала клетка. Огромная клетка на всю арену с решетчатым коридором к одному из выходов. И освещение сделалось красным. И уже Кротов подпрыгнул с кресла и завопил:
— Уберите клетку, идиоты!!!
Но было поздно. Что-то там у них работало автоматически и, похоже, лишь в одну сторону. Через ближний вход, открыв в клетке дверцу, на арену выбежал огромного роста человек в шкуре и с арбалетом, а через дальний, по сетчатому коридору — крупный свирепого вида тигр. Выскочил, и остановился у стенки, и, открыв пасть, зарычал. Любомир обернулся на этот рык и, приподнявшись с корточек, стал медленно поворачиваться к зверю лицом. Гладиатор в шкуре поднял свое оружие. Тигр прыгнул. Цанев отшатнулся в сторону. Гладиатор выстрелил.
— А-а-а-а! — протяжно закричал Женька и в отчаянии бросился на железные прутья клетки.
Он видел, видел до ужаса отчетливо, как тяжелая короткая стрела ударила Цанева в висок.
А уже в следующую секунду тигр был убит метким выстрелом одного из черно-зеленых, клетка, выскользнув из Женькиных рук, умчалась вверх, а в зале вспыхнул яркий, ослепительно яркий белый свет.
Цанев лежал ничком, и темная струйка стекала по его щеке в песок.
— Любомир, — прошептал Женька, нерешительно приближаясь.
И вдруг понял. Развернулся. Перед ним стоял черно-зеленый…
— Любомира убили, гады!!!
…Резким движением Женька вырвал у зеленого оружие — ту самую миниатюрную коробочку со зловещим жерлом, и, размахивая ею, кинулся в зал.
— Где Кротов?! — кричал Женька. — Кротов где?! Всех перестреляю, гады! За Любомира всех перестреляю!
Он увидел где-то совсем рядом округлившиеся в ужасе глаза Крошки Ли и Черного, рвущегося к нему сквозь толпу, и разбегающихся с визгом женщин, и Станского, который кричал, широко раскрывая рот, но Кротова он не видел, искал и не мог найти.
А потом один из служителей попытался его обезоружить, и Женька начал стрелять. Кто-то падал, кто-то бежал, кто-то пробовал схватить его руку, запахло горелым пластиком и паленым мясом, а откуда-то, то ли из-под кресел, то ли из-под трибун (черт его знает, где он прятался) доносился истошный голос председателя зеленых:
— Не стрелять в него! Только не стрелять!
Последнее, что запомнил Женька, это был сильный, оглушающий удар по затылку.
Очнулся он на кушетке в небольшой комнате. Это был не его номер. За журнальным столиком, в креслах сидели Эдик и Черный.
— Похоронить-то мы его сможем? — спрашивал Черный.
— У них здесь не хоронят, — объяснял Эдик, — я попросил сохранить тело. Они его заморозят, а хоронить будем в Москве. Гляди, Женька проснулся.
— Он умер? — сразу спросил Женька.
— Любомир? Да, умер… — ответил Черный.
И так он это странно сказал, что Женька сразу почувствовал: случилось нечто еще более важное, хотя трудно было в такую минуту представить себе что-то важнее смерти друга. Женька был уже не способен удивляться ничему в этом мире: восприятие стало не тем, а от горя и вовсе притупилось. И все-таки ему еще предстояло удивиться.
— Да ладно, не тяни, Черный, — сказал Эдик.
И Черный сообщил, прокашлившись:
— Видишь ли, Женька, тут наш горячо любимый Кротов принес кое-какие книжки. Для общего образования. На вот, взгляни.
И Женька взглянул.
Самой первой лежала книга под названием «Спасенный мир. Биография катаклизма». Не очень толстая. Обычного формата. В хорошем переплете. И автором ее был Виктор Брусилов.
Часть вторая СПАСЕННЫЙ МИР Из книги Виктора Брусилова «Спасенный мир. Биография катаклизма.»
Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!
А. и Б. Стругацкие «Пикник на обочине».ИСТОКИ
Рог изобилия, огромный, невероятный, чудовищных размеров, парил над Москвой… на Землю сыпались пакеты со счастьем… Но их почему-то никто не поднимал. Их просто не видели, не замечали.
М.Емцев, Е.ПарновВеликие люди рождаются голыми и глупыми. Как все. Они подрастают, кричат «мама» и тянутся ручонками к игрушкам. Они смотрят на мир круглыми от удивления глазами, а мир все не видит их, не может видеть. Потому что их, собственно, еще нет. Есть заготовка, есть глина, из которой еще предстоит вылепить гения, есть чистый лист бумаги, на котором еще только будут начертаны их великие судьбы.
Великие дни начинаются со взгляда на часы, холодной воды из-под крана и утренней зарядки. И съемочные группы всех телестудий не приезжают с ночи, чтобы запечатлеть для потомков начало великого дня. Не могут приехать. Потому что великого дня, собственно, еще и нет. Есть только утро, совсем обычное пока земное утро, но ему суждено стать трамплином, взлетев с которого старый мир ворвется в новую эру.
Строго говоря, великих дней было несколько. конечно среди них был один самый великий — тот, когда история нашей планеты совершила необратимый поворот, но этот день и этот поворот были бы, наверное, невозможны без других дней. О них я и расскажу вначале.
Это было тридцатого апреля, но если бы в этот день меня вывели на улицу после долгого заточения в каземате, где бы я утратил всякое представление о времени, или если бы я прибыл из будущего и вышел из хронолета, забыв уточнить время года, я бы обязательно решил, что это февраль или, в крайнем случае, ноябрь. В воздухе было около ноля. Однако нашу традиционную эстафету на приз многотиражной газеты «Химик-технолог» решено было не переносить. Спортивные соревнования, если они проводятся в любую, даже в самую скверную, погоду, становятся от этого как бы рангом выше, а их участники проникаются гордостью и необычайным уважением к себе.
Гордые участники эстафеты на всех этапах ее до старта кутались в пальто и куртки и прятались в пустые троллейбусы. Рядом с институтом был троллейбусный парк, и длинные вереницы машин, унылых, недвижных, как большие спящие звери с опущенными рогами, были неотъемлемой частью околоинститутского пейзажа. Трудно переоценить роль троллейбусов в жизни нашего вуза. В троллейбусах назначали встречи, в троллейбусах собирались поговорить, обсудить последние проблемы после и во время занятий, в троллейбусах готовились к экзаменам и, наконец, в троллейбусах пили. Существовало выражение — «кафе-троллейбус». Редкому студенту был не знаком сакраментальный маршрут: институт — магазин — «кафе-троллейбус». И вот еще одна функция троллейбуса — спортивная. Его салон стал теплым предстартовым помещением и массажным кабинетом.
Я растирал ноги финалгоном, сидя на зеленой скамейке возле кассового аппарата, и наугад спросил двоих-троих, в чем они думают бежать. Все бежали в костюмах, многие — в шерстяных. И я бы побежал в костюме, но у меня его сперли за год до того на картошке, и единственное, что я мог одеть для утепления, так это старые драные треники. Их я одевать не стал, тем более что совсем недавно купил себе с переплатой трусы и майку, очень яркую и модную финскую спортивную форму. К тому же — спору нет — в трусах бежать легче, а мой бравый вид в эту несусветную холодину, когда многие уже начинали стучать зубами, должен был стать еще и моим психологическим оружием. Я не ошибся.
Раздалась команда «На старт!» Я скинул куртку и отдал ее Ленке.
— Ты замерзнешь, — печально сказала она.
— Еще как! — улыбнулся я и быстро скинул треники, потому что ребята уже брали палочки и, встряхивая ногами и подпрыгивая, подходили к линии старта.
Ленка даже ахнуть не успела, а я уже стоял у белой черты на асфальте. По толпе болельщиков прокатился гул восхищения и смеха. Кто-то крикнул:
— Виктор, опомнись! Ты нужен нам живым.
И был другой голос:
— Ставлю на голого. Десять против одного.
Потом бухнул выстрел. И мне захотелось победить. Я знал, что это нереально. но мне захотелось. Я рванул со старта с резвостью хорошего спринтера и сразу возглавил группу лидеров, вытянувшуюся, как водится конусом. Позади слышался восторженный вой болельщиков-дилетантов и дружный смех понимающих в беге. Но громче других прозвучал уже знакомый голос:
— Давай, голый, давай! Браво голому!
Впереди был еще километр, но я и не думал сбавлять темп и, конечно, сдох бы, не пробежав и полдистанции, если б не Рюша Черный. Чемпион института на длинных и средних дистанциях пристроился мне в спину и говорил коротко и отрывисто, в такт бегу:
— Брось, Виктор. Сдохнешь. Давай как всегда.
И я пропустил его вперед. Дистанция — не лучшее место для споров. Черный задавал хороший, но разумный темп. И мы бежали как один человек, я даже на асфальт наступал в ногу с ним. Как всегда… Это он здорово сказал — как всегда.
Сколько раз мы выступали вместе! На разных дистанциях, на разных покрытиях, на разных турнирах, с разными соперниками. Но неизменным оставалось одно: тактический рисунок бега. Я садился Рюше на хвост и, глядя на прыгающую перед глазами спину в красной выцветшей майке или в такой же красной олимпийке, всю дорогу думал о том, как на последней прямой, на последнем вираже, на последнем повороте вырвусь вперед. Но наступал момент, и красная спина неумолимо удалялась, расстояние между нами росло, как будто это был какой-нибудь закон физики, не нарушаемый в принципе. И тогда я чувствовал жуткую усталость, незаметно для себя сбрасывал скорость, и меня обязательно кто-нибудь обгонял, а иногда и не кто-нибудь, а весь забег. Лишь однажды мне удалось прийти вторым, но большой своей заслуги я в этом не видел.
И вот опять знакомая история. До финиша оставалось еще метров триста, когда мне стало нехорошо. Стартовый рывок не прошел даром, а почти зимняя погода довершила дело. Мне казалось, будто всего меня обернули холодной фольгой, причем мышцы ног и грудь были обтянуты особенно туго. Теперь, чтобы переставлять ноги в такт Черному, нужно было упорно сосредотачиваться. Пальцы правой руки, в которой была палочка, я перестал чувствовать. Я, помнится, еще подумал, что не смогу поэтому передать эстафету Зинке, бегущей второй этап. А самым неприятным было то, что воздух сделался густым и колким, и дышать им было все равно, что глотать ледяное крошево.
Сейчас, подумал я (до финиша было метров сто), вот сейчас красная спина Рюши, как сама неизбежность, медленно уйдет вперед, а я останусь тут глотать свои ледышки и стучать своими металлизированными ногами. Сейчас…
Мы уже вбежали в зону активных действий болельщиков, а Черный все не прибавлял. Это потом тренер объяснил мне, что Черный прибавил, и прибавил весьма заметно, но это было заметно для кого угодно, только не для меня. Я помню одно: мы бежали след в след. Впервые так близко от финиша.
Девчонки с Рюшиного факультета скандировали: «Черный! Черный!» Кто-то выбежал на дорогу и кричал ему «Оторвись! Черный!», но громкий крик Любомира Цанева (это был он, но мы еще не были знакомы тогда) покрыл все остальные звуки:
— Давай, голый, давай!
И тогда — я не знаю, как я это сделал, но Рюша вдруг оказался у меня слева. Я сразу понял, что он кончился, сгорел, что он не сможет ускориться, потому что уже достиг того предела, дальше которого человеку нельзя. У каждого из нас есть такой предел. А после этого момента я помню очень отчетливо, как увеличил шаг и мягко ушел вперед…
Говорили, что я финишировал с отрывом метра в четыре. Я не видел. Я видел только Зинкину руку и ее замелькавшие впереди пятки. Еще я видел Ленку. Она сияла, надевая на меня куртку и вешая мне на плечо треники. А потом начался кашель. Но это было уже без Ленки. Я забрался в пустой троллейбус, лег на сиденье и, раздирая глотку, кашлял почти непрерывно минут десять и отплевывался, а слюна была густая, липкая и почему-то с привкусом крови…
Потом в троллейбус вошел Женька.
— Брусника, слушай, — объявил он. — Написал замечательные стихи.
Я приподнялся с сиденья, мне все еще было паршиво, и сказал:
— Читай, Евтушенский.
Женька, не обращая никакого внимания на мои муки, продекламировал мрачным голосом:
Мир погибнет. Слыхали? Но я почему-то спокоен. Мир ужасен, в какие одежды его ни ряди. Это знал Оппенгеймер, и Сахаров знал, и, конечно же, Коэн… Но предчувствую: кто-то четвертый у нас впереди. Он воскликнет: «А мир-то не так уж и плохо устроен!»— Четвертым буду я, — слова сорвались у меня с губ как-то непроизвольно, но когда Женька спросил: «И что же ты изобретешь?», я уже был готов к ответу. — Я изобрету гомеостат третьего рода, или как его там, ну в общем такую хреновину, которая будет делать что угодно из чего угодно.
— Ну и что? — не понял Женька.
— А то что это будет самая мирная бомба в истории человечества. Она раз и навсегда покончит с голодом и войнами.
— И самая жуткая бомба, — сказал вдруг Женька. — Ты страшный человек, Брусника. Ты готовишь человечеству смерть от обжорства.
— Это ты Черного наслушался? — спросил я.
— Скорее Станского.
— А кто такой Станский?
— Станский — гений.
— Станский — гениальный химик, а что он понимает в будущем человечества? По Станскому получается, что Землю надо заморозить и ждать, пока ей поможет кто-нибудь извне. Он же в людей не верит. Он же их презирает.
— Ты не прав, Брусника. Ты поговори со Станским.
— Я бы поговорил, да у него на меня времени не найдется.
— Почему? Если ему понравится твоя идея… Мне, например, кажется, что идея сама по себе хорошая. Но непродуманная. Ты же меня знаешь, Брусника, при всем пессимизме, я ничего не имею против изобилия. Только я в него не верю. Сказки это все. Как были сказки про рог Цереры, да про скатерть-самобранку, так и теперь сказки, только нынешние сказочники любят на Виннера ссылаться да всякие модные словечки вворачивать: кибернетика, энтропия, информация… И ты, Брусника, такой же фантазер.
Женька был почти прав, только на самом деле я не очень-то часто ссылался на Виннера, просто потому, что знал его не ахти как, так, читал где-то что-то, «Кибернетику» и ту целиком не одолел. А вот с идеей изобилия я носился давно.
С самого детства меня бесили всякие нехватки. Хотелось, чтобы всего было много. Очень много. Чтобы хватало всем. Я, например, терпеть не мог быть единственным обладателем какой-нибудь шикарной игрушки, которую приходилось давать всем по очереди и в которую сам поэтому почти никогда не играл. И я мечтал не о том, чтобы удрать куда-нибудь ото всех с этой игрушкой, а о том, чтобы она была у каждого из моих друзей.
А однажды, помню, мы с мамой зашли вечером в магазин у Никитских ворот, его большая витрина заманчиво светилась, мне захотелось колбаски, и мама сказала, что, конечно, купит пакетик (Копченая колбаса продавалась тогда в упаковке, нарезанная тонкими аппетитными темно-красными ломтиками в белых пятнышках сала). И вдруг оказалось, что у мамы не хватает двенадцати копеек, и мы ушли, и было так обидно, что хотелось плакать. Но я не плакал. Если бы я заплакал, мама бы, тоже заплакала, а мне не хотелось этого. Мне было шесть лет. Мы жили тогда более, чем скромно: мать не работала, а отец получал рублей сто.
Мы шли по Тверскому бульвару и молчали. Потом я спросил:
— Мамочка, а при коммунизме колбасу будут давать просто так, без денег?
— Да, — сказала мама и заплакала.
И я так и не задал ей второго вопроса: «А когда будет коммунизм?»
А десятилетним мальчишкой я впервые услышал, что достаток и сытость портят людей. И взвился на дыбы. «Ну, объясните же мне, — кричал я, — кому станет хуже оттого, что у него будет колбаса?» А мне в ответ улыбались. Мои слова воспринимали как «юмор в коротких штанишках», и никто со мною не спорил. А потом я становился старше, и со мной начали спорить, но я стоял на своем. Не богатство портит человека и не бедность, а само то, что есть богатые и бедные, то есть несправедливость. Человека может испортить колбаса, если она только у него, как мне в детстве портили настроение игрушки, которых не было у других. А колбаса, которая есть у всех, не может испортить никого. мне говорили, что я путаю причины и следствия. Наверное. Наверное, я что-нибудь путал, но в главном убеждался все более.
Я всегда ненавидел мещан с их культом потребления, культом жратвы, культом вещей. И однажды я понял, что мещанство — отнюдь не следствие благосостояния, как почему-то принято считать, а совсем наоборот: мещанство — следствие нехваток. Дайте людям всего в изобилии, и культ потребления будет похоронен на веки вечные. Конечно, понимал я, это еще не будет означать гибель мещанства, но первый и главный шаг в борьбе с ним должен быть именно таким.
Так я раз и навсегда понял, что изобилие необходимо людям и чем быстрее, тем лучше. А уже позднее пришла в голову еретическая мысль о том, что изобилие совсем не обязательно создавать своими руками, что будет вовсе не безнравственно, если изобилие возникнет вдруг, само собой, как в сказке, ведь не считаем же мы безнравственным брать у природы ее щедрые дары.
Я читал много фантастики, наверное, поэтому мои мечты об изобилии принимали все более сказочный оборот. Но разговор с Женькой произошел в те дни, когда фантастика для нас перестала быть сказкой. Вообще-то хорошие книги о будущем я никогда как сказку не воспринимал. Скорее я склонен был считать их творением людей, побывавшим каким-то образом в грядущем. Мир, созданный воображением Лема, Стругацких, Азимова, Кларка — именно мир, а не миры, ибо я воспринимал их как некое единое целое, как разные изображения одной и той же натуры — был для меня объективной реальностью. И когда в жизни мне приходилось сталкиваться с самыми последними достижениями техники, меня переполняла гордость за человечество и счастливое ощущение, что одной ногой я уже стою в благословенном мире будущего. Именно такое чувство охватило меня однажды морозным утром в новом таллинском аэропорту, когда я впервые увидел самооткрывающиеся двери на фотоэлементах или когда пару лет спустя случилось сидеть перед японским телевизором с качеством изображения, не уступающим цветному кино, и держать в руках маленькую коробочку дистанционного управления на сенсорах.
Конечно, все это были фрагменты нового мира, но и фрагменты, дошедшие до меня с большим опозданием — для кого-то они уже давно не были фантастикой, где-то существовали вещи куда более удивительные. Наконец, ведь я же понимал, что сказочная техника — не единственная и не главная черта нового мира. Но теперь, когда Станский изобрел антропоантифриз, он подарил миру не фрагмент фантастического рассказа, а целый сюжет для грандиозного романа в жанре социальной прогностики. И плюс ко всему, Эдик Станский был доцентом нашего института, а двое из его знаменитой команды испытателей анафа — моими лучшими друзьями.
В те дни мы жили в каком-то полубредовом состоянии. Все понятия и представления о ценностях, о главном и второстепенном сместились. Мы вдруг обнаружили, что очень мало думаем о личном благополучии и очень много о судьбах мира. В «Троллейбусе» за портвейном, где раньше говорили в основном о бабах, о выпивке, о тряпках, травили анекдоты или, в лучшем случае, вели дилетантские споры об искусстве, теперь вдруг стали обсуждать проблемы войны и мира, шумно дискутировали о влиянии науки на прогресс человечества, ломали копья вокруг политических доктрин и философских концепций. А наш доморощенный поэт Андрей Евтушенский (настоящее имя — Евгений Вознесенко), известный в узких кругах шуточными песенками, в более узких — формалистическими вывертами, а в совсем узких — циклом стихов «Цветы секса», вдруг совершил резкий поворот темы и заговорил со своим немногочисленным читателем о страшном мире, в котором мы живем. Стихотворение, прочитанное мне в троллейбусе, открывало собою цикл с многозначительным названием «Мой апокалипсис, или Откровения стихотворца». В нашем «Химике» их не напечатали.
Вообще я не фаталист, но когда пишешь биографию (авторам биографических книг это хорошо известно), невольно впадаешь в древнюю ересь фатализма. Зная до мелочей всю от начала до конца жизнь своего героя, трудно не наделить частицей этого знания самого героя. И вот уже автору начинает казаться, что в какой-то момент жизни герою открылось будущее, что он предвидел, предчувствовал — да что там! — знал, что все будет так и только так. А факты для подтверждения подобной ереси всегда найдутся. Факты — упрямая вещь, но лишь до тех пор, пока их не начали подтасовывать.
Мне очень хочется избежать такого греха, тем более что я пишу не биографию человека, а биографию катаклизма. Предопределенность, а следовательно, возможность предвидения в масштабах одной личности еще как-то можно принять и объяснить, но предопределенность в масштабах Вселенной претит мне, это абсурд. И все-таки я позволю себе одну эффектную фаталистическую фразу. Вот она.
Кто знает, по какому пути пошел бы мир, если бы тогда, тридцатого апреля в пустом троллейбусе возле нашего института, Женька не обратился ко мне со словами: «Брусника, слушай. Написал замечательные стихи»?
Я не помню, чем закончился наш разговор, что именно ответил я на рассуждения Женьки о нереальности изобилия, но я помню, что именно тогда — и это было как озарение — я вдруг понял, что изобилие возможно, что оно реально, что оно вполне укладывается в современную физическую картину мира, причем изобилие абсолютное, исключающее нехватки любого рода, и ключом к этому изобилию является та самая между прочим упомянутая мною «хреновина», безграмотно названная гомеостатом третьего рода, которая делает что угодно из чего угодно.
РОЖДЕНИЕ ИДЕИ
…Все технически передовые миры стали мечтать о том, как, минуя обычные производственные процессы, научиться создавать любые необходимые предметы прямо из неорганической материи.
Дж. БраннерВторым великим днем мне хочется назвать двенадцатое июня.
С самого утра я торчал в институте, потому что помогал Женьке обсчитывать курсовой проект. Машинка у нас с ним была одна на двоих, а Женька был большим разгильдяем, поэтому выходило всегда так, что сначала я делал свои расчеты, а потом мы вдвоем делали расчеты для него. Он ухитрялся оставлять все дела не то что на последний день, а иногда буквально на последний час. А теперь ему и вовсе было не до учебы. Шла подготовка к экспедиции, до начала ее оставалось чуть больше месяца. В общем считал я, а Женька только переписывал все своим почерком и параллельно развлекал меня рассказами о предстоящем событии, причем поминутно бросал писать, а иногда даже хватал листок бумаги, набрасывал на нем схему маршрута… или рисовал конструкцию «розового гроба», или принимался объяснять устройство тепловых развязок спецсосуда. В общем мы провозились гораздо дольше, чем я планировал, времени на то, чтобы почитать конспект по автоматике, у меня не осталось, и, злой на себя и на Женьку, я к трем часам поплелся на экзамен. Каким-то чудом (впрочем, я знаю, каким: женщина-экзаменатор помнила меня по прошлогодней практике, где я ходил в лучших) я сумел выкрутиться на четверку, и страшно довольный и словно пьяный слегка от успеха и бессонной ночи, а ночи перед экзаменами всегда у меня были бессонными, я еще долго мотался по институту, болтал со знакомыми ребятами и девчонками, часа полтора просидел в редакции «Химика», обсуждая готовящийся к выходу номер, посвященный экспедиции Станского и Чернова. Домой не спешил: Ленка, получив пятерку по политэку, уехала к родителям и рано вернуться не обещала. Но когда я приехал, она уже возилась на кухне с ужином и радостно сообщила, что дядя достал ей шикарные штаны всего за сто двадцать рэ, и хотя мы совершенно не представляли, где взять их, эти сто двадцать рэ, настроение было отличное, и вспомнив дядю, мы вспомнили и подаренную им еще к свадьбе и до сих пор нами не опустошенную бутылку «мартеля», и было решено, что это как раз тот случай, когда по поводу удачного дня следует заварить хорошего кофе и попить его с французским коньяком.
И ужин получился на славу. А когда я опрокинул в чашку последнюю рюмку «мартеля» и с тоской поглядел на пустую теперь бутылку, мне вдруг пришло в голову, что было бы очень недурно увидеть ее вновь полной. «Нет, лучше две полных бутылки», — подумал я. Две бутылки как-то больше импонировали моему воображению. И, сделав стремительный скачок в мыслях, я вдруг впервые понял, что идея устройства, делающего что угодно из чего угодно, не обязательно должна воплощаться в форме гигантского многоцехового предприятия. мне вдруг увиделась почти карманная модель этого синтезатора, этой копировальной машины для умножения по мере надобности числа бутылок с «мартелем». Такая модель была бы вершиной кибернетической мысли.
— Слушай, Ленк, — сказал я, а не заняться ли мне кибернетикой?
— А почему не этой, как ее, неравновесной термодинамикой? — откликнулась Ленка. — Или, скажем, молекулярной генетикой.
— Потому что я хочу сделать машину, которая будет все копировать.
— Зачем? — не поняла Ленка.
— То есть как «зачем»?! Ты не понимаешь. Она ведь будет ВСЕ копировать. К примеру: берем бутылку (я взял бутылку), запихиваем ее в машину (я спрятал бутылку под стол) и на другом конце получаем точно такую же (я перехватил бутылку в другую руку и вытащил ее из-под стола).
— А первая бутылка? — спросила Ленка, внимательно следившая за моими манипуляциями.
— А первая остается как ни в чем не бывало.
— Значит, вторая получается из ничего.
— Зачем же, машина потребляет энергию…
— И все электростанции Советского Союза работают три года, чтобы сотворить одну бутылку «мартеля».
— Ну, Малышка, с тремя годами ты, пожалуй, махнула, но в принципе, безусловно, права — так нерентабельно. Однако ты не дослушала. Машина будет сама производить энергию, превращая в нее эквивалентную массу воды, воздуха, песка, навоза, если угодно.
Ленка смотрела на меня задумчиво и сочувственно.
— Виктор, ты это только что придумал?
— Не совсем. Но в общем да. А что?
— Ну, если б ты это давно придумал, ты бы уже успел три раза забыть свою гениальную идею. Это же чушь собачья.
— Не чушь, — обиделся я. — Первое начало термодинамики на месте? На месте. Принцип Лавуазье-Ломоносова и тот соблюдается.
— А второе?
— Что второе?
— Второе начало термодинамики.
— Этот жалкий законишка о неубывании энтропии? Да его попы и капиталисты придумали! Это же просто околонаучный припев к апокалипсису, термодинамический гимн концу света. Никогда я его не признавал и признавать не буду.
— Виктор, ты позер, — нарочито в рифму сказала Ленка.
— Я не позер, а великий борец за уменьшение энтропии.
— Борец! — хмыкнула Ленка. — Оглянись назад.
Я оглянулся. Позади меня был мой письменный стол, заваленный тетрадями, книгами, сигаретными коробками, листами, ручками, полиэтиленовыми пакетами и прочей мурой. Венчала груду мятая рубашка. И через весь стол змеился шнур от погашенной настольной лампы. А дальше, позади стола, был черный провал окна в разрыве пестрых зеленых штор. Я ничего не понял.
— Энтропия наступает, — сказала Ленка зловеще.
И мне вдруг стало страшно. Черный кусок неба был окном в тепловую смерть. По ту сторону жизни колыхался безбрежный и неодолимый океан холода. Энтропия наступала.
— Поубавь-ка ее на своем столе, — добавила Ленка.
— Тьфу на тебя! — я встряхнулся и сразу почувствовал обиду: такую шутку принять всерьез — заучился видать совсем. — Ладно, Малышка, посмотрим еще, как ты запоешь, когда весь мир будет говорить о моем изобретении. Представляешь — универсальный синтезатор Брусилова!
— Представляю, — сказала Ленка.
И тут зазвонил телефон. Это был Славик. Мы с ним не виделись тыщу лет, и за это время коллекция его сильно выросла. Так что, старик, сказал Славик, если у тебя есть что-то обменное, набивай карманы и лети ко мне. А у меня было что-то обменное, и даже не кое-что, а довольно много, и, отойдя от телефона, я тут же принялся разбирать свои монеты. Разговор был прерван, Ленка благополучно забыла о моей «гениальной» идее, но у меня именно после этого разговора не было дня, чтобы я в той или иной связи ни вспоминал о «синтезаторе Брусилова». И, черт возьми, я не берусь сказать, по какому пути пошел бы мир, если бы тогда, двенадцатого июня, я и Ленка не решили попить кофе с дядюшкиным «мартелем»!
КОНСТРУКЦИЯ
Посетитель, заглянувший к нему в лабораторию, принял бы аппарат за морозильник — длинный белый ящик с крышкой, несколькими лампочками, стрелками и кнопками, длинный белый ящик, которому предстоит преобразовать мир.
Совершенный дубликатор изготовлял копии.
Б. КрунаА третий великий день — это двадцать четвертое августа. Глупо, конечно, начинать рассказ о свершившемся такой фразой. Глупо называть дату, которую, безусловно, будут знать все, от мала до велика и в любой стране. Может быть, ее станут писать с больших букв. Может быть. Но пока это всего лишь один из тех трех обозначенных мною поворотных дней. И вообще вначале мне придется рассказать еще кое о чем. Ведь после двенадцатого июня не сразу наступило двадцать четвертое августа. И если между апрелем и июнем были просто лекции, семинары, зачеты, экзамены, просто книги, кинофильмы, пивбары, «кафе-троллейбус», просто споры, разговоры, мечты и замыслы, то между двенадцатым июня и Двадцать Четвертым Августа были уже очень конкретные размышления и очень глубокие сомнения и в высшей степени серьезный анализ моей нелепой по сути идеи. И было расставание с друзьями, уходящими к полюсу, и прощальный вечер у Черного, где все надрались, как свиньи — вспомнить стыдно. И были проводы на аэровокзале, а на следующий день оттуда же я отправился на БАМ. И были полтора месяца жары, дождей, комаров, мошки, едкого, пополам с диметилфталатом, пота, мучительных пробуждений от боли в руках, не проходящего зверского аппетита, ругани с прорабами и дружеских встреч с зэками, ночных авралов и дневных простоев, густых слоистых туманов над тайгой и частых ярких, как в сказке, радуг после каждого дождя и, наконец — бессмысленных, растравляющих душу, но необходимых, как воздух, бесконечных подсчетов, сколько же нам заплатят. А заплатили нам с гулькин нос. И мало того, что администрация строительно-монтажного поезда облапошила тысяч на тридцать, так мы еще ухитрились внутри отряда поругаться из-за шести тысяч, заработанных на левом, утаенном от большинства объекте. Это была грязная история. Когда мы улетели в Москву, было ясно, что деньги поделены уже окончательно, но не менее ясно было и то, что поделены они несправедливо. Хитрюга-командир в последний день вместо общего собрания устроил общую пьянку, и недовольные, обиженные бойцы, опрокидывая стакан за стаканом жуткую, дерущую горло водку иркутского разлива, постепенно переходили с ругани на шутки, с шуток — на песни, а с песен — на бормотанье, бульканье, рыгание и храп. Я один во всем отряде не выпил ни капли, и мне было хуже всех. Командир тоже почти не пил, и мы нашли, что сказать друг другу. Он заявил, что считает себя абсолютно правым, что деньги получили только те, кто, по его мнению, хорошо работал (я, по его мнению, работал плохо). А то, что «премии» вручались тет-а-тет в штабном вагончике трусливо, стыдливо, по секрету от остальных, — это командир в расчет не принимал, и я пообещал ему, что мы вернемся к нашему разговору, но только уже в Москве и при участии парткома и комитета ВЛКСМ.
А потом был Братск, и там я пил, потому что хотелось все-таки забыться и хотелось отметить, хоть и скромный, а все же бамовский заработок. И был уютный ресторан в Энергетике, где подавали восхитительного омуля («Ешьте, ребята, пока весь не передох»), и чудные пельмени в горшочках, и нескончаемые бутылки красного вина.
А после был зал ожидания в аэропорту, и бессонная ночь, и мучительная жажда, и изжога, и рассвет, который упорно, семь часов кряду гнался за самолетом, но все было втуне: в иллюминаторах висела плотная угрюмая синева. А в голове ворочались, пытаясь разломить ее, громоздкие, неуклюжие, тяжелые мысли. На моих часах было 10.40, а Москву все еще покрывал сумрак, и это было странно, если не сказать дико, и к родителям я притащился совершенно разбитый. Ехать домой, в Бирюлево, не имело смысла: Ленка еще не вернулась с Юга, и там меня ждала пустая квартира.
Два дня я ел и спал сначала по Иркутску, а потом уже по какому-то совершенно несусветному времени. Я знал, что адаптация происходит не сразу, но не только не пытался перестроиться на московский лад, но даже наоборот упорно сохранял бамовский режим, — мне страшно нравилось такое чудачество, и непременно хотелось похвастаться перед Ленкой своим настроенным на Иркутское время организмом.
Вот почему Двадцать Четвертое Августа, переехав накануне в Бирюлево с сумкой продуктов, выданных мне родителями, я проснулся без труда в пять утра (десять Иркутска) и, лениво помахав гантелями и повернувшись под не очень холодным душем, заварил себе кофе. Вечером я ждал приезда Ленки, а Ленка больше всего на свете любит грибы. «Вряд ли ей удалось поесть грибов в Коктебеле, — думал я. — Порадую Малышку. Заодно по лесу погуляю, разгоню тоску. Забуду к чертовой матери проклятого командира со всеми его дурацкими деньгами. Вспомню что-нибудь приятное». Но не так-то просто было вспомнить что-нибудь приятное в синеватой полутьме десяти утра по-иркутски и с головой такой тяжелой, словно я все лечу в самолете. Во всяком случае, пока я пил кофе, мне это не удалось. И пока отмывал для грибов пластмассовое помойное ведерко, — тоже не удалось. Зато, когда я сел в электричку, почти пустую в этот сонный час, я вспомнил, что для меня самое приятное (не считая, конечно, Ленки — о ней я думал практически не переставая все два месяца). Я вспомнил и удивился, как это мог вылететь у меня из головы мой любимый синтезатор, конструкцию и принцип работы которого я детально разработал еще там, еще стоя по колено, по пояс, по плечи в дурацких ямах, вырываемых мною под столбы ограды посредством кирки, лома и лопаты в непокорном и ненавистном грунте четвертой категории на Киренгской нефтебазе. И вспомнил я о синтезаторе не случайно.
Напротив меня сидел парень в новом джинсовом костюме, в модных кроссовках и читал Кларка в подлиннике. А я даже название перевести не смог, хоть и учил английский по программе спецшкол. И я сидел напротив него и завидовал, всему завидовал. Рассеянно передвинув на полу пустое ведерко, взглянул ненароком на свои протертые кеды, а потом на его сверкающие белизной и флюоресцентными полосами кроссовки. Позавидовал. Скользнул взглядом выше… И вдруг вспомнил: синтезатор Брусилова! Как бы кстати он сейчас оказался. Я попросил бы парня снять на минуточку его мощные тапки, достал бы из рюкзака свою машинку, швырнул в ее чрево кеды и получил бы на выходе пару отличной обуви.
Делать мне было нечего, ехать оставалось еще минут тридцать, и я стал вспоминать и мысленно совершенствовать разработанный мною агрегат.
Это был ящичек вроде магнитофона, только длиннее и уже, с двумя кубической формы вместилищами на противоположных концах — для копируемого предмета и его копии. Сверху я предусмотрел коническое углубление с отверстием, названное мною воронкой питания. В ней любая материя должна была превращаться под действием специального поля в некий универсальный полупродукт, нуль-вещество, зеромассу — последний термин казался мне наиболее удачным. Зеромасса служила строительным материалом для копий. Мне захотелось представить поточнее, как будет происходить процесс копирования. Очевидно, необходима была стадия считывания информации с оригинала. Но куда? На какую-то матрицу в самом сердце синтезатора, а уж с нее на зеромассу? В общем логично. Но нельзя ли попроще? Например, передавать информацию из экспозиционной камеры (экспокамеры), то бишь с экспонируемого оригинала непосредственно в камеру, выдающую копии — я назвал ее гивером («выдавателем») — но не на зеромассу, а на некую энергетическую структуру, которая будет принимать вид уже точной, но еще не видимой и неосязаемой копии предмета. И для этой своей выдумки, для этого полуреального образа я долго искал в памяти подходящее название и остановился, наконец, на красивом немецком слове «гештальт», хотя и помнил, что это вроде бы термин психологии. Управление я сделал примитивно кнопочным. К чему фантазировать? Кнопки — вещь удобная. Потом во весь рост поднялась проблема оптимального размера машины. Нужны были синтезаторы и гигантские и совсем маленькие, карманные. Разумеется, я сразу решил, что мои сибры (так я назвал их сокращенно) будут копировать сами себя, но и для этого требовались различные габариты. Было бы неудобно, если б пришлось сибр каждого нового размера делать заново, и потому родилась мысль о необходимости самостоятельного роста машин. А что? Если они делают из ничего что угодно, почему бы им не наращивать самих себя? Я радовался своим идеям. Я забавлялся. Я решал уже проблемы дизайна, когда вдруг совершенно внезапно вспомнил про Кларка в подлиннике. Грустное это было воспоминание.
АПЕЛЬСИН
И почему эта штука приземлилась здесь, на этом заброшенном клочке земли..?
И с какой целью?
К. СаймакЯ был уже в лесу близ станции Космос по аэропортовской ветке. Это недалеко от Москвы, но места там довольно глухие. Стояла чудесная тишина. Слышался лишь слабый шум листвы, да хрустение веток под ногами. Я шел без дороги, напролом, через кусты, через молодой ельник и, раздвигая осиновой палкой нижние разлапистые ветви, высматривал грибы.
Конечно, думал я, можно размножить книжку Кларка каким угодно тиражом. Можно. Но кто ее будет читать? Сибр тут не поможет. (Я рассуждал так, словно сибр у меня уже был.) А впрочем, может быть, вмонтировать в него еще и переводящее устройство? Нет, даже не так: пусть лучше сибр прямо записывает в мозг знание языка, переписанное с мозга другого человека, владеющего языком. Отличная идея! Но тут я впервые задал себе вопрос: а как же, собственно, все это будет делаться? Загнать гигантскую машину с памятью в миллионы, если не миллиарды мегабит в ящик размером с магнитофон — это был бред. И я бросил думать об информации, языках и книжке Кларка — ну ее, всю эту заумь! Я вновь представил себе изящное, отливающее матовым блеском устройство, мысленно поиграл его кнопками, размножил скудную кучку грибов на дне ведерка до полного заполнения оного и улыбнулся умиротворенно. И в этот самый момент фортуна ответила мне своей улыбкой, искренней и широкой, от уха до уха.
Справа под елкой стояли белые. Их было четыре, точнее даже пять. Один — с почти плоской шляпкой, старый, но все еще крепкий; два других-толстые, округлые близнецы, прильнувшие друг к другу; четвертый был среднего размера и самых классических форм, а на шляпке его сидел пятый — очаровательный крохотуля с длинной ножкой. Я залюбовался находкой. Присел на корточки. Потом прилег…
И вот тогда увидел апельсин.
Он лежал в елках, в самой чаще, и, стоя, я никогда бы его не заметил. Апельсин был крупный, никак не меньше десяти сантиметров в диаметре и выглядел очень нелепо: ведь не на елке же он вырос. Я оставил ведро и по-пластунски полез через ельник к апельсину. Сухие иголки отвратительно кололи колени и локти, ветки лезли в глаза, зашиворот нещадно сыпалась какая-то труха. А добравшись до апельсина и уже ругая себя за то, что полез в эту чащу, я протянул к нему руку и… тут же отдернул ее. Апельсин был теплый.
Первый инстинктивный страх сменился удивлением — ведь никогда раньше я не встречал теплых апельсинов, потом — пьянящей радостью от встречи с чудом, и, наконец, — снова страхом, но уже совсем иным: вдруг сейчас все разом объяснится, и чудо исчезнет.
Но чудо не исчезало.
Я внимательно осмотрел его. Апельсин был правильной формы, абсолютно гладкий и абсолютно ровный в цветовом отношении, до такой степени ровный, что начинало казаться, будто он и не шар вовсе, а круг, нарисованный на земле флюоресцентной краской. Объемность угадывалась лишь потому, что он был чуточку прозрачный и более всего походил на шар оранжевого воска. Конечно, это был не апельсин, но как еще мне было называть его?
А когда визуальный анализ полностью исчерпал себя, я снова решился попробовать апельсин на ощупь. Он был не твердый, но очень плотный, как резина автомобильных шин, однако более скользким — за счет гладкой поверхности, должно быть. Температуру его оценил градусов в тридцать пять: он был теплым, как человеческое тело. А весил апельсин не более полкило. Я быстро прикинул его плотность. Получилось что-то порядка 0,7-0,8, что вполне вязалось с его полимерной на вид природой. И только температура не вязалась ни с чем. Если его нагрели недавно, то кто это сделал, а если давно, то до какой же, пардон, температуры его грели? Проще всего было сказать (и ведь как хотелось!): апельсин — гость из космоса, но — «бритва Оккама»! — пришлось пока остановиться на том, что он просто выпал с минуту назад, ну, скажем, из жаркого трюма вертолета.
Но так или иначе, он нравился мне, этот теплый оранжевый шарик, казавшийся живым. И когда я вытаскивал его из ельника, пятясь, как рак, первой пришедшей мне в голову мыслью была такая: а неплохо бы сейчас пихнуть его в сибр и получить два, четыре, восемь, шестнадцать… тыщу (!) оранжевых шаров. И я еще не успел подумать, а начерта же они мне, как вдруг апельсин в моих руках проснулся.
Должно быть, это не самое лучшее определение того, что он сделал, просто мне удобнее всего писать о нем как о живом. Вот почему дальше я называю его только с большой буквы. А вообще я должен предупредить, что буду писать о фактах, объективно имевших место, и о субъективных ощущениях, не проводя между ними четкой грани, так как просто не имею возможности эту грань провести.
Сначала Апельсин вздохнул. То есть равномерно раздулся — это было заметно даже на глаз — и снова сжался. Потом он стал нагреваться, не очень сильно, но ощутимо. Зачем-то я вытянул руки, видно, боялся, что Апельсин разорвется, но и отбросить его я тоже боялся. Кажется, я даже сжал его сильнее, чтобы не выпустить. И вдруг заметил, что думаю совсем не об Апельсине. Я думал о своем синтезаторе, причем думал как-то задом наперед, в перевернутой логической последовательности. Мгновение спустя я понял и другое: это не я думал — это кто-то думал внутри меня моими прошлыми мыслями, раскручивая их в обратную сторону, как киноленту. И сделалось страшно. Я попытался сосредоточиться и освободиться от этого бреда. Не вышло. Тогда я смирился и стал слушать, чем это кончится.
Мысли докрутились до момента возникновения в моей голове идеи сибра, пробежали чуть-чуть дальше в прошлое и пронеслись обратно, то есть теперь в нормальной последовательности, зато с ненормальной скоростью — я даже не успел понять всего, о чем «думаю».
Потом я неожиданно обнаружил, что вокруг темно, но еще не успев испугаться, понял, что просто, пытаясь сосредоточиться, закрыл глаза. А вот когда открыл их, тогда действительно испугался. Апельсин в моих руках уже не был апельсином, он бесформенно расползался, пролез сквозь пальцы и медленно обволакивал руки. Кистей уже не было видно, густая оранжевая масса подкрадывалась к локтям. Инстинктивным резким движением я попытался высвободиться. Куда там! С тем же успехом я мог бы попытаться разорвать руками автомобильную покрышку. Зато Апельсин ответил на мое нетактичное движение весьма активно — скорость наползания оранжевой массы заметно возросла, и через каких-нибудь несколько секунд она пролезла через короткие рукава рубашки на плечи, подмышки и на грудь. Интереснее всего было то, что я не ощущал никакой разницы температур, масса ощущалась лишь благодаря слабому давлению на кожу, а поначалу я и давления не чувствовал. Страх быстро прошел. И даже любопытство прошло. Потому что началось такое, что, скажем прямо, связному изложению не поддается.
В голове все вывернулось наизнанку. Я думал уже не в обратном логическом порядке и даже не инверсиями, а какими-то абракадабрами. Видимо, «этот» внутри меня начал читать мысли в обратную сторону по буквам.
Помню, как налетел сильнющий ветер. Захотелось взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие, но руки были связаны, и я упал.
Потом помню, как ползал внутри оранжевой светящейся массы и искал выход. Выхода не было.
Еще помню, как стал великаном и смотрел на верхушки елок с высоты птичьего полета, а ногами увязал в огромной оранжевой кляксе.
И еще помню Оранжевый дождь: то ли нескончаемый поток крохотных резиновых шариков, то ли просто большие тяжелые капли апельсинового сока…
ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ
Коллинз осторожно коснулся красной кнопки, прекрасно отдавая себе отчет в том, что у него нет никакого опыта обращения с машинами, которые «падают с неба».
Р. ШеклиЯ проснулся от холода. Подо мной было мокро, и вся одежда была мокрой насквозь. Сильный дождь ударами хлестал по лицу, будто кто-то зажимал и отпускал водопроводный шланг, окатывая меня разлетающейся в брызги струей. Я приоткрыл глаза, увидел над головой верхушки елей, серое унылое небо, зажмурился от падающих капель и повернул голову на бок. Мне было холодно. Прилипшая к телу рубашка казалась противной до предела, но мокрые брюки все же рискнули вызвать ее на соцсоревнование. Я лежал и усиленно раздумывал, кому из них отдать пальму первенства. Когда же начавшаяся дрожь добралась до зубов, извлекая классическое постукивание, я решил, что победила дружба. Подтянул ноги, сел, оперевшись руками, и почувствовал, как холодные струйки побежали по всему телу.
Так я сидел и дрожал, а по обе стороны от меня стояли два сибра, два синтезатора Брусилова — красивые, голубовато-серые, отливающие матовым блеском машины. Черные резервуары для сырья были открыты, и в них доверху налилась вода.
Я даже не удивился. Мне было холодно, и прежде всего я подумал, как бы с помощью сибра согреться. Но ничего придумать не удалось. Универсальный синтезатор был не способен синтезировать тепло — вот нелепое устройство! И в бессильной попытке согреться я обхватил колени. Потом тупо посмотрел на верхнюю панель одного из сибров, где чернели кнопки: «ПИТАНИЕ», «РАБОТА», «СТОП», «РОСТ+» и «РОСТ-". Все в точности так, как я придумывал. Апельсин оказался конструктором аккуратным. Вот только с какой стати он сделал их сразу два? И в тот же момент я понял, с какой стати. Ведь я же сам придумал, что сибры должны размножаться, копируя сами себя, а для этого вначале необходимы именно два аппарата. Я восхитился, до чего же все складно. Такая мысль была уже более содержательной, чем раздумья над проблемой обогрева. И все-таки пока я думал еще явно не о том.
Я стал собираться. Запихнул сибры в рюкзак (они оказались на удивление легкими), рюкзак закинул за плечи, взял ведерко. Потом вспомнил о грибах. Пятеро красавцев все так же сидели под елкой. И я уже сорвал их и уложил в ведро, когда в мою одуревшую от всего происшедшего голову наконец-то пришла первая дельная мысль.
Наверно, никто и никогда после не получал такого удовольствия от процесса копирования. Я даже забыл про кнопку «РОСТ», нажав которую мог бы размножать грибы в геометрической прогрессии. Мне так нравился сам процесс возникновения гриба из воздуха и превращения горстки мокрой земли в похожую на ртуть жидкость, исчезающую в воронке, что я все повторял и повторял этот фокус с одним и тем же грибом, у которого на шляпке сидел малыш. И так, по одной штуке, я очень скоро наворотил целую кучу очаровательных боровичков и сказал себе: «Хватит, и так придется нести их в рюкзаке». И я набил ими рюкзак под завязку, и еще хватило, чтобы присыпать сибры, положенные в ведро. Не было ничего глупее, чем тащить из лесу всю эту тяжесть, когда дома из одного гриба можно было сделать любое количество копий. Но я действительно одурел от счастья и плохо соображал.
И вдруг — словно в мозгу упала какая-то завеса — я понял, я осознал, что произошло, какая огромная сила дана мне отныне, какие возможности открываются перед человечеством. Будущий «сибровый» мир представился мне во всем своем великолепии. Всеобщее полное и окончательное изобилие. Изобилие и справедливость — задарма, без крови и пота. Главное — без крови. Без горя и мучений. Этакий коммунизм не по Марксу и Ленину, а коммунизм по Брусилову.
Сердце прыгало в груди, как собачонка, истосковавшаяся без хозяина. И мне самому захотелось прыгать. Прыгать и кричать. И я стал носиться по лесу, сквозь мокрый ельник, кругами около того места, где стояли рюкзак и ведро. Я высоко подпрыгивал, я спотыкался обо что-то, я падал на колючие ветки, снова вскакивал и снова бежал вприпрыжку через промокшую, блестящую, ярко-зеленую хвою, через пелену дождя и кричал, кричал какую-то страшную ерунду:
— Спасибо Апельсину! Спасибо за счастье! Спасибо за коммунизм!
Господи, что я называл этим словом?! Это уже потом, много позже, я понял, что коммунизм давно сделался пугалом для нормальной половины человечества. А тогда, воспитанный в советской школе, на советской пропаганде, о чем еще мог я думать, каким еще словом называть мечту об изобилии и справедливости?
Потом я устал. Я бухнулся лицом вниз на скользкую траву, и уже не было холодно, и неистовые порывы дождя лишь приятно освежали разгоряченное тело.
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ЗОЛОТА
Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок, и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румата носком ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро. И сейчас же — дзинь, дзинь, дзинь! — посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем Пица Шестого, короля Арканарского.
А. и Б. СтругацкиеКогда я открыл дверь в квартиру, часы мои показывали двенадцать (пять по Иркутску), но небо за окном, почти расчистившееся к этому моменту начало подозрительно темнеть, что для августа месяца было довольно странно (даже по Иркутскому). Ощущая смутную тревогу, я набрал «100». И оказалось, что уже восемь. Ровно восемь часов вечера. Трубка выпала у меня из рук.
Первое, что я понял: на Курский к Ленкиному поезду уже не успеть. Второе, что я понял: в лесу под действием этой апельсиновой хреновины я (поразительно, что вместе с часами!) перестал ориентироваться во времени. И наконец, третье: могло пройти и не восемь часов, а тридцать два, пятьдесят шесть и так далее, ведь по телефону число не сообщают. Тем более год. Я вспомнил историю про Рипа ван Винкля и похолодел. Однако беглый осмотр квартиры успокоил меня: я мог бы ручаться, что после моего ухода Ленка еще не побывала здесь. И сразу пропало желание гадать о том, что же случилось в лесу — эту нелегкую проблему я решил оставить на потом, а пока мне виделось главным подготовить возможно более эффектную встречу.
Успел я не так уж много и, скажем прямо, не все, что хотел. Когда раздался звонок в дверь, на столе в комнате стоял сибр размером с два больших телевизора, и в его воронке питания булькала вода, превращаясь в зеромассу, а повсюду были разбросаны вещи, продукты и даже листы бумаги, на которых, увлекшись, я начал делать кое-какие записи. Поэтому, выходя на звонок, я закрыл дверь в комнату.
Ленка шагнула в квартиру, готовая одновременно расплакаться, рассмеяться и ругать меня на чем свет стоит. Ведь она не могла даже дозвониться: из-за брошенной трубки было сплошное «занято». Но я взял у нее сумку, поцеловал в щеку и сказал «Привет, Малышка» с таким видом, будто мы расстались нынче утром, и это было для нее столь неожиданно и дико, что она буквально опешила.
— Добрый вечер, Виктор, — произнесла она, уже овладев собой, но все еще в полнейшем недоумении.
— Видишь ли, Малышка… — начал было я, но она перебила.
— Ты почему меня не встретил?
— Ну, видишь ли… — снова заговорил я.
— Мне в комнату пройти можно? — она спрашивала весело, но уже с оттенком агрессивности: ведь дверь была закрыта, а я стоял на пути к этой двери, как часовой на посту.
— Ты лучше взгляни сюда, — предложил я и подался в кухню.
Ленка сбросила туфли в прихожей и прошла следом за мной.
А кухня была завалена грибами. Дома я наклепал их еще раз в пять больше, и теперь они лежали повсюду.
Ленка смотрела на грибы молча. Глаза у нее стали большими-большими, а рот был чуть приоткрыт — полуулыбка-полукрик. Я тоже молчал, я стоял и любовался ее изумленным лицом. Изумленным и изумительным. В такие моменты Ленка всегда казалась мне особенно красивой. Потом я сказал:
— Вот. Собрал грибочков. Немного, конечно, но все-таки. Супчик сварим, и посушить можно.
Но, кажется, Ленка не слышала меня. Она подошла к столу, взяла один гриб, увидела малыша на шляпке, воскликнула:
— Какая прелесть!
Потом скользнула взглядом по остальным. У большинства экземпляров «потомство» со шляпок послетало, и все-таки идентичность была налицо.
— Витька, — она вдруг заговорила шепотом, — а они что, ненастоящие?
— Молодец, Малышка, — сказал я, — не зря тебе пятерки ставят. Но только грибы это все ерунда. Смотри дальше.
Однако мой следующий фокус, вопреки ожиданиям, произвел уже меньшее впечатление, хотя и был придуман специально, а с грибами все получилось до известной степени случайно. Я развязал стоявший в углу рюкзак и, погрузив в него руку по локоть, извлек охапку червонцев.
— Теперь в лесу, — сообщил я, — помимо грибов растут еще и вот такие бумажки.
На мгновение глаза у Ленки снова сделались круглыми, но потом она что-то поняла и стала смотреть спокойно и сосредоточенно.
— Денег теперь будет много, — говорил меж тем я. — Очень много. Сколько угодно! Но деньги будут никому не нужны. Можно будет их все разорвать и выкинуть.
И для наглядности своей пропаганды я с неподдельной ненавистью изорвал в клочья несколько червонцев.
— Погоди, — Ленка взяла две купюры, повернула их одинаковыми сторонами, взглянула и бросила на пол. — Номер один и тот же.
— Понятное дело, — сказал я. — Откуда ж им быть разными, когда я все деньги на книжку положил.
И тогда Ленка прошла в комнату. Она не любила задавать лишних вопросов. Она предпочитала вначале разобраться во всем самостоятельно. И лишь когда тщательный осмотр сибров был завершен, она повернулась ко мне:
— Витька, ты все это сам придумал?
— Придумал — да. А сделал не я, конечно.
— А кто?
— Апельсин.
И снова я любовался ее удивленным лицом.
— Ну, ладно, Малышка, пожалуй, хватит с тебя загадок.
И я рассказал ей обо всем.
В доме напротив погасли почти все окна. Ленка сидела молча. Потом сказала:
— Поставь чайник.
Действительно, поужинать было необходимо.
На кухне я завозился, а когда вернулся обратно, Ленка сидела на диване вроде бы все в той же позе, но из руки в руку пересыпала сверкающие желтые монетки.
«Двушек что ли нашлепала для телефона?» — мелькнула дурацкая мысль. Но это были не двушки. Это были александровские золотые полуимпериалы.
— Во, дурак! — не удержался я и хлопнул себя ладонью по лбу.
Ленка улыбнулась. А мне было обидно: такую возможность упустил. Сорил какими-то фальшивыми червонцами с одним номером, в то время как мог в буквальном смысле озолотить ее при встрече.
Полуимпериал был жемчужиной моей коллекции. Не то чтобы он считался какой-то нумизматической редкостью, для настоящих собирателей это был довольно заурядный экземпляр, но, доставшийся мне от деда, переживший революции, войны, чудом уцелевший в эпоху торгсинов, избежавший продажи на всех этапах подорожания золота, он стоил теперь больше, чем все мои остальные монеты, вместе взятые, и служил для меня предметом гордости.
— Дай-ка, — сказал я Ленке.
И швырнул горсть в сибр. Потом еще и еще раз. Когда монет стало совсем много, я набил им экспокамеру до отказа, и из гивера потек золотой ручей. Новые порции вытесняли предыдущие, воронка со свистом втягивала воздух, а я все жал и жал на кнопку «РАБОТА». И не только стол, но и пол вокруг уже был завален сверкающими желтыми кругляшками. Потом, дурачась, мы сыпали ими друг друга, и топтали их, и возились на полу, сгребая монеты в кучи и вновь расшвыривая их по комнате, по прихожей, по кухне, и я снова давил на кнопку, и монеты звенели, падая на пол, и мы катались по этому золотому ковру, резвились, смеялись и не могли остановиться и штамповали желтые кружочки еще и еще, и звонкий, золотой, солнечным блеском сияющий дождь не кончался…
Потом надоело. Все это было в общем ужасно глупо. Мы топтали не золото — мы топтали уже его труп. Мы праздновали победу над страшным идолом, но это была не наша победа. Всесильное золото убил Апельсин. Одним точным выстрелом. А впрочем, не я ли ставил ему прицел? И я считал себя вправе гордиться этой победой. «Никогда, — думал я, — никогда больше не будут люди гибнуть за металл». Было ли это действительно важно — не знаю. Но, черт возьми, почувствовал вдруг свободу от пресловутого денежного мешка — это было прекрасно!
Еще несколько дней потом мы находили по всей квартире закатившиеся куда-нибудь маленькие тяжелые полуимпериалы. Но основную массу собрали в углу и пользовались ею в дальнейшем как сырье для копий, совмещая при этом приятное с полезным. Высокая плотность благородного металла давала удобство, а сознание власти над тем, что так долго и безраздельно властвовало людьми, дарило ни с чем не сравнимое удовольствие.
Легли мы далеко за полночь. И только теперь, когда мне в глаза полыхнули белые, словно светильники молочного стекла, Ленкины груди и такая же, слепящая белизною полоска от трусиков на золотисто-рыжем загорелом теле, я вспомнил, как я соскучился без моей Малышки, как не хватало мне все это время ее прекрасного тела, его нежности и теплоты, а потом оказалось, что Ленка соскучилась по мне еще больше, и мы, как всегда, не гасили свет, и мой, ставший на БАМе шоколадным, торс смешно контрастировал с бледными ногами, и были усыпанные неубранным золотом белоснежные простыни и аппетитная, темная, поджаристая плоть с прилипшими звездочками монет.
ОРАНЖИТ
Купив «Мимитэ», он сначала, как и все начинающие, воспроизвел яйцо, пачку сигарет, книгу. Потом все это ему надоело, он отнес «Мимитэ» в собственную мастерскую и там разобрал до последнего винтика.
П. ЛевиА на следующий день мы сделали два крупных открытия.
Первое явилось результатом эксперимента по вскрытию сибра на предмет выяснения его устройства. Я догадывался, что не пойму механизм его действия, но то, что нам довелось увидеть, превзошло всякие ожидания.
Вначале я решил распилить сибр пополам обыкновенной ножовкой. Металл (похоже, это был какой-то сплав) оказался удивительно твердым, ножовка вгрызалась в него лениво и тупилась на глазах. Ленка минут пять наблюдала, как я усердствую, потом начала смеяться. Я оскорбился:
— Сама попробуй.
— Виктор, — выдохнула она сквозь смех, — прекрати.
— Что прекратить?
— Прекрати его пилить.
— Это еще почему?
Но на всякий случай я остановился.
— Эх ты, инженер будущий! — Ленка продолжала смеяться. — Ты же как та старушка, которой предложили сесть в машину, а она говорит: «Рада бы, голубчик, да некогда — идти надо».
Несколько секунд я напряженно размышлял, а потом сразу все понял. Ведь сибр, помимо всего прочего, это еще и универсальный резак, располагающий причем как бы двумя ножами: опасным — воронкой питания и безопасным — экспокамерой, режущим не сам предмет, а только его копию. От греха подальше, мы решили использовать второй вариант и сделали разрез аппарата по линии кнопок.
Само появление сибров не поразило меня так, как поразило их устройство. Дело в том, что у них не было устройства. Весь внутренний объем заполняла та самая апельсиновая масса, а выходы кнопок представляли собой просто металлические конусы, погруженные в эту массу. И была еще полость для переработанного сырья, отделенная от основного объема тонкой металлической стенкой, а от гивера, который она охватывала полностью — оболочкой из черного материала, похожего на пластик. Из такого же материала выполнена была и воронка питания и внутренняя поверхность экспокамеры. А поскольку в этом сибропластике, как мы его окрестили, нигде не обнаружилось ни одного отверстия, стало ясно, что он, в отличие от металла, проницаем для зеромассы.
Мы сидели и боялись шевельнуться. Невероятная до абсурда простота устройства сибра ошеломила нас.
Ленка первая решилась произнести то, что еще не вполне определенно, но уже навязчиво вертелось в мыслях у нас обоих.
— Витька, он живой!
То же самое подумал я тогда, в лесу, про Апельсин. собственно, это и был Апельсин, только забравшийся в металлический корпус, спрятавшийся в удобную для восприятия оболочку. И все чудеса совершал он, мое же изобретение ограничивалось дизайном — ведь вся многокнопочная автоматика оказалась в общем почти бутафорией. В зависимости от пожеланий трудящихся Апельсин легко мог обратиться волшебной палочкой, рогом изобилия, золотой рыбкой или, наконец, просто скромным химическим реактором величиной с дом. Но он обернулся сибром.
Признаться, первым желанием, когда мы вскрыли сибр, было у меня вновь коснуться апельсиновой массы, убедиться, что она такая же теплая и упругая, и я уже протянул руку, но замер, остановленный Ленкиным шепотом: «Витька, он живой!» А если живой, имею ли я право трогать его? Я смотрел на оранжевую, ровную, чуть прозрачную поверхность и поеживался, словно по спине у меня вновь, как тогда в лесу, побежали холодные струйки. А в голове стучало еще одно внезапно вспомнившееся слово контакт. И от него бросало в озноб. Да, я, конечно, понимал, что сибры сварганил для меня некто. Но он был и пропал, этот оранжевый шарик, и я перестал о нем думать. Видимо, человеческий мозг подсознательно отбрасывает то, чего не в силах понять. А вполне земная, вполне человеческая игрушка — сибр — была куда как интереснее. И вот теперь оказалось, что сибр и Апельсин — одно и то же.
Это было открытие. И это было потрясение.
Потребовалось двадцать минут на дремучие рассуждения о кибернетике, биологии и физике с безграмотными выводами о возможной природе Апельсина, еще десять — на чисто логические выкладки по поводу вероятных последствий и, наконец, полчаса — на возвышенную дискуссию об этике контакта и моральном облике человечества, которое мы представляем, прежде чем я сказал:
— Да ну тебя, Ленка!
И взял половинку сибра руками. А дальше — лиха беда начало! — остановиться мы уже не могли. Из четвертушки оранжевую массу вытряхнуть не удалось, зато из осьмушки, в которой не было кнопок, она выскочила сама собой и довольно быстро свернулась в идеальный шарик. Свойство оранжита — так с Ленкиной легкой руки стали мы называть апельсиновую массу — образовывать фигуры с минимальной поверхностью мы обнаружили еще на четвертушке, когда острая грань начала округляться прямо на глазах. Далее выяснились следующие свойства. Оранжит, извлеченный из сибра, имел комнатную температуру. Оранжит легко резался ножом, но совершенно не поддавался ковке и не работал на растяжение. так что в результате наших опытов по механике все вокруг было усыпано рыжими шариками самых разных размеров. Оранжит оказался скучным материалом: в воде не тонул и в огне не горел, не растворялся ни в чем (кипящая щелочь, горячая «царская водка» и ацетон были ему не страшнее лимонада) и в довершение ко всему наотрез отказался проводить электрический ток, хотя, мне казалось, что мог бы, если б захотел. За неимением электронного микроскопа, мегаатмосферного пресса и ядерного реактора опыты пришлось прекратить. И хотя мне было бы очень любопытно швырнуть оранжит в жидкий гелий, в катушку высокочастотного генератора, в жгут термоядерной плазмы или в глубокий вакуум, каким-то уголком сознания я уже догадывался, что все это будет бесполезно, даже электронный микроскоп.
Забегая вперед, но вместе с тем стараясь не влезть в дебри современной сибрологии, скажу вкратце, что оранжит оказался субстанцией, состоящей из обычных совершенно нормальных атомов углерода, водорода и кислорода, но связанных не химически. Отсюда и вытекало полное отсутствие у него агрегатных состояний и очень малое количество определенных физических свойств. О химических же свойствах говорить просто не приходилось: оранжит не был веществом в нашем понимании. И наконец, для полноты характеристики следует сказать еще о двух свойствах — сибрологических, как их теперь называют. Оранжит, вопреки ожиданиям, без труда превращался в зеромассу и так же легко копировался.
Кажется, я все-таки залез в дебри и чувствую, что сейчас начну рассказывать о свойствах зеромассы, сибропластика, сибросплава и еще черт знает о чем. А ведь я пишу не учебник по сиброхимии — я пишу биографию катаклизма, и пора возвращаться к главному — к нашему второму открытию.
ЮНЫЕ МЕДИКИ
…Пользуясь исполнителем желаний, необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
Дж. БраннерОшалевшие от невероятного, доселе и не снившегося ни одному ученому потока новых фактов, явлений, свойств, мы вдруг осознали, что совершенно не готовы все это воспринимать, и пришли в ужас, и замерли в растерянности, словно проснулись от тяжелого сна, отдуваясь и вытирая со лба холодный пот. Это и было своего рода открытием, открытием важным и наводящим на грустные размышления. Но размышления были прерваны, потому что случилось нечто, потрясшее нас гораздо сильнее, хотя к этому мы и должны были быть готовы.
Разрезая с помощью сибра пополам большой китайский термос, дабы посмотреть, что будет с вакуумом, я зазевался и оставил в камере указательный палец, так что вместе со всхлипнувшей половинкой дьюара в гивере появился кровоточащий обрубок.
В сущности, было очевидно, что сибр копирует все, но кусок человеческой плоти — это было как-то уж слишком. Я боялся прикоснуться к нему. Ленка же — убедиться она что ли хотела? — сунула в камеру руку чуть ли не по плечо и тем разнообразила наше людоедское пиршество. И вот когда я извлек эту руку из рукава кофточки, залив кровью себя и пол вокруг, обоих нас замутило. Но эксперимент хотелось продолжить, и мы вспомнили, что юные медики в таких случаях пьют спирт. Спирта у нас не было, не было вообще ничего спиртного, и проще всего казалось взять один из червонцев и сбегать в магазин. Но тут я увидел, что на донышке коньячного «мерзавчика», стоящего в секретере, осталось смехотворное количество желанной влаги, и мне захотелось поиграть. Я наштамповал с полсотни бутылочек, перелил все остатки в одну, и, размножив теперь уже эту, почти полную, набрал целый чайник коньяку. Не знаю, что помогло нам больше — алкоголь или все эти шалости, закончившиеся питьем из носика, но так или иначе, вид крови на отрезанных конечностях не вызывал у нас уже ничего, кроме здорового научного любопытства.
И вот, накопировав в экспериментальном угаре груду пальцев, рук, ног и начав уже хулиганить с другими частями тела, мы с Ленкой вдруг одновременно поняли, что ни у меня, ни у нее не хватит смелости залезть в сибр целиком. То есть, это мы сначала решили, что не хватит смелости, а потом до каждого из нас дошло, что совсем наоборот — хватит благоразумия не залезть. Но идея возникла, она уже жила в нас, и мы не знали, как быть. Нужно было продумать все возможные последствия: от появления в комнате какого-нибудь чудовищного зомби до перехода в пресловутый параллельный мир.
— Мне кажется, — сказала Ленка, — живого человека он не скопирует. Получится труп.
— Не думаю, — возразил я, — ведь руки-ноги выскакивают теплыми, и кровь из них хлыщет почем зря.
— Ну, тогда не скопируем разум, и получим свою копию в виде полного кретина.
— А вдруг экспонирующее поле смертельно для мозга, и трупом станет оригинал, а копия пойдет гулять по свету?
— А может быть, два трупа?
— А вдруг никаких копий и никаких трупов, и оригинал пропадет?
— Шутишь? Куда же он денется?
— Да куда угодно! Ты понимаешь, что мы ничего не сумеем предсказать? Что могут предсказать две мышки, попавшие в цех-автомат по производству сыра?!
— А что ты на меня кричишь?
— Не знаю, — сказал я. — Я не на тебя кричу. Просто…
— Что? Испугался что ли?
— Да нет…
— Слушай! — Ленка вдруг выдала еще одну очень толковую гипотезу. — А вдруг он запрограммирован не копировать людей?
— Кем? — спросил я. — Ведь я-то не программировал этого.
— Ну и дурак, — сказала Ленка простодушно.
Действительно дурак. За весь период долгих размышлений о синтезаторе Брусилова я ни разу не задался этим очевидным вопросом, и теперь не мог представить себе, какою логикой руководствовался в своем творчестве Апельсин. Но еще более нелепым было то, что ни мне, ни Ленке, ни в одну из наших замечательных голов не пришла простейшая мысль — провести эксперимент на животных. Конечно, эксперимент был бы не чистый, но все же…
В общем в тот вечер мы так и не попытались сделать себе двойников, а перед сном Ленка сказала:
— Знаешь, Виктор, а ведь мы туда все-таки залезем.
— Конечно, залезем, — я постарался сказать это как можно веселее, но весело не получилось.
— Никуда нам от этого не деться, — голос Ленки стал мрачным. — И, знаешь что? Уж помирать — так вместе.
— Абсолютно нелогично, — возразил я. — Даже если помирать. А во всех других случаях — так просто полный абсурд — лезть в сибр вдвоем. Нужен сторонний наблюдатель. Черт возьми! Да в конце концов, нужен просто оператор — кнопки нажимать. Не безрукую же копию делать.
— Тоже мне проблема! — возмутилась Ленка. — Я что, не смогу сделать устройство для дистанционного нажатия кнопок?
— Какое еще устройство?
— Да хотя бы вот такое.
Ленка схватила лист бумаги и стала быстро чиркать на нем фломастером. Этим дело не кончилось. Если Ленка заведется, ее уже не остановить. Она мигом впрягла меня в работу, и за каких-нибудь полтора часа мы сварганили систему, позволившую нажимать на кнопки, дергая за веревочку изнутри камеры, и в гивер снова посыпались окровавленные руки. Ленка деловито собрала их, вытерла тряпкой кровь и побросала все в воронку питания. Потом включила сибр и сказала строго, по-хозяйски, будто речь шла о стиральной машине:
— Вот это докрутится, и все, на сегодня хватит. Спать.
— Слушаюсь, мэм, — сказал я и, отхлебнув от чайника, пошел мыться.
А стоя под душем, я вдруг ужаснулся от мысли, что Ленка, оставшись одна, полезла там без меня в сибр, и выскочил из ванной, даже толком не вытеревшись. Но моя Малышка сидела спокойная и задумчивая в кресле перед сибром и потягивала что-то из стакана, как выяснилось, виноградный сок пополам с нашим «синтетическим» коньяком.
А потом мыться ушла она, и уже я сидел напротив черного, зловещего зева сибра, похожего на вход в мрачный подвал, и меня неудержимо тянуло туда, как некоторых больных тянет к краю обрыва или под колеса надвигающегося поезда. И я должен был прихлебывать из чайника, чтобы все-таки удержаться и не сделать рокового шага в черноту.
А потом из ванной пришла Ленка, и даже халата на ней не было, а кровать мы так и не убирали с прошлой ночи, и я только скинул на пол раскиданные по одеялу вещи и полотенце, намотанное вокруг бедер, и нам обоим было так здорово, что мы начисто забыли про все на свете сибры, оранжиты и зеромассы и уснули, не погасив света, в совершенно нелепой позе, описывать которую я бы воздержался.
А под утро мне привиделся сон.
Серый полуразрушенный дом с темными провалами окон без стекол и даже без рамы. Из оконного проема этаже этак на четвертом торчит широкая доска. Я вижу, как человек в одних плавках вбегает в дом и поднимается по лестнице. Потом я перестаю его видеть, но знаю, что он продолжает подниматься. Наконец, он появляется в окне. В том самом, с доской и выходит на ее край. Доска пружинит. Человек поднимает руки, вытягивается на носках и, мягко оттолкнувшись, прыгает. В воздухе он группируется, делает полтора оборота и, выпрямившись, падает головой вниз на битый кирпич, пыльные доски с гвоздями и ржавые, изорванные листы кровельного железа. Откуда-то возникают двое в военной форме, подхватывают исковерканное тело и тащат его к большому сибру, стоящему неподалеку. Они закидывают труп в воронку питания, жмут на кнопки, и из гивера выскакивает новый, точно такой же человек в плавках. Забегает в дом, поднимается, прыгает. Все повторяется в жуткой последовательности. И я вдруг понимаю, что человек в плавках — это я, то есть копия с меня. И тогда меня замечают военные, а я замечаю, что на мне только плавки, и хочу удрать, но почему-то бегу к дому, и взбегаю по лестнице, и слышу внизу стук сапог, и свернуть совершенно некуда, и на четвертом этаже открыта только одна дверь, а за нею — длинный глухой петляющий коридор, и меня уже догоняют, а впереди только оконный проем и широкая доска, торчащая на улицу. Они выскакивают из-за поворота, и я в ужасе прыгаю. Доска подбрасывает, я лечу кувыркаясь, как попало, и падаю на кусок бетонной плиты, и торчащая из него арматура пронзает меня насквозь. Мне очень больно, но я еще жив. Лежу и боюсь шевельнуться. И тут подбегают они. Молча снимают с арматуры, волокут к сибру. Кричу: «Я живой! Куда вы?! Я живой!» Не слышат, тихо переговариваются между собой: «Куда нам такой ломаный?» — «Конечно, дешевле нового сделать». Меня поднимают, и я вижу, как, словно ртуть, блестит на дне воронки зеромасса. «Нет!!!» — кричу я и пытаюсь удержаться, но края гладкие, скругленные, и руки скользят, и я теряю равновесие, и просыпаюсь на полу.
ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ
Как не велико сходство с образцом, какой бы совершенной ни была копия, двойник все-таки другой человек. Он способен мыслить и приобретать знания.
К. СаймакНога затекла, а руки ныли от неудобной позы, в которой я спал. В боку кололо. Это была знакомая боль: такое бывало, когда я мало спал, плохо ел и много нервничал. Что-то подобное получилось и теперь. Я поднялся, хромая, и погасил свет. В комнате повис полумрак раннего утра. Ленка спала крепко, даже не слышала, как я упал. А мне теперь спать не хотелось, я боялся спать. И, присев на краешек дивана, я глядел на большое и темное в сумерках тело дремлющего сибра и Ленкины веревочки, слегка качавшиеся от сквозняка перед гигантской пастью экспокамеры. И я вдруг понял, что, как бы ни старался перехитрить сам себя, все равно мне предстоит, и предстоит со всей неизбежностью сотворить своего двойника. А значит, чем скорее, тем лучше. потому что это единственный способ получить ответ на мучающий меня вопрос. И ведь Ленка считает так же, она уже сказала об этом накануне. Но она боится, и это понятно. Но она боится, и это понятно. Я тоже боюсь. И все-таки я боюсь меньше. Потому что сам придумал сибр, сам задал ему программу. Так мог ли он уничтожить меня? Строго говоря, мог. Риск был. Но ведь и рисковать тоже мог и должен был только я.
Я встал и шагнул к сибру. Снял с воронки питания большой лист фанеры, которым мы прикрыли ее на всякий случай, прилепил на край конец длинного шланга, сделанного нами из многократно повторенных коротких резиновых и металлических трубок, и, сходив на кухню, включил воду. Если бы в качестве сырья я решил использовать воздух, его пришлось бы выкачать изо всей квартиры, поднялся бы жуткий шквал, а я был уже сыт по горло зрелищем падающих от этого вихря увесистых предметов. Вода набиралась ужасно медленно. Я стоял пригнувшись внутри камеры и думал о том, как много не предусмотрел в конструкции сибра. Короткий период восторгов кончился, начиналась пора трезвого анализа, мучительных сомнений и работы — титанической работы по освоению собственного легкомысленного творения. И еще я думал о Ленке. Она лежала в трех шагах от меня и крепко спала, а я стоял в хищной пасти сибра, скрюченный, нелепый, как знак вопроса в конце утвердительной фразы, и был готов к любому исходу, и чувствовал себя предателем. Но об этом нельзя было думать, и, как только по звуку льющейся воды я понял, что ее уже достаточно, я тут же дернул за веревку, а потом за вторую и за третью. И ничего не почувствовал.
Он вышел из сибра и улыбнулся. А мне улыбнуться не удалось. И сразу подумалось: да, это не отражение в зеркале, о котором можно говорить в первом лице. Он был другим. Похожим, но другим. И мы стояли и смотрели друг на друга в полумраке, и была в этом жуть и восторг, радость свершившегося чуда и страх перед неведомым. Он шагнул навстречу, и моя растерянность достигла апогея: что, что я скажу ему? Так разница между нами, намеченная еще его улыбкой, усугубилась: он, в отличие от меня, держался уверенно, словно всю свою жизнь общался с двойниками (впрочем, ведь так оно и было).
— Пошли на кухню, поговорим, — сказал он очень тихо, и я поймал себя на том, что собирался сказать в точности то же самое, но он опередил меня.
И я пошел за своим двойником, еще не понимая, почему именно он захватил инициативу. А он выключил воду (я было кинулся туда же), потом открыл холодильник (за этим занятием мы столкнулись лбами, но не обиделись друг на друга), извлек давешнюю смесь коньяка с соком, долил ее водой и расплескал по чашкам, взятым с сушилки. Я сдержался и не стал мешать ему больше. Мы все делали одинаково, но он опережал меня. Я это понял. Соревноваться было бессмысленно. Почему так — я не знал, но я порадовался этому независимо от меня возникшему различию. Оно помогало мне. Ведь мы должны были во что бы то ни стало научиться не только дублировать, но и дополнять друг друга. Неожиданно оказалось, что научиться этому проще, чем мы думали. Едва он задал свой первый вопрос, как у меня сразу пропало желание повторять его слова. Возникла необходимость отвечать. И это было очень естественно. Кому из нас не знакомы мысленные беседы и споры с самим собой? Вот почему нам сразу и без труда удался нормальный, во всяком случае, почти нормальный диалог.
— Да, браток, — сказал он глотнув, — не самый лучший момент выбрал ты для размножения: глаза слипаются, башка трещит и во рту пакостно.
Потом добавил:
— Это ничего, что я сказал «ты»?
— А ты считаешь, что мы должны говорить друг другу «вы»? — таков был мой первый вопрос к своему двойнику.
— Да, сэр, ведь мы же с вами интеллигентные люди, — произнес он с издевкой, а потом — без паузы: — Идиот! Я должен был сказать «я». Ведь это я выбрал неудачный момент для самокопирования, и я, точно так же, как и ты, отвечаю за все твои — они же мои — поступки. Ты пойми, пока еще я и ты — это одно лицо, но чем дальше, тем в большей степени я буду становиться самобытной личностью, у меня появится…
— Остановись, — сказал я, овладев собой, — все это не интересно, потому что очевидно.
— Потому что я — это ты.
— Перестань, — сказал я. — У нас есть много серьезных проблем. А две головы лучше, чем одна. Даже две одинаковые, но давай постараемся сделать их разными.
— Они и будут разными.
— Согласен. Но хотелось бы поскорее. Мы не должны повторять мысли друг друга — мы должны спорить. А для этого надо прежде всего четко сформулировать позиции.
Но мы далеко не сразу научились четко формулировать позиции. Было много бесполезного перебивания, глупых вопросов, шуток, дурацкого смеха, перебранок и даже нелепой боязни друг друга. Но два полезных вывода мы все-таки сделали. Первый: моему двойнику нужно имя. И мы его придумали. Ведь он никто иной, как другой я, альтер эго, и отбросив «эго», мы получили звучное имя Альтер. (Фамилию решено было оставить мою). Вторым дельным выводом было решение немедленно приступить к разработке плана дальнейших действий, причем я должен был отстаивать вариант наискорейшего обращения за помощью к властям и специалистам, в то время как Альтер призван был защищать вариант максимальной автономии нашей исследовательской группы. И я уже выдвинул на обсуждение свой первый тезис, когда увидел, что альтер смотрит мимо меня на дверь из кухни, и вспомнил про Ленку.
Она стояла, держась одной рукой за притолоку, а другой терла глаз. Волосы ее были растрепаны, ночная рубашка надета косо, наспех, на левой щеке остался след от смятой наволочки. И я ощутил жалость и стыд за свой поступок. А Ленка сказала:
— Свинья ты…
И добавила, не зная, к кому из нас обратиться:
— Свиньи вы, ребята.
И это было так трогательно, что мы прониклись к Ленке еще большей жалостью, но мы не знали, что делать, мы не решались вскочить оба и извиняться, и утешать ее, мы не знали, как она прореагирует, а кидаться к ней лишь одному из нас было бы уж совсем глупо. И мы сидели, полные оба одинаковой нежности и жалости к ней, и молчали, как дураки. И тогда из глубины коридора, из-за Ленкиной спины появилась еще одна точно такая же заспанная Ленка и с той же интонацией сказала:
— Свиньи вы, ребята.
И обе они засмеялись.
Вот это был розыгрыш! Мы вскочили им навстречу и тоже стали хохотать, и что-то кричать, и прыгать, и тискать друг друга, и целоваться меняясь партнершами, а потом я и Альтер подхватили каждый по Ленке на руки и понесли в комнату, и повалились все вместе на постель и было немного тесно, зато очень весело. Правда, должен признаться, в какой-то момент нам стало вдруг стыдно, и потому на первый раз ничего не получилось. Все-таки это было очень непривычно. Да еще нам всем одновременно неудержимо захотелось пить, и вообще мы чувствовали себя скверно.
— Ну, ладно, развратники, — сказала одна из Ленок, — шведской семьи из нас не вышло…
— Пока, — поправила другая.
— А я считаю, что вышло, — возразил Альтер.
— Не спорьте, — сказал я. — Мы — шведская семья по определению. Причем самая счастливая шведская семья в мире. Ведь более идеальную совместимость партнеров невозможно представить. А сейчас мы просто не в форме, и прежде всего надо позавтракать.
— Витька прав, — сказала одна из Ленок.
— Нет, — вмешался Альтер, — прежде всего надо придумать имя синтетической Ленке.
— Синтетика, — предложил я.
— Сам ты синтетика, — обиделась Ленкина копия, и я впервые увидел, кто из них кто.
— А что, — спросила Ленка, — для второго Виктора уже придумано имя?
— А как же, — гордо сказал мой двойник, — меня зовут Альтер.
— Отлично! — обрадовалась Ленка. — Значит, ее будут звать Альтерра. Нет, лучше Альтерина. А кратко — Алена. Годится?
— Годится, — сказала Алена.
Так нас стало четверо.
ВОЛШЕБНИК
Мне хотелось бы объяснить, что я сделал потом и как я это сделал, да только мне самому не понятно, откуда у меня взялось все это…
К. СаймакБыло уже девять (два по Иркутску), и не то чтобы хотелось, но надо было позавтракать. Альтера послали за продуктами. Ленка занялась готовкой того, что было в наличии, а мы с Аленой решили прибрать в комнате и заодно подумать о работе.
— Слушай, — сказал я, воспринимая ее пока еще как Ленку, — а как это все получилось?
— Очень просто. Проснулась я, наверно, от жажды, услышала на кухне ваши голоса и сразу все поняла: ведь не сошел же ты с ума. Ну, сначала обиделась, конечно, разозлилась, а потом думаю, поступлю точно так же, ничего другого ты от меня и не ждешь, ну и пошла к сибру. Между прочим, даже не посмотрела, есть ли что в воронке питания — рисковала устроить очередной ураган, но ты туда воды набухал на целого бегемота, так что все вышло тихо, и мы…
— Погоди, Ален, но ведь ты же не Ленка, а говоришь от ее имени.
— Попробую объяснить. Понимаешь, все Ленкино прошлое я воспринимаю как свое, оно и есть мое, вплоть до того момента, как я вхожу в экспокамеру и дергаю за веревки. А вот потом начинается нечто. Все вокруг растворяется в тумане, и я чувствую себя висящей в бескрайнем оранжевом пространстве. Причем ни за что не держусь, но никуда и не падаю. Потом помню, вдруг поняла, что все оранжевое из-за того, что глаза закрыты. Пытаюсь открыть — не удается: глаз-то никаких и нету. Хочу потрогать то место, где раньше были глаза, так ведь и рук тоже нету. Вот тут я и поняла, что у меня вообще нет тела, и возникло совсем уж странное впечатление, будто весь этот оранжевый простор и есть я. А потом оранжевое стало таять, тускнеть и рассеялось, как туман. А ощущение собственного тела пришло скачком, сразу. Я стояла в гивере, и не было никаких иллюзий. Полная ясность: я — копия. Вышла, увидела Ленку и говорю ей: «Давай подшутим над ними».
Я вспомнил рассказ Альтера о своем появлении. Все совпадало. Только у него была чернота, а не оранжевый простор, и ему удалось открыть глаза, но от этого ничего не изменилось. Тела своего от тоже не чувствовал, однако продолжал считать, что оно есть.
Впоследствии оказалось, что все эти нюансы ощущений сугубо индивидуальны и представляют интерес разве что для психологов. На деле же происходило полное переписывание информации с индивида на оранжит и с оранжита на гештальт, и дело это было секундное.
Вернувшись с кухни, Ленка потребовала от нас отчет о проделанной работе, но мы за болтовней успели только запихать в воронку питания белье, снятое с постели, да вчерашний мусор, разбросанный по комнате.
— Хорошо, — строго сказала Ленка, — ну а какие появились идеи?
Идей, признаться, не появилось никаких, но я решил сымпровизировать:
— Пожалуйста. В конструкции сибра выявлен ряд недостатков. Во-первых, он неуклюж, когда вырастает. Кстати, пора бы его уменьшить, занял полкомнаты, — и я нажал на кнопку «РОСТ-". Во-вторых, неплохо бы сделать гештальт видимым. В-третьих, сибр должен хранить информацию об оригинале сколь угодно долгое время. В-четвертых, кнопки «ПИТАНИЕ» и «СТОП» совершенно лишние. В-пятых…
— Постой, гениальный ты мой, — прервала меня Ленка. — Как ты собираешься все это делать?
— Очень просто, — окончательно обнаглев, объявил я. — А ну-ка, сибр, убери эту кнопку к чертям собачьим. Пусть отключение будет автоматическим по окончании каждого процесса, а остановка роста пусть производится соответствующей кнопкой «РОСТ».
И нарочито дурашливым жестом я прикоснулся к кнопке «СТОП».
Я полагал, что за эти дни мы разучились удивляться. Но я удивился, когда на несколько мгновений возникла странная иллюзия, будто сибр — продолжение моей руки, я словно почувствовал биение пульса внутри него. А потом удивились мы все, потому что кнопка «СТОП» начала сжиматься, превратилась в точку и исчезла. Потом, когда ошарашенность прошла, мы сообразили, что надо проделать эксперимент, и убедились: сибр понял меня абсолютно правильно. Он теперь отключался автоматически. Тогда Ленка попросила, чтобы гештальт стал видимым, положив ладонь сверху гивера. Ничего не вышло.
— Все понятно, — сказал я бодро, — видимый гештальт — это бред. Что там может быть видимым? Оптические лучи должны отражаться от чего-то, а в гештальте нет веществ.
— А я так не думаю, — сказала Алена. — Попробуй ты, Виктор.
— Зачем?
Вопрос прозвучал, но был уже лишним. Я понял, зачем. Я только не хотел, чтоб это было так.
Но это было именно так. Сибр — да нет, не сибр, а Апельсин! — слушался меня во всем. А мог он, похоже, очень многое. Даже слишком многое. И слушался меня. Одного меня. Только меня. Строго говоря, оставался еще Альтер, но почему-то я уже знал, что Альтер здесь ни при чем. Не стал бы Апельсин штамповать волшебников массовым тиражом — волшебников делают поштучно.
Но почему именно меня?!
Вот когда я по-настоящему испугался.
А потом пришла боль. Жуткая головная боль. Непредставимая, сводящая с ума, жгучая, всепроникающая. Пришла как расплата за магические способности. Впрочем, тогда я не поверил, что расплата действительно такова. Но уж слишком это было подряд: пропавшая кнопка, ставший видимым гештальт (невероятное, совершенно настоящее яблоко, а рука сквозь него проходила, как через воздух) и — боль, от которой, казалось, я вот-вот потеряю сознание. «Ничего не дается даром», — философствовал я, но в то же время говорил себе: «От ненормального образа жизни и нервного перенапряжения у кого хочешь голова разболится». Почему-то я не подумал, что если бы все было так просто, Альтер тоже мучился бы страшной мигренью.
И лишь когда уже в третий раз я взялся за переделку сибра, и ужасная боль бешеным пылающим шаром снова ворвалась в мою голову, я понял с опустошающей ясностью, что это не как расплата, что это и есть расплата, непонятно кому нужная, скорее всего просто не нужная никому, неизбежная, неумолимая, просто закон природы.
И только одно утешало: боль была недолгой, даже субъективно недолгой, а ребята вообще сказали, что меня скрутило всего лишь на минуту. Они удивились, с чего бы это, они посочувствовали, они предложили лекарство, но они не могли влезть в мою шкуру, и потому никогда они не могли понять до конца, как мне было трудно и страшно подходить к сибру и просить его стать другим.
А в тот прекрасный день в нашем доме царила радостная неразбериха, мы хватались за все, мечтали обо всем, стремились решать разом все проблемы и ждали чудес еще и еще. Что могла значить на этом фоне какая-то головная боль? Мы жили в сказке. Сказка продолжалась, и мы знали, что за болью последует чудесное исцеление, за смертельной опасностью — волшебное спасение, а за любыми трудностями и неудачами — счастливый финал. Мы без конца ждали чудес, и чудеса не кончались.
МОНСТРЫ
— Так, с ходу, — сказал Макреди, — я могу придумать только один достаточно достоверный тест. Если человеку выстрелить в сердце и он не умрет, значит, он монстр.
Дж. КэмпбеллВернулся из гастронома Альтер, купивший сметаны — одну коробку, творога — сто граммов, колбасы — сто граммов, сыра — пятьдесят(!) граммов, батон за шестнадцать, четвертушку черного, крохотную шоколадку и бутылку шампанского.
— А шампанского в «мерзавчиках» не было? — спросил я.
— Не было. И коньяк в обоих магазинах дагестанский — смысла не было брать.
— Слушайте, — возмутилась Ленка, — мы тут работаем, а он по магазинам армянский коньяк ищет!
— Что вы тут делаете? — не понял Альтер.
— Ты давай размножай свои продукты, — распорядился я, — а то съем все, и побежишь снова. А работа у нас такая: совершенствуем сибр.
И я рассказал Альтеру о нашем последнем открытии.
Потом, когда продуктов стало уже больше, чем надо (заслушавшись, Альтер явно перестарался), а сибр под руками Альтера решительно отказался принимать форму куба и заменить кнопочное управление на сенсорное, мы сели к столу, и вновь на какое-то время беззаботное веселье сменилось настороженностью, тревогой и сосредоточенностью. Ребята посматривали на меня растерянно, угрюмо и не находили, что сказать. Молчание нарушила Ленка:
— Нож ни черта не режет. Объявляю конкурс: как поточить нож с помощью сибра?
— Элементарно, — сказал Альтер, — подвести лезвие к воронке питания.
— Ну нет, — сказала Ленка. — Только не это. Отгрызет пальцы не заметишь как. Кстати, волшебник, запиши себе в план: воронка питания должна работать только в том случае, если из нее ничего не торчит. Техника безопасности. Понимаешь? Попроси сибр сделать какую-нибудь крышку или там фотоэлементы по краю выложить.
— Правильно говоришь, — согласился я. — Однако вернемся к ножу. Поточить его можно не только в воронке, но и в экспокамере.
— Ага, — сказала теперь уже Алена, — и опять полный гивер кровавых обрубков. Руку-то надо будет внутри держать, а с первого раза — это уж точно — ничего не получится. Ну вас в баню, людоеды!
«Идея», — подумал я.
— Идея, — сказал Альтер. — Без всякой крови.
— Сделать новый нож? — догадалась Ленка.
— Да, сказал я, — причем, из сибрового сплава.
Альтер встал из-за стола и приступил к делу. Он вкладывал в экспокамеру куски сибра, а я выгребал из гивера всю эту груду металлолома, выбирал что лучше и снова протягивал ему. Наконец, удалось сделать достаточно тонкую полоску. Слишком тонкую. Настолько тонкую, что обматывая ее изолентой для удобства эксплуатации, я порезался.
Я порезался и не почувствовал боли. В общем это было нормально. Когда порез очень тонкий, например, от бритвенного лезвия, боль приходит не сразу. Ненормально было другое. Когда я слизывал с пальца выступившие капельки крови, я едва почувствовал языком повреждение кожи, а когда отнял палец от губ, вообще не увидел никакого следа. И, еще плохо сознавая, что делаю, я вновь, но теперь уже глубже резанул себе кожу на ладони. И с облегчением ощутил боль и увидел кровь. Но облегчение было кратковременным, потому что боль прошла, а под собравшейся в ладони лужицей не оказалось даже шрама.
Ребята разом вскочили из-за стола, и у каждого на губах замерли слова, которые они не решились произнести. Я знал, о чем они думали. Ведь Альтер пока еще думал моими мыслями, а Ленку и, стало быть, Алену тоже, я давно уже научился понимать без слов. Они думали, что я перестал быть человеком, что Апельсин сделал меня сверхчеловеком, монстром, человеко-апельсином, и в силу этого я — волшебник, а от волшебника один шаг до злого колдуна, а от колдуна с такой страшной силищей в руках, как Апельсин — рукой подать до конца света. Наверно, мы с Ленкой здорово перечитали плохой фантастики, и мозги у нас были набекрень.
Я сам больше всех испугался. Я закричал:
— Я человек! Человек я!! Я человек!!!.. Да вы и сами, наверно, такие же.
Этот аргумент отрезвил их. Альтер взял нож у меня из рук и лихо полоснул себе вдоль предплечья. Эффект был тот же!
Один за другим мы нерешительно улыбнулись, на мгновенье задумались, а потом каждый, кто чем мог, кому что попалось под руку, принялся яростно, с одышкой и стонами сладострастья кромсать свою плоть. И все зарастало, все заживлялось на глазах, и не оставалось следов. И боль была сладкой, потому что ты знал, что она пройдет, пройдет быстро, сразу, и не будет рубцов и болячек, и не будет приступов дурноты, а будет только жгучий всплеск разнообразных, противоречивых эмоций, восхитительное зрелище срастающихся тканей и — на закуску — ни с чем не сравнимое, так хорошо знакомое больным и раненым наслаждение от затихающей боли. В мазохистском разгуле мы уже начали вскрывать себе вены и даже артерии, с любопытством наблюдая, как быстро опадают фонтанчики крови. И наконец Альтер медленно и жутко вспорол себе живот, и мы увидели надрезанные кишки, а он скорчился и упал на пол, но почти тут же стал сладострастно распрямляться и стонать и пыхтеть, а живот его уже почти закрылся, и это было омерзительно.
— Хватит! — закричала Ленка. — Хватит, уроды!
Она кричала истошно, отчаянно, каким-то не своим, полузвериным голосом. И мы очнулись, как от кошмара, и молча сели за стол. А потом все вместе встали и, вынув из шкафа не первой необходимости одежду, принялись вытирать перепачканный кровью пол. И Альтер лил кипяток из чайника на линолеум, на тряпки и на руки. И никому не было горячо. Только Ленка заметила ворчливо:
— Кровь отмывают холодной водой.
А я возразил:
— Для нашего пола это не имеет никакого значения.
Потом Альтера послали снова поставить чайник. И он как-то подозрительно надолго пропал. Я догадался, что он там делает, и в ярости ворвался в кухню. Альтер держал указательный палец в пламени конфорки и с увлечением наблюдал, как быстро восстанавливается обгорающая кожа.
— Слушай, двойничок, — сказал я, — хорош паясничать. У нас слишком мало времени, а проблемы слишком серьезные. Пора приниматься за дело. Пока не поздно.
— А когда будет поздно? — поинтересовался он, вынимая из огня палец и стряхивая с него пепел.
А я не успел ничего сказать. Ответом стал телефонный звонок.
Мы оба вздрогнули. За два дня, проведенные в окружении чудес, мы успели забыть, что живем пока еще не на другой планете и не в параллельном мире, а среди обычных людей, и нас связывает с ними все то, что связывало и раньше. Телефон в том числе.
Раздался уже четвертый звонок, а никто из нас не решался поднять трубку. Обе Ленки тоже стояли в растерянности. Бог знает какую чушь успели мы передумать в эти секунды! А что если на нас уже донесли, и звонят из милиции? (Но разве милиция станет звонить?) А что если в лесу проводился научный эксперимент, а я нарушил его, украв Апельсин? (Долго же меня искали в таком случае!) А что, если это звонят инопланетные хозяева Апельсина, и сказке — конец, как бывает в смешных и страшных рассказах Шекли, Каттнера или Тэнна?..
И все-таки я снял трубку.
Звонил Артур.
— Привет, старик. Это ты? Голос у тебя какой-то странный. Заболел?
— Да нет, просто пью подряд третий день, — почти не соврал я.
— Хорошо живешь, — позавидовал Артур. — Ну как оно там, на БАМе?
— Нормально, — сказал я.
— Слушай, ты ведь сейчас при деньгах, да?
Я задумался на секунду и ответил:
— Могу.
— Рубликов пятьдесят, старик, а?
— Запросто, — сказал я, ожидая, что Артур тут же попросит сто, но он не попросил.
— К тебе заехать?
— Нет! — вырвалось у меня испуганно и торопливо, и чтобы загладить возможно возникшее впечатление, я быстро пояснил: — Вечером буду в центре. На Пушкинскую к восьми подруливай.
— Отлично! — обрадовался он.
— Возле памятника. В восемь, — повторил я, а про себя автоматически отметил: «Час ночи в Иркутске».
— До встречи.
— Очень глупо получилось? — спросил я у Ленки.
— Весьма, — сказала она. — У тебя что, много лишнего времени?
— Лишнего времени, как и лишних денег, не бывает ни у кого и никогда! — обозлился я.
— Не прав, Брусилов, — возразил Альтер. — Как раз у тебя теперь очень много именно лишних денег, совсем лишних. И, кстати, я считаю, это хорошо, что ты договорился с Артуром.
— Чего ж хорошего? — возмутилась Алена.
— Нам всем пора немножечко встряхнуться, — провозгласил я.
— И даже не немножечко, а основательно, — поправил Альтер. — Иначе мы очень скоро сойдем с ума. Опыты превратились в сплошное самоистязание, от телефонных звонков шарахаемся, как от хохота сатаны… Дальше совсем хана, ребята.
— Согласен. Но прежде — за работу. Все за работу! Мы тут сидим в нашей теплой уютной норке, играем в восхитительные игрушки дьявольского происхождения и думаем, что так может продолжаться вечно. Не может! Финал будет ужасен! Если мы вовремя не подготовимся к нему.
— Ты прав, Виктор, хоть и вещаешь, как оракул, — сказала Ленка. — Пошли работать.
— И вот наш срок, — заключил я. — К семи часам вечера, то бишь, к полуночи по-иркутски…
— Надоел ты со своим Иркутском! — буркнула Алена.
— …Должна быть выработана полная программа действий.
— Ура, — сказал Альтер.
Чайник запел на кухне свою бурную песню, и мы сразу почувствовали, что так еще и не позавтракали толком, а времени было уже немало. Даже московского.
ДИСКУССИЯ
…Мы расставим по квартирам аппаратики, избавляющие нас от труда. Отныне человек имеет возможность три раза в день, протянув руку к кнопке, получить завтрак, обед и ужин… Труд превратил обезьяну в человека, безделье превратит человека в обезьяну…
Г. ГуревичДубликатор может принести людям только несчастье.
А. АзимовСели к столу. Чтобы не запутаться, решили вести протокол. Плюс к тому задействовали магнитофон, поубивавшись дружно, как только не догадались сделать этого раньше, положили рядом горку «свежеиспеченных» кассет. Альтер заварил кофе в крохотном джезвейчике на одну чашку и принес его на размножение.
— Погоди, — сказал я, — сподоблюсь еще на один подвиг. Нужное дело.
И я попросил сибр хранить информацию в виде гештальта сколь угодно долгое время вплоть до поступления новой информации. Боль не замедлила ввинтиться в голову, и сомнений насчет ее причин не осталось. Это вызвало злобу, перешедшую постепенно в неистовую потребность сражаться, действовать, руководить.
А в сибре, который мы повернули гивером к столу, стоял джезвей с дымящимся кофе, и странно было смотреть на застывшие, будто на фотографии, струйки пара над черной поверхностью жидкости. Мы нажимали кнопку «РАБОТА», вынимали готовую порцию, а гештельт оставался, и это было настоящее чудо.
Протокол дискуссии
Итак, возможны две точки зрения. Первая — как можно скорее передать сибр властям и специалистам. И вторая — как можно дольше держать его у себя. В рамках этой альтернативы я и предлагаю обсудить наши проблемы.
Альтер. Ну, на самом-то деле вариантов больше. Четыре, как минимум. Можно держать сибр у себя не как можно дольше, а бесконечно долго, всегда — вариант абсолютной автономии нашей группы.
Виктор. Это невозможно. Это окончится трагедией. Нас просто прихлопнут. Ты соображаешь?
Альтер. Минутку. Есть еще четвертый вариант. Единственный, кстати, который ни в каком случае трагедией окончиться не может. Полное и окончательное уничтожение сибров.
Виктор. Что?!
Альтер. Спокойно. Это всего лишь гипотеза.
Ленка. Глупая гипотеза. Да и посмотрела бы я на тебя, как ты будешь их уничтожать!
Альтер. Да как угодно. Было бы желание, а способ найдется.
Виктор. Не знаю, не знаю… Уничтожить сибр — разумеется, не проблема. Кнопка «РОСТ-" — и пожалуйста, вместо сибра оранжевая горошина. А вот уничтожить оранжит — тут я пас.
Алена. А зачем понимать так буквально? Можно ведь закопать, утопить…
Альтер. Э, нет! Это все поступки обратимые. Кто-нибудь когда-нибудь вновь найдет Апельсин.
Алена. Чушь собачья! Кто найдет оранжевую горошину на дне моря, в болоте или в жерле потухшего вулкана?
Альтер. Никто, если это просто горошина, а если это оранжит… Кто знает, как он поведет себя. Может быть, это не я нашел Апельсин, а Апельсин нашел меня.
Виктор. Не тебя, а меня.
Альтер. Да пошел ты! Главное вот что: кому-то нужно было подбросить нам этот шарик. И значит, он будет подброшен вновь. Нам же или кому-нибудь еще. Обидно, если кому другому. Согласитесь. А если опять нам… По-моему это будет страшно. Так не лучше ли сразу использовать выпавший шанс? Сразу и как можно полнее.
Виктор. Ну, согласен. Так какие есть предложения?
Альтер. Предложение первое: отказ от сибров. Аргументировать?
Виктор. Погоди. Существует два варианта отказа. Отказаться и контролировать неприменение сибров никем и никогда — отказаться и выкинуть сибр, то есть просто спихнуть с себя ответственность.
Ленка. Ой, Витька, не усложняй!
Виктор. Да нет же, ты не понимаешь, это самый принципиальный вопрос.
Альтер. Но он не подлежит обсуждению. По-моему, ни один из нас не собирается спихивать с себя ответственность.
Виктор. Вот поэтому я и хочу подчеркнуть еще раз: в случае отказа, мы должны будем всю жизнь нести этот крест, этот тяжеленный ключ от изобилия. И хотел бы я знать, в чьи руки попадет он после нашей смерти. А теперь аргументируй, почему надо отказаться.
Альтер. Пожалуйста. Это я запросто. Массовое производство сибров — это конец света. Во-первых, поставить сибр-технологию на службу военно-промышленного комплекса проще пареной репы. А то, что вся наша передовая наука трудится именно там, это мы с вами знаем. Сибр не станет исключением. И не надо обладать слишком большой фантазией, чтобы представить себе чудовищных пожирателей материи, а также сверхмощные бомбы всех видов в абсолютно безопасном исполнении, а также решение проблемы дезактивации и обеззараживания местности, а также неограниченную численность армии. Вот что приходит в голову неспециалисту за одну минуту, а уж эти-то параноики с с лампасами всего лишь за пару месяцев такого напридумывают, что уверяю вас, Армагеддон нашей планете обеспечен. Это во-первых.
Во-вторых. Мир захлебнется в изобилии (Если не сгорит). Обжорство, пьянство, наркомания в циклопических масштабах.
В-третьих. Высвободятся миллиарды рабочих рук, от безделья начнется деградация. Как там у классиков, труд создал человека? Ну так, отсутствие труда его и ухандокает.
В-четвертых. Жуткий разгул преступности как следствие изобилия, безработицы и возможности лепить двойников. Вообще двойники — это уже в-пятых. И это, пожалуй, пострашнее Армагеддона. Потому что утратится самое ценное в мире — человеческая личность.
Ну, и в-шестых, так, на закуску — экономический или, если угодно, экологический аспект. Для сибрового производства годится все, но где взять это все. При очевидной невозможности (поначалу, во всяком случае) централизованного всемирного планирования неизбежно хищническое разбазаривание гидросферы, атмосферы и литосферы, которое неминуемо приведет к экологическому дисбалансу.
У меня пока все.
Алена. У слова «кликуша» есть мужской род?
Виктор. Кликушер.
Ленка. Слушайте, а вот еще что плохо: у всех будет одинаковая одежка.
Альтер. Это еще почему?
Ленка. Ну, понимаешь, невозможно быть оригинальной. Допустим, я сошью себе платье, а какая-нибудь свинья возьмет и растиражирует его. Кошмар.
Виктор. Действительно, кошмар. Предлагаю этот фактор тоже учесть при вынесении приговора сибру.
Альтер. Учтем. Но ты будешь отвечать мне по существу?
Виктор. По существу? Сначала одно ма-а-аленькое дополнение. В случае полного уничтожения сибров и их следов в этом мире мы вынуждены будем, в частности, уничтожить и главное сибровое отродье — горячо любимых братьев наших не только во Христе — Алену и Альтера Брусиловых. Хорошо бы, конечно, и самоуничтожиться, но вот беда — некому будет сторожить оставшийся кусок Апельсина.
Ленка. Виктор, кончай балаган. Пора говорить серьезно.
Виктор. А я вовсе и не шучу. Все это более, чем серьезно. Мы — я и Ленка — связали свою судьбу с сибром навеки. Вы, порождение этой штуковины — тем более. И хватит ли у кого-то из нас духу уничтожить одновременно свое творение и творца своего. Кто знает, что будет после этого с нами. Может быть, вас, сиброкопий, вообще не станет — а ведь это убийство. Мы же, как минимум, лишимся наших новых способностей — обидно. Говоря короче, с сибрами хорошо, а без сибров плохо. Не может психически здоровый человек отказаться от личных благ во имя абстрактной цели, да еще весьма сомнительной.
Ленка. Верно, не может. А мы и не откажемся. Представляете, как здорово: посуду не мыть, стирать не надо, колготки дырявые выбрасывать можно сразу…
Альтер. Готовить не надо.
Алена. Ну, нет. Готовить я буду. Готовить — это приятно.
Ленка. Это когда как.
Виктор. Да погодите вы! Я хочу объяснить главное. Нет у нас четырех вариантов. Есть альтернатива: отдать сибр людям или оставить себе.
Алена. Что значит, оставить себе? Оставить и пользоваться? И где гарантия, что никто не отнимет?
Виктор. Вот именно, где гарантия? Об этом придется думать. Для примера рисую такую картину. Пользуясь нашими неограниченными средствами и невероятными возможностями, мы бежим за границу. В нашей стране по определению не удастся пользоваться сибром частным образом. Ну а там, лучше всего на каком-нибудь острове, разворачиваем свою фирму с охраной по последнему слову техники, со службой безопасности из преданных головорезов. Мы сможем заниматься очень благородной деятельностью: помогать голодающим и бедствующим, организовывать поставки чего угодно в любые страны, и никого к себе не пустим, пока человечество не дорастет в моральном смысле до восприятия нашего открытия.
Ленка. Слушай, ну вообще! Заживем мы на нашем острове!..
Альтер. Знаешь, чем это кончится? Кто-нибудь сбросит на нас химическую бомбу, а сибр попадет в лапы очередных идиотов.
Алена. Жалко.
Альтер. Вот и я говорю: жалко. Тем более, что скорей всего, мы не сумеем даже удрать за границу. Так что нечего детективы сочинять. Если уж отказываться от сибра, надо его прятать, консервировать. До лучших времен.
Виктор. Да не получится! Сколько раз повторять? Не по-лу-чит-ся. Мы выпустили джина из бутылки. Назад не загонишь. Но — мне кажется — в наших силах держать его на поводке, сделать ручным, управляемым. Один из вариантов я и нарисовал вам.
Альтер. Вариант ты нарисовал дурацкий.
Виктор. А я и не говорю, что он хороший. Лично я собираюсь подарить сибр человечеству, и сейчас буду опровергать твои аргументы. Малыш, крутани-ка назад пленку, чтобы я мог разобрать пункт за пунктом ахинею этого трепача.
ДИСКУССИЯ (продолжение)
Оставалось только стать благодетелем человечества. В белом ящике были лекарства для больных, еда для голодных, роскошь и изобилие для бедных.
Б. КрунаДублируя, предметы, можно дублировать и людей… Люди не нашли удовлетворительного решения этой проблемы.
А. АзимовЧтобы прокручивать запись и одновременно писать мое выступление, пришлось сделать еще один магнитофон. Составляя этот протокол, я не стал переписывать отрывки речи Альтера, которые прослушивал тогда, а перенес на бумагу только свой ответ.
Виктор. Военно-промышленный комплекс. Вам не кажется, что мы все отравлены преувеличенным страхом перед угрозой войны. А ведь если вдуматься, ни одна политическая доктрина не сумеет оправдать необходимость войны в условиях сибр-технологии. Делить станет нечего.
Теперь об обжорстве, пьянстве и наркомании. Наивно. Все ли богатые люди, имеющие возможность обжираться, напиваться и колоться, пользуются этим своим правом? Да почти никто! Ибо сладок запретный плод — вот вечная истина. А всеобщая доступность наркотиков будет началом конца наркомании. Ну, какой дурак захочет навечно припасть к шприцу и лишить себя всего многообразия развлечений и наслаждений, которые предложит мир сибрового изобилия.
Проблема занятости. Пардон, конечно, двойничок мой, но тебе кланялся Джон Лудд. Нельзя же мыслить на таком примитивном уровне! Разумеется, аналогия с опасением Норберта Винера по поводу второй промышленной революции и замены машинами работников умственного труда делает тебе больше чести, но и это уже вчерашний день. Луддиты громили станки. Бунтовщики из воннегутовского «Механического пианино», написанного строго по Винеру, выводили из строя ЭВМ. Но сегодня-то мы уже понимаем, что никакая машина не заменит человека полностью. В справедливом обществе. И не пристало нам под знаменем этаких нью-луддитов уничтожать только что созданный восхитительный сибр. А человек со скуки не помрет — всегда найдет, что делать. Работы у человека непочатый край. И сибр поможет, избавит от грязных, неблагодарных дел, ведь он не только копирует, пускает в серию, а творцом, создателем все равно останется человек. О чем тут спорить?
Поехали дальше. Ага, разгул преступности. Это серьезно, позвольте оставить на закуску. До конца можно не крутить — я помню. Альтер говорил еще об экологическом дисбалансе. Ну, это просто безграмотно. Да, начальный период пользования сибром будет несколько хаотичен, но что-то не верится, чтобы вот так вот сразу, на производство жратвы и тряпок угрохали заметную часть воды и очевидного удобства — именно в воздух и воду. Ну, а уж что касается литосферы, вряд ли мы доберемся до нее в ближайшие годы. Хватит на первое время огромного количества всякой накопленной дряни: отходов, оружия, плохой техники, плохих продуктов, заводов, наконец, пусть и неплохих, но отныне совершенно ненужных. Можно еще заглянуть в далекое будущее, в тот век, когда сумма всей массы, перешедшей в энергию в процессе превращения в сибрах одного вещества в другое, станет величиной, сопоставимой, ну, скажем, с массой Земли. Думаю, к этому времени мы научимся использовать массу астероидов, космической пыли, межзвездного газа, а может быть, чем черт не шутит, узнаем секрет превращения пространства в энергию и массу. Так что экологический кризис в сибровом мире нам явно не грозит. Больше того, экология — едва ли не главный аргумент в пользу сибра. Попутно и совершенно случайно я выдал универсальное решение всех проблем, связанных с загрязнением окружающей среды.
И, наконец, преступность. Если говорить о преступности вообще, то, по-моему, общее число преступлений резко снизится. Ведь очевидно, что все статьи уголовных кодексов, связанных с воровством, кражами, хищениями, взятками, финансовыми махинациями, подделкой денег, спекуляцией, валютными операциями и прочая, и прочая, потеряют всякий смысл. Таких преступлений просто не будет. Останутся лишь убийства, драки, изнасилования, растление малолетних, ну, что там еще, я не силен в уголовном праве. Да, с убийствами будет трудно. Тут и вылезает единственный, как я считаю, негативный аспект. То, что сибр копирует людей, является крайне неприятным его свойством. Но свойство это очевидное, и с ним надо как-то мириться. Думаю, возникнет новая, так сказать, сибр-юриспруденция, некий свод законов, который позволит привести в порядок человеческие отношения в новом мире. Не обойдется, конечно, без крупных неурядиц, но я — оптимист и полагаю, что все это преодолимо.
Альтер. Оптимизм и легкомыслие — не одно и тоже. Есть вещи, которыми нельзя платить даже за всеобщий и вечный рай. Если твои крупные неурядицы выльются в глобальную перестройку человеческой психики, наступит своего рода конец света: человечество, каким мы его знаем прекратит свое существование.
Виктор. Ну, а если так, тогда не знаю. Сибры — это конец света, без сибров — уже нельзя. Значит, просто ложись и помирай.
Ленка. Погодите, не может быть, чтобы все было так плохо. Это же все-таки не ядерная война, а так — апельсинчик какой-то да Витькина завиральная идея. Не похоже это на конец света. Обязательно должен быть какой-то выход.
Виктор. Да выход-то есть, конечно, сам чувствую, но только найти его нам с вами не под силу. Чайники мы. Понимаете? Мы и так уже залезли в те области, в которых ни черта не понимаем. О чем я и хочу теперь говорить, достопочтенные господа сибровики. Психология и психиатрия. Темный лес! А надо бы оценить влияние сибров на психику, ох как надо! Юридические знания. Нету. Сформулировать законы сибрового мира нам не по плечу. А ведь тоже надо. Экономика. Полные профаны. Сибр-технология — пока голый термин. внедрить ее мы сами наверняка не сумеем. Наконец, просто понять природу сибра, происхождение Апельсина и причину его появления на Земле мы тоже не сможем без помощи лучших умов человечества. Эрго: надо аппелировать к этим самым умам. И медлить тут нельзя. Мы и так слишком долго — преступно долго — развлекались, манкируя возможной опасностью и не думая о перспективах. К чему приведут в будущем наши легкомысленные эксперименты? Сколько страшных ошибок мы уже совершили? Надо покаяться в этих ошибках, ни в коем случае не совершать новых и дать возможность ученым все исправить. Другого выхода нет. Скрываться от властей глупо.
Альтер. Все сказал? Кому ты хочешь каяться, Витюха? Ведь ты не подсудимый, ты судья. Именно ты — верховный судья всего человечества. Ты что, забыл, что ты волшебник?
Виктор. Честно говоря, как-то вылетело из головы.
Ленка. Волшебник-склеротик.
Алена. Волшебник-маразматик. Да ты же можешь устранить единственный недостаток сибра. Прикажи ему перестать копировать людей. Слабо?
Виктор. Боюсь, что слабо.
Ленка. Почему?
Виктор. Да потому, что есть же какой-то предел моей власти над этой штуковиной.
Ленка. Почему?
Виктор. Но у него же должны быть какие-то свои законы! Ведь он же создан по каким-то законам!
Ленка. Что значит, по каким-то? Его же создал ты — тебе и выбирать эти законы.
Виктор. Я создал конструкцию, а не материал, а материал — это Апельсин. И я говорю о законах Апельсина.
Ленка. А о законах Апельсина мы пока ничего не знаем. Напрасно ты о них говоришь.
Виктор. Черт возьми, но ведь подчиняется же он законам природы?
Ленка. А ты это проверял?
Пауза.
Ленка. Виктор, что с тобой?
Алена. Тебе плохо?
Виктор. Нет… ничего… сейчас пройдет. Просто… не знаю…
Альтер. Спокойно, нельзя так дергаться. Не доживешь до светлого завтра. Постой, а это не от головной боли?
Виктор. Не знаю. Что я могу знать? Мне страшно. Понимаете? Это для вас сибр — игрушка. А для меня — это соблазн и проклятье. Для меня — это часть тела. Я же пальцем шевельнуть боюсь: а вдруг мой новый орган как-нибудь не так повернется. А вдруг вообще Ленка права, и я могу диктовать Вселенной свои законы? Вот тут уже шутки в сторону. Это, братцы, пострашнее всякой войны. Представляете, подхожу я к сибру и говорю: «Пусть число «пи» будет отныне не 3,14159 и так далее, а ровно три».
Альтер. Но это же чушь!
Виктор. Это для тебя чушь, а для Апельсина ничто не чушь, если это говорю я. И все. И нету ни тебя, ни меня, ни сибра — ничего. А есть только совершенно новый мир, в котором «пи» равно точно трем.
Ленка. Математический апокалипсис.
Алена. Тьфу на тебя, колдун. Аж зябко стало.
Альтер. Вот что, братцы! Мы здесь собрались не сказки страшные слушать, а вырабатывать программу действий. Сможешь ли ты изменить постоянную Планка или скорость света, проблема, безусловно, интересная, но решать ее не сегодня, а вот то, о чем сказала Аленка, считаю предложением дельным.
Виктор. О чем это?
Альтер. Не придуряйся. Ты знаешь, о чем.
Виктор. Ну, знаю. А как ты это себе представляешь? Кладу я руку сибру на «плечо» и говорю: «Сибр, браток, полно тебе людей копировать, перестань». А он мне: «Да я и не копирую. Стою себе, булькаю потихонечку и горя не знаю».
Ленка. Ну, что ты юродствуешь, Виктор? По-моему все очень просто. Ну, вот расскажи, как ты вообще это делаешь, когда просишь его о чем-нибудь.
Виктор. Да никак. Вхожу в контакт с корпусом сибра и как бы соединяюсь с ним в одно целое. А дальше информация практически самопроизвольно перетекает из моего мозга в оранжит.
Альтер. Перетекание информации — это оч-чень научно.
Виктор. Умнее объяснить не могу.
Ленка. Не цепляйся к мелочам, Виктор, то есть, Альтер. Насколько я понимаю, главное — придать нашей просьбе конкретный характер и однозначность. Ну и еще, пожалуй, она должна быть в рамках известных нам законов природы. Не будем играть с огнем.
Альтер. А видимый гештальт? Это как — в рамках?
Виктор. Кстати, думаю, что да. Но не будем отвлекаться. Так какую же ты предлагаешь формулировку, малышка?
Ленка. Я предлагаю на выходе, в гивере, получать труп.
Алена. Фи, как это неаппетитно!
Альтер. Долгое общение с сибром развивает в нас какие-то извращенные склонности.
Виктор. Не пойдет.
Альтер. Что не пойдет?
Виктор. Труп. Не годится. Что такое труп? Чем он, собственно, отличается от живого человека? Остановившимся сердцем? Температурой тела? Все непринципиально. Принципиально только отсутствие бессмертной души, отлетевшей на небо. Но сибру этого не втолкуешь. И я не хочу играть с трупами. Хватит с нас кровавых обрубков. Где гарантия, что в гивере не возникает сознание, индивид, а мы убьем его?
Альтер. Верно. К чему нам горы трупов? Сделаем все гораздо проще. Пусть присутствие в экспокамере живого существа автоматически отключает всю систему.
Алена. Но в таком случае он откажется копировать не только животных, но и растения. Неинтересная получится игрушка.
Ленка. Я продолжаю настаивать на варианте с трупом. Предложение Альтера не выдерживает никакой критики. Если даже мы сумеем объяснить сибру отличие человека от других животных — все равно. Обидно расставаться с возможностью копировать части тела. Для медицины — это же сокровище. Ну, а если принципиальной разницы между человеком и трупом, как утверждает Витька, нет, Апельсин, я надеюсь, придумает ее сам.
Альтер. А что мы трепемся зря? Надо пробовать.
Виктор. Ну уж нет. Никаких лишних опытов. Вы извините, ребята, но мне правда трудно все это делать. Правда.
Ленка. Витька, миленький! Тебе очень больно бывает?
Виктор. Очень…
В этом месте у нас кончилась пленка. Мы не заметили и продолжали говорить, а когда вспомнили, решили не вставлять новую кассету. Во-первых, дискуссия как будто подходила к концу, а во-вторых, в записи наш разговор воспринимался с трудом: беседовали две пары одинаковых голосов. И только благодаря тому, что каждый из нас помнил, о чем говорил, мне и удалось спустя два дня составить этот, уже знакомый читателю протокол.
ДИСКУССИЯ (окончание)
…Рог изобилия принадлежит вам, друзья. Вы заслужили его, заработали. Вы имеете на него право.
М. Емцев, Е. ПарновМозг — это та сила, которая может сдвинуть мир.
С. КингДальше наша беседа приобрела довольно бестолковый характер. Меня жалели, я пытался объяснить свои ощущения, мне пытались помочь советом. А вот потом нам суждено было сделать еще одно открытие, ставшее, как оказалось, определяющим для всей последующей судьбы сибров. Но в тот момент открытие это мы явно недооценили. Пресытились уже открытиями.
Идею подала Ленка.
— Слушай, Виктор, это твое перетекание информации, по-моему, бредятина какая-то.
— Но я же согласился: термин плохой.
— Да не в термине дело. Тебе не кажется, что все эти дурацкие фокусы с наложением дланей совершенно ни к чему?
— А что, прекрасная мысль! — воскликнул Альтер.
И я едва не воскликнул то же самое.
— Ну, давай, Вольф Мессинг, — сказала мне Алена, — проводи сеанс телепатии.
— Что будем просить у сибра? — деловито поинтересовался Альтер.
— Да погодите вы! — взорвался я. — Не горячитесь. Просьба нужна серьезная. Не могу я по пустякам мучиться.
Все как-то сразу растерялись. А Ленка предложила робко:
— Виктор, а что, если ты попробуешь просто управлять сибром на расстоянии. Не надо его изменять — просто заставь работать. От этого же не должна болеть голова.
— Заставить работать? — ошарашенно переспросил я.
Как они все легко за меня решили! Как они верили в мое беспредельное могущество! А я чувствовал себя ребенком, оказавшимся в одиночестве за пультом сложнейшего устройства, и мне очень нравились кнопочки, стрелочки, индикаторные лампочки, экранчики с пробегающими змейками, но я понятия не имел, что это за штука: диспетчерская автоматизированного центра развлечений или командный пункт мощной военной базы. Мне вновь — в который уж раз — сделалось страшно.
— Заставить работать? — переспросил я еще раз. — А как?
— Я не знаю, — растерялась Ленка. — Ты попробуй.
И я попробовал. Я просто представил себе, что нажимаю на кнопку. И у меня получилось. Сибр слушался. Причем, исполнение команды не зависело от расстояния, от заслоняющих предметов и от того, смотрю ли я на синтезатор. Похоже, он воспринимал мысль. Он становился как бы частью моего мозга. Теперь уже именно мозга, а не тела. (Тело не умеет так точно выполнять мысленные приказы.) я развлекался довольно долго. Что и говорить, дистанционно управляемая игрушка доставила много радости. Мы все развлекались, пока Альтер не придумал серьезную просьбу. Он предложил убрать кнопку «РАБОТА» и сделать таким образом сибр бесполезным для всех, кроме меня.
— Это же решение всех проблем сразу, — заявил он. — Сибры теперь будут работать только под твоим контролем.
— Миллиарды сибров под моим контролем? — спросил я его сочувственно.
Конечно, это никуда не годилось. Разве что все-таки оставить сибр себе… Такая защита вроде бы надежна… Да нет, куда там! Дадут сзади по башке и отнимут в рабочем состоянии, а потом еще заставят под пыткой выжимать из сибра какие-нибудь кошмары. Ничерта не давало мое умение заблокировать сибр. Нам все так же требовался безопасный, нечеловекокопирующий аппарат — с этим все согласились, — и мы вновь перешли к обсуждению эксперимента по его созданию.
— Прежде всего, — сказал я, — необходимо решить, на ком мы будем проводить этот опыт. Ведь результат может быть и отрицательным, и тогда на свет появится еще один сиброинвалид.
Признаться, вчетвером нам было вполне уютно. Никому не хотелось превращать квартет в квинтет (пятый — лишний!), да и в секстет тоже (три пары — это как-то многовато, во всяком случае для выработки единых решений). Вывод был очевиден, и Альтер сказал:
— Знаете, кому бы я не задумываясь доверил этот эксперимент? Любому из группы Черного.
— Диктую радиограмму-молнию, — сказал я, — на трассу «Базовый лагерь — полюс»: «Андрей Чернов срочно вызывается Москву превращения собственный труп синтезаторе Брусилова тчк».
— Очень смешно, — сказала Ленка.
— Слушайте, — вспомнила Алена, — мы сегодня с кем встречаемся? С Артуром?
— Нет, Артур не годится, — сурово отверг Альтер предложенную кандидатуру. — Что знает Артур, то будут знать и его многочисленные девицы. Может быть, Вадика?
— Вадик — хороший парень, — сказал я, — но он живет с родителями и сестрой. Неэтично впутывать его в эту историю, да и небезопасно.
— Валерка живет один, — предложил Альтер.
— А ну его в баню, — сказала Ленка, — он противный. Во! А что, если Олегу позвонить?
— Олегу? — я задумался. — Нет, Олег слишком умный. Он сразу выбьется в руководители нашей группы и навяжет какую-нибудь свою концепцию. С Олегом трудно. А нам сейчас не голова нужна — нам нужно только тело.
— Придумал! — воскликнул Альтер. — Самое прекрасное тело без сколько-нибудь обремененной мыслями головы, которое я знаю, это тело Светки Зайцевой.
— Ну ты и свинья! — сказали Ленка с Аленой практически одновременно.
— Ну, что вы, девочки, малышки мои, конечно, ваши тела прекраснее всех, я же не то имел ввиду, просто вы у меня умненькие…
— Светка тоже не дура, — возразил я, — но идея, прямо скажу, гениальная. Светка — это именно то, что нам нужно. Одинокая, скучающая, доброжелательная, ко всему готовая, без особых убеждений и принципов, нас хорошо знает…
— Остановись, болтушка, — прервала меня Ленка. — Что это вы так обрадовались, коты похотливые. Нас двоих вам мало что ли? Ишь, глазки-то заблестели! А вообще Светка — кандидатура подходящая. Я — за.
— Ну, что, звоним? — спросила Алена.
— Погоди, — сказал я. — Куда вы все летите, как тот паровоз, у которого в коммуне остановка. Мы же решили только один вопрос. Да, надо сделать социально безопасный сибр. А дальше-то что?
— А дальше все очень просто, — начал Альтер. — Разумеется, в случае удачного «ремонта» сибра. В случае неудачи придется раскрутить сначала нашу дискуссию. Итак, резюмирую. Первое. Проводим предельно полное (в рамках наших возможностей) исследование этой штуковины и наших видоизмененных организмов. Второе. Составляем подобное описание нашего изобретения. Третье. Составляем текст обращения к правительству. Бумага, к сожалению, всегда надежнее человека. Неизвестно, как поведет себя Виктор, и как поступят с ним, а бумагу прочтут в любом случае. Четвертое. Разделяемся на две группы. Виктор и Ленка идут сдавать властям, имея при себе: текст обращения, описание открытия и один — подчеркиваю, один — экземпляр сибра. А мы с Аленкой и, по-видимому, Светка размножаем сибры компактного размера и тщательно прячем их. И все это для того, чтобы предъявить правительству условие, которое войдет в историю цивилизации как знаменитое Условие Брусилова.
— Перестань паясничать, — сказала Ленка.
— Не перестану. Итак, Условие Брусилова.
— Убр, — сказал я.
— Какой убр? — не понял он, и я подумал: «Как быстро возникла между нами разница!»
— Синтезатор Брусилова — сибр, — пояснил я, — условие Брусилова — убр.
— Тьфу на вас, дураки, — сказала Ленка. — Вы что, не прониклись важностью момента?
— Это я-то не проникся? — я вспомнил свои боли. — Не дай тебе бог так проникнуться, как меня угораздило.
А Альтер назидательно изрек:
— Чувство юмора — это, быть может, единственное, что способно спасти цивилизацию в роковую минуту. А теперь слушайте. Условие Брусилова будет звучать так: в том случае, если правительство вынесет решение уничтожить сибр или на долгое время законсервировать его, Виктор Брусилов будет считать себя вправе принять собственное решение, а именно придать распространению сибров стихийный характер. Процесс этот остановить никому не удастся, волна «сибризации» быстро перехлестнет через границу, и сибр станет достоянием всей планеты. Поэтому мы…
— Стоп, — сказала вдруг Ленка. — Ахинея.
— Что — ахинея?
— Да все ахинея. Ни к черту не годится такой план с самого начала. Идти надо всем. Смешно оставаться кому-то. Куда ты спрячешься, когда нас будут искать всеми силами милиции и госбезопасности? Идти надо всем вместе — это очевидно.
— А кто же тогда выполнит Условие Брусилова?
Альтер спросил просто, буднично. Я же готов был закричать. Я понял, что Ленка права, и меня охватила паника. Нешуточная паника.
— Получается, что некому, — сказала Алена задумчиво.
— И что же, столько думали, планировали, решали — и все козлу под хвост?! — теперь уже Альтер почти кричал. — Я против. Надо рискнуть. Можно же, черт возьми, задействовать каких-то подставных лиц, каких-то сообщников, которых никто никогда не найдет, и через определенный срок они запустят нашу машину, если не будет выполнено Условие.
— Ненадежно, — заметила Ленка. — Я бы сказала, почти провально.
— И ты это так спокойно говоришь?! — Альтер чуть не выпрыгнул из-за стола. — Кто у нас любитель детективов? Давайте, девочки, придумайте какую-нибудь стопроцентную комбинацию.
— Стопроцентные комбинации бывают только у сил закона, — сказала Ленка.
— Мы же с вами — преступники, — добавила Алена.
— Сегодня же иду в ближайшее отделение милиции, — не смешно пошутил я, — ибо чистосердечное раскаяние облегчит нашу участь. Ребята…
— Придумал! — объявил Альтер.
— Это я придумал.
— Нет, Петр Иванович, — передразнил меня Альтер, — это я первый сказал «э».
— Да что вы там придумали, охломоны? — не выдержала Ленка.
— Вариант, — загадочно произнес Альтер, дразня Ленок.
— Стопроцентный, — улыбнулся я и, выдержав томительную для них паузу, пояснил: — Сибр, управляемый на расстоянии. А в сибре — гештальт Брусилова.
— И в случае непринятия нашего условия Брусиловы стройными рядами и с сибрами в руках завоевывают мир, — Альтер сиял.
— Постой, — сказала Ленка, — и что же, ты собираешься, прежде чем идти наверх, раскидать по всему миру неработающие сибры со своей копией?
— Во-первых, не только со своей, — изящно подправил я, — в каждом сибре я буду вдвоем с тобой, одному мне грустно. И во-вторых, зачем нам весь мир? Хватит одной Москвы.
— Ну и глупость получается. Москву оцепят и всех до одного выловят. Мне сразу показалась наивной твоя идея о перехлестывании сибризации через границу.
— И напрасно. В Москве на каждом шагу границы. Ты забываешь, Малышка, про посольства.
Ленка прикусила нижнюю губу и ошарашенно молчала.
— Лихо, — сказала за нее Алена.
— Весьма, — согласился Альтер.
И тут Ленка словно проснулась:
— Ребята, да это же политический бандитизм!
— Чепуха, — возразил я.
— Да ты что, — накинулась на меня Ленка, — ты считаешь, это нормально, вот так со свиным рылом, да в калашный ряд?!
— И вообще, — вспыхнула Алена, — сибровики вы зарвавшиеся, этот ваш «убр» — это не шантаж!
— В каком-то смысле, да, — раздумчиво проговорил Альтер. — но я не вижу другого выхода.
— Да погоди ты с выходом, — обозлилась Ленка, — тут и входа-то никакого не видно. Ты что, значит, считаешь, что мы четверо, а юридически вообще только двое, имеем право решать судьбу человечества? Ты так считаешь?
— Да, я так считаю, — твердо сказал Альтер. Потом помолчал и добавил: — Виктор, ты, наконец, созрел для того, чтобы ответить этим женщинам? Колдун чертов!
И я понял, что созрел.
— Альтер, — сказал я. — Малышка. И ты, Аленка. Слушайте меня внимательно. Нам с вами ничего не надо решать. По той простой причине, что мы уже все решили задолго до появления Апельсина. Изобилие нужно людям, и мы дадим им сибры. Ты спрашиваешь, вправе ли мы решать за всех. Думаю так: не больше и не меньше, чем любые другие ответственные или безответственные товарищи. Но Апельсин достался нам, и передоверять его кому-то просто неразумно. Что же касается, наших конкретных действий, то тут я полностью согласен с Альтером.
— Еще бы ты был с ним не согласен! — улыбнулась Ленка.
— Почему бы и нет? — возразил я. — Запросто могу не согласиться. Альтер, скажи что-нибудь.
— Садись писать обращение к правительству, волшебник.
— Не согласен! — радостно закричал я. — Буду печатать сразу на машинке, и поэтому сначала пойду к соседке за этим замечательным устройством.
ВСТРЯСКА
…Машина — это всего лишь машина, а не волшебная палочка!
Дж. БраннерА потом Альтер захотел курить.
— Ну что ж, — сказал я, — сгоняй за сигаретами.
— Послушай, брат мой апельсиновый, — ответил альтер, — ты что, создал меня в качестве мальчика на побегушках? Не пора ли и тебе проветриться.
И я согласился, что пора.
На улице было шумно. Интересно было на улице. Обыденно. Совсем не так, как будет очень скоро и уже навсегда. Проехал автобус, обдав меня ядовитыми газами. Прошла мимо плохо одетая женщина. Ветер гнал по пыльному асфальту окурки, спички, грязные бумажки, кусок мятой газеты. У винного отдела стояла очередь.
Я зашел в магазин и купил в штучном пачку «герцеговины флор», дороже ничего не было. Выйдя, я закурил и некоторое время постоял у входа, на приступочке, наблюдая угрюмую очередь в сакраментальный отдел. Очередь была страшненькая. Не вся, конечно, но в большей своей части. И я впервые задумался, с ужасом задумался, что станут делать с сибром люди. Вот эти, например, люди, которые сейчас обреченно, сосредоточенно и бессмысленно стоят в очереди за вином.
Курил я редко, и потому с трех-четырех затяжек чувствовал обычно легкое головокружение. А тут выкурил целую сигарету — и ничего, кроме привкуса дыма во рту. Но задуматься над этим не успел, отбросил от себя, как и предыдущие невеселые мысли.
Мои сибровики накинулись на сигареты и, затопив комнату сизым колыханием тумана, принялись на перебой излагать свои последние идеи. Это была жутко детективная история о том, как нас будут держать под арестом, как будут вытягивать из нас имена сообщников и места, где спрятаны сибры, какую технику и химию применят к нам для этого, и о том, как мы все равно ничего не скажем, потому что раскидаем сибры таким образом, что сами не будем знать, где они. И все это была страшная чепуха. А потом Альтер задал очень правильный вопрос:
— А куда ты, собственно, думаешь идти, Витек? В милицию или в Академию Наук?
— Да нет, — сказал я, — милиция нас сама найдет, если надо будет. И академия подключится на соответствующем этапе. Идти надо выше, гораздо выше.
— Согласен. Но как? С парадного входа? Это то же самое, что в милицию. Даже хуже.
— Разумеется, не с парадного входа. Только через знакомых.
— А-а, ну это запросто! — сказал Альтер. — У меня как раз есть пяток знакомых в Политбюро. А у тебя?
— Ценю твое остроумие, но лучше давайте все вместе вспоминать.
— Ну… — предложила Ленка, — у Машки отец — начальник главка.
— На худой конец сойдет, — сказал я, — но слишком долгая получится цепочка. Хотелось бы… О! Ведь у Валерки дядя завотделом в ЦК.
— А кто-то тут недавно говорил, что Валерка противный, — лукаво заметил Альтер.
— Беру свои слова обратно, — улыбнулась Ленка.
Еще минут пятнадцать мы обсуждали подробности моего визита к Валеркиному дяде, а потом Альтер уже привычным жестом потянулся к пачке и случайно заметил, что осталось всего две сигареты.
— Уроды! Чуть не забыли размножить, — возмутился он.
И только тогда мы увидели, что в тарелке лежит пятнадцать(!) докуренных до фильтра бычков, а воздух в комнате не совсем прозрачен. И никто (!) ничего (!) не чувствовал.
— Приплыли, братишки, — сказал Альтер. — Зря мы косились на нашего волшебника. Ничем он от нас не отличается, кроме своих фокусов с сибром. Все мы теперь монстры братишки. Ни нож, ни огонь, ни яд нас не берет. Одно слово — монстры.
Сразу решили: предложить Артуру пять червонцев с одним и тем же номером, некрасиво. И перед встречей мы заехали в сберкассу, где я торжественно закрыл только что открытый счет, сняв с него свои бамовские семь сотен. Какими мелкими казались теперь наши давешние склоки из-за шести тысяч, теперь, когда я стал обладателем богатства, не поддающегося математической оценке. Но труд, затраченный мною там, не утратил своей ценности, не мог утратить, и потому мне очень хотелось, чтобы и деньги не пропали зря, хотелось успеть потратить их, пока они еще имеют какое-то значение в мире. Я с радостью отдал бы Артуру не пятьдесят, а пятьсот рублей, но стоило ли вызывать подозрения?
Обидно было думать о деньгах. Обо многом обидно было думать. Как бывает обидно уезжать откуда-то, если сделал там не все, что хотел. Мы готовились уехать из целого мира. Навсегда. Как уезжают из прошлого в будущее. И кто мог оценить, все ли мы сделали, что могли, все ли успели. И казалось, можно еще что-то поправить, что-то изменить в уходящем мире, но на самом деле было уже слишком поздно. И мы поняли это с абсолютной, вакуумной ясностью именно теперь, когда вокруг был город, шумящий, разноголосый, пестрый, пахнущий горячим асфальтом, пылью, выхлопами автомобилей, дешевой парфюмерией и подгоревшей пищей, город, который так долго держал нас в своих каменных ручищах мертвой хваткой, именно теперь нам стало сладко до жути и жутко до сладчайшего восторга от того, что поменявшись с городом ролями, уже мы держали в руках его. И страну. И планету. И захватывало дух от этого ощущения.
А Артур сказал при встрече:
— Вы радио слушаете, алкоголики?
(Я вспомнил свой эксперимент с радиоприемником. Я скопировал его в работающем состоянии, обрезав сетевой шнут плоскостью экспокамеры. Копия точная, рассуждал я, должен говорить. Но отсеченный от розетки приемник говорить отказался.)
— Нет, — ответил я. — А что?
— С полюсом третий день связи нет. Точнее, с обоими полюсами. В Антарктиде, говорят, то же самое. Станция Амундсен-Скотт молчит, как рыба.
— Погоди, — сказала Ленка, — ты не части так. С ребятами-то что?
— А этого никто не знает, — мрачно, почти зловеще произнес Артур. — Сначала думали, что они просто не передали сводку, а теперь оказывается, что все передающие устройства вблизи полюсов не могут пробиться через какой-то загадочный экран. Так что у ребят, я думаю, все нормально. Однако никто не знает, сколько провисит этот экран. А каково им там без связи! И погода паршивая: с воздуха никакой видимости…
Мы стояли у подножия бронзового Пушкина, и жаркий августовский вечер душил нас в своих объятиях. Медленно, очень медленно угасало небо. Я слушал Артура и сверхъестественным чутьем «апельсинового монстра» безошибочно, остро и страшно чуял недоброе. Ох, как не понравился мне этот экран! Экран, возникший точно в день моей встречи в лесу. И я уже чувствовал, я уже знал, что эти, там, «наверху» не ограничатся одними лишь радиопреградами. Что-то гораздо более ужасное ожидало нас впереди.
Ничего этого я не сказал. Но Ленка все поняла сама. И до дома, до самой двери, мы ехали молча.
На следующий день экран не пропал. И еще через день-тоже. Но переменилась погода, и были начаты поиски. За пять дней, прошедших от последней сводки, они не могли уйти дальше, чем на семьдесят-восемьдесят километров, и область поиска была таким образом довольно четко ограничена. Вертолеты тщательно прочесали пару тысяч квадратных километров. Поиск шел только визуальный, сигналов не ждали, потому что все передатчики, оказавшиеся под колпаком таинственной радиоблокады в момент ее появления, разом вышли из строя по столь же простой, сколь и загадочной причине: источники питания в них разрядились до нулевого напряжения на клеммах.
Где-то, занесенные снегом, лежали четверо. Теоретически они должны были быть живы, потому что у них был анаф. Но два квадратных метра на двух тысячах квадратных километров — это та самая пресловутая иголка в стоге сена. И все-таки иголку нашли. Только другую. На краю полыньи, затянутой молодым льдом, нашли их палатку. И рядом — два спецсосуда. Экспертизы не потребовалось, чтобы установить: их не использовали по назначению. Вот когда на полюсе стало некого искать. И безрезультатные поиски трупов прекратили довольно скоро.
Еще два дня после встречи с Артуром ребята в нашем сознании, в наших надеждах были живы, и мы в эти дни много и плодотворно работали, заглушая новыми сногсшибательными впечатлениями тоску, тревогу и дурные предчувствия. Мы придумали и проведи массу потрясающих экспериментов, открыли кучу интереснейших закономерностей. Альтер все записывал в большую «амбарную тетрадь», пытался обобщать, систематизировать, объяснять. Я же решил дать литературное описание происшедшего и именно тогда начал свою книгу. Ленка и Алена помогали нам обоим.
А потом наступило страшное двадцать девятое августа.
Я помню, как мы сидели а закиданной чинариками, задымленной, как палатка для окуривания, комнате и молча, тупо, озлобленно смотрели на компанию сибров в дальнем углу, а по радио, только что сообщившему о гибели отважной четверки, диктор спокойно читал все, что ему еще полагалось прочесть по программе последних известий. И все мое фантастическое могущество казалось смешным и никчемным рядом с простой, грубой и вечной трагедией человеческой смерти. Сибр был бессилен воскресить моих друзей, какую бы сумасшедшую программу я не попытался задать ему. Это было очевидно. И это было страшно. Потому что я хотел, чтобы они снова были живы. Потому что без них мне не нужны были никакие радости, никакая слава, никакая власть. Никакое светлое будущее. Все обесцветилось, все потеряло вкус. И даже пить не хотелось без них. И мы сидели, как в кошмаре, опустошенные, трезвые, и дышали дымом.
И, может быть, ужаснее всего было то, что на этот самый день у нас был намечен грандиозный и стратегически наиболее значимый эксперимент. Мы уже купили билеты, сдавать их было бы глупо, и Альтер с Аленой вылетели в Хабаровск, захватив с собой несколько сибров, в частности один с гештальтом живого мышонка. С этим мышонком нам просто повезло, мы его обнаружили накануне в ванне, куда он по дурости попал и откуда не мог выбраться. Вообще же эксперимент планировался с тараканом, и теплокровное животное — это был подарок судьбы. Из Хабаровска Альтер позвонил в Москву. Мы сверили часы, и в условленную минуту я отдал свои мысленные приказы. Расстояние, даже такое, оказалось не помехой. Сибры, послушные моей воле, росли, включались, выключались, утрачивали и обретали кнопки и, наконец, мелкий московский вредитель вильнул хвостиком и отправился гулять по дальневосточному краю.
А «крупный московский вредитель» — Виктор Брусилов валялся на диване и корчился от дикой, непредставимой, чудовищной головной боли.
СВЕТКА
Возможно, ее технике обольщения еще не доставало некоторого блеска, зато энтузиазма было хоть отбавляй… Действовала она быстро и неистово…
Л. дель РэйВечером, часов около семи, я позвонил Светке. И ничего не стал объяснять ей. Не потому, что, как сказал Альтер, телефон может прослушиваться — не мог он тогда прослушиваться, — а просто потому, что по телефону Светка мне бы не поверила и весь эффект приглашения был бы разом сведен на нет.
— Светка, — сказал я ей, — приезжай к нам как можно скорей. Лучше на такси. Плачу я.
— К вам или к тебе? — спросила она.
— К нам, — сказал я. — Бросай любые дела. Это важнее всего.
Светка молчала. Она иногда обнаруживала невероятное для женщины умение быть нелюбопытной.
— Так ты приедешь?
— Да.
— И еще одно. Никто не должен знать о том, куда ты сейчас едешь. Ты даешь мне слово?
— Да.
Что и говорить, Светка во время нашего диалога держалась еще эффектнее, чем я.
А звонок в дверь раздался примерно через час, и пружинящей изящной походкой покровительницы сердец и спортивных пьедесталов Светка шагнула в прихожую. Модная шелковая кофточка и джинсы дразняще облегали ее тело, а линялый цвет ткани и естественная бахрома внизу штанин подчеркивали сияющую новизну ее кроссовок. Кроссовки были Светкиной слабостью. Она могла приобретать их бесконечно.
Мы плохо продумали встречу и вышли все одновременно: из кухни Альтер с Аленой, из комнаты — я и Ленка. Дверь открывал я.
— Салют! — сказала Светка. — Ой, ребята, да у вас тут группешник! Вот это хохма, два тулупа в каскаде!
Светка любила пересыпать свою речь терминами фигурного катания, подобно тому, как старые моряки между фраз в разговоре влепляют названия частей корабля и звонкие морские команды.
Мы улыбнулись смущенно и все четверо нестройным хором ответили:
— Салют. Привет. Добрый вечер. Привет.
И Светка перестала улыбаться. Она даже сделала шаг назад, но, почувствовав спиной дверь, почему-то вдруг успокоилась. Я успел заметить, как расширились и вновь стали маленькими ее зрачки.
— А чего это вы все такие одинаковые?
— Вот именно, — сказал я, — чего это.
Помнится, я подумал тогда, как правильно мы остановили свой выбор на ней. Светка — удивительный человек. Не скажу, что всю нашу сногсшибательную информацию о наступлении коммунизма в ближайшие две недели она переварила с олимпийским спокойствием, но реакция ее была примерно такой же, как если бы ей предложили за так несколько пар японских кроссовок или сольный концерт в Мэдисон-сквер-гардене. Для нее это было сопоставимо. И то и другое — радость. Просто радость, чистая, детская, ничем не омраченная. И только, когда мы перешли к делу, Светка начала что-то понимать. Конечно, ей было далеко до высоких рассуждений о судьбах мира, которыми мы без передыху занимались последние пять дней, но тревога наша ей передалась.
— Так значит, может появиться еще одна Светка Зайцева? Е-мое, тодес с перекруткой!
— Может появиться, — подтвердил я, — но не должна. А должен появиться труп.
— Труп? То-о-оже хорошо, — сказала она. — У вас выпить есть чего?
— Коньяк? Шампанское? — любезно предложил Альтер.
— Коньяк. И пожалуйста, французский, раз вы такие богатенькие.
— Французского нет, — грустно сказал Альтер.
— Врешь, — возразила Ленка. — Есть французский.
— Откуда?
— Ты в бутылку из-под «мартеля» ничего не наливал?
Альтер уже понял и кинулся на кухню. А я действительно не только не наливал ничего в ту «историческую» бутылку, но и плотно закрыл пробку, так что на донышке сохранилось достаточно благородного напитка.
В то время мы еще не разучились наслаждаться зрелищем работающего сибра, ну а Светкин восторг при виде множащихся бутылок и кроссовок (по ее просьбе мы еще и кроссовки в экспокамеру подпихнули) мог быть сравним разве что с ликованием резвящегося полугодовалого щенка.
После первой рюмки все посерьезнели. После второй начались яростные споры о принципах работы сибра и возможных последствиях опыта. Третью рюмку пили только мы с Альтером и Светка. Четвертую — одна Светка. И пятую тоже только она. После шестой Светка решила снять джинсы.
— Зачем? — спросила Алена.
— Ну, а что ж я туда в штанах полезу? — обезоруживающе глупо, вопросом на вопрос ответила Светка.
— Все, — тихо сказал Альтер, — накрылся наш эксперимент.
— Ерунда, — возразил я.
Светка выдвинула новый аргумент:
— Зачем размножать старые драные штаны? Хорошо бы снять с трупа совсем новенькие джинсики. Дор-р-рожка «серпантин».
— Снять с трупа? — ошалело спросил Альтер.
— Ну не выбрасывать же?
И на этот вопрос мы не нашлись, что ответить. Потом я глотнул из бутылки и сказал:
— Дать тебе новые штаны?
Впрочем, никаких новых штанов у нас не было. Разговор был совершенно идиотский, и меня не покидало ощущение, что все мы сходим с ума. Надо было как-то заканчивать этот безумный диспут.
— Снимай, — сказал я, — снимай свои дурацкие джинсы, золотце ты мое.
Ладно бы сказать такое спьяну, но я был совершенно трезв.
Моя Малышка откинулась на диване, чтобы видеть меня за спиной Светки, и я был сражен таким знакомым мне властным прищуром любимых глаз и гневным полыханием серого огня в них. И еще я увидел, как точно таким же взглядом смотрит на Альтера Алена. Тошно мне стало, ох, как тошно!
А Светка, не вставая, стянула свои сделавшиеся бледно-голубыми от времени штаны, потом поднялась, слегка покачнулась и, расстегивая на ходу кофточку, подошла к сибру. Он был заблаговременно выращен нами до необходимых размеров, и Светке оставалось только шагнуть в раскрытый зев экспокамеры. Рисуясь, театрально, словно начиная испанский танец, она повернулась к нам вполоборота и щелкнула пальцами. Ленка раньше других поняла немудреный смысл этого движения и поднесла нашей отважной испытательнице рюмку «мартеля». Выпили и мы с Альтером. Чисто автоматически я отметил, что две бутылки уже опорожнены, и мы наливаем из третьей.
А спектакль возле сибра продолжался. Очень картинно была опрокинута рюмка и не менее картинно, грациозным цыганским движением плеч сброшена кофточка. Даже гольфы Светка ухитрилась снять танцуя. Потом я закрыл глаза.
— Дурак, — сказала Ленка.
Быть может, она подумала, что это я изображаю восторг до потери сознания, но я ничего не изображал. Мне действительно не хотелось смотреть. На самом деле. И однажды уже было так, на той печальной памяти у Рюши Черного. Она тогда тоже «танцевала», и мне тоже было не до нее.
Светка — это был пройденный этап в моей биографии, на Светку у меня уже выработался иммунитет, и все же сексапильность ее казалась невероятной, сокрушительной, бьющей фонтаном, я буквально физически ощущал душную, обезоруживающую волну страсти, исходящую от ее тела. Разумеется, я предвидел что-то подобное, и даже Ленка предвидела, но, боже мой, кого еще из надежных людей смогли бы мы так легко уломать на наш кошмарный эксперимент?
— Ну, ладно, хорош раздеваться-то! Не за тем приглашали, — почти крикнул Альтер.
Я открыл глаза. Реплика была неожиданной. И я в который уж раз удивился, как сильно мы с Альтером отличаемся друг от друга: в моем мозгу этой фразы не было.
На Светку подействовало, и последняя спасительная деталь туалета осталась на ней, когда роскошное тело расположилось в камере в позе лотоса. Я уже ничего не соображал. Поэтому Альтер, стоящий ближе, пробежал пальцами по кнопкам. Потом все пятеро мы подошли к гиверу.
Неподвижная, как Будда под священным деревом бодхи в глубине его сидела Светка, Светка-гештальт, а живая смотрела на нее спокойно, даже насмешливо: ведь пока это была просто фотография — объемная, неверояно высокого качества, но все-таки фотография и даже не самая удачная. А потом Альтер нажал еще одну кнопку, и фигура в гивере шевельнулась. И, пока было еще не ясно, жива ли она, я поймал себя на мысли, что не хочу видеть ее мертвой, и это была нелапица и дикость. Нам не нужна была вторая Светка, а был нам нужен, до зарезу нужен безопасный сибр.
Прекрасное тело ледовой танцовщицы качнулось вперед и рухнуло к нашим ногам.
— Врача, — глупо вырвалось у кого-то, и ни один из нас даже не улыбнулся на это.
А Светка, приговаривая: «Вот это находочка для некрофила!», с циничным хладнокровием распутала ноги своей копии, потом положила по всем правилам, принятым для покойников и припала ухом к груди.
— Все. Отпрыгалась, — сказала она, поднимаясь с колен. — Поддержка «лассо» в два оборота!
И вдруг заревела в голос.
Так, жутким аккордом Светкиного плача, отчаянного, бабьего, визгливого плача открылся в нашей жизни очередной этап расплаты.
И мне подумалось вдруг, что это не просто расплата, что это голгофа, я ощутил себя мессией, не вполне добровольно, но с радостью несущим свой весьма модернизированный крест во имя еще более модернизированного спасения.
Я плохо помню, как мы уничтожали труп. Я внезапно почувствовал себя очень пьяным и все дальнейшее осталось в памяти в виде обрывков.
Завертывание тела в простыню. Ужасная нелепость. Но оказалось, что так всем привычнее. И потому легче. Светка в махровом халатике с дрожащей в руке рюмкой. Неожиданное шокирующее требование Альтера отрезать для исследования голову. И быстрое согласие всех, что это абсолютно логично: стоило ли начинать эксперимент, если не доводить его до конца. Монотонное нытье Ленки: «Медика среди нас нету, нету медика…» И однообразные возражения Альтера: «И наплевать, наплевать, что нету, наплевать…» Разбитая бутылка. Коньяк на полу. Кто это сделал? Гивер, забрызганный мозгами. Это, конечно, нейрохирургические опыты Альтера. «Ложечку дать? — шутит Алена. — Древние китайцы ели живой мозг. Рассказывают, вкусно.» Пятка, торчащая из воронки питания. Никто не решается подпихнуть ее внутрь, а без этого система не срабатывает. Шальное веселье в глазах Светки, пьющей коньяк из отбитого донышка бутылки. Внезапный возглас Альтера: «Нашел!» «Что ты нашел, придурок?» — это, кажется, я спрашиваю. «Закон Архимеда», — плоско шутит Алена. «Оранжит в мозге!» — кричит Альтер. Оранжит в мозгу? Чушь собачья. Ленку рвет над раковиной в ванной. От коньяка? От трупных дел? Или от всего сразу? «Вот вам и ответ, могут ли монстры блевать», — говорит Альтер. Или не Альтер, а я. И не говорю, а думаю. Ленки ложатся вдвоем на нашем единственном диване. Пьяная Светка якобы понимающе хмыкает: «Дерзайте, девочки». Альтер штампует в сибре подушки. Их в комнате уже десятка два. Алена нагишом сидит в постели и очень неточно льет «мартель» себе в рот. Коньяк бежит струйками по груди, животу и большим желтым пятном расползается на пододеяльнике, Альтер, непоследовательно игнорируя гору сотворенных подушек, раздевается, ложится на голый линолеум и вопрошает в пространство: «Может ли монстр простудиться? Как вы полагаете, господа?» Лужи. Осколки. Кровь. Мозги. Ртутные капли зеромассы. Грязные тряпки. Шарики оранжита. Оранжит-то откуда, Господи? Ах, да, из мозгов. Мозги набекрень. Вам свешать мозгов набекрень два килограммчика? Что? Слишком много? Предпочитаете мозги в стаканчиках? Ради Бога…
А потом снова полная ясность, до абсолютной, вакуумной прозрачности в мыслях.
Я постелил Светке в ванной, использовав саму ванну как ложе, а в качестве перины — альтеровы подушки. Потом мы вышли в кухню и закурили. Светка снова налила себе «мартеля», и я выплеснул его в окошко.
— Не пей больше, глупенькая, не надо. Ты на нас не равняйся. Мы же монстры. Мы теперь ведрами можем.
Но выпить хотелось ужасно. И мы откупорили шампанское. Я старался делать все тихо-тихо, потому что все остальные уже спали.
— Светик! — произнес я торжественно, чокаясь своей мятой кастрюлькой с ее эмалированной кружкой. — Свершилось величайшее событие. Я создал для людей универсальный сибр в безопасном исполнении.
— А трупов много будет?
— Много, — ответил я подумав. — Трупов будет изрядно.
— Плохо, — сказала Светка. Она была мрачнее тучи.
— Брось, глупышка, трупы — это мусор. О людях надо думать.
— Мусор, говоришь? А кого вы сварили сегодня в вашей адской машине? Там было мое тело. Мое! Понял? А не твое… Господи! Ну, почему я такая несчастная, Витька?
Я хорошо знал этот извечный ее вопрос, слишком хорошо, и чуть было не шепнул ей «Иди ко мне». А ей хватило этого «чуть». Она сделала шаг и прижалась к моей груди. И мне стало очень кисло. И очень сладко одновременно.
На ней был халатик, и, когда она грациознейшим движением медленно подняла длинную, стройную, тренированную ногу, распрямляя колено, дотянулась ею до выключателя и большим пальцем тихо, мягко погасила свет, я увидел, что кроме халатика, на ней нету уже ничего.
— Ты специально устроила весь этот стриптиз?
— Да, — шептала она.
— Ты специально соблазняла меня весь вечер?
— Да, — шептала она.
— Может быть, ты тоже хочешь стать монстром?
— Хочу, — шептала она.
— И ты уверена, что это так просто?
— Но ведь Ленка…
— Что Ленка? Ей это могло передаться совсем иначе. Ты пойми, это же не венерическая болезнь, это же подарок иного разума.
— И что, ты специально просил сделать такой подарок и Ленке тоже?
— Я ничего не просил. Апельсин это сам понял.
— Что он мог понять?
— Что я люблю ее.
— Что?! — Светка даже не сразу смогла ответить. — Витька, флип в три оборота, ну ты как маленький, ей богу! Что значит «люблю»? Кто это может понять? Этот твой фрукт пластмассовый? Не смеши.
А потом — совсем другим тоном:
— А меня ты любишь?
— Тебя? Не знаю… Я не умею любить двоих сразу. Наверно, раньше я любил тебя…
— Вот и отлично, Витька, полюби меня еще разочек!
Все-таки она была слишком проста. Слишком.
— Я хочу тебя, Витька, — шептала она, — может быть я даже люблю тебя. Как ты считаешь, односторонней любви достаточно, чтобы сделаться монстром?
И вдруг совсем новая мысль посетила ее, осветив лицо таинственной улыбкой предвкушения.
— Слушай, — выдохнула она сладострастно, — а что, если вы вдвоем, с Альтером?
— Ой, не зли меня, Светик! Оставь свои эксприменты для борделя. Я же готов обслужить тебя только в чисто научных целях.
— Зачем ты говоришь мне гадости?
— А ты? Для меня это все не забава. Я ведь правда люблю Ленку.
— Которую из них? — съязвила Светка.
— Обеих, — с вызовом сказал я.
— Ну, и как оно?
— О, неповторимо! А если серьезно, они пока мне обе как одна.
— Она простит тебе.
— Ты змея, — сказал я ей.
— Она простит тебе, — повторила Светка.
— Но я же сам себе не прощу.
— Это слова, дурачок. И главное: в твоем положении, рано или поздно, это все равно случится. Это же эксперимент. Так лучше со мной, чем с кем-то. Ленка наверняка согласилась бы. Хочешь, я разбужу ее?
— Да ты что?!
— Ну и правильно, и ни к чему совсем…
— Ты змея, Светка…
Это была первая в моей жизни измена. Я лежал с любовницей на груде подушек в ярко освещенной ванной комнате, а за стеной на диване спала жена (в количестве двух), и рядом — голый на полу — храпел еще один я.
Шел только седьмой день от наступления новой эры.
ЛИХИЕ ПЛАНЫ
Приняв решение, я чувствую себя одновременно и могучим и робким. Я знаю, что призван творить добро, и меня ничто не остановит… Я намерен осчастливить все человечество.
К. СаймакО главном мы едва не забыли. Но Светка проснулась от жажды, когда желтоватый мутный отсвет раннего утра забрезжил на кафельных стенах нашей «спальни», вышла в кухню, долго с наслаждением пила (проснувшись, я слышал, как она там отдувается) и вернулась ко мне.
— Витька, помоги мне, я боюсь.
В руках у нее был нож, и она держала его так, словно никогда не видела подобного устройства.
— Ты что? — спросонья соображал я туговато.
— Порежь меня, глупый. У меня духу не хватает. Забыл, что ли?
Мне стало обидно. Не она, а я должен был вспомнить о цели нашего эксперимента. Светка имела право, отдавшись, забыть про все, но я-то изменял любимой только во имя жертвы на алтарь науки. И ведь это было так. Мое наслаждение сильно горчило от стыда. Но я забылся в нем, хоть и твердил все время, что это просто надо. Светка же в своем безграничном цинизме оказалась куда последовательнее: получив максимум удовольствия, она теперь деловито перешла к оценке практических результатов.
— Не надо ладонь, — сказал я, — заживать будет долго.
И порезал ей палец.
Ничего не произошло. Вытекла кровь, побежала вниз, чертя на коже красную дорожку. Потом перестала течь, свернулась. Светка тяжело дышала. Я молчал. Я совершенно не представлял, что можно сказать в таком случае. Отрицательный результат — тоже результат. Разумеется. Но только не в такой ситуации.
Потом Светка машинально, не думая, стерла кровь. И тогда я схватил ее за палец и пригляделся. Пореза почти не было видно. Мы долго и тупо смотрели на зарубцевавшуюся кожу. Потом обнялись. Я ощутил в горле ком. Светка плакала. Мы обнялись не как два любовника — мы обнялись как два монстра, и этого уже не надо было стыдиться.
— В разбавленном виде, — сказал я.
— Что в разбавленном виде?
— Моя способность к регенерации передалась тебе в разбавленном виде.
— Это плохо?
— Не знаю. Может быть, это очень хорошо.
— Так я не буду стареть?!
— С чего ты взяла? Я еще не думал над этим.
— А ты подумай. Я считаю, что мы не будем стареть.
Ох, как легко, как небрежно, бросила она это «мы». Многовато что-то становилось «нас».
Светка оделась, села в кухне и закурила.
— Вот что, родная, — сказал я. — В ближайшие дни тебе придется обойтись без мужиков.
Она стряхнула пепел на коленку, но промолчала.
— Не стоит нам сейчас плодить монстров.
Она молчала.
— Понимаешь, я больше никому, кроме тебя, не могу довериться.
Ее молчание становилось невыносимым.
— Мы слишком многого еще не знаем сами. Мы не имеем права впутывать кого-то еще.
Она глубоко затянулась и выдохнула струю дыма мне в лицо.
— Мы слишком многого не знаем, — повторил я, — может быть, от этого умирают.
— Спасибо, — сказала Светка.
— На здоровье, — ответил я.
— И ты так уверен, романтик ты мой несчастный, что все, с кем я теперь стану спать, будут превращаться в нестареющих монстров. А что, если это передается только через сперму и источником может служить лишь мужчина? Ты-то уж точно теперь бычок-производитель. — Она улыбнулась. — Производитель монстров женского пола. Бедненький, как тебя женщины замучат!
— Перестань, — сказал я.
— А впрочем, — она меня не слышала, — почему только женщины? Наверное, и мужчины тоже. Потрясающее удобство, если так! Один только раз принять грех на душу и можно снимать с себя всякую ответственность. Остальное доделают без тебя.
— Прекрати, — сказал я.
Я еще не знал, как обстоит дело в действительности, но чувствовал, что совсем не так. Не мог быть Апельсин таким же сексуально сдвинутым, как Светка. Все должно было быть гораздо проще.
— К чему гадать? — сказал я. — Мы не врачи и не биологи. Ответы придут в свое время. А сейчас я просто прошу тебя. Ты можешь выполнить мою просьбу?
— Ну, разумеется, Господи, за кого ты меня держишь? Надо — значит надо. Обещаю надеть пояс верности, — дурашливо добавила она. — Только не тяни со звонком, когда можно будет снять. Хорошо? А то ведь я и помереть могу, два тулупа в каскаде!
— Знаешь, Светик, признаюсь честно, в больших дозах я с трудом тебя выдерживаю. Извини.
Я вошел в комнату и лег рядом с Ленкой. А может быть, рядом с Аленой. Я не мог различить их. И мне хотелось плакать.
Утром пили «Байкал», пили пиво, пили холодную воду, пили шампанское. Есть не хотелось.
— Очень может быть, — сказал Альтер, — что нам теперь есть совсем не надо — достаточно солнечной энергии в виде лучей.
Ленка смотрела на Светку подчеркнуто равнодушно и ни о чем не спрашивала. Все три женщины дружно принялись наводить марафет. Я даже не помогал. Мне было тошно от полной апатии. И делами, как уже повелось, заправлял Альтер.
Он собрал нам с Ленкой (точнее не нам, а нашим возможным будущим копиям) кое-что в дорогу: рюкзаки, набитые уменьшенными до предела безопасными сибрами; удобную и теплую одежду и обувь (если придется удирать или если дело будет зимой); оружие — на всякий случай (не нашлось ничего лучше легкого туристского топорика и устрашающего вида ржавого мачете, привезенного мною из колхоза, где оно служило для обрубания свекольной ботвы); и, наконец, текст нашего обращения. Подумав, Альтер добавил к этому фонарик, спички, моток прочной веревки, золотую монету — вот уж полная бессмыслица! — и фляжку коньяку. Никто не мог знать, когда и где нашим копиям суждено возникнуть из небытия, но возникнув, они сразу начнут действовать — так мы настроили себя. Может быть, у них даже не будет времени на размышления. Может быть, они наломают дров. У нас не было выбора. И мы только верили — о, как мы верили! — что этим копиям не придется возникнуть.
Подготовка закончилась. Мы оделись и влезли в сибр без кнопки «РАБОТА». Альтер нажал «ЭКСПОНИРОВАНИЕ». Мы вышли и полюбовались своим гештальтом. Потом включили «РОСТ-", и сибр ужался до размеров, примерно, десять на десять на двадцать миллиметров.
При дальнейшем уменьшении конструкция начинала оплывать, теряя очертания, оранжит пожирал металлические и пластиковые части, а сам таял, словно кусочек сухого льда, и превращался в яркую рыжую горошину миллиметров восьми в диаметре. Каждый раз, уменьшая сибр, рисковать уничтожить его, — конечно, это было очень неудобно, и накануне я решился на очередное изменение: я попросил сибр делать остановку в самый последний момент перед началом деструкции. И вот этот предельно компактный синтезатор мы стали называть сибр-миниморум.
Дальнейший план действий был таков. Сибр-миниморум с нашим гештальтом мы вручили Светке вместе с обычным (безопасным) сибром для тиражирования этой экстремистской игрушки. Предполагалось расшвырять несколько десятков экземпляров нашей дремлющей бомбы по различным, пусть не очень приметным, посольствам и еще столько же — по всяким глухим местам, после чего Светке надлежало скрыться. Вариант надежного укрытия она придумала сама. Закончив дела в Москве за пару дней, она собиралась махнуть на Юг, в место по возможности дикое, и там под другим именем, с перекрашенными волосами и новой стрижкой жить у случайного знакомого вплоть до серьезных перемен. Все это планировалось на тот случай, если нас все-таки заставят говорить и им придется искать Светку. На что мы надеялись? На то, что наш наивный набор приемов позволит выиграть если не партию в целом, то хотя бы время? Да, и на это тоже. Но главное, мы надеялись, что сумеем молчать — ведь мы были не просто люди. И мы блефовали: в нашем «Обращении» говорилось, что это я сам, лично, разбросал огромное число сибров по только мне известным местам и даже по местам мне не известным. В таком случае ситуация выглядела безнадежной для тех, кто захотел бы помешать мне, но… Всяко могло повернуться, и в худшем случае весь груз ответственности за судьбу Вселенной свалился на Светку. Что любопытно, ее совсем не пугала такая ответственность. Более того, принять участие в серьезной и опасной игре представлялось ей чертовски заманчивым. Так, опрокинув стакан шампанского, Светка заявила:
— А если схватят, покончу с собой. Проглочу растущий сибр.
— А вот этого не надо, — испугался я. — Давай договоримся: действовать строго по инструкции. Если схватят, это еще не проигрыш. Не надо паниковать.
— Паниковать не надо, — согласилась Ленка, — но, знаете, ребята, как-то это смешно. Игры эти с правительством, шпионские страсти — детский сад какой-то. По-моему, ничего у нас не выйдет.
— Выйдет, — сказал я упрямо, — обязательно выйдет.
Черт знает откуда была у меня такая уверенность.
А когда мы уже прощались со Светкой, быть может, навсегда (как сентиментально, как пошло и вместе с тем как страшно звучало это маленькое дополнение!), и на каких-нибудь полминуты остались один на один, она шепнула мне:
— А знаешь, от чего мне будет труднее всего удержаться?
— От чего?
— От желания провести эксперимент. Я заболела твоей дурацкой сибрологией.
— Черт с тобой. Проводи свой эксперимент. Но только один, а не десять. И это должен быть человек, которому ты сможешь доверять, как самой себе. Нет, больше, чем себе. Ты поняла?
— Я поняла. Девочку Светочку лишили сладкого. Она обиделась и будет играть во взрослые игрушки.
— Лишишь тебя, как же! Сластена. Ты только про «игрушки» не забывай. Страшненькие у нас с тобой игрушечки.
Подошли Ленка, Алена и Альтер. Мы попрощались коротко и сухо. Мы боялись сказать лишнее. Мы боялись сглазить. Черт знает в какие дали мы провожали друг друга. Черт знает в какие руки отдавали мы судьбы мира. Легкомыслие. Лихачество. Молодость. Привкус отчаянной радости на губах. Любовь. Вера в завтра. Пронзительная голубизна простора. Бесконечность. Звезды. Счастье.
ВАЛЕРКИН ДЯДЯ
Все это ему не нравилось, но он дал свое согласие, если можно назвать согласием, когда в момент переговоров на заднем дворе вашей усадьбы собирают пулемет, а в самый разгар спора под окнами маршируют десять солдат с примкнутыми штыками.
А. АзимовС дядей Валерки Гридина знаком я был шапочно. Мы виделись, конечно, не один раз, но хорошо я помнил только две встречи.
Классе в пятом во время весенних каникул Валерка вдруг пригласил меня прокатиться вместе с ним в Волоколамск. Во главе делегации ЦК дядя ехал туда по делам. Поездка вышла отличной. Первый раз в жизни я сидел в «чайке» с ее мягким, до нереальности бесшумным, ходом — казалось автомобиль летит над землей; и милиционеры, стоящие на перекрестках и постах ГАИ, отдавали нам честь, хотя во второй машине, кроме шофера и нас с Валеркой, никого не было; и светило солнце, и город Волоколамск казался чистым и красивым; и на заводе клееных конструкций было страшно интересно, особенно понравились нам с Валеркой пенопластовые ящики и странные алюминиевые гвозди к ним, которые мы не приминули взять на память; и на банкете нас замечательно покормили, только изысканный суп по рецепту французской кухни ни мне, ни Валерке не понравился; а в Кашине мы поговорили со старичками, видевшими самого Ленина; а в краеведческом музее запомнилась коллекция русских денег; и только на обратной дороге меня вдруг укачало в монотонно приседающей на рессорах машине, а остановиться не было никакой возможности, и я открыл окошко и перепачкал дверцу, и водитель Семен Семеныч говорил: «Ну что ж ты так, бедолага? Смотри, заставлю отмывать потом».
А второй случай был годом позже. Мне и Валерке поручили сделать небольшой плакатик для кабинета физики о тепловых явлениях в природе. А дядя Валеркин как раз приехал тогда из Японии и привез какой-то невероятный набор фломастеров-то ли сорок восемь, то ли пятьдесят шесть цветов, вот мы и поехали к дяде. Картинки получились роскошные — и я, и Валерка, оба рисовали неплохо, а вот с текстом оказалось труднее. Неинтересно было его придумывать. И мы долго сидели, сбиваясь на шутки и посторонние разговоры, а дядя заходил к нам время от времени и спрашивал: «Ну как? Вы про тягу напишите. Написали про тягу?» А про тягу мы не написали — в учебнике такого не было — и он снова заходил и говорил: «Ну, как же, тяга — это же тепловое явление. Напишите про тягу». Он был в длиннополом шелковом халате, непокорные вихри его были зачесаны по моде пятидесятых годов и то и дело спадали на лоб, а в полных губах дымилась длинная «новость» с ватным фильтром.
И вот теперь, когда мы шли к нему, мне вспомнился солнечный Волоколамск и дурацкое слово «тяга», засевшее в памяти, как алюминиевый гвоздь в пенопласте.
Валерка ни о чем не спрашивал. Этим был Валерка хорош. Мы не часто виделись с ним после школы: пути-дорожки постепенно расходились, но если нужно было помочь, Валерка помогал без лишних слов: купить ли японскую куртку в «валютке», одолжить ли на время «курсовика» шикарный микрокалькулятор, достать ли билеты в дефицитный театр. Валерка даже не удивился, что теперь мне нужен сам его дядя, лично. Он только сказал:
— Учти, если ерунда какая-нибудь, дядька долго слушать не станет. Он у меня такой.
— Учту, — ответил я.
Мы пришли все втроем, но решили, что для делового разговора лучше будет, если я начну без Ленки. Поэтому Валерка остался развлекать ее в гостиной, а мы с Николаем Степановичем уединились в кабинете.
Все накануне было решено, что предисловий никаких не надо, и теперь я просто поставил сибр на стол, скопировал для наглядности мятую пятерку, используя в качестве питания окурки из пепельницы, а потом нажал кнопку «РОСТ+».
Валеркин дядя молча смотрел на сибр и курил. Молчал он долго. Потом пожевал полными губами, сделал последнюю затяжку и бросил окурок не в пепельницу, а в воронку питания, чем совершенно восхитил меня. С окурком, разумеется, ничего не произошло: в процессе роста сибр не работал.
— Его остановить можно? — спросил, наконец, Валеркин дядя.
— Можно, — сказал я и нажал кнопку «СТОП».
(К моменту визита мы уже поняли, что погорячились, и кнопка «СТОП» была восстановлена в правах).
— А если не останавливать? — спросил он.
— Остановится автоматически. Когда прочность металла окажется недостаточной, чтобы выдерживать собственный вес при данной геометрии устройства.
Это был блеф. Мы не делали таких опытов, не рискнули делать. Но мог ли я ответить: «Не знаю»? (Кстати, потом оказалось, что догадка почти верна. Максимальный размер сибра был весьма скромен: грузовик скопировать было можно, но вертолет залезал в экспокамеру только без пропеллера).
— Страшное оружие, — сказал Валеркин дядя.
— Это не оружие, — возразил я.
— Это ты так считаешь.
— Мне бы хотелось, чтобы так считали все.
— Мне бы тоже хотелось, — сказал Валеркин дядя. — Так расскажи, что она еще может, эта твоя штуковина.
Я рассказал. Валеркин дядя выкурил подряд две сигареты.
— И ты сам это сделал?
— Сделал не сам. Придумал сам.
И я рассказал про Апельсин.
— Ты уверен, что это не совпадение? Ты уверен, в конце концов, что мысли твои были раньше, чем появилась эта машинка?
— Уверен. Я еще не сошел с ума.
Конечно, он думал о секретном оружии, и только эта версия развалилась.
— Давно это было?
— Неделю назад.
— Давно, — констатировал он. — И сколько же человек в курсе? Только честно. Ты же понимаешь, искать все равно будут всех.
«Ищите», — подумал я.
— Николай Степаныч, с нашей точки зрения это вопрос не принципиальный.
— Ну, сколько? Двадцать? Сто?
Что и говорить, Валеркин дядя умел владеть собой.
— Ну, разумеется, меньше, — ответил я чуть раздраженно.
— Один, — предположил он.
— Больше.
— Ты и жена.
Я промолчал.
— И лучший друг. Да? Или еще родители?
Я молчал, как партизан.
— Ну, ладно, конспиратор, скажи тогда, какие же вопросы вы считаете принципиальными.
— Пожалуйста, — сказал я. — Что сделают с сибром?
— Сибр будут исследовать.
— Долго его будут исследовать?
— Не знаю. Я не ученый, — сказал Валеркин дядя.
«Вряд ли это будет зависеть от ученых», — подумал я, но не сказал.
— А потом?
— Потом видно будет.
— Нет, — сказал я. — Видно должно быть уже сегодня. Сейчас.
— Какой ты быстрый! — усмехнулся он.
— Да нет, — сказал я, — я не быстрый. Мы думали целую неделю, и за это время сибр мог бы спасти от смерти миллионы людей.
— И ровно столько же, если не больше, свести в могилу.
В его словах была правда. Я еще раз восхитился, как бойко соображал этот человек.
— Но сибр нужен людям, — сказал я.
— Сибр опасен, — возразил он.
— Не настолько, насколько Вы себе представили. Просто мы привыкли думать о самом худшем. В первые полчаса мне тоже было страшно, — соврал я, — а потом мы думали об этом неделю. И я знаю: сибр нужен людям. Надо только сделать его безопасным. Это реально.
И, опережая его новые вопросы и возможное вполне естественное возмущение моим несколько ультиматитвным тоном, я передал ему наше «Обращение».
По мере того, как он читал, лицо его делалось все более мрачным, а правая рука начала странно блуждать по столу, по карманам и вокруг в поисках то ли ручки, то ли телефонной трубки, то ли — и это было бы вполне нормально — пистолета. Но Николай Степаныч был в спортивных брюках и домашней байковой рубашке, и пистолета при нем не оказалось.
Постепенно он успокоился и сказал:
— Позови-ка жену. Ей тоже полезно послушать. А Валерке передай, пусть Нина сделает нам кофе.
— Вот что, ребята, — начал Валеркин дядя, когда Ленка села в кресло и, спросив разрешения, закурила. — Вы пришли не за советом. Вы пришли поставить нас перед фактом. Позиция рискованная, но, безусловно, очень эффектная. Причем, не могу не признать: в той исключительной ситуации, в которую вы попали, у вас есть право диктовать условия. Но предупреждаю, ребята, подумайте. Хорошенько подумайте. Диктат — это очень страшная штука. И сложная. Не знаю, сдюжите ли. А все, что зависит от меня, я сделаю. Ваш вопрос будет рассмотрен на самом высоком уровне. Ждите. За вами приедут.
— Только, если можно, пусть машина будет без решеток на окнах, — грустно пошутил я.
— Принято, — сказал Валеркин дядя.
— Но это не все! — встрянула Ленка. — Мы все-таки пришли и за советом тоже. Мы решили, что делать, но мы совсем не знаем, как.
— Да, — подтвердил я, — было бы очень интересно обсудить это с вами. У вас еще есть время?
— Думаю, — сказал Валеркин дядя, — у меня теперь будет чертова гибель времени для решения именно ваших проблем.
Жена Николая Степановича принесла кофе. И мы начали обсуждать. Разумеется, порядок обсуждения задавал он. И делал это профессионально, умно. Нам с Ленкой было смешно и даже стыдно вспоминать наш детский сад за круглым столом. Многое ли могли мы предусмотреть с едва законченным высшим образованием и полным отсутствием производственного опыта? И иногда по ходу разговора нам делалось страшно — мол, не по Сеньке шапка — но это ощущение проходило, потому что уже в следующую минуту мы вновь убеждались: главное решение принято верно, и никому, ни на каком уровне, уже не сбить нас с намеченного пути.
— Власть, — говорил Валеркин дядя, — как вы представляете себе власть в вашем сибровом мире?
— Власти не будет, — сказал я.
— Приехали, — улыбнулся он. — Это что же, коммунистическое самоуправление? А новый человек? Тоже сразу? Каждый, получив в руки сибр, станет новым человеком? И значит, полный и окончательный коммунизм ни за понюшку табака? Плохо вас учат в ваших институтах!
Я растерялся. Действительно, с чего я взял, что не должно быть власти?
— Я полагаю так, — продолжал Валеркин дядя. — Советы остаются. Будет только еще какой-нибудь Всемирный Совет. Вот это будет уже совершенно новый орган, а все остальное пока по-старому. У нас, во всяком случае. И партии останутся. Я полагаю, много будет партий. И коммунистическая партия тоже будет.
И это прозвучало почти как ленинское «Есть такая партия!»
Мы слушали Валеркиного дядю немного обалдело, но я уже начал приходить в себя и спросил очень грамотно:
— А рычаги управления? Какие будут рычаги?
— Именно — какие? — сказал он. — Вам и решать, ребята. И уж постарайтесь, чтобы это были не только тюрьмы и казни. Стимулы нужны, понимаете, стимулы. Ладно, поехали дальше.
И мы ехали дальше.
Производство. Сводится к изготовлению конкретных образцов изделий и размножению их с помощью сибров.
Торговля. Превращается просто в снабжение. Необходимо продумать четкую систему распределения всех материальных благ.
Экология. Нет больше проблемы загрязнения окружающей среды. Есть проблема соблюдения экологического баланса. С сибровой техникой недолго сожрать всю атмосферу над планетой.
Строительство. Без серьезных изменений, если не считать неограниченный выбор материалов и всевозможную модернизацию технологии.
Транспорт, связь, освоение космоса. Масса потрясающих новинок. И тут же проблема ограничения числа единиц личного транспорта. Иначе — возможны неконтролируемые потоки машин, яхт, летательных аппаратов.
Здравоохранение, спорт. Грандиозные перспективы. Ничего пугающего. Вижу только плюсы.
Культура, досуг, массовая информация. Ничего нельзя сказать наверняка. Влияние сибров на эти наиболее мобильные области человеческой деятельности будет многообразно.
Наука. Огромное число новых направлений. И вместе с тем — резкое уменьшение числа лиц, занятых околонаучной работой. Наряду с революцией в производстве это усугубит и без того чудовищную безработицу.
Занятость. Вот главная и, быть может, неразрешимая задача.
Образование, воспитание, мораль. Проблемы, сравнимые с проблемой занятости, да и связанные с нею неразрывно.
— Представьте, — говорил он, все станет доступно. Пьянство, наркомания, насилие, порнография, убийства под видом копирования… Вы об этом подумали?
Он не знал, что здесь мы далеко обогнали его скороспелые испуганные мысли. Мы подумали уже и о массовых психозах, и о повальной некрофилии, и о неизбежном каннибализме, и о детской преступности… О чем мы только не думали!
— Мы готовы ко всему этому и ко многому другому, — слегка рисуясь, сказала Ленка. — Мы мало думали о власти, но хорошо помнили о правопорядке. Усилием эти органы — заодно и частичное решение проблемы занятости.
— Врачи, учителя, воспитатели — их понадобится очень много, — добавил я, — это все к той же проблеме.
— Ладно, ребята, — улыбнулся Валеркин дядя, — меня-то вы не убеждайте. Вам по каждому вопросу дадут отдельного специалиста. А, что касается вопросов международных, про них я намеренно не говорю. Простите, не по моей части. Но если вкратце, то разоружение, безусловно, штука хорошая, но как? И против международного распространения сибров лично я тоже ничего не имею. Но опять же — как? Границы, нации, политические системы, конвенции, соглашения, споры, распри… Содом и Гоморра. Вавилонское столпотворение. Конец света. А в общем дерзайте, ребята. Желаю успеха.
— Да, — вспомнил он, — штуковину эту оставьте мне, чтобы было с чем идти наверх. А то ведь, знаете, меня тоже в психушку отправить можно. Так я беру? Возражений нет? И вот еще что. Надеюсь, вы собираетесь сдаваться властям все вчетвером?
— Разумеется.
— Это правильно. Но вернемся к началу. Вы не сказали, сколько человек в курсе, а это опасная игра. Можете не мне и не сейчас рассказывать о своих сообщниках. Но тем, кто будет изучать вас и ваши сибры, рекомендую рассказать все. Потому что — повторяю — искать будут всех. К чему лишние неприятности вашим родственникам и друзьям. Не взваливайте на них ответственность. Это мой вам добрый совет. И кстати, подумайте еще раз, стоит ли диктовать условия. Эти ваши спрятанные сибры — страшная штука, для вас — в первую очередь. Может, лучше по-хорошему? А, ребята? Думайте. У вас еще есть время.
Валеркин дядя поднялся, и мы почувствовали, что разговор окончен. Я только успел спросить:
— Николай Степаныч, а все-таки, как вы считаете, нужны людям сибры?
— А разве вас интересует мое мнение?
— Интересует, — сказал я, и это была правда.
— Ну, если вам и впрямь интересно, так знайте: я бы на вашем месте уничтожил эту машинку, не сделав для себя и пары башмаков. Счастливо, ребята. Вам — жить. А мы уже, наверное, старики.
Валерка не удивился нашему столь долгому разговору. Он спал на диванчике в гостиной, и мы даже не стали его будить и вышли на улицу. Шел дождь.
Мы поехали ночевать к моим родителям. Мне хотелось рассказать им обо всем, вернее почти обо всем. Терять было нечего: либо я сумею их защитить от всех неприятностей, либо не сумею, но от их осведомленности это никак не зависело. а им спокойнее будет знать и знать от меня. Наконец, просто хотелось попрощаться. На всякий случай. И, разумеется, не вслух. Альтер тоже мечтал повидать стариков, но мы решили, что это для них будет слишком.
А у родителей было хорошо. Уютно. Даже не хотелось нарушать гармонию этого уюта. Быть может, поэтому, не решаясь сразу сказать всей правды и зная, как любит отец пофилософствовать, я предложил ему все наши новости под видом прочитанного мною фантастического романа. Получилось интересно. Даже мама включилась в обсуждение. И я спросил:
— А вы бы хотели, чтобы такое случилось на самом деле?
Отец задумался. И мама опередила его:
— Нет, не хотела бы. Страшная это была бы штука в нашем-то мире. Не верю я автору. У него, говоришь, все хорошо в итоге получилось? Не верю.
— А я бы пожалуй все-таки хотел, — возразил отец. — потому что интересно. Хотя проблем, конечно, появилось бы изрядно. А что, их сейчас мало?
И тогда я поставил на стол сибр. И признался, что главный герой этого романа — я.
Конечно, мы так и не ложились в ту ночь. Несколько раз ставили чайник. Мама, наплакавшись, уснула в кресле. Отец пил лекарства. Даже Ленка, это апельсиновое чудовище, и то под утро стала клевать носом у меня на плече. А разговорам и всяким фокусам все не видно было конца.
Одна мысль, высказанная отцом, запомнилась особо:
— Ты никогда не обращал внимания, Витя, что в массе своей люди нелюбопытны. Их любопытство по преимуществу прагматично. И, когда они получат все, что хотят, их интерес к миру угаснет, совсем угаснет. Вот что, должно быть, самое тревожное.
А за окном всю ночь, то затихая, то вновь расходясь, шумел сентябрьский дождь. Он прекратился утром, когда мы сели с Ленкой в такси и уехали к себе в Бирюлево. Ленкины родители работали в то время в Монголии, и таким образом наши дела в старом мире, которому мы теперь уже окончательно подписали смертный приговор, были полностью завершены.
ПАНСИОНАТ
Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все…
А. и Б. СтругацкиеДом стоял на берегу реки. Какой реки — я так и не узнал. Когда появилась возможность, было уже не интересно. А доставляли нас туда всякий раз на вертолете с молочными стеклами. И только по длительности (минут 20) полета я понял, что это ближнее Подмосковье. Дом стоял над красивейшим обрывом, и по ту сторону реки, за зеленым пушистым шарфиком прибрежных ив, тянулись бескрайние луга, на горизонте голубел лес. И никаких следов цивилизации. Изумительное место.
Это было нечто вроде шикарного дома отдыха на базе расположенного тут же, но только под землей, секретного института. Институт имел все мыслимые и немыслимые удобства внутри здания, а также: подогреваемый бассейн под открытым небом, лужайку с волейбольной разметкой, корты, регулярный французский парк, вертолетную площадку, причал с яхтами, серфинг и даже конюшню с породистыми жеребцами. Теперь все это стало Всесоюзным центром сибрологии — ВЦС, но в обиходе у сотрудников бытовало иное название, укоренившееся, видно, еще с прежних времен — Пансионат.
А однажды, гуляя по лесу вокруг Пансионата, мы наткнулись на высокий забор из колючей проволоки. Стояки были загнуты, по счастью наружу. «Главное отличие секретного института от концлагеря», — подумалось в шутку. Но стало грустно. Охраняли нас. Охраняли сибры. Охраняли Апельсин. Но охраняли допотопными, дремучими методами, против которых Апельсин восставал самой своей сутью. Вот только возможны ли другие методы?
Вообще нам была предоставлена почти полная свобода ддействий. Мы были не в зоопарке — мы были в заповеднике, нас наблюдали в условиях, максимально приближенных к естественным. И слежку оформили с необычайным изяществом. Мы не видели ни одного «дятла». В Пансионате были специалисты самого высочайшего класса — их невозможно было увидеть. Мы только ощущали их присутствие по какой-то жуткой напряженности, висевшей в воздухе постоянно, по странной настороженности во взглядах всех сотрудников ВЦС. И эта напряженность, эта настороженность исчезала лишь после двух-трех рюмок чего-нибудь крепкого. И еще — во время ночей любви. И еще — во время увлекательных дискуссий. И еще — во время спортивных занятий. Словом не так уж плохо жилось нам в Пансионате. Подслушивающие устройства, если и были, то в стенах, исполненные по высшему разряду. Я собственноручно излазил наш шикарный номер вдоль и поперек и не нашел ничего подозрительного. Следящие камеры, если и были, то где-нибудь глубоко в листве или настолько миниатюрные, что, не зная, как они выглядят, найти их было невозможно. К чему скрывать, нам, конечно, льстило это сверхсовременное шпионское оборудование.
Каждый день часа по три, по четыре уходило на беседы со специалистами: физиками, химиками, физиологами, социологами, астрономами, политэкономами, генетиками, кибернетиками и т. д. и т. п. пожалуй, лишь на второй день мы с ужасом осознали очевидную с самого начала вещь: в длинном трехэтажном здании Пансионата нет других подопытных индивидов, все номера забиты специалистами, и каждый мечтает лично с нами поговорить.
Больше всего докучали медики. Имея уникальную возможность исследовать наши тела без нашего участия, они всякий раз норовили задержать нас подольше и вытянуть максимум информации именно из живого тела.
С остальными было полегче. Правда, юристы и экономисты бесили своим догматизмом. Каждый из них считал собственное мнение истиной в последней инстанции, а имеющийся объем знаний — знанием абсолютным. В отличие от естественников, впитавших представление о бесконечном многообразии мира, если не с молоком матери, то с молоком за вредность в своих институтах, корифеи юриспруденции и экономики полагали почему-то, что в их области можно знать все. С естественниками были свои трудности. Эти имели обыкновение выражаться в терминах, столь далеких от нормального человеческого языка, что никакие объяснения не помогали уразуметь их. Шумная братия технарей сутками напропалую толклась возле диспетчерской, куда день и ночь, день и ночь поступала сногсшибательная информация из какого-то гигантского вычислительного центра, а туда, в свою очередь, она стекалась из множества закрытых институтов, изучавших оранжит, зеромассу, сибропластик, сибросплав и сиброклетку. Ученые дурели от приходящих сведений, как тараканы от дихлофоса, и медслужба Пансионата находилась в постоянной боевой готовности. Это был настоящий информационный сель. Вывихнуть мозги ничего не стоило даже светлым головам, привыкшим мыслить строго и логически. Было с чего подвинуться, и порою казалось, что вот еще чуть-чуть, и центр сибрологии превратится в психиатрическую лечебницу.
Сибропластик оказался абсолютно черным телом.
Оранжит был настоящим самоорганизующимся веществом — мечтой кибернетиков.
Зеротан, как теперь называли зеромассу, проявлял в виде пара свойства идеального газа, а по фазовой диаграмме характеризовался невероятными величинами перегрева и переохлаждения.
Все сиброматериалы имели абсолютную вакуумную плотность и нулевое значение упругости паров.
Было с чего подвинуться рассудком.
Группа физиков почти неделю не посещала ресторан и, питаясь в номере одним только пивом, рожала некую новую эсхатологическую концепцию. Многие медики и биологи ходили нарочито перепачканные кровью с ног до головы. Молодого вакуумного техника, одного из тех, кто попал в Пансионат, что называется, за особые заслуги перед наукой, лечили от острого отравления черной икрой. Двое социологов в подпитии забыли выключить на ночь автоматическую приставку к сибру (сляпанную каким-то электронщиком, кустарем-одиночкой, и мгновенно разошедшуюся по всему Пансионату), и утром дверь в их номер не могли открыть: комната на треть оказалась завалена золотыми кольцами. Старейшего химика-органика вынули из петли, чудом спасли ему жизнь и отправили обратно в Мсокву. Отправляли вообще многих. По разным причинам. И на их место присылали новых. Случались жуткие пьяные драки. Случалось битье зеркал и рубка мебели в ресторане. Распространенным правонарушением была, как выражались юристы, преднамеренная порча лабораторного оборудования. Но это уже были семечки: все материальное с помощью сибров воспроизводилось в считанные часы.
И вообще неприятные инциденты все-таки были не главными. В Пансионате царила атмосфера экзальтации, эйфории, всеобщего сумасшедшего счастья, сравнимая что с невероятно растянутой во времени минутой массового восторга стадиона после красиво забитого гола. И атмосфера эта была настолько заразительной, что иногда и нам, четверке дилетантов, нелюдей, подопытных свинок начинало казаться, будто мы тоже благородные исследователи, рыцари науки, напавшие, наконец, на свою золотую жилу.
Здорово было в Пансионате. Суматошно. Дико. Нереально. Здорово. Несмотря на жуткую, давящую конспирацию. Несмотря на страхи и тревогу — шутка ли! — за всю цивилизацию. Несмотря на испытания, близкие к пыткам. Несмотря на беседы, близкие к допросам. Несмотря на дружбу, близкую к вражде.
И таких друзей-врагов было у нас несколько.
Во-первых, конечно, Вася. Единственный наш не скрывающийся телохранитель-конвоир, он был высок, черен, при усах, ходил в любую погоду в элегантном сером костюме-тройке и с галстуком, а когда случалось увидеть его в бассейне или на корте, где-нибудь поблизости непременно оказывался человек, запакованный в такую же, как у Васи форму, оснащенную, стало быть, по последнему слову техники. Вася любил анекдоты, детективное чтиво и разговоры о женщинах. Мы находили общий язык. Но главным его достоинством была, безусловно, его доброжелательность, причем, насколько я мог судить, не только в рамках инструкции. Вряд ли ему по инструкции полагалось обучать нас приемам универсальной борьбы, но он охотно взялся за это после первой же моей просьбы. Общая физическая подготовка была у нас с Альтером неплохая, а на теорию мы решили много времени не тратить, поэтому практически сразу перешли к разучиванию ударов и блоков. Начали же просто с того, что по очереди или оба сразу нападали на Васю разными способами. Вася отбивался и с восхищением приговаривал:
— Хорошо удар держишь, собака!
А я ему объяснял, что это не мы удар держим, а оранжит, который в нас. К тому времени уже было известно, что внутри мозга каждого из нас находится точно такая же оранжевая горошина, как и в мозгу сибротрупов. Но только мы почему-то оставались живы. Почему — это было еще неизвестно.
Вторым нашим другом-врагом был ни много ни мало директор ВЦС, Александр Михайлович Якунин, имевший в свои пятьдесят с небольшим совсем скромное брюшко, не очень заметную лысину, пару орденов, защищенную докторскую, звание генерал-лейтенанта и безграничное влияние в определенных кругах. Росточку он был не выше метра шестидесяти, сложения крепкого, невероятно подвижен и терпеть не мог пиджаков, во всяком случае, в теплое время года. Узкие светлые брюки, кремовая или кофейная рубаха с кармашками, погончиками, закатанными рукавами и расстегнутым воротом, решительная походка и смуглый цвет лица делали его похожим на какого-нибудь латиноамериканского майора, ставшего диктатором маленькой банановой республики, и потому почтенный директор Пансионата раз и навсегда получил у нас прозвище Папа Монзано, хотя был он сильно моложе и заметно симпатичнее того воннегутовского старика. Всякий раз, когда Папа Монзано влетал в свой кабинет, где мы уже ждали его, или поднимался из-за стола нам навстречу — всякий раз мне остро не хватало одной детали в его облике: без огромной кобуры со сверкающим кольтом сорок пятого калибра на поясе выглядел он точно обворованный.
А разговоры с Папой Монзано были у нас серьезные.
— Специалисты специалистами, ребята, а надо нам с вами что-то решать. Вы, стало быть, продолжаете настаивать на повсеместном распространении сибров?
— Да, — отвечал кто-нибудь из нас, а остальные молча кивали.
— Очень хорошо, — говорил Папа Монзано. — А вы подумали, что это может быть диверсия со стороны инопланетного разума, что это война, и ваши сибры в один прекрасный день взбунтуются и уничтожат людей?
— Подумали. И считаем, что это не так.
— Очень хорошо, — говорил Папа Монзано. — А понимаете ли вы, что мир, в котором мы живем сегодня, будет полностью разрушен вашими сибрами?
— В каком смысле? — уточняли мы.
— В смысле законов, моральных принципов, существующих политических систем, — пояснял Папа Монзано.
— Да, понимаем, — говорили мы, — и радуемся этому.
— Очень хорошо, — словно автомат, повторял он. — Ну а готовы ли вы предложить миру новую систему, новые законы и новую мораль?
— Совместно со Всесоюзным центром сибрологии, — отвечали мы.
И Папа Монзано улыбался.
— Так, может быть, прекратим этот рискованный спектакль со спрятанными сибрами?
— И сведем к нулю всю двухнедельную работу института?
— Брусилов, не валяйте дурака, — Папа монзано начинал злиться, — пора доставить сюда все сибры, включая человекокопирующий. По-моему, никто и ничто не угрожает вашим планам.
— Не знаю, — уклончиво замечал я.
— Чего вы боитесь, Брусилов? — спрашивал он прямо.
— Я боюсь уничтожения сибров. Я боюсь консервации сибров. Я боюсь вечного заточения сибров вот за такимим заборами из колючки.
— Мальчишка, — говорил Папа Монзано, — волшебник-недоучка. А смерти вы не боитесь?
— Нет, — отвечали мы, — смерти мы не боимся.
— Шучу, — невинно пояснил Папа Монзано. — Идите. Будем работать с вашими сибрами.
А бывали разговоры те-а-тет. Например, такой.
— Брусилов, признайтесь, у вас же остались в Москве сообщники.
— Нет, — врал я не краснея, — зачем мне сообщники? Сами посудите, товарищ генерал-лейтенант.
Я уже знал тогда, что никаким детекторам лжи я не подвластен, никакие психохимические средства на меня не действуют и никакой гипноз не способен заставить меня говорить или делать что-то вопреки собственной воле. Все это было в общем естественно: уж если Апельсин сделал волшебника в одном экземпляре, то мог ли он позволить кому-то управлять им? И я врал самозабвенно.
— Брусилов, но ведь мы же можем проверить.
— Александр Михайлович, — переходил я на доверительный тон, — я вас очень прошу, не трогайте моих родственников и знакомых. Для дела это ничего не даст. Да, некоторые из них осведомлены о моем открытии, но сибров у них нет, и они ни в каком смысле не могут называться моими сообщниками. Мой единственный сообщник — Апельсин. Мне этого хватает. А родственников и знакомых не надо трогать. А то я буду сердиться.
— Как вы со мной разговариваете, Брусилов? — багровел Папа Монзано.
— Я с вами серьезно разговариваю, — отвечал я, чувствуя за собой реальную и громадную силу. — Здесь, в Пансионате, я делаю все, что от меня требуется, но от своих Условий я не отступлюсь. И, если вы арестуете хоть кого-то из моих родных и знакомых, я буду считать это нарушением Условия.
— Мальчишка! — восклицал Папа Монзано.
— Вы хотите сказать, — истолковывал я его реплику, — что об аресте я не узнаю? Ошибаетесь! Не вечно же нам с вами сидеть под этой крышей. Рано или поздно, я узнаю обо всем, и смею полагать, у меня еще будет возможность поквитаться с вами.
Разумеется, говорить такое-было уж слишком. Но — что поделать — я боялся за Светку. И за родителей тоже боялся. И летел вперед, закусив удила:
— И если вы полагаете, что меня можно убить и на этом поставить точку, вы тоже заблуждаетесь. Чтобы отдать приказ сибрам, мне хватит и микросекунды, и, будьте покойны, я сумею сделать это даже во сне.
А Папа Монзано вдруг успокаивался, вдруг словно бы понимал, кто есть кто. Быть может, сумев заглянуть далеко вперед, он видел себя моим подчиненным, и уж, конечно, не самым последним в ряду подчиненных великого Брусилова, и он внезапно менял гнев на милость и говорил начальственно и снисходительно, как бы спеша насладиться последними крохами власти надо мной:
— Я вас понял, Брусилов. Идите.
Да, умнейший, хитрейший Папа Монзано умел быть не только рассчетливым и строгим, но и чутким, покладистым и даже свойским. С него вдруг слетала всякая шелуха официальности, казенности, диктаторства, и перед вами оказывался вдруг просто усталый и глубоко несчастный человек, на которого внезапно свалилась ответственность столь огромная, что нести ее не только не хотел, но и не мог, наверное.
А третьим и, быть может, главным нашим другом-врагом был человек, готовый в отличие от директора взвалить на свои плечи весь груз ответственности не только за свои поступки, но и за наши, а также — Папы Монзано, спецслужб, правительства и всех настоящих и будущих представителей мировой сибрологии. Академик Иван Евгеньевич Угрюмов, выдающийся геронтолог и нейрохирург тридцати семи годков от роду, был патологически ответственным человеком. Открывшиеся вдруг необозримые горизонты науки приводили его в восторг, а ни с чем не сравнимое ощущение подрагивающего под пальцами штурвального колеса истории пьянило и окрыляло. При этом академик оставался необычайно скуп на внешние проявления своих чувств, и никто никогда не видел его улыбки. Такое уникальное соответствие собственной фамилии привело к тому, что буквально все звали его не Угрюмов, а Угрюмый. Насупленные брови, неподвижный стальной взгляд, крючковатый нос, плотно сжатый рот с уголками губ, чуть загнутыми книзу, а внутри — клокочущая радость, о которой мы знали лишь благодаря тому, что часто разговаривали с академиком.
Угрюмый, Вася, Папа Монзано, очень редкие вертолетные прогулки в другие институты, эксперименты, беседы, споры, открытия, откровения, пьянки, драки, спортивные состязания, осмотры, доклады, ночи любви, купания, вечерние моционы, заверения, объяснения, планы, разработки, грызня, информационные бомбы из вычислительного центра, и снова споры, снова эксперименты, снова Угрюмый…
А потом настал день, который перевернул все, день, который год от года представляется мне все более и более значительным. Вот почему, когда я взялся писать о нем, каждая деталь, каждая мелочь проступила вдруг в памяти выпукло, ярко, отчетливо. Как в стихотворении Пастернака:
Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен Вторично родившимся. Каждая малость Жила и, не ставя меня ни во что, В прощальном значеньи своем поднималась.ПАНСИОНАТ (продолжение)
— А сколько они насчитали мне за бессмертие? — спросил он.
Янг поглядел на него и рассмеялся.
— Не прикидывайся простачком, приятель. Пора бы уж тебе кое-что соображать. — Он подтолкнул Коллинза к каменоломне. — Ясное дело, этим-то они награждают задаром.
Р. ШеклиЯ проснулся и почувствовал, что почти не протрезвел за ночь. Так что о похмелье говорить было еще рано, но пить все-таки хотелось ужасно. Чего-нибудь холодного и газированного. Скажем, фанты. Желание было осуществимо. Надо было всего-то встать, одеться и спуститься вниз, в ресторан. Но это «всего-то» было выше моих сил. Я покосился на Ленку. Она сладко спала. Почему-то на самом краю постели, правая рука ее была уже на ковре. Будить Ленку? Свинство. Поэтому я закрыл глаза и попытался заснуть. В окно уютно барабанил дождик, в номере наверху тихо и жалобно плакал саксофон. Но спать все равно не хотелось. Хотелось пить. Холодного и газированного.
И тут Ленка окончательно сползла на пол, потянув за собой одеяло, ойкнула и проснулась.
«Ага, — подумал я, — сейчас ей захочется пить».
Ленка залезла обратно и толкнула меня в бок. Я прикинулся спящим и что-то невнятно промычал.
— Виктор, сбегай за фантой, — плаксиво сказала она.
Я снова помычал еще более невнятно. Ленка стала трясти меня за плечо. Тогда мне надоело придуриваться, я открыл глаза и совершенно трезвым голосом произнес:
— Сама сбегай.
— Виктор, ты — свинья! — объявила Ленка и выскользнула из-под одеяла.
Мне сразу стало прохладно, и, плотно завернувшись, я подтянул колени к груди и сел у стенки. Ленка что-то искала, заглядывая под кровать и переставляя стулья.
— Виктор, ты мои трусы не брал? — спросила она наконец.
— Сделай новые, — посоветовал я.
— Нет, но эти-то где?
Потом она махнула рукой и взяла со спинки стула джинсы. Я очень смеялся, глядя, как она пытается попасть ногой в штанину, но все время теряет равновесие. Наконец, ей удалось это. А застегивая молнию, Ленка взвизгнула, защемив замком волосы. Тут уж я буквально покатился со смеху. То есть я в самом прямом смысле скатился с кровати, не желая расцеплять пальцы, соединенные на коленях. В одеяле я был круглый, как колобок. А Ленка, догадавшись, наконец, подсунуть под молнию ладонь, застегнула-таки джинсы и двинулась к двери.
— Ты что, Малышка, — крикнул я, — прямо так и пойдешь?
— А чего такого? — обернулась она.
— Ну, нет, Малышка. внизу тебя могут понять неправильно.
И я швырнул ей свою ковбойку — первое, что попалось под руку.
Ковбойку она застегивать не стала, а завязала узлом на животе, и получилось такое декольте, что я опять чуть со смеху не помер.
— Ты хоть рукава закатай, — посоветовал я, — а то будто только сегодня из психушки.
Наконец, она убежала. Теперь я был уже способен вылезти из постели и, зябко поеживаясь, хоть было совсем тепло, направился в ванную. На полдороге мне подумалось, что надо надеть трусы (мало ли кто войдет) и я вернулся. Но и моих трусов в спальне не было. Движимый каким-то подсознательным ощущением, я прошел в кабинет. Трусы лежали на полу, возле кресла. А все помещение было обильно усыпано страницами моей рукописи. На столе, среди сильно измятых листов, лежали Ленкины трусы. Здесь же лежала ее майка. В памяти начали медленно проявляться картины давешнего веселья.
И тут дверь в гостиную с шумом отворилась, и Ленка, качающаяся под тяжестью ноши, грохнула на пол пластмассовый ящик с двадцатью запотевшими бутылочками, села рядом и блаженно зажмурилась. И у меня от предвкушения гулко заколотилось сердце, но сначала я решил сообщить новость:
— Малышка! — торжественно произнес я. — Я нашел твои трусы. Они были на письменном столе.
Ленка уже схватила бутылку и яростно открывала ее зубами, не в силах более ждать.
— На письменном столе? — сказала она, выплевывая пробку. — Оригинально!
Она, не отрываясь, почти осушила бутылку и, шумно выдохнув, начала хохотать. Видимо, тоже вспомнила вчерашнее.
— Виктор, — говорила она сквозь смех, — но почему именно на письменном столе?
— Не знаю, — сказал я, — просто так захотелось.
И мы стали хохотать вдвоем. Мы даже не услышали, как вошли Альтер с Аленой. Алена выглядела экстравагантно. На ней были огромные, не по размеру кроссовки с болтающимися шнурками, яркие спортивные трусы и мокрая насквозь и потому почти прозрачная кофточка, едва достающая до пупка. Альтер был практически голый, если не считать большого махрового полотенца в качестве набедренной повязки. Оказывается, они увидели на лестнице Ленку с ящиком и тут же ощутили жгучую жажду. А еще они пришли к нам мыться, потому что у них в номере какой-то шутник завязал душ узлом, труба лопнула, вода брызжит во все стороны, только не туда, куда надо, и теперь, как сказал Альтер, у них даже кошку не вымоешь. Ленка спросила, почему именно кошку, на что Альтер ответить не смог, а я напомнил ему, что он и есть тот самый шутник, что это по его идее мы вдвоем завязывали узлом шланг, причем были уверены, что это ванная комната в номере Угрюмого, и тут уже смех поднялся несусветный. Ленка держала в руке третью по счету бутылку, рука у нее дрожала, и фанта выплескивалась на грудь, и на мою ковбойку, и на джинсы, и кто-то из нас вспомнил «золотой дождь» Пьетро Меннеа на московской Олимпиаде, и мы принялись поливать друг друга фантой, и это сумасшествие, это бесшабашное веселье казалось верхом счастья.
Никогда после я не испытывал ничего подобного.
А потом мы вымылись, прилично оделись и спустились в ресторан. И там, за столиком в углу сидел Угрюмый и деловито ел яичницу. Когда мы вошли, он как-то странно посмотрел на меня. Так странно, что мурашки по спине пробежали. И хотя потом мы еще почти полчаса сидели вчетвером посреди зала, так же беззаботно шутили и хохотали, пили крепкий до кислоты кофе, ели какие-то восхитительные, тающие во рту пирожные, то есть хотя мы по-прежнему звонко радовались жизни и старались ни о чем плохом не думать, все же именно тот странный взгляд Угрюмого положил начало новому — вечному периоду моей жизни.
И было так: Угрюмый подошел к нашему столику, пододвинул стул и сел.
— Есть мнение, ребята, — сказал он тихо и просто, — что вы бессмертны.
Я почувствовал, как у меня сразу пересохло во рту, и сумел только выдавить сипло:
— Это… твое… мнение?
— В том числе и мое, — подтвердил Угрюмый.
И в тот же момент словно бесшумно опустился стеклянный колпак. Все звуки ресторанного зала исчезли, а все жующие человечки за столиками стали как будто игрушечными.
«Вот оно, — подумал я, — вот оно», — глядя на круглые, как блюдца, Ленкины глаза, на приоткрытый рот Алены, на мятую салфетку в руках Альтера.
А что, собственно, оно? Разве я ждал этого? Да, ждал. Я ждал расплаты. Настоящей расплаты. И она пришла. Бессмертие. Бессмертие, которое было смешным в рассказах Шекли и дьявольски заманчивым в романах Саймака. Бессмертие оказалось страшным. Исключительность. Одиночество. Бесконечные смерти друзей. Холодная бездна будущего. Желание умереть и удвоенный, утроенный страх смерти. Необъятный поток информации. Безумие.
«Спасибо, Апельсинчик, — думал я, — спасибо, родной».
А Альтер проговорил с усилием:
— Ка… конь… коньяка…
И Угрюмый потребовал громко, на весь зал:
— Коньяка для великой четверки!
Я был благодарен ему за то, что он не крикнул «для четверки бессмертных», хотя, наверно, он просто не имел права крикнуть такое.
ЛАРИСА
…Сделали очень странный вывод. Они решили, что интимная близость с вечными сделает бессмертными их самих.
А. АзимовКогда Угрюмый вызвал меня к себе, я сразу почуял неладное. И, как бы защищаясь, начал с шутки:
— Что, удалось доказать, что палец Брусилова, будучи сглодан собакой, на выходе из нее вновь превращается в палец Брусилова?
— Садись, — сказал угрюмый, — разговор долгий.
Я сел.
— Когда ты обнаружил свои регенеративные свойства?
— Через два дня после контакта.
— Плохо. Как ты объясняешь возникновение этих свойств?
— Апельсин сделал меня бессмертным, чтобы я всегда управлял им.
— Очаровательно. А Лену зачем? Шутки ради?
— Ну, как тебе сказать, чтобы я не скучал, наверно…
— Изумительная мотивировка! А знаком ли ты с гипотезой передачи регенеративных свойств половым путем?
— Не согласен с этой гипотезой. Грубовато для Апельсина. Полагаю, что меня и жену он сделал бессмертными одновременно.
— Но это же все лирика. Необходим эксперимент.
— Какой эксперимент?
— Эксперимент по передаче регенеративных свойств половым путем, — терпеливо повторил Угрюмый свою формулировку.
— Кому? — глупо спросил я.
— А это имеет значение? Вообще есть кандидатура.
— По-моему, не стоит, — сказал я.
— Почему не стоит?
— Ну, просто не стоит — и все.
— Детский сад, — пробурчал Угрюмый. — Ты пойми, я должен полностью восстановить картину происшедшего.
— Ты ничего не восстановишь. Идея ахинейная. Может быть, я смогу передать бессмертие мысленно.
— Попробуй, — предложил Угрюмый.
Он швырнул мне оранжевый шар, лежащий на столе.
— А ты хочешь стать бессмертным? — спросил я.
— Я хочу узнать истину, — ответил он, и в его устах слова эти не звучали высокопарно, а были просто объяснением.
— Хорошо, — сказал я, держа шар в руках, — положи ладонь сверху. Вот так.
Я старался, но это было глупо, особенно глупо, потому что благодаря Светке я уже познакомился с другим методом. И было противно врать. Но я не мог иначе и изо всех сил упрашивал Апельсин сделать Угрюмого, если не бессмертным, то хотя бы просто монстром.
— Все? — спросил он.
— Все, — сказал я, и он порезал палец.
— Блестящий метод, — съязвил Угрюмый, беря пузырек с БФ-ом.
Палец непрерывно кровоточил.
— А ты случайно гемофилией не страдаешь? — пошутил я на закуску.
— Нет, — серьезно ответил Угрюмый. — Но ты понял, наконец, что эксперимент нужен.
— Но ведь и ты меня пойми! — взорвался я. — Да, я монстр. Я соглашаюсь тут черт знает на какую вивисекцию и прочие измывательства. Но спаривать меня, как какое-нибудь животное, как распоследнего хряка, это уж, извини, слишком!
— А почему «как»? Мы все животные. Человек — это животное. Ты плохо учил биологию в школе. А хряков, между прочим, сейчас не спаривают, а на бревно гонят, а потом свиноматок искусственно осеменяют.
— А ты не можешь свою свиноматку искусственно?
— Могу. Я уже пробовал.
— Пробовал?!
— Разумеется. Что, мы твою сперму, что ли, не исследовали.
— Так значит, не вышло?
— Представь себе.
— Забавно.
Признаться, я был озадачен.
— Очень забавно, — согласился Угрюмый, — А с Леной вышло.
— Я же говорю, половой акт ни при чем.
— А я этого не знаю, — Угрюмый начал кипятиться. — Искусственное оплодотворение — это не чистый эксперимент. Понимаешь? Думаешь, я что, эротоман какой-нибудь? Набиваюсь в соглядатаи и буду слюни пускать? Да я бы и рад начать с внутривенного вливания или пересадки кожи, но это все опасно, смертельно опасно! Не знаю я, как твои жуткие клетки будут действовать на клетки нормальных людей. А половой акт… Да что тебе объяснять! Мальчишка ты и в медицине профан.
Он помолчал, остывая, потом спросил:
— Лену предупредить?
— Сам предупрежу. И вообще я еще согласия не давал, — но это я уже так поворчал для порядка.
— Жду через полчаса в лаборатории. Лене могу разрешить поприсутствовать, чтобы не ревновала, — добавил он совершенно серьезно.
— Спасибо, — сказал я, — это очень любезно с твоей стороны. Я просто чувствую себя должником. Поэтому, когда я буду спать с твоей женой, я разрешу тебе поприсутствовать. И Васю приглашу, чтобы ты не очень ревновал.
С этими словами я вышел и закрыл дверь.
А Ленка потом сказала:
— Передай своему Угрюмому, что он дурак.
Но это было уже в конце разговора, а начать его было ой как нелегко! Мы вышли в парк, и я попросил Васю не ходить за нами по пятам. Вася согласился и маячил все время в отдалении.
— Малышка, — сказал я очень тихо, — в ту ночь, когда у нас была Светка… Ты помнишь ту ночь? Мы с ней…
— А ты думаешь, я не догадывалась? — это был вопрос-пощечина.
— Догадывалась, но не верила, — предположил я.
Ленка ничего не сказала. Она смотрела мимо меня и нервно щурилась.
— И ты простила меня?
— Нет. А что?
Я растерялся. Я бормотал что-то совсем уже невразумительное. И Ленка сказала еще резче:
— К чему вообще этот разговор? Я не понимаю.
— Угрюмый… — проговорил я.
— Теперь у тебя новая любовь — Угрюмый, — огрызнулась Ленка.
— Нет, — сказал я. — Угрюмый подыскал мне кого-то для эксперимента.
— Какого эксперимента?
— Передача регенеративных свойств половым путем, — отрапортовал я.
Ленка сверкнула глазами в мою сторону:
— А что, эксперимента со Светкой не достаточно?
— Глупенькая, — сказал я, — да разве я могу о ней говорить?
— А почему бы и нет? Нас тут гоняют как бобиков, а она там резвится с очередным приятелем!
— Ты что? — опешил я. — Ты забыла, что ли, что Светка наш запасной вариант? Ты что, всерьез хочешь, чтобы ее тоже притащили сюда? Да они же тогда перестанут нам верить. Да я вообще не знаю, что тогда будет!
— Не заводись, — сказала Ленка. — Это я так, сболтнула. Извини.
И вдруг она словно проснулась:
— Слушай! А что же Светка? Стала монстром?
Я рассказал, и пока рассказывал, я вдруг понял, что Ленка простила меня. Больше того, я понял, что она всегда будет прощать меня. А я ее. У нас просто не будет выбора. А поводов будет много. Бесконечно много. У нас теперь всего будет бесконечно много. Друзей. Любовников. Потерь. Открытий. И мы научимся не ревновать друг друга к смертным и не грустить о преходящем. Мы научимся… Вот только Светка! Вдруг она тоже бессмертна?
— Слушай, — сказал я вновь помрачневшей Ленке, — ну, хочешь, тоже переспи с кем-нибудь, чтобы не так обидно было.
— Дурак, — сказала она. — Знаешь, кого ты мне напомнил? Президента одной африканской страны, где людоеды слопали одного посла. Помнишь эту историю? Тогда еще ходил анекдот, выдававшийся за правду, будто президент предложил в порядке компенсации слопать ихнего посла. Вот и ты так же. Людоед.
Мы помолчали.
— Ну что ж, — проговорила Ленка, — скажи Угрюмому, что я не возражаю. Мне действительно все равно. Уж если мы подопытные кролики, то нечего и корчить из себя. Шагай, бессмертничек. Не оплошай, смотри. И знаешь что, покажи мне потом эту мымру.
Мымра оказалась кандидатом медицинских наук тридцатитрехлетней Ларисой Крестовской. Вот это был экземпляр! Пышная крашеная блондинка с грубым лицом продавщицы мясного магазина, с сипловатым голосом и деловой, абсолютно невозмутимой манерой держаться. Из минутного разговора у меня сложилось впечатление, что ей совершенно безразлично, делать ли уколы больным, поднимать ли гантели, съесть ли подряд два обеда или переспать подряд с двумя мужчинами — надо, значит надо. Я не спросил, есть ли у нее муж. Вопрос показался мне неуместным. Лариса была при исполнении.
И этой женщине я должен был подарить бессмертие! Точнее, нечто пока неизвестное и условно называемое мною бессмертием в разбавленном виде.
Угрюмый выдал последние инструкции и удалился в соседнюю комнату. Нам постелили в экспокамере огромного сибра, гивер которого находился как раз там, где был Угрюмый. Он хотел постичь в подробностях процесс превращения нормальной клетки в клетку монстра, и потому сибр был снабжен автоматикой, выдававшей каждые пять секунд — только успевай трупы оттаскивать. Я знал, что Угрюмого ждут интересные результаты, и утешал себя этой мыслью.
А Лариса разделась, и, хотя объективно я оценил ее формы, ну, скажем так, на четверку, в процессе этом было столько же эротики, сколько можно ее увидеть и в очистке капустного кочана. Раздевшись, она легла и добила меня фразой:
— Приступайте, Брусилов.
Именно в этот момент я испугался, что ничего не выйдет, но сказал себе: «Ты не имеешь права подвести Угрюмого». Впрочем, Лариса оказалась женщиной умелой, и первый барьер был преодолен, ну, а когда она вдруг закричала, это было вообще как гром среди ясного неба…
Потом я вышел на лужайку перед зданием, завалился нахально на клумбу с анютиными глазками и долго лежал, глядя в голубую бездну и считая пролетавших птиц. И было у меня пакостно на душе, как бывает иногда по утрам, если высосешь с вечера бутылки две мутного дешевого портвейна.
Належавшись, я пошел в сауну. Там-то, уже в душе, меня и нашел Угрюмый. Угрюмый улыбался. От изумления я даже выключил воду, чтобы получше рассмотреть это диво.
— Радуйся, дурень! — закричал он. — Тебе больше не грозит судьба племенного хряка. Мы будем плодить монстров, просто переливая людям твою кровь, а у тебя еще — как специально! — первая группа.
— И все будут бессмертными? — спросил я в ужасе.
— Нет, бессмертными они не будут.
— А сколько, сколько они будут жить?!
Я почти кричал. Я думал о Светке.
— Не знаю, — сказал Угрюмый. — Может, пятьсот лет, а может, всего пять.
— То есть как это пять?!
— Сказал же: не знаю пока. И не зови меня убийцей. Я уже ввел себе твою кровь. Так что помирать будем вместе с Ларисой.
— Когда же ты все это успел? — я был просто ошарашен.
— Вполне хватило одного часа. Дурень ты этакий. Я же ломаю себе голову над проблемой сиброклетки уже три недели. Мне не хватало одного ма-а-аленького результатика. Сегодня я его получил. Понимаешь… Впрочем, ни черта ты не понимаешь все равно. Чайник ты бессмертный!
Я снова включил душ и вежливо поинтересовался:
— Ну а как Лариса? Как она пережила свое превращение?
— Счастлива, разумеется. Она у меня молодчага!
И так он это странно произнес, что я не удержался:
— Что значит «у меня»?
— А то и значит. Лариса — моя жена, — сказал Угрюмый и улыбнулся второй раз за день.
КОНЕЦ СВЕТА
Этого следовало ожидать. Бессмертному существу размножения не нужно. Оно теряет свой смысл. Вид может сохраниться уже сам по себе, без эстафеты поколений.
М. Емцов, Е. ПарновКто бы мог предположить, что именно у бессмертных меньше всего свободного времени. А ведь как раз с того момента, когда мы узнали, что являемся не столько монстрами, сколько богами, началась такая свистопляска, что уже некогда было даже задуматься над происходящим. Угрюмый помимо своего диковатого эксперимента обрушил на нас целый водопад новых данных и новых гипотез, новых требований и новых предложений, новых выводов и новых просьб. Вообще медики и биологи испытывали новый прилив энтузиазма и накинулись на нас, как свора истосковавшихся по охоте гончих. Остальная шатия-братия пришла в состояние оцепенения, хотя казалось, что в Пансионате уже никого и ничем удивить нельзя. Юристы объявили забастовку. Кибернетики ходили как пьяные. Астрофизики смотрели на нас, как смотрят в телескоп на небесные тела. Видный экономист, опережая события, сформулировал нечто вроде афоризма: «Бессмертное человечество — один из вариантов конца света». Химики официально заявили, что бессмертие невозможно как таковое ввиду принципиальной необратимости химических процессов. Политики насторожились.
А мы в тот же день напились, чтобы на другой сесть вместе и призадуматься. Но Угрюмый со своей Ларисой совершенно выбил нас из колеи. И мы снова напились. Третий же день объявленного бессмертия начался для нас ночью.
Я проснулся внезапно. Но не так, как просыпаются от испуга или по заранее заданной себе установке. Я проснулся, потому что кто-то говорил:
— Вставай, ну, вставай же. Незачем тебе спать…
Голос был мой, и я решил, что это Альтер. Но Альтера в комнате не было. Была только привставшая с постели и испуганно молчащая Ленка. Часы показывали 2.48. (7.48 Иркутска, вспомнилось вдруг. Но это звучало нелепо. Это было из какой-то другой жизни. Забытой. Давно прошедшей.)
Спать не хотелось совершенно.
Я зажег свет и посмотрел на Ленку. А Ленка на меня. Мы ничего друг другу не сказали. Мы уже давно поняли, что расплата — она же награда, она же еще черт знает что — приходит постепенно, в рассрочку, что организмы наши продолжают меняться, и оставалось только понять, к чему это все приведет. Угрюмый считал, что страшного ничего не будет.
— У вас переходной период, — говорил он, — перестройка организма для перехода на бесконечные рельсы. И тут неизбежны всякие колебания…
А колебания были будь здоров. От обостренного чувства боли до полной невосприимчивости к ней. От сильного опьянения с первой же рюмки до абсолютно нейтральной реакции на любые дозы алкоголя. Были колебания и посерьезнее. Приливы бодрости чередовались с апатией, невероятная сила в мышцах сменялась пугающей слабостью, а приступы сладкой сонливости — мучительной бессонницей.
Мы с Ленкой еще не встали, когда вошел Альтер и следом за ним Алена.
— Ну, и как это все понимать? — Альтер, как всегда пытался взять быка за рога.
— Полагаю, что отныне, — сказал я, — мы сможем обходиться без сна.
— Блеск! — высказался Альтер.
— Кошмар, — возразила Алена.
— Отсутствие необходимости еще не означает отсутствие возможности, — философски заметил я.
— Поживем — увидим, — бодро сказала Ленка. — Пошли купаться.
— Купаться? — удивился Альтер. — А что, отличная идея!
Купаться решили в бассейне. Зачем идти по ночному лесу к реке и осложнять жизнь нашей охране? Да и вода в бассейне потеплее.
Однако нагрев оказался отключен, и, когда Ленка, раздевшись первой, прыгнула в воду и черное зеркало с белым светящимся кругом луны посередине разлетелось в мелкие сверкающие дребезги, над бассейном раздался визг. Конечно, холодной мы не боялись, конечно, простуда нам не грозила — хоть спи в проруби, — но ощущения при погружении в ледяную купель раннего октября были у нас в ту пору точно такие же, как у любого обычного человека.
Барахтанье в бассейне настраивало на озорной лад, и, выбравшись из воды, мы с Альтером дружно крикнули:
— Ва-ся!
— Меня зовут Леван, — с легким акцентом сказали из темноты.
— Поди сюда, Леван.
От ближайшего дерева отделился силуэт Васиного дублера и медленно двинулся в нашу сторону. Голые и мокрые, мы стояли возле самого края бассейна.
Васины уроки не прошли даром. Разумеется, не обошлось без нескольких пренеприятных тычков в нервные центры, но все-таки мы его одолели. Вероятнее всего потому, что он ждал чего-то совсем другого: ударов, обезоруживания, выкручивания рук. А мы просто спихнули его в воду, и Ленка с Аленой, мигом включившись в игру, подплыли к Левану и, хихикая, изобразили сцену соблазнения русалками тонущего моряка. Леван смешно отбивался.
— Эх, жаль, фотокамеры нету! — вырвалось у меня.
И почти в тот же момент яркая вспышка осветила возню в бассейне — это товарищ Левана, прибежавший было на помощь, не терял времени зря. (На следующий день фоторепортаж о нашем веселом купании имел большой успех у всего Пансионата.)
А когда мы вернулись в номер, мечтая о кружке доброго грога и горячем омлете, Альтер, шедший первым, вдруг остановился на пороге и, сделав знак рукой, задержал нас…
За два дня до описываемых событий в меня и Ленку, ни разу не попав, стрелял помутившийся рассудком сотрудник охраны, и мы были теперь пуганые. Угрюмый еще не знал, справится ли наш организм с пулей, угодившей, скажем, в мозг, и от экспериментов таких до поры воздержался.
И вот теперь был просто страх, абстрактный страх, передавшийся мне через прикосновение пальцев Альтера, а уже потом я разглядел слабые рыжие сполохи на стенах комнаты. Неужели поджог?
Все оказалось гораздо проще. И гораздо страшнее.
На журнальном столике стояла свеча. В кресле сидел Угрюмый.
— Садитесь, дети мои, — сказал.
— И покайтесь, — подхватил Альтер. — Для четырех утра довольно глупый спектакль.
— Это не спектакль. Просто я не мог ждать, а вы все равно не спите. И не надо зажигать свет. Я люблю свечи.
По тому, как обтекла свечка, похоже было, что он ждал нас уже не меньше получаса. Из форточки тянуло холодом. Язычок пламени подрагивал. Угрюмый зябко поводил плечами. Сделалось тревожно.
— Выпить дайте чего-нибудь, — попросил он.
Это было ново. Угрюмый не пил. Совсем не пил. Жалел время.
Посветив себе фонариком, Ленка нашла сибр с нашлепкой «грог» и водрузила его на стол. Алена налила в воронку воды из чайника. Мы любили делать именно так — превращать воду в вино.
Грог оказался кстати. В бассейне-то мы не замерзли, но от сообщения Угрюмого всем стало зябко.
— Есть мнение, друзья мои, что вы абсолютно и необратимо стерильны.
Первыми среагировали женщины. Даже при свече было заметно, как обе они побледнели. Потом Алена закрыла лицо руками, а из Ленкиных широко раскрытых глаз быстро и страшно покатились обильные слезы.
Мы с Альтером отнеслись к новой информации спокойнее. Грустно, конечно, но пережить можно. Миллионы людей во все времена оказывались бездетными — и ничего. А уж нам-то — богам сибрового мира — можно ли грустить о такой мелочи? В конце концов, в действиях Апельсина видна вполне определенная логика. Он творит новую цивилизацию на Земле строго по Шопенгауэру: обществу бессмертных не нужны дети… И тут до меня дошло, что бессмертных-то всего четверо на целой планете. А остальные?
— Так значит все, кому введут кровь Брусилова… — начал я.
— Да, — сказал Угрюмый, — очень может быть.
— Что значит «очень может быть»?! — закричал я, выведенный из себя дурацкой манерой Угрюмого подавать любую информацию в форме гипотезы.
— Дело в том, — спокойно пояснил Угрюмый, — что ваша стерильность обусловлена наличием оранжита в половых клетках, а моя и Ларисы — обычными, известными медицине причинами.
— Так, может быть, это не связано с введением моей крови?
— Связано.
— Но ты сумеешь это вылечить?
— До сих пор такое бесплодие не излечивалось.
— Но ты сумеешь? Ты научишься?!
Угрюмый молчал. А Ленка проговорила сквозь слезы:
— Что ты орешь, Виктор?
Она переживала свое горе и, кажется, совершенно не понимала, о чем идет речь. А речь шла ни много, ни мало о конце света.
Я и Альтер говорили одновременно, перебивая друг друга. Угрюмый молчал.
— Значит, конец идее продленной молодости…
— Всему конец…
— Да нет же, можно дать мою кровь избранным…
— Желающим, желающим, а не избранным…
— Глупость. Это конец света…
— Все захотят жить молодыми двести лет, или сколько там, вместо того, чтобы возиться с детьми…
— Ну, положим, не все…
— Может быть, не все сразу, но вообще все.
— А забота о будущем?
— Нет никакой заботы о будущем, есть только забота о себе…
— Значит Апельсин хотел…
— Апельсин — не человек, он ничего не хотел…
— Но это же вторжение… геноцид…
— Ловко они нас!
— На очищенную от человечества планету прилетает много-много Апельсинов…
— Целый вагон. По два рубля килограмм, — встрял Угрюмый.
Но шутку никто не принял.
— Не может быть! — свистящим шепотом сказала Ленка. — Не верю. Апельсин не мог!
— Какая наивность, Малышка! — я вскочил и заходил по комнате. — Откуда нам знать, что он мог, а чего не мог. Это сибр не враждебен человеку, потому что его изобрел я. А Апельсина я не изобретал. Он сам прилетел. Он сам прилетел! Я не звал его!!.. Или звал? Ведь тогда я величайший убийца в истории человечества… Но я не звал его!!! ОН САМ ПРИЛЕТЕЛ!!!
Наверно, в этот момент Угрюмый испугался за мой рассудок.
— Хватит орать, — сказал он. — Вы можете выслушать меня спокойно?
Вопрос подействовал отрезвляюще. Я вдруг понял, что информация еще не вся.
— Никакой это не конец света, — отчеканил Угрюмый. — Вы что, совсем отупели с вашими оранжевыми мозгами? Вакцинацию-то имеет смысл делать лет в тридцать, а до тридцати, представляете, сколько можно нарожать? Пятерых безо всякого труда. Где же тут конец света? Тоже мне, могильщики человечества!
Доходило медленно. Я просто боялся поверить, что все так хорошо. У меня было ощущение, словно я только что своими глазами видел дрожащую костлявую руку, тянущуюся к пресловутой кнопке, и ничего уже нельзя было сделать, а потом вдруг, неизвестно как некий безымянный, но славный агент специальной службы перерубил в самый последний момент силовой кабель, и мир был спасен.
Однако радость улетучилась быстро. В том, что мы сделались жертвами нелепого заблуждения, а потом все прояснилось, ничего хорошего, в сущности не было. Теперь предстояло осмыслить действительное положение вещей, и Ленка первая спросила о главном:
— А сколько же все-таки будут жить эти стерильные люди?
— Сколько? — академик выдержал театральную паузу и сообщил: — Лет около ста. Независимо от возраста, в котором произведена вакцинация.
— Мало, — сказал Альтер.
— Нахал, — возмутилась Алена. — Сотня лет в молодом теле!
— Я не нахал, я бессмертный. Для бессмертного любая цифра мала.
— А от чего будет наступать смерть? — спросил я.
— От старости, — сказал Угрюмый. — Удивляетесь? От мгновенной старости. Понимаете, в ваших головах стоят регуляторы из оранжита как бы неограниченной емкости. Как они устроены, я не знаю. Причем, пересадить их никому нельзя — каждый регулятор сугубо индивидуален. А в наших головах емкость регуляторов ограничена. Оранжит берет на себя все ошибки в работе генетического аппарата, но, к сожалению, накапливает их. Этот регулятор представляет собой как бы портрет Дориана Грэя, только уничтожается он сам, автоматически. Ну, и конечно, внешнего старения, как в романе Уайлда, мы наблюдать не будем. Будет что-то вроде обширного инсульта.
— Страшно, — сказала Ленка.
— Да, — согласился Угрюмый, — это высокая цена за долгую молодость. Но, по-моему, можно заплатить и побольше.
— А мы и платим побольше, — сердито заметила Алена.
— Верно, девочки, — не спорил Угрюмый, — стерильность — вторая плата, и тоже высокая, но это — регулятор рождаемости. Иначе за восемьдесят с лишним лет половой зрелости мы расплодимся, как тараканы. А перенаселение, братцы, проблема непростая даже при полном изобилии.
— А у тебя дети есть? — вдруг агрессивно осведомилась Ленка.
— Сын, — сказал Угрюмый.
— Легко тебе рассуждать о всяких там платах-зарплатах! А у меня никогда не будет ребенка. Никогда! — крикнула она со слезами.
— Малышка! Но при чем здесь Иван? Не он же придумал Апельсин, — Альтер был, как всегда, рассудителен.
Но и Алена тоже плакала и тоже вопреки всякой логике ругала Угрюмого. Вот уж никогда бы не подумал, что для моей Малышки так важно иметь ребенка — нам с ней раньше и в голову не приходило такое.
Все как-то растерялись. Угрюмый неуклюже гладил обеих Ленок по плечам и явно пытался придумать что-то в утешение.
— Девочки, милые, — родил он, наконец, — но это же не окончательный приговор.
— Да?! — обе спросили одновременно и одновременно улыбнулись.
Они были похожи на детей, которые так легко ударяются в неудержимый рев и так же легко утешаются вдруг какой-нибудь чепухой.
— Не окончательный? — спросили они снова вместе.
От такой синхронности улыбнулся даже Угрюмый. (Третья улыбка Угрюмого, отметил я про себя).
— Ну, конечно, девочки, в медицине не бывает окончательных приговоров. А тем более, в сибромедицине. Это еще слишком молодая наука…
Слава Богу, конфликт был, кажется, улажен. Но Альтер на всякий случай перевел разговор на другую тему:
— Между прочим, перенаселение — не такая страшная штука. Я говорил на днях с астрономом Цвиркиным. Большой поклонник Циолковского. Так он мне поведал о грандиозном проекте заселения планет Солнечной системы…
Поговорили о проекте Цвиркина. Действительно, впечатляющий замысел. С помощью сибров ничего не стоило в довольно короткие сроки создать земные условия и на Марсе, и на Венере, и на спутниках Сатурна, и еще бог знает где. Хороший получился разговор. Стерильность отошла на второй план, все страхи и волнения забылись, и грядущее вновь засияло радужными красками: бесконечность, звезды, счастье… Но… Было «но». Я ощущал какую-то смутную тревогу. Я ощущал недосказанность в сообщении Угрюмого и недосказанность такого рода, что сам Угрюмый еще не знал, что ему следует сказать в дополнение.
Но был человек, который знал это очень хорошо. Папа Монзано первым почуял недоброе в докладной записке Угрюмого о стерильности. Да, разумеется, академик растолковал начальству, что всеобщая вакцинация — не катастрофа, что обеспечить порядок в деторождении — забота юристов, а не медиков, но Папа Монзано почуял недоброе и насторожился. Может быть, он не очень-то верил полученным результатам (слишком уж много сюрпризов преподносил Апельсин); может быть, воображение Папы Монзано поразило то, что появилась некая новая сущность, грозящая выйти из-под контроля — дьявольская кровь Брусилова; а может быть, просто не выдержали нервы (генерал-лейтенанты — они ведь тоже люди). Так или иначе, директор ВЦС принял суровые меры. Но сначала был диалог.
— Ваши тайные сообщники заражены вашей кровью?
— У меня нет сообщников, — сказал я.
— Вы лжете, Брусилов. Но вы хоть понимаете, какой опасности подвергаете все человечество?
— Да, — сказал я.
— Брусилов, вы дурак! — горячился Папа Монзано. — Вы же только что сказали, что у вас нет сообщников.
— Да, — сказал я.
— Так в чем же опасность?
— Во мне.
— Бросьте. Здесь вы не опасны.
— Перестреляете, как бешеных собак?
— Прекратите, Брусилов. Отсюда нельзя выйти.
— Выйти можно откуда угодно. Пансионат охраняют люди. Представьте, кого-нибудь из вашей охраны совратит моя жена. И этот стерильный, этот заразный там, за кордоном пойдет по бабам. Не остановите вы его. Апокалипсис.
— Смешно, Брусилов. Ваши фантазии на уровне бульварного романа.
— А как насчет ампулы с вакциной, переправляемой в виде сибра? Это вы предусмотрели?
— Прекратите меня учить, Брусилов! — рассердился Папа Монзано. — Мы все предусмотрели.
И ведь они действительно предусмотрели все. Каждому проверили кровь. Внутренние передвижения по Пансионату ограничили предельно. Все следили за всеми. И тем не менее каждый день кровь проверяли снова и снова. Для связи с внешним миром использовался теперь только один вертолет, и охрана ежедневно перетряхивала его с особой тщательностью. У вылетающих брали кровь перед самой посадкой и тогда же делали рентген. И это лишь то, о чем мы знали, хотя вообще-то нас, шестерку стерильных, полностью изолировали от всех.
В Пансионате сделалось противно. Не стало игр, прогулок, дискуссий. Осталась только работа, да и то не у всех. И еще пьянство. Это — у всех. Кому хотелось, конечно. А хотелось многим. Появились даже наркоманы. Душно сделалось в Пансионате. И никто не знал, чем и когда это кончится. Даже Папа Монзано не знал. Каждый день меня доставляли к нему в кабинет, и он убеждал, убеждал, убеждал меня отказаться от Условия.
Тошнехонько было нам всем в те дни. Ох, как тошнехонько! «Вот уж действительно конец света», — шутил Угрюмый.
А потом все кончилось.
ИСХОД
Мы пока еще дети. Пора расстаться с детством… Наступила иная пора — эра зрелости человека. И открыть ее довелось нам.
Ж. КлейнУтром, ни свет ни заря, позвонил по видео Папа Монзано и, обращаясь только ко мне, сказал:
— Брусилов, зайдите минут через двадцать. Без свиты.
Я обиделся. И еще мне хотелось спать. И еще — совершенно не тянуло на серьезные разговоры.
— Я — Бог, — ответствовал я. — Отныне я един в четырех лицах и, как Вы изволили выразиться, без свиты прийти не могу.
— Брусилов, не валяйте дурака, — только и сказал Папа Монзано.
А когда я вошел к нему в кабинет, там уже сидели двое, и оба были мне не знакомы. Один — в генеральском мундире, немолодой и краснолицый. Второй — лет сорока, среднего роста, среднего сложения, в сером костюме и с очень бесцветным, на удивление незапоминающимся лицом. Ни тот, ни другой мне не представились. Папа Монзано указал на кресло. И тогда, демонстрируя полное безразличие к этому сборищу, я сел, вынув из кармана сибр-миниморум, поставил его на стул, вырастил до весьма приличных размеров, подкармливая журналами со столика, извлек чашку кофе и сэндвич и невозмутимо принялся за свой завтрак. Ни один из присутствующих даже ухом не повел, и это, признаться, не могло не вызвать уважения.
Оказалось, ждали еще троих: слегка знакомых мне профессора-юриста, академика-психолога и, наконец, Угрюмова.
— Начнем? — спросил Папа Монзано, когда они вошли и молча сели.
Бесцветный кивнул. И Папа Монзано сообщил одновременно просто и торжественно:
— Дело в том, Брусилов, что наш институт завершил первый и, наверно, самый важный этап работы. Вчера мы были с докладом в ЦК. Так вот, Брусилов, принято решение об организации в самое ближайшее время многосторонней встречи на высшем уровне. И Ваше участие в этой встрече будет необходимо. Поэтому сегодня вечером нас с вами, то есть меня, вас четверых и Ивана Евгеньевича вызывают наверх на предмет выработки общей программы действий…
Он еще продолжал говорить, а мне уже ударила в голову кровь и стучала теперь в висках радостными молоточками. «Свершилось, — думал я. — Наша взяла. Принято Условие Брусилова!» Конечно, вызов наверх мог означать что угодно, но международная встреча!.. Это нельзя было интерпретировать двояко. Условие Брусилова принято!
А это значит: мы победили.
А это значит: все будем счастливы.
А это значит: конец войнам, конец голоду, конец деньгам.
А это значит: сибр — именно то, что я и придумал, а не диверсия галактического разума, не происки дьявола и не социальная бомба замедленного действия. По крайней мере, это значит, что именно так считает абсолютное большинство ученых Пансионата. Иначе никто бы никогда бы не принял моего условия.
— …только попрошу Вас, Брусилов, — услышал я голос Папы Монзано и словно проснулся, — не воображайте себе, что это Ваш наивный шантаж вынудил правительство принять окончательное решение. Надеюсь, с годами Вы поумнеете и все поймете сами, но мне хотелось бы, чтобы уже сейчас Вы не строили никаких иллюзий относительно Вашего «исторического» условия.
Папа Монзано выдвинул ящик стола и положил перед собой два маленьких сибра.
— Узнаете? Этот — из посольства Чада. А этот — с территории посольства ФРГ. Дешевые трюки, Брусилов. Сколько их было всего?
Я почувствовал, как внутри у меня что-то оборвалось. Что-то тяжелое и скользкое. Оно упало, вертанулось разок и вдруг как пошло, как пошло крутиться, стремительно набирая обороты. И вроде бы я хочу остановить этот проклятый маховик, но куда там! Поздно. Я понял, что сейчас совершу нечто непоправимое. Должно быть, глаза у меня сделались бешеные, потому что Папа Монзано стал вдруг подниматься из-за стола, а бесцветный напружинился весь, как перед прыжком и сделал короткое и очень понятное движение рукой.
В следующую секунду все стало на свои места. Я бы, конечно, и так сумел овладеть собой. А они… Они не знали этого, и сработала привычка сначала делать, а уж потом размышлять. Бесцветный саданул меня рукояткой пистолета по темени, и маховик во мне тут же остановился. Я заметил, что психологу явно не по себе от этого маленького приключения. Угрюмый же загадочно улыбался.
— Вы не могли найти все сибры, — сказал я.
Мне не было больно, и я был абсолютно спокоен.
— Могли, — мягко возразил Папа Монзано, — но мы не видели в этом смысла. Мы просто разыскали Светлану Зайцеву.
Я дернулся, и он добавил:
— Никто ее не трогал, Брусилов. В этом мы тоже не видели смысла.
Он сделал паузу, и я не мог не спросить:
— Но тогда в чем же Вы видите смысл?
— В чем? — рассеянно переспросил Папа Монзано и извлек из кармана пластиковую трубочку с пилюлями. Положив одну под язык, проворчал: — И зачем я бросил курить — не понимаю. Так вы спрашиваете, в чем есть смысл. Видите ли, Брусилов, Вы не человек.
И после этой глубокомысленной фразы он замолчал надолго. Он смотрел на меня и вдумчиво посасывал свою таблетку. Потом продолжил:
— Вы посредник, Брусилов. И самое обидное, что ни одна сволочь не только в моем институте, но и во всем мире не знает — да и никогда, наверно, не узнает — чья же именно воля движет Вашими поступками. Я правильно говорю, Иван Евгеньевич? (Угрюмый кивнул). Вот как, мой юный друг. А единственный смысл мы видим в том, чтобы сохранить человечество.
Он опять помолчал, словно израсходовал всю энергию и перед следующей частью монолога ему необходимо подзарядиться.
— Если мы примем предложенный Вами вариант, распространим по свету Ваши штуковины, человечеству, конечно, придется нелегко, но жить оно будет, а это главное. Как раз вчера мы закончили оценку всех последствий такого шага. А вот если мы откажемся…
Он полез за второй таблеткой, потом раздумал.
— Никто не знает, что будет тогда. Тысяча Пансионатов не сможет ответить на этот вопрос. И мы не хотим отвечать на него. Мы просто хотим жить. Все хотят жить, Брусилов. Вот как. И зря Вы так старались, машинки свои по помойкам разбрасывали. Не было у нас выбора. Теперь Вы понимаете это, Брусилов?
— Нет, — признался я честно, — не понимаю.
Как-то весь этот апокалипсис не умещался у меня в голове. И главное, ведь я-то знал, что они заблуждаются, что я — человек, существо со свободной волей, полноправный хозяин всех своих невероятных способностей. Как было разубедить их? И стоило ли?
— Не беда, — сказал Папа Монзано, — у вас еще есть время, — он улыбнулся своей случайной, но довольно тонкой шутке. — А сейчас я хочу передать слово товарищу полковнику.
Полковником был бесцветный. Он картинно стряхнул пылинку с лацкана пиджака и спросил:
— Скажите, Брусилов, как Вы намерены распорядиться Вашей способностью производить человекокопирующие сибры?
Ах вот оно что! Мне выдали щедрый аванс и ждут теперь ответных уступок. Ну, что ж, ждите. Я отчеканил:
— Намерен распорядиться точно так же, как распоряжался до сих пор. Сибр не будет человекокопирующим.
— Вы хотите сказать, — уточнил бесцветный, — что никогда, даже с личных целях и при исключительных обстоятельствах не станете пользоваться этой своей способностью?
— Да, — ответил я.
— Не верю, — сказал он. — Никаких оснований нет, чтобы верить.
— Никаких, — поддержал академик-психолог, — человек не способен удерживаться от соблазна сколь угодно долго.
— А я не человек, — съязвил я.
Психолог только рукой махнул, а Папа Монзано заметил:
— Между прочим, это серьезный аргумент.
— Да нет же! — чуть не закричал я. — Как Вы не понимаете? Я просто не могу иначе. Человекокопирующий сибр — это же конец света.
— Полноте, — улыбнулся бесцветный, — а разве Вы не допускаете, что при соблюдении строжайшего контроля человекокопирующий сибр можно использовать во благо?
— А как Вы представляете себе строжайший контроль?
— Абсолютная монополия специальной службы на применение… Давайте введем аббревиатуру — ЧКС.
— Но специальная служба — это тоже люди, — сказал я.
— Категорическое запрещение использования ЧКС в личных целях для всех без исключения, — продолжал формулировать бесцветный.
— Под страхом смерти? — спросил я.
— Под страхом смерти, — сказал он. — Других страхов, насколько я понимаю, Вы человечеству не оставляете.
— Страх бессмертия, — проговорил Угрюмый тихо, но так, что все услышали.
И я подумал: «А он, однако, себе позволяет! Похоже, что ему просто наплевать на любое начальство».
— Простите, товарищи, — встрянул краснолицый генерал, — а кто отменял страх лишения свободы? И я уже не говорю о возможности возврата к наказаниям телесным.
Юрист поморщился, а психолог стал перечислять:
— Как то: отрезание ушей, вырывание ноздрей, ногтей, языка, отрубание рук…
— Я попросил бы, — прервал его Папа Монзано, — ближе к делу.
— Никаких тюрем, — сказал бесцветный. — За применение ЧКС — только смертная казнь.
— Хорошо, — сказал я. — Человек скопировал сам себя. Кого казнить?
— Обоих, — решительно ответил краснолицый.
А бесцветный улыбнулся:
— Хороший вопрос. Честно говоря, было бы неплохо оставить в живых копию.
— А различить Вы их сумеете? — поинтересовался я.
— А вот это вопрос к Вам. Ваш Альтер знает, что он Альтер?
— Знает, но может и не сказать.
— Это сегодня не проблема, — бесцветный не хвастался, просто сообщал факт.
— Отлично, — сказал я, — но это еще не все. Что, если скопировать человека во время сна?
— Разрешите мне, — попросил Угрюмый. — Есть мнение, что во время копирования спящего, копия проснется или, во всяком случае, воспримет свое появление на свет в форме сновидения. А вот если человек будет в состоянии анабиоза, тогда, я думаю, даже теоретически не будет разницы между оригиналом и копией. С изобретением покойного ныне Станского («Зачем он это подчеркивает?» — подумал я) мы не можем не принимать во внимание и такой вариант.
— Я же говорю, казнить обоих, — упрямо повторил краснолицый.
— Слишком много крови, — сказал вдруг Папа Монзано, и я искренне удивился такой его реплике.
— Если хотите знать мое мнение, — заявил юрист, — я категорически против ЧКС. Мы еще можем с грехом пополам разработать уголовный кодекс для бессмертных, но в мире, где будет неограниченное число идентичных личностей, любой уголовный кодекс можно бросить в воронку питания.
— О неограниченном числе никто пока еще не говорит, — проворчал бесцветный.
— А придется, — поддел его психолог.
— Напрасно Вы так считаете, — не сдавался бесцветный, — ведь суровый закон искореняет, в сущности, любые преступления.
— Не любые, — возразил юрист. — И не всегда.
А Папа Монзано повторил задумчиво:
— Слишком много крови.
— Товарищ генерал-лейтенант, — обратился к нему краснолицый, — но ведь товарищ полковник говорил о какой-то пользе…
— Да, — с готовностью откликнулся бесцветный, — польза будет.
— Потрудитесь объяснить, какая, — в голосе психолога отчетливо слышались нотки яда.
— Пожалуйста. Практическое бессмертие личности. Сохранение гениев сегодняшнего дня для будущих поколений. Возможность успеть за несколько жизней то, чего не успел за одну. Дальше: фактическое воскрешение погибших при несчастных случаях. При условии сокрытия факта смерти от родственников вместо смерти будем иметь просто частичную амнезию. Разве это не гуманно?
— Это страшно, — сказал психолог. — Это девальвация личности.
Но бесцветный пропустил реплику мимо ушей.
— Думаю, что есть и другие положительные аспекты.
— Резонно, — заметил Папа Монзано. — Никогда не следует пренебрегать дополнительными возможностями.
— Да не удастся нам удержать ЧКС под контролем! — психолог был в панике. — Как Вы понимаете?
— И я тоже против, — упорствовал юрист, — я в любом случае против.
— А вам не кажется, товарищи, — встрянул краснолицый, — что мы делим шкуру неубитого медведя?
— Неубиваемого медведя, — изящно подправил я, — бессмертного медведя. Я дарю ему вечную жизнь.
Все улыбнулись. Кроме бесцветного. Я видел, что он не верит мне ни на йоту.
— Да, — сказал он, — но время от времени Вы будете охотиться на этого вечного медведя и тайком от всех снимать шкуру. Это же ясно, как дважды два. Так может, Вы разрешите нам хотя бы постричь разок этого зверя, принципиальный Вы наш?
— То есть? — не понял я.
— То есть, на время под Вашим неусыпным контролем предоставьте нам ЧКС для исследования. Неужели Вы не понимаете, как это важно для науки?
— Нет, — сказал я. — Это невозможно.
Я не хотел с ним спорить. Я боялся спорить с ним. Они могли переубедить меня, а этого нельзя было допустить. И я добавил очень резко:
— Других вопросов ко мне нету?
— Идите, Брусилов, — произнес Папа Монзано совсем сонным голосом, и я вдруг увидел, какой он сделался усталый и больной за эти два месяца.
Уперев локти в стол, он сжимал ладонями голову, словно боялся, что она лопнет, и уже выходя за дверь, я услышал, как он говорит кому-то:
— И зачем я бросил курить? Не пойму…
Да, безусловно, это был еще один великий день, но будничная обстановка директорского кабинета и яростные нападки полковника в штатском как-то совершенно выбили меня из колеи. И только, когда я ввалился в свой номер, и уже целый час не находившие себе места Альтер, Ленка и Алена повернулись ко мне в безмолвном вопросе, до меня наконец дошло.
— Ребятишки, — выдохнул я, — монстрики мои! Мы победили. Мир спасен.
Послесловия автора к первому изданию
Мир не был спасен в одночасье. Биография катаклизма не завершилась в тот день, когда Всесоюзный центр сибрологии дал добро на повсеместное распространение сибров. Но все, что началось вслед за этим, стало всеобщим достоянием, и мое скромное перо едва ли может соперничать с описанием, которые уже дали и, несомненно, еще дадут профессионалы. А лежащая перед тобой книга, читатель — это исповедь человека, стоящего у истоков Великого Катаклизма, это репортаж, это дневник, пусть ни день в день, но по горячим следам. И теперь, когда у меня совсем другой статус, другая жизнь, другие заботы, другие взгляды на многое, я, разумеется, все написал бы иначе. Но стоит ли?
Да, мы многого не успели сделать в те счастливые дни. И многое сделали неправильно. Да, мы многого не успели понять. И многое интерпретировали не так. Но главный свой выбор мы сделали верно. Я говорю это теперь и буду повторять впредь. Потому что одно в моей жизни останется неизменным всегда — мое отношение к сибру.
Сибр спас человечество от гибели. И потому я не стыжусь этого слегка ребячливого, очень высокопарного, придуманного мною в порыве экзальтации названия — «Спасенный мир».
Нет, я не претендую на роль Спасителя. Я даже не называю себя гениальным изобретателем. Я избран по воле случая, я лишь один из многих, кто желал счастья всем людям и представлял себе более или менее правильно, в чем именно они нуждаются. Я избран по воле случая, но я избран. И с этим уже нельзя не считаться.
Операция по спасению человечества началась. Началась успешно. Но она далеко не закончена. Она продолжается. И ответственность за ее проведение по-прежнему лежит на мне. На мне одном. А одному всегда трудно. И я обращаюсь за помощью к вам, люди планеты. Вы прочитали эту книгу, вы теперь лучше понимаете меня и, быть может, сумеете разделить со мной часть моей ответственности. О наших с вами судьбах мы начнем думать вместе, и мир от этого будет становиться все счастливее и счастливее.
Предисловие автора к пятому изданию
Всякому, кто открыл эту книгу, я советовал бы тут же закрыть ее и швырнуть в ближайшую воронку питания. Конечно, я понимаю, что такое вступление является для читателей лучшей приманкой, но не спеши, читатель, поддаться дешевой рекламе, тебя ждет разочарование под этой обложкой. Так что лучше спроси у своих родителей, стоит ли читать мою книгу, и если скажут «да», смело называй их дураками.
Будь моя воля, я уничтожил бы все экземпляры этой жалкой книжонки, но мне не под силу такое, и потому я просто предупреждаю: пятое издание «Спасенного мира» (Какое нелепое название, читатель! Подумай сам, разве мир можно спасти?) организовано мною лишь для того, чтобы эту глупую книгу никогда больше не читали.
Послесловие автора к пятому изданию
Очень жаль, читатель, что ты все-таки прочел эту книгу. Постарайся теперь забыть ее. И слава тебе, если ты просто заглянул в конец, потому что привык так делать. В этом случае одумайся, пока не поздно, и забрось мое произведение в первый попавшийся утилизатор.
Послесловие автора к четырнадцатому изданию
Дорогой читатель, в тринадцатом издании моей книги объем предисловий и послесловий, сделанных мною, Конрадом, Якуниным, Кротовым, Петрикссоном, Угрюмовым, другими видными политиками и сибрологами был сопоставим с объемом основного текста. Этими наслоениями книга обрастала зачастую вопреки моей воле. Что поделать, если многие, да и сам я на каких-то этапах жизни, придавали слишком большое значение моей «Биографии катаклизма». Сегодня я не склонен относиться столь серьезно к этому в общем-то любопытному, но представляющему в основном исторический интерес документу. «Спасенный мир» — это не шедевр мировой литературы и не «новая библия», как назвали его оранжисты. «Спасенный мир» — всего лишь биография катаклизма.
Я приветствую инициативу очередного переиздания моей книги, но настаиваю на повторной публикации (теперь и в дальнейшем) лишь четырех собственных дополнений к тексту, включая это маленькое послесловие.
Часть третья КОММУНИЗМ ИЗ ПОМОЙНОГО ВЕДЕРКА
Чтоб вы жили в эпоху перемен!
Древнее китайское проклятие1
Книг было несколько, и всех по три экземпляра, так что пока Женька, начавший позже, дочитал «Биографию катаклизма», Черный со Станским принялись за изучение других материалов, предложенных Кротовым. Впрочем, Эдик то и дело вновь раскрывал брусиловское сочинение, перечитывал какие-то места и бормотал себе под нос что-нибудь вроде: «Вот уж действительно спасенный мир!» или «А наш студентик-то маньяк!», и поднявшись, ходил по комнате, и мотал головой, и фыркал, словно это была бредовая диссертация, принесенная ему на рецензию.
А Черный сказал:
— «Катехизис» лучше почитай. Толковая вещица.
Из книги «Катехизис сеймерного мира»
На вопросы директора Всемирного института сибрологии доктора Сиднея Конрада отвечают:
— Виктор Брусилов,
— председатель партии зеленых Кнут Петрикссон,
— заместитель директора ВИС доктор Хао Цзы-вэн,
— директор Всемирного института геометродинамики доктор Джиованни Пинелли,
— член ученого совета Всемирного института геронтологии академик Иван Угрюмов,
— лидер фракции черно-зеленых в партии Петрикссона Игнатий Кротов,
— председатель партии оранжистов, директор Антарктического института оранжелогии Питер Уайтстоун,
— верховный жрец единой брусилианской церкви преподобный Тимур Сингх.
Комментирует ответы Сидней Конрад.
Вопрос . Что такое Апельсин? Какова цель его появления?
Брусилов . Апельсин — представитель некой сверхцивилизации, образ жизни и мышления которой в корне отличен от нашего. Единственное, что нас объединяет — это разум. Отсюда и цель Апельсина: обнаружив, что на нашей планете разум находится в опасности, Апельсин появился, чтобы спасти его.
Петрикссон . Апельсин — представитель чуждой нам цивилизации, находящейся на более высоком уровне развития. Взаимовыгодный контакт с такой цивилизацией невозможен. Более того, невозможно даже взаимопонимание. Поэтому бессмысленно рассуждать о целях Апельсина. Каковы бы ни были эти цели, они не имеют и не могут иметь ничего общего с целями человечества. И потому мы должны считать Апельсин враждебным человеку.
Хао Цзы-вэн . Апельсин — не представитель, а только зонд сверхцивилизации, универсальный исследовательский автомат, сложно запрограммированный наблюдатель. Его единственная цель — изучение нашей цивилизации.
Пинелли . Апельсин связан с понятием разум не более, чем всякое другое небесное тело. Сгусток оранжита — это гигантская информационная емкость естественного происхождения. Очевидно, во Вселенной существует закон притяжения информации. Когда объем информации, накопленной на нашей планете, достиг определенной величины, эта информация автоматически, самопроизвольно притянула к себе Апельсин. Несерьезно в такой ситуации говорить о цели «пришельца» — мы с вами просто наблюдаем проявление очередного физического закона нашего мира.
Угрюмов . Апельсин — гость не из нашей Вселенной, так как химия его принципиально отличается от известной нам. Цель его — безусловно, контакт между мирами.
Кротов . Апельсин — оружие сверхцивилизации, бомба замедленного действия. Цель — уничтожение человечества.
Уайтстоун . Апельсин — посланец галактического союза цивилизаций, и цель его — включение Земли в этот союз путем постоянного превращения людей в Апельсины.
Сингх . Апельсин — божественная субстанция, созданная силой воображения Виктора Брусилова — бога, рожденного на земле. А цель создания Апельсина очевидна: без Апельсина не было бы сибров.
Комментарий
По последним данным ВИС феномен оранжита ни к понятию «цивилизация», ни к понятию «разум» никакого отношения не имеет. Оранжит — самоорганизующееся вещество, супергомеостат, принципиально иная форма жизни в широком значении слова «жизнь». Ближайшие земные аналоги: животная клетка, с одной стороны, и компьютер — с другой, ибо Апельсин — естественное, возникшее в ходе своего рода эволюции кибернетическое устройство. Некоторые из высказанных гипотез не противоречат, а лишь дополняют такое толкование. Например, идея Угрюмова, отчасти подтвержденная экспериментально: оранжит устойчив к воздействию античастиц.
Теперь о цели. Следует сразу заметить, что физическая, химическая и биологическая безопасность оранжита считается на сегодняшний день абсолютно доказанной. О социальной опасности будет сказано ниже. Что же касается различных гипотез о добрых целях Апельсина, то здесь прослеживаются две основные точки зрения: контакт в той или иной форме и выполнение Апельсином каких-то своих задач, не связанных с задачами человечества. Лично я склоняюсь ко второй группе гипотез, а также считаю необходимым добавить, что все мои коллеги, убежденные почему-то в исключительной значимости для Вселенной нашей цивилизации, упустили из виду еще один вариант: Апельсин мог попасть на нашу планету случайно. Не стану присваивать только себе эту концепцию. Того же мнения придерживаются и некоторые другие ученые, а одним из первых высказал его доктор Якунин еще в бытность свою директором ВЦС…
Так начиналась вступительная часть «Катехизиса», основной же объем книги составляли отчеты ученых самых разных направлений на на вопросы все того же Конрада, разделенные по тематике на шестнадцать групп. В общем это был очень солидный труд обзорного характера. И изучить его, безусловно, стоило. Более того, было просто необходимо. Он словно специально писался для таких вот размороженных невежд, которым нужно было за несколько дней усвоить столетние достижения человечества. Но изучить его хотелось не торопясь и не сейчас, не сразу, когда в голове гудит от сумасшедшего карнавального пестрого Норда и оглушительного, как бомба, брусиловского «Спасенного мира».
Но Станский все-таки пробежал глазами кое-какие умопомрачительные сведения из сиброхимии и узнал, что сибросплав титана с алюминием имеет кристаллическую решетку без единого дефекта, что в структуре сибропластика есть бензольные кольца, «продетые» друг в друга, что атомы в оранжите связаны между собой не электронными орбиталями, а неким оранж-полем, задающим жесткую структуру в любом сочетании, и каждый сгусток этого вещества представляет собой таким образом как бы одну огромную молекулу. И еще он узнал, что частицы, составляющие зеротан, так называемые зероны, оказались «шариками» нейтронного вещества, полыми внутри, этакими пустотелыми нейтрончиками и нейтронищами — от их диаметра, резко менявшегося с температурой, зависело агрегатное состояние зеротана. К тому же, благодаря невероятной разнице между температурой плавления и кристаллизации, кипения и конденсации зеротан мог быть как жидким, так и твердым в диапазоне в несколько тысяч градусов. Имелся еще и полиморфный переход зеротана А в зеротан Б: эластичный резиноподобный материал превращался в монокристалл с твердостью, на порядок превышающей твердость алмаза. Поэтому из зеротана в сеймерном мире делали буквально все: от обуви до обшивки космических кораблей, от кирпичей до деталей приборов, от посуды до вакуумных прокладок.
Все это было ошеломительно, и Станский перескакивал со страницы на страницу, жадно схватывая принципиально новое и старясь опускать мелочи.
Черный же, открыв наугад раздел «Сибротранспорт и сибросвязь», успел вычитать про удивительную штуку — пресс-генератор, благодаря которому удалось создать в общем-то не новый, но абсолютно универсальный в силу своей экологической безобидности двигатель. В эскпо-камере сибра создавалось сколь угодно большое давление инертного газа при температуре выше критической, а гивер выполнял роль дюзы. В зависимости от величины давления это мог быть двигатель вездеходика на воздушной подушке, сопло реактивного самолета или субсветовая ракета межзвездного назначения. Топливом при больших скоростях служила захватываемая в пути материя, для разгона и при малых скоростях — мелкодисперсные порошки металлов, а потом, когда научились его делать, — сверхплотное вещество, прессованный зеротан.
Затем его увлек раздел, посвященный сибромедицине. Оказалось, что, благодаря вакцинации, со всеми инфекционными и неинфекционными болезнями было естественным образом покончено. Все болезнетворные микробы вымерли буквально, как мамонты, обмен веществ ни у кого не нарушался, а о старении по определению не приходилось говорить. И остались от всей прежней медицины травматология да ортопедия. Зато возникла сибромедицина. В первую очередь, сиброгинекология и сиброандрология. Сотню лет ученые безрезультатно бились над проблемой стерильности. Сиброгеронтология, то есть, по существу, «бессмертология». Появились сибронаркология и сибросексология, ну и, конечно, сибропсихиатрия. Ранее известные психические отклонения тоже встречались, так что, если строго, это была еще одна уцелевшая область медицины, даже наиболее уцелевшая, потому что травмы в сеймерном мире были не чета старым, человек стал живучим, как гидра. Порезы и ссадины не ставились ни во что, кости срастались за пару дней и даже потеря части черепа не всегда означала смертельный приговор. Но совершенно новой областью была сибропатология — наука о болезнях малоизученных и пока неизлечимых. Сюда относили и повсеместно распространенную сибротодию — преждевременную смерть от мгновенного старения, и загадочную оранжитацию — превращение отдельных органов и тканей в оранжит как без нарушения их функций (Уайтстоун с пеной у рта доказывал, что это не болезнь, а ступень эволюции вида), так и с нарушением, так называемая аномальная оранжитация (это Уайтстоун считал неизбежными издержками великого процесса). Предметом сибропатологии являлась и оранжефобия — неприятие или внезапное отторжение организмом оранжита. Было там еще много всего, но Черный в дебри не полез, а разыскал только ответ на один очень естественный вопрос. Старая добрая медицина не утратила своего значения окончательно. Ведь вакцинация проводилась в тридцать лет и позже, а до того здоровье надлежало тщательно беречь. К тому же среди зеленых было немало самоотверженных борцов, добровольно отказавшихся от вакцинации. А с другой стороны, было немало случаев ранней вакцинации (самовольной, диверсионной и с целью научного эксперимента) в самом различном возрасте от прививки в период полового созревания до вакцинации плода на разных стадиях внутриутробного развития. Запатентован был даже метод вакцинации в момент оплодотворения. Все это были поиски пути к бессмертию. Но безуспешные. Эффект от вакцинации оставался тем же.
А Женька закрыл последнюю страницу «Спасенного мира», отложил книжку в сторону и сказал:
— Ну, братцы, я тащусь! Вы представляете теперь, в какой мир мы попали?
— Представляем, — буркнул Станский.
— И что же? Будете меня ругать?
— Ругать? — поднял брови Станский. — Да тебя не ругать — тебя судить надо.
Черный молча кивнул.
— Да вы что? — Женька опешил.
— Мы — ничего. Плох или хорош этот мир, пусть отвечает Брусилов. А ты струсил и нарушил программу эксперимента. Вот так, — сухо пояснил Черный. — Из-за этого все и вышло. И Любомир…
— Не надо про Любомира, — перебил Женька. — Не надо.
— Да и вообще не надо, — устало сказал Станский. — К чему этот разговор? И какой уж там к черту суд! Не за чем тебя судить.
— Да и некому, — добавил Черный.
— И некому, — согласился Станский. — Нас теперь только трое осталось. Надо держаться вместе. Иначе пропадем.
— А Брусилов? — сказал Женька.
— Что Брусилов? Брусилов весь мир подмял под свой зад, — проворчал Черный, — Брусиловых теперь два, и вообще гусь свинье не товарищ…
— Ты не прав, Рюша, — начал возражать Женька, — он же помнит нас…
— А ты по чему судишь? По этой книжке? — перебил Станский. — Так она сто лет назад написана.
Женька осекся.
«Действительно, — подумал он, — каким стал сейчас наш Витька, в этом мире с проститутками, каннибалами, гладиаторами и фашистской партией во главе? Кто он теперь? Где его место? Узнает ли? Захочет ли здороваться? Что, если нет?»
И все-таки Женька не верил, что все так плохо. Он вспомнил, как накануне в ресторане еще не очень пьяный Любомир говорил ему: «Вот ты, Жека, спрашиваешь, жалею ли я, что все так вышло. И я говорю, не задумываясь: нет, не жалею. В дурацком двадцатом веке мне, честно говоря, терять было нечего. Ну, еще сотня баб, похожих одна на другую. Ну, еще сотня больных, которым я, быть может, помог бы, а быть может — и нет, потому что далеко не все зависело от меня в нашей благословенной памяти двадцать девятой больнице. Ну, еще сотня ящиков водки и пива. На черта мне это все? Я шел помирать. И, наверно, как и все мы, где-то в глубине души надеялся на загробную жизнь, которая будет лучше той, оставленной нами. И вот мечта сбылась. Я — в загробной жизни. Точно еще не знаю, лучше она или хуже. Вроде лучше. Но главное даже не это. Главное — она другая, совсем другая. А это здорово. Это — подарок нам всем от тебя, ну, и от Эдика, конечно.»
Теперь они знали, что главный автор подарка — Брусилов. А Цанев не успел узнать даже этого, но его мнение, высказанное тогда сходу, по первому впечатлению, теперь после смерти в силу традиционного пиетета по отношению к погибшим, стало для Женьки некой истиной, отправной точкой в рассуждениях и спорах с друзьями.
И он сказал:
— Ребята, но ведь нам же повезло. И Любомир так считал…
— Повезло?! — чуть не закричал Станский. — А вот я так не считаю! И не только потому, что ты сорвал программу эксперимента, после чего испытания моего препарата пошли без меня. Не только поэтому. Даже совсем не поэтому. После того, как на мир свалилась эта оранжевая чума, анаф стал мелочью, пустяком, вы же понимаете. Так вот, если бы мы вернулись в срок, мы бы, очень возможно, еще успели помешать нашему новому маньяку.
— Да? И как же? — язвительно поинтересовался Женька.
— Элементарно. Он же пишет, что охотно доверил бы любому из нас эксперимент с новым сибром, помните, тем, который не копировал людей. Значит, он посвятил бы нас в свои тайны. Логично? Далее. Я, лично я, убедил бы его уничтожить эту кошмарную машинку.
— И думаешь, он согласился бы? — спросил Черный.
— Думаю, что да. Ведь он тогда сомневался, а я и теперь убежден. Понимаешь? Он же был мальчишка, дурачок, он же не ведал, что творит! Этого нельзя было делать! Как они допустили? Идиоты!
— Ну, теперь поплачь еще, — сказал Женька.
Ему стало обидно за Виктора. В группе Чернова Женька был единственный ровесник Брусилова.
— Помолчи, Евтушенский, — беззлобно сказал Черный. — Хорошо, Эдик, Брусилов соглашается, мы уничтожаем сибры. А Апельсин?
— А вот это, друзья мои, не Брусилову и не нам с вами решать. Над этим должны были думать лучшие умы человечества.
— Параноики с лампасами, что ли? — снова подал голос Женька. — Так, кажется, у Витьки написано.
— Убери этого идиота, — попросил Станский.
— Ну, зачем же так? — вступился Черный. — Ты что, в самом деле считаешь, что лучшие умы человечества придумали бы что-нибудь хорошее?
— Да, — сказал Станский. — Уж во всяком случае, — не этот потребительский рай, не эту ублюдочную конструкцию рога изобилия.
— Не знаю, — усомнился Черный, — мне пока сибр нравится.
— Мне тоже, — сказал Женька. — А Эдик пусть вступает в партию Кротова, в партию фашиствующих луддитов, в партию Китариса, носящего в двадцать первом веке мундир полковника КГБ.
— Да ерунда это! — с чувством сказал Станский. — Обыкновенный маскарад. Норд вообще маскарадный город.
— Однако довольно странный маскарадик, — заметил Женька. — Я ведь, Эдик, поначалу тоже решил, что это — так, а теперь…
— Да не в костюме дело, — прервал их Черный. — Китарис — сволочь. Видно невооруженным глазом.
— И Кротов — сволочь, — добавил Женька.
— Разумеется, — согласился Черный, — и Кротов тоже.
— Да я разве спорю, мужики? — сдался затюканный Эдик. — Еще Норберт Винер подметил, что к власти, по самой природе ее, всегда приходят люди наименее разборчивые в средствах. Чего ж тут нового?
— А то ново, — сказал Женька, — что мир стал принципиально другим и очень хотелось, чтобы и власть в нем была другая.
— Ишь, чего захотел! — улыбнулся Станский. — Этой брусиловской штукой человека не переиначишь. Наивно было пытаться утопить зло в изобилии. Зло, разумеется, всплыло. И вот оно — разгуливает, как и раньше.
— Да что ты передергиваешь! — возмутился Женька. — Какое зло? Где? Руки никто никому не рубит, просто похулиганили и все. Соски девушек не режут — все та же сибр-технология. Каннибализм потерял свой зловещий смысл. Теперь это дело вкуса и только. Равнодушие к смерти? Так это не к смерти равнодушие, а к трупам, которых еще при жизни можно наделать сколько хочешь. У той девушки в лифте просто вышел срок… — он вдруг запнулся. — Вот только гладиаторы…
— Именно гладиаторы! — обрадовался Станский найденному аргументу.
— Ну а что гладиаторы? — спокойно возразил Черный. — Ты, Женьк, просто не знаешь пока, а мы тут с Кротовым поговорили. Гладиаторы — это добровольцы, а не рабы. Любители острых ощущений, желающие красиво умереть за несколько минут до отмеренного жизнью срока. Они тут научились рассчитывать продолжительность жизни до минуты и даже точнее.
— А научились они отличать сиброкопии рук от таких же рук, отрезанных у живого человека? — агрессивно спросил Станский.
— Эдик, по-моему, ты уже задавал этот вопрос Кротову. Разумеется, отличить не трудно, и разумеется, у них уголовно наказуемо убийство, насилие, пытки и прочие подобного рода преступления. Да и подумай, кому придет в голову пускать в пищу убитого гладиатора, когда с него с живого можно отстричь любую часть тела.
— Положим, гурманы всегда найдутся. Были же, — заметил Станский, — были же в наше время любители «снафф-муви» — фильмов, в которых убийства и пытки снимались в натуре, не понарошку, хотя ни один эксперт не смог бы отличить, где хроника, а где игра актера. И потом, не забывай: здесь, в Норде сибры запрещены, и каннибальские блюда — тоже. Так что никто не знает, какого происхождения человечинкой нас угощали.
— А это уж твои трудности, Эдик, я человечинки все равно не ел. Но главное, не вали ты в одну кучу каннибалов со смертниками. Кстати, вот Женька не знает, гладиаторы — это серые смертники. А есть еще черные, состоящие на службе у Кротова, вроде этого, Колберга, что ли, который без полчерепа к нам влетел; и белые — эти работают на каких-то неизвестных нам пока грин-уайтов. В общем запутаешься!
— Так я и хотел сказать, — встрял, наконец, Женька, — а вы меня сбили. Я хотел Эдику возразить по поводу зла. Конечно, оно тут есть. Те же гладиаторы. Но и с ними — я как чувствовал! — все не так просто. В нашем понимании рубить друг друга в капусту на публике — дикость. Но они-то добровольно идут на это. Так что есть зло? Для тебя, например, Эдик, сибры — зло. Что ж, очень мило. Для Кротова — тоже. А для меня Кротов — зло. Вот и разберись сначала во всей этой каше. Не надо нам твоих выступлений с высоты возраста и опыта. Твой возраст и опыт здесь ничто, тьфу. Мы все тут дети. Нам учиться надо. А не учить. Не нужны этому миру твои бесценные советы. «Сибры уничтожить! Из Апельсина усилиями светлых умов с лампасами и без лампас состряпать какую-нибудь панацею!» Что же, они тут за сто лет сами до этого не додумались, если бы это было так хорошо? Кстати, ведь ты, Эдик, один из этих светлых умов. Не скромничай, скажи лучше, что бы ты попросил у Апельсина.
— Я? — вскинулся Станский. — Да я бы прежде всего не стал так легкомысленно и скороспело превращать свою детскую мечту в средство для спасения человечества. Тут думать надо, всем вместе думать, тут в одиночку решать нельзя.
— «За всех могут решать только все. Или, в крайнем случае, партия». Так, кажется, говорит наш друг Кротов, — вспомнил Женька.
— И правильно говорит.
— Нет, неправильно! Это главная беда: «суждены нам благие порывы, да свершить ничего не дано». Воспитали нас так. Вот и оттягиваем решение проблемы, вот и откладываем спасение мира до лучших времен. Потому что боимся ответственность взять на себя. Пусть решает партия, пусть решает ООН, пусть народ решает… А где он, этот народ? Ведь каждый боится, даже гениальный химик Станский, собиравшийся в свое время, не моргнув глазом, запихать все человечество в холодильник. А вот Брусилов не побоялся. И молодчина! Катаклизм лучше, чем застойное болото! Катаклизм — это революция. А ты, Эдик — реакционер.
— А ты, Женька — дурак. Жалкий поэтишка и невростеник. И Брусилова защищаешь, потому что вы оба одинаковые. Он, недолго думая, игрушки свои по белу свету раскидал, а ты-только и умеешь анаф к черту на рога зашвыривать, да из бластера лупить в белый свет, как в копеечку! И отвечай тут теперь за тебя!
И Женька побелел вдруг, как пластиковая фляжка, из которой вылили клюквенный морс.
— Я что, убил кого-нибудь? — спросил он сипло.
Эдик и Черный молча переглянулись. А потом Черный выдавил, глядя в пол:
— Четверых.
Из книги «Катехизис сеймерного мира»
Вопрос. Был ли Апельсин запрограммирован на производство сибров?
Брусилов. Нет. Он был запрограммирован на помощь человечеству, а мои мысли о сибре помогли ему выбрать вариант помощи, удобный тем, что его изобрел человек, а не пришлый разум.
Петрикссон. Очень может быть. Во всяком случае, Апельсин был запрограммирован на тот или иной эксперимент с низшей цивилизацией, и теперь, благодаря Брусилову, успешно проводит его на большом подопытном кролике по имени Земля.
Хао Цзы-вэн. Да. По-видимому, создание дубликатора — это один из стандартных методов исследования цивилизаций.
Пинелли. Разумеется, нет. Просто оранжит как информационная матрица выбрал для дальнейшего накопления информации наиболее удобную во всех отношениях форму.
Угрюмов. Нет. Апельсин нацелен только на контакт и выбрал Брусилова в качестве партнера. Средствами контакта стали бессмертие Брусиловых и сибр — предмет, принадлежащий как бы двум цивилизациям одновременно.
Кротов. Апельсин — сложнозапрограммированное оружие. Был в его арсенале и чудовищный дубликатор. Но это еще только цветочки — ягодки впереди. А Брусилов — это предатель человечества, выступающий под личиной спасителя.
Уайтстоун. Апельсин рассчитан на перестройку человеческой природы. Бессмертие Брусиловых и всеобщая вакцинация — вот главные шаги на пути этой перестройки, а сибры — это в известном смысле побочный продукт деятельности Апельсина на нашей планете.
Сингх. Не Апельсин был запрограммирован на производство сибров, а в великий замысел Брусилова, Бога, рожденного на Земле, была заложена идея оранжита.
Комментарий
Современная сибрология считает, что оранжит обладает свойством, которое мы условно называем стремлением к реализации идей. Оказавшись волею случая на нашей планете или вблизи ее, он уловил информацию, исходящую от Брусилова, и использовал ее. Предполагается, что это свойство оранжита характеризуется однократностно, то есть, создав сибры, он уже не способен воплощать иные идеи, даже исходящие от Брусилова. Предполагается, что при условии полного уничтожения (исчезновения) сибров Апельсин будет способен к следующей реализации. Проведение такого эксперимента не планируется не только в силу очередного протеста со стороны Брусилова, но и ввиду возможной опасности для всей планеты.
— Теперь ты понимаешь, где мы находимся? — спросил Черный у Женьки, когда тот начал приходить в себя и уже готов был сам задавать новые вопросы.
— В тюрьме, что ли?
— Не совсем. Я бы назвал это скорее домашним арестом.
— Извини, Рюш, — поправил Эдик, — но Кротов ничего не говорил об аресте.
— Однако сюда нас привели под конвоем.
— Под тем же самым конвоем ты шел и раньше, — настаивал на своем Эдик (ах, как хотелось ему оправдать Кротова!), — без сопровождения мы бы здесь просто заблудились.
А Женьке этот спор показался беспредметным. Какая разница, заперты они в стенах этой комнаты, в стенах «Полюса» или с стенах Норда — ясно, что так и так они пленники. С другой стороны, каждый из них — очень важная персона, потому что Брусилов — их друг. С третьей стороны, он, Женька — преступник. И для того мира и для этого. С четвертой стороны… Очень тяжело было думать. Мысли расклеивались, распадались, разбегались куда-то. Пока он читал брусиловскую книгу, ему удалось полностью отвлечься от реальности, но теперь вновь пришло отчаяние, и перед глазами неотвязно стоял Цанев, кричащий на черно-зеленых возле самой арены, и Цанев, уткнувшийся лицом в песок с темной струйкой крови поперек щеки, и Цанев, с набитым ртом ругающий советских врачей за столиком в ресторане, и Цанев на лыжах среди торосов и снова Цанев, Цанев, Цанев… А тут еще какие-то четверо, которых он уложил там, в Колизее. Кто они?
Раздумья были прерваны внезапным появлением Кротова. Кротов пришел один, и это подтверждало скорее правоту Станского, а не Черного, но Женька все равно испуганно вскочил, готовый в эту минуту ко всему.
— Товарищи! — начал Кротов. — Осмелюсь предложить вам…
Но Женька перебил его, то ли уже по первым словам и их тону догадавшись, что ему ничего не грозит, то ли, наоборот, пытаясь замаскировать наглостью неуправляемый страх. Он и сам не понял, откуда вылез этот вопрос:
— А где Крошка Ли?
— Вы сумасшедший, Вознесенко. Зачем она вам? — но говоря это, Кротов набрал какой-то шифр на своем наручном компьютере, если, конечно, это был компьютер, а не еще что-нибудь, и в углу комнаты, на экране стоявшего там дисплея под мелодичный звон появилась Ли.
— Тебе чего, Кротов? А-а, привет, Зайчик! Это ты меня вызвал?
— Да, Ли! Я хочу быть с тобой, — сказал Женька.
И подумал: «Боже, какая дурацкая фраза!» Но под взглядом веселых карих глаз он испытал неправдоподобно прекрасное чувство возвращающегося к нему покоя, и в этом блаженном состоянии любые фразы были хороши.
— Приходи, как освободишься, — очень просто ответила Ли. — Мой адрес — пятый радиус, сорок четыре. Все приходите, — добавила она и отключилась.
«Да, — понял Женька, — никакой это не арест». И, уже окончательно осмелев, повернулся к Кротову:
— Мы слушаем вас, господин председатель.
— Товарищи! — вновь начал Кротов, невозмутимо, с той же интонацией. — Я хочу пригласить вас в информотеку, где намерен не только рассказать, но и показать вам кое-что. А то этот экранчик для нашего торжественного случая неуважительно мал.
2
В информотеке очень уютно. Обычный просмотровой зал мест на сорок: мягкие кресла, маленькие выдвижные столики, большой вогнутый сахарно-белый экран и зеленые пушистые стены, словно поросшие мхом — должно быть, какие-то новые веяния в акустике.
— Есть хотите? — неожиданно спросил Кротов.
И они вдруг вспоминают, что не ели с самой ночи.
— Предпочтете меню двадцатого века или — для быстроты — питательную ампулу и стакан супертоника?
Любопытство одерживает верх над аппетитом, всем хочется попробовать вожделенную мечту деловых людей прошлого — концентрат, с помощью которого утоление голода занимает времени не больше, чем замена севшей батарейки. И супертоник, которым они запивают яркие, блестящие, совсем несъедобные с виду капсулы, оказывается даже приятным на вкус.
— Итак, — говорит Кротов, — видеоролик, который вы сейчас посмотрите, я смонтировал очень давно из хроники тех времен. Мы были молоды и очень наивны. Нам казалось, что мы скрутим оранжевую чуму за несколько лет или — еще лучше — она загнется сама, как уэллсовские марсиане. Но все вышло иначе. Мне сегодня сто три года (вы уже понимаете, что это означает). А Петрикссону, помогавшему делать этот фильм, было бы сто тридцать, но его уже нет в живых. Кстати, это с его легкой руки в наш политический лексикон вошел термин «коммунизм из помойного ведерка», послуживший названием для моего видеоролика. Помните, в чем Брусилов притащил из лесу свои сибры?
Все трое невольно улыбаются: что и говорить, название меткое и ядовитое.
— Итак, прошу внимания. Несколько слов, пока идут титры. (Титры шли поочередно на многих языках). Фильм не претендует на художественную целостность. Мы делали нарочито рваный монтаж, нарочито уходили от хронологии и сюжета. Мы создавали образ дисгармонии. И последнее: комментировать буду по ходу. Ранее записанный текст я неоднократно менял, а сейчас полностью от него отказался. Кадры говорят сами за себя, а слова для каждой аудитории нужны разные.
Титры кончаются, и на экране возникает праздничное шествие. Москва. Улица Тверская в районе телеграфа. Радостные лица, цветы, флаги, транспаранты:
«Да здравствует коммунизм!»
«Да здравствует Апельсин!»
«Брусилову — слава!»
— Отмечается первая годовщина, — поясняет Кротов.
В следующих кадрах бегло, весьма конспективно, но ярко и красочно демонстрируются достижения человечества. Прежде всего — уничтожение оружия. Неправдоподобные, словно из мультфильма, сцены пожирания сибрами ракет, пушек, автоматов, боеприпасов, контейнеров с отравляющими веществами, минометов, танков, бочек с напалмом и превращения их в продукты питания, одежду, мебель, автомобили, авиетки, а также во всякие полезные вещества — в оранжит, в зеротан, в чистую воду, в чистый воздух… Кадры обыгрываются со всех сторон, смакуются, подаются с рекламным блеском. Затем оператор любуется городом. Чистые зеленые улицы, красивые машины на земле и в воздухе, пункты раздачи товаров — очередей нет, давки и суеты нет, стадионы, корты, бассейны, театры, библиотеки, кино — все доступно. Дальше — чудесный уютный интерьер: роскошная мебель, дисплей с огромным экраном, пневмотранспортер для доставки сибров, продуктов и вещей, счастливое семейство, очаровательные дети. Потом — симпатичные коттеджи среди самых разных пейзажей, от пустыни и джунглей до тайги и заснеженной тундры. Следующий сюжет: всевозможные средства передвижения на воздушной подушке; гигантские сооружения научного характера — обсерватории, радиотелескопы, ажурные и цельнометаллические сферы для физических экспериментов, циклотроны, космодромы, космические станции, земная атмосфера на Луне, на Марсе, Венере, Меркурии, на спутниках Юпитера и Сатурна, заселение планет… Успехи сибромедицины: чудеса трансплантации, чудеса регенерации, чудеса владения своим телом. Потрясающие по свойствам сиброматериалы, сибростроительные роботы, сибропередатчики, повсеместная компьютеризация и повсеместная невероятная чистота, роботизация быта, еще какие-то технические новинки. Кадры мелькают все быстрее и быстрее и, наконец, мелькнув уже с карикатурной скоростью, сменяются вновь праздничным шествием в Москве. Крупно — два транспаранта: оранжевый — «Да здравствует Апельсин!» и красный — «Да здравствует коммунизм!» На изображение медленно наползает чернота, и, когда уже совсем ничего не видно, из тьмы внезапно вспыхивает ярко-зеленый титр по-русски и по-английски: «Какой ценой?» На экране появляется голубоватое пластиковое ведерко для мусора, из него торчит угол сибра и еловая ветка с прикнопленным красным плакатиком «Да здравствует коммунизм!» Потом снова светится вопрос «Какой ценой?», и в кадре возникает европейский город, снятый с высоты птичьего полета. Камера медленно опускается, и становится видна площадь, запруженная людьми и чем-то заваленная в центре, со всех сторон по улицам стекаются толпы, камера опускается еще ниже, и картина проясняется полностью: площадь загромождает целый террикон мертвецов высотою до середины величественной арки, а вновь приходящие несут на себе, на носилках, волочат по земле, катят на тачках, велосипедах, детских колясках еще и еще трупы. То и дело через кадр пролетают тела, сбрасываемые с вертолетов.
— Париж. Площадь Звезды, — поясняет Кротов. — Одна из первых демонстраций протеста. Самое начало катаклизма, еще не действуют никакие законы. А вот Вашингтон. Американцы, как всегда, оригинальничают.
Белый дом заляпан кровью. Беснуется молодежь, швыряет чем-то в стены. Мечутся полицейские, собаки рвут поводки, тут и там мелькают дубинки, дымки гранат со слезоточивым газом. Невообразимый шум, приглушенный в записи. Оператор на свой страх и риск показывает детали, панорамирует, дает наезды. И зритель видит: в руках у перепачканных с ног до головы демонстрантов кровоточащие половые органы. Эти своеобразные метательные снаряды подвозят в багажниках автомашин, ими усыпан асфальт, и трава, и ступени — у стен они сваливаются кучами, об них спотыкаются, по ним скользят, на них падают… Потом кадр меняется.
Футбольный матч. Переполненный стадион. Ажиотаж. И внезапно по всему кольцу огромной чаши с краев низвергаются, точно сель, потоки вязкой грязи. Запаха фильм, по счастью, не передает, но и без того делается ясно, что это фекалии и рвотная масса. Куда там Данте с его картинами ада! На стадионе начинается такое, до чего не додумывались, наверно, даже воспаленные мозги учеников Хичкока.
А Кротов, сверкнув глазами в сторону зрителей, вдруг кричит, словно перед ним не трое в пустом зале, а вот такой же огромный стадион:
— Это не кино! Вы слышите? Это на самом деле. Это все было. Центральный стадион в Милане. «Фекальная акция» «красных бригад». Одна из крупнейших трагедий в период массового сеймерного психоза.
Эпизод заканчивается долгим страшным кадром. Загаженный стадион пуст. Кое-где из-под нечистот торчат трупы, не такие, как в Париже, а настоящие убитые люди. Спускаясь сверху, ряды солдат в противогазах и защитных костюмах начинают чистку. А в самом центре по грудь в кошмарной жиже, движется человечек, может быть, футболист, может быть, болельщик. Он движется медленно упорно и бессмысленно — вдоль всего поля.
Потом — контрастная перебивка. Аллея парка и многочисленные совокупляющиеся пары. Позы разнообразны, но во всех есть что-то общее и страшное. Кротов молчит, и зрители догадываются сами. Все женщины на этой мрачной оргии (впрочем, там не только женщины — боже, какая мерзость!), все пассивные партнеры мертвы. Это вакханалия некрофилов.
— И это разрешено? — спрашивает Станский.
— Тогда? Разумеется, нет. А сейчас — да. В отдельных странах. Куда от них денешься? Тайные клубы существовали все время. А индивидуальную некрофилию вообще смешно запретить — с тем же успехом можно запретить онанизм. С тех пор, как сибр стал доступен каждому, стало вообще невозможно запретить что-либо.
Последнюю фразу Кротов произнес с металлом в голосе, и Станский перебил его:
— Простите, я что-то ничего не пойму с этими вашими законами. Пользование сибром запрещено или нет?
— Очень правильный вопрос! Я даже остановлю на минутку проекцию. Дело в том, что сначала, года полтора, была анархия, хаос, сибры ходили по рукам практически безнаказанно. А вот потом ввели Закон, — это слово он явно произносит с большой буквы. — Разом по всему миру. Наступила эпоха террора. Анархию топили в крови, точнее в зеротане — сейчас поймете почему. Дело не в том. Через восемь лет Закон благополучно отменили, как тормозящий прогресс. Вот тут-то и началось самое страшное. Почему? Тоже, надеюсь, поймете. Смотрим.
На экране появляется Красная площадь. Чудесный солнечный день. Дети, голуби, экскурсанты, почетный караул, пряничная красота Василия Блаженного.
— Кстати, — вспоминает Кротов, — в нашей стране Закон существовал изначально, и это в общем было мудро, удалось избежать многих неприятностей. Но, справедливости ради — вот, смотрите.
На площади происходит стремительное и непонятное перемещение людей, а в следующую секунду сразу в десятках мест из небольших закамуфлированных под фотоаппараты сибров в руках диверсантов ударяют фонтаны крови. Сухо щелкают выстрелы. Завывает сирена. Несколько автомобилей влетает на площадь. Начинается беготня и свалка. Но прежде, чем удается схватить и выключить все сибры, крови успевает натечь столько, что вдоль обочины у ГУМа и от Лобного места к Варварке бегут красные ручьи, вся брусчатка становится блестящей, люди, кинувшиеся врассыпную, выглядят, будто бежавшие из-под расстрела, тщательно облитый Покровский собор кажется сложенным из одного лишь красного кирпича, а Мавзолей сочится кровью, словно кусок сырого мяса. Да, такой красной площадь не была, пожалуй, еще не разу.
— Заметьте, — комментирует Кротов, — это не происки империализма, как вы любили говорить. К этому моменту никакого империализма уже не было. Вся диверсионная группа состояла целиком из москвичей. Ладно, едем дальше. Вот одна из стычек международных сил безопасности с отрядами вольных сеймеровладельцев. Это в Бразилии.
Стычка выглядит как настоящий уличный бой. Пушки палят вдоль по переулкам, танки крушат заборы, горят дома, мелким крошевом летят стекла, рвутся на минах фургоны, лихие стрелки перебежками, петляя, пересекают площади.
— А это Таиланд, — говорит Кротов.
Распыляя горячую смесь летит маленький самолетик. Горят джунгли. В джунглях мечутся люди.
— У берегов Швеции.
Угрюмый темно-серый крейсер расстреливает торпедами стайку небольших катеров.
— Военная хроника ужасна тем, — объясняет Кротов, — что все это происходит после заключения Всемирного договора. Брусилов, чудак, представлял себе мгновенное всеобщее и полное разоружение вплоть до охотничих ружей и финских ножей. На деле же сразу удалась лишь ликвидация оружия массового поражения, а в остальные игрушки люди играют по сей день и даже изобретают новые — это неизбежно. И я обращаю ваше внимание именно на живучесть оружия и войн. Это интересно. А сама хроника… Ею и без сибров был полон двадцатый век. Видите, как быстро побежали кадры? Это, чтобы не скучно было.
Мелькают титры — названия городов и стран. И всюду стрельба, пожары, резня, кровь…
— Закон в действии, — говорит Кротов. — Но это, так сказать, первый этап. А вот второй.
У высокой кирпичной стены, увитой плющом, шеренга людей в белых рубахах. Залп — и на белых спинах расплываются яркие красные пятна. Справа в кадр вползает бульдозер и, двигаясь вдоль стены, сгребает растрелянных в кучу. Длинный стебель плюща, зацепившись за нож, долго тянется за тупорылой машиной, потом обрывается. Трупы подталкиваются к яме. Это — воронка питания. Из бульдозера вылезает солдатик и саперной лопаткой подпихивает чью-то руку, быть может, случайно ухватившуюся за край. Как только рука падает, из-под трупов с бульканьем поднимается блестящий, как ртуть, зеротан, и они растворяются в нем. Видно, как бьющий неподалеку фонтан выбрасывает сильную высокую струю.
— Следующий этап понятен. Смертная казнь через зеротацию. К чему средневековые методы, когда под рукой такая экологически чистая и гуманная техника.
Длинный зал с высокими серебристыми стенами. По черной ковровой дорожке ведут молодую красивую женщину в белом платье. (Кротов свое дело знает туго и хронику подобрал душещипательную). Перед большим черным кубом солдаты отходят в стороны, и женщина одна вступает в нишу и тут же выходит. К кубу подкатывают черную лестницу, и по ее ступеням осужденная поднимается наверх. Перед зияющей воронкой она теряет самообладание, ее поддерживают и подталкивают. Она сползает на дно воронки. Крупный план. Глаза женщины открыты. Остановившийся взгляд. Платье лишь немногим белее щек. Поражают губы: они сиреневые. Внезапно лицо на миг превращается в серебряную маску и оплывает. Воронка с хлюпаньем втягивает зеротан. Осужденная не успевает крикнуть. И почувствовать боль — наверно, тоже. Действительно, гуманный способ. С другой стороны куба выпадает труп.
— А это еще зачем? — спрашивает Женька. Вся церемония кажется ему удивительно знакомой. «Ага, это же давешнее шоу. Ничего себе».
— Очевидно, ее религия требовала захоронения тела, — предполагает Кротов. — Я не знаю, кто она и откуда. У разных народов издавались разные законы, но в определенный период зеротация была повсюду. Как правило, за самовольное использование сеймеров. Однако разгул смертных казней привел к общему ужесточению правосудия, и высшая мера полагалась кое-где не только за сибры и за убийства, но и за изнасилования, за растление малолетних, за зверские избиения, за распространение наркотиков, запрещенной литературы и фильмов, за хранение оружия, за приверженность не той религии и принадлежность не к той партии, за оскорбление представителя власти… За что угодно! Ведь по сути дела на всей планете восемь лет держалось чрезвычайное положение. Было казнено шестнадцать миллионов. И почти столько же погибло в локальных войнах. Но, я вам скажу, порядок был наведен. Единая всемирная власть полностью контролировала сибры. И черт с ней, с зеротацией…
— Простите, — перебил Станский, не отрываясь от экрана, где продолжают сменять друг друга уже не столь эффектные, но все такие же страшные сцены казней, — а чем плоха зеротация? Насколько я понимаю, смерть наступает мгновенно?
— Вы правы. Но люди не умеют остановиться. Очень скоро появилась зеротация по-китайски. Изобретатели бумаги, пороха, фарфора, ракет и самых изощренных пыток решили изобрести еще кое-что. Брусилов, как вы понимаете, сделал невозможной работу воронки питания, если ее верхнюю плоскость пересекает что бы то ни было. Безопасное исполнение. Но сибротехнологи нашли это крайне неудобным. Опасный сибр требовался всем: хирургам, строителям, проходчикам, скульпторам, садовникам, сибрологам, наконец. И Брусилов сдался, он думал, что в условиях действующего Закона опасный сибр будет безопасен. А появилась зеротация по-китайски. Не надолго и далеко не всюду. Но она была. За особо тяжкие преступления.
Человека со связанными ногами держат за поднятые над головой руки мощные стальные манипуляторы и медленно опускают в воронку питания. Он извивается, и зеротан, отсвечивая кровью, большими каплями срывается вниз с отрезанных ног.
— Я нашел нужным, — говорит Кротов, — дать запись звука лишь на несколько секунд.
Вопль истязаемого врывается в просмотровой зал, как крик о помощи, как крик, рожденный только что, и, хотя восприятие уже несколько притупилось от обилия ужасов, всех четверых охватывает дрожь. А тело обрезается по пояс, и агония заканчивается. Стальные пальцы разжимаются и роняют половину трупа в хлюпающее жерло.
В следующем кадре горит какой-то дворец. Хорошо горит. Жарко.
— Пожар в Лувре, — комментирует Кротов. — Устроен группой Джоржа Данилова, знаменитого террориста, уничтожавшего произведения искусства. «Если шедевр можно растиражировать, пусть шедевров не будет вообще!» — один из его тезисов. К счастью, сокровища Лувра были гештальтированы, а здание, разумеется, восстановили. Однако многое пропало безвозвратно.
На экране в безумной круговерти горят картины, книги, музыкальные инструменты, деревянные церкви, взрываются огромные дворцы, храмы, памятники. И почти все кажется знакомым.
— Кое-где вандалы опережали музейных работников, уничтожая не только оригиналы, но и гештальты. Даниловское движение ширилось. Власти отвечали массовым террором. И Джордж Данилов кричал в своих агитках: «Люди гибнут за дерево и камни! Долой кровавые шедевры!» Он был зеротирован в Филадельфии всего за два месяца до всеобщей отмены смертной казни.
— Но погодите, — встревает Женька, — с какой стати этот маньяк вообще имел поддержку в народе?
— С какой стати? — улыбается Кротов. — Мир сошел с ума. Даниловский вандализм — лишь одно из проявлений массового безумия. Хватало всякого. И сейчас хватает. Человек всегда был склонен к парадоксам, а в двадцатом веке он стал постоянно хвататься за такие вещи, к использованию которых был совершенно не готов. Атомная энергия — хрестоматийный пример. Сеймер же, поверьте, гораздо страшнее по несоответствию технических возможностей и морали. Сеймер — это лазерное оружие в лапах Чингис-хана. Сеймер — это межзвездный корабль у папуасов. Сеймер — это объевшиеся и предоставленные сами себе рабы древнего Египта. Так чего же вы хотите?
На экране половой акт — картинка из анатомического атласа. Детали во весь кадр. Но камера отодвигается, и вот уже перед глазами не одна пара переплетенных тел, а несколько, много, очень много, невероятно много. Шевелящийся ковер из обнаженных мужчин и женщин тянется до самого горизонта.
— Опять некрофилы? — испуганно спрашивает Женька.
— Нет, тут все живые — просто массовая сцена интимной близости. И это не голливудский фильм вашего времени (как он, бишь, назывался, не помните?) — это хроника первого всемирного форума тантристов, «детей бога», ультра-брусилиан и прочих сторонников свободной любви. Секс, уверяли они, это единственное, что не утратило своей ценности в сеймерном мире, секс — единственное, ради чего стоит жить.
— Но это, наверно, не самое страшное, — иронизирует Женька.
— Наверно, — говорит Кротов, — но эти люди отказались иметь детей, и таких были миллионы. Вакцинацию до тридцати лет запретили и, соответственно, половые сношения с вакцинированными, но вот заставить их рожать — это было потруднее. В первые годы катаклизма рождаемость снизилась до угрожающего уровня. Пессимисты предсказывали вымирание вида. Но, как видите, мы еще живы.
Вакханалия сексуальных маньяков сменяется на экране мрачными осунувшимися лицами сидящих в задымленном помещении людей. Целый зал бледных масок, заострившихся носов, запавших глаз. И с трибуны вещает такой же задохлик.
— Международный конгресс наркоманов. У этих одна программа — изощренное медленное самоубийство. А вот самоубийцы попроще: священная скала в Китае, служившая последним пристанищем старикам-буддистам, сделалась излюбленным местом смерти молодых людей из разных стран. Потом к ней потянулись вакцинированные, закончившие свой путь. Детерминисты, то есть те, кто предпочитает знать дату своего ухода из жизни, и по сей день любят прыгать с этой скалы. Так что из чисто гигиенических соображений внизу размещены сибры. А вот соревнование обжор — очень распространенное развлечение в первые сеймерные годы.
— Омерзительное зрелище, — морщится Черный.
— Слушайте! — вспоминает Станский. — Был же такой фильм — «Большая жратва». У Марко Феррери. Потрясающий, между прочим, фильм, точь-в-точь такие же кадры!
— Но это не он, — снова и уже слегка раздраженно подчеркивает Кротов, — это хроника. А то, что ваши режиссеры как бы угадывали будущее, совсем не удивительно. Ведь сибры не принесли в мир новых пороков, а лишь раздули до абсурдных масштабов старые. Вот вам афоризм, если угодно: будущее — это настоящее, доведенное до абсурда. А вот еще одно последствие катаклизма, разумеется, уже после отмены закона. Перегруженность воздуха над городами.
Сталкиваются самолеты, вертолеты, авиетки, ракетники…
— Неправда ли красиво? И ведь каждый идиот непременно стремился иметь собственное средство передвижения по воздуху. А это уже другая крайность — наши одичавшие партайгеноссе. Их называют зелеными ультра. Ушли жить в леса. От «Долой сибры!» к «Долой технологию!» А дальше — «Долой цивилизацию!» и «Назад, к обезьяне!» По контрасту с зеленым хорошо смотрится красное. Верно? Индустрия зрелищ двадцать первого века. Люди, на которых все заживает, как на кошках, стали еще больше любить кровавые развлечения. Пожалуйста: нью-бокс, или бокс без перчаток. А это уже старый добрый кетч. Или вот, смотрите, какой блестящий поединок с леопардом!
И снова на экране пожары. Только это уже не даниловцы. И не война.
— Горят пьяные деревни, — поясняет Кротов, — пьяные города. Народ дорвался до водки. Спьяну немножко похулиганили. Тушить, разумеется, уже некому. Не все города потом восстанавливали, тем более деревни. Современные населенные пункты сильно рассредоточены по планете. В столицах не модно стало жить. Многие оказались просто брошены, стали мертвыми городами. Среди них есть города-музеи, а есть и города-свалки, прибежище преступников, безумцев, загадочных страшных болезней и диких идей.
Глядя на небоскреб, поросший мхом, Женька вдруг начинает сомневаться в правдивости Кротова. Почему именно в этот момент, он не знает, но упрямое повторение, что все это хроника и только хроника, раздражает Женьку все больше.
А на экране меж тем как бы прокручивается краткое содержание фильма, потом вспыхивает зловеще пульсирующий оранжевый титр по-английски: «Кто виноват?» и начинаются скучные до оскомины кадры: зал заседаний, длинный стол, флажки, бутылки с водой, микрофоны, корреспонденты, знакомые лица глав государств — встреча на высшем уровне. Говорят о сибрах, но говорят удивительно казенным языком, и сцена оживляется лишь когда все четверо видят Брусилова. Виктор ведет себя крайне неординарно. Он вскакивает, жестикулирует, бегает по залу, и, отчаявшись убедить кого-нибудь, начинает кричать. Крупный план — кто-то из президентов. Голос переводчика за кадром:
— Господа, почему всеобщая сибризация должна означать всеобщее разоружение? Всеобщая сибризация не решает проблемы доверия, зато дает блестящие ответы на целый ряд военно-технических вопросов.
Брусилов стоит рядом, упершись руками в стол и глядя на президента исподлобья. Видно, как от последних слов он меняется в лице, и происходит нечто совершенно несуразное. Брусилов бьет президента кулаком в лицо, президент падает, и тут же с дыркой во лбу падает Брусилов. Начинается несусветная стрельба. Кто бы мог подумать, что в зале переговоров столько вооруженных людей? Почтеннейшие мужи планеты в панике валятся на пол и лезут под стол. Телохранители падают замертво. Лопаются простреленные бутылки и стаканы. Крики на многих языках сразу сливаются в неразборчивый гомон. Все это снимается, по-видимому, автоматическими камерами в углах помещения, так как все операторы либо убиты, либо сидят под столами. Но самое интересное начинается потом, когда стрельба смолкает, и убитый Брусилов встает с пола, почесывая обеими руками на лбу и на затылке уже почти заросшее сквозное отверстие. Репортеры, кто еще жив, кидаются к нему, но тут Кротов дает стоп-кадр и яркий оранжевый титр: «Брусилов». Это ответ на поставленный вопрос.
А в следующем кадре в густонаселенном городе вырастает атомный гриб.
— А это здесь при чем? — не понимает Черный.
— Это не Хиросима, — отвечает Кротов, — это Мадрас. Крупнейшая диверсия эпохи катаклизма. Больше миллиона жертв. Впрочем, еще более крупной была искусственно созданная эпидемия в Китае — там погибло почти три миллиона.
— Это что, на закуску? — ядовито улыбается Станский.
— Да, если угодно. А вообще у нас в информотеке еще много хроники. Будет интерес — смотрите.
— Но, простите, — интересуется недоверчивый Черный, — где гарантия, что это действительно хроника. Кинематографу доступно все, а двадцатый век воспитал нас скептиками.
Кротов даже не обижается.
— Гарантия там, на юге, — машет он рукой с небрежностью человека, стоящего на полюсе, для которого все направления — юг, — гарантия в большом мире. Посудите сами, зачем мне лгать. Я не намерен держать вас взаперти, да это и невозможно — о вас уже знают. Я просто хочу сразу дать вам правильную ориентацию. Нас, зеленых, не так много, но мы боремся за справедливость. Борцов за справедливость всегда было мало, и все-таки они побеждали. Так пусть нас станет больше, и победа придет скорее!
— Ваша цель — полное уничтожение сибров? — уточняет Станский. — А разве это реально?
— Невозможного на свете нет.
— Ну, а какие же методы?
— У меня есть свой план, но прежде, чем я познакомлю вас с ним, подумайте сами. Свежий взгляд, понимаете ли…
— Да вы что, уже записали нас в зеленые?! — возмущается Женька.
— Отнюдь. Я просто предлагаю подумать.
— Ну, знаете, — Женька наливается свежей ненавистью к Кротову, — в сибрах слишком много хорошего, чтобы я стал размышлять об их уничтожении.
— Не говорите так, Женя, — строго одергивает Кротов, и такое неожиданное обращение выбивает Женьку из колеи. — Это легкомысленное и скороспелое мнение. Представьте себе, кем бы стали врачи, если бы они принялись выискивать аспекты благотворного влияния болезней на организм. Сибр породил на планете катаклизм, а катаклизм — это болезнь. Страшная, опасная, но излечимая. В наших силах справиться с нею, но только надо лечить. Лечить, а не умиляться болезнью!
Женька не успевает возразить, потому что звучит тревожный, громкий и долгий звонок. Председатель партии зеленых поднимается и идет к пульту. В информотеку врывается Китарис.
— Брусилов в Норде! — выпаливает он.
Из книги «Катехизис сеймерного мира»
Вопрос. Что дала человечеству всеобщая сибризация? К чему приведет в дальнейшем?
Брусилов. Сибризация создала на Земле общество поистине равных возможностей для всех. И человечество движется по пути дальнейшего совершенствования своей социальной структуры, по пути глобальной морально-психологической перестройки, а также по пути биологического совершенствования вида и широкого освоения космоса. Мы идем к торжеству разума.
Петрикссон. Всеобщая сибризация породила всеобщую деградацию. Сибры кастрировали человечество, лишили стимулов к дальнейшему развитию. Бурная деятельность отдельных ученых и политиков — это не более, чем предсмертная агония. Мы идем к закату мира. Человечество как никогда близко к гибели, не обязательно физической, но, так или иначе, сибры — это смерть цивилизации.
Хао Цзы-вэн. Человечество стало объектом для изучения, но, оказавшись во власти сверхцивилизации, мы не утратили самостоятельности. Процесс изучения обоюден, что бы не думали наши господа. Человечество, подгоняемое сибрами, идет к пониманию и контакту с высшим разумом.
Пинелли. Сибризация подняла нас на новую ступень в экономике и науке, но это лишь ступень, а не окончательная победа добра над злом. угроза гибели сохраняется. И все-таки шансов на будущее у человечества стало больше, чем… когда-либо, потому что от общения с оранжитом люди в целом сделались на порядок умнее, а их интеллект — совершеннее. А это ли не гарантия существования и дальнейшего развития?
Угрюмов. Всеобщая сибризация, если рассматривать ее в комплексе с вакцинацией возродила на нашей планете остановленную возникновением цивилизации эволюцию вида homo sapiens. В сущности можно говорить даже о возникновении нового вида — homo sibrus, вида, находящегося в развитии и отмеченного принципиально новой физиологией, психологией и моралью. Вторым важнейшим следствием всего происшедшего является осознание людьми того факта, что они не одиноки во Вселенной. И первое и второе считаю в высшей степени положительным в истории цивилизации.
Кротов. Сибризация обезоружила человечество и привела его к последней стадии беспомощности. Особая опасность таится в том, что многие наивные умы воображают, будто с сибрами они стали мудрее и сильнее, тогда как на самом деле люди просто жиреют в потребительском раю, как свиньи, приготовленные на убой. И апокалипический конец близится. Либо сибры в один прекрасный день исчезнут, и наша планета будет похожа на один огромный полностью автоматизированный город, населенный невеждами, в котором внезапно отключили электричество. Либо оранжит все-таки аннигилирует, и тогда Земля превратится в звезду. Либо из каждого сибра выйдет неубиваемый оранжевый монстр, чтобы задушить и затоптать всех без исключения жителей планеты. Либо… но пусть беллетристы упражняются в сочинительстве, а я просто подытожу: с сибрами мы идем к концу света.
Уайтстоун. С сибрами пришло разоружение, изобилие и революция в науке. Но все это — лишь обеспечение условий для великого процесса оранжитации (следует заметить, что он пошел бы и в менее благоприятных условиях). Результатом оранжитации станет экспоненциальный прогресс человечества — переход от животного состояния в состояние чистого интеллекта.
Сингх. Брусилов, Бог, рожденный на Земле, вывел человечество из тупика на широкий и светлый путь, которому конца не видно, и теперь люди, точно заблудшие овцы, пойдут за учителем своим, вечно постигая Божественную силу его и тем самым приближаясь к нему все более и более.
Комментарий
Приятно отметить, что большинство политических деятелей и ученых, несмотря на значительные различия во взглядах, настроено оптимистически, но, что характерно, все без исключения считают появление Апельсина поворотным пунктом в истории человечества, событием, без которого стал бы невозможен наблюдаемый нами сегодня прогресс. Вот почему мне хочется высказать по этому вопросу votum separatum, не разделяемое никем даже среди моих коллег. Я считаю, что оранжит и сеймер не вызвали принципиальных новых сдвигов в процессе развития нашей цивилизации, а лишь ускорили ее прогресс, проведя человечество по кратчайшей, энергетически наиболее выгодной траектории в ту точку, куда оно так или иначе пришло бы и само. И дубликатор и бессмертие люди сумели бы создать без посторонней помощи, и я работаю сейчас над тем, чтобы доказать это.
Вот почему процесс, порожденный появлением Апельсина и всеобщей сибризации, я называю катализом. А для тех, кто подзабыл школьный курс химии, напомню: катализатор — это вещество, ускоряющее химическую реакцию, но само остающееся без изменений. Правда, в ходе химического процесса катализатор может образовывать временные, промежуточные соединения с реагентами. Сибры, четверка Брусиловых и все, кто подверг себя вакцинации, являются именно такими соединениями. Таким образом, возникает еще одно определение Апельсина, еще один ответ на первый вопрос «Катехизиса»: оранжит — это вселенский катализатор прогресса.
3
— Ну, вот и началось, — сказал Кротов радостно и зло.
— Что началось? — спросил Станский, хотя прекрасно понимал, что все это говорится не для них.
— Армагеддон, — непонятно и торжественно объяснил Кротов. — Ждите меня тут. Я скоро вернусь.
— А Брусилов? — тут же спросил Женька. — Где он?
— Где он? — задумчиво повторил Кротов. — Китарис, друг мой, скажи нам, где этот враг рода человеческого? Небось, уже на пятом радиусе?
— Так точно, товарищ председатель! Он у этой шлюхи.
Женька решил промолчать, но когда оба зеленых двинулись к выходу, все-таки крикнул: «Стойте!», и Кротов не выдержал:
— Да уймитесь Вы, наконец! Мы не туда идем. Б-телекс Крошки Ли 0000208. Ах, да, у Вас же нет браслета. Китарис, выдайте им всем, и пусть этот Ромео связывается со своей пассией, когда пожелает. Надоел он мне.
Китарис поворчал, но браслеты выдал, и пока он возился с пультом на стене, Станский успел поинтересоваться у Кротова:
— Товарищ председатель, а Вы что, считаете себя… — Эдик замялся, — советским человеком?
— Упаси Боже, Эдуард Владимирович! — всплеснул руками Кротов. — Какие могут быть в наше время Советы? Кроме Всемирного? А Вы, должно быть, имеете в виду форму Китариса? Так это он дурака валяет. А мне наплевать, я его как служаку ценю. Ну, а если Вы про наше официальное обращение, так извините, слово «товарищ» не в Вашей партии изобрели. И вообще. привычная Вам политика в наши дни просто смешна. Вы это поймете, Станский. Ну, счастливо оставаться! С браслетами разберетесь, надеюсь. Это несложно.
Браслеты оказались без экранчиков, что разочаровало гостей из прошлого. Впрочем, как выяснилось, принятое браслетом изображение можно было передать на любой находящийся в пределах видимости и не занятый экран.
Желание Женьки сразу же связаться с пятым радиусом пресекли и Рюша и Эдик. Надо было решать сначала, что они скажут Брусилову. Женька не знал. Женька вообще поймал себя на том, что думает не о Брусилове, а о Крошке Ли. Устыдился и начал думать о Брусилове. Но получилось почему-то о Цаневе. А потом о тех четырех убитых. И он обнаружил, что последнее мучит его больше всего. Цанев был раной, но он знал, что это серьезная рана и что болеть она будет долго, может быть — всегда. А эти четверо неизвестных висели, как камень на шее, который мучительно хотелось сбросить. Он понял вдруг, почему. Камнем на шее висело не само убийство, а безнаказанность. Похоже, здесь, в Норде царили законы джунглей, точнее прерий, и этот вестерн не в кино, а в жизни был до дикости непривычен.
В задумчивости Женька скреб ногтем заусенец на указательном пальце. Заусенец не поддавался. Тогда он помог себе зубами и резко выдернул довольно приличный кусочек кожи. Выступила кровь. Он стер ее, и больше крови не было. И боли не было. Ни малейшей. Женька провел языком по губам: они были мягкими и идеально гладкими. Уже перепуганный, он шевельнул ушибленной и отмороженной ногой — она была абсолютно здорова! — и наконец, потрогал затылок.
— Ребята, — сипло и нерешительно начал Женька.
Они шумно спорили и ему пришлось крикнуть:
— Ребята! Я вакцинированный! Мне передалось от Ли.
— А мы? — спросил Станский после паузы.
— Черному неоткуда было, — рассудил Женька, — он спал всю ночь. А вот ты, Эдик… Впрочем, тоже нет. Потрогай свои губы.
Вывод напрашивался любопытный: обычные проститутки города Норда не вакцинированы — понятно, царство зеленых, как-никак. А высший серебряный класс держат, видать, для особых целей и многое им позволяют. И все-таки, вакцинировав Женьку, Ли, надо полагать, нарушила какие-то планы Кротова. То-то он так кипятился!
— Это несправедливо! — шумел Черный. — Женька, дай, я тебе отдамся. Я тоже хочу быть вечно молодым!
— Кто здесь хочет стать вечно молодым?
В просмотровом зале информотеки появилась прекрасная блондинка, высокая, длинноногая, с загорелой кожей, пышной прической и ослепительными зубами. На ней была очень короткая белая юбочка и свободная салатового цвета кофта. Поражали глаза — яркие, как изумруды.
— Лучше ей отдайся, — успел шепнуть Женька.
— Шейла Петрикссон, председатель партии зеленых, — небрежно сообщила блондинка.
— То есть как? — не понял Станский. — А Кротов?
— Кротов — самозванец.
— Я так и думал! — воскликнул Женька.
— Так, так, так, — проговорил Черный, — что-то начинает проясняться. Может быть Вы присядете, Шейла. Или Вы куда-то торопились?
— Торопилась, — сказала Шейла. — К вам.
И она опустилась в кресло, скрестив свои роскошные с золотистым загаром ноги, а руки закинув за голову.
Женька был в восторге от столь миловидного председателя уже ненавистной ему партии. Черный рассеянно улыбался, поглощенный какими-то своими догадками. И только Станский был загадочно мрачен и насторожен.
— Шейлочка, — заговорил Черный, — Ваш самозванец не объяснил нам, как пользоваться здешней системой снабжения. А было бы недурно выпить чего-нибудь. Вы нам не поможете?
— Пожалуйста, — она встала и подошла все к тому же пульту, — Вам чего именно?
Черный слегка растерялся:
— Н-ну, на Ваш вкус.
— А я не пью, — улыбнулась Шейла.
Черный растерялся вконец, и на помощь пришел Женька:
— Джин с тоником, если можно.
— Сейчас не говорят «если можно», — поправила Шейла, — в нашем мире можно все.
— А почему Вы не пьете? — как-то агрессивно поинтересовался Станский.
— Жизнь коротка, а дел в ней очень много, — ответила Шейла, и это прозвучало без фальши.
— Вот уж действительно, — философски заметил Женька, — чем больше человек имеет, тем более скупым становится. Неужели сто лет в молодом теле — это так мало?
— А я не вакцинирована, — Шейла не хвасталась. Шейла просто сообщала об этом, и все трое сразу поняли, кто здесь настоящий председатель зеленых.
— Простите за нескромный вопрос, — Черному было неловко, — то есть в наше время такой вопрос считался нескромным по отношению к женщине, я не знаю, как сейчас… Так вот, простите, Шейла, сколько Вам лет?
— Тридцать шесть. Шесть лет добровольного отказа, — добавила она, опережая их мысли. — Вы спрашивайте, ребята. Нескромных вопросов не бывает. Бывают вопросы умные и глупые. Старайтесь задавать умные, но я и на глупые не обижусь.
— Вы знаете о том, что Брусилов в Норде? — спросил Черный.
— Да, я потому и спешила.
— Зачем он приехал?
— Видимо, хочет остановить Кротова. Старик Игнатий еще в молодости поклялся совершить нечто, сопоставимое по масштабам с Великим Катаклизмом. До сих пор ему это не удавалось. А теперь жить осталось не больше двух недель, и многие ждут от него страшных шагов. Трудно сказать, каких именно. По-моему готовится некая гекатомба.
— И он способен на это? У него есть возможности?
— К сожалению, да.
— Ребята, нам везет, — резюмировал Черный. — Уснув накануне ядерной катастрофы — проснуться перед самой гекатомбой Кротова!
— Так что же делать? — спросил Женька в панике.
Он ощутил страх за Крошку Ли, за себя, за ребят, за весь мир, и надеялся теперь, что Шейла развеет этот страх — ведь она так уверенно держится!
И Шейла сказала, улыбнувшись:
— Самый умный вопрос. Мы знаем, что делать. Я говорю как член Всемирного Совета. Но об этом позже; поговорим о том, что делать вам. Прежде всего следует узнать, кто есть кто в этом мире и сделать выбор, с кем вы — только тогда от вас будет польза. Пока же вы способны лишь благородно, но бесцельно гибнуть. Я соболезную вам по поводу смерти вашего друга Цанева. Преждевременная смерть — это всегда трагедия. Давайте не будем повторять ошибок. Итак. Я знаю, что вы читали, и догадываюсь, чем пичкал вас старик. Теперь послушайте меня.
— С удовольствием, — ядовито произнес Станский, молчавший все это время, — но что-то вас становится слишком много. Может быть, вы все как один врете?! А Любомир меж тем мертв. Ему уже не помочь ни вашими соболезнованиями, ни всеми вашими чудесами — ничем! Его убил этот ваш «новый прекрасный мир», ваш мир юных оранжевых идиотов и старой зеленой сволочи. И теперь я не верю вам. Ни одному слову не верю! Учтите.
— Спокойно, Эдуард. Вы же еще ничего, ничегошеньки не поняли! Так может быть, все-таки выслушаете меня?
— Да! — почти рявкнул Станский. — Только, пожалуйста, попроще и поближе к жизни. Я уже сыт по горло высоким штилем — этими вашими проповедями, агитками и катехизисами!
«И с чего он так завелся?»- недоумевал Женька.
А Черный громко сообщил:
— Джин был очень хорош.
4
Сын простых можайских рабочих, член партии большевиков с шестнадцатого года Иван Кротов в середине двадцатых в Москве совершенно фантастическим образом женился на дочери немецкого еврея Бруно Шамиса, фирме которого Советская Россия предоставила в то время концессию. Эльза Шамис приняла советское подданство, и у молодых супругов родился сын Рудольф. А десятилетие спустя эта романтическая женитьба едва не вышла Ивану боком. Начальство стало намекать ему, что жена буржуазного происхождения, да еще родом из Германии, плохо совместима с работой в партийных органах. И в какой-то момент Иван был вынужден сделать выбор. Он не только развелся и публично отрекся от жены и всех ее родственников — «немецких шпионов», но еще и собственноручно написал донос на брата Эльзы Генриха, тоже осевшего в России (Иван с ним не ладил). После этого Кротов был направлен партией на ответственную работу в органы внутренних дел. А вскоре арестовали Эльзу. Шел 1938 год. Девятилетнего Рудика, по счастью, не оказалось в этот момент в Москве. Он жил в деревне под Смоленском у родителей жены Генриха. Умудренные жизнью старики, прослышав об аресте своего зятя и матери мальчика, догадались оставить Рудика у себя, а не возвращать в столицу к НКВДешнику-отцу, очевидно, не жаждавшему встречи с полубуржуйским сыном.
Началась война. Иван Кротов прошел ее всю, воюя исключительно на внутреннем фронте. Дослужился в НКВД до полковника, начальника отдела. славился своей жестокостью на допросах, строгостью к подчиненным и гибкостью в отношениях с руководством. В начале пятидесятых активно участвовал в процессах по делам космополитов, а к ХХ съезду благополучно вышел в отставку.
Сын же Кротова Рудольф Шамис, демонстративно взявший фамилию матери, замученной в подвалах Лубянки, попал во время войны к партизанам, затем — в плен. Из плена бежал, оказался в Австрии, потом в Югославии, где участвовал в Сопротивлении, и снова в Австрии, Вену он освобождал вместе с советскими войсками. Даже хотел было вернуться с ними в Россию, но поговорил с особистом полка, лично знавшим отца, и раз и навсегда передумал. Он не считал Россию своей Родиной, хоть и появился на свет в Москве. И Германию тоже Родиной не считал. Остался в Австрии, вступил там в компартию, стал журналистом и сотрудничал в газетах разных стран. позднее издал даже несколько книг. Но прославился одной, главной — «Черная тень красного знамени» — о страшных процессах тридцатых-пятидесятых годов в СССР, материалы для которой в значительной части собирал на месте действия. Каким-то образом он сумел многое вытянуть из отца, встретившись с ним в Москве в годы «оттепели».
Вообще антифашистский, антитоталитарный настрой был главным в публицистике Рудольфа Шамиса-Кротова, известного в мире прессы, как Руди Шам, и следующей его книгой должно было стать обширное исследование современного неофашизма, его сущности, его форм, его корней. Сопоставления, которые делал Руди Шам, аналогии, которые он проводил между социальными процессами в СССР и США, на Кубе и в ЮАР, в Израиле и странах ислама, пугали многих издателей. А в книге были имена и факты, точные даты и статистика… Словом, в 1966 году Руди Шам погиб в Нью-Йорке при невыясненных обстоятельствах. поговаривали о самоубийстве, поговаривали и о мести, но дело закрыли, и связываться с ним никто не хотел. Никто, кроме второй жены Руди Шама — американской журналистки Линды Маккол. Она попыталась выяснить правду, но в злосчастном 68-ом разбилась насмерть в автокатастрофе при обстоятельствах, в общем не позволявших однозначно предполагать убийство. Сиротами остались двое детей — Реббека и Александр. Реббека сделалась певицей, танцовщицей и звездой стриптиза, выступала в Нью-Йорке и в возрасте тридцати шести лет умерла от наркотиков. Александр же, использовав сбережения отца и его славу, уехал в Европу. И там, в Германии, взял себе фамилию Кротов. Не потому, что советский коммунист-дед был ему симпатичнее австрийского коммуниста-отца — вовсе нет (если отца он иронично называл дон-кихотом, то деда величал не иначе, как подонком и плесенью) и не потому, что считал себя русским (ведь русским он был уже лишь на четверть) — просто нравилась ему фамилия Кротов, а то, что звучала она на Западе одиозно, так это даже импонировало ему — так он демонстрировал свое презрение к условностям. Семнадцати лет Александр вступил в партию зеленых. Ему нравилось быть против войны, ему нравилось быть против уничтожения природы, ему нравилось быть против красных и против коричневых, против правых и против левых, против всех. И он сразу стал одним из самых активных деятелей партии. По молодости лет дискуссиям и выступлениям с трибуны он предпочитал массовые демонстрации и экстремистские выходки. Несколько сезонов подряд Алекс Кротов возглавлял группу защиты китов, и не один раз сам, лично бросался под гарпун, пытаясь остановить китобоев Норвегии, США и Советского Союза. Однажды ему даже срезало линем кончик носа, и Кротов гордился своим уродством, как боевой наградой. Потом Алекс остепенился, стал серьезнее, занялся политикой и даже сделался членом бундестага от партии зеленых. Но тут и грянул Великий Катаклизм.
Наверно, ни одна партия, ни одна организация в мире не была до такой степени выбита из колеи случившимся, как партия зеленых в ФРГ. Разве только еще «Грин пис» в США, да аналогичная партия во Франции. Лидеры объявили о роспуске: программа оказалась выполнена сама собой. Но тут же объявились новые лидеры. Причем, одни из них приветствовали всеобщую сибризацию и только спешили подчеркнуть, что сами собой не решаются никакие проблемы, а потому экология как была, так и остается основной задачей партии; другие же категорически отвергали сибризацию, аргументируя это самыми разными соображениями, начиная от предупреждения о потенциальной опасности сеймеров для земного экологического баланса и кончая абсурдным до смешного обвинения в том, что они лишили зеленых главной точки приложения сил. (А ведь по сути дела это и стало истинной причиной их ненависти к Брусилову.)
Среди тех, кто решительно и сразу подал свой голос против сибров, оказался и Алекс Кротов. «Я готов, — говорил он на съездах и форумах, — встать между Брусиловым и сибром, чтобы принять на себя его гарпунной силы телепатический импульс. Я готов умереть ради спасения человечества от сибров. О, если бы это было так просто!»
В период действия Всеобщего закона о монополии государств на сибры и сибр-технологию — того самого, который называли просто Законом, — именно Кротов от имени партии обратился во Всемирный Координационный Совет с научно обоснованным и детально проработанным предложением законсервировать сибры, пока не поздно. Этот документ, отклоненный тогдашним составом Совета, вошел в историю как Зеленое воззвание. А затем последовала целая серия диверсий на государственных сеймерных предприятиях в самых различных странах, диверсий в сущности безобидных, бескровных, носящих скорее агитационный характер: уничтожались сибры и похищался оранжит. И было совершенно ясно, чьи уши торчат за всеми этими диверсиями, но привлечь к ответственности персонально Кротова никто не мог, поэтому просто вся его партия была объявлена вне закона. И вот именно тогда, в подполье, новая партия зеленых окончательно сформировалась и окрепла. Кротовцы отказывались не только от сеймеров, но и от вакцинации. И это не было суеверным страхом, как у многих в те годы, — это было принципиальной позицией и актом настоящего мужества, ведь многие из них были уже не молоды, многие — больны. Но они отказывались, не желая иметь ничего общего с наступающей на мир оранжевой чумой. И чистота крови была в те годы необходимым условием членства в партии зеленых.
А потом закон отменили. Сибры сделались общедоступны. Партия зеленых пережила второе чудовищное потрясение. Сам Кротов заявил о роспуске, не видя, как можно бороться дальше. Он сдался. Уйдя от дел, женился в Кракове на Монике Ланевской и уехал с ней в Швейцарию, где несколько лет работал над книгой воспоминаний, считая себя побежденным. У молодых супругов родился сын, которого решили назвать оригинальным русским именем Игнатий. Разумеется, Моника тоже отказалась от вакцинации, хотя была предельно далека от политики, а просто безоговорочно верила мужу во всем.
Мир благополучно катился в оранжевую бездну или, если угодно, взмывал к оранжевым высотам, а партия зеленых осталась существовать только в отдельных умах. Но она существовала. Это стало ясно, когда на политической арене возник Кнут Петрикссон — один из старейших, но до этого неприметных членов партии. Он заявил, что именно теперь, когда на Земле воцарилась истинная свобода, настало время решающей борьбы за чистоту человеческих идеалов. «Еще не все потеряно! Мир еще станет зеленым!» — с этими словами, которыми он закончил выступление на съезде своей возрожденной партии в Осло, Кнут Петрикссон вошел в историю. Партия пополнилась новыми членами, стала многочисленной, как никогда. И Александр Кротов вернулся, приглашенный в руководящие органы как ветеран и профессионал лично Петрикссоном. Однако уже при составлении программы выявились серьезные разногласия.
Кротов по-прежнему был сторонником радикальных мер, рвался во Всемирный Совет, мечтал о новых строгих законах, убеждал в неизбежности принудительной конфискации сибров. «Да, — говорил он, — раз уж мы выпустили джинна из бутылки, надо теперь постараться вытрясти из него максимум, прежде чем загонять обратно в узкое темное горлышко. Но джинн — это не игрушка, и обращаться с ним следует осторожно. Главное — все время помнить: сам он в бутылку не полезет, загнать его туда — наша с вами задача.»
А суть концепции Петрикссона как раз и состояла в утверждении, что джинн может самостоятельно вернуться в свою посудину. «Конечно, ему придется немножечко помочь, ведь джинн наш старый, ленивый и склочный. И все-таки он туда залезет!» — говорил Петрикссон и предлагал создать мир, альтернативный сеймерному — мир без сеймеров, но технически способный конкурировать с ним. Преследовались сразу две цели: обеспечение относительной безопасности хотя бы части человечества на случай той или иной сеймерной катастрофы и соревнование технологий, в ходе которого сибр-технология должна была проиграть. Вот когда оранжевый джинн вынужден будет грустно вскарабкаться по бутылке и начать впихивать свое старческое тело в узкое горлышко. А параллельно с соревнованием технологий предполагалась перестройка психики людей путем воспитания, и Петрикссон всерьез надеялся, что рано или поздно каждый собственноручно уничтожит все принадлежащие ему сибры, а от вакцинации откажется. Пока же для зеленых, то есть для создаваемого ими альтернативного мира предусматривалась возможность временного — и только временного! — использования сибров. Так, допускалось применение строительной сибр-технологии, но категорически отрицались сибр-материалы; разрешалось использование в медицине сиброкопий органов и тканей для пересадки, крови для переливания, но абсолютно исключалась вакцинация и вживление в организм оранжита. Петрикссон требовал бежать от Апельсина и сибра, а не технологии и ее продукции. Такой и стала программа партии. Кротов тоже подписался под ней, но прежде настоял на включении нескольких дополнительных пунктов с изложением своей экстремистской позиции на случай — как было оговорено — чрезвычайного положения на планете. Расплывчатая получалась формулировка.
А меж тем свобода, воцарившаяся в мире, была свободой для всех. И наряду с зелеными все большее влияние стала иметь партия оранжевых и оранжистов. У них появилась своя наука — оранжелогия, своя религия — брусилианство, своя глобальная программа — всеобщая оранжетация. Стоит ли говорить, что ненависть, возникшая между зелеными и оранжевыми была настолько лютой, что с ней не сравнилась бы никакая известная до этого национальная или религиозная нетерпимость. Частые межпартийные столкновения, если не по масштабам, то по накалу страстей, были вполне сопоставимы с отчаянными битвами первых лет Катаклизма. И самым ужасным было то, что эти «кровавые» стычки стали особо яростными именно в период наступившего всеобщего благоденствия. Возвращаться к реакции и террору никто не хотел, а примирить этих разноцветных фанатиков представлялось совершенно немыслимым. Введение представителей от обеих партий во Всемирный Координационный Совет (ВКС) не помогло. Положение казалось безвыходным. И все-таки выход нашелся.
История умалчивает, чья это была идея, но кто-то из членов ВКС вдруг вспомнил о полярных «радиошапках» (этот феномен так, кстати, и не получил удовлетворительного научного объяснения) и предложил воспользоваться редкой возможностью предельной изоляции одной группы людей от другой. Оранжевым достался центральный район Антарктиды, а зеленых выселили на ледовые просторы Северного приполярья. Разумеется, это не было примитивной ссылкой провинившихся, а скорее выглядело как предоставление двум большим разросшимся семьям, переругавшимся в коммуналке, отдельных квартир со всеми удобствами: ведь в сеймерном мире не существовало труднодоступных районов, да и строительство города посреди океана считалось делом в общем-то обычным, хотя и пока беспрецедентным.
Так появились на Земле Норд и Сан-Апельсин, отделенные не только друг от друга, но и ото всего остального мира глухими и, похоже, вечными, радиобарьерами. Но в ВКС понимали, что разогнать подравшихся детей по разным углам — это еще не все. Стоит на мгновение зазеваться, и вот уже один из них ухитрился обидеть другого. Так и случалось, причем чаще всего это были подлые нападки из-за угла и удары в спину.
Одним из подобных ударов стал налет оранжевых на загородный дом Кротова в Швейцарии. Все обитатели его, включая охрану, были обработаны усыпляющим газом, и экстремисты в противогазах вакцинировали Кротова, его жену и сына. Аналогичное, но безуспешное нападение было совершено на Петрикссона. После чего председатель зеленых выступил в ВКС с предложением о строжайших карательных мерах за принудительную вакцинацию. «Это удар ниже пояса, — заявил он, — мы не можем ответить оранжистам тем же — мы можем только убивать. И мы будем убивать, если ВКС не возьмет это на себя». Решение приняли: потребовалось несколько десятков смертных казней, причем каждый приговор широко освещался в прессе и по Интервидению, а также — еще двенадцать лет, в течение которых новый закон действовал как бы в профилактических целях, прежде чем страсти полностью улеглись, и человечество вновь — хотелось верить, что теперь уже навсегда, — отказалось от узаконенного убийства.
Оранжисты прекратили подрывные акции. Зеленые прекратили отстрел оранжистов. Каждый полюс зажил своей жизнью, делая вид, что другого просто не существует. Мир и покой воцарились на планете. Многие связывали эти благотворные перемены с уходом из жизни Алекса Кротова, пустившего себе пулю в лоб через полгода после вакцинации, когда Моника Кротова, влюбившись в одного из оранжистских лидеров, удрала с ним в Антарктиду на строительство Сан-Апельсина. Сыну Игнату исполнилось в то время четырнадцать лет. В шестнадцать он вступил в партию, в восемнадцать стал сотрудником службы безопасности города Норда. Когда ему было двадцать, службу расформировали, и Игнат уехал в Европу учиться. Окончил исторический факультет в Оксфорде, там же — факультет теоретической сибрологии, а затем прошел ускоренный курс в Московском сибротехнологическом институте. Параллельно Кротов очень активно занимался спортом и завершил свое образование в Лэнгли, где знаменитая шпионская школа продолжала работу в качестве спортивного клуба. Настольной книгой молодого Кротова стало разоблачительное сочинение его деда — «Черная тень красного знамени», но Игнат парадоксальным образом проникся уважением не к Руди Шаму, а к прадеду — полковнику НКВД Ивану Кротову. Еще на лекциях по истории в Оксфорде воображение Игната поразила уникальная по своей завершенности и прочности сталинская политическая система. Теперь же он глубоко и детально, по многим источникам изучил принципы и методы работы бериевского аппарата, после чего окончательно укрепился в мысли, что его цель — это создание могучей, непобедимой, вездесущей, тайной полиции зеленых.
Вернувшись в Норд, Кротов прежде всего напомнил о дополнительных пунктах, внесенных в программу партии его отцом, и подчеркнул, что намерен отстаивать неуклонно именно эту линию. Петрикссон не возражал, он опасался внутрипартийных конфликтов, тем более, что Кротов пользовался колоссальной популярностью в массах как борец и страдалец за идею. Вакцинированность его зеленые рассматривали как тяжкое увечье. Но не так рассматривал ее сам Кротов. Он выдвинул тезис о том, что вакцинация не противоречит членству в партии, более того, помогает работать. «Продленная молодость, как временная уступка, позволит нам скорее покончить с оранжевой чумой!» — говорил он. Вот когда начался настоящий развал партии.
Кротов приехал в Норд не один, с ним словно тень ходил теперь повсюду некто Спайдер Китарис, друг по школе в Лэнгли. Китарис был потомком матерых контрразведчиков-профессионалов и унаследовал от них все самое худшее: беспринципность, жестокость, готовность, не думая, выполнить любой приказ. А также был он крупен необычайно, туп на редкость, и чрезвычайно охоч до женщин. Как следствие, стал принципиальным противником детей и к двадцати годам оказался уже вакцинирован, по документам случайно, а на деле, безусловно, намеренно.
За Кротовым и Китарисом потянулись многие. Что и говорить, заманчиво было продлить свою молодость, сохранив при этом идеологическую платформу зеленых. Петрикссон пытался убеждать, но — куда там! Истинных зеленых становилось все меньше. И это понятно. Их вакцинированные сверстники сохраняли абсолютное здоровье, а они как раз в те самые годы начали заметно сдавать — возраст есть возраст. Хотя Петрикссон и пытался на личном примере доказывать возможность продления молодости без всякого оранжита. Он сам прожил девяносто три года и до последних дней сохранил бодрость, активно занимался физкультурой, ездил по всему миру, много выступал, не давая себе никаких поблажек. Младшего сына Сванте Петрикссон зачал в возрасте восьмидесяти семи лет. Вообще же было у Кнута три жены, и он оставил после себя двенадцать детей: семерых сыновей и пятерых дочек. Самыми знаменитыми из них стали младшие — Шейла и Сванте.
Когда Петрикссон-отец умер, лидерство в партии захватил, разумеется, Кротов. Старшие сыновья Кнута Олаф и Гунде дрогнули перед его политическим опытом и оказались на подхвате у председателя.
А Кротов сделал Норд международным центром ностальгии по прошлому, не просто открытым городом, а городом-зазывалой. Ведь место, где не признавали сибров, требовало огромного количества рабочих рук, да еще на такие работы, включая самые грязные, о которых люди в большом мире успели давно забыть. И поначалу официантами, горничными, уборщиками, мойщиками, поварами, монтерами, прачками, проститутками, сутенерами, банщиками, ремонтниками, полицейскими, вышибалами работали в Норде только во имя идеи или от скуки — те, кто не мыслил себя в сеймерном мире. Теперь же, когда Зеленая столица стала принимать до миллиона туристов в год, обойтись в сфере обслуживания одними членами партии не получалось. И Кротов нашел остроумнейший выход: перевел туристов на самообслуживание, причем, благодаря полной компьютеризации города, была возможность вести кропотливый учет соответствия объема работы объему потребления каждого человека. Древний принцип «За все надо платить», перечеркнутый Брусиловым там, на большой земле, здесь соблюдался неукоснительно и служил одновременно экономическим рычагом и пикантной приманкой для рекламы Города прошлого. По существу, Кротов возродил товарно-денежные отношения. В эпоху, когда единственным всеобщим эквивалентом ценности стало время, он сделал человеко-часы разменной монетой — все в его городе имело цену, выраженную в них. Гость мог сначала заработать себе право на все виды развлечений, а мог отработать эту «барщину» потом, так сказать, с похмелья. Много было любителей чередовать труд и отдых: вчера ты заказывал деликатесы в ресторане, а сегодня бегаешь между столиками с подносом, вчера тебя тошнило в театре с перепою, а сегодня ты надраиваешь там пол, или сегодня отсиживаешься в камере за то, что приставал к девушке на улице, а завтра будешь в той же тюрьме коридорным надзирателем. А были еще и такие гости, которым предоставлялось право бесплатного обслуживания, впрочем всегда на строго определенную сумму, называемую исходным кредитом и начисляемую за конкретные заслуги перед партией зеленых. И вольный город Норд процветал, становясь с каждым годом все популярнее и популярнее. Ведь мир, разогнавшийся на сеймерных скоростях, менялся стремительно, как никогда, и люди, живущие сто лет в молодом теле, уставали от перемен, жаждали чего-то постоянного, жаждали встреч со своим неизменившимся прошлым, и город зеленых, вечный город, отнявший теперь это звание у Рима, давал людям то, чего они искали, и люди часто приезжали на Северный полюс умирать, подписывая контракт на все оставшиеся у них человеко-часы.
А вместе с удовольствиями и умиротворением приезжающие в Норд получали обязательную порцию кротовской пропаганды, их то исподволь, а то и открыто пичкали «зелеными» идеями. Ну и, разумеется, сама популярность Норда у туристов была лучшей пропагандой антисеймерной идеологии. Численность партии неуклонно росла, а сочувствующие ей плодились с еще большей скоростью. И Кротов становился все более и более знаменит, а партия его якобы сплоченнее и сплоченнее, и с каждым днем, как кричали зеленые, победа близилась.
Однако на самом деле Кротов лишь в выступлениях своих был яростен и непримирим, в вопросах же практических допускал все больше компромиссов: на Северном полюсе появилось скрытое сеймерное снабжение для сотрудников спецслужб, сеймерное оружие — для них же, размещенные вне видимости сеймеры-утилизаторы и, наконец, как последний удар по уставу и программе зеленых, — сеймерный транспорт в городе. По-настоящему же главной деятельностью председателя было создание системы негласного контроля в Норде и огромной разветвленной агентурной сети по всему миру. Об этом нигде не говорили вслух. Об этом догадывались лишь те, кто собирался всерьез бороться с Кротовым. А такие люди нашлись.
За нарушения ряда принципов, декларируемых ВКС, Кротов был выведен из его состава, а так как партия его по-прежнему признавалась официально, в Совете потребовался новый ее председатель. И от зеленых была выдвинута девятнадцатилетняя Шейла Петрикссон. Так в Норде окончательно утвердилось двоевластие. Формальным, признаваемым ВКС председателем зеленых стала Шейла, но реальной властью располагал, разумеется, Кротов. На стороне Шейлы был весь большой мир, но здесь, в Норде, ее поддерживала лишь беспомощная, существующая скорее номинально рота контроля. Крайцер же опирался на тайную полицию, организованную в соответствии с лучшими историческими образцами. Шейлу он не трогал. Присутствие оппозиции лишь повышало его популярность, и ему нравилось подчеркнуто одевать своих людей в зеленую с черным форму, символизировавшую по официальной версии зелень планеты в борьбе с черными силами космоса, породившими Апельсин. А соратники Шейлы носили традиционную бело-зеленую форму, где белый цвет был символом чистоты. И они были готовы сражаться за эту чистоту.
А далеко на юге, не делая разницы между черно-зелеными и бело-зелеными, не признавая никакой исторической перспективы за зелеными вообще, сходили с ума оранжисты. Оранжисты-фанатики, молившиеся своему Богу, рожденному на Земле. Оранжисты-ученые, бившиеся над проблемой сращения человека с Апельсином. Оранжисты-спортсмены, перестраивавшие свой организм путем предельных нагрузок. Наконец, просто оранжисты-любители: трепачи и бездельники, охотники за экзотикой и острыми ощущениями. На Южном полюсе тоже не было ограничений в удовольствиях. Точнее, именно там их действительно не было, ведь на Северном все разнообразие наслаждений исчерпывалось примитивным набором двадцатого века, не считая отдельных технических новинок. А в Городе будущего, как называли Сан-Апельсин сами оранжисты, было дозволено все. Каннибализм? Пожалуйста, во всех формах, вплоть до массовых пиршеств, конференций гурманов и соревнований по перегрызанию горла или еще чего-нибудь. Некрофилия? Ради бога — интимная, групповая, художественная, с музыкой и танцами. Любые извращения считались приличными. Появились новые: сиброфилия и оранжефилия. По концепции Тимура Сингха всем плотским желаниям человека надо было давать выход — только так и можно покончить с ними. Исключение составляли насилие и убийство — такие потребности за человеком не признавались. Насильников и убийц ожидала суровая кара — пожизненная высылка из Сан-Апельсина. На деле это означало передачу в руки всемирного правосудия и длительное тюремное заключение (в самом Сан-Апельсине ни суда ни тюрем не было). Для нового поколения, выросшего в сознании постоянного дефицита времени, привыкшего все ценности мира пересчитывать на дни жизни, отпущенные строго по норме, многолетнее вынужденное бездействие стало страшным наказанием. Многие не выдерживали в тюрьме подолгу, сходили с ума. Преступлений стало заметно меньше, а среди оранжистов — особенно мало. И это давало им весомое основание считать себя «зародышами грядущего». Другим таким основанием был их политический лидер-выдающийся ученый Педро Уайтстоун, ухитрившийся неизвестным даже ему самому образом дожить до ста пятнадцати лет. Он перекрыл биологический барьер, поставленный Апельсином, и теперь готов был к смерти в любой день, но смерть не торопилась. Брусилиане провозгласили его Сыном Божьим. Ученые пытались проникнуть в тайну феномена. Грин-блэки совершали покушения. Возникла легенда о скрываемой от народа тайне бессмертия. Так под брюхом земного шара начали разгораться свои страсти, и обитатели «подбрюшья» за толстыми боками планеты не видели страшной угрозы, нависшей сверху, с макушки, с Севера.
А в благословенной Кении, в Африканском филиале ВИСа у подножия Килиманджаро, давно сбросив со счетов и оранжевых и зеленых, высокомерно и легкомысленно похоронив политику, как явление минувшего века, Сидней Конрад и его сотрудники трудились над созданием искусственного оранжита. И так же, забыв о всех и вся, работала в Киевском институте геронтологии лаборатория Ивана Угрюмова. В конце каждого года они объявляли, что вот, еще совсем чуть-чуть, и смерть будет побеждена, и козыряли случаем Уайтстоуна, не имевшим никакого отношения к их разработкам, и погружались вновь в непролазные дебри молекулярной генетики сиброцитологии.
И огромный, наконец-то, вполне справедливо устроенный мир, мир всеобщего изобилия и благоденствия спокойно катился куда-то вдаль, ломая барьер за барьером в науке и технике, переделывая Землю, покоряя космос, воспитывая детей, и бессмертный Брусилов гордился своим творением, и благодарное человечество смотрело на бессмертного Брусилова счастливыми глазами, пока не обнаружило вдруг, что сидит оно на огромной, чудовищной бочке с порохом, приготовленной миру Кротовым, и сидит давно, а теперь уже просто нельзя не услышать шипение бикфордова шнура. И первыми заметили это, конечно, зеленые, истинные зеленые, те, что с давних пор стояли на страже природы и мира. И они ударили в колокола тревожного боя. И тогда — только тогда! — зашевелились все. Уайтстоун потребовал от ВКС решительных действий. ВКС начал готовить чрезвычайное расширенное совещание. Ученые вспомнили о политике, воззвали к разуму и в который уж раз принялись убеждать всех зеленых и незеленых в бессмысленности борьбы с сибрами. Брусилов приехал в Норд.
Зашевелилась, задвигалась, забеспокоилась, почуяв запах гари, вся благополучная планета Земля. Проняло. Но, по мнению Шейлы Петрикссон, было уже поздно.
Она рассказала им все это, проиллюстрировав, что могла, новыми кадрами хроники, а потом опять села в кресло и, глядя на четверых пришельцев отчаянными изумрудными глазами, стала ждать их реакции. А они подавленно молчали. Потом Черный сказал:
— Хочу с Брусиловым поговорить.
— А я не хочу, — злобно откликнулся Станский, — с меня хватит.
Только Женька не знал, что сказать. Он тупо смотрел куда-то мимо Шейлы и думал: «Вот и утешила, красавица, объяснила, как быть. Проклятый мир».
Потом вдруг спросил:
— Где сигареты? Где мои сигареты?!
Из книги «Катехизис сеймерного мира»
Вопрос. Стало ли человечество счастливее в сеймерном мире?
Брусилов. Безусловно, стало.
Петрикссон. В результате всякого социального катаклизма какая-то часть человечества становится счастливее, а какая-то — несчастнее. Вопрос в том, каково соотношение этих частей. Сеймерная революция сделала счастливее очень небольшую часть людей Земли. Это брусилиане и прочие оранжисты, кучка героев космоса да безумствующие ученые, которым всегда чем страшнее, тем интереснее. Остальные же — подавляющее большинство человечества — стали во сто крат несчастнее.
Хао Цзы-вэн. Счастливее или несчастнее бывают отдельные люди, а человечество в целом никогда не станет счастливее, чем оно было и есть.
Пинелли. Наверное, да, так как, с моей точки зрения, счастье человечества в познании мира и самих себя.
Угрюмов. Человечество стало другим. А стало ли оно счастливее, не знаю. Этот вопрос — вне науки.
Кротов. Издеваетесь, мистер Конрад?
Уайтстоун. Да. Благодаря Апельсину.
Сингх. Не просто счастливее! Человечество теперь купается в море счастья!
Комментарий.
Разноречивость ответов лишний раз подтверждает древнюю истину: никто не знает, что такое счастье. Я тоже не знаю этого и не берусь ответить на собственный вопрос. Но вместе с тем я убежден, что живу и работаю во имя счастья человечества.
5
А Брусилова у Крошки Ли не оказалось. Женька связался с ней по б-телексу, как только ушла Шейла, и Ли появилась на экране информотеки во всем великолепии. В своем служебном комбинезоне она полулежала в голубом кресле с длинной золотистой сигаретой в углу рта.
— Виктор ждет вас в «Изумрудной звезде». Это здесь, близко. От входа в «Полюс» сразу увидите.
— Ты рассказала ему? — вырвалось у Женьки.
— Да. Разумеется.
— А он?
— По-моему, даже не удивился. Вздрогнул только и тут же сказал, что никогда не верил в вашу гибель. Наврал, конечно. Все же знают, что он вас сразу похоронил. Да, а потом хотел заплакать. Но не сумел. Эти бессмертные, они разучились плакать. Мы с ним долго еще говорили. Он ведь не за вами сюда приехал. Вы знаете, да? Так что вы ему только карты путаете… Ой! А где Станский?
— Станский ушел с Шейлой, — сказал Женька. — Не хотел видеть Бруснику.
— Вот это да! — Крошка Ли поднялась, вышла из кадра и вернулась в кресло со стаканом зеленой жидкости. — Ну а вы как, ребята? Держитесь пока? Или зеленые совсем доконали?
— Шутки шутками, Ли, но что же теперь будет? — спросил Черный.
— А может быть, ничего не будет.
— Как это? — не понял он.
А Женька заметил:
— Еще одно оригинальное мнение.
— Не так уж оно и оригинально, — начала объяснять Ли, — у меня вчера…
— Погодите, Ли, — перебил Черный, — Вы-то кого представляете?
— Профсоюз гетер города Норда.
— Я серьезно спрашиваю.
— А я серьезно и отвечаю.
— Но это же не политическая партия. В политике-то Вы с кем? С Петрикссонами?
— Вовсе нет. Мы сами по себе. И потом, что значит, с Петрикссонами? Двое из них умерли естественной смертью. Четверо других — глубокие старики и политикой уже не занимаются. Кристина Петрикссон работает на Венере. Грета погибла в прошлом году в семнадцатой межзвездной. Мартин — предатель, переметнулся к черным. Альвар живет в Австралии, в партии состоит чисто номинально. Остается кто? Сванте? Его Кротов убрал — слишком бурную развил деятельность — причем, убрал чисто: воздушная катастрофа, несчастный случай. Шейла — единственная. Есть, конечно, еще третье поколение, но среди них, заметных фигур я не знаю. Род измельчал. А вы не знали этого?
— Откуда? — грустно сказал Черный. — Что можно узнать за один день, наивная Вы девочка!
«Девочка! — мелькнуло у Женьки. — Сто два года…» И вдруг словно бомба разорвалось у него в мозгу: почему он не подумал об этом раньше? Почему? Ведь она скоро умрет, очень скоро… Это невозможно! Сейчас, когда он только нашел ее… Сколько же ей осталось? Сколько?!
А Черный меж тем спокойно продолжал:
— Так почему Вы считаете, что ничего страшного не будет?
— Я не сказала, не будет. Я сказала, может не быть. Дело в том… Впрочем, вы все равно не поймете. Вы же…
— Послушай, Ли, — перебил ее Женька, от волнения он говорил свистящим шепотом, — послушай, Ли… — он потерянно замолчал и, так и не решившись на главный вопрос, неожиданно для самого себя сказал совсем другое: — Что у тебя за манера? Ты нас за идиотов держишь?
— Да не за идиотов. Просто… понимаете… У меня вчера был один клиент из Африканского ВИСа…
Слово «клиент», да еще рядом со словом «вчера» больно укололо Женьку, несмотря на весь трагизм ситуации, и дальнейшее просто скользнуло мимо его ушей.
— …Говорил, что они очень близки к успеху.
— Ну и что? — спросил Черный.
— Я же говорила, не поймете.
— Ладно, Рюша, — сказал Женька, — пошли к Бруснике.
— Верно, — поддержала Ли, — при встрече поговорим.
— Ты тоже там будешь? — оживился Женька.
— Я уже там.
— Не зови Брусилова! — почти закричал Черный. — Не хочу по телевизору.
— Брусилов внизу, — успокоила Ли. — Мы ждем вас, — и отключилась.
— Эй, Евтушенский! — окликнул Черный сидящего словно в трансе Женьку. — Не расслабляйся. Нас осталось только двое.
— Так пошли, — сказал Женька.
— А как же Кротов? — напомнил ему Рюша.
— А ну его к черту! Успеешь еще повидаться.
Но Женька ошибался. Они не успели повидать Кротова.
Коридоров стало как-то больше. Двери, светящиеся таблички с условными знаками, никаких надписей и ни души нигде.
— Заблудились, — констатировал Женька.
Где-то совсем близко началась стрельба. Других ориентиров не было, и они пошли на выстрелы.
— А вдруг Эдик попал в передрягу, — с тревогой, но и с оттенком зависти сказал Черный. Ему уже надоело быть нейтральным и пассивным наблюдателем в этом мире.
Женька молчал, и Черный ответил сам себе:
— Впрочем, это его трудности. Он же у нас теперь зеленый.
— Ты ничего не понял, — возразил Женька. — Он просто влюбился в эту Шейлу.
— Да? — хмыкнул Черный. — Это ты со своей Крошкой стал сексуально озабоченным. Ни о чем другом думать не можешь. А мы, между прочим, даже не выяснили, как у них тут дела с гибернацией.
— Мы много чего еще не выяснили. Например, почему они все так хорошо говорят по-русски.
— Это я как раз знаю. В «Катехизисе» прочел.
— Что, — предположил Женька, — потому что русский — язык Брусилова?
— Это само собой. Но они тут не только русский, они по-всякому знают, потому что учить стало легко: вводишь себе кровь человека, владеющего нужным языком, пару ночей слушаешь курс грамматики, потом — разговорная практика и через неделю — все, в совершенстве… О, черт!
В коридоре погас свет, и они оба инстинктивно прижались к стене. Выстрелы гремели уже совсем близко. Кто-то пробежал мимо, вскрикнул и упал. Снова зажегся свет, но теперь зеленоватый и тусклый. Поперек прохода лежал человек в кротовской форме. Должно быть, черный смертник.
— Армагеддон, — вспомнил Женька.
— А оружие в номере забыли, — сказал Рюша.
— И номер неизвестно где, — добавил Женька.
— Поищи у этого, — Рюша кивнул на труп.
И тут в дальнем конце коридора загудело. Звук был низкий, утробный, зловещий. Не сговариваясь, они перепрыгнули через тело смертника и бросились бежать. Поворот, еще поворот, лестница, широкий коридор, устланный ковром, и вот уже кто-то бежит перед ними, кто-то сзади, а кто-то навстречу.
— Женька, стой! — опомнился Черный, когда они оказались посреди зала перед самым входом в ресторан.
А в ресторане было жарко. Клубами валил дым, раздавались крики, визги, выстрелы, круглая стеклянная дверь бешено вращалась вокруг оси, а потом что-то ударило в нее изнутри, и стекло разлетелось дождем мелких осколков.
— К лифту! Быстро! — скомандовал Черный, словно перед ним был не один Женька, а вся их группа.
В кабину лифта с ними вместе втиснулось человек пятнадцать: молодых людей во фраках, полуголых девиц и солдат в голубой форме роты контроля. Солдаты никого не конвоировали, солдаты сами удирали.
Внизу было потише. Бестолково суетилась пестрая публика. Перед дисплеями строился взвод голубых мундиров. А у каждого лифта, широко расставив ноги и свирепо выпятив нижнюю челюсть, стояли вооруженные грин-блэки. Такие же орлы дежурили возле выхода. К счастью, они только не впускали никого, а выпускали всех.
На улице стало совсем спокойно.
— Не знаю, как там Эдик, — сказал Женька, — а мы, кажется, уцелели.
— Сплюнь, — посоветовал Черный.
И тут Женька сообщил:
— Вижу «Звезду».
Над входом в отель сверкал огромный яркий кристалл, и теперь уже естественно было предположить, что это настоящий изумруд, хотя о том, как он выращен, оставалось только гадать. Изобилие изобилием, но ведь даже из миллиона маленьких изумрудиков один большой не так-то просто сделать.
Они пересекли площадь и открыли массивную малахитовую дверь. Их ждали. Двое бессмертных — Виктор и Ленка — сошли вниз по изумрудным ступенькам и остановились в центре холла под самой люстрой. Они были в кроссовках, джинсах и майках. И у Витьки не было бороды, совсем как на первых курсах.
— Ну, здравствуйте, — сказал Брусилов.
— Привет, — так же просто кивнула им Ленка.
А они не сразу сумели ответить. У Женьки в горле стоял ком. И только когда мастер спорта Андрей Чернов, суровый полярный командир, прикусив нижнюю губу, тыльной стороной ладони смахнул с заросшей щеки слезу, Женька не выдержал:
— Брусника… Витька… Брусника… Что же ты так поздно приехал? Любомира убили…
И заплакал, не в силах больше говорить.
— И это все, что вы хотите сказать нам, ребята? — спросил Черный, когда первые охи, ахи, объятия, поцелуи, глупые вопросы и неизбежные «А помнишь?» закончились и Ленка еще раз поразилась женским чарам Шейлы Петрикссон, так ловко охмурившей Эдика, а Виктор еще раз поведал о том, как он рад встрече со старыми друзьями.
— Понимаю, Андрюха, — сказал Брусилов, — вы ждете подробного рассказа, вы ждете разъяснений по всем вопросам. Я обещаю. Но только не сейчас. Мы с Ленкой должны бежать. Надо остановить этого идиота. И как вы тут можете помочь — не знаю. Пока просьба одна: старайтесь все понять, но ни во что не вмешивайтесь… Молчи, Черный! Понимаю, что трудно. И про Цанева все понимаю. Но постарайтесь, прошу, постарайтесь не вмешиваться! Здесь, в отеле, вы в безопасности — он охраняется моими людьми. Не подумайте только, что я арестовал вас. При желании можете идти куда угодно. Можете даже отказаться от охраны. Но не советую: в городе неспокойно. А здесь у вас будет, чем заняться. Во-первых, вот книжка — вторая часть моей «Биографии катаклизма». Ее стоит прочесть.
Брусилов достал пластиночку размером с половину спичечного коробка, размножил ее в двух экземплярах, а потом, видимо, дал мысленный приказ, и пластиночки начали расти, пока не стали величиной с тетрадку.
— Это — сиброкнига, — пояснил Брусилов. — Вот — включение. Это — перелистывание вперед, это — назад. Понятно? Будут важные вопросы — связывайтесь по б-телексу. Вот мой номер. И последнее. Чтобы вы не скучали, когда читать надоест, с вами остается Крошка Ли и Конфетка Юха. Они наверху. А мы отчаливаем. До скорого!
Все это Брусилов сообщил привычным тоном руководителя, и они с Ленкой сразу ушли, так что растерявшийся Черный даже не успел ответить, что больше всего на свете он ненавидит сидеть в безопасности.
— Пошли наверх? — предложил Женька.
В отеле было совершенно пусто. Жутковато даже. Охранник встретился лишь один. В оранжевом комбинезоне, мускулистый, как штангист полусреднего веса, он стоял в конце коридора на этаже.
Подруги ждали их в роскошном номере, развалясь в креслах. На одном сервировочном столике красовались разноцветные вычурные бутылки, высокие хрустальные бокалы и маленькие рюмочки. На другом — сверкал начищенным никелем огромный кофейник, толпились вокруг него миниатюрные чашечки, манило глубокое блюдо, полное изысканных бутербродов и пирожных.
— А, черт! С Витькой не выпили, — сокрушенно вспомнил Черный.
— А он не пьет, — поведала Юха.
— Как это? — не понял Женька. — Как Шейла Петрикссон, что ли?
— Причем здесь Шейла Петрикссон? — Юха словно обиделась даже. — Вы что, не знаете, что на большой земле давно уже никто не пьет. Так, для вкуса только. А пьяным быть просто неприлично. Пьяных называют «цветными», потому что пьют либо зеленые, либо оранжевые. Брусиловы не пьют совсем, ни грамма. В целях пропаганды. А вообще-то, вы же знаете, на них не действует.
— Кошмар, — сказал Женька.
А Черный произнес мрачно:
— Ерунда. С нами бы Витька выпил.
Часть четвертая СКОЛЬКО СТОИТ СПАСЕНИЕ МИРА Из неопубликованной части книги Брусилова «Биография катаклизма»
Старая как мир история, не правда ли? Изобретаешь огонь и даришь его людям, а потом орел всю жизнь клюет у тебя печень.
П. Леви «Патент Симпсона»ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы жили теперь на берегу моря, на роскошной вилле близ Гантиади с названием в честь Апельсина — Оранжевая. У нас был свой кусочек побережья, свой сад, две яхты — небольшие, но быстроходные, два вертолета, три автомобиля, несколько видеотелефонов, соединенных прямым проводом с Москвой, Вашингтоном и некоторыми другими столицами, вычислительный центр, спортивный комплекс… Ну, что еще? Да все, что душе угодно. И только одного у нас не было — свободы. И будет ли когда — кто знал?
Забор с неизменной, постылой, ненавистной колючей проволокой, контрольно-пропускной пункт, патрульные катера в море, патрульные вертолеты в небе — все это тяготило. Но и к этому можно привыкнуть, как выяснилось. Тем более, когда знаешь — иначе нельзя. А мы уже успели ощутить на собственной шкуре, что такое толпа, и догадывались, что желающих убить нас немало найдется даже среди тех, кто верил в наше бессмертие, а были и такие, кто совершенно искренне не верил в него, и такие, кто мечтал проверить истину практикой и своими глазами увидеть, как наши тела отторгают вонзившиеся в них пули, а самые лихие экстремисты, считали, что против хорошей бомбы не устоит даже бессмертный. И их можно было понять. Конечно, далеко не все рвались к нам с кровожадными замыслами — для многих высшей мечтой было просто плюнуть мне в лицо, другие — и это было, пожалуй, еще противней — жаждали упасть передо мною ниц и целовать мне ноги. И наконец, было бесчисленное множество желающих просто поглазеть и потрогать, поговорить и выпить на брудершафт, посоветовать и потребовать, поплакаться и потрахаться, попросить и поучить, повосхищаться и поворчать — словом, пообщаться со мною, с Альтером, с Ленкой, с Аленой, даже со Светкой.
Светку, чья скандальная известность переходила всякие разумные границы, тоже прятали на нашей вилле, а заодно и Самвела Тамразяна, с которым она познакомилась на вокзале, совершая свой «исторический» побег из Москвы. Знакомство получилось тогда обыкновенным: случайным, торопливым, даже грубоватым — Светка попросту наклеила Самвела, но он стал не только сообщником, помогшим скрыться, но и настоящим другом.
Самвел, тремя годами старше нас, учился в Москве в историко-архивном, а в день знакомства со Светкой был проездом из Прибалтики к себе домой в Санаин. Там он жил с матерью, а в Кировакане был у него дядя-художник, уехавший на год в Италию и оставивший племяннику ключи от мастерской. Частично, а именно в части задач практических, Светка открылась ему еще в поезде, и Самвел сразу, без колебаний, отвез ее в Кировакан, куда и сам вернулся очень скоро. Разумеется, в постель они легли раньше, чем Светка смогла окончательно убедиться в его надежности, но сразу после — терять было уже нечего — рассказала все. Самвел был в восторге. Он оказался мечтателем по натуре и нашу программу действий принял безоговорочно и сразу. Кроме того, у Самвела были свои, особые счеты с существующим миром. И была у него страсть — литература. Он писал. Рассказы выходили разные-то более, то менее удачные, но лучшими представлялись те, что об армии. И как раз их всюду наотрез отказывались брать, хотя вообще-то кое-что у Самвела в печать прошло.
После школы он имел возможность сразу поступить в институт, но, точно следуя принципу любимого им Экзюпери «прежде, чем писать, нужно жить», работал сначала на заводе, а потом пошел в армию. И армия его ужаснула, армия ошарашила, армия сделала его другим. Там было тяжело и отвратительно. Но он никогда не жалел, что выбрал именно такой путь. Кто-то ломался на всю жизнь, кто-то становился подонком, кто-то учился быть равнодушным, а у него именно там, в учебном батальоне химвойск, родился первый настоящий цикл рассказов.
«Письмо домой». Лейтенант, командир взвода, на общих занятиях читает вслух вскрытое письмо новобранца, в котором тот жалуется на притеснения и издевки, а весь взвод смеется, хотя каждый отлично понимает, что не сегодня, так завтра окажется сам на месте осмеянного.
«Пряжка». У одного из первогодков пропадает пряжка от ремня. Он ворует ее у товарища, тот у другого, другой у третьего, и так до тех пор, пока единственный, оказавшийся честным, не получает наказание. А в итоге оказывается, что пряжку специально украл сержант, решивший проверить, кто есть кто, и просто позабавиться.
«Цепная реакция». Очень коротенький рассказ. Описывается психология «деда», который с наслаждением бьет «салагу», вспоминая, как били его, а «салага» терпит и мечтает о времени, когда сам станет «дедушкой», и уж тогда отыграется… на молодых.
Но, наверное, самым сильным был рассказ «Поскорей бы война», где солдатик, всю ночь по приказу сержанта чистивший иголкой унитаз и оставленный в покое за полчаса до подъема, лежит, жутко хочет спать, но заснуть уже не может и думает: «Ротный замполит говорил, помнится, что война может начаться в любой день. Так уж поскорей бы она начиналась. Тогда, как только мы пойдем в атаку, я убью нашего сержанта. Из автомата. Забежав вперед. И никто ничего не заметит… Поскорей бы война…»
Рассказы так и не были напечатали. В те годы, когда можно стало говорить обо всем, Самвел сам отказался от их публикации. «Слишком мелко, — сказал он, — теперь слишком мелко». А после его смерти я так и не сумел разыскать столь любимые мною рукописи. Но в чем-то Тамразян, безусловно, был прав. Литература, как и весь мир, шагнула в новую эру, мгновенно устарело все, казавшееся актуальным, и даже многое из того, что считалось вечным. Проблемы злободневные и проблемы ближайшего будущего в один день стали историей. Разумеется, исторические вещи тоже требовались, но сколько их написано, а никто не сказал лучше и короче Воннегута: «История — читай и плачь». Самвел не хотел плакать, Самвел хотел создавать новую литературу. И мы еще торчали в Пансионате, а он там, в Кировакане, уже начал свою первую большую вещь, сделавшую его знаменитым — «Рваный роман». Остальным семи его книгам тоже сопутствовал успех. Даже тем, в которых он, пойдя на поводу у моды, писал целые главы на кавказской мультилингве. В мире, где каждый человек стал способен выучить все языки, стало не принято писать на «монолингве», то есть на каком-то одном наречии. Мультилингва вошла в литературу вместе с именем Осипа Кальтенберга, написавшего свой знаменитый роман «Люди» на девяносто шести языках. И это была настоящая симфония слов и звуков. Но не все так виртуозно владели новой манерой, и мультилингва, пройдя все стадии от чередования глав и абзацев на родственных или нарочито далеких языках до создания неологизмов, неограмматик и даже новых букв, как водится, вышла из моды. Остались лишь лучшие книги и лучшие имена, и имя Самвела — среди них.
Светка, прошедшая с ним всю жизнь, всегда повторяла, что Вел, так она звала его, предвидел свой триумф с того самого дня, как узнал о сибрах. Он сказал ей тогда: «Вот и настал мой звездный час». И я не сомневаюсь, что честолюбивые планы оказали не последнее влияние на политические симпатии Самвела, но все-таки главной причиной, повернувшей его на путь сотрудничества с нами, была его ненависть к войне, к армии, к идиотизму муштры, к массовому оболваниванию, к страшной науке убивать. Ведь сибр всему этому должен был положить конец.
Я так много пишу о Тамразяне, потому что он стал нашим другом в те дни, когда, оказавшись вшестером в Гантиади, в тихом, защищенном от всех бурь уголке сорвавшегося с цепи и готового разлететься вдребезги мира, чувствуя себя то счастливыми избранниками судьбы, а то мучениками, мы были связаны узами совершенно особенного братства и даже как бы забывали, что Светка и Вел находятся совсем не в равных условиях с нашей бессмертной четверкой. И лишь об одном я не мог забыть — о собственном абсолютно исключительном положении.
Я был создателем сибра. Я был хозяином сибра. Я был страшнейшим оружием, по мнению многих. А по мнению некоторых, я был нечеловеком. Но главное — и это не вызывало сомнений — я нес ответственность за всю цивилизацию. Поначалу казалось, что мой единственный крест — искушение вновь применить проклятый ЧКС, человеко-копирующий сибр. Если бы! Очень скоро я понял, что на мне теперь лежит почти все. А то, что не лежит — пока не лежит — будут пытаться сложить, спихнуть, повесить на меня, именно на меня, всегда на меня, только на меня.
И первое же, что почти сразу на меня попробовали свалить, была верховная единоличная и абсолютная власть над миром. Но я отказался. Решительно и публично. Не по мне это было — ежечасно, ежеминутно, ежесекундно держать в руках судьбы миллионов и повелевать ими. Свой долг перед человечеством я видел в другом. И мне пошли навстречу — я стал генеральным консультантом Чрезвычайного комитета по урегулированию, позднее — автоматически — консультантом Всемирного Координационного Совета, а еще позднее — членом этого Совета. То есть я все-таки согласился на реальную власть. Но к тому времени и власть стала другой, и я уже был не тем горячим юнцом, который мечтал о внезапном и окончательном счастье для всех. К тому времени я просто уже знал, что властью наделен свыше, и не в моих силах спрятаться от нее за ролью консультанта или за какой угодно другой ролью. Наверно, я понял это по-настоящему, когда однажды в частном разговоре с одним из президентов высказал недовольство работой шефа службы безопасности Александра Моргана. На следующий же день Морган был выведен из Совета. Я тут же опротестовал решение специальной комиссии. Но было поздно. Морган покончил с собой. Я не знаю, что именно думал он про меня и мои чудовищные возможности, но именно тогда я понял, что они слушаются меня не только из уважения.
Они боялись меня.
Они боялись меня больше всего на свете, и здесь, в Оранжевой, они не только и не столько охраняли меня от мира, сколько они мир охраняли от меня. Будучи консультантом, судьей, диктатором и Богом, я оставался еще и подопытным кроликом, но кроликом опасным, кроликом хищным, кроликом апокалиптическим. конечно, Оранжевая — не Пансионат, но Угрюмов бывал у нас чаще, чем у себя дома, в Киеве; Якунин, наш дорогой Папа Монзано, гостил то и дело; а целые толпы экспертов наезжали и паслись на вилле с удручающей регулярностью.
После самоубийства Моргана, повергшего всю нашу шестерку в уныние и тоску (хотя никто из нас его не любил, и, по совести говоря, туда ему и дорога), я стал значительно осторожнее, стал взвешивать каждый свой поступок, каждое слово, каждый взгляд. Но куда там! Ведь достаточно было порой одного движения пальцем, одного дуновения мысли, чтобы убить сотни, тысячи, миллионы людей. И я убивал. Убивал. Убивал, сам того не желая. Убивал. Во всяком случае мне казалось, что это убивал я. А как же считать иначе, если ставишь свою подпись под проектом, директивой, законами, а потом на основании этих документов кто-то гибнет в непродуманном эксперименте, кто-то кончает жизнь самоубийством, а кого-то ставят к стенке? Как еще можно расценивать свою роль в таком деле?
Но это еще не были муки совести. Это было пока просто чувство ответственности. Тем более, что к самому главному кошмару переходной эпохи — к «Закону о монополии государственных и межгосударственных органов на сибры и сибр-технологию» — я не считал себя причастным. В Советском Союзе он был принят (не в самой строгой форме) еще в период нашего прибывания в Пансионате — нас тогда ни о чем не спрашивали, — а вот когда обсуждалось принятие Закона в международном масштабе и с поголовной смертной казнью, я высказался категорически против. Но именно тогда — наверно, это был единственный случай — Комитет не послушал меня: страх перед начинающимся хаосом, панический, неуправляемый, как страх лесного зверья перед пожаром, оказался у них сильнее, чем изначальный страх передо мной. А потом — ценою миллионов жизней — все утряслось, Закон отменили, и иногда я начинаю сомневаться, а так ли уж не правы были те, кто его ввел. Что, если без него жертв было бы еще больше? Кто может это знать? И чем руководствовались они, вводя Закон: привычкой убивать побольше и побыстрее, чтобы не было проблем после, или же все-таки мудрым арифметическим расчетом? И годится ли в таких случаях арифметика? Вот о чем я думаю иногда. Но это теперь.
А в ту пору, в ту первую зиму, когда мир уже стал сеймерным (этот английский термин, придуманный Конрадом, прижился очень широко), но еще не осознал этого толком, — в ту пору главным моим делом было сиброконструирование. И дело это казалось мне безобидным, в высшей степени благородным, почетным, а ко всему еще и страшно интересным. Таким оно и было. До определенного момента.
Еженедельно на мой адрес присылали длинные перечни необходимых изменений, которыми специалисты из самых разных областей знания предлагали усовершенствовать сибр. Списки эти утверждались на очень высоком уровне, очень компетентными и очень ответственными людьми, так что отклонять какие-либо предложения приходилось мне крайне редко. Отчетливо припоминаю только три случая. В одном из них в сильно завуалированной форме мне пытались впихнуть идею ЧКС (разумеется, я так и не смог найти автора этой выходки). В другом случае идея плоского сибра для тиражирования печатной продукции попросту дублировала идею плоского же сибра для производства листового металла, но запросы шли по слишком разным ведомствам, и контролирующие органы элементарно проворонили совпадение. И наконец, в третьем случае, видимо, просто в порядке эксперимента мне было предложено внести в сибр изменение чисто эстетического характера. Я был взбешен наглостью заказчика — ему бы мои боли. Ну а толковых, полезных запросов поступало много: и таких, которые были очевидны с самого начала (утилизаторы всех видов, кондиционеры, водоснабжающие сибры, обогреватели, термосы, холодильники, встроенная автоматика для всего этого), и таких, которые радовали свежестью идеи (сибр-насос двух видов: с собственным вакуумом — откачная магистраль монтируется к воронке питания, и с заимствованным, «гештальтным» вакуумом — откачка через гивер; экологическая сибр-приставка к двигателю внутреннего сгорания, превращающая выхлопные газы в топливо, а недостаток погашающая за счет воздуха; наконец, знаменитый пресс-генератор, практически вытеснивший из обихода другие двигатели). Но настоящее восхищение вызвала у меня идея молодого и никому не известного тогда физика Пинелли — идея линий связи, показавшаяся вначале просто бредовой. Но Апельсин справился с ней, и был получен оранжевый кабель неограниченной длины, по которому гештальт передавался на любые расстояния. Только прочность кабеля оказалась небольшой, и до межпланетного гештальт-сообщения дело так и не дошло.
Совершенно особняком стояло требование сделать «опасный» сибр. Зная, какой кругом бардак, я очень не хотел давать лишнюю возможность для травм и смертных случаев. Но требование возвращалось вновь и вновь, солидные, умные люди объясняли мне, что с тем же успехом можно запретить пользование ножами, спичками и электричеством. И они безусловно были правы. А набор блистательных идей, реализация которых была невозможна без «опасного» сибра, — ножи, буры, скальпели и прочее — довершил дело. Я сломался. Собственно, иначе и быть не могло. Отказ был бы не более чем глупым упрямством. Просто мне не хотелось в очередной раз брать на себя ответственность. Я уже устал от ответственности. Но на кого, на кого, черт возьми, я мог ее переложить?!
А потом была зеротация по-китайски, и еще — всякие идиоты, потерявшие спьяну руки, ноги и даже головы, и еще — убийства с помощью сибра… Но почему я должен отвечать за все это? Почему? А не в ответе ли я за человека, которого стукнули сибром по голове или угробили кирпичом, сделанным в сибре? Может быть, я и за это должен отвечать?
Я не знаю, кому задаю сейчас эти вопросы. Я вообще не знаю, для кого пишу эту книгу. Публиковать ее я не собираюсь. И мои рассуждения скорее всего нужны только мне. Или еще Ленке, Альтеру и Алене. Может быть, Угрюмому и Конраду. Не знаю. Но мне хочется рассуждать. Хочется задавать вопросы. Именно теперь. А тогда, в ту зиму, когда чувство ответственности еще не переросло в муки совести, главной моей расплатой была боль, и, когда она, эта боль, подступала, все остальное просто переставало существовать.
БОЛИ
Боль. Короткое неэффектное слово. Будто и не слово вовсе, а так, просто всхлип, сдавленный стон: боль… А сколько кроется за ним ужаса! Смогу ли объяснить?
Боль не всегда накатывалась с одинаковой силой, но это не зависело от сложности задач. Она только явно свирепела день ото дня. Первые приступы казались просто щекоткой в сравнении с более поздними, в Пансионате, а те в свою очередь в подметки не годились начавшимся в Гантиади. Это не могло продолжаться бесконечно, и на каком-то этапе я стал просто терять сознание, для окружающих — просто, а сам я продолжал воспринимать нечто, словно бы проваливался в иной, абсолютно чуждый, не переводимый никак на язык понятных образов мир. И это было еще страшнее, чем чисто физическая пытка. Угрюмый всполошился. Еще в Пансионате он вместе с целым консилиумом врачей пришел к выводу: в целях сохранения здоровья мне следует вступать в контакт с сибром не более двух раз в сутки. Речь шла, понятно, не о физическом, а о психологическом моем состоянии. Вот почему, как только начались провалы в «нирвану по-брусиловски» — так в шутку называл их Альтер, — Угрюмый совершенно всерьез высказал мысль о том, что я могу оказаться потерянным для человечества навсегда. Хао Цзы-вэн трактовал это так: мой разум будет целиком задействован сверхцивилизацией, станет частью из зонда — Апельсина, а людям останется только мой «бессмертный труп». Я-то знал, что все это чушь несусветная, но никто не желал меня слушать: мальчишка, профан, а теперь еще и агент сверхцивилизации. Угрюмый запретил мне работать. Не могу сказать, чтобы я очень расстроился: получились отличные каникулы. Потом мы начали все снова. И боль вернулась: за каникулы я разучился впадать в «нирвану». А как только опять ощущалось привыкание, Угрюмый объявлял новый перерыв. Так мы и работали — циклами. Но, конечно, это был не выход. Любопытство, если не его, то мое, рано или поздно должно было взять верх. А ведь я хотел навсегда расстаться с болью. И, может быть, еще больше я хотел узнать, что тогда произойдет. И осуществление этого желания полностью зависело от меня. От моей честности. К тому же я свято верил в добрую волю Апельсина. Так что просто не мог не нарушить установки Угрюмова. И все-таки не нарушал. И все-таки ждал чего-то, вновь и вновь перенося нечеловеческие боли. Это может показаться неправдоподобным, но это было. И довольно долго — больше года.
И все это время то ли из солидарности, то ли просто чтобы заглушить тоску и страх — и того и другого было в достатке, — Алена с Альтером планомерно занимались самоистязанием. Это был мазохизм, возведенный в культ, мазохизм, ставший главным делом жизни и горячо одобренный, кстати, Угрюмовым. «Ты работаешь, — говорил мне Альтер, — и мы работаем. Оставь за нами такое право. У тебя боли — и у нас будут боли». «Но это же идиотизм!» — кричал я. «Нет, — возражал Альтер, — спроси Угрюмого. Наука должна понять пределы наших возможностей». Плевать он хотел на науку. Я это знал. Потому что и сам в то время не только ради науки мучался. Они истязали друг друга и каждый себя, находя в этом патологическое удовольствие, единственное настоящее плотское удовольствие, оставленное нам, монстрам, и потому особенно сладкое. Еда и сон, перестав быть необходимостью, не радовали больше, хотя вкусовые ощущения сохранились у нас во всем объеме, да и приятная сонливость, этакая имитация усталости, не отличаемая от естественной, вызывалась в организме легко, если было нужно. Да только не нужно было. Обманывать самого себя? Противно. Неожиданно пресными сделались для нас и радости секса. Впрочем, здесь Альтер открыл массу новых возможностей, но и они, как правило, были связаны с болью. Боль для радости, боль для отдыха, боль для забытья… Боль заменила нам даже водку. А водка… Что она? Не действовал уже и чистый спирт. Хотя опять же при желании ничего не стоило поддаться опьянению. Мы были способны, как каттнеровский папаша Хогбен, одним усилием воли превращать в своем организме сахар в алкоголь, и даже еще проще — сразу вызывать состояние эйфории в мозгу. Могли. Но не делали этого. Мне — было просто не до того. Я становился общественным деятелем галактического масштаба — какое уж там, к черту, пьянство! Альтер же с Аленой стали наркоманами от мазохизма, и опьянение казалось им теперь не более, чем детской забавой.
Начинали с обычной наркомании: морфий, героин, кокаин, амфетамин… Потом перепробовали все известные науке галлюциногены. Эффект был порою сильным, но мимолетным и всегда однократным: освоив препарат, организм переставал на него реагировать. Следующим этапом стали отравляющие вещества. Алена особенно увлеклась лакриматорами, она их называла «слезы счастья». Альтер чисто по-мужски предпочитал стерниты. «Мой нюхательный табак», — шутил он. Общеядовитые и кожно-нарывные пользовались общим успехом, но особый восторг вызывали, конечно, нервно-паралитические. Это был крепкий орешек — приходилось начинать с малых доз. А удостоверившись полностью в своей химической стойкости, ребята перешли к испытаниям температурным, электрическим, магнитным, радиационным и наконец — к опытам по регенерации не только тканей, но и отдельных частей тела. Альтер хотел сначала уничтожить палец в воронке питания, потому что растворить его в кислоте или сжечь не удавалось, но в последний момент струхнул — жалко все-таки палец, мало ли что — и отрубил его топором. А ля отец Сергий. Результаты превзошли все ожидания. Отрубленный палец прирастать обратно не захотел, зато в течение нескольких часов вырос новый, поначалу как будто уродливый, кургузый, но под конец ставший совершенно нормальным. После такого успеха самое время отхватить руку или ногу, но тут-то и подоспел Угрюмый с предложением сделать надрез, дабы проверить вполне ли восстановился утраченный кусок плоти. И когда Альтер привычным жестом полоснул по коже, академик наш побелел, как полотно: под разошедшейся тканью не было крови и мышц. Там был один сплошной оранжит.
Это случилось немногим позже моих «впадений в нирвану», Угрюмый еще не успел прочухаться от первого потрясения, и второе застигло его врасплох. Все опыты были приостановлены, самовольные мазохистские развлечения запрещены. Вплоть до окончательного выяснения всех обстоятельств. Глупо звучала такая формулировка. О каком окончательном выяснении могла идти речь? И о каком запрещении? Кто и что мог нам запретить? Под страхом чего? Так что запрет Угрюмова соблюдался не более, чем любой врачебный запрет. На новые, оригинальные эксперименты не решались — сами сдрейфили после истории с пальцем, но старые, проверенные методы истязаний были по-прежнему в ходу, и Оранжевая вилла, особенно по ночам, все так же оглашалась истошными криками и стонами, на которые сбегались с окрестных гор шакалы и выли, не замолкая, до рассвета, тоскливо и жутко.
Я не написал ни слова о Ленке. Она не расплачивалась сверхмигренями за новые конструкции сибров и почти не принимала участия в диких играх наших двойников. Но настал день, настал час, и она тоже получила свою особую, персональную порцию боли.
С самого того дня в Пансионате, когда Угрюмый сообщил нам о стерильности, а потом как бы в утешение обмолвился, что это не окончательный приговор, Ленка, именно Ленка (Алена ушла от этих проблем) была одержима мечтой о ребенке. Сначала она потребовала всестороннего анализа своих возможностей в этом плане. Анализ был проведен, после чего Угрюмов туманно намекнул, мол есть пути, да малоизучены (пока!) и никто за лечение не возмется. Тогда Ленка сама отыскала ведущего специалиста по бесплодию, сама связалась с ним, и этот немец Вальтер Траубе, разумеется, очень скоро получил постоянную прописку на нашей вилле. Не могу сказать, чтобы соседство этого самовлюбленного гинеколога, за свою клиническую практику подарившего радость материнства не одному десятку женщин, слишком радовало меня. В возможность Ленкиной беременности я не верил, хотя и заразился уже какой-то безумной надеждой. А постоянные осмотры, процедуры, испытания новых средств, бесконечные разговоры, — а Ленка ни о чем другом говорить уже не могла — раздражали с каждым днем все больше. Но я сдерживался, я заставлял себя относиться серьезно и к этому бзику: что поделать, каждый из нас сходил с ума по-своему. Наверно, где-то в глубине души я и сам мечтал быть отцом, но в той, прежней жизни это желание просто не успело оформиться, а в новой я рассуждал так: нельзя — и не надо, хватает проблем и без того.
Не реже раза в неделю Вальтер излагал мне последние свои достижения. В его монологах была чертова прорва специальных терминов, я слушал вполуха, не пытаясь понять, и это стало уже какой-то традицией. И вдруг однажды утром Вальтер сказал:
— Лена беременна.
Смысл его слов доходил до меня с трудом, и я ответил очень глупо:
— Не может быть.
— Помните, — начал объяснять Траубе, — месяц назад мы получили из Калькутты новую сыворотку. Я еще вводил ее вам после вашего возвращения из Нью-Йорка. Так вот…
И тут, как всегда, посыпалось медико-фармакологическая абракадабра. Я понял только одно: яйцеклетку удалось оплодотворить, но никто не знает, что будет дальше.
Несколько дней Ленка ходила счастливая. Мы даже позволили себе обычный в таких случаях разговор, кто кого больше хочет — девочку или мальчика, а я порассуждал о том, какими фантастическими способностями будет обладать наш маленький. А потом начались кровотечения. И боли. И Ленка лежала в специальной комнате, оборудованной по последнему слову гинекологической техники, и никого, кроме врачей, туда не пускали. Даже меня. И это было черт знает что. Властелин мира, вершитель судеб, посредник сверхцивилизации, почти Бог, я был жалок и бессилен, я был ничтожен и бесправен перед белым ужасом двери в ее палату, откуда всякий раз после долгого, мучительно долгого осмотра появлялся Угрюмый или Траубе, или просто кто-то из сестер, и звучала одна и та же, раздирающая душу фраза:
— Надежда еще есть.
А однажды Угрюмый спросил:
— Виктор, ты можешь выслушать меня спокойно? Я должен сообщить тебе одну очень важную вещь. Есть мнение, что даже в том случае, если нам удастся спасти плод, это будет не человек.
Я нервно сглотнул, пытаясь переварить эту информацию, и машинально, по какой-то замшелой привычке попросил сигарету.
— С хлорпикрином? — поинтересовался Угрюмый, и его шутка вернула мне самообладание.
— Он разовьется в Апельсин? — предложил я.
— Да, что-то вроде, но будет и нечто принципиально новое.
И я успел заметить, как искорка восторга пополам со страхом полыхнула в его неулыбчивых глазах.
А потом был день, когда из-за белой двери вышел Вальтер Траубе и, опустив глаза, прошептал:
— Все кончено.
— То есть? — я спрашивал не из любопытства, а от ошарашенности, но он, как обычно, счел своим долгом объяснить.
— Беременность прекратилась. Плод перестал развиваться. Меньше тысячи мышиных единиц. Мы сделали чистку.
И тут я понял, что он врет, что вовсе беременность не прекратилась, что мой ребенок рос не по дням, а по часам, но они боялись его и потому скрывали от меня истинное положение вещей, потому и не пускали меня к ней, а потом события полетели вскачь, и все эти эскулапы, а с ними заодно и весь комитет по урегулированию наложили в штаны со страху и от греха подальше сделали аборт, и лишили меня и мою Ленку, навсегда лишили последнего шанса…
Все это я выкричал Вальтеру, одновременно пытаясь придушить его, а Вальтер хрипел, отбивался и тряс какой-то бумагой, вынутой из кармана халата, и, наконец, я успокоился немного, выпустил его и дал сказать, а он ткнул мне этот желтый измятый листок и выдавил, держась за горло:
— Читайте, идиот!
И я прочел: «Патологогистологическое заключение. В соскобе пласты децидуальной ткани, гравидарный эндометрий, ворсин хориона в исследуемом материале не обнаружено».
Я прочел еще и еще раз. Разумеется, я все равно ничего не понял. Но почему-то мне вдруг стало ясно, абсолютно ясно: никто меня не обманывал. Все было именно так, как говорил Траубе.
А потом разрешили встретиться с Ленкой. И я с трудом узнал ее. Лицо заплаканное. На вопросы отвечает односложно. Ничего не хочет, прячет глаза. Я так и не решился спросить ее о боли. Ведь с одной стороны для нас, бессмертных, был абсолютно неприменим наркоз, а с другой стороны — обычную боль мы переносили легко и быстро. Но эта боль не была обычной. Я узнал потом, каково было моей Малышке, когда из нее по кускам выдирали отчаянно сопротивлявшийся, давший глубокие корни, но уже мертвый и переставший иметь что-либо общее с нормальной беременностью, апокалипсический плод любви двух апельсиновых монстров.
Метод активации стерильных половых клеток с помощью сыворотки Бхаватагана, испытанный на Ленке, был признан неперспективным. Других методов не нашли. И проблему решить не удалось.
А в памяти остались боли. Чудовищные боли, с которыми мы сжились, без которых уже не мыслили себя, от которых в пору было сойти с ума, но даже и это было не дано нам. Зря боялся Угрюмый. Нам было дано совсем другое. Однажды боли кончились. И начались страхи.
СТРАХИ
Самым первым страхом был страх возвращения боли. Потому что она исчезла не тогда, когда я в очередной раз провалился в «нирвану». Она исчезла просто так, ни с того ни с сего. Я провел очередной сеанс контакта, а боль не пришла. Не пришла и все. Ни боль, ни что бы то ни было другое. Тогда я рискнул повторить опыт. Эффект был прежним. Что это? Победа? Вряд ли. Значит, щедрый дар? А может быть, взятка? Так вторым моим страхом стал страх перед неизвестностью. Стоит ли говорить, что он тут же передался Угрюмому. Случившееся буквально повергло нас в ужас. Он сразу и справедливо отругал меня за два опыта подряд — ведь никто еще не знал, что означает отсутствие боли. А потом, когда мы узнали об этом, он стал ругаться пуще прежнего: оранжитовый регулятор в моем мозгу заметно увеличился в размерах.
— Вот что, — сказал Угрюмый, — от сиброконструирования придется отказаться. Совсем. Мы не хотим потерять тебя.
— А меня вы спросили, чего я хочу и чего не хочу? Спросили?!
— Нет. И не будем спрашивать. Пока ты еще человек, мы хотим, чтобы ты уступал нам. Конечно, у тебя всегда есть право все сделать по-своему. Мы не в силах остановить тебя. Поэтому помни — пока ты еще способен помнить, — мы ничего не требуем, не можем требовать. Мы только просим. И сейчас я прошу тебя прекратить сиброконструирование.
Вот такой разговор случился у нас с Угрюмовым. А потом пришла очень важная заявка, связанная с сибросвязью, и мне было позволено поиграть еще разок (напоследок), тем более, что Угрюмый хотел убедиться, прав ли он в своем предположении. Он оказался прав. Регулятор в голове рос, поглощая серое вещество. А после, когда весь мозг превратится в оранжит, что станет поглощать он тогда? Нервы? Кровь? Кости?
— Он поглотит тебя целиком! — кричал Угрюмый. — Ты просто-напросто станешь Апельсином.
— Чушь собачья! — кричал в ответ я. — Ну, вместо мозга — оранжит, — это еще понятно — обыкновенная модернизация. А кости из оранжита, мышцы из оранжита — это зачем?
— Я не знаю, зачем. Быть может, этого никто и никогда не узнает. Но ты вспомни палец Альтера.
Кстати, палец Альтера к этому времени стал совершенно обыкновенным.
— Ну, ладно, — говорил я, — превращаюсь я в Апельсин. Но почему же я не чувствую ничего? Я даже думаю одинаково, что серым веществом, что оранжевым. Почему?
— Когда ты что-нибудь почувствуешь, будет уже поздно. Апельсин врастает в тебя постепенно, а человеком ты перестанешь быть внезапно.
Я не верил, ни на минуту не верил, что когда-нибудь перестану быть человеком, но мне стало страшно. Да, субъективно я ощущал себя таким же, каким был всегда. Но ведь не мог же я не понимать, что как ни посмотри на происшедшее, а в каком-то смысле я уже и причем с самого того Великого дня был нечеловеком. Думаете, легко понимать такое? Понимать такое было страшно.
А еще мне снились кошмары, вызывавшие страх тягучий, липкий, обволакивающий, не дающий возможности проснуться. И я не мог не только объяснить, но даже пересказать кому-нибудь эти сны. Они состояли из одних абстрактных, решительно ни с чем не связанных образов. И напрасно Угрюмый утешал меня, говоря, что нет в этом ничего особенного и называл но-научному психические заболевания, при которых подобные сновидения бывают, — напрасно. Я все равно то и дело начинал думать, что это хозяева Апельсина добрались до моей грешной души своими неземными щупальцами.
И совершенно особый страх представляли для меня мои телепатические способности, моя дистанционная связь с сибрами. Я не понимал, как делаю это, словно кто-то другой отдавал за меня приказы. Вернее даже не кто-то, а что-то, некая идеально послушная, но абсолютно непостижимая машина. Я мог одновременно держать под контролем сколь угодно большое число сибров на неограниченной территории, подобно тому, как человеческий мозг подсознательно контролирует работу всех органов и систем. Причем, я мог одновременно отдавать разным сибрам в разных местах разные приказы. Я ничего не путал и всюду успевал. Я был непогрешим, ка Бог. Но ощущал себя человеком, и страх перед простой человеческой ошибкой терзал неотступно.
Я много стал думать о будущем. Для нас четверых будущее планеты и даже будущее Вселенной перестало быть абстракцией. Теперь это было наше будущее, и мы как никогда остро понимали, что оно не может быть продолжением прошлого, нам предстояло увидеть расцвет и торжество разума во всем его фантастическом размахе, или же — гибель миров, звездные катастрофы, или же, — вероятнее всего, — нечто такое, чему названия в современном мире еще нет. Мы понимали это, и нам было страшно.
Но еще страшнее было думать о смерти. Ведь мы могли и не увидеть будущего, а рядом с такими необозримыми возможностями, какие открылись теперь, страх смерти, страх небытия делался во сто крат сильнее.
Страхи давили, страхи мучили, страхи мешали жить. Надо было постоянно куда-то бежать от них. И одно время мы бегали буквально. Мы увлеклись спортом. Мы бегали на самые разные дистанции, прыгали во все стороны и со всевозможными приспособлениями, метали все, что попадалось под руку, поднимали невероятные тяжести, мордовали друг друга с чудовищной силой и скоростью, плавали, летали, скользили, ездили, ныряли, завязывались узлом, крутили многократные сальто, стреляли по мишеням, друг в друга и в белый свет, как в копеечку изо всех видов оружия, рубились на мечах, рапирах, шпагах, саблях и снова бегали, прыгали, плавали, и замеряли потрясающие результаты, и радовались своим абсурдно высоким рекордам. Но эта радость прошла быстро. Мы без труда вышли на наш предел. Как и у всякого спортсмена, у нас тоже был свой, чисто физиологический предел, причем, в отличие от спортсменов обычных, мы не имели возможности отодвинуть этот предел с помощью допингов. Должно быть, мы могли отодвинуть его, превращая мышцы в оранжит, но это бы уже не был спорт. (Впрочем, если хотите знать мое мнение, спорт на допингах — это тоже уже не спорт.) В общем мы нашли свой предел. Здесь ни к чему рассказывать откуда он взялся — об этом написаны большие научные труды. Так или иначе, спорт рекордов надоел нам: у предельной черты он незаметно подменялся все тем же старым добрым мазохизмом, а это был уже пройденный этап. Но спорт как отличное средство сублимации страха был нужен. И нашим следующим увлечением — уже на всю жизнь (если можно так сказать о жизни бесконечной) — стали виды спорта игровые, а если не игровые, то те, где надо было тщательно шлифовать индивидуальное мастерство. Ведь нам было глупо соревноваться друг с другом в силе, еще глупее — соревноваться в силе с другими, поэтому мы соревновались в мастерстве. И это было уже по-настоящему интересно, это захватывало. Здесь Апельсин был не помощник, все зависело только от нас самих. За долгие годы своей бесконечной молодости мы освоили все существующие виды спорта в совершенстве, но появлялись новые, и мы осваивали их тоже: тройной прыжок в высоту с разбегом по наклонной поверхности; прыжок в длину с костылями; выдуманный в шутку, но очень сложный вид — прыжки с шестом на лыжах в воду. Некоторые дисциплины мы выдумывали сами. Например, честь изобретения настольного тенниса в вакууме принадлежит лично мне, а знаете, как непросто и увлекательно играть в скафандре летающим, словно пуля, шариком.
Да, развлечения скрашивали жизнь, но страхи — если честно — не исчезали. Страхи продолжали жить с нами.
НОСТАЛЬГИЯ ПО ПРОШЛОМУ
В сущности, было много способов отвлечься от страха. Спорт — лишь один из них. А вообще лучшее лекарство от всех бед давно известно — работа. Но как раз этого у меня и не было. Или было, но я не знал, что именно назвать работой. Сиброконструирование? Смешно. Теперь это были просто разовые поручения. Наука? Я все еще был профаном в ней и в лучшем случае ассистировал ученым, а в худшем — был объектом для них. Литература? Да, я много писал — об этом еще скажу впереди, — но я понимал всегда, что не гожусь в подметки таким, как Тамразян, Кальтенберг, Кабаяма, Прологов, Миржек, Смайлс… Писателей стало меньше, и равняться приходилось только на настоящих мастеров. Спорт? Это была работа. Но, Боже мой, кто и когда всерьез считал спорт работой, кроме самих спортсменов? Политика? Я был впутан в нее, крепко впутан, время она отнимала, но как-то не поворачивался язык называть эту традиционно нечистоплотную игру работой. А собственно, вот и все главные мои занятия. Но не было среди них самого главного. Профессии не было — одни сплошные хобби. И значит, не было настоящей работы. Впрочем, со временем у каждого из нас такая работа появилась. Но я сейчас не об этом.
Помимо всех наших дел и развлечений были еще воспоминания, которые тоже помогали отвлечься, особенно воспоминания совместные. Вот только это было лекарство с сильным побочным действием. Оно вызывало жгучую, горькую, подчас невыносимо горькую тоску — ностальгию по прошлому, обостренную сознанием того, что прошлое это ты уничтожил своими собственными руками. Так что замена страха на тоску — это было вышибание клина клином или, если угодно, обмен шила на мыло.
Прошлое, такое порой ненавистное в бытность свою настоящим, теперь, в романтическом ореоле безвозвратности, казалось милым, уютным и щемяще притягательным. С особой теплотой вспоминалось почему-то то, что было совсем незадолго до начала Катаклизма. Например, виделся вдруг ясно, со всеми деталями маленький вокзальчик в Усть-Куте: теплая июльская ночь, жучки вокруг фонаря, пение комаров над ухом, влажное дыхание великой сибирской реки, катящей свои воды в темноте за домами, синие огни на путях, рюкзаки грудой, усталость, ворчливая уборщица, возящая по полу мокрой тряпкой и гоняющая нас с места на место…
А то вдруг вспоминался переполненный вагон метро, где так уютно было уснуть зажатым намертво в спрессованной толпе. Или — большая пестрая очередь. За чем? За кроссовками? За книгами? На выставку? За билетами на поезд? Неважно. Это была Очередь! Немыслимое, дикое сборище, где порожденная завистью и страхом упустить свой шанс ненависть каждого к каждому удивительным образом переплавлялась порой в некое совершенно особенное братство.
А то всплывала в памяти квартира родителей в уютном московском переулке, мамино «фирменное» обсыпанное сахаром печенье, вырезанное с помощью потемневших от времени жестяных формочек, крепкий чай, заваренный отцом по-своему, с кипячением — вопреки всем рецептам, старенький скрипучий диван, раскрашенные фотографии по стенам, голуби, воркующие на широком карнизе…
Ленка вспоминала Чехословакию, удивительные улицы старой Праги, небольшие магазинчики, крохотные пивные бары и ни с чем не сравнимое ощущение новизны, экзотики, исключительного везения… Теперь весь мир был у нас на ладони. Но что-то очень важное — потеряно.
А иногда с нежностью и грустью мы начинали вспоминать что-нибудь совсем уж несуразное. Нашу военную кафедру, например, с ее тупоголовыми офицерами и унылой, казенной аккуратностью учебных классов. Или пропахшую эфиром и йодом районную поликлинику с безграмотными равнодушными врачами и никудышным оборудованием. Или — убогую толпу помятых мужиков у пивного ларька…
Но это были издержки ностальгии. Не обо всем стало жалеть, с многими надлежало расстаться с радостью, а многое другое, о чем грустилось почему-то как об утраченном, на самом деле осталось с нами. Но было одно, к чему с болезненным постоянством скатывались всякий раз мои и Альтера воспоминания, — наша единственная пока настоящая потеря. Мы вспоминали промерзший зимний троллейбус с пушистыми от инея стеклами, и холодный портвейн из темной бутылки, и ломкий на морозе кисломолочный сырок, черствые булочки за три копейки, и Женька с гитарой, дующий на озябшие пальцы, и Рюша Черный, неистово рубящий ладонью воздух… — И я начинал плакать. И Альтер тоже.
Мы еще умели плакать тогда.
Нечто чудовищно несправедливое было в том, что ребята погибли именно из-за экрана, возведенного Апельсином или мифическими хозяевами его для каких-то своих, так и не понятых нами целей. Нет, я никогда не верил в бредовую идею Тимура Сингха, что все это сотворил я сам, и даже в более научную гипотезу о том, что Апельсин притянут на Землю моим замыслом, но — как там у Твардовского? — все же, все же, все же… Я не мог не ощущать вину за их гибель.
Первое время, как раз в те дни, когда мы были в Пансионате, еще обсуждался вопрос о целесообразности поисков тел погибших, но потом на страну и мир обрушилась такая бездна проблем, что вопрос отпал сам собой. Помню, я пытался связываться с кем-то, от кого зависели эти поиски, и объяснял, что с появлением сибр-технологии сама задача сильно упростилась. Неужели так трудно найти группу людей для благородного дела? Представьте себе, трудно. В условиях начавшегося Катаклизма это оказалось почти нереальным. Конечно, было в моих силах организовать самому экспедицию, но ведь и мне было некогда, а главное — не очень-то и хотелось отыскивать трупы своих друзей. Я боялся увидеть их мертвыми. Известно, каким бы достоверным ни было известие о смерти, пока не увидишь тело, остается надежда. Я знал, что надеялся не на что, и все же…
Поиски не были начаты. Оснований для них чем дальше, тем становилось меньше. Стремительно менялось отношение человечества к трупам. Могилы выходили из моды. Из крематориев не забирали урны. Сами крематории заменялись зероториями, причем стало принятым символически превращать умерших в цветы, хлеб, вино, золото, камни, но чаще, конечно, просто в воздух и воду. Так зачем же было искать теперь старые замерзшие трупы? Чтоб зеротировать? Глупо. Ледовый простор океана был лучшей могилой для полярников.
Благодарное человечество не забыло своих героев: в Москве им поставили памятник, в музее полярной славы в Норде их экспедиции посвящена целая комната, несколько книг вышло об их походе — мне даже казалось, что все это чересчур. И за ненайденные тела погибших никого совесть не мучила. Меня — если честно — тоже. Пока однажды к нам в Оранжевую не приехала Катя Беленькая, Катрин.
Она не была женой Черного, хотя они прожили вместе больше пяти лет. Рюша любил ее, был ей верен, хоть это и могло показаться странным на фоне тех веселых сборищ, что проходили регулярно у них на квартире, Рюша не мыслил себя без нее, но жениться не собирался, отшучивался обычно: «Ты же беленькая, Катюша, неужели хочешь стать черненькой?» На деле же просто не решался связывать ни ее, ни себя. Жизнь он вел безалаберную, ни о каких детях, ни о каком тихом семейном счастье не могло быть и речи. Сначала — постоянные тренировки, соревнования, сборы, потом — походы, эксперименты, экспедиции. А Катрин работала в школе (русский язык и литература), но часов брала мало — не деньги были нужны, так, сознание собственной значимости. А главным в ее жизни был, конечно, он — Рюша Черный — ее герой, ее кумир, ее Бог.
Я представлял себе, что означает для Катрин известие о его гибели. Я даже боялся позвонить ей. И вот она приехала сама.
С КПП мне позвонил полковник Чумнов. В нашей охране все были не ниже майора по званию — не мудрено: по стране в целом армия состояла из одних офицеров. Полковник доложил о прибытии Беленькой Екатерины Сергеевны. Я даже не сразу понял, кто это.
— Привет, Ваше Величество, — сказала Катрин, поднимаясь на веранду, куда я вышел встретить ее, — не прорвешься теперь к тебе.
Поговорили о том о сем. Сначала весело, просто, потом стала ощущаться некоторая напряженность. Быть может, Катрин болезненно воспринимала разницу в положении, возникшую между нами. Я же боялся заговорить о ребятах, хотя именно о них, только о них хотелось говорить. Катрин сама сломала этот барьер.
— Знаешь, Витька, а я не верю, что они погибли.
Она сказала это внезапно, после паузы, и я сразу понял, что именно за тем, чтобы сказать это, она и пришла ко мне.
— Я тоже не верю, — почти не соврал я. — Ведь надежда всегда остается.
— Ты не понял. Я совершенно серьезно считаю, что они живы. Я много думала об этом.
Я молчал. Я не знал, что ответить. Я даже подумал, уж не помутился ли от горя ее рассудок.
— Они живы, Брусника. Их надо спасти. Надо возобновить поиски.
— Но это невозможно, Катрин.
— Что невозможно? Возобновить поиски?
— Невозможно считать, что они живы. Без анафа нельзя прожить на морозе так долго. А спецсосуды были полными.
— А если это были не их сосуды?
«Какая дикая мысль! — подумал я. — Чьи же? Белых медведей, что ли?»
— Исключено. На них стояли номера.
— Но они же не могли просто так их выбросить.
— Не могли. Случилось несчастье. Ты же знаешь официальную версию: элементарная подвижка льдов.
— Я не верю. Они не могли оставить спецсосуды. Андрей никогда не сделал бы этого. У них было что-то еще, кроме анафа.
«Бедная девочка, — думал я. — Что у них могло быть еще, кроме анафа? Зачем она утешает себя?»
— Я знаю, — сказала Катрин, — Станский изобрел какой-то новый препарат и решил испытать его, а анаф они бросили.
— Но это же чушь! — не выдержал я.
— Не чушь, — упрямо повторила Катрин. — Я знаю. Они живы. Помоги мне найти их, Брусника.
Я встал и заходил по веранде. Конечно, я мог бы еще раз поставить этот вопрос перед Комитетом, но это ни к чему бы не привело. Ни к чему. Аргументация совершенно бредовая. Мне было жалко ее, и я сказал:
— Я сделаю все, что от меня зависит, Катрин. Скажу тебе честно: я не знаю, как будут организованы поиски, но я обещаю проанализировать возможные варианты на машине.
Она поблагодарила меня. Мы побеседовали еще о чем-то. Потом она ушла. И я вдруг поняла, что завидую ей. Силе ее любви, ее умению верить, ее безумию. Я искренне хотел помочь ей и, хотя было бессмысленно поручать машине эту квадратуру круга, намеревался все-таки провести логическую экспертизу. Но не провел. Потому что закрутился.
Закрутился. Вот любимое словечко москвичей в последние годы перед Катаклизмом. Каким понятным каждому, каким универсальным было это объяснение! Забыл поздравить с праздником — закрутился. Не отдал в срок нужную книгу — закрутился. Не приехал на похороны родного брата — закрутился. Не сумел достать дефицитного лекарства — закрутился (а человек умер!)… Крутимся, вертимся, закручиваемся в спираль, а мир вокруг разваливается на куски. Счастливого закручивания, господа! Карусель продолжается!
Сколько раз я вспоминал фигуру Катрин в ослепительно белом в лучах южного солнца платье, уходящую по дорожке сада вдаль, к ограде, к контрольному пункту, к шоссе и дальше — к бесконечности, к смерти, к нему, к своему Андрею.
Я больше никогда не видел ее. Я узнал из газет, что Катрин погрузила себя в анабиоз с требованием разморозить только в том случае, если Андрей Чернов будет найден — живым или мертвым.
Это был не анабиоз — это было почти самоубийство. Ведь живым Рюша не мог быть найден, а если все-таки где-то случайно обнаружат трупы, каково будет мне будить Катрин и сообщать ей об этом?
И их не нашли. И экипажи трансарктических кораблей, ни строители Норда, ни отдельные энтузиасты, отправлявшиеся на поиски пропавшей экспедиции ради спортивного интереса, ни пресловутый старик Билл — один из самых знаменитых чокнутых жителей Города прошлого, — бороздивший на своем «башмаке» полярные просторы в поисках загулявших алкашей, терпящих бедствие лихих спортсменов и членов Общества любителей анафа, включившихся в движение «Дорогами Станского», ставшее модным после пышного празднования столетнего юбилея экспедиции. Эти психи, в точности воспроизводя экипировку анаф-гибернатиков двадцатого века, засыпали во льдах где попало, и, разумеется, не обошлось без нескольких смертных случаев.
Их не нашли. Может быть, их уже давно нет. Их могли съесть медведи. А с еще большей вероятностью их могли съесть гигантские строительные сибры, и те же сибры могли залить их бетоном, металлом, пластиком. Теперь я уже не думал, что их найдут. Теперь прошло уже слишком много времени. И даже уход Катрин потускнел в памяти на фоне множества смертей, которые нам довелось пережить. Но — вот парадокс! — надежда, безумная, нелепая надежда, которой так незаметно, но так основательно заразила меня Катрин в тот солнечный день на веранде виллы, — надежда продолжает жить. И иногда я начинаю думать, что никакая это не надежда. Просто ностальгия по прошлому.
МУКИ СОВЕСТИ
Пожалуй, все началось с разговора в одну из тех ночей, когда мы с Ленкой, в очередной раз решив не обманывать самих себя, вместо того, чтобы спать, пошли купаться. Море, черное, огромное, дышало прохладой и величием, и на его тихой воде подрагивала большая яркая луна. Мы далеко уплыли по зябкому серебру лунного следа, потом вернулись, легли — безо всякой подстилки — на крупную гальку и стали молча смотреть на звезды.
Это было на одиннадцатом году Великого Катаклизма, на одиннадцатом году ВК, как принято стало говорить. Прошло всего несколько месяцев с отмены Закона. И я еще не был членом Всемирного Совета — Совет только что создали, — но уже подумал о более деятельном участии в политике. Вся жизнь на планете как бы еще раз начиналась с нуля, и мне захотелось все-таки встать у штурвала, чтобы никогда больше не быть игрушкой в чьих-то руках. Я просто не имел на это права, ведь в моих руках — и уже давно — игрушкой был весь мир. А я оказался неважным игроком. Я слишком много допускал недопустимого. И теперь я лежал, смотрел на звезды и думал, какая бездна ужаса и страданий осталась позади. И из глубин памяти выплыло тогда нечто, показавшееся особенно мучительным. Я вспомнил самоубийство Моргана.
— Малышка, — сказал я тихо, — знаешь, о чем я подумал?
— О чем? — спросила она, не поворачивая головы.
— О том, что это я убил Моргана.
Ленка молчала.
— Помнишь, как мы не любили его? Он больше всех кричал о Законе. Мы прямо-таки ненавидели его. Мы только знали, что он редкий специалист, что он нужен, и не трогали его. А потом я сказал Сюртэну — кажется, Сюртэну, да — что мне не нравится решение Моргана по Бангладеш… Помнишь? А Апельсин воспринял мою ненависть. И значит, это я заставил Моргана застрелиться.
— Бред, — сказала Ленка, вновь не поворачивая головы, но я увидел, как белое расслабленное великолепие ее тела вдруг напряглось и словно вжалось в камни.
— Но ты же понимаешь, я телепат.
— Ты психопат, — сказала Ленка, — Морган — это же тебе не сибр.
— Верно. Но оранжит-то был у него в мозгу…
— Прекрати, — она, наконец, встала и сверкнула в мою сторону глазами.
— Я убил его, — упрямо повторил я. — Убил. Я знаю. Господи! Зачем Ты дал мне право распоряжаться жизнями? Зачем?
— Правильно, помолись, — ядовито посоветовала Ленка, — глядишь, и полегче станет.
Я хмыкнул. Но это был смех висельника в ответ на шутку товарища по эшафоту. Ленке тоже было невесело. Иногда ночью нас посещали мрачные мысли, но чтобы настолько мрачные — это впервые.
— Утоплюсь, — сказал я и пошел к морю.
— Давай, — вяло откликнулась Ленка.
Мы оба прекрасно знали, что можем не дышать сколько угодно, да и к тому же наши легкие совсем не боятся воды.
Опасения мои не подтвердились. Я не был способен телепатически управлять людьми, оранжит в мозгу становился частью самого организма и уже не подчинялся мне. И я еще не раз пожалел потом, что не умею внушать. В конце концов, телепатию не так уж и трудно использовать во благо. Но комплекс вины за смерть Моргана у меня остался. Ленка и даже Альтер считали, что это какой-то сдвиг, а я продолжал мучиться. И именно с той ночи, с того разговора главной моей бедой стала совесть, больная совесть волшебника.
Иногда полагают, что муки совести — это сожаление о содеянном. Ничего подобного. Жалеть можно и не стыдясь, а угрызения совести — это нечто совсем особое.
Я никогда не жалел и не жалею о том, что сделал. Не скажу, что у меня совсем не было сомнений — сомнения были, но они рассеивались со временем. И окончательно я перестал сомневаться в правильности выбора, когда проштудировал от корки до корки блистательную работу Мохаммеда Ширьяна «Альтернативные пути истории», где доказывалось как дважды два, что все прочие возможности, открывавшиеся человечеству, были ничуть не лучше осуществленного варианта, а с поправкой на массовую гибернацию и угрозу войны (правда, последнюю Ширьян всерьез не рассматривал) — даже хуже. В общем ничего такого ужасного мои сибры с миром не сделали. Это я понял и перестал жалеть о содеянном. Совсем перестал. Но совесть…
Когда, обгладывая маленькую вкусно прожаренную детскую ладошку, ко мне на сочинском нудистском пляже подходит очаровательная девочка Маша пятнадцати лет от роду и, держа в свободной руке заляпанную жиром книжку Гамсуна «Голод» в подлиннике, ставшую бестселлером тридцатых-сороковых годов ВК, спрашивает: «Виктор Петрович, это что, на самом деле так было?», я разеваю рот, но не могу ничего сказать…
Когда восьмилетний пацан рассказывает своему приятелю, болтаясь в воздухе на пресс-генераторном «коньке-горбунке»: «Представляешь прабабка-то моя как ухитрилась вчера с копыт слететь — прыгнула с вышки в бассейн и прямо в воздухе преставилась…»
Когда в старом винном магазинчике на проспекте Руставели в Гагре мой знакомый Гиви в очередной раз на пари напивается гранатово-красным мукузани до рвоты и на вопрос, зачем ему это, отвечает: «Брусника, дорогой, но ведь без отрицательных эмоций тоже нельзя…»
Когда физически развитая не по годам школьница начальных классов, развалясь на груде бананов, философствует, глядя мне прямо в глаза: «Политика, искусство, наука — зачем они? Я в этом мире создана для секса и только для секса…»
Когда безумный оранжист Серпинский, прославившийся своими домами из черепов и костей, показывает мне проект огромного отеля, сложенного теперь уже из целых трупов, залитых и сплавленных между собой новейшим консервантом, и спрашивает разрешения использовать для строительства мое и Ленкино тела…
Когда физик из института Пинелли заявляет, что хождение пешком в условиях всеобщего дефицита времени это преступление против человечества…
Когда юный старик-негр за несколько минут до рассчитанной смерти на ужасно ломаном русском-то ли издевается, то ли на самом деле не выучил этот ненавистный ему язык — бросает мне: «Брусилов, я ты нэ тэрпэть могу. Сволоджь! Я умер, а ты живи…»
Когда я сижу на террасе своей виллы и гляжу на солнце, которое падает, как миллионы лет назад, в море и поплевывает кровавой слюной на все безумие этого бренного мира…
Я понимаю, что Угрюмый прав, что на планете почти не осталось homo sapiens, что наступает и торжествует новый вид — homo sibrus, и в уголке моего сознания, хранящего память о том, как я сам был сапиенсом, просыпается совесть — больная совесть миллиардов ушедших сапиенсов, уступивших место Новому Человеку.
В России традиционно совестью нации считалась литература. Быть может, поэтому муки мои вернули меня к писательству. Я истязал свою музу в отчаянных попытках изобразить мир простыми сочетаниями слов. А Вел ругал меня за вечное подражание кому-нибудь и, наверное, был прав. Ведь даже то, что я пишу сейчас, порою слишком уж напоминает целые страницы из кальтенберговских «Людей». Но мне нужна была литература, и я писал, с каждой новой вещью шлифуя слог и оттачивая мысль. Проблемы публикации в сеймерном мире не стало. Была лишь проблема читателя. Для меня она решилась просто: фамилия Брусилов работала лучше любой рекламы. Книги расхватывали. А меня приглашали на писательские съезды, интервьюировали для крупнейших литературных газет, экранизировали в Голливуде и на «Мосфильме». Правда, пишущая братия относилась ко мне довольно иронично. Помню, например, как мы пикировались на Интервидении со знаменитым критиком Вадимом Каменским:
— Ваша главная беда, Виктор, в том, что Вы пишете штампами.
— Это не удивительно, Вадим. Я с детства был неравнодушен к штампам. Поэтому, должно быть, и пришел к идее сибра.
— Но бывает еще хуже, Виктор, когда Вы пытаетесь писать оригинально. Тут сказывается ваша начитанность, и память услужливо подбрасывает Вам что-нибудь из классиков. Помните, как начинается ваша «Биография катаклизма»? «Великие люди рождаются голыми и глупыми…» Знаете, откуда это? Из «Сказок об Италии» Максима Горького.
— Да, Горький действительно написал что-то вроде «все мы были когда-то голыми и глупыми…», но спешу заметить, Вадим, Вы невнимательно читали мою книгу. Там есть примеры более наглого плагиата. В главе «Валеркин дядя» встречается фраза «Шел дождь» — это из Хемингуэя («Прощай, оружие!»), а еще у меня где-то написано: «Спать хочется». Знаете, у кого спер? У Чехова…
Все это было весело. Все это приносило удовлетворение и радость. Но до поры. Когда книг стало много, интерес к ним начал стремительно падать и угас совсем с выходом в свет очень важного для меня философско-фантастического романа «Больная совесть Вселенной». По данным опросов его читали уже только специалисты, друзья, враги, да мои безумные братья с Южного полюса. Поначалу это был удар. А потом я понял причину провала: роман был нечестным. Прячась за невероятными формами жизни в далеких галактиках, я не хотел рассказывать о себе и превратил понятие «совесть» в совершенную абстракцию. Но разве мог я рассказать миру о том, что мучило меня на самом деле? Брусилов — монстр! Брусилов — homo super! Брусилов — будущее цивилизации! Брусилов — посредник! Брусилов — Бог, рожденный на Земле! И вдруг — муки, боли, страхи… Да кто бы мне поверил? Ну, а если бы вдруг они все-таки поняли, что это действительно так, какое горькое разочарование постигло бы все человечество, какое бы это было чудовищное развенчание кумира их, тирана их и Бога их! И быть может, хуже всего стало бы зеленым. Ведь я бы вновь, как уже было однажды, лишил их точки приложения сил. Узнав, как я жалок и ничтожен, они бы поняли, что снова им не с кем и не с чем бороться.
Так стоит ли публиковать этот духовный стриптиз хоть когда-нибудь? Полагаю, что нет. И значит, я буду вечно обманывать человечество и из-за этого (как и из-за всего другого) — тоже вечно — буду испытывать муки совести.
БЕССМЕРТИЕ КАК ОНО ЕСТЬ
Когда мы узнали о своем бессмертии, мы сначала удивились, потом ужаснулись, потом надрались и, наконец, пришли в восторг. Но могли ли мы понять тогда, что такое бессмертие? Нет, не могли. Мы узнавали об этом постепенно.
Угрюмый неспроста все опыты свои старался проводить на Альтере и Алене, оберегая меня и Ленку особо. Ведь Альтера в принципе — как ни цинично это звучит — можно было воспроизвести, а я был уникален. Никаких принципиальных отличий Алены от Ленки Угрюмый не знал, но догадывался, что они есть, и потому рассматривал Ленку как такой же уникум: кто знает, а вдруг без нее не смогу существовать и я со всем своим могуществом.
Вот почему, когда возможности наши в общем и целом выяснились, Альтеру была дарована относительная свобода. Он мог разъезжать по планете, не советуясь об этом с ВКС, и только два телохранителя сопровождали его повсюду. Альтер сразу сделался очень активным политиком. Он выдвигал требования, подписывал соглашения, выступал на митингах, убеждал, спорил, торговался, высмеивал, агитировал. Он и Алена боролись с зелеными и с оранжевыми, с католиками и с шиитами, с наркоманами и сексуальными маньяками, с равнодушными бездельниками и со слишком деятельными экстремистами. В них стреляли, в них бросали бомбы, на них спускали диких зверей, дважды их пытались сжечь и один раз — окунуть в воронку питания. Но изо всех передряг они вышли победителями, и лишь авторитет их вырос.
А потом — это случилось пятого сентября восемнадцатого года — Альтер позвонил мне из Аргентины. Странный был звонок:
— Витька, — начал он без предисловий, — знаешь, что мне крикнул сегодня на митинге один человек? Он крикнул: «Ты не настоящий Брусилов! Мы не хотим тебя слушать! Пусть приедет волшебник!» Витька, я не настоящий! Я это понял. Меня ведь можно уничтожить и сделать заново. Будет точно такой же. До атома. И никто не заметит подмены.
— Что ты несешь, придурок? — сказал я. — Прекрати сейчас же. Ты со своей политикой с ума сошел.
— Может быть, и с ума, — откликнулся он, — но скорее всего пока только с тела. Меня слишком часто убивали, и я — уже не я. Понимаешь?
— Альтер, возвращайся домой. Завтра же, — потребовал я, и он кивнул в знак согласия, а потом отключился.
На следующий день звонок был еще более странным.
— Я пытался покончить с собой, — сообщил Альтер.
— Смеешься?
— Ничуть. Я залез с головой в воронку питания — уж это-то верная смерть. Так ничерта подобного! Я стал весь зеротановый, но не оплыл, не потерял форму, а просто блестел, как памятник самому себе и продолжал жить, чувствовать, видеть, слышать, даже боли не было никакой, а выбравшись из воронки, я сразу превратился в нормального человека. Вот и все.
Честно скажу, тогда я не поверил в эту чертовщину, — думал, просто подвинулся Альтер. Но, прилетев в Гантиади, он повторил свой «аргентинский фокус» прямо у меня на глазах. И потом мы все по очереди испробовали «зеротацию» на своей шкуре и уже вместе с Угрюмовым, Ларисой, Светкой и Велом за праздничным столом долго смеялись над всеми нашими нелепыми опасениями.
Так лопнула последняя надежда на смерть. так бессмертие сделалось абсолютным. Так мы осознали полную и вечную свободу.
Теперь, когда бояться было уже решительно нечего, был проведен еще один очень важный эксперимент. Мы посмотрели, что будет с нами в вакууме, то бишь в открытом космосе. Оказалось не очень интересно: мы превращались в оранжит и, становясь огромными Апельсинами, не знали как управлять своим новым телом. Потом научились, а поначалу был даже страх: неужели появится такой серьезный козырь у тех, кто мечтает нас обезвредить.
Впрочем, Кротов тут же объявил, что он всегда догадывался о моем действительном абсолютном бессмертии и даже в мыслях не держал убивать меня, поэтому новую информацию о возможностях Брусиловых он не считал для себя ударом. А вот Франтишек Маха — тогдашний лидер оранжистов — и его юный ученик Педро Уайтстоун сразу поняли, что для них это событие, праздник, отправная точка всех будущих дел. И Педро стал у нас на вилле частым гостем.
Сентябрь восемнадцатого года… Вот когда мы начали понимать, что такое настоящее бессмертие, — когда не надо стало трястись за свою драгоценную жизнь. До этого бессмертие принадлежало нам как бы номинально, лишь теперь мы стали его полноправными владельцами.
И нашей главной страстью — особенно моей и Ленки — сделались путешествия. Мы изголодались по ним еще в прежней жизни, а восемнадцать лет этой — с редкими выездами куда бы то ни было да и то с вооруженным до зубов конвоем — еще больше разожгли нашу страсть. Первое время мы разъезжали повсюду вместе. Потом начала сказываться разница в интересах, мы стали путать друг другу планы и решили, что можем позволить себе путешествовать порознь. Вот тут-то и случилось то, чего давно уже следовало ожидать.
Ленка была верна мне три года обычной жизни и восемнадцать лет ВК. Это много. Мои же измены, ставшие достоянием всепланетной истории, вошедшие чуть ли не во все школьные учебники, давно уже не принимались Ленкой всерьез. Да и вообще восемнадцать лет верности — это тоже очень приличный стаж. Теперь же мы оба поняли, что впереди абсолютная вечность, может быть не вечная жизнь в этом теле, но вообще — вечность, и пришла опять пусть не очень логичная, зато очень естественная мысль: за бесконечную жизнь невозможно не изменить ни разу — так чего же ждать? Эта мысль преследовала повсюду, на всех континентах и во всех городах, где меня соблазняли самые разные женщины: желтые и красные, нежные и страстные, тонкие и крупные, крепкие и хрупкие… Но я держался. Я не сдавался лишь потому, что знал: никакая женщина не доставит мне такого наслаждения, какое доставляет гордость перед самим собой за свою верность. И первой сломалась Ленка. Она сказала однажды, когда мы встретились в небольшом ресторанчике в Бангкоке:
— Знаешь, Виктор, это наконец случилось.
И я не расстроился и не обиделся. Сказать, что я обрадовался тоже было нельзя. Я встал из-за столика, она поднялась мне навстречу, и мы обнялись. И это было совершенно особенное объятие. Примерно так же я обнимал Светку в то утро, когда она стала монстром.
Потом мы, конечно, поговорили, поделились впечатлениями… И у Ленки нашлись свои оправдания — это было необычайно трогательно. Оказывается, она попала к брусилианам, ее затащили на большой «разноцветный группешник», и — если честно, — сказала она, — это было потрясающе.
— Но, согласись, Виктор, так лучше, чем серьезное увлечение кем-то.
Я согласился. Но потом было все. И серьезные увлечения тоже были. И еще был один совершенно особенный случай, о котором хочется рассказать отдельно.
Было это в Африке, и отдыхали мы вместе. А для такого случая у нас существовало правило: на сторону не бегать. Устраивать же совместные оргии мы не любили — убедились как-то на опыте, что любовь и групповой секс не сочетаются.
А там, в Египте, вместе с нами охотился на крокодилов чудаковатый рыжий парень, представившийся как Спайди и рассказавший о себе лишь то, что ему двадцать и он студент спортшколы в Лэнгли. Силища у него была необычайная и реакция на удивление, так что охотиться с ним было интересно, а потом начинались беседы на политические и философские темы. В любых вопросах Спайди обнаруживал потрясающую беспринципность и явно тяготел к неоанархизму — дикой зелено-оранжевой смеси всех идеологий.
И вот однажды я отправился на «подушке» в город за новостями и новым комплектом продуктов — и в нашем охотничьем домике мы специально отказались от видеофона и сиброснаба — и оставил нашего юного друга вдвоем с Ленкой. Малышка относилась к Спайди снисходительно, по-доброму, но с изрядной долей иронии, и мне в голову не могло прийти, что этот увалень может стать причиной нарушения нашей «конвенции». А случилось вот что.
С полдороги я вернулся, вспомнив, что забыл свою последнюю рукопись, которую обещал показать старику Нголо, и выключив на лужайке перед домиком «подушку», сразу услышал крики и ворвался внутрь.
Спайди, весь перепачканный кровью, потный и тяжело дышащий, уже сидел на краешке дивана и раскуривал сигарету. А Ленка лежала на полу среди ошметков одежды, клочьев волос и кусочков вырванной плоти, лежала обессиленная, с еще не совсем заросшими ранами и с пустыми равнодушными глазами.
Я помню, как у меня внутри словно разорвалась оранжевая бомба, ненависть и ярость захлестнули все мое существо. Спайди вскочил. В свои двадцать лет он был уже профессионалом, и даже растерянность не помешала ему принять правильную стойку. И еще — он был огромен (совсем не моя весовая категория). И еще — был готов ко всему. Он знал, что меня нельзя надолго вывести из строя никакой болью, что меня можно только скрутить или отбросить. Он предвидел все трудности предстоящего поединка. Но кое-чего он все-таки не ожидал. По правде сказать, я и сам не ожидал этого. Наверное, гнев добавил мне силы: первым же своим ударом я проломил его более чем грамотно поставленный блок, буквально проломил — я сломал ему кость на руке, и мой каблук попал куда надо. Он сразу упал, и дальше было уже не интересно. Для него. А со мной происходило что-то невероятное. Я бил и бил с наслаждением — окровавленное, уже не сопротивляющееся, хлюпающее и похрустывающее тело. И в ушах стоял гул, и глаза застилал красный туман, и было страшно, и я уже не владел собой… А потом очнулся от крика Ленки:
— Не убивай его! Не надо!
И перестал бить.
Мы вызвали врача. И врач ничего не спрашивал. Все, что происходило с нами или у нас, касалось только нас и было целиком в нашей власти. И это было противно. Безнаказанность омерзительна. Вот почему Ленка крикнула мне: «Не убивай его!» Она это потом объяснила, но я и сам понимал, если начнешь убивать, уже не остановишься. Потому что убить захочется многих. А помешать не сможет никто.
Его увезли в клинику, и только на прощание, когда он очнулся, мы предупредили, что если хоть одна живая душа узнает о случившемся и Ленка будет опозорена, мы убьем его. Это прозвучало серьезно. Он испугался. Все-таки он был еще мальчишка. А мы не знали, кем станет этот мальчишка. Когда я впервые услышал, что наш чудаковатый охотник на крокодилов, этот ничтожный сексуальный разбойник стал правой рукой Кротова, я ужаснулся, и мне хотелось кусать локти. И узнавая из года в год о его проделках — о диверсиях, о политических убийствах, о зверских изнасилованиях маленьких девочек, об умении Китариса вывернуться и спихнуть вину на другого, о его побегах и досрочных освобождениях из тюрьмы, я еще не раз стискивал в ярости зубы и жалел, дико жалел, что не раздавил этого страшного паука, когда он был еще совсем маленькой гнидой. Я чувствовал себя Сальвадором Альенде, не позволившим расстрелять людей по списку, где могли оказаться невиновные, а в этом списке был и Пиночет. Впрочем, мне кажется, что Альенде даже под дулом автомата не пожалел, что поступил именно так. И я тоже старался не жалеть. Тем более, что в отличие от Альенде, я был бессмертным.
БЕССМЕРТИЕ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Сначала умерли родители. Умерли в отведенный им срок на сорок пятом году ВК. Они были ровесники. Конечно, не с точностью до часа, но умерли именно в один день. Сначала отец, потом мама. Она была моложе на четыре месяца. Но без него ей не хотелось жить. и это был очень распространенный случай сибродотии — до катаклизма его назвали бы просто смертью от тоски.
Родители не были детерминистами, и я не мог знать дня их смерти, а сообщение о ней застигло меня на Венере. И я не полетел в Москву — соболезнование целого города, целой планеты — это было бы невыносимо, а я еще в той, прежней жизни был чужд похоронных условностей. И я распорядился без всяких церемоний, в общем порядке зеротировать их тела, а квартиру опечатать до моего прибытия. Такова же была и последняя воля моих родителей. За сорок четыре года счастливой жизни в сеймерном мире они успели перевоспитаться и не требовали себе никаких особых похорон. Только уютную старую квартиру просили оставить как память, именно как память — для меня, а не как мемориал — «Здесь прошли детские годы Виктора Брусилова».
Да я знал, что ожидало меня на сорок пятом или сорок шестом году ВК, да родители мои прожили долгую счастливую жизнь и умерли естественной и своевременной смертью. Но, черт возьми, не мог я считать эту смерть своевременной! Ведь мне по-прежнему было двадцать три. А им по-прежнему пятьдесят шесть. И было это как бритвой по сердцу.
Потом я как-то прочел у Кабаямы: «Смерть приходила к людям не сразу. Она прокрадывалась в дом частями под личиною старости и болезней и очень долго жила незаметно. Но с каждым днем, с каждой ночью ее было все больше в доме и люди не замечали ее лишь потому, что из невидимой она делалась привычной, а из привычной — желанной, и только тогда входила в дом вся, целиком. Такую смерть люди и называли естественной. И учились не грустить по поводу смерти. И это удавалось им. А потом мир изменился. И в нем не стало смерти естественной. И страшно сделалось в мире. В мире, где все были молоды, и молодыми умирали…»
Страшно стало жить в мире. Особенно страшно — после семьдесят седьмого года.
Светка была детерминисткой. Ей рассчитали дату и время последнего вздоха, и мы посидели вшестером за бутылкой мартеля. Как в кошмаре. А когда оставалось всего десять минут — бред какой-то, словно Новый год встречаем! — Светка расцеловавшись со всеми, попросила исполнить последнюю волю покойницы — оставить ее со мной наедине.
— Ну вот и все, — сказала она, — два тулупа в каскаде. Отпрыгалась твоя птичка. Пора улетать на юг.
И мне безумно захотелось плакать. Но тогда я уже не мог. Разучился.
— Прощай, Светка, — сказал я.
— Да погоди ты прощаться-то, тодэс ты с перекруткой, — перебила она сердито и почти весело, так что на какое-то мгновение мне вдруг почудилось, что все это одна большая хохма и никакой смерти не будет, отменяется смерть. — Ты послушай меня. Я тебе гостинчик приготовила.
И она протянула мне маленький голубоватый брусочек — сибр-миниморум самой первой, изначальной конструкции.
— Что это? — спросил я ошарашенно.
— Это я, — сказала она. — Тогда в Кировакане я сделала копию с себя в одном из неработающих сибров. На тот случай, если сцапают, и спрятала под деревом в горах. Он так и пролежал там лет тридцать, а потом я забрала его сюда.
— Но почему же?..
Она поняла, не дав договорить:
— Да ты бы просто уничтожил его и все, а мне хотелось сделать тебе подарок. На вот теперь, бери. Если захочешь, я буду с тобой еще сто лет, а потом еще и еще — сколько захочешь. Бери.
И я взял из ее руки этот маленький, но чудовищный соблазн. И в ту же секунду она упала. Еще не прошло десяти минут, но ведь в расчетах бывают ошибки, да и сибротодия на нервной почве встречается у кого угодно. Но здесь было другое. Я не понял этого сразу — горечь и боль заслонили все — а уже много позже откуда-то из подсознания выплыла очень ясная картина: когда я вернулся вместе с Альтером, чтобы вынести тело, Светка лежала на полу в совершенно другой позе. Этого нельзя было не заметить. Она сыграла свою роль до конца.
Конечно, я не смог уничтожить сибр с ее гештальтом. Такой поступок был бы самым настоящим убийством. Тем более, что никакой необходимости я в этом не видел. ЧКС без кнопки «РАБОТА» не представлял социальной опасности. А с Ленкой, Альтером и Аленой я решил разделить эту ношу, и они сказали, что, да, уничтожать не надо, но и пускать в мир новую Светку тоже нельзя. И, разумеется, они были правы.
Но иногда, когда тайком от всех я достаю по ночам этот сибр, выращиваю его до натуральных размеров и смотрю на Светку, мне бывает невыносимо трудно удержаться от мысленного приказа. Ведь это так просто! А она, загорелая, красивая, в одних лишь золотистых трусиках на кнопках, сидит, опершись на руки сзади — колени изящно согнуты, волосы разметались по спине, грудь гордо приподнята, — сидит и улыбается.
А Самвел в ту ночь ушел в горы. Его срок кончался через несколько дней, он не знал, когда именно, но надеялся дойти до снегов. И ему удалось. Спустя неделю Альтер, поднявшись на авиетке, нашел труп Вела на заснеженном склоне, где и решил оставить его, только сделал съемку для Интервидения.
Но ужаснее всего были годы семьдесят восьмой и семьдесят девятый, когда умерли практически все, с кем мы начинали наш путь в бесконечность. Умерли школьные друзья, друзья по двору, друзья по институту, умерли друзья-спортсмены, друзья-ученые, друзья-писатели, умерли друзья по политической борьбе. И это было как разгул репрессий в душной стране с тоталитарным режимом. Расстрел сегодня, завтра расстрел, и так день за днем — расстрел, расстрел, расстрел… А списки осужденных — вот они, на столе, и там через одного — твои лучшие друзья, и про некоторых ты даже знаешь день, когда их поставят к стенке, но ничего — НИЧЕГО! — не можешь поделать, потому что ты сам — последняя, высшая инстанция — аппелировать не к кому, а ты бессилен.
Потом примелькалось. Смерти стали чем-то привычным. Чем-то вроде бритья по утрам. Правда, вместо щетины ты срезал родинки и незажившие рубцы от тех, что срезаны накануне…
Вот когда мы поняли окончательно, что это за штука — бессмертие. А ведь штука эта в общем хорошая, но только — как и изобилие, впрочем, — лишь тогда, когда оно для всех. А пока это была все та же игрушка, единственным обладателем которой я так не любил бывать в детстве.
Я дал всем людям изобилие вещей. И вместе с ним я дал им изобилие пространства. Но это оказалось не все. Теперь я должен был подарить им изобилие времени — бессмертие. Только такое триединое изобилие и может считаться полным. И потому достижение его сделалось отныне целью моей жизни.
ПРЕОДОЛЕНИЕ
А помимо прямого пути вела к бессмертию еще одна лазейка, этакий черный ход, этакий туннель, теоретически известный людям с незапамятных времен, а практически открытый лишь Эдиком Станским перед самым началом эры ВК. Гибернация. Уже сама по себе она в известном смысле дарила человеку вечность, а в новую эпоху, когда появилась надежда на реальное физическое бессмертие для всех, замораживание приобрело совершенно особый смысл. Ты мог заснуть простым смертным, а проснуться Богом в мире, где вечность уже доступна всем. Так состоялось второе рождение гениального открытия Станского.
Первое же рождение из-за внезапно грянувшего Катаклизма получилось несколько сумбурным. В мире всеобщей сибризации стало не до холодильников. Тех немногих, кто успел заморозиться — неизлечимых больных, ученых и просто богатых скучающих бездельников, решением Комитета по урегулированию вернули к жизни. Это было логично: больным дала здоровье вакцина, то бишь, моя кровь; ученые (даже астрономы и антропологи — Катаклизм касался всех) сказали «спасибо» за то, что их разбудили к началу представления, а не к шапочному разбору, ну, а богатые бездельники пошумели, конечно. Да только, кто их теперь слушал? Все стали богатыми.
Это тотальное размораживание было проведено как раз накануне принятия Закона, и в последующие восемь лет, когда было запрещено все — и пользование сибром, и самовольная вакцинация, и хранение оранжита, и даже хранение зеромассы, — в эти страшные годы, разумеется, оказалась под запретом и гибернация. И получилось так, что про нее основательно забыли. Для строительства сеймерного мира анаф был как-то совершенно не нужен. Лететь к звездам казалось еще несколько преждевременным, а вульгарное решение проблемы занятости с помощью анабиоза, подсказанное еще фантастами и футурологами прошлого, даже самые безграмотные и аморальные экономисты новой эпохи всерьез принять не могли. И гениальное открытие благополучно не вспоминалось вплоть до восемнадцатого года ВК, когда мир вновь тряхануло — от известия об абсолютности нашего бессмертия, не то чтобы это было связано впрямую, но именно в восемнадцатом году Прохор Лямин создал свое общество, которое назвал очень вычурно, явно стремясь получить эффектную аббревиатуру, — Коммунистическая всемирная ассоциация замороженных индивидов — КВАЗИ. (Недоброжелатели потом говорили, что на самом деле не КВАЗИ, а КВАРИ, потому что общество могут создать только размороженные индивиды, а из замороженных можно в лучшем случае сложить штабель, и — продолжали свою мысль недоброжелатели — коммунистического в обществе Лямина не больше, чем оранжита а зеротане, а потому логичнее было бы назвать ассоциацию, ну, скажем, просто товарищеской, и значит не КВАРИ, а ТВАРИ.) Но название названием, а Лямин человек серьезный. Это он придумал ждать бессмертия в холодильнике, и одним из первых ушел из жизни на три года. А будучи разбужен, убедился, что у него уже немало последователей. Справился о состоянии дел в науке, провел коротенькую, но эффектную агитационную кампанию и отключился теперь уже на пять лет. Число членов КВАЗИ, квазистов, как их стали называть, неуклонно росло, заметно опережая прирост населения, и к двадцать пятому году достигло несколько десятков миллионов. Потом пошло на спад. К этому времени жизнь на планете — вернее, на планетах — наладилась прекраснейшим образом: о безработице уже не было и речи, уровень преступности снизился необычайно, все трудности переходного периода остались позади, а наука что ни день дарила людям интереснейшие новинки. Жалко стало уходить из жизни, даже на время, — все равно, что пропустить серию увлекательного детектива. Да и бессмертие для всех, казалось, найдут уже совсем скоро. Многие надеялись дожить до него безо всякого анафа, а те, кто все же погружался в сон, торопились быстрее проснуться. хоть и понимали, что спешить в таком случае решительно некуда, а все равно каждому по допотопной привычке хотелось получить желаемое раньше других.
Второй причиной снижения интереса к гибернации была активная деятельность зеленых. Эти с самого начала были против анабиоза. «Если ты уйдешь из жизни, кто вместо тебя будет делать ее лучше?» — вопрошал Патрикссон. «Наивные анаф-гибернетики! А вы подумали о том, что можно уснуть и не проснуться или проснуться в мире, где уже не будет людей?» — кликушествовал Алекс Кротов. И Норд стал единственным городом на планете, в котором не было гибернатория. Однако, когда уже Кротов-сын сделал полярную столицу Городом прошлого, размороженные потянулись туда косяками в поисках своей утраченной юности. И их называли «юными квазистами». В мире, сильно изменившемся за десять, двадцать, тридцать лет, они были порой беспомощны, как дети. А город Кротова принимал их радушно, предоставляя даже исходный кредит. Ведь «юные квазисты», бродящие по Норду с разинутым ртом, задающие глупые вопросы, путающие все подряд, веселили публику и делали рекламу зеленым, а плюс ко всему, несмотря на отрицание анабиоза, как грин-уайтами, так и грин-блэками, сам факт ухода людей из жизни был сильным аргументом в антисеймерной пропаганде. И следующим этапом пренебрежения принципами партии стали организованные массовые залегания во льдах вокруг Норда членов отпочковавшегося от КВАЗИ Общества любителей анафа имени Станского, придумавших, в частности, и такую штуку, как добавление препарата в спиртные напитки.
Разумеется, кроме охотников за бессмертием и любителей поразвлечься, анаф использовали также ученые, врачи, космонавты и одним из первых, кто нашел ему благородное применение, был Сидней Конрад. Поняв, что за дарованные Апельсином шестьдесят лет ему явно не осилить поставленной самому себе титанической задачи, главный сибролог планеты решил продлить свою жизнь, разбив ее на кусочки. Всякий раз, разморозившись, он быстро знакомился с результатами, полученными его институтом и другими научными центрами за прошедшее время, обобщал, систематизировал, давал новое направление работ, составлял программу исследований и вновь засыпал на столько лет, на сколько считал необходимым. Его примеру последовали Хао Цзы-вэн, Пинелли и многие другие — ведь это был действительно выход. Позднее, когда людям стали доступны полеты с околосветовыми скоростями, большинство ученых стало предпочитать именно этот метод «продления жизни». И среди них, отчаянно рвущихся к познанию, конечно, был и Угрюмов. Но о нем разговор особый.
На двадцать седьмом году ВК Прохора Лямина осенило. И он возопил на всю планету: «Люди! Вы убиваете своих бессмертных братьев! Разве можно зеротировать трупы тех, кого через двадцать, сорок, да пусть хоть через сто лет можно будет воскресить и сделать бессмертными? Человечество обрело вечность для всех и каждого в тот самый день, когда Станский синтезировал in vitro эликсир жизни и панацею — антропоантифриз. Тогда мы получили возможность, не дожидаясь старости и смерти, шагнуть через небытие в бесконечность. Так не зеротируйте же себя, люди! Замораживайтесь! Верните себе украденное бессмертие!»
В мире началась паника. Гибернатории заполнились «предсмертниками», положенными на неопределенный срок. В адрес ВКС и всех ученых посыпались проклятия. «Как можно было не предупредить людей о такой очевидной возможности? Как можно было допустить столько бессмысленных жертв?» — бесновалась пресса, подстегиваемая зелеными и неоанархистами. Но паника была недолгой. Ясность внес Угрюмов. Он специально выступил по Интервидению и сообщил следующее. Во-первых, тот «эликсир бессмертия», над созданием которого бьется сейчас институт геронтологии, не поможет ни вакцинированным, отжившим срок, ни старикам, отказавшимся от вакцинации, ни тем более покойникам, поскольку Апельсин, как это ни грустно, не отменяет второго начала термодинамики полностью и необратимые процессы в организме, если они протекают, так и остаются необратимыми. И во-вторых, если все-таки предположить, что будет найдено средство для воскрешения — а, живя в сеймерном мире, в общем имеет смысл предположить и такое, — тогда между сохранением замороженного трупа с отработанным регулятором и сохранением сибротрупа в виде гештальта не будет абсолютно никакой разницы, естественно, если делать копию перед самой смертью. Впрочем, разница будет: гештальт хранить значительно проще ввиду его компактности и неприхотливости — носи хоть в кармане.
Так инцидент был полностью исчерпан, а поскольку почти все, за редчайшим исключением, люди, умершие после одиннадцатого года ВК сохранились у родственников в виде сиброкопий — не для воскрешения, конечно, а просто как фотопортреты — вся трагедия, раздутая Ляминым, лопнула враз, как мыльный пузырь.
А Угрюмый, выступив тогда по Интервидению, вдруг ввалился к нам с Ленкой в спальню и потребовал кружку грога. Был он бледен, взъерошен и странно возбужден.
— Ты что, сказал им неправду? — догадался я. А Ленка пошарила где-то в трельяже и быстро сотворила дымящееся пойло.
— Нет, — ответил он, — я им сказал правду, но не всю. Они ждут от меня бессмертия. А бессмертия не будет.
Ленка уронила кружку, брезгливо стряхнула с ноги горячие осколки и сделала новую порцию.
— Ничего себе откровение! — сказал я.
— Я это знаю уже не первый год, — сообщил Угрюмый. — А понял почти сразу, и только нужно было время, чтоб доказать. Апельсин никогда не даст бессмертия всем. Во всяком случае, этот Апельсин. Бессмертие для всех противоречит его целям.
— Но тогда зачем же работает твой дурацкий институт? К чему этот фарс? — возмутилась Ленка.
— Это не фарс, — спокойно и твердо сказал Угрюмый. — Это самая благородная в мире работа. Мы не имеем права отбирать у людей надежду.
— А у себя? — спросил я.
— Dum spiro, spero, — сказал он.
— И ты говоришь честно?
— Абсолютно.
— Но на что? На что ты надеешься?
— На чудо, — ответил он.
А мне пришла в голову новая мысль:
— А если другие в твоем институте поймут то же, что понял ты?
— Они не поймут, — сказал Угрюмый.
— Ты их направил по ложному пути?!
— Да, — сказал он.
И я понял, что на меня легло тяжелое бремя еще одной страшной тайны. И тут же почувствовал, как зреет во мне протест. Я не верил выводам Угрюмого. Не хотел верить — и не верил. Имел я на это право, в конце концов?!
И я бросил все. И занялся только этим. Развлечения, путешествия, политика, литература — все мура. Единственным настоящим занятием для нас, бессмертных, могла стать только наука, в многогранности и глубине своей бесконечная, как сама наша жизнь. Один за другим мы пришли к этому все четверо. Альтер подружился с Конрадом и стал одним из ведущих специалистов по прикладной сибрологии. Ленка увлеклась математикой, теоретической сиброфизикой, геометродинамикой и неделями пропадала в Милане у Пинелли. Алена, начав с сиброхимии, закончила свое образование в Сан-Апельсине у «безумного Педро» и считает теперь оранжелогию наукой наук. Мой же выбор был очевиден — биология, медицина, геронтология. Я стал неплохим хирургом и спас не один десяток жизней («Кровавый Брусилов замаливает грехи», — шептали на спиной злопыхатели), я разработал несколько новых методов трансплантации, я изучил механизм сибробесплодия, я забрался в самые недра сиброклетки и постиг структуру окаянного регулятора — этой оранжитовой «шагреневой кожи». И я не верил, по-прежнему не верил в невозможность бессмертия для всех. А потом — это случилось как-то внезапно — знаний оказалось достаточно, и я понял: Угрюмов прав. Шестьдесят четыре года я пытался доказать обратное. И вот все — финиш, точка. Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны.
Раньше всего я преодолел боли. Потом — уже гораздо мучительнее — совладал со страхом. Еще труднее было справиться с совестью и с разъедающей душу ностальгией. Но я и это оставил позади. И я не знал, что самым тяжелым будет крушение надежд. Я оказался вовсе не всемогущ. Я сотворил как раз тот самый камень, который был не способен сдвинуть с места. Но я преодолел и это. Я, правда, сидел три недели в огромной вакуумной камере, и катаясь по ней упругим шаром оранжита, созерцал превратившийся в ничего мир. И думал. А потом, вернувшись в человеческий облик, пожал Угрюмому руку. Теперь я знал, каково ему было все эти годы.
Я пишу свою книгу в разное время и с разным настроением. Я пишу ее не для того, чтоб печатать, и не для того, чтоб закончить — ведь она бесконечна по замыслу. И потому в ней не всегда соблюдена хронология. А где-то, быть может, и логика отсутствует.
Эта книга о том, как я, кому доступны все радости мира, плачу за них самую высокую цену, и потому — должно быть, именно потому — бываю по-настоящему счастлив.
ЭПИЛОГ
— Посмотри, Черный, — сказал Женька, — что мне сегодня Боря подарил.
— Какой Боря?
Черный только вчера вернулся из первой своей межзвездной и был поэтому задумчив и рассеян.
— Ну, Кальтенберг-младший. Я еще по его сценарию фильм снимаю.
— А-а, — протянул Черный. — Ну-ка, ну-ка.
И взял из Женькиных рук сиброкнигу.
Они сидели на лавочке возле памятника, поставленного им больше ста лет назад и украшавшего все это время одну из любимых Женькиных площадей в Москве — бывшую Чернышевскую, бывшую Скобелевскую, бывшую Советскую, а ныне носящую имя Станского. С согласия Эдика площадь не переименовывали — название стало слишком привычным для москвичей, а Эдик был без предрассудков и не считал, что таким образом его заживо хоронят.
— Так это что, — спросил Черный, — вся прошлогодняя история здесь изложена?
— Ага, — подтвердил Женька, — документальная беллетристика: все записано либо с пленок, либо по свидетельствам очевидцев. Кстати, тут и про тебя есть. почитай. Боря неплохо пишет. Отцу-то он, конечно, в подметки не годится, но, знаешь, чтобы из той сумятицы и неразберихи сделать этакий боевичок со стройным сюжетом и четкими идеями, да при этом не исказить ни одного факта — надо обладать определенным мастерством. Почитай.
А Черный уже читал, и Женька, улыбнувшись, достал из пачки сигарету, закурил и стал смотреть на парадно-красное, неизменное в своей величавости здание по ту сторону Тверской — дом генерала-губернатора, он же Моссовет, он же Музей истории власти. Создание этого музея было сродни страусиному закапыванию головы в песок, дескать, раз музей есть, значит власти уже нет. Наивно, конечно, думал Женька, но и приятно вместе с тем.
Потом он стал следить за веселыми по весне суетливыми воробьями, прыгающими вокруг, и перевел взгляд на бронзовые лица четверки полярников. Памятник был отличный. В натуральную величину, без тяжеловесной помпезности, которой отличался их конный предшественник — князь Юрий Владимирович со своей натужно простертой над городом рукой; и в то же время без модернистских вывертов. Скульптура была сделана в лучших традициях классиков, а может быть, ее автор учился у Родена — Женька не взялся бы судить о таких тонкостях. Но все они четверо стояли на постаменте как живые, все, и Любомир тоже.
Женька сидел на лавочке, курил, смотрел на памятник самому себе и ждал Катрин. Сейчас она придет, и они все вместе поедут в порт, а оттуда — на полюс. Потому что завтра — Пятое марта.
Из книги Бориса Кальтенберга «Хроника последнего утра»
5 марта 115 года ВК. 6.00 по Гринвичу
Шеф тайной полиции зеленых Спайдер Китарис шел по специальному переходу от зала партийных конференций к турецкой бане, где его ожидали шикарные бронзовокожие девочки, только вчера прилетевшие с Филиппин. Он шел и мысленно смаковал предстоящее удовольствие. И вспоминал далекие тридцатые годы, когда он был еще мальчишкой, шатался по борделям Калифорнии и Флориды, утраивал роскошные драки и мечтал о власти над миром. Он вспоминал славный тридцать девятый, когда на каникулах в Египте стал вакцинированным. В школе он создал себе репутацию ловеласа, но в действительности как огня боялся женщин. Высокий, широкоплечий, тренированный, он знал, что нравится им, и исходил желанием, но несколько раз, когда доходило до постели, имел возможность убедиться: он ничего не мог, не получалось. Чем больше хотел, тем меньше мог. И он стал их всех ненавидеть. И однажды взял девчонку силой. Вот когда у него получилось! И он почувствовал, что теперь иначе не сможет. Так зверь, вкусивший человечины, становится людоедом. И у Спайдера появилась мечта. Осуществленная в тридцать девятом. В Египте. Он шел теперь по коридору и вспоминал бьющееся под ним тело Лены Брусиловой и восхитительное приторное наслаждение от рвущейся под пальцами плоти. Ничего более прекрасного не было у него в жизни, и, извлекая из памяти те минуты безумной сладости, он всякий раз втайне надеялся, что ему еще доведется испытать их вновь. Хотя прекрасно знал: не доведется. Брусилов обещал убить его. Так разве что перед смертью? Но до смерти было еще лет двадцать биологических, и где-то там маячило бессмертие, сулимое оранжистами и геронтологами, и умирать не хотелось. Теперь особенно не хотелось. Он очень верил в этот день — пятое марта — день начала «Армагеддона» или Второго Великого Катаклизма. Будет такая заваруха, что Брусилову станет не до него, и тогда, быть может, он успеет, получив свое, удрать в какую-нибудь другую звездную систему. Китарис шел по спецпереходу и мечтал об этом.
6.15 по Гринвичу
Станский поправил воротничок рубашки и постучал в дверь Шейлы.
— Да-да, входи, — откликнулась та, и Станский шагнул внутрь.
Шейла в облегающем спортивном костюме быстро передвигалась по комнате, делая нечто вроде гимнастики, и одновременно примеривала к руке различные системы оружия, то и дело прищуривая глаз и целясь в стены.
— Ты готов? — спросила она. — Возьми пистолет. Это необходимо.
Станский выбрал наугад увесистое устройство из вороненой стали и положил во внутренний карман.
— Ты не сердишься на меня? — спросил он.
— Конечно, нет, — сказала Шейла. — Да и не до того сейчас.
Накануне они часов до двух спорили. Начали со злобной перепалки, затеянной Эдиком еще в информатике, потом неожиданно обнаружили большое сходство во взглядах, легко перешли на «ты» и в отличнейшем настроении поужинали, запоздало выпив на брудершафт апельсинового сока и строя грандиозные планы на будущее. Но когда речь зашла о гибернации, мнения их снова резко разделились, Станский подчеркнуто перешел на английский, как бы вновь обращаясь к ней официально, на «вы», Шейла начала непонятно ругаться по-норвежски, дошло чуть не до драки, и только уже среди ночи, внезапно опомнившись, Станский примирительно полез целоваться, но оба валились с ног от усталости и разошлись спать по разным комнатам.
— А куда мы идем? — поинтересовался Эдик.
— В резиденцию Кротова.
— Что, политическое убийство?
— Нет, просто переговоры. Но окончатся они, думаю, перестрелкой.
6.20 по Гринвичу
Андрей Чернов в сопровождении двух брусиловских телохранителей, переодевшихся в не столь вызывающие голубые комбинезоны, покинул «Изумрудную звезду» и отправился на небольшом сиброкате к воротам, ведущим в главный порт города, чтобы как можно скорее выбраться за пределы радиоэкрана и связаться с центральным московским гибернаторием.
— А нас выпустят? — тревожился он.
— Куда они денутся! — успокаивал один из сопровождающих. — У нас пропуска подписаны самим стариком Игнатием.
6.30 по Гринвичу
Миновав все переходы и лестницы, устланные коврами, все двери и тамбуры, возле которых по бое стороны, как неживые, торчали вышколенные стражники в черно-зеленом и, не поворачивая головы, провожали его злобными взглядами, Брусилов открыл, наконец, главную, непомерно высокую дверь и оказался в кабинете Игнатия Кротова, огромном, как спортзал, и строгом, как зероторий, и увидел в конце его за длинным столом в форме буквы «Т» крошечную фигурку председателя под изумрудными полотнищами флагов и барельефом герба партии зеленых — изображением молодого побега, пробивающегося сквозь треснувший Апельсин.
— Проходи, дорогой, садись, — сказал Кротов. — Ты знаешь, зачем ты приехал?
— Разумеется.
— А я боюсь, что ты не знаешь этого. Мне, видишь ли, совершенно безразлично все, что ты хочешь сказать. Я знал, что ты приедешь, я ждал тебя, ждал именно сегодня и теперь прошу выслушать.
— И все-таки начну я, — возразил Брусилов, — по праву гостя. Я хочу сразу внести ясность. Во избежание дальнейших недоразумений. Твой кабинет слишком похож на ловушку. Так вот, если ты думаешь тем или иным образом запереть меня здесь, то это глупо. Меня можно при желании изолировать от всех. Но невозможно всех изолировать от меня. Улавливаешь разницу? А к тому же в принципе невозможно изолировать от меня сибры.
— Знаю, — зевнул Кротов. — Все знаю. Потому и говорю: слушай меня. Можешь ты одновременно отдать приказ всем сибрам самоуничтожиться? Включая те, которые находятся на других планетах и в космосе.
— Могу, — улыбнулся Брусилов.
— Вот и славненько, — еще раз зевнул Кротов. — Этим ты сейчас и займешься. Брусиловский прорыв закончился. Австро-венгерские войны на Юго-Западном фронте переходят в наступление.
— Ну, а если серьезно, чем ты, собственно, угрожаешь мне?
— Тебе? Тебе, как известно, угрожать нечем. Но если ты откажешься уничтожить сибры, этим займутся мои ребята. Они полностью готовы. Они обо всем предупреждены. Пять миллионов человек по всему миру. Они начнут действовать по единому сигналу, данному мной или любым из моих заместителей, если я буду убит. Разумеется, там, где это возможно, они будут нажимать «РОСТ-", но если ты силою своего приказа уберешь эту кнопку, они станут растворять сибры один в другом, а последний уничтожат механически. И я избавлю, все равно избавлю мир от сибров.
— И ты всерьез полагаешь, что тебе удастся это?
— Да! — рявкнул Кротов. — Потому что ваши силы безопасности не готовы к такому удару. Потому что это будет война, а по-настоящему воевать умеют только мои ребята.
Потом он помолчал и добавил:
— И будет очень много совершенно ненужных жертв. Больше, чем во времена генерала Брусилова. Так что думай, Витюша. Времени у тебя осталось мало.
6.40 по Гринвичу
Китарис вышел из бани уже в форме и при оружии, но еще расслабленный, разомлевший, умиротворенный. Баня была на территории резиденции Кротова, и в обычное время здесь можно было ходить без охраны, но со вчерашнего дня, когда Норд стал ареной битвы между грин-блэками и грин-уайтами, безопасных мест в «Полюсе» не осталось. Поэтому у дверей к Китарису сразу присоединились двое, вооруженные сибрострелами. И, как оказалось, не зря.
У поворота на главную лестницу стоял Брусилов.
— Привет, Спайди, — сказал он, — вот мы и встретились.
— Чего тебе надобно, старче? — откликнулся Китарис, стараясь держаться спокойно, но всем существом ощущая, что это конец.
— Я пришел, чтобы убить тебя, — с прямотой идиота сообщил Брусилов.
— Но тебе же нельзя убивать! — воскликнул Китарис. У него появилась надежда, и теперь он тянул время: — Если мир узнает, что ты убийца, власть твоя на том и закончится. Ты не можешь убить! Это блеф!
— Это не блеф, — сказал Брусилов и пояснил, — я убью тебя только морально. Вот здесь, — он поднял руку с сибрострелом, — новейшее психогенное средство…
И тогда по незаметному для Брусилова знаку оба головореза, стоящие позади Китариса дали залп — один в руку, другой в голову. А для того, чтоб удрать, требовались секунды.
— Остановись, Спайди! — кричал Брусилов, но стрелять он еще не мог.
И тут в коридоре возникли Шейла и Станский.
— С дороги! — взревел Китарис.
Станский вжался в стену, но Шейла и не подумала отойти. И тогда бегущий верзила на ходу, даже не притормозив, выбросил вперед огромный кулак, и Шейла, сильно ударившись о стену, скорчилась и рухнула на пол.
«Он убил ее», — мелькнуло в голове у Станского. — «Она же не вакцинирована». И еще не соображая, что делает, он как заправский гангстер из итальянского фильма, поднял двумя руками свой пистолет и выстрелил вдогонку убегающему Китарису. И в тот же миг голова шефа тайной полиции разлетелась по коридору серовато-грязными ошметками.
Станский никак не ожидал такого эффекта, он думал, что держит в руках обычный пистолет, и, увидав, что наделал, тут же выронил оружие и сам упал, подкошенный внезапным приступом слабости и тошноты. Это спасло его. Первые разрывные пули грин-блэков проверещали по стене, а уже в следующее мгновение оклемавшийся Альтер Брусилов — это был именно он — закрыл Станского своим телом, Шейла же, не вставая, двумя точными залпами снесла головы обоим стрелявшим.
6.45 по Гринвичу
— Ну что ж, Игнатий, пожалуйста, я согласен, — неопределенно сказал Брусилов.
Он пытался быстро сообразить, ведет с ним Кротов двойную игру или просто лидер черно-зеленых уже в маразме… «Маразм при наличии оранжита в мозге. Случай Кротова. Обнаружен и исследован доктором Брусиловым в 115 году ВК…» Черт знает о чем он думал. А секунды текли. И угроза была серьезной: большая бессмысленная резня — очень в духе Кротова. Вот только требование его казалось смешным. Неужели он не понимает?..
— Хорошо. Я уничтожу сибры. А как ты убедишься в этом?
— Элементарно, мой дорогой Ватсон. Я приглашу эксперта, и он поставит контрольный опыт по методике Конрада.
— Понятно, — проговорил Брусилов.
Похоже, Кротов был не совсем в маразме.
— Одно условие, — Виктор поднял палец, — я должен выступить по интервидению, чтобы все, абсолютно все были предупреждены о готовящейся акции. Иначе жертв будет не меньше, чем в задуманной тобой войне.
— Жертвы будут в любом случае, — сурово предупредил Кротов. — Политика — это искусство, а искусство требует жертв. Однако в целом ты рассуждаешь верно. Выступление по Интервидению необходимо. Вот только выступать буду я, а не ты.
Появился референт.
— Альтер убил Китариса и его людей, — почти выкрикнул он.
— Неправда! — едва не сбив референта с ног, ворвался в кабинет Альтер в окружении двух грин-блэков.
Следом за ним вошел Станский в наручниках и еще два грин-блэка с носилками, на которых лежала Шейла Патрикссон.
— Брусилов! — взмолился Станский, — эти кретины не хотят звать врача. Сделай же что-нибудь! У нее сотрясение мозга и перелом ребер.
— Садитесь все, — распорядился Кротов. — Снимите с него наручники. Что это за цирк, честное слово?! Брусилову — комплект медицинского оборудования. И никого больше не впускать! Продолжаем переговоры.
— Привет, Евтушенский! — Катрин стояла перед ним в яркой голубой курточке, отороченной белым мехом. — Как твой фильм?
— Первый или второй? — солидно спросил Женька.
— Как, уже есть второй?!
— Еще нет, но я его снимаю. А первый — сама понимаешь — триумфальное шествие по планете!
Год назад, как только умерла Крошка Ли, и Женька вернулся в Москву, он вдруг решил снимать кино. «Рифмоплет — это не профессия», — сказал Женька. Да и стихи свои он ценил не слишком. Особенно после того, как почитал новых поэтов. А вот псевдоним оставил. И появился в кинематографе двадцать первого века режиссер Андрей Евтушенский (Черный звал его теперь Евтушенский-Пазолиниенко). Он сделал фильм «ЧЕрнота кровавой зелени» — о Кротове и кротовцах. И не исторический, нет — о современности и очень актуальный. Может быть, фильму и не хватало некоторого профессионального блеска, зато в нем была клокочущая ненависть к фашизму и удивительное, истинно поэтическое умение выражать мысль через образ. Что же касается злободневности, то, к сожалению, это действительно было так — со смертью Кротова кротовцы не исчезли, они лишь превратились из черно-зеленых в просто черных.
— Поздравляю, — сказала Катрин. — Мы летим?
— Летим, конечно.
— А Станский?
— Станский — своим ходом. Он же на Марсе. Вместе с Шейлой «озеленяет» красную планету.
— Не опоздает?
— Не должен.
— А этот во что вклеился? — показала она на Черного. — Жены уже не замечает даже.
— В «Хронику последнего утра».
— Знаю про эту вещь, ее по «ящику» рекламировали. Интересно бы почитать. Мы еще ждем кого-нибудь?
— Вообще Борис может подъехать. Я, правда, не обещал его ждать, но спешить вроде некуда, и погода хорошая. Посидим тут?
— Посидим, — сказала Катрин. — Сигарету дашь?
Но сначала взяла у Черного книгу и сделала себе копию.
— Женьк, ты не обидишься, если я тоже полистаю?
— Да ради Бога. Курить-то будешь?
— Ух ты! Это что, марсианские?
— Нет, на Титане делают.
— Ну, ты пижон, Женька! А вот скажи, почему ты так давно не совершал каких-нибудь сумасшедших поступков?
— А фильм?
— Это не то. Вот если бы какую-нибудь бомбу бросить или, ну, я не знаю, во Всемирный Совет верхом на жирафе въехать…
— Извини, Катрин. Старею, наверное, — серьезно и грустно ответил Женька.
7.00 по Гринвичу
Крошка Ли спала, уютно свернувшись под простыней калачиком, а Женька так и не смог заснуть. Вторая книга Брусилова не шла у него из головы. Пожалуй он даже не сумел бы объяснить, что именно так потрясло его, но он вдруг почувствовал себя настолько чужим на родной планете, насколько это вообще было возможно. Он знал, что рано или поздно преодолеет это ощущение, как преодолел Брусилов все свои кошмары и трудности, как преодолело человечество и переходную эпоху, и гибернационный бум, и всемирный потоп изобилия. Он был уверен, что преодолеет, но сейчас ему ничего не хотелось: ни всевозможных кушаний, которые были здесь изумительно хороши, ни роскошной выпивки, за которую не надо было платить похмельем, ни восхитительной Ли, заставившей его в эту ночь забыть об ужасе надвигающейся неизбежной потери. Ничего не хотелось. Даже спать. А уж это было совсем чудно.
Он вдруг понял, почему в сеймерном мире люди перестали пить. Не интересно же, когда всего полно, когда не нужно выстаивать в очереди, или доставать за бешеные бабки, или создавать собственными руками. И по той же причине они заменили еду на таблетки. Впрочем, если так рассуждать, в половой жизни они должны были перейти искусственное оплодотворение. Ерунда получается.
И Женька принялся размышлять о том, что он станет делать в этом мире. Делать было, прямо скажем, нечего, и он пришел к выводу, что надо лететь на какую-нибудь далекую малоосвоенную планету — там все будет гораздо привычнее. Наверно, это была ужасная романтическая чепуха, но она утешала, и он поднялся и уже несколько бодрее зашагал по комнате.
7.05 по Гринвичу
Шейла уже могла сидеть, и Брусилов вместе с ней вернулся за стол переговоров. Альтер, заставивший Кротова повторить все его требования и мгновенно оценивший ситуацию, повернулся к Виктору в ярости:
— Ты что же это, медик-педик! (Извините, Шейла.) В политике ни бум-бум, а туда же — переговоры вести! Ты какие условия принимаешь?! Решил позабавляться с оранжитом? А пресс-генераторы всех видов? О чем ты собирался предупреждать летчиков и космонавтов? О том, что у них через минуту отключатся все двигатели? И потом. Ты получил какие-нибудь гарантии своей безопасности? Или ты думаешь, что Кротов тебя отпустит за так? Да он тебя в бетон замурует и упрячет где-нибудь в соседней галактике. Верно, Кротов?
— Говори, говори, — сказал Кротов. — Складно у тебя получается.
Губы у него побелели, а на лбу выступил пот.
И тут снова вошел референт.
— Доктор Сидней Конрад. Разрешите впустить?
7.10 по Гринвичу
— Вставай, Ли, — сказал Женька, — все на свете проспишь.
— Вредный ты, Зайчик, — проворчала Ли, потягиваясь. — Что я могу проспать, кроме собственной смерти?
Женька сам удивлялся, как быстро свыкся он с чудовищной, по понятиям двадцатого века, мыслью о запланированной смерти. Свыкся вполне, но шутить на эту тему еще не умел. Поэтому от фразы Ли он вздрогнул и поспешил перевести разговор. Не получалось у них говорить об этом. Накануне вечером Женька даже не смог выяснить, детерминистка Ли или нет.
— Послушай, — спросил он, — я все никак не пойму, откуда в вашем мире могут взяться проститутки, если денег давно уже нет.
— Дурачок, — сказала Ли, — во-первых, не проститутки, а гетеры, а во-вторых, причем здесь деньги? Нам платят иначе. Роскошью человеческого общения, например. Кто-то из твоих современников сказал, что это величайшая в мире роскошь.
— Да, он только не догадался, что в будущем ее сделают разменной монетой. И неужели, скажи, неужели общаться можно лишь только так?
— Ну, разумеется, нет. Однако великих людей мало, да и просто знаменитых немного, а общаться с ними хочется всем. Возникает конкуренция. И тут пожалуйста: один интересен в интеллектуальном споре, другой — на теннисном корте, а я — вот… Ты пойми, Зайчик, в мире абсолютного изобилия обесценилось далеко не все. Есть доступ в определенные сферы, есть возможность участия в межзвездных экспедициях, есть право на выбор планеты, есть власть, наконец, — все это не для всех. Всегда будет что-то, чего на всех не хватит. А мы, гетеры высшего класса, имеем многое, почти все. Благодаря таланту, конечно, — добавила она.
— Талант… — задумчиво повторил Женька.
— Обязательно талант, — сказала Ли убежденно. — Сегодня талант необходим в любом деле. Иначе просто не имеет смысла работать. Ведь мы работаем прежде всего для удовольствия. На всякой работе.
— И ты получаешь удовольствие от своей работы?
— К сожалению, не всегда. Последнее время все реже. Надоело, наверное. Социологи уверяют, что профессию надо менять минимум раза два-три в жизни, а некоторым и чаще. Мы все-таки очень долго живем. А потом с этой кротовской политикой в городе становится все меньше приличных людей и все больше каких-то отвратительных типов.
— А тебе не кажется, что это закономерно?
— Что именно?
— Что вокруг борделя собираются по преимуществу отвратительные типы. Понимаешь, я никогда не был против самой идеи проституции, как профессии, тем более в ее красивом древнегреческом варианте. Гетера, — произнес он с чувством, — звучит-то гордо как! Но так уж получалось всегда, да и сейчас, как видно, получается — ничего тут сибр не изменил — в борделях скапливалась вся грязь, вся нечисть, все подонки преступного мира. Почему это, Ли, почему?
— Зайчик, а ты становишься пессимистом. Ты видишь во всем плохое.
— Это ваш искусственный город делает меня таким, — мрачно пояснил Женька.
И понял вдруг, чего он хочет.
— Я хочу дождя, и леса с шумящими деревьями, и мокрой травы, и солнца, и пения птиц! Ли, я хочу на волю из-под этого колпака! Как вы живете здесь, Ли?!
— Успокойся, Зайчик, здесь все это есть. Ты просто плохо знаешь Норд.
— Где здесь? Под колпаком? — удивился Женька.
— Ну, да.
— А я настоящего хочу. Настоящего. Понимаешь?
— Понимаю. Мы же здесь небезвылазно торчим. И тебе за дождем придется поехать на юг. А вот солнце… Ты знаешь, какое сегодня число? Полярная ночь сегодня кончается.
7.15 по Гринвичу
Конрад подошел к столу и положил перед Кротовым оранжевую горошину.
— Что это? — спросил председатель.
— В некотором роде оранжит, — пояснил Конрад и добавил, — а теперь смотрите.
Горошина начала быстро расти и превратилась в сибр, который несколько раз на глазах у ошарашенной публики переменил свой внешний вид. Шейла вскочила и, охнув от боли, упала обратно в кресло. Альтер смотрел на Брусилова и улыбался одними глазами, боясь раньше времени выдать свою радость. Станский ничего не понимал, а Кротов, ставший белым, как молоко, произнес:
— Ты что, Сид, на старости лет решил стать фокусником?
— Это не фокус, — сказал Конрад. — Это искусственный оранжит. Только сегодня сделал. Тебе привез показать. Так что ты на это скажешь, товарищ Кротов? Стоит ли теперь с сеймерами бороться?
А Кротов ничего не сказал. Кротов был мертв.
Альтер заметил это первым. Он вскочил, обнял Виктора, потом Конрада, потом охнувшую от боли Шейлу и, наконец, даже Эдика.
— Блестяще, ребята! — приговаривал он. — Просто потрясающе! Я вам как политик говорю, это выше всяких похвал!
Тут до Станского дошло, и он спросил:
— Так это что, был блеф, сэр Сидней?
— Да какой, к чертовой матери, блеф! — разозлился Конрад. — Я всю жизнь работаю над созданием искусственного оранжита, наконец, совершаю вторую всемирную революцию, и в благодарность за это один, не успев слова сказать, отдает Богу душу, а второй кричит: «Молодец, старик, это был гениальный блеф!»
— Да ты что?! — Альтер отказывался верить.
И Виктор сказал ему:
— Дурачина. Разве ж я умею из горошины сибр выращивать? Покойник-то наш умнее тебя оказался.
— Всем руки вверх! — послышалось от двери и сидящие за столом обернулись.
Шестеро грин-блэков стояло вдоль стены с оружием в поднятых руках.
7.20 по Гринвичу
В центральном московском гибернатории вернули к жизни гражданку Земли Беленькую Екатерину Сергеевну 1957 года рождения, дата вакцинации — 8 февраля 2 года ВК, дата криоконсервирования — 4 июля 11 года ВК. И вместо обычного вопроса: «Какой нынче год?» или «С бессмертием все по-старому?», она спросила:
— Он жив?
7.22 по Гринвичу
— Ребята, спокойно, — заговорил Альтер. — Вы же видели, никто не убивал старика Игнатия. Элементарная сибротодия от нервного потрясения. Да и вам никто не угрожает.
Но кротовцы по-прежнему целились в пятерых за столом.
Обстановку разрядил Мартин Патрикссон, один из приближенных к председателю партийных чиновников. Он вошел, скомандовал грин-блэкам «вольно», словно те стояли «смирно» — грин-блэки в нерешительности стали опускать оружие — и обратился к председателю: — Дорогой товарищ Игнатий, разреши доложить… Э, да тут уже без меня все кончилось!
И он стянул с лица маску Мартина, сказал «Ф-фу-у», и на его настоящем лице расцвела улыбка.
— Знакомьтесь, — представил Альтер, — мой агент Вольдемар. Попросту Вова.
— А вы знаете, друзья, где мы все с вами находимся? — вопросил Вова. — На борту межзвездного корабля.
— Уже летим?! — буквально подпрыгнул Станский.
— Да нет, теперь уж, слава Богу, никуда не летим. Они должны были получить сигнал от Кротова лично. Но рисковали вы, ребята, здорово. И вы! — повернулся он к ошалело-настороженным грин-блэкам. — Хозяин ваш сукою оказался, прости Господи. Ради того, чтобы Брусилова в другую галактику запузырить, он бы и вас с субсветовой скоростью на верную гибель отправил. Честно говоря, и не знаю, на чем бы мы вас догонять стали. Мощная эта игрушка у Кротова. Сержант! — крикнул он старшему из охраны, как бы забыв, что он уже не Мартин Патрикссон. — Вы и ваши люди можете быть свободны!
И окончательно растерявшиеся грин-блэки ретировались.
7.25 по Гринвичу
Служба связи города Норда обнаружила исчезновение экрана над Северным полюсом. В наушниках радистов зазвучали внезапно сигналы станций Европы, Америки, Африки и, наконец, послышалось: «Говорит Сан-Апельсин…» Показания всех приборов сверили дважды: это была не мистификация.
7.30 по Гринвичу
— А скажи нам, Вова, — поинтересовался Брусилов, — эти кротовские парни, которые ждут сигнала по всей планете, они что, действительно готовы стрелять налево-направо?
— Боюсь, что да.
— Твои рекомендации, Альтер.
— Надо выступить по Интервидению: «Всем, всем, всем…» Ну, и так далее. Это единственный выход. Сколько в нашем распоряжении, Вова?
— Времени? Вагон. До полудня по Гринвичу можем чесать в затылке. Но вообще я бы советовал уже сейчас выступать кому-нибудь от имени зеленых.
— Зачем кому-нибудь? — удивился Конрад. — Вот Шейла.
— Шейла — хорошо, — согласился Альтер, — но нужен еще кто-нибудь из черных.
— Найдем, — сказала Шейла. — Доведите меня до ближайшей машины и поехали за пределы экрана.
7.40 по Гринвичу
Группа лиц неизвестной политической принадлежности взорвала ворота главного входа в центр Норда, и студеный ветер, врывавшийся под колпак, трепал наскоро повешенный над обломками транспарант с надписью красным по белому: «Долой пропускную систему!»
7.45 по Гринвичу
— У меня очень много вопросов, Сид, — предупредил Брусилов, когда они остались вдвоем в огромном и унылом, как разграбленный храм, кабинете Кротова с мертвым председателем во главе стола.
— Понимаю, — сказал Конрад. — Тебя, например, интересует, отличаются ли мои способности от твоих?
— Да, и это тоже… Слушай, а может, выпьем? Пока никто не видит. Такой повод! А?
— Что может быть глупее, если мы оба непьющие? — рассудил Конрад. — Но, знаешь, я согласен. Поищи там у председателя.
— Сейчас… О! Что это? «Столичная». Годится.
Виктор поставил на стол пузырек с яркой этикеткой и два стакана.
И тут послышалась стрельба.
— Ну, нет покоя в этом городе! — вздохнул Брусилов и пошел к двери посмотреть, что там происходит.
— Фанатиков много развелось, ворчал Конрад, идя за ним следом, — а их так просто не утихомиришь… Вот вам, пожалуйста!
Дверь распахнулась и влетел фанатик. Действительно фанатик — предводитель кротовских штурмовиков Микола Дрон.
— Сволочь заокеанская! — крикнул он Конраду и выпустил из короткого автомата, держа его у бедра, целую обойму в первого сибролога планеты.
Брусилов даже не успел кинуться под пули. А с Конрадом произошло нечто странное. Заряды, по-видимому, разрывные не только не разорвались, но, похоже, вовсе не причинили Сиду вреда. Один за другим они погрузились в тело с чмокающим звуком, после чего Конрад засмеялся и выплюнул на пол дюжину обезвреженных кусочков металла.
— Вот это да! — восхищенно сказал Брусилов.
А Дрон заплакал. С ним сделалась истерика.
— Не плачь, Микола, — сказал ему Сид. — поезжай-ка лучше за пределы экрана, да расскажи всему миру по Интервидению, что тут с тобой приключилось.
— Дураки, — сказал Микола, успокаиваясь, — нет уже никакого экрана. Пропал. Прямо отсюда можно на всю планету вещать.
— Доброе известие, — похвалил Брусилов. — Иди к нам. Налить тебе водки?
8.00 по Гринвичу
Через пролом в стене вошли в Полярный центр Норда прибывшие из Антарктиды Педро Уайтстоун с Аленой и Джиованни Пинелли с Ленкой.
— Развал империи! — съехидничал Педро, удовлетворенно оглядывая разрушения.
— Как знать, — усомнился Пинелли, — хотелось бы для начала пообщаться с ребятами из Научного центра зеленых.
8.15 по Гринвичу
— Так значит, всеобщее бессмертие? — сказал Брусилов, как только они сумели выпроводить уже слегка захмелевшего Миколу.
— Это еще с какой стати? — улыбнулся Конрад.
— Не понял. А как же ты?
— А я так же, как ты. То есть, неизвестно как.
— Ах, вот оно что…
— Именно, именно. Хочешь мою гипотезу? Точнее, она не моя, а Вэна, просто я ее к сегодняшнему случаю прилагаю. Они ставят над нами эксперимент. И никогда мы не поймем до конца ни их цели, ни их методы. Но стараться надо. Я очень старался. И вот меня наградили. Или наказали. Не знаю. Скорее всего ни то и ни другое. Не понять нам их.
— И почему экран пропал, тоже не поймем?
— Сам факт его исчезновения, думаю, будет для Пинелли серьезной подсказкой, но вот беда: мы же так и не знаем, почему этот экран возник. Есть только гипотезы, а окончательного ответа нет.
— А разве в науке вообще бывают окончательные ответы?
— Бывают, — сказал Конрад.
Брусилов помолчал. Потом спросил:
— Слушай, Сид, а они — это кто?
— Хороший вопрос, — грустно покивал Конрад. — Не люди. Я почти уверен, что не люди. И поэтому людям — в большинстве — на них наплевать. Люди должны решать свои проблемы, — он сделал паузу и выпил. — Вот появилась, например, проблема — твой любимый ЧКС, который ты так долго ото всех прятал. Теперь же каждый будет волшебником. Нет, не для твоих сибров — твои останутся тебе — для своих. А представляешь, каких еще штук напридумывают миллиарды землян. Куда там твой человекокопирующий! Вот они, брат, проблемы где.
— Но ведь можно и не давать людям оранжит, — сказал Брусилов.
— Можно, — согласился Конрад, — можно было и сибр не давать. Или нельзя? А, Брусилов? Проблемка столетней давности?
Брусилов молчал.
— То-то, — сказал Конрад. — Наливай.
8.20 по Гринвичу
Зкстремисты-анархисты Хантега Сантос и Артем Чайников, пользуясь обстановкой всеобщего беспорядка, сотворили перед входом в «Полюс» целый террикон из отрезанных голов Кротова, Китариса и Дрона. Такого в Норде не видели со дня его основания.
8.45 по Гринвичу
— Вы посмотрите на этих алкоголиков! — закричала Ленка, вошедшая первой, а потом целая шумная толпа ввалилась в кабинет Кротова.
— Па-асторони-ись! Па-асторони-ись! — протяжно, нараспев выкликали двое, катившие перед собой тележку с видеотрансляционной техникой.
— Исторический разговор двух бессмертных должна не только слышать, но и видеть вся планета, — провозгласил один из них.
— Что вы хотите сказать? — не понял Брусилов.
— То, что и сказал. Слушаем мы вас уже давно. Как только ушли Альтер и Шейла, мы с их любезного разрешения переключили подслушивающую аппаратуру, установленную здесь еще лет десять назад, на городскую радиосеть. Ну, а когда экран пропал, сами понимаете…
— Ох уж эти журналисты! Вторая древнейшая профессия. Сид, мы тут с тобою ничего лишнего не говорили?
— Лишнего, — наставительно произнес Конрад, — не надо говорить никогда и нигде.
На что мудрый Хао Цзы-вэн философски заметил:
— Если бы только можно было знать, что именно считать лишним.
— Действительно, — согласился Конрад. — Но я не намерен скрывать ничего. Итак, полагаю, в первую очередь, всех интересует бессмертие. С моей точки зрения, все в этом плане по-прежнему. Однако доктор Угрюмов считает, что в самом ближайшем будущем проблема бессмертия станет проблемой чисто юридической. Мне импонирует его оптимизм, меж тем на сегодняшний день нам известны лишь шестеро бессмертных.
— Шестеро?! — вытаращился Брусилов.
— Именно шестеро, — из-за стола поднялся Уайтстоун и раскланялся во все стороны. — Но, дамы и господа, товарищи, братья мои, я тоже совершенно не представляю, как это получилось. Я, правда, родился точно в день и час появления на Земле Апельсина. Но ведь не один же я такой. Разве только мое рождение совпало с прибытием Апельсина до секунды…
9.45 по Гринвичу
— Ой, Андрюшка, что это? — спросила Катя, кутаясь в пушистую белую шубку и показывая мохнатой варежкой в сторону горизонта. — Северное сияние?
— Нет, — сказал Черный, — это рассвет. Начинается день.
Они стояли на пирсе, студеные валы прибивали к берегу ледяную кашицу, а вдалеке, над торосами занималось яркое зарево. Слева от них мягко ткнул носом в бетон обшарпанный «башмак» старика Билла. Рыжий капитан в расстегнутом бушлате вышел на палубу, потянулся, выбил о перила фальшборта трубку и, набив, раскурил ее заново. Из кармана у него торчало горлышко бутылки, заткнутое газетой.
— Привет, Билл, — сказал Черный. — Знакомься: это Катрин.
— Привет, — отозвался Билл, почтительно склонив голову и представился: — Уильям Нурвик.
— Ух ты! — сказал Черный.
Билл отхлебнул из своей квадратной бутылки и предложил:
— Хотите?
— Давай, — согласился Черный, забираясь вместе с Катрин на борт «башмака». — Скоро пить бросаю.
— Да ну?!
— Точно. А вот ты, Билл, скажи, мечтал когда-нибудь стать бессмертным?
— Аск!
— Значит, будешь.
Старик Билл щурился от дыма и добродушно улыбался.
— Не веришь, — сказал Черный, передавая бутылку Кате. — А между прочим, Угрюмов сказал. На полном серьезе, по Интервидению. Вот только что.
— Иди ты! — сказал Билл.
— Точно, — подтвердил Черный. — Сидней Конрад искусственный оранжит сделал. Так что мы все теперь волшебники. Понял? А у тебя отличный бренди, Билл!
— Так значит, за здоровье старины Сида?
— И за твое здоровье, капитан! Кстати, а почему ты не вакцинирован?
— Я вакцинирован, — пояснил Билл, — но в возрасте шестидесяти одного года. Я, ребятки, выходец из зеленых. От зеленой партии к зеленому змию, — улыбнулся он.
А Черный подумал и не стал спрашивать, сколько же Биллу теперь лет.
10.30 по Гринвичу
Пресс-конференция в кабинете Кротова продолжалась. Журналисты наладили прямую связь со зрителями, и вопросы сыпались самые разные, в том числе и совсем глупые.
— А трупы воскрешать можно будет?
— Какой вы труп хотите воскресить, этот, что ли? — вопросом на вопрос отвечал Конрад, показывая на мертвого председателя.
А Угрюмов отвечал серьезно:
— Помилуйте, господа, это же проблема проблем! А искусственный оранжит получен только сегодня.
— Вопрос Брусилову: что вы чувствуете сейчас?
— Облегчение. Огромное облегчение. Как будто я нес на Голгофу крест, долго нес, утомительно долго, а потом споткнулся и уронил его, и крест упал куда-то в глубокое ущелье и раскололся, наверно, не достать его теперь, и вроде обидно, все-таки мой крест, а с другой стороны — так легко! Вот и отдохну теперь. По-настоящему отдохну. Наконец-то.
— Эй! — шепнул Женька, — тыкая Черного в бок. — Смотри.
Катя тоже оторвалась от книги и подняла голову.
Со стороны Пушкинской площади подошли пятеро юнцов с ног до головы в черной коже и со сверкающими на солнце большими металлическими буквами «К» на груди.
— Подонки, — тихо проговорил Черный. — Откуда только берутся такие?
— От сырости, — грустно пошутил Женька и добавил: — Где бы сушилку найти? Надежную и вполне безопасную.
— Ребята, — строго сказала Катрин, — только не драться.
А кротовцы, похохатывая, приблизились к памятнику — самих полярников, сидящих в стороне, они не замечали — и вдруг с громким гиканьем принялись обшвыривать бронзовые фигуры яйцами, должно быть, тухлыми, и еще какой-то липкой гадостью в пакетиках.
— Весело им, — сказал Черный.
— Да-а уж, — протянул Женька, нервно обшаривая карманы.
— Не вмешивайтесь, ребята, ради Бога, не трогайте вы этих дураков, — твердила Катя, уже понимая, что остановить ей никого не удастся.
У одного из юнцов обнаружилась в руках странная увесистая штука, и непонятная еще ассоциация вдруг больно кольнула Женьку. А тот, размахивая своей штуковиной, прыгал вокруг памятника и ухал, как обезьяна. И Женька вспомнил. И в тот же самый момент юный кротовец поднял оружие — да, это было оружие, это был арбалет! — и выстрелил.
Короткая тяжелая стрела ударила в бронзовый висок стоящего на постаменте Любомира, заляпанного яичной скорлупой и гнусными потеками…
— А ну-ка, сволочи, вон отсюда! — бросился Женька к резвящимся юнцам.
И Черный вскочил за ним следом.
— Вы у меня языком будете вылизывать этот памятник, подонки! — кричал Женька. — Слышите?! Считаю до трех.
Кротовцы было решили драпать, но их неформальный лидер, тот, что стрелял — он был постарше и покрупней — сделал им знак стоять, мол, кого вы испугались, товарищи, их же всего двое и баба. И эти мальчишки в черной коже с блестящими буквами, дрожа от страха и злости, и от сладостного предчувствия настоящей драки — с самим Евтушенским, с самим Черным! — стояли, расставив полусогнутые ноги, растопырив пальцы рук, приоткрыв от напряжения рты, и ждали.
— Раз, — сказал Женька, обращаясь уже персонально к их главному и делая шаг в его сторону.
— Два, — сказал он, подойдя почти вплотную.
— Три!!! — завопил кротовец и с неожиданной ловкостью и силой ударил Женьку арбалетом по голове.
И когда Женька упал, те четверо рассыпались, как горох. Только их лидер замешкался на мгновение, и Черный обрушился на него одного… С размаху, ногой в живот, и пониже, и еще раз, и еще…
— Я тебя, гада, на всю твою поганую жизнь в тюрьму запихаю! — шипел он над скорчившимся телом.
А Катя сидела возле Женьки на коленях и расстегивала ему воротник рубашки.
— Он жив, Андрей, — выдохнула она. — Врача! Скорее!
Черный бросился к улице и в этот момент Женька прохрипел:
— Все равно завтра буду в Норде.
— Перестань, глупый, не говори сейчас ничего.
— Ерунда, — улыбнулся Женька через силу. — Ну, как тебе мой безумный поступок?
— Молчи, молчи, — повторяла Катя.
Вернулся Черный.
— Спокойно, Жека. Сейчас будет врач.
— Ты скажи ему, — попросил Женька, — что мне умирать нельзя. Понимаешь, никак нельзя. Если умру, Брусилов их всех передавит. Собственными руками передавит. А они же еще дети, придурки…
— Что ты несешь, Жека? — строго сказал Черный. — Да тебя любой фельдшер вылечит. И мы с тобой еще бессмертными станем. Ты же сам всегда говорил: за семьдесят-восемьдесят лет, что нам отпущены, неужели не откроют секрет вечной жизни?
— Верно, — прохрипел Женька. — А завтра — в Норд.
— А завтра в Норд, обязательно, — согласился Черный, хотя оба они прекрасно знали, что черепно-мозговые травмы, даже у вакцинированных, лечатся очень и очень не быстро.
— Слушай, Рюша, ты знаешь…
— Да замолчи же ты, замолчи! — взмолилась Катя.
Женька с трудом глотнул, потом слегка повернул голову и сплюнул кровь. И Черный вдруг увидел неправдоподобно большую трещину в Женькином черепе.
— Догадайся, Рюша, — проговорил Женька, — чем заканчивает Борис свою «Хронику».
— Каким-нибудь театральным выстрелом в последнего негодяя? — предположил Черный, ощущая всю неуместность подобного разговора. — Или философским рассуждением с афоризмом в конце о бесплодности всех наших надежд?
— Не угадал, Рюша. Ты прочти. И тогда поймешь, за что я люблю этого парня. Он оптимист. И без него в моих фильмах была бы одна чернуха. Я ни во что не верю. Понимаешь? А он верит.
И Женька замолчал.
А Черный не думал про Бориса и его книгу. Черный думал про Женьку. Конечно, его еще могут спасти. Но если не спасут, он все равно будет завтра в Норде. И ни Черный, ни Катя действительно ничего не скажут Брусилову. На всякий случай.
Женька как член секретариата Всемирного Совета творческих деятелей имеет право на сиброкопию, и, может быть, завтра в Норде с ними вместе будет пить и веселиться Женькина копия, совсем свеженькая, сделанная неделю назад. И все будет здорово. Но только Черный ведь не сможет забыть ни эту площадь, ни этот оскверненный памятник, ни этих подонков, ни эту кровь на каменных плитах, ни эту трещину в черепе… Он будет помнить. И будет пить весь праздник. И когда-нибудь он обязательно расскажет обо всем новому Женьке. Когда-нибудь. А сейчас думать об этом было страшно. Страшнее всего.
5 марта 115 года ВК. 11.00 по Гринвичу
На набережной возле порта гремела музыка. Целые толпы веселящихся жителей изо всех ворот стекались сюда. Первым делом по традиции подходили к морю и бросали в воду оружие. А потом окунались с головой в прекрасный Праздник возвращения солнца. И праздник кружил людям голову. И головы в нем теряли. Повсюду рвались ракеты, шутихи, петарды. Искрились бенгальские огни. Конфетти летело дождем, и огромные белые снежинки парили в морозном воздухе. А снег под ногами был утоптан до твердости и блеска выложенного мрамором проспекта. На нескольких только что собранных сценах выступали циркачи, музыканты, танцовщицы. Мелькали в толпе расторопные, но чопорные официанты во фраках с подносами, полными напитков и кушаний. По серым волнам сплошь в огнях скользили быстроходные глиссеры. Чертили в небе узоры яркие светящиеся авиетки.
— Здорово! — сказал Женька.
— Еще бы! — ответила Ли.
— Слушай, я вот только никак не пойму, чему они все так радуются, Ли? Ну, сделали искусственный оранжит. Ну, старик Игнатий преставился. А в целом-то все по-старому. Верно?
— Дурачок, — ответила Ли в своей излюбленной манере, — тебе этого не понять. Они же день встречают, Новый День! Пойдем-ка к Нурвику. Там должны быть ваши.
И тогда они вышли к пирсу, шум и сверкание праздника остались в стороне, за высоким торосом, а здесь лишь шелестели ленивые волны, перекатывая льдистое крошево, да светила слабыми, рыжими и уже ненужными огнями старенькая лоханка Билла Нурвика. На пирсе в форменной куртке экспедиции стоял Черный и рядом с ним Катя, похожая в своей шубке на белого медвежонка.
— Идите сюда! — закричал Рюша. — У нас есть, что выпить.
И Женька поднял Крошку Ли на руки, а ее уже много лет никто не носил на руках, и теперь она смеялась, счастливая, а Женька тоже смеялся и легко бежал по рыхлому снегу к пирсу.
На палубе «ледового башмака» Эдик откупоривал шампанское. Черный, Катрин, Нурвик, даже Шейла — все держали в руках бокалы.
— За наступление дня! — провозгласил Черный.
Из-за тороса появился Конрад со всею шумной разноязыкой компанией ученых и журналистов. Крошка Ли принялась показывать и объяснять Женьке, кто есть кто на этом невиданном симпозиуме, и они уже разобрались почти со всеми, когда Черный вдруг крикнул:
— Смотрите!
Сверху, от стен города по заснеженному склону, перепрыгивая со льдины на льдину, сбегали Брусиловы. Все четверо были в пляжных костюмах, смуглые, стройные, волшебно красивые на фоне сверкающего золотом снега. И с ними была Светка.
Веселая, радостная, обманувшая смерть Светка Зайцева в одних блестящих трусиках на кнопках.
— Айда купаться, ребята! — закричал Брусилов, и, дружно высоко подпрыгнув, они все пятеро с хохотом и визгами побежали вдоль пирса к воде.
И тогда над белой безбрежностью океана показалось солнце — огромный оранжевый шар с южного края небес, и снег заискрился, и льдины заиграли всеми цветами радуги, и день настал.
1981-1991 г.
НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК С НЕНОРМАЛЬНОЙ ПЛАНЕТЫ Об авторе этой книги
Ант Скаландис, известный в прежней жизни друзьям и знакомым как Антон Молчанов, родился в Москве в семье фотографа-художника и учительницы литературы во времена правления Хрущева. Школу (английский со второго класса) и Менделеевский химико-технологический институт (вот откуда название «Катализ»!) закончил при Брежневе. При горбачевской перестройке доблестно трудился на благо советской военной науки в институте вакуумной техники, а затем — уже на благо вполне мирной технологии — в институте автомобильной электроники. Испытав на себе вторую модель хозрасчета, вдруг неожиданно стал получать за работу деньги. В смысле, приличные деньги. Но в тот же исторический период начал активно писать, забросив напрочь науку и производство, а в результате — отдал силы и душу издательскому бизнесу, коим и занимается до сих пор. Поначалу работал в издательстве «Текст» директором одного из структурных подразделений, позднее работал там же простым редактором. (Странно. Как правило, бывает наоборот.) После ухода из «Текста» руководил издательской деятельностью в целом ряде не ставших, знаменитыми, а то и вовсе никому не известных фирм: «Моби», «Арка», «Летавр», «Кит», «Союз». Тесно сотрудничал с издательством «Джокер».
Начиная с «Джокера», всю издательскую деятельность Скаландис осуществляет совместно с женой Ириной. Даже частичный перечень изданных ими за неполные четыре года книг поражает разнообразием: «Англо-русский коммерческий словарь» и «Наемники» Уилбура Смита, «Последнее искушение Христа» Никоса Казандзакиса и «Китайская астрология», «Незнакомая местность» современного прозаика Александра Моршина и сборник «Народные методы лечения», «Медвежатник» Ричарда Старка и «Тантрическая йога секса», «Безопасное существование женщины в мегаполисе» Евгения Гаткина и эротический триллер Троя Конвэя «Похождения коксмена»…
В своих творческих пристрастиях автор несколько более постоянен.
Началом его литературной биографии можно считать раннее детство, так как Ант начал сочинять раньше, чем научился писать, а первые его произведения, сохраненные матерью, относятся к шестилетнему возрасту. Впрочем, можно нести отсчет и от первой публикации в журнале «Химия и жизнь» в 1986 году — с НФ рассказа «Ненормальная планета N 386». За этим последовали многочисленные публикации его фантастических произведений в журналах, газетах и сборниках, а также три не имеющие отношения к фантастике в первом альманахе «Апрель», в «Студенческом меридиане» и в «Книжном обозрении». Особняком стоит яркий политический памфлет «Совраска» в журнале «Столица» (первоапрельский номер 1991 года), написанный совместно с Василием Лобовым и Павлом Кузьменко.
Дебютный авторский сборник рассказов Анта Скаландиса «Ненормальная планета» вышел в издательстве «Мир» в самом начале 1990 года. Он стал первой и последней книгой отечественного фантаста в этом издательстве. Через два года, в 1992-м, Скаландис (а точнее, Молчанов) выступил в новой для себя роли — составителя. Материал для сборника «Парикмахерские ребята» (издательство «Советский писатель») подбирался до известной степени по итогам ежегодного Всесоюзного семинара молодых фантастов в Дубултах. Скаландис был активным участником этого семинара, а на последнем, историческом, в 1990 году, накануне развала всего, что прежде называлось «Всесоюзным» — побывал и в роли старосты. К сожалению, идея регулярных сборников в «Совписе» угасла одновременно с идеей семинаров.
И наконец, роман «Катализ». Начатый в глухую застойную пору, он был закончен (в первом варианте, или, если угодно, в первом чтении) к концу 1987 года. Перестройка уже широко шагала по стране с «Покаянием» и «Детьми Арбата» на знамени, однако тогдашний собрат Скаландиса по перу Леонид
Моргун безжалостно, но справедливо заметил: «Раньше «Рlау-Bоу» начнут продавать в киосках «Союзпечати», чём напечатают твой роман». Пророчество сбылось, хотя через три-четыре года в нем уже нельзя было усмотреть никакой логики. И даже русскоязычное издание «Плейбоя» вышло в свет на полгода раньше той книги, которую вы, читатель, держите в руках. А журнальный вариант романа в днепропетровской «Молодежи и фантастике» (за что, конечно, спасибо главному редактору Александру Левенко) — все-таки не в счет, тем более, что и он — в смысле пророчества Моргуна — опоздал.
В настоящее время Ант Скаландис наряду с упорно продолжаемой издательской деятельностью написал и сдал в печать свою новую фантастическую повесть под пока еще условным, но весьма красноречивым названием «Гадкие лебеди 2» и заканчивает (возможно, уже закончил) детективно-политический триллер. Похоже, он всерьез подумывает вновь перенести центр тяжести своих творческих усилий из области книгоиздания в область книгосозидания.
Ну а в завершение — несколько слов в этаком западном стиле. Живет Ант Скаландис в центре Москвы, в старом, дореволюционном доме. Женат давно и основательно, в смысле, счастливо. Двое детей — дочь и сын. Благодаря дочери уже стал дедушкой. Рановато, конечно, но все равно хорошо. Отдыхать предпочитает в деревне, где у него свой дом. Увлекается видеосъемкой, неплохо водит автомобиль, любит хороший коньяк, красивые эротические шоу и советское кино 60-х. Очень любит спорт, особенно легкую атлетику и фигурное катание. Член Союза российских писателей. А еще у него совершенно замечательный сиамский кот со странным именем Лоци.
По впечатлениям от разговора с автором записал Михаил РАЗГОНОВ

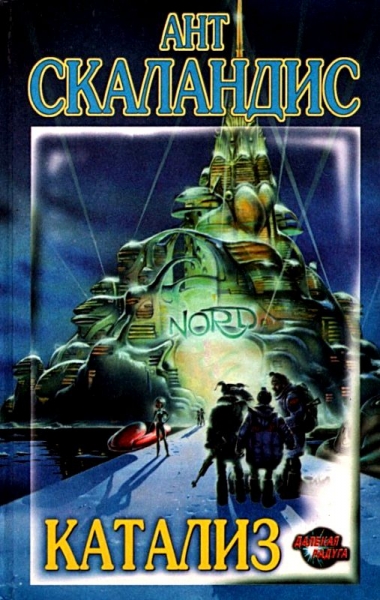





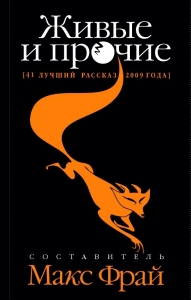
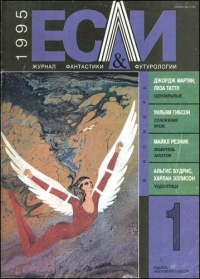




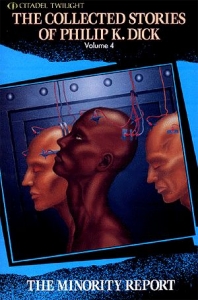
Комментарии к книге «Катализ. Роман», Ант Скаландис
Всего 0 комментариев