Жан Коломбье, Досье «72»
1
Все началось тем июльским утром. Это было в 2012 году. Я поехал в отпуск со своей тогдашней подругой, одной брюнеткой с грозным характером. Отец согласился дать мне свою машину, совсем новенькую «рено», которая с удовольствием пролетала километры по национальной автостраде на Вандею[1]. Я ехал, слегка превышая скорость, это так, но чем я рисковал на этой прямой линии, где зеленый свет светофора гарантировал мне полную безопасность!
В тот момент, когда я приближался к светофору, наперерез мне выскочил какой-то «фольксваген». Я резко вывернул руль, но избежать столкновения не получилось. Потеряв управление, «рено» вылетела с шоссе, пробила ограждение, скатилась по крутому откосу и замерла, уж не знаю как, всего в нескольких метрах от могучего дуба. Стекла разлетелись на мелкие осколки и поранили лицо Софи. Мы кое-как выбрались из груды бесформенного железа. На дороге уже собрались зеваки, кто-то успел вызвать полицию и пожарных.
Посередине перекрестка неподвижно стоял «фольксваген». У него было разбито переднее левое крыло, и из-под машины вытекала какая-то густая жидкость. Не выпуская из рук руль, его водитель, казалось, спрашивал себя, что же такое с ним произошло.
Допросившим его чуть позже полицейским он дал несвязные показания. Нет, на светофор он внимания не обратил. Однако он хорошо знал дорогу, поскольку ездил здесь каждый день. Откуда он ехал? Из Сен-Совера[2], там он играл в карты и… извините? Пил ли он? О, выпил совсем чуточку с друзьями, как обычно… Сколько ему лет? Ему шел восемьдесят девятый год. Ах, это? — ну, тут он ничего не может поделать, человеку не дано выбирать себе возраст. А… его жена? А причем тут жена? А, у нее сломана рука? — как сказали пожарные. Но это ерунда, а вот за ремонт машины придется дорого заплатить.
Значит, моему палачу было восемьдесят девять лет. В свои восемьдесят девять лет он выпил с приятелями и повез жену домой на своем красном «фольксвагене». А сигналы светофора его ничуть не беспокоили. А то, что он едва не отправил к праотцам двух молодых людей, впереди у которых было целое будущее, заботило его намного меньше, чем стоимость ремонта его собственной тачки.
Я дунул в трубку — старый картежник не смог, поскольку у него болели ребра, — сделал заявление, забрал наш багаж и дождался, когда мой страховой агент пришлет такси, чтобы мы доехали до ближайшего вокзала. Негодование отца, ворчание подруги, закончившийся, не успев начаться, отпуск. Да здравствует преклонный возраст!
Вернувшись в Париж, я именно так все и объяснил моему кузену Максу. А тем временем дело обернулось плохо: машина ремонту не подлежала, а отец с гневом, в котором слышалось подлинное горе, вопрошал меня, где он теперь сможет найти «рено» в таком хорошем состоянии. При всем при этом Софи потеряла серьгу, которой она дорожила как зеницей ока. Механик из меня никудышный, устройство женской души никогда не было мне понятно. Ее ворчание перешло в окончательное молчание. Спустя восемь дней она уехала на Лазурный Берег с другом, который водил машину осторожно.
Откровенно говоря, надо бы запретить водить машину людям определенного возраста. Им надо бы вообще запретить высовывать свой нос на улицу. Надо бы даже, стоп… Только приличие помешало мне закончить эту ужасную фразу. Кузен Макс больше уже не смеялся. Я постарался рассмешить его, но он не смеялся, углубившись в привычные для него размышления.
Макс, которого я звал Кузен Макс, поскольку он и на самом деле был моим кузеном, являлся образцом для всей нашей семьи. Он преуспел в жизни. Став в тридцать восемь лет главой кабинета министра внутренних дел, этого зловещего Бофора[3], Макс был полон законных честолюбивых планов. У него, как он говорил, были некие планы для Франции. А значит, и для себя самого. Наконец он вроде бы проснулся:
— А ты знаешь, что вчера со мной приключилось то же самое? Нет, до столкновения дело не дошло, потому что я ехал не очень быстро. Но на авеню Ваграм какой-то старик тронулся с места и стал разворачиваться просто так, не посмотрев назад, не включив сигнал поворота… Он представлял опасность для общества, он мог сбить ребенка, и он этого совсем не понимал… Надо что-то делать… И у меня есть несколько идей на этот счет. Могу тебе только сказать, что они наделают шума. Папашу Бофора кондрашка хватит! Но у нас нет выбора, будущее страны в опасности…
Больше мне ничего узнать не удалось: ему оставалось продумать некоторые детали, а для этого требовалось пораскинуть мозгами. И потом, в любом случае, как глава кабинета, он решил оставить право первым выслушать его предложения своему министру. Но я не должен беспокоиться: он будет держать меня в курсе, он все мне расскажет сразу же после разговора с министром! Оценивал ли я честь, которую он мне оказывал? Впрочем, я, возможно, еще понадоблюсь Кузену Максу.
Несмотря на довольно прохладные отношения между нашими семьями, со временем мы с ним сумели завязать едва ли не братскую дружбу. Хотя нас и разделяло очень многое. Он был на десять лет старше меня, и за его плечами была учеба в очень престижном высшем учебном заведении, таком как Национальная школа администрации, факультет политологии, открывающий королевский путь для того, кто хотел заняться политикой. Политикой, но в благородном смысле этого слова, в чисто этимологическом понимании, — спешил он добавить. Он мечтал о том, что будет управлять городом. А политические игры его не привлекали. Все так говорят, отвечал я ему, когда хотел его подколоть.
В благородном смысле слова или нет, но лично меня политика не интересовала, между политикой и мной была пропасть непонимания: можно ли пойти на то, чтобы забыть о разнице в общественном положении, вечно сглаживать острые углы, прятать когти, чтоб понравиться как можно большему числу людей, и ставить свое поведение в зависимость от ожиданий простого народа? Я больше не буду курить, не буду веселиться, не буду ругаться, я буду всем улыбаться, жать руку людям, которые мне не нравятся. Ради власти? Какой власти? Проще говоря, для Кузена Макса я привычно повторял то же самое, что говорили многие в кафе в министерстве торговли. «Брось, — возражал он, — тебе не дано это понять. Власть — это когда ты в состоянии изменить, встряхнуть повседневную жизнь людей. Настоящая политика и настоящая власть не даны тем, кто обменивается рукопожатиями с людьми на рынках, тем, кто произносит красивые слова в модных телевизионных передачах. Нет, политика и власть делаются и принадлежат тем, кого люди не видят, о чьем существовании они не догадываются, тем, кто за кулисами дергает за ниточки, кто выдает и насаждает свои идеи. Именно к этому я и стремлюсь, и ни к чему иному». Я смеялся ему в лицо: при власти или без нее, ясно, что ему не дано помешать мне жить так, как мне хочется, не испытывая никакого давления… Но лучше бы мне было помолчать.
Итак, политика меня не интересовала. Учеба тоже, что только множило число возникающих проблем. Особенно с моими родителями. Получив диплом бакалавра, я попробовал поучиться в университете, не имея ни к чему определенной склонности. Немного права, немного социологии, потом работенка то там, то сям. Как птичка, порхающая с ветки на ветку, говорил Кузен Макс. Неудачник, именно неудачник, говорил отец. Оба они, очевидно, были правы, я вел жизнь неприкаянной птицы, встречался с друзьями, с подругами, развлекался, слушал музыку, строил заманчивые, но очень расплывчатые планы. В двадцать восемь лет, не имея постоянной работы, не имея своего угла, не имея постоянной подруги, я был идеальным испытательным полигоном для тех, кто хотел узнать планы на будущее определенной части молодого поколения. Кузен Макс этим пользовался и помимо того, что испытывал ко мне искреннюю привязанность, старался через меня поддерживать контакт с повседневностью, с реальностью, с которой люди его типа не могли или же не хотели знакомиться.
2
Кузен Макс явно пребывал в состоянии крайнего возбуждения.
— Если бы ты только видел лицо Бофора!
Он назначил мне встречу в пятнадцатом округе в бистро «Паломб», где постоянно столовался. Как и обещал, Кузен Макс решил посвятить меня в свой революционный проект, о котором только что переговорил с министром.
Случай очень часто решает многие вопросы. Вызванный Бофором для решения некоторых административных формальностей префект департамента Эндр разоткровенничался, когда они потягивали вино у стойки бара на втором этаже министерства. Он не должен был бы этого говорить, но люди преклонного возраста стали причинять ему много неприятностей. В его департаменте, если так будет продолжаться и дальше, молодые люди скоро станут вымирающей расой. Простите, а как же быть с седыми головами?! Все очень просто, сходите прогуляться после обеда в будний день по Шатору, вы встретите там одних только стариков. В общественном транспорте ездят одни старики. Черт возьми, к тому же бесплатно! Они мало потребляют, но они дорого обходятся, и очень скоро страна не сможет с этим справляться…
— Я ушам своим не поверил: нежданным образом префект сам подготовил мне почву для разговора. На него было смешно смотреть: он был смущен тем, что говорил это, но убежден в том, что выполняет свой долг, защищает безнадежное, но правое дело. Однако префект молод и поэтому достаточно объективен… Бофора эти высказывания развеселили, он поблагодарил префекта и предложил ему департамент из короны парижского округа, в котором проживает много молодых и воспитанных людей. И тогда, представляешь, я бросился на помощь этому смелому человеку и рассказал про один случай, про твою аварию, — я, правда, немного сгустил краски, чтоб усилить воздействие, сказав, что твоя подруга погибла, потом еще пару-тройку происшествий с моими друзьями, в которых были замешаны люди пенсионного возраста. С еще большей страстью, чем префект, я подчеркнул, каким тяжким грузом ложатся старики на экономику страны. Бофор уже не улыбался. В конце концов он согласился с тем, что, конечно, с точки зрения экономики это большая проблема, но что ж тут можно поделать? С этим уже столкнулись все западные страны. Это является трагическими последствиями контрацепции, людского эгоизма, морального разложения французского народа. Он начал возбуждаться, словно окунулся в ход избирательной кампании. Я шепнул ему на ухо, что у меня, возможно, есть решение этого вопроса, которое я могу ему изложить, но хотелось бы поговорить об этом с глазу на глаз. Потому что вопрос этот очень деликатный, действительно деликатный.
Увлеченный рассказом, Кузен Макс забыл про мясо, которое уже успело остыть. Я напомнил ему об этом и поинтересовался просто так, какой интерес правому правительству искать решение, которое позволяло бы больше не заботиться о стариках. Не стоило мне этого делать: мясу суждено было быть съеденным в холодном виде или не быть съеденным вообще. На губах Кузена Макса появилась его знаменитая нравоучительная улыбка, которую он напускал на лицо для разговора с простаками. И он прочитал мне лекцию по истории.
После падения правительства левых, которое было вызвано, как известно, делом Байе, к власти снова вернулись правые. Как обычно. Благодаря неискоренимой привычке французов к переменам. Правые были разобщены, но локомотивом для них послужила НПФ, Новая партия Франции. Кузен Макс хотел, чтобы я обратил внимание на следующее: каким образом крайне правая партия, которая на ладан дышала в конце прошлого столетия, смогла за несколько лет возродиться, обрести новое дыхание, завоевать доверие и, главное, омолодить свой электорат? Конечно, она сумела максимально воспользоваться растерянностью политических партий, вызванной катастрофой на референдуме 2005 года. Помогло еще вот что: левые были дезориентированы, правые были не в лучшем состоянии, и к тому же их раздирали внутренние противоречия. Освободилась ниша для тех, кто призывал возвратиться к истокам, к истинным ценностям, к вечным ценностям Франции. И сразу же они набрали 21 % голосов, не было никакой необходимости собирать голоса среди населения, желавшего безопасности; все правые партии, а затем и левые уже заняли этот сектор… Безопасность стала их главным политическим козырем, превзойдя по важности даже вопрос занятости. Вот как!
Своему успеху НПФ была обязана молодым, молодежи из предместий. Молодежи из богатых кварталов тоже, но в основном все-таки молодежи с окраин, где царило насилие. Расизм и насилие были обострены и поддержаны молодежными отделениями НПФ. Как и в США, подростки собираются в группировки по этническому признаку или по кварталам, происходит война за территории, за сферы влияния, каждая этническая группировка старается утвердить свое главенство. У крайне правых хватило ума понять, что кто-то кого-то постоянно недолюбливает. И все эти молодые люди вновь обрели традиционные ценности крайне правых, ценности, которые они считают современными: превосходство расы, неприкосновенность территории, применение силы, дисциплина…
— И в конце концов ты видишь, как вокруг тебя растет численность клубов, банд, не всегда агрессивных, но отвечающих потребности сплотиться, чтобы чувствовать себя более сильным, чтобы иметь возможность противостоять агрессору. И все это явилось благодатной почвой для НПФ. Следишь за моей мыслью? Ну вот, мясо совсем остыло, хуже некуда. Зря ты не интересуешься политикой — могу поспорить, что ты никогда не голосовал? В двадцать восемь лет, как тебе не стыдно! — ты должен знать, что коалиция правых сил победила на выборах в законодательное собрание и что в нынешнем правительстве большинство министров от НПФ. Семь министерских портфелей, включая Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и Министерство финансов. И послушный им премьер-министр. И президент республики, находящийся чуть ли не под присмотром в своей резиденции. Поэтому, если я смогу убедить Бофора, мой проект будет иметь все шансы на успех. Потому что именно Бофор определяет всю политику правительства. И, если честно, его реакция была… скажем так, она меня не разочаровала…
Значит, Кузену Максу удалось поговорить со своим министром тет-а-тет.
«— То, что я хочу вам сказать, господин министр, может показаться неуместным и даже чудовищным. Прежде чем вы примете решение или сочтете меня ненормальным, прошу вас выслушать меня до конца и сообщить мне о вашем решении через несколько дней. Согласны?
— Давайте, Майоль, выкладывайте, я вас слушаю.
— Помните ли вы о нашем разговоре в тот вечер с префектом Эндра Давидом? О его озабоченности тем, что его департамент стареет. О его опасениях, что вскоре у него не будет возможности выполнять обязательства по отношению к пожилым людям… После его слов я рассказал о трагическом случае с одним из моих кузенов и о других происшествиях, к счастью, с менее тяжелыми последствиями, но тоже связанных с пожилыми людьми. Все это меня озадачило… Я полагаю, что эти события поднимают новые проблемы: прежде всего, современностью правит скорость, простите за такое определение, в этом мире, где все происходит по нарастающей скорости, нельзя не отметить неспособность старых людей к адаптации. Неприспособленность к технологическому прогрессу, к требованиям современной повседневной жизни. Представьте себе восьмидесятилетнего человека на бегущей дорожке, у компьютера или же с кредитной картой в руках: сколько времени теряют другие потребители, какое нервное напряжение им приходится испытывать. Старики все чаще остаются в одиночестве, покинутые своими семьями, они предоставлены сами себе и оторваны от реальной жизни.
С годами это положение будет только ухудшаться. Что же делать тогда? Вы мне можете сказать, что их можно отправить в хоспис или в дом престарелых. И будете правы. Но тут мы подходим к следующей части моей аргументации. Хосписы, дома престарелых переполнены. Они уже не справляются с нагрузкой. Строить еще? Отлично. А кто будет за все это платить? Я не захватил с собой цифры, но в любой момент готов их вам представить. В 2040 году, то есть уже завтра, средняя продолжительность жизни женщин будет превосходить восемьдесят девять лет, а мужчин — восемьдесят три. Если бы не преждевременные смерти в результате несчастных случаев или болезней, представляете, скольких девяностолетних и столетних людей пришлось бы взять обществу под свою опеку? Только представьте! В том же 2040 году во Франции прибавится дополнительно девять миллионов лиц семидесятилетнего возраста. Приведу для примера еще один показатель: известно, что в тридцать лет человек расходует на медицинскую помощь чуть менее трех тысяч евро в год… Что, извините? Простите, я еще не привык к франку, на евро переходить мне было проще, переходить снова на франки несколько сложнее. Это предел! Но цифра точная, речь идет о трех тысячах франков. Лечение того же самого человека в возрасте семидесяти лет обойдется уже в пятнадцать тысяч франков… Пятнадцать тысяч франков! Хотите, я умножу эту сумму на девять миллионов? Я не собираюсь играть на струнах сочувствия, но сколько денег тогда мы сможем выделить на создание новых рабочих мест? На трудоустройство молодежи? На развитие семьи? На научные изыскания?
— Не увлекайтесь, Майоль! Вы говорите словно агитатор НПФ! Однако вы ведь не политик, вы — технократ…
— Господин министр, технократия является орудием политики.
— Любопытно, у меня такое впечатление, что вы хотите поменяться ролями: сделать меня орудием вашей агитационной кампании.
— Без всякой задней мысли, я просто стараюсь убедить вас в том, что Франция стоит на развилке пути развития. Она должна принять смелые решения. Это в ее характере.
— Вон как вы повернули! Но что же это за решения? Вы изложили мне проблему, я разделяю вашу точку зрения. Наши предшественники зубы себе обломали на пенсионном возрасте. С пенсионными фондами пока все понятно, и совершенно ясно, что это — веревка на нашей шее.
— Тогда ее надо перекинуть на шею пенсионеров! Мы сейчас одни, господин министр, мы можем свободно говорить обо всем, можем даже заговариваться. Я утверждаю: необходимо сократить жизнь стариков. Нужно ввести официальную эвтаназию в некотором смысле…
— Эвта… вы хотите сказать… убить их?
— Называйте это как вам будет угодно. Речь идет, во всяком случае, о сокращении времени дожития.
— Да вы с ума сошли… Никто и никогда не посмеет дойти до такой гнусности…
— Возможно, я и сошел с ума. Кстати, именно так я и подумал, когда впервые стал рассматривать эту гипотезу. А пока, понимая, что с сознанием у меня все в порядке, я ставлю вопрос так: поддержим ли мы такое решение проблемы? Если да, тогда пора приниматься за поиски наилучших путей решения. Но повторяю, господин министр, поразмышляйте над этим несколько дней. Мы можем вернуться к этому вопросу когда пожелаете. Я позволю себе только подчеркнуть, что, даже если эта мера на первый взгляд и может показаться негуманной — хотя это и не так, я потом объясню вам почему, — следует помнить о главном. А главное в том, что миллиарды евро, извините, конечно же, франков… десятки миллиардов франков страна сможет сэкономить и отдать их живой силе….
— Но ваша эта… эвтаназия, кого она должна коснуться? Всех? Или только инвалидов?
— Всех стариков. Если начать принимать во внимание то одно, то другое, миловать одноруких и не миловать одноногих, мы с этим никогда не разберемся.
— Всех? Так… И какой возраст кажется вам… Короче, начиная с какого возраста они будут считаться ненужными?
— Не знаю. Надо поработать над этим, подсчитать. Полагаю, начиная с семидесяти двух или семидесяти трех лет. Надо посмотреть…
— Семьдесят два года?!»
Министр внутренних дел задумался. Было понятно, что он принялся за вычисление, результат которого не вызвал у него оптимизма. «Даже будучи министром внутренних дел, активистом крайне правой партии, — подумал Кузен Макс, — человек всегда остается человеком. Человеком пятидесяти восьми лет. Мальчишкой».
— Вот так. Бофор подсчитал, что жить ему оставалось четырнадцать лет. Это и мало, и много. Я дал ему время повариться в собственном соку, подумать над тем, что его имя может остаться в памяти потомков. Ты даже представить себе не можешь, насколько это важно для сильных мира сего. Даровать свое имя какому-то делу, удачному или неудачному, улице, памятнику, закону, пусть даже самому плохому. А представь себе, какой соблазн связать свое имя с революцией. Все они только об этом и мечтают! И что им за дело до того, что эту революцию вспоминать будут с зубовным скрежетом. На самом деле эта революция заставит людей скрипеть скорее вставными зубами, чем молочными. Подумать только, ведь это ты — инициатор этого катаклизма!
— Я? Шутишь?
— Не совсем… Когда ты рассказал мне о столкновении с машиной того старого пьяницы, я еще колебался, не мог переступить черту. И вдруг раз — щелчок: эта неприспособленность стариков к сегодняшнему миру, который им уже не принадлежит. Вот карта, которой мне не хватало. Поздравляю, кузен!
Поздравления, поздравления, ишь ты какой прыткий! Я вдруг почувствовал, что на мои плечи навалилась огромная тяжесть. Словно на меня спихнули выполнение какой-то грязной работы. Я встряхнул плечами: в конце концов, ничего еще не решено. Бредовые идеи Кузена Макса имели очень мало шансов на претворение в жизнь. Уничтожить стариков! Что-то сюрреалистическое…
Выходя из ресторана, я испытывал особое удовольствие от того, что отведал мяса, которое было куда теплее, чем то, что лежало на тарелке моего кузена. Несмотря ни на что, я рискнул провести одно математическое действие. Четыре в остатке, один в уме. Между семьюдесятью двумя и двадцатью восемью времени было еще достаточно много.
3
С ощущением тяжести на плечах и погруженный в мрачную эйфорию, из «Паломба» я отправился в «Регалти», служившее мне прибежищем в праздные дни. Весь мой отпуск, сорванный вандейским выпивохой, мне придется таскаться по пустующим бистро в поисках замены Софи. Франсуа и Пьер, такие же бездельники, как я, резались во флиппер, перед ними стояли полупустые кружки пива, рядом лежали дымящиеся сигареты. Просто какая-то лубочная картинка, правда, написанная в XXI веке и в десятом округе.
По дороге, осматривая окрестности, я понял причины этой эйфории: я знал очень важную тайну, которую кроме меня знали только министр и глава его кабинета. Только мы втроем во Франции знали, что на лысые черепа вскоре должна была обрушиться буря. Возможно. В двадцать восемь лет этого достаточно для того, чтобы вскружить голову. Я поклялся держать язык за зубами. Но это не могло помешать мне в ходе разговора делать намеки, говорить иносказательно о том или ином аспекте проблемы… Играть таким образом с огнем, заманивать собеседников на поле, которое было заминировано, а они об этом не знали. Так я чувствовал себя менее одиноким и более сильным. Всемогущество того, кому кое-что известно и он знает, что это неизвестно больше никому.
Развалившись в креслах на террасе, мы любовались на замедленную жизнь парижского лета. Можно было подумать, что все они сговорились: спустя минут десять какая-то старушка позволила своему бассету нагадить на тротуар, какой-то старик перешел улицу прямо перед носом автомобилиста, к счастью, бдительного, — стекло опускается, звучит ругательство, пожимание плечами, стекло поднимается, яростное нажатие на педаль газа; двое античных провинциалов вывели из себя какую-то домохозяйку: она в седьмой раз подряд объясняла, как им удобнее всего добраться до кладбища Пер-Лашез.
— И можете там оставаться, никто о вас не пожалеет, — проворчала она им вслед, возвращаясь к своим пенатам.
Случай представился слишком хороший. И я начал разговор:
— Как все же много проблем со стариками…
— Со стариками? Стариков на свалку!
Для Франсуа, по крайней мере, все было ясно. Надо будет познакомить его с неким главой кабинета.
— На свалку? Почему? Что они тебе сделали?
— Мне лично — ничего. Но они меня изводят. Заставляют терять время в банке, в магазинах. Когда я за рулем, они выматывают все нервы. Стоит им слово сказать, им кажется, что на них наезжают. Они получают вдвое больше, чем я, а мне приходится вкалывать, чтобы набить им карманы. На свалку их, и все тут!
— Не преувеличивай, Франсуа!
Привыкший противоречить всегда во всем, Пьер принялся защищать стариков, но без убежденности, скорее всего умеренно. Нельзя сваливать всех стариков в одну корзину, среди них есть умные, добрые, некоторые из них бывают полезными, вот не далее как вчера один старичок угостил его в баре, да, он был пьян, но все равно сделал это, явно из лучших побуждений.
Я подумал, что в качестве адвоката Пьер причинял бы своим клиентам намного больше вреда, чем Франсуа в качестве обвинителя.
— Смотри-ка, вот и Люси… Не стоит говорить, но на эту малышку приятней смотреть, чем…
Приятная для просмотра девушка оказала нам честь, остановившись рядом с нами. Она согласилась выпить с нами, но по-быстрому, потому что ее ждала бабушка, чтобы пойти по магазинам. Я не выдержал…
— Сколько лет твоей бабушке?
— Бабуле? Семьдесят восемь, кажется.
— А… И как она? Я хочу сказать, добра ли она, мила? Или ее надо выбросить на свалку? Тут есть две спорящие стороны…
— Вы с ума сошли? Могу поспорить, вы выпили лишнего… Бабуля для меня не просто бабушка, она моя настоящая подружка. У нее отличная рыбалка. Знаете, что она сделала в прошлом году? Отправилась одна в Марокко. Пришлось уговаривать ее взять чемодан на колесиках вместо привычного для нее рюкзака! Вам бы ни за что такого не сделать… Ладно, пойду, не хочу заставлять ее ждать. Спасибо за вино… И да здравствуют бабушки!
Я сильно продвинулся! Мой опрос общественного мнения начался с открытия банальных истин. От Франсуа до Люси расстояние оказалась немалым и непростым. Кузену Максу нравилось то, что я держал его в курсе всех уличных слухов, но из этого моего расследования на месте он не сможет извлечь выгоды!
Впрочем, он меня едва слушал: он был занят уткой, которую намеревался съесть до того, как она остынет. Он слегка пожурил меня, когда я рассказал ему о разговоре в «Регалти». Это было преждевременно, а значит, бессмысленно.
Я все-таки закончил свой рассказ здравицей в честь бабушек, но воздержался от выводов. Потом склонился над моим чуть теплым антрекотом, стараясь не нарушать молчания главы кабинета. Разговор, который состоялся у него утром с министром, сделал его задумчивым. Ему это очень шло. Задумчивость накладывала на его лицо отпечаток некой невинности, даже простодушия, делая его моложе, придавая ему вид мальчишки, с которым можно дурачиться. Чтобы стать безукоризненным во всех отношениях, Кузену Максу только и не хватало что этой искры во взгляде и задумчивости на лице, которое все еще продолжало оставаться детским. Именно этой искры не хватало, и когда Кузен Макс становился рассеянным, уходил в себя. Что же касается всего остального, то придраться было не к чему. Стройный силуэт, мужественные черты лица, смягченные голубыми глазами и аппетитным ртом, обязательный итальянский костюм, чью технократическую серость он оживлял пестрым шелковым галстуком, нередко со смелыми мотивами. Это было единственной смелостью человека, за которого любая любящая мать мечтает выдать свою дочь. И любопытный до всего, и внимательный ко всем и к каждому. Откровенно говоря, он был мужчиной на все сто.
Он задумчиво вытер губы, улыбнулся — мясо было что надо, оно всегда должно быть горячим. Я надеялся услышать от него нечто другое, но у глав кабинетов тоже есть свои маленькие слабости. А этот не пренебрегал радостями мясоедства и, как мне было известно, любил ставить собеседников в тупик фразами, которые не относились к теме разговора.
На самом деле Кузен Макс сгорал от нетерпения. Он продолжал молчать только для того, чтобы насладиться сладкими минутами, которые предшествовали выдаче особо важной информации. А заодно поиграть со мной, на моих нервах доверенного человека, поскольку, несмотря ни на что, я начал относиться к этому делу серьезно.
Бофор вызвал его к себе рано утром. В его поведении Кузен Макс уловил некую торжественность, а в его обходительности — некое смущение. Складка между бровей выдавала большую озабоченность человека, привыкшего к превратностям судьбы. Он спросил у главы своего кабинета, не имеет ли тот ничего против того, что в беседе примет участие Тексье, его личный советник, преданный ему человек, существо столь же умное, сколь и извращенное, которому Кузен Макс верил лишь наполовину.
— Сигару, Майоль?
— Сигару? Нет, спасибо, я не курю, но вы…
— Я тоже не курю. Вернее, я раньше не курил… Но теперь, между нами, не вижу причин отказать себе в этом удовольствии… Если мне жить осталось всего двенадцать лет, — не так ли? — я не стану ограничивать себя…
Он попытался весело посмеяться, но это у него явно не получилось. Может быть, из-за дыма или с непривычки. Кроме того, он сгустил краски: десять или двенадцать лет! Даже если человек не уметь считать в уме, но он никогда не ошибется, подсчитывая продолжительность собственной жизни. Или же в этом был другой смысл. Но все это ни о чем не говорило Кузену Максу.
— Скажите, Майоль, вы ходите на мессу?
— На мессу? Если честно, больше не хожу.
— О, виноватый тон ни к чему. Знаете, а вот я хожу каждое воскресенье, я вынужден это делать — почесывать моих избирателей там, где у них чешется, иначе… Короче говоря, по воскресеньям я хожу на мессу. И всегда все шло нормально, я даже испытывал от этого некоторое удовольствие — молитва священника, игра органиста или звуки хорала, перспектива вкусного обеда… И вот все кончилось!
— Что именно кончилось?
— Что кончилось? Ушло мое душевное спокойствие. В церкви я чувствую себя посторонним, предателем. Кстати, вы будете смеяться, но в последний раз, то есть позавчера, у меня даже было видение: вы знаете церковь Сен-Мишель-де-Льон? Там в глубине алтаря стоит огромная фигура распятого на кресте Иисуса. Так вот, я собственными глазами видел, как он показал мне кулак. К счастью, правой рукой, не хватало еще, чтобы он показал кулак левой руки! И все это оттого, как сами понимаете, что после нашего прошлого разговора я не могу понять, что со мной происходит. Я потерял сон, забросил текущие дела. Вы победили: червь пробрался в плод.
— Я не хотел…
— Дайте мне закончить. Известно, что есть два вида тайн. Есть слишком хорошие тайны, чтобы их скрывать от других. Есть слишком важные тайны, которые человек скрывает в себе. Я, таким образом, немного разгрузил свое сознание, поделившись тайной с двумя людьми: с Тексье, который сейчас выскажет вам свою точку зрения, и с отцом. Моему отцу сейчас восемьдесят два года, его этот вопрос касается в первую очередь, не так ли? Я его очень уважаю и люблю. Я всем ему обязан. В свои восемьдесят два года он сохранил живость ума и сообразительность, которой даже я завидую. Он выслушал меня, не произнеся ни слова, потом надолго погрузился в задумчивость. Он заглянул мне в глаза. Никогда не забуду этот взгляд. Я не знал, куда деться, никогда в жизни мне не было так стыдно. «Мальчик мой, — сказал он мне, да, он продолжает звать меня мальчиком, короче: — Мальчик мой, ты занимаешь такой пост, на котором состояние души уже не имеет никакого значения. Ты должен задать себе вопрос, один-единственный: пойдет ли это на благо страны?» И это еще не все. Видя мое вполне понятное смущение, он добавил: «Знаешь, мой мальчик, я еще вполне здоров, у меня еще есть планы, но, если нужно, я готов пожертвовать собой, чтобы стать примером. Ряди успеха твоего предприятия. Ради спасения Франции…»
Отвернувшись к окну, Бофор сдерживал рыдания, столь неожиданные для министра, которому справедливо или нет, но, скорее всего, справедливо, приписывали инициативу принятия самых грязных решений. Можно было услышать жужжание мухи. Странная это была картина: позолота на деревянных украшениях, хрустальная люстра, ковры ручной работы — и трое смущенных мужчин. Кузен Макс чувствовал, что переживает редкий момент, цена которого соответствовала напряжению, волнению, а главное принятию участниками разговора решения восстать против истории.
— Говорите, Тексье.
Тот немного помолчал, откашлялся в кулак, чтобы прочистить горло. И сделал это трижды, должным образом извинившись. Затем он поправил отвороты рубашки, сменил положение ног. Честно говоря, он явно тянул время, поскольку испытывал затруднения, над которыми никто и не думал насмехаться. Он проверил положение своей серьги, неожиданного украшения для личности его положения и его возраста, наличие которой можно было объяснить только желанием отвлечь внимание от венца седых волос вокруг лысины. Потом потеребил бородку времен Второй империи. Этого человека явно раздирали противоречия между тем, кем он был на самом деле, то есть стариком, и тем, кем он хотел быть, то есть советником, находящимся в гуще событий, в постоянном контакте с современностью и следящим за развитием нравственности. Оставаясь при всем этом ловким, хитрым и упрямым. Короче, опасным. Потянув таким образом время, советник перешел к делу:
— Я не привык ходить вокруг да около: если я скажу о потрясении, с которым я отношусь к этому делу, это будет неким эвфемизмом. Когда человек теряет сон, он выигрывает в том, что может посвятить больше времени на раздумья. Я всесторонне изучил эту проблему. Проект, который вы нам представили, Майоль, ужасен, кошмарен. С этим невозможно согласиться, это противоречило бы самим основам человеческого достоинства. Вы попросили меня высказать свое мнение, господин министр, и я вам его излагаю: я поддерживаю этот проект. Я голосую за ужас, потому что считаю, что у нас нет выбора. Надо смотреть в будущее. Страна уже находится в тупике. А если рассматривать отдаленную перспективу, то можно сказать, что мы идем к катастрофе. Или к американской карикатуре, где укрепленные города переполнены тысячами стариков, которые стараются потратить в своем кружке свои доллары, отгороженные от мира крепостными стенами и полицейскими в форме. А нищие вычеркнуты из жизни, они живут в бидонвилях или в крысиных норах. Франция не создана для неравенства общества. Она штурмовала Бастилию не для того, чтобы дойти до этого. Так почему же тогда не попробовать пойти другим путем? Найти новую концепцию жизни, отдать приоритет молодежи. Сделать так, чтобы старики умирали более молодыми, если можно так выразиться. Возможно, что эта гипотеза и не так уж и отвратительна! Вот так! Я изложил вам свою точку зрения, хотя она стоит мне больших нервов. Остается только рассмотреть все проблемы, которые будут порождены этим решением: есть опасение, что они могут оказаться непреодолимыми.
Речь советника возымела свое действие. Никто не посмел ничего добавить. Заговорщики оказались у подножия стены. Заложив руки за спину, оставив сигару на краю пепельницы, Бофор ходил от одного окна к другому. Как всегда, одежда страдала от его движений. Край рубашки выбился из-под ремня и свешивался над брюками как приспущенный флаг. Никто не позволил себе сделать ему замечание на этот счет: чем больше рубашка билась на ветру, тем сложнее становилась ситуация. Всякий раз, проходя мимо окон, он смотрел на улицу, где суетились прохожие. Старики, совершенно не подозревавшие о наказании, которое им готовилось, наслаждались теплом дня, расспрашивали новости о ком-то из своих товарищей, одобряли программу телевидения. Держались за жизнь всеми своими старческими зубами.
Министру было необходимо снова взять ситуацию под контроль, сделать выводы из столь ужасного предложения. Принять решение.
— Господа… положение не очень радостное, хотя и ясное. Надо идти вперед… Принимать решение немедленно кажется мне преждевременным. У нас не хватает исходных данных. Майоль, даю вам поручение, которое, само собой разумеется, должно храниться в строжайшей тайне. Это государственная тайна. Соберите команду из надежных людей и представьте мне полный план. Впрочем, когда вы сообщите мне состав этой команды, я хотел бы переговорить лично с каждым. Осторожность никогда не помешает. Представляете себе скандал в случае утечки информации? Ваш проект, Майоль, должен основываться на реальных цифрах. Тексье в вашем полном распоряжении. Когда у меня на столе будет ваш отчет, придет время определить последующие шаги. Премьер-министр, президент… мои коллеги… Законопроект. Но сенат?! Никогда сенат его не пропустит, они все там семидесятилетние старцы… Мы сейчас находимся в самом начале нашего пути…
Покидая кабинет Бофора, Кузен Макс вдруг осознал, что входил туда в качестве главы кабинета, будучи инициатором законопроекта столь же смелого, сколь и ужасного. А вышел оттуда в качестве простого руководителя группы по разработке законопроекта столь же смелого, сколь и ужасного, инициатором которого стал его начальник. Технократам тоже не чужды душевные порывы.
Но порывы собственной души этот технократ умел усмирять. В конце концов, даже если с него стянули одеяло, он продолжал дергать за ниточки. Он доведет свой бой до победного конца. А для начала надо будет активизировать работу, создав как можно скорее секретную рабочую группу.
— Мне нужен будет старик для защиты интересов пенсионеров, а также экономист, специалист по вопросам здравоохранения и два парламентария. И ты.
— Я? А я-то что буду делать на этой галере?
— Играть роль простака. Это необходимо. А также представлять молодежь. Твои отношения с родителями кажутся мне образцом современной тенденции: конфликты, непонимание, отсутствие финансовых интересов… Я настаиваю на твоем участии…
Он настаивал на моем участии! Ведь я в жизни ничего еще не сделал, а теперь вдруг должен буду размышлять о том, как лучше всего распорядиться жизнью другого. Я, который никогда не имел никаких идей ни по какому поводу, должен буду способствовать изменению сложившегося порядка вещей.
— Не отчаивайся, — сказал в заключение Кузен Макс, — я не требую от тебя достать с неба луну. Ты сможешь свободно и просто обо всем высказываться. Очень часто истина исходит от посторонних людей. А потом, эта группа будет неофициальной. Ее не существует, у нее нет никакого законного прикрытия, ее предложения никого ни к чему не обязывают. Это будет просто кружок для свободного обмена мнениями, что, как я надеюсь, позволит нам лучше разобраться в этой ситуации.
4
Я навсегда запомню первое заседание группы, которой было поручено сверхсекретное задание. Каждого члена группы Бофор, как и обещал, сумел убедить в секретности, даже в святости дела, в котором они были призваны принять участие. Сутулясь, напряженно озираясь, счастливые избранники ломали голову над тем, с каким соусом их собирались съесть. Кузену Максу удалось избавить меня от беседы со своим шефом. Я для министра был, разумеется, слишком мелкой сошкой, а Кузен Макс заверил его в моем молчании.
Для большей таинственности наша группа никак не называлась. Ни ячейкой по разработке того-то, ни комитетом по выработке сего-то, ни как-то по-другому. Никак. Кузен Макс не был анонимным разработчиком никакого призрачного законопроекта, а члены рабочей группы, которые сегодня собрались под его крылом, не собирались ничего обсуждать. Сделать все это более таинственным было просто невозможно.
Поэтому в ту первую субботу сентября четверо из шести членов фантомной рабочей группы мирно сидели в своих креслах и не догадывались о том, что на их головы должно было рухнуть небо.
Осторожный Кузен Макс начал издалека. Он подчеркнул традиционную сверхтерпимость политических классов, указал на заблуждения различных правительств Пятой республики[4]. С установлением Шестой республики и ее первого коалиционного правительства французский народ надеялся на принятие действенных мер. Он вернулся к выходу на пенсию исходя из двух показателей: переполнение больниц и домов престарелых. Он указал на старение нации на три месяца в год и что в 2040 году продолжительность жизни станет равной восьмидесяти девяти годам для женщин и восьмидесяти трем годам для мужчин: представляете, что будет? Он нарисовал настолько мрачную картину будущего Франции, что оба депутата полезли за носовыми платками, а представитель растратчиков государственных средств весь как-то сжался в своем кресле.
— Следовательно, государство должно на это как-то реагировать. Но что можно сделать? Мы собрались здесь для того, чтобы поразмыслить и найти решение. Я буду резок, но мы должны посмотреть правде в глаза. Единственным решением может стать сокращение продолжительности жизни французов. До семидесятилетнего предела. Допускаю, что это высказывание может вас шокировать. Примите это как есть: за простую рабочую гипотезу. В любом случае, решение принимать не нам. Посему не напрягайтесь, давайте начнем игру в «за» и «против». Из этих стен ничего не выйдет.
— Господа, имею честь откланяться, я не убийца!
Мартинез, депутат от департамента Эн, начал собирать свои вещи. Щеки его покраснели от гнева, с губ слетали полные негодования слова.
— Постойте, Мартинез, вы меня не поняли: вы здесь вовсе не для того, чтобы приговорить людей к смерти. Мы собрались, чтобы обсудить преимущества и недостатки этой меры, согласен, довольно скандальной. Если вы против нее, оставайтесь и защищайте вашу точку зрения. В споре должны быть разные точки зрения. Ваше мнение будет принято во внимание.
Коллега Мартинеза, депутат от департамента Верхняя Сена по фамилии Лапорт, отреагировал более спокойно. Он сразу же перешел к сути:
— Эта мера должна будет коснуться и политических деятелей?
— Разумеется.
— Отлично. Рабье, мой противник из социалистической партии, на восемь лет старше меня. Я голосую «за»! Шутка… Но не совсем. Если серьезно, то я согласен принять участие в этой рабочей группе. Не знаю, к чему мы придем, но тема довольно интересная. Это самое малое, что можно сейчас сказать.
— А вы, мсье Фонтанилас?
Поль Фонтанилас, вышедший в отставку государственный служащий, которому было всего шестьдесят пять лет, с трудом приходил в себя от вступительной речи Кузена Макса. Он принялся сбивчиво говорить что-то о западне, о Лиге прав человека, о расизме по отношению к старикам. И закончил тем, что поинтересовался, у кого из организаторов хватило цинизма пригласить на совещание будущего осужденного на смерть.
— Повторяю, мсье Фонтанилас, мы собрались здесь для того, чтобы спорить. Это же очевидно, необходимо знать мнение всех, как молодых, так и пожилых. А каково ваше мнение, мсье Гандон?
— О, знаете, оторвавшись от моих расчетов…
Оторвавшись от своих расчетов и своих пирушек, он продемонстрировал всем свою откормленную фигуру.
— Я бы добавил, что мне известно, что тот возраст, который вы упомянули, очень дорого обходится государству. Ужасно дорого. Но у меня при себе нет этих документов. Я не знал, что они могут понадобиться. В следующий раз обещаю прихватить.
— Договорились! Я и не думал начать нашу работу именно сегодня. Имелось в виду просто обозначить тему и провести организационно-ознакомительное совещание, которое я сейчас закрою, представив вам вот этого молодого человека. Вы о нем не слышали, но это пока. Как вы уже догадались, он будет представителем молодого поколения. Таким образом, каждый из нас будет представлять кого-то. Но это совсем другая история. Встречаемся здесь же, если вы не против, через две недели. А пока, хотя эта рекомендация кажется мне излишней, постарайтесь поразмыслить над тем, о чем мы здесь говорили. Найдите доводы «за» и «против». И, наконец, я не устаю напоминать вам о конфиденциальности наших разговоров. Мне известно, что наш министр внутренних дел уже поговорил с вами на этот счет…
Так и было сделано. Дело стало продвигаться с частотой заседаний два раза в месяц. К большому удовольствию Кузена Макса, члены рабочей группы включились в эту игру смерти — это было больше чем игра случая, — а до меня наконец дошло, что меня она касалась не меньше, чем других. До этого момента я полагал, что это было всего лишь игрой в красноречие, оживленной, иногда занимательной дискуссией на отвлеченную тему: старики. Старики и друзья, с которыми я осторожно обсуждал эту тему, разделяли мою точку зрения, хотя не принадлежали к моему миру. Они были где-то за гранью общества, мы встречались, с кем-то говорили, но все было так, словно мы не видели друг друга, они исчезали сразу же после встречи.
А потом было выступление толстяка Гандона, который представил математические выкладки, работал день и ночь, потому что не хотел выглядеть глупцом:
— Семьдесят два. Семьдесят два года. По нашим расчетам, поскольку мне пришлось поработать с моими коллегами, не раскрывая целей сбора данных, так вот, по нашим расчетам, точка равновесия находится где-то около семидесяти двух лет. Сейчас я дам вам пояснения. Если исходить из среднесрочной перспективы, скажем, к 2040 году активное население будет насчитывать не более восьмидесяти миллионов шестисот тысяч человек. Число пенсионеров удвоится. Если мы хотим сохранить минимальную пропорцию — один пенсионер на два с половиной человека трудового возраста, — придется делать выбор: или использовать иммигрантов для удвоения активного населения — что означает привлечение в страну по пятьсот тысяч иммигрантов в год в течение сорока лет — ситуация маловероятная по многим причинам, — или же сократить численность пенсионеров. В том же 2040 году Франции придется кормить около девяти миллионов лиц в возрасте от семидесяти двух лет и старше. Если я вычту их из общего числа пенсионеров, то можно справиться. Вот все, что касается пенсионеров. Это довольно показательно, но это еще не все. Я сейчас приведу вам еще одну цифру, прошу обратить внимание, что любые прогнозы в этой области всегда условны. Однако всем известно, что с возрастом затраты на лечение возрастают. Мы подсчитали, что ежегодно на потребление лекарств и медицинских услуг десяти миллионов наших стариков сумма затрат возрастает до ста тридцати пяти миллиардов франков. Да, в этой цифре я уверен, сто тридцать пять миллиардов в год. Знаете, это неудивительно: когда человек становится старше, он подхватывает больше болезней, чем в молодом возрасте, а достижения науки позволяют им умирать намного медленнее, чем раньше, то есть оставаться больными гораздо дольше. Вам может показаться, что я шучу, но это действительно так. Но это касается только расходов, так или иначе связанных с болезнями. Надо добавить сюда расходы, связанные с зависимостью от лекарств. Персональное пособие по автономии, которое с 2001 года пришло на смену специальным региональным выплатам и было проведено через парламент в 1997 году правительством левых, обходится государству и департаментам примерно в пятьдесят миллиардов. Не хочу монополизировать право выступления, эти цифры являются только частью обсуждения, но могу без труда найти пятнадцать миллиардов, которых не хватает для ровного счета: двести миллиардов в год. Сюда можно отнести экономические затраты на тех, кому больше семидесяти двух лет. Повторяю, речь идет только о среднесрочных прогнозах. Но среднесрочная перспектива — это уже очень скоро. А сегодняшняя их стоимость не так уж от нее и далека.
Директор исследовательского отдела Центра статистики экономики здоровья привел сумму потерь. Со своим лицом гурмана и пузиком гурмана, с перекошенными очками и пальчиками, привыкшими листать толстые, как словари, дела, он с наивной простотой швырнул на середину комнаты пару гранат. Двести миллиардов и семьдесят два года.
Каждый из нас по-своему заполнил наступившее молчание. Оба депутата уже слышали звяканье золотых монет. Они быстренько разделили двести миллиардов на сто департаментов Франции. Будет чем пополнить предвыборные обещания! Кузен Макс предпочел представить себе восклицания, которые должен будет испустить Бофор, его призывы продолжить работу в этом направлении. Старик Фонтанилас помимо своей воли уже слышал свист падающего на шею лезвия гильотины. Он задавал себе вопрос, успеет ли он услышать звук удара ножа по дереву. Сколько на это понадобится времени? Десятая доля секунды или того меньше?
У меня в ушах раздавались стоны отца: ему был уже шестьдесят один год, он был в прекрасной физической форме, а пример его предков, большинство из которых дожили до столетнего возраста, наполнял его вполне понятным оптимизмом. Я дал себе слово, что не буду больше ругаться с отцом до конца его жизни, которая могла оказаться укороченной.
5
Но благие намерения долго не живут.
Когда я прибыл на четвертое заседание группы государственной важности, настроение у меня было собачье. Я поцапался со своим боссом — я тогда работал временно по договору в конторе продаж аксессуаров к телефонам, — разругался с отцом, который отказался ссудить мне деньги на оплату квартиры, разругался с хозяйкой квартиры, которая устала ждать оплаты своих счетов. Три старика. Я сел, как всегда, слева от входа спиной к окну. Место было не самое лучшее, но, как я потом убедился, регулярность проведения собраний способствует выработке у людей привычки к месту, — извините, это мой стул, ах, да, простите. Поэтому я сел на свое место, думая, что к семидесяти двум годам, возможно, стану более любезным.
Третье заседание не принесло ничего нового. Мы остановились на цифрах Гандона, он их подтвердил, а в связи с отсутствием обоих депутатов, по причине внепланового заседания Национального собрания, Кузен Макс собрание закрыл.
Сегодня группа собралась в полном составе. Поприветствовав присутствующих, Кузен Макс открыл свое досье, полистал его с элегантной рассеянностью. В этом досье виртуально лежали несколько миллионов приговоренных к смерти людей.
— Предлагаю начать рассмотрение ряда аспектов… скажем так, социального плана нашей проблемы. До сегодняшнего дня мы в основном занимались цифрами. Занятие это было, разумеется, тяжелым, но столь важные решения не могут быть приняты только по финансовым соображениям. Человеческий фактор представляется не менее важным. Возможно, даже более важным. Я не устану повторять, что мы собрались тут не для того, чтобы принимать решение, а для того, чтобы отчаянно спорить и обсуждать. Не бывает плохих мыслей, плохим бывает только молчание.
— Значит, — включился в разговор Лапорт, — мы должны играть по этим правилам? Что ж, давайте играть…
Мнения участников рабочей группы были двойственными. За исключением предка, для которого все было ясно, — он уже говорил о геноциде, обо всем что угодно! — все продолжали определять свою позицию по этому вопросу. Разрываясь между экономическими выкладками Гандона и угрозой потери с таким трудом набираемых голосов, пособие там, обед для стариков сям, депутаты продолжали испытывать трудности в выражении своих мыслей и определении своей позиции. Как только мы перестали обсуждать его цифры, Гандон погрузился в себя. Да, он мог размышлять не хуже других, он чувствовал себя даже в состоянии высказать свое мнение, и его мнение было бы услышано, как и мнения других, но что вы хотите, это было сильнее его, он считал, что никакой аргумент не может устоять перед логикой цифр. А после изложения цифр к чему дискутировать? Логика цифр есть логика цифр! Но эта логика цифр смешила старика Фонтаниласа. Но с цифрами можно было заткнуть рот Парижу. Время от времени он спрашивал себя, какого черта он делает в этой рабочей группе? Он дал честное слово сохранять все в тайне, но не стеснялся признаваться в том, что ему очень хотелось рассказать обо всем прессе, о происках какой-то горстки безумцев… Куда мы идем, Господи, куда же мы катимся?
Настроение у старика было не лучше моего! Неужели один из его молодых квартиросъемщиков не заплатил вовремя деньги за аренду? А может быть, один из внуков попросил дать ему денег?
— Наконец, вместо того, чтобы подсчитывать ваши миллиарды, которые ничего не стоят, не лучше ли вам задуматься на секундочку над тем, чем станет Франция без своих стариков? Я уже не говорю об уважении, которое они заслужили за все, что уже сделали для страны своим трудом, своей преданностью, своим талантом. Нет, я говорю о тех, кто продолжает это делать. Потому что старики, как вы говорите, господа, не все немощны, дряхлы, изношены и бесполезны. Хотите, я составлю список стариков, которые и сегодня являются славой Франции, — ученых, предпринимателей, артистов? Известно ли вам, что в Японии предприятия чудесным образом принимают на работу седовласых пенсионеров, чтобы они могли передать знания и умение жить молодому поколению? Вы отдаете себе отчет в том, какого богатства вы собираетесь лишить страну?
— Я в первую очередь отдаю себе отчет в том, каких богатств лишают нас старики. Возьмите Лазурный Берег: кто там живет, кому принадлежат виллы, участки? А в это самое время молодые люди собираются кучками в предместьях.
Своевременность и глубина моего выступления показались мне заслуживающими снисхождения, но мое взвинченное состояние не дало мне возможности выступить более обдуманно. Я услышал одно высказывание накануне в «Регалти»: хозяин заведения поделился с нами мечтой о выходе на пенсию и о проживании в департаменте Вар. Франсуа обвинил его в том, что он мешает молодым. Как бы то ни было, моя выходка принесла мне облегчение, помогла выпустить пар на этого старика и ему подобным. Кузен Макс поспешил разнять спорщиков:
— Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Вы только что высказали, мсье Фонтанилас, очень интересный довод. Я искренне разделяю вашу точку зрения, среди наших пожилых людей многие еще полны как физических, так и умственных сил, некоторые из них все еще продолжают приносить пользу стране, с этим нельзя не согласиться. Но обстановка может быстро осложниться: представим себе, что будут приняты эти меры, касающиеся лиц семидесятидвухлетнего возраста и старше. Кого они должны будут коснуться? Всех? Только инвалидов? Только лиц с расстройствами умственной деятельности? А если так, каких именно инвалидов, каких маразматиков? Сами понимаете, возникнет несправедливость.
— А, по-вашему, отправить на бойню ученого в полном расцвете сил, актера в расцвете таланта было бы справедливо? В конце концов, справедливость могла бы руководствоваться мудростью: вспомните о примитивных обществах, где старики порой становились обузой, с которой племя не могло справиться. Когда те понимали, что ставят под угрозу баланс клана, старики сами уходили. В других племенах практиковали испытание кокосовыми пальмами, самые здоровые выживали.
— Вы полагаете, что если мы в 2012 году во Франции бросим клич добровольцам, то добьемся большого успеха?
— Я этого не говорю, но настаиваю на том, что нельзя жертвовать теми, кто еще может положить свой камень в здание общества. Уничтожить целую прослойку населения — это хуже чем преступление, это ошибка! И в то же время преступление, ужасное преступление. Мы вернемся к самым темным периодам истории человечества, ко временам нацистской Германии, Камбоджи, Руанды…
Мартинез, которого мы еще ни разу не слышали, рискнул высказаться. По тому, как он поглаживал бородку, — за эту бородку его не раз критиковали коллеги по НПФ, с ней он походил на депутата от социалистов времен восьмидесятых годов, но которую он защищал, как самый главный козырь, считая ее ловушкой для левого электората, — не могло быть никаких сомнений в правоте его слов. И я не ошибся.
— За те два месяца, что я участвую в этой работе, у меня отрылся новый взгляд на многие вещи. Полагаю, что и у вас тоже. Мы имеем дело с событиями, на которые раньше не обращали никакого внимания, начинаем по-новому смотреть на многое. Так, на прошлой неделе я посетил хоспис, больницу и дом престарелых. Возможно, это всего лишь рутинная работа с электоратом, но на этот раз я не ограничился рукопожатиями и улыбками. Я посмотрел, послушал этих нищих, этих покинутых семьями стариков, узнал об их одиночестве. Я понял, что такое дом для умирания. Известно ли вам, что трое из четырех пожилых людей умирают в лечебном заведении? И, не ставя под сомнение компетенцию и преданность своему делу медицинского персонала, я утверждаю, что умирать в таких условиях просто страшно. Уезжая оттуда, я подумал, что умереть в добром здравии, возможно, не так уж и плохо… Не смейтесь, моя формулировка может смутить, но парадокс только внешний. Мера, которую мы рассматриваем, позволила бы людям умереть в уважении и равенстве. Если бы я выступал перед публикой, я упомянул бы также и братство, но здесь не вижу повода для этого…
— В том, что ты сейчас сказал, коллега, нет ничего смешного. Осуществленное наконец равенство перед смертью… Вновь обретенное достоинство: тебя больше не считают бегущим от дамы с косой, ты знаешь дату смерти, у тебя есть время собраться, подготовиться. Это уже немало.
Политики вечно испытывают потребность в семантических перегибах. От достоинства до братства, и если им верить, то старики должны будут обеими руками проголосовать за свой смертный приговор. Мартинез поблагодарил Лапорта, а заодно принялся лить воду на мельницу Кузена Макса.
— Их так много в специализированных заведениях потому, что им становится все труднее приспособиться к современному миру. В моем департаменте старые деревни исчезают. Больше нет ни магазинчиков поблизости, ни развлечений на местах. Если у тебя нет машины, то тут ничего и не поделаешь.
— Кроме того, это экономия, государство могло бы направить эти средства на молодежь. Не все двести миллиардов, конечно, поскольку надо принимать во внимание то да се…
Это заявил Гандон, он проснулся и вознамерился подбросить хвороста в костер. Это был предел всему. Загнанный в угол старый олень грозно опустил рога. Он собирался дорого продать свою шкуру.
— Чем больше я вас слушаю, тем больше убеждаюсь в том, что имею дело с больными на голову. С кем вы хотите свести счеты: с вашими родителями? Сами с собой? Я хотел бы напомнить еще о двух аспектах. Хотите вы того или нет, но старики — память народа. Уничтожите память, исчезнет и народ. Вы забыли еще кое-что, по крайней мере мне так кажется: вы спорите, вы шутите, вы готовитесь приговорить к смерти семидесятилетних. Вы еще относительно молоды. Но пройдет время, и, когда приблизится роковая дата, вы наверняка будете кусать себе локти. Но будет слишком поздно.
Добавлять здесь было нечего. Я хотел бы сказать, что одним из положительных последствий этой меры будет то, что старики станут более молодыми. Но промолчал, испугавшись, что меня неправильно поймут. Я был также удивлен тем, как мало доводов было высказано в защиту стариков. Даже выступление Фонтаниласа показалось мне слишком коротким. Но, возможно, я и его плохо понял и поэтому промолчал.
6
Кузен Макс опустился. Он стал не только регулярно приходить ко мне в «Регалти», но теперь появлялся туда в неподобающей для него одежде. К черту галстук и костюм. Я стал подозревать, что он переживал сложные времена. Но отнюдь не по причине его развода: с тех пор прошло уже несколько месяцев, у него было достаточно времени, чтобы оправиться. Кроме того, чувственная жизнь никогда не была его приоритетным занятием. Он казался вполне искренним, когда говорил, что живет только политикой. Как неправильно было бы не использовать такой потенциал! Физическая форма, положение, умение общаться с людьми, ах, если бы он передал мне хотя бы капельку этого. Я бы не терял время на разработку с моими приятелями по «Регалти» бессмысленных любовных планов. Но когда я видел, как он садится на лавку рядом с нами, пьет вино, которое не заказывал, но от которого не мог отказаться, я понимал, что порученная ему задача лишила его душевного равновесия.
И он, сняв галстук выпускника Национальной школы администрации, слушал собственными ушами, о чем говорили молодые, принимал участие в наших спорах, это давало ему возможность отвлечься от подковерной борьбы в министерстве. Он смотрел, как мы живем, и у меня складывалось впечатление, что он открывал для себя мир поколения, чьим устремлениям явно не хватало порыва: заработать денег на праздник, на девочек, на шмотки, послушать музыку, а дальше этого дело не шло. Он расспрашивал моих друзей об учебе, о семье, о том, что они ждали от жизни, он докапывался, требовал ответа, помогал им, бросал вопросительно-отрицательные фразы, исполненные надежды: не кажется ли им что? Не стали бы они делать так? Ответы его разочаровывали.
Ему не было необходимости объяснять мне, что он приходил сюда для того, чтобы найти моральную поддержку, необходимую для проведения крестового похода. Он приходил, чтобы найти доказательства того, что молодежь заслуживала принесения ей в жертву предков. Молодежь, господин министр, только и ждет от нас команды вознестись. Она жаждет ответственности, приключений, она ждет, когда ей дадут инструменты для этого. Давайте же дадим их ей.
Он приходил, чтобы поговорить с нами о будущем, а мы рассказывали ему о вчерашней гулянке, о завтрашнем концерте техно-музыки, о рубашке, которую недавно купил себе Пьер благодаря бабушке. Возможно, он выбрал не тех представителей молодежи, не надо было делать обобщений из частных случаев, он возвращался к своему галстуку и к своему костюму полный сомнений, а стаканы красного вина заставляли его покачиваться.
В конце концов он решил начхать на свои сомнения. Прежде всего потому, что иногда ему попадались молодые люди, порядочные во всех отношениях. И еще потому, что цифры Гандона не учитывали ни концерты техно-музыки, ни стаканы красного вина. С двумястами миллиардами в год свинец можно было превратить в золото. Если молодежь была такая, как она есть, ответственность за это должны нести родители и правительство: они не смогли понять проблем молодежи, проникнуться ее законными чаяниями, угадать ее желания. Все это придется изменить. Франция вновь устремится в светлое будущее со своими молодыми людьми, вставшими на правильный путь, и с ее помолодевшими стариками.
А затем, к черту состояние души, его доклад попал в руки заказчика.
— Господин министр, имею честь вручить вам мой доклад. Наша небольшая группа, как мне кажется, неплохо поработала. Здесь вы найдете подтвержденную цифрами аргументацию и мои предложения.
— Можете изложить это вкратце?
— Вкратце… Это трудно сделать. Могу обрисовать схематично, мы остановились на пределе в семьдесят два года. Это будет означать экономию двухсот миллиардов франков в год. Да, двести миллиардов франков! Да, в год! В этих условиях мы могли бы предусмотреть ряд мероприятий, направленных на пользу молодежи: рабочие места, вовлечение в общественную жизнь, отдых. Мы могли бы также, осмелюсь обратить на это ваше внимание, предложить снизить пенсионный возраст до пятидесяти пяти лет. Это может повлиять на ход обсуждений: семнадцать лет периода дожития в расцвете сил, выход на пенсию, которой можно наслаждаться.
— Действительно, это очень важно… Что вы об этом думаете, Тексье?
Тексье загадочно улыбнулся. Он привлек в свидетели свою серьгу, убедился в присутствии претенциозного бриллианта. Что он об этом думал? Он думал, что господину министру это должно доставить удовольствие. Почему? Да потому что в руках у господина министра проект, восхитительный с точки зрения экономики, спорный с социальной точки зрения и несостоятельный с точки зрения человечности. Подобный законопроект Тесье назвал бомбой. Но не надо его считать противником, лично он за него. А вообще-то… И что мы теперь будем делать, господин министр?
Господин министр, чья рубашка жалко колыхалась от ветра, вызываемого его жестикуляцией, был задумчив. Между его бровями пролегла более глубокая, чем обычно, горизонтальная морщина, придававшая его лицу ворчливое выражение. Теперь к ней еще присоединились более классические, то есть вертикальные, подруги-морщины. Этот наморщенный лоб свидетельствовал о ночных переживаниях, о дневных заботах.
— Что мы будем делать? Я могу показаться напыщенным, но считаю, что мы все трое, находящиеся в этой комнате, готовимся вписать основополагающую страницу в историю Франции. Даже всего человечества, ибо, можете не сомневаться, весь мир будет смотреть на нашу страну. В очередной раз. Мы готовим в некотором смысле революцию в области прав человека. Подумать только, все началось вроде бы с неуместной шутки… Да, Майоль, когда вы впервые заговорили об этом несколько месяцев тому назад, я полагал, что это была шутка. Невеселая шутка, которая могла привести скорее к потере электората, чем помочь процветанию страны. А затем эта идея проделала свой нелегкий путь, с ней свыклись, стали рассматривать ее преимущества, недостатки оказались незначительными и постепенно отошли в сторону. И теперь, даже не отдавая себе отчета, мы оказались перед свершившимся фактом. Но вся проблема в том, что только мы втроем понимаем бесспорную необходимость этих мер. Этого мало… Самое трудное впереди. Но чем больше я об этом думаю, и Господь свидетель, я думаю об этом постоянно, тем больше я убеждаюсь в том, что мне не хватает смелости решиться на это. Да, это решение необходимо, мы должны через это пройти. И когда разговор идет об абстрактных понятиях, о финансовом балансе, о возрастании производительности, о субвенциях молодым, все в порядке. Но когда мы понимаем, что все это означает конкретно, как не отступиться, как не отчаяться: ведь мы приговариваем к смерти миллионы людей, чье преступление лишь в том, что они дожили до возраста семидесяти двух лет. Родители, друзья. Об этом вы подумали? Представили ли вы глаза своей матери, когда придет ее час? Ах, к этому я никогда не привыкну. И все же… Могу вам признаться: не хотелось бы мне оказаться на моем месте! Я знаю, что говорю… Иногда у меня возникает желание покинуть мой пост. Уйти в тень. Пустить себе пулю в голову. Но только иногда. Уверяю вас, я согласился занять этот пост вовсе не для того, чтобы проводить страусиную политику. Никогда не думал, что придется оказаться перед такой дилеммой. Но я здесь, я не могу бежать от ответственности. Потому что понимаю — коллеги по правительству не захотят пачкаться, премьер-министр тем более. Они предоставят мне выполнить эту грязную работу. Все взвалят на меня! Давайте, давайте, хватит разглагольствовать… Вы спросили меня, Тексье, что мы теперь будем делать? Запустим машину… Как? Жду ваших предложений. Да, Тексье?
— Майоль, какова была позиция двух депутатов, которые работали в вашей рабочей группе?
— Депутатов? Скорее всего положительная. Они вначале возмущались, особенно Мартинез, что совершенно понятно, поскольку в его департаменте очень много пожилых людей. Но постепенно, особенно после того, как им под нос сунули цифры, рассказали о возможных выгодах, о деньгах, которые они могли бы получить на социальные пособия, они поддержали проект. Напомню, что, как только что сказал господин министр, наши дебаты проходили в абстрактном контексте. Я попросил их рассматривать нашу работу как простую школьную задачу. В день, когда им придется иметь дело со своими избирателями, с такими оковами на ногах — поскольку, повторяю, оба они являются частью нашего движения, — они, возможно, будут реагировать иначе.
— Вполне возможно. Однако я возьму на заметку, что они прониклись аргументами, которые вы привели. Это означает, что, если взяться за дело с умом, победить можно. В НПФ партийная дисциплина достаточно крепка, чтобы не ждать неприятных сюрпризов. Реакция наших союзников внушает мне больше опасений. С коалициями вечно происходит одно и то же. Вспомните, как знаменитая левая коалиция развалилась в связи с делом Байе… А наш законопроект представляется мне намного более взрывоопасным, чем дело Байе. Я полагаю, господин министр, что начать нужно с обеспечения ваших тылов. В правительстве семь членов НПФ. Вы должны стать стержнем нашей революции. Это значит, что все должны поддержать проект. Как полагаете, сумеете ли вы этого добиться? Если да, то, полагаю, примкнут и все остальные. Вы всемером имеете большой вес в правительстве, у вас есть рычаги давления на премьер-министра. В заключение я предлагаю вам собрать ваших коллег, создать нечто вроде кризисного ядра и вместе с ними обойти эти подводные рифы политики. Доклад Майоля дает технические ориентиры досье. Теперь пора переходить к его политическим, гуманитарным, философским аспектам. Нельзя ничего оставлять на волю случая. И естественно, надо определить стратегию.
В тот вечер у Кузена Макса не было времени, чтобы снять галстук. Усевшись рядом со мной на банкетку в глубине зала, он ограничился тем, что ослабил узел. Его улыбка согревала сердце, это была улыбка довольного ребенка, ребенка, который только что добился сноса голов нескольких миллионов дедушек и бабушек.
— Что вы об этом думаете? Нет, для вашего пикета время еще не пришло! Давайте, я плачу за все! Как считаете, вон тот старик, облокотившийся на бар, выпьет с нами?
7
Став почетным зрителем первых криков этого мерзкого новорожденного, которого Кузен Макс держал на своих руках, за следующим этапом я наблюдал уже на расстоянии. Но кормящий отец держал меня в курсе развития событий. Хотя и значительно реже, чем раньше, но он все же продолжал появляться в «Регалти», делая вид, что ему интересно послушать наши разговоры, и отводя меня в сторонку, рассказывал о своих тайнах. Я чувствовал, что ему было необходимо ими поделиться со мной. Его одиночество, какими бы твердыми ни были его убеждения, должно было делать его жизнь невыносимой. Я служил ему чем-то вроде предохранительного клапана.
Бофор настоял на том, чтобы он вошел в состав новой группы, имевшей целью вплотную заняться разработкой законопроекта. Помимо министра внутренних дел туда вошли Пьер Брид, министр иностранных дел, шестьдесят пять лет; Анри Бро, министр обороны, шестьдесят лет; Ален Буассу, министр сельского хозяйства, пятьдесят четыре года; Жан-Луи Бужон, министр по делам молодежи и спорта, сорок девять лет; Брижит Лаверно, министр государственной службы, пятьдесят шесть лет; Франсуаза Моро, министр транспорта, пятьдесят три года. В составе этой группы был также Жан Бертоно, пятьдесят два года, генеральный секретарь НПФ, серый кардинал, человек, который сделал из партии то, чем она стала, и который заправлял всей французской политикой. Тот, из чьих рук, как он любил похвастаться, кормились руководители партий, вошедших в правую коалицию. Какие люди, говорил Кузен Макс, но управлять этими людьми было нелегко. Не найдя более подходящего названия этой группе, Кузен Макс называл ее «Кризисное ядро». Но называл он ее так только в разговорах со мной и не мог скрыть недовольства тем, что группа существовала без названия. С философской точки зрения это было нехорошо. С призрачной рабочей группой уже был перебор, и выносить эту новую группу ему было совсем тяжело. Но, как бы то ни было, он не мог говорить с Бофором на тему наименования. Потому что новый орган не имел ничего общего с маленькой группой, которая начинала это дело: та группа была для игры, а эта — для страшных баталий. Возраст участников, вероятно, объяснял резкость их выступлений: данный законопроект касался лично каждого из них.
С самого первого заседания «Кризисное ядро» Кузена Макса стало оправдывать свое название: нервные срывы, слезы, скандалы, кризис личности, всего было предостаточно и на любой вкус. Бофор, следует признать, не собирался ходить вокруг да около. Он решился на шоковую терапию: вначале сделать очень больно, а потом рассуждать. По предварительной договоренности с Бертоно он нарисовал присутствовавшим картину апокалипсиса Франции, в нескольких словах упомянул о предлагаемом решении и объявил, что оставалось только претворить в жизнь меру, да, такую болезненную, но неизбежную: сократить продолжительность жизни до семидесяти лет.
После нескольких секунд всеобщего недоумения Брид наконец решил, что это была всего лишь шутка. Запустив ладонь дипломата в свою густую шевелюру, что у него означало настоящее облегчение, он громко рассмеялся и вызвал у коллег взрыв самых острых шуток. Но мало-помалу смех стих: трагическое выражение на лицах Бофора и Бертоно не располагало к веселью. Конечно, когда Бофор под предлогом сохранения государственной тайны собирал их на эту встречу, они решили, что случилось что-то серьезное. Но представить себе такое, такую, это… У них просто не было слов, они почувствовали себя в ловушке.
Этой ловушкой Бофор воспользовался очень умело. Кузен Макс пришел от этого в волнение и восторг. Этот Бофор был действительно то, что надо: рвущийся к власти, готовый смести все, что могло бы помешать его замыслам. Иногда даже возникал вопрос: были ли у него какие-нибудь человеческие чувства? Но какая эффективность, какое умение манипулировать людьми! — он мог привести кого угодно куда угодно и когда ему было угодно.
В тот день он завершил заседание через полчаса. Хотя у каждого было что сказать. Мадам Моро лихорадочно что-то писала. Бро незаметно вытирал платком слезы, раньше такой сентиментальности за отставным полковником инженерных войск не наблюдалось. Буассо бормотал свои «но… но», от которых его палач отмахнулся. Брижит Наверно и Брид, широко раскрыв глаза и разинув рты, были не в состоянии что-либо возразить. Только лицо Жан-Луи Бужона не поменяло выражения: он стоически желал привить спорт, как школу жизни, новым поколениям. Да и потом, разве меры, которые были ему предложены, не являлись средством развития и возвышения молодежи, этой прекрасной молодежи, которая, по его замыслам, должна была завтра зашагать сомкнутыми рядами с высоко поднятой головой к лучезарному будущему, а потом, в день его ухода из жизни, прийти к нему отдать последние почести. Перспектива менее радостная, но нельзя же приготовить омлет, не разбив при этом яиц, а он, Бужон, чувствовал себя готовым пожертвовать своим телом ради прогресса. Да, готовым, тем более что присутствующие здесь коллеги к тому времени уже будут лежать в гробу, предоставив ему, таким образом, свободу действий. Он продвинется по службе. Власть и слава стоят жертв…
Прервав воинственные мечты Бужона, Бофор распустил своих апостолов, призвав их собрать все свое мужество, если не сказать достоинство. Пусть они подумают над судьбой Франции, пусть забудут о своей маленькой личности. И выразил уверенность в том, что на следующем заседании группа наконец-то приступит к работе. Он даже не извинился перед ними за то, что украл у них два года жизни. Он также не преминул напомнить им о необходимости соблюдения конфиденциальности: для того, кто проговорится, будет приготовлена специальная тележка на эшафот, не дожидаясь, когда болтуну исполнится семьдесят лет. Эта шутка заставила смеяться лишь его самого. Несмотря на то что коллеги сделали вид, что разделяют его веселье, все они помнили о некоторых необъяснимых исчезновениях людей, чтобы смеяться от всего сердца.
Утро вечера мудренее, даже если ночью совсем не спишь. С посеревшими лицами, с синими кругами под глазами, министры изображали внешнее спокойствие в момент начала второго заседания. Каждый из них положил на стол перед собой досье. На обложках, как с любопытством заметил Кузен Макс, не было никаких надписей. Вообще-то министр — личность организованная, любящая понятные и доступные вещи. Он обычно кладет на стол досье, на которых опытные секретари ставят пометки о важности. А тут ничего подобного: маленькие неприметные досье, которые с виду и мухи не могли обидеть. В них лежало несколько листков, на которых неразборчивыми почерками было что-то написано, явно с ошибками.
Да и что они могли там написать, не объявляя при этом судьбу длинных когорт невинных людей, с которым министры готовились свести счеты? «Группа по разработке законопроекта об уничтожении лиц пенсионного возраста»? Это могло быть все что угодно! «Комитет по зачистке»? Уже было. «Сумерки стариков»? Бужон с большим трудом удерживался от дикого хохота. Иногда он сам себе удивлялся. И рядом не было никого, с кем он смог бы поделиться своими находками, какая жалость! Все же «Сумерки стариков», надо бы подсказать это название Бофору, когда он будет в хорошем расположении духа. Ладно, допустим, ему не понравится такое название досье. Какое же тогда выбрать? А что если «Теория кающихся грешников»? Неплохо для процессий осужденных на смерть, мысли о которых он старался отогнать, как надоедливых насекомых. Это его беспокоило, поди узнай почему. Неплохо. Возможно, он слегка свихнулся? Ну, потом увидим.
Итак, тонкие неприметные досье. Разноцветные внутренние стороны обложек. Кузен Макс подумал, что цвета выбраны не случайно. Для министра Моро смерть ассоциировалась с цветом кожи новорожденного: розовым. Более логичным был выбор серого цвета Бридом, Бро и Брижит Лаверно. Буассу предпочел бледно-зеленый цвет надежды. Но все не смогли удержаться от приступа тошноты, когда Бужон вынул из портфеля досье с ярко-красной, словно залитой кровью обложкой. Бертоно предпочел светло-голубой цвет, веселенький, как блеск холодного оружия.
Кузен Макс едва сдерживал разочарование: дело обещало затянуться. Вопрос заслуживал серьезной работы, а не подготовки этих школьных досье. Пусть и не чувствовалось энтузиазма, но он вправе был рассчитывать на минимальное профессиональное сознание. Так он и сидел, углубившись в мрачные мысли, когда вдруг увидел, как Брид из внутреннего кармана пиджака достал сложенный листок бумаги, который развернул перед тем, как сунуть его в свое досье с серой обложкой. Буассу достал свой листок из кармана рубашки. Франсуаза Моро предпочла хранить свой листок в глубине дамской сумочки под пудреницей. Бро, за ним Бужон и все остальные разглаживали кулаками каждый свой смятый листок, где были видны набросанные тайком, так чтобы никто не видел, мысли, которые, по замыслу писавших, могли бы забраковать законопроект.
Только один Бертоно сидел с непроницаемым лицом. Он опустил сложенные руки перед собой на досье цвета клинка, словно хотел задушить это досье, словно призывал себе на помощь грозные силы, чтобы наставить на путь истинный этих овечек. И простить все смертные согрешения, которые они собирались совершить. Можно было подумать, что он присутствовал на заседаниях лишь для того, чтобы присматривать за ретивыми учениками. На самом деле он выполнял и доводил до драматического состояния свою роль пугала, которая подчеркивалась неизбежными задымленными стеклами его очков. Страх, ужас, который некоторые испытывали перед ним, основывался не только на слухах. Бертоно умел совмещать жесты и слова. То, как он захватил власть в НПФ, внушало уважение: отставки, союзы, которые никто не мог объяснить, три или четыре внезапные смерти, которые, вероятно, напрасно приписывали Бофору. Всегда все списывают на богатых. Так вот, он перешагнул через эти три или четыре трупа, даже не бросив на них взгляда. Настоящий мужчина, стальная перчатка на стальной руке, как он любил себя называть, с полным отсутствием чувства юмора, о котором все знали, но над которым никто не смел шутить, даже в частных беседах.
Это был серый человек. Серый со всех точек зрения: костюм, галстук, волосы, цвет лица, цвет глаз. Даже его улыбка, как утверждали редкие очевидцы этого события, имела серый оттенок. Бертоно был сер и ни на что не похож. Человек без цвета и без запаха. Ты можешь провести рядом с ним целый день, а когда расстанешься, то спустя всего пять минут ты не сможешь его описать. Да, ты вспомнишь о его нежных руках, о женских руках с безукоризненными ногтями, о его жестах прелата, о сладком голосе, похожем почти на шепот. И невозможно догадаться, что таится за этой серой стеной. Впрочем, тебе и не захочется об этом знать. Ах да, есть особая примета, пятно справа на подбородке, то ли пигментное пятно, то ли шрам. Никто не осмелится его об этом спросить. И понимаешь, от него исходит такая серость, что даже это пятно куда-то исчезает. Бесцветный, как медуза. Очень ядовитая.
Проект Бофора очень понравился генеральному секретарю: он любил сравнивать Францию с огромным одиноко стоящим дубом. Ему предложили отсечь от дерева ненужные ветви — ах, какой будет костер — и позаботиться о почках, оздоровить корни, можно будет даже укрепить ограждение вокруг ствола. Его снедало нетерпение. Будь его воля, он поставил бы законопроект на голосование немедленно. Бофору удалось его убедить в том, что поспешность может причинить вред их революции. Не надо спешки, но не надо и увиливаний, никаких уверток в принятии решения. Отношение к проекту его министров во время первого заседания привело его в ярость. Он не поленился позвонить потом каждому из них, как обычно ночью, в то время, когда побежденные сном члены рабочей группы видели во сне, как они будут жить в мире, где престарелые министры будут уничтожены. Он любил звонить ночью, потому что после внезапного пробуждения защитная реакция человека ослабевает, все аргументы находятся где-то в шкафу, в карманах пиджаков, глаза отведены от замочных скважин, а мысли не столь ясны. После короткой проповеди, в ходе которой шепот граничил с ядовитой фамильярностью, каждый из министров уяснил, что от него ожидают активного участия и полной поддержки. Брид, которому возраст под другими небесами гарантировал бы определенные привилегии, то ли из горделивой независимости и смелости, то ли из лучших побуждений осмелился поинтересоваться, а что будет «в противном случае»? В противном случае? Да просто обойдутся и без него. Он уставился в потолок, его раздражал храп супруги Полетт, которой был уже семьдесят один год и которая могла бы лучше использовать оставшееся ей для жизни время. Брид остаток ночи провел, размышляя над тем, что он недослышал: то ли генеральный секретарь сообщил, что обойдутся без него, то ли пригрозил, что от него избавятся. Честно говоря, он не был уверен в том, что правильно все понял, поскольку это была не та фраза, которую можно было переспросить, это его сильно озадачило. На рассвете министр иностранных дел уже принял решение. Успокоились и его душа, и его сознание. Он будет принимать активное участие и все поддержит.
Таким образом, раскрашенные в различные цвета досье на втором собрании позволили проекту продвинуться. Кстати, тронутый активным участием министров, Бофор не смог отказать себе в удовольствии и сообщил хорошую новость: на прошлом заседании он немного увлекся, на самом-то деле предел периода дожития должен быть установлен на уровне семидесяти двух, а не семидесяти лет. Обычно при исполнении своих обязанностей министр не показывает своих чувств, но сейчас все собравшиеся не смогли скрыть своей радости. Два года жизни заработаны просто так, не успели они даже щелкнуть пальцами! Два года! Но это все меняет! Этот проект уже пришелся им по сердцу. Да, конечно, вначале они заупрямились, но надо их понять, это было так неожиданно, речь шла о незавидной кончине их родных. Теперь все стало проще. О да, они поддерживают проект! Да, они будут принимать участие в его разработке, да еще как активно!
Тон задал Буассу, который в прошлое воскресенье руководил банкетом в сельском клубе Азейле-Брюле. Тон был несколько игривый, если принять во внимание важность поднятых проблем, но ему не стоило печалиться, между пятьюдесятью четырьмя и семьюдесятью двумя годами разница составляла целых восемнадцать лет. Восемнадцать прекрасных лет — он с изощренным удовольствием нацарапал эту цифру на задней стороне обложки своего досье и, ей-богу, почувствовал, застой в ногах. Давайте быстрее начнем, работы невпроворот, а вечером не исключено, что он сможет позволить себе немного расслабиться.
— Раз надо с чего-то начинать… У меня есть ряд вопросов. На самом деле их можно было бы объединить в один главный вопрос, надеюсь, он присоединится к вопросам моих коллег… Итак, продолжительность периода дожития будет ограничена семьюдесятью двумя годами. Это довольно большой контингент. Мой вопрос состоит в следующем: касается ли эта мера всех? Если это так, то рассмотрели ли вы последствия? Прежде всего, хотим мы этого или нет, наше правое националистическое движение черпает значительную часть электората среди людей тех возрастов, которых эта мера касается. Это, конечно же, совпадение, но социально-профессиональные категории, которые нас поддерживают, быстро стареют: духовенство, военные, торговцы. Не рискуем ли мы рубить сук, на котором сидим? И наконец, не обезглавит ли или даже не опустошит ли эта мера некоторые наши государственные учреждения: подумайте о сенате. Там останется лишь горстка сенаторов. Эту структуру придется упразднить, если не найти другого решения.
— Ваш вопрос очень интересен, Буассо. Мы уже обсуждали его с Тексье и Майолем. Ответ прост: семьдесят два года для всех без исключения. Для всех — это значит для здоровых и больных, для активно работающих и для бесполезных, для пенсионеров национального образования и для политиков. Представляете себе взрыв негодования по поводу предоставления отсрочки сенаторам?! При их-то репутации! Вот, смотрите, я обнаружил выступление некой депутатки-социалистки в 1999 году. Здесь сделана ссылка на этимологию слова senex, означающего собрание стариков, и указано, что в наше время речь идет о некоем «органе, полностью оторванном от демографического, социального и экономического положения французов»! Согласен, в ту пору сенатом заправляли правые. Но с тех пор многое изменилось. Туда смогли просочиться и левые. Тем более надо резать по живому. Указанная депутатка призывала сократить мандат сенаторов с девяти до пяти лет. Настала наша очередь омолодить стариков. Возвращаясь к другому аспекту вашего вопроса, относительно того, не выстригаем ли мы траву под своими ногами, уничтожая стариков? Полагаю, что риск есть, он минимальный, но на этот риск надо пойти. Наше движение, а через него и вся наша страна, не может продолжать делать ставку на торговые фонды. Не о такой Франции я мечтаю. Я могу показаться вам циничным: они позволили нам прийти к власти, теперь мы в них не нуждаемся. Тем более что левые и центристы своими демагогическими речами сильно подорвали нашу гегемонию. Повторяю: будущее не принадлежит людям пенсионного возраста. В любом случае, не наше будущее. Вспомните, что говорил Мергэ двадцать лет тому назад: старость похожа на кораблекрушение. Конечно, в то время он имел в виду своего соперника, но это не важно, он уже тогда открыл путь к омоложению руководства. Уверен, если бы не гибель от несчастного случая, он смог бы претворить в жизнь свои задумки. Мы должны поставить на молодежь. Левые уже подготовили для нас почву, молодежь утратила жизненные ориентиры, она ждет, когда ей укажут на новые ценности: именно мы должны их дать, и именно мы должны этим воспользоваться. Не так ли, Бужон?
Бужон полностью разделял точку зрения своего друга Бофора. Молодежь долгое время оставалась предоставленной самой себе, он считал, что его пост позволял ему об этом говорить. И он говорил, меряя комнату шагами. Молодежь мечется, словно зверь в клетке. При этом проявляет склонность к насилию, и, если ее не направить в нужное русло, если не дать ей обо что поточить когти, ситуация может со дня на день взорваться. Но ему в голову пришла одна мысль: он представил себе, что решение сократить продолжительность жизни до семидесяти двух лет будет введено не когда-нибудь, а через год, через два. Не произведет ли оно ретроактивный эффект? Потому что если так случится, это затронет множество людей!
— Этот Бужон как всегда прагматичен! Но вы правы, не стоит закрывать глаза на практические трудности. Майоль, сколько будет кандидатов, скажем, через пару лет? Между семью и восемью миллионами? Черт подери! Естественно, это не пустяк. Но, с другой стороны, это позволит улучшить положение с занятостью: нужна будет рабочая сила!
Придя в хорошее настроение от рабочей обстановки, Бертоно сказал свое доброе слово:
— Не стоило хлопать дверью при выходе из Европейского сообщества. Брюссельские технократы, возможно, выплатили бы нам премии за убийство наших стариков…
8
Входе последовавших заседаний проект начал обретать форму закона. Работы по-прежнему велись в обстановке повышенной секретности. Кузен Макс был секретарем, он делал записи, составлял отчеты — в одном экземпляре для Бофора — и стандартную повестку дня:
1. Утверждение протокола предыдущего заседания.
2. Ретроактивность решения.
3. Увеличение потребления медикаментов и медицинских услуг в зависимости от возраста.
4. Целесообразность создания центров отдыха.
5. Разное.
Ах, эти центры отдыха! Решительно, министры уделяли больше внимания форме, а не сути вопроса. Проникшись сутью проекта благодаря дружескому нажиму Бертоно, они не ставили под сомнение основные направления проекта. Казалось, шок вызвал у них анестезию. Зато, когда речь заходила о присвоении названия той или иной структуре, тому или иному разделу работ, веки их приподнимались, ораторы воспламенялись. Так, когда они вернулись к поставленному Бужоном деликатному вопросу и Кузен Макс предложил создать некие специализированные центры эвт… эвтаназии, никто не посмел возразить против принципа создания подобных заведений. Зато как бурно, с каким запалом, с какой выдумкой обсуждался вопрос об их названии! Все по достоинству оценили предложение мадам Моро назвать их «Домами отдыха», но потом решили, что это может привести к путанице. Бро предложил вариант названия «Площадка для ухода», что вызвало много споров. Зато все дружно отвергли предложение Брижит Лаверно назвать их «Муниципальными бойнями». Правда, никто не понял, имела ли Брижит Лаверно первый уровень или второй, но решение было принято. Закончилось все тем, что все поддержали предложенное Пьером Бридом название «Центр перехода», что звучало лучше предложенного Бофором варианта «Центры отдыха».
Министры затратили еще целых два часа на споры относительно наименования проекта.
— Конечно, — настаивал Бужон, — это проект, но это одновременно и операция, мероприятие, решение. Мы путаемся в понятиях, не знаем уже, всему делу требуется давать название или же одному из его аспектов. Мы вообще уже ничего не понимаем.
— Наименование проекта? Название, которое обозначало бы все, не обозначая при этом ничего? «Операция „Юность“»? «Удар кокоса»? «Вперед, молодежь»? «Нашим дорогим предкам»? «Покойтесь с миром»? «Новая эра»? «Прекрасные годы»? «Последнее причастие»?
Стараясь не слишком высовываться, не быть первым в классе учеником, Бужон предпочел умолчать о наименованиях, которые так его веселили. Однако они означали совсем не то, что предлагали коллеги. Ну просто школьный уровень, не выше!
Желая взять реванш за провал своего названия перед «Центром перехода», Бофор сумел навязать свое название проекту — «Семьдесят два». Да, просто «Семьдесят два». Поскольку аплодисментов не последовало, он взял всех измором. А почему бы и не «Семьдесят два»? Это понятно, нейтрально, подходит ко всему. Каждый поспешил написать на обложке своего досье крупными буквами: «Семьдесят два», — и теперь досье стали похожими на настоящие досье. А Кузен Макс, хотя он и был несколько разочарован наименованием, почувствовал облегчение. Одна тема, одна цель.
Сразу же после того, как Франсуаза Моро написала на обложке наименование, ее вдруг осенило, и она воскликнула:
— А женщины?
— Женщины? Что с женщинами?
— Женщины тоже? Семьдесят два года?
— Конечно! Это же очевидно!
— Нет, не очевидно! Продолжительность жизни женщин на пять лет превышает продолжительность жизни мужчин. Они будут наказаны строже. В этом нет ни справедливости, ни логики.
Черт, черт! Даже Кузену Максу в голову не пришло рассмотреть вопрос с этой точки зрения. Вскинув брови, Бофор призывал его на помощь. Но напрасно. Кузен Макс молчал. Он досадовал на себя за то, что не пригласил в рабочую группу представительниц слабого пола. О чем он только думал? В качестве оправдания он вспомнил о своем бракоразводном процессе, который сделал его пристрастным и необъективным… Анри Бро пришел на помощь, у него было преимущество перед Кузеном Максом: три развода позволили ему досконально изучить женскую натуру. У него не было никаких сомнений:
— Поскольку они все уши нам прожужжали про равенство полов, про паритетное представительство и про всю эту чепуху, я не вижу причин для дискриминации по половому признаку. Мужчины, женщины, все едино — семьдесят два года! Кстати, Бофор, напомните-ка, ваш проект предусматривает выход на пенсию в пятьдесят пять лет. Это касается обоих полов?
Бофор раздраженно кивнул. Да, эта Моро его раздражала своими настолько примитивными вопросами, что никому и в голову не пришло об этом задуматься. Эта Моро и ее практичность домохозяйки! Все в ней было как в домохозяйке: прическа с завивкой на бигуди, голубой костюм, туфли на низком каблуке. Это была идея Гарсена, ему захотелось иметь в правительстве домохозяйку, чтобы внушить доверие другим домохозяйкам. Домохозяйка — министр транспорта! По крайней мере, не было двусмысленности в виде транспорта! Но домохозяйка она или нет, ее вопрос заслуживал того, чтобы над ним поразмыслить. С выходом на пенсию все было ясно: пятьдесят пять лет для всех, по-другому сделать было невозможно. А с «Установками для перехода»? Женщина, и статистика это подтверждает, может спокойно дожить до восьмидесяти девяти лет. Она не захочет умирать в том же возрасте, что и ее супруг, чей предел восемьдесят три или восемьдесят четыре года. Нет, он ошибается, это прогнозы на 2040 год, но это не имеет значения.
С другой стороны, во Франции женщин на три миллиона больше, чем мужчин. Если вычесть девушек подросткового возраста, которые еще не голосуют, останется, скажем, ну где-то двадцать четыре миллиона избирательниц. В таком случае глупо было бы не прибрать к рукам их голоса. Добавить им еще год? Два? Но тогда будут возмущаться мужчины. Может быть, но мужчин-то меньше…
— Ладно, послушайте, тут надо подумать, в этой ситуации есть много нюансов. Время у нас есть, мы взвесим все за и против. А сегодня мне хотелось бы… Что вы сказали, Брид? День солидарности? Посвятить его молодым? А почему бы и нет? Вы ведь знаете его историю. В 1956 году в продажу поступил знак на автомобиль для стариков. Сами понимаете, что доходы с продажи правительство пустило совсем на другие цели. А потом, выполняя предвыборные обещания, в один прекрасный день вообще убрали эту виньетку. В 2003 году первое повышение температуры во Франции унесло жизни около пятнадцати тысяч стариков. Всеобщая тревога. Понедельник на Троицу был объявлен праздничным днем, дневной доход направлен на помощь старикам. Профсоюзы возмутились, про понедельник на Троицу забыли, но день солидарности в принципе оставили. Со стариками. В принципе. А на самом деле это стало еще одним налогом. Может, приспособим этот день к сегодняшней ситуации? И официально направим доходы от него на нужды молодежи? Идея неплоха, мы еще к ней вернемся, пока в этом нет никакой срочности. А теперь давайте вернемся к нашим баранам.
Баранами Бофора в тот день стали вопросы разработки стратегии реализации. Все вместе они поработали очень хорошо, Бофор был рад убедиться в том, что проект, простите, «Семьдесят два» был принят единогласно, — конечно, с небольшими поправками, которые надо будет внести: улыбка в сторону мадам Моро, — но настала пора приступить и к стратегической фазе операций. С чего следует начать?
Вопрос был адресован ко всем, но все сразу же повернули головы к Бертоно. Все понимали, по столь заковыристому вопросу Бофор и Бертоно уже переговорили между собой. Поэтому, чтобы не наговорить глупостей, надо было выиграть время и дать высказаться генеральному секретарю. Это был правильный ход, он уже думал над этим вопросом и хотел поделиться своими соображениями. Просто соображения, не так ли, его личный взгляд на вещи.
— Революция всегда одерживает победу путем кровопролития. Что касается нас, предвидя, что прольется много крови, можно поверить в успех нашего дела… Шучу. Мы не можем говорить о революции, поскольку эту меру хотим навязать мы, руководители на местах. Поэтому мы можем говорить о законе. О революционном законе. За закон голосуют. Депутаты, сенаторы. Пройдет ли наш закон сквозь двойное сито? Сомневаюсь. Вам известна отмороженность Национального собрания и заторможенность сенаторов. Возможен вариант его прохождения после долгих лет разъяснения, перемены сознания… Но мы не можем ждать так долго. Что же нам остается? Референдум. Да, вы не ослышались — референдум. У нас будет время на то, чтобы его подготовить и самим приготовиться. Президент республики? Это я беру на себя. Вместе с Бофором и премьер-министром мы сможем его убедить… Нет, премьер-министр ничего еще не знает про операцию «Семьдесят два». Поскольку ему самому скоро стукнет семьдесят, не думаю, чтобы он этому обрадовался. Когда «Семьдесят два» вступит в силу, он займет одно из первых мест на повозках к эшафоту. Но не стоит переживать, я хорошо его знаю, он хороший парень, все будет в порядке. В конце концов, мы даем ему два года отсрочки… Перед тем как передать слово Бофору для обсуждения практических деталей, я хочу обратить ваше внимание на необходимость хранить секрет относительно «Семидесяти двух». Мы запустим эту машину, но не надо забывать, что через полгода нас ждут выборы в законодательное собрание. Малейшая утечка информации может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и для вас лично… Бофор, мы вас слушаем.
— Повторю основные положения проблемы: лица старше семидесяти двух лет обходятся государству примерно в двести миллиардов франков. Не стану повторяться про гуманитарные аспекты, касающиеся пенсионеров, про их одиночество, неспособность приспособиться к новой жизни… Мы хотим предложить выход на пенсию в возрасте пятидесяти пяти лет. Для того чтобы выплачивать людям пенсии, мы должны или распахнуть двери для иммиграции, или… не улыбайтесь… да, организовать обратные чартеры! Вижу, что все согласны. Нам пять лет потребовалось на то, чтобы решить проблему с иммигрантами, и не для того, чтобы опять наступать на те же грабли. Итак, или иммигранты, или сокращение продолжительности жизни до семидесяти двух лет. В этом суть нашего проекта, ее необходимо распространить, сделать доступной и очевидной для каждого жителя. Это надо делать постепенно, без резких движений. В ближайшем будущем, что касается вас лично, то вам надо обо всем забыть. Я позову вас, когда наступит время идти в атаку. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: пока опросы общественного мнения не станут благоприятными, мы ничего не будем делать. Референдум должен стать ответом на чаяния масс, требования народа. Иначе нам не победить. Мы ведь живем не в какой-то банановой республике. Иногда проводимые во Франции референдумы приносят вред. Вспомните референдум 2005 года, когда мы снова оказались верхом на коне в то время, когда никто в нас больше не верил. Мы не пойдем ни на какой риск. Разве что на минимально возможный, поскольку ничего нельзя предсказать заранее.
Перейдем к конкретным мерам — утверждению состава возглавляемого мною стратегического комитета. В него войдут, разумеется, Бертоно, а также мой советник Тексье и Бужон. Стратегический комитет будет работать в тесном сотрудничестве с группой по связям с общественностью и СМИ, им будет оказывать содействие Макс Майоль, а возглавит Франсуаза Браше. Да, Франсуаза Браше, рекламирующая пирожные и стиральные порошки. Напоминаю, именно она руководила победной предвыборной кампанией нашего президента республики. А это было весьма нелегкое дело. Могу сообщить вам по секрету: ей очень близки наши идеи. И она еще довольна молода!
9
Первая статья появилась, я это точно помню, 18 марта 2014 года: так, пустяк, несколько строк на одной из внутренних полос газеты «Франс-суар». Мужчина восьмидесяти шести лет, лишенный прав на вождение автомобиля, не справился с управлением и сбил на своей машине двух мотоциклистов, получивших тяжелые увечья. Сам водитель остался невредим. Так, простая информация, которую читаешь каждый день или почти каждый. Однако там журналист задал вопрос: имеет ли смысл разрешать водить машину пожилым людям, не удостоверившись предварительно в том, что они в состоянии это делать с точки зрения здоровья и умственных способностей? Статья не была ни глупой, ни злой. Разве что коварной?
На следующей неделе в ежедневной газете «День», близкой к идеям НПФ, сообщалось, что в Перпиньяне какой-то вспыльчивый человек превратил народные гулянья в восстание. Автор этих строк не привел подробностей, к счастью, обошлось без жертв. Но он четко упомянул о возрасте виновника беспорядка — семьдесят восемь лет.
На следующий день в той же газете появилось сообщение о печальном случае со школьниками в Версале: они обходили дома, собирая пожертвования в рамках одной гуманитарной акции. На улице Ампер, едва они позвонили в одну из дверей, какой-то мужчина наставил на них ружье. Добрые детки со всех ног бросились бежать прочь, за их спинами раздался выстрел. Был ли этот выстрел направлен вверх, как утверждает г-н X, восьмидесяти лет? Ведется следствие. Детишки с перепугу растеряли все деньги, что успели до этого собрать. Г-н X отказался возмещать ущерб.
Интересное дело, за несколько недель, словно решив, что напали на золотую жилу, все остальные газеты принялись печатать короткие сообщения, бросающие тень на лиц пенсионного возраста. Даже «Монд» сообщила, что некий неуживчивый человек семидесяти четырех лет расставил капканы на волков в своем имении, по которому проходили, чтобы сократить путь, учащиеся колледжа в Брив.
— Ну, и как они на это реагируют? Что говорят?
Кузен Макс был слишком занят в своем кабинете, чтобы читать прессу, и поэтому каждый вечер приходил в «Регалти», зажав под мышкой кучу газет. Я успокаивал его, кампания набирала обороты. Подвиги стариков уже начали вызывать забавный интерес посетителей «Регалти»: смотри-ка, еще один! Роже, послушай, в Лиле задержали карманную воровку семидесяти восьми лет! Не знаю, что с ними случилось, но в последнее время наши предки словно с цепи сорвались. Вот, посмотри-ка «Либерасьон», на улице Сент-Оноре некий ворон восьмидесяти одного года — для ворона возраст весьма почтенный — принялся шантажировать соседей и сумел выбить из них шестьдесят пять франков.
Это стало уже игрой. Мы с Франсуа и Пьером развлекались тем, что читали сообщения в рубрике «Разное» и с удовольствием комментировали подвиги старичков и старушек.
Вскоре так называемые подвиги переросли анекдотичные рамки рубрик «Разное». «Монд» снова вернулась к своему установщику волчьих капканов. Да, конечно, несчастного случая не произошло, но эти действия заслуживали того, чтобы остановиться на них и задать ряд вопросов: как быть с неприкосновенностью частной собственности? Все ли можно оправдать заботой о безопасности? До каких пределов должна простираться ответственность властей? И главное, основной вопрос, который обрадовал Кузена Макса: пригодны ли люди преклонного возраста для проживания в современном мире? Конечно, эта статья занимала не целую полосу, конечно, она ни в чем не обвиняла стариков и вообще старалась быть объективной.
— Но она позволяет нам вставить ногу в стремя. Это первая статья, которая прямо указывает на проблему с пожилыми людьми. Могу тебе сказать, что эта статья далеко не последняя. Эта Браше свое дело знает. Увидишь, что будет дальше! Все очень аккуратно. Сам разберешься, ты по-прежнему остаешься моим главным свидетелем.
После того как Кузен Макс ввел меня в состав своей фантомной рабочей группы, он поручил мне наблюдать за реакцией на улице. Я относился к этой задаче серьезно, выслушивал комментарии, тайком делал пометки, чтобы ничего не забыть. Операция «Семьдесят два» стала также и моей. На своей работе я не ограничивался только тем, что торговал, я беседовал с клиентами. О дожде и о хорошей погоде, о последних успехах в освоении космоса, о старике, который выбросил из окна свою домработницу. Клиентам очень нравился этот индивидуальный подход, они охотно откровенничали со мной, старость создавала проблемы, послушайте, вот моя мать, которой уже восемьдесят четыре года, так она… Начальству это нравилось меньше, поскольку оно считало, что платят мне не за разговоры, а за продажу.
Стены домов столицы были украшены афишами. Шла рекламная кампания по продаже путевок для отдыха в деревне. Это было интересно молодым, и не только. Чтобы подтвердить эту истину, с плакатов улыбалась парочка, стоявшая в воде и державшая за руки двух необходимых детей. На заднем плане, стоя с подвернутыми, как у ловца креветок, брюками, улыбались родители этой парочки. Пленительная картина гармонии трех поколений. Но у старика не было одного зуба. И все смотрели только на эту щербатую улыбку. Старик занимал скромное место на этом рекламном плакате, на первом плане стояла молодежь. Однако этот отсутствовавший зуб всем чем-то мешал. Словно муха на фарфоре. Никто не знал, стоило ли старика пожалеть или посмеяться над ним. Люди шли дальше, думая, что афиша была бы намного привлекательней без стариков. Через пять минут об этом уже никто не думал.
Мало-помалу на афишах, в газетах, на телевидении пенсионный возраст стал терять свою ауру: симпатичный, добродушный, полный сил старик, гладящий по головке многочисленных усевшихся к нему на колени малышей, стал уступать место хилым существам со злобными взглядами, стоявшим в двусмысленных позах. О, ничего шокирующего, чаще всего на грани карикатуры. Только на грани. Помимо всего прочего, ряд рекламных агентств продолжал печатать образчики прекрасной старости.
Несмотря на все это, из месяца в месяц щербатая улыбка и косой взгляд делали свое дело. Вначале удивленное такими огрехами на полотне, не совсем понимая смысл этого, общественное мнение включилось в эту игру, стало находить смешные стороны этой новой рекламы, возможно, несколько смелой, совсем немного, но занимательной и отличной от других. Это изменило привычные взгляды на рекламу.
А потом, все это не выходило за рамки приличия. Беззлобное подтрунивание, хорошее воспитание.
Этим объяснялся успех новой марки ножей: «Лагеп». На афишах изображались старик или старуха, которые ножом с усмешкой протыкали шины какой-то машины, мешали движению общественного транспорта или приставляли нож к горлу какой-то девушки, требуя, чтобы она назвала номер своей голубой карты. Вскоре все узнали девиз: «С ножом „Лагеп“ я снова живу».
— Понимаешь, — объяснил мне Кузен Макс, — через эту рекламу мы вступаем во вторую фазу разработанного Франсуазой Браше плана: старики не столь уж безобидны. Взглянув на рекламу ножей фирмы «Лагеп», ты засмеешься, но в мозг твой подсознательно прокрадется мысль о том, что старики тоже могут представлять угрозу для общества. Это уже не является прерогативой молодежи. И постепенно мы сможем сломать этот образ спокойствия и безопасности, который свойственен лицам пенсионного возраста. И начиная с этого момента дело станет намного проще.
Со своей стороны и стратегический комитет не терял времени зря. Отсутствие в его составе женщин — только не надо упрекать Бофора в женоненавистничестве: разве не он выбрал в качестве рекламного агента представительницу прекрасного пола? — не помешало его членам вернуться к рассмотрению вопроса, который поставила Франсуаза: семидесятидвухлетние женщины тоже? Явление это довольно известное, когда мужчины начинают говорить между собой о женщинах, похотливый инстинкт сразу же берет верх. Не стали исключением из этого правила и Бужон с Бофором. Кузен Макс был смущен их высказываниями до такой степени, что не стал сообщать мне подробности их шуток. Он сказал только мне шепотом, что Бофор считает, что для баб предел в семьдесят два года был в три раза выше необходимого. Он так хохотал, этот Бофор, так хохотал!
Более серьезно настроенный Бертоно, не имевший ни малейшего желания уступать требованиям этих дам, задал вопрос: не пора ли воспользоваться проектом «Семьдесят два» для того, чтобы достичь, наконец, паритета между мужчинами и женщинами? Один мужчина, одна женщина. Это должно было означать, что женщин будут отправлять в «Центры перехода» в шестьдесят девять или в семьдесят лет. Надо было проверить цифры. В таком случае во Франции было бы одинаковое количество людей обоих полов. Это предложение, столь милое для картезианских умов мужчин, могло затронуть чувства их подруг. Поскольку они не сильны в логике. А потом, поскольку в этом вопросе все зашли в тупик, Бофор отрезал: понимают женщины или не понимают, могут мыслить логически или не могут, но они голосуют. И если их озлобить, прощайте, прекрасные мечты.
Выход предложил Тексье: пока не надо принимать никаких решений. Ему казалось, что разумнее было бы бросить собакам эту кость только тогда, когда кампания будет в самом разгаре.
Заседания не длились так долго, как этого хотел бы председатель. Потому что завершалась другая кампания, кампания по выборам в законодательное собрание. Несмотря на неплохие прогнозы, собранные при опросе общественного мнения, нельзя было идти ни на малейший риск. Поэтому члены комитета метались по всему шестиграннику, как метко выразился их коллега министр юстиции.
В ходе одной из встреч с избирателями в Альби — там он выступал в поддержку молодого кандидата, перед которым было будущее, — Бофора спросили, какие его партия предусматривала меры по поддержке третьего поколения. Задавший этот вопрос избиратель, поддерживаемый группой возбужденных людей, выразил сожаление по поводу того, что в общей программе действий правой коалиции этому вопросу уделяется очень мало внимания. Он сам за свои семьдесят шесть лет всегда голосовал правильно: сначала за Национальный фронт, потом за НПФ. А теперь этот пробел в программе ставит его перед выбором, он уже сомневается в правильности своего решения.
Бофор был просто великолепен. Положа руку на сердце, он напомнил о нерушимости чувств, которые связывали НПФ и людей третьего возраста. Разве партия не ведет постоянную борьбу за своих дорогих стариков? Не выступает всегда за улучшение условий их жизни, за уважение к ним? И тем вечером, глядя в глаза старику, он заявил: НПФ не пожалеет сил для того, чтобы за стариками сохранилось завоеванное ими место в наших сердцах и в обществе. Первое место. Все аплодировали стоя.
10
Легко выигранные выборы усилили влияние НПФ внутри коалиции и внутри правительства. Начиная с этого дня, как подчеркнул Бофор, работа по проекту «Семьдесят два» могла пойти скорее.
Ободренная первыми результатами, Франсуаза Браше пришла доложить о состоянии дел членам комитета. Мотивация ее была высокой, настолько ей понравилась оригинальность поставленной задачи. Она призналась Кузену Максу, что видит свое предназначение в том, чтобы заставить людей проголосовать за свою преждевременную смерть. И быть при этом уверенными в своей правоте! Для специалиста по связям с общественностью не было более возбуждающей задачи!
Она обожала трудные задачи. Хорошо поставленные задачи и хорошо спланированные операции.
— Итак, я предложила вашему вниманию кампанию, включающую в себя четыре этапа. Я дала каждому этапу наспех, по-гусарски, прошу меня за это извинить, следующие названия:
1. Старики — просто недоразумение?
2. Старики — это плохо и бесполезно.
3. Старики дорого стоят.
4. Старики, так больше продолжаться не может!
Эти названия могут показаться резкими. Но зато они четкие и вполне соответствуют нашим планам. Не желая впадать в фанфаронство, могу предположить, что первый этап прошел успешно: с образом симпатичного старика покончено. Через видеоматериалы и через статьи в газетах общественное мнение уяснило, что третий возраст не является образцом добродетели. Короче говоря, старики больше не в моде.
При приближении выборов в законодательное собрание мы немного притормозили: не было издевательств и провокаций. Теперь мы можем усилить давление, сделать картину более мрачной, само собой разумеется, аккуратно привить общественному сознанию мысль о том, что милосердие имеет границы.
Последний, самый тяжелый этап развернется непосредственно перед референдумом. Он взволнует желчь у молодых, подтолкнет в наш лагерь нерешительных. Желательно было бы, чтобы в этот самый момент вы бросили в бой все силы: созданное вами молодежное движение должно будет проповедовать добрые слова. Это эвфемизм… Если у вас нет ко мне вопросов, я вернусь к своей печке.
Что она и сделала, поскольку ни у кого вопросов не было: ее выступление было простым и понятным.
Однако эта Браше…
Взглядом барышника Бофор посмотрел вслед уходившей специалистке по подмене ценностей, потому что у нее, помимо всего прочего, была хорошая фигура. Высокая, возможно, чуточку излишне плотная, но с хорошими пропорциями, с красивыми ногами, которые юбка не скрывала, но и не выпячивала наружу, умело взбитая копна каштановых волос и светлые глаза, которые не освещали ее улыбки. Но общее очарование, которое сразу же исходило от ее решительной походки, от ее физического присутствия, смешивалось с неким ощущением смущения. Люди чувствовали в душе одновременно нежное желание и стремление куда-нибудь скрыться от этого холодного взгляда, от механической безжалостности, постоянная обостренность которой угадывалась за этим ангельским личиком. Людям хотелось забыться от теплых интонаций ее голоса, но они вздрагивали от тривиальности ее высказываний, от резкости ругательств, когда устанавливалась некоторая интимность. Но походка, волосы… Бофор не стал идти дальше, этого ему было достаточно, в этой Браше есть какая-то изюминка, и… короче говоря, все его поняли, не так ли…
— Эта Браше просто замечательная женщина. Вы сделали правильный выбор, Бофор. Она очень проста, как мужчина!
Бертоно умел оценивать женщин и подчеркивать их лучшие качества.
Он также умел оценивать обстановку. Он размышлял над проблемой границ. А рассматривал ли Бофор трудности, которые могут возникнуть на границах?
— Вы должны были предусмотреть и то, что, когда закон вступит в силу, эти подлецы в возрасте семидесяти лет, а может, и раньше, постараются скрыться. Они захотят укрыться за границей. Конечно, после того, как мы отвернулись от Европейского сообщества, мы восстановили пограничные посты. Но граница — это швейцарский сыр с дырками.
— А, бегство этих седовласых… Я думал об этом. Управиться с этим будет не так-то просто. Придется усиливать пограничную службу, создавать специальные подразделения, с собаками и прочим… Значит, надо будет укреплять и развивать традиционные средства охраны границ. Однако я полагаю, что лучшим решением будет воздействие на истоки: финансовая или уголовная ответственность семьи беглецов… Мне кажется, что надо пойти именно этим путем. Мы обдумываем это. Но в любом случае нерешенным останется вопрос с одинокими дезертирами. На этом наши трудности не закончатся. Люди на все готовы пойти, лишь бы спасти свою шкуру. Даже если она уже потертая.
Кузен Макс почти ежедневно встречался со своим министром: вопросы с женщинами, беглецами, «Центрами перехода», границами не давали ему времени перевести дух. В себя он приходил лишь поздно вечером в «Регалти», где вводил меня в курс дела о ходе работ и внимательно изучал мою реакцию.
— Кроме того, хотя точно пока сказать нельзя, «Семьдесят два» произведет переворот в мире труда. Некоторые профессии если не исчезнут совсем, то уж, во всяком случае, придут в упадок. Я говорю о кормилицах стариков, сиделках, медсестрах, работающих в геронтологии. Другие профессии станут очень востребованными, поскольку придется увеличивать численность пограничной службы, открывать «Центры перехода». Я предвижу взрыв в сфере услуг: все молодые пенсионеры захотят насладиться жизнью, они дадут работу агентствам путешествий, клубам отдыха и еще не знаю чего. Не говоря уже о новых профессиях, которые породит через пару поколений «Семьдесят два». Например? Пока я это себе еще недостаточно четко представляю, но мне уже думается, что нам понадобятся что-то вроде разведывательных агентств. Для чего? Чтобы разыскивать отказников. Их будет много, увидишь, по крайней мере вначале, пока все не свыкнутся с системой. Отправлять за ними жандармов — дохлое дело. Я предпочитаю более незаметное вмешательство гражданских служб. Ты мог бы стать, по моему мнению, агентом разведки… или охотником за премией, как тебе больше нравится. Ты ведь не думаешь оставаться продавцом телефонных аксессуаров до конца своей жизни? Не сердись, работы хватит всем. Ах, счастливая молодежь!
Я и не сердился, продолжал пока продавать мою мишуру, выпивать с приятелями из «Регалти», читать газеты, которые начали сгущать краски. Браше держала слово. Никто не знал, как ей это удавалось, но фактом оставалось то, что стариков продолжали развенчивать. С плакатов они уже не улыбались, даже щербатыми улыбками, а просто гримасничали. В телевизионных передачах им уже отводилась роль помех, и постоянно прокручивались ролики, в которых, несмотря на весь макиавеллизм мадам Браше, не было еще понятно, на какой стадии находится эта реклама: на первой или уже на второй. Как, например, ролик, где дед с палкой в руке гоняется за внуком, у которого за щекой лежит сладкая конфета. Мальчик прячется в шкаф, откуда своим смачным посасыванием конфеты — ммм! — и блестящими губами приводит старика в бешенство.
Или ролик, где пожилая и явно ревнивая соседка, пользуясь отлучкой молодой и красивой героини, с глумливым сарказмом насмехается над грязным полом красивого салона. Но молодая героиня не обращает на это внимания. Своим пылесосом «Стар» она за несколько секунд наводит в доме чистоту. Из-за забора выглядывает кислая рожа старухи!
Газеты стали соперничать друг с другом в разоблачении правонарушений, которые газета «Канар» охарактеризовала как «старческие преступления». Остальные газеты изрядно расстроились, но вынуждены были пользоваться этим определением в своих материалах.
И тогда… ату его! — этого судью, который организовал танцы для «голубых»! Судья! В семьдесят один год! Вот уж, действительно, где кроется мерзость!
Ату ее! — вдову некоего промышленника, — она решила лишить наследства своих детей и внуков, вполне его заслуживающих, а все деньги отдать на содержание приемника для бездомных деревенских животных. Журналист считал, что, когда любовь к животным проявляется в ущерб самым святым чувствам, можно только испытать глубокое разочарование.
Ату его! — казначея благотворительного общества. Мало того что он украл из кассы всю наличность, так он еще улетел в Таиланд, где попробовал, если можно употребить это выражение, несчастных мальчиков за деньги, которые и предназначались для того, чтобы помочь им выбраться из этой грязи. В семьдесят пять лет!
В газете «Монд» появилась наделавшая много шума статья, в которой затрагивался основной вопрос: «Откуда взялась эта волна недостойных поступков в среде населения, которое до этой поры считалось вполне спокойным?» Случайность? Общественное явление? Временная мода? Недовольство жизнью? Недовольство старением? Или… — но автор статьи надел перчатки, стараясь ступать на цыпочках и говоря под сурдинку, — следовало поискать «где-то» причину такой манипуляции общественным мнением? Но даже если эта манипуляция имела место, как объяснить то, что левая пресса уподобилась правой прессе в освещении этой темы? И кому нужна эта манипуляция? Левым? Они слишком уважают права человека. Крайне правым? Но они слишком дорожат электоратом, который составляет основу их деятельности. Вообще-то журналист «Монд» поставил правильные вопросы, но не дал на них ответы. Честно говоря, он в своей статье рискнул дать объективное объяснение: зараза насилия охватила крайние слои общества.
Поскольку все говорили иносказательно об этом общественном явлении, телевидению оставалось только подхватить эти разговоры. Новостные программы стали чуть ли не ежедневно рассказывать о подвигах седовласых преступников.
Так же как и в прессе, это происходило без враждебности. Не было гневного перста, указывавшего на старую гвардию, никто не посылал анафемы на лысые черепа. Браше работала аккуратно. Инструкции раздавала она — но кому? Кузен Макс был поражен пробивными способностями этой рекламщицы, она подмяла под себя бо́льшую часть средств массовой информации, а с остальными она играла, исключая всякую озлобленность, любые оговорки. Просто запустите червя в плод, больше от вас ничего и не требуется: всю работу сделает червяк.
Первое расследование, на показ которого осмелилось общественное телевидение, было посвящено хоспису, расположенному неподалеку от Канна. Объективный и скучноватый репортаж, но сюжет не располагал к смеху. Два ряда кроватей в спальне, окна которой завешены грязными шторами, внимательный, но перегруженный работой персонал.
Этот мяч подхватил на лету телеканал ТФ1 — у них это получилось, разумеется, лучше. В ходе популярной передачи, которая, к счастью, перемежалась с выступлениями модных певцов и юмористов, — этот пародист так удачно изобразил деда, который помыл ноги в своем биотуалете… Умереть можно со смеху! — телеканал во всех подробностях показал все закоулки некоего специализированного заведения по уходу за умирающими стариками. Дом смерти, журналист не побоялся это утверждать, настоящий дом смерти! Но и тут можно было подумать, что так бывает с другими, хотя никто не может предугадать, что с ним может случиться завтра. Таких домов смерти было множество. В этих условиях возникал законный вопрос: что государственная власть планирует предпринять в этом направлении? Ведь со старением населения, со стремительными изменениями жизни общества ситуация будет только ухудшаться. На съемочной площадке даже разгорелся спор между актрисой Жюли Ламуш и известным баритоном Анри Мате: она призывала власть взять деньги из бюджета Министерства обороны, чтобы обеспечить родителям более достойное окончание жизни. А он, напротив, защищал позицию, что в любом случае, с деньгами или нет, лик смерти ужасен, а старость жестока. И что он, Мате — пусть это кого-то шокирует, — но как только он почувствует первые признаки дряхления, он убьет себя сам. Да, он сделает это! Он не желает видеть, как его тело разлагается и как он становится обузой для близких. Восторженные крики его сторонников заглушили слабый свист нескольких геронтофилов. На следующий день скандальная пресса посвятила этому событию целые полосы.
Мате в роли солиста проекта «Семьдесят два»? Покоренная его выступлением и его убедительностью, Браше все же не рискнула вступить с ним в контакт, сделать его глашатаем пропаганды надо было умело. Она уже слышала, как он поет своим золотым голосом, восхваляя прелести «Центра перехода», и призывает людей в возрасте семидесяти одного года и одиннадцати месяцев соблюдать республиканскую дисциплину… Вернемся к этому чуть позже.
Потом пошли репортажи, дебаты. В очередной раз политики вскакивали на подножку уходящего поезда. Для того чтобы отреагировали депутаты, понадобились две-три громкие скандальные передачи. Одна из этих передач особенно поразила умы: Гандон, специалист по цифрам фантомной рабочей группы, был приглашен на передачу в качестве консультанта и сообщил, что на содержание нетрудоспособных государство тратит сорок миллиардов франков. Да! Простите? Нет, вовсе нет! Сорок миллиардов в год! Каждый год сорок миллиардов вылетают в трубу, просто так, фу!
По указанию Бертоно НПФ ничего не предпринимала: не надо было светиться. Тогда депутат-социалист от имени своей группы задал ряд вопросов, которые, как он думал, затронут умы и заставят людей разговориться.
Премьер-министр Гарсен был должным образом проинструктирован Бертоно и введен в курс дела в ходе долгих разговоров с Бофором и поэтому сумел сохранить лицо. Тем более что эта катастрофическая ситуация досталась ему по наследству от предыдущего правительства. Он смог привести нужные цифры.
Пораженная Франция увидела всю глубину своего несчастья: старики, скажем, старше семидесяти двух лет (Почему семидесяти двух? Просто так, случайно) стоят более двухсот миллиардов франков в год! Началась яростная полемика. Газета «Либерасьон» подвергла сомнению приведенную правительством цифру и заявила, что она не превышает ста тридцати миллиардов. «Фигаро» не оспаривала аргументы премьер-министра, но призвала перевести споры в философскую плоскость: имеет ли цену жизнь человека, пусть и старого?
Статьи, появившиеся в газете «День», были более злобными и подталкивали к сравнениям: сколько средств государство расходует на стариков и сколько на молодых? Результат оказался поразительным! Выходило, что нация заботилась о своем будущем, принося в жертву молодежь?
Приводились примеры несуразных ситуаций: так, карта «Сеньор» позволяла зажиточным бездельникам ездить в общественном транспорте бесплатно, в то время как не имевшие ни гроша в кармане молодые люди вынуждены привыкать ездить зайцем. Отсюда новые обиды, случаи насилия. Главный редактор закончил свою статью словами: «Франция падает в бездну». Она вызвала многочисленные комментарии.
Правительство должно было как-то отреагировать на сложившуюся ситуацию.
11
Завсегдатаи «Регалти» разделяли эту точку зрения. Что касается хозяина, то помимо тещи, которая делала его жизнь невыносимой, старики его сильно раздражали. Закинув тряпку на плечо, он бесплатно угощал выпивкой тех клиентов, кто поддерживал его, и перечислял выходки, которые ему не нравились: тротуар перед его заведением с утра до вечера загаживали собачки старушек, старики приходили, чтобы купить у него почтовую марку, не две, а именно одну, и при этом ничего больше не заказывали; а если они выпивали у него чашку кофе, рюмку белого вина — не две, только одну, — то не давали чаевых и никого не угощали, никого. И при всем этом они осаждали его после 22 часов, когда в заведении было много народа. Ах, не надо ему говорить про этих стариков.
Мы ему про них и не говорили, мы разговаривали на эту тему между собой на банкете в глубине зала. Я никак не мог отделаться от мысли, что после моей аварии в Вандее прошло чуть более двух лет. За двадцать четыре месяца Франция, не отдавая себе в этом отчета, скатилась к новой форме расизма. Она в этом очень нуждалась: лишившись бывших козлов отпущения в лице рабочих-иммигрантов, брюссельских технократов, страна несколько лет вела поиски новых козлов отпущения. И теперь она их нашла. Козлов с седой шерстью, стоявших в шикарных овчарнях, куда деньги текли рекой.
Мог ли я представить себе, что замысел Кузена Макса приобретет такой размах? Мог ли я представить, что безумная идея — казнь в семьдесят два года — сможет привиться в народе? Что, возможно, через полгода она начнет применяться? Я был этим удивлен, но не шокирован: аргументы в пользу этой идеи были довольно убедительными. Я в них поверил. И все из-за Люси. С того самого вчера, когда я заговорил о необходимости принятия радикальных мер и был поддержан моими приспешниками. Не будучи посвященными в тайну богов и не зная направлений проекта «Семьдесят два», они тут же стали выдумывать, скорее ради игры, чем по убеждению, какими могли быть эти меры — собрать стариков в резервации, отправить их на Марс, прекратить поставки продовольствия дли них, короче, всякую ерунду. Люси встала на дыбы. Она сначала решила, что мы шутим, хотя ей даже за это было стыдно за нас. И она быстро сделала выбор между своей бабушкой и группой молодых фашистов. С того вечера она стала избегать «Регалти», а при случайных встречах ограничивалась холодным кивком. Это меня разозлило, я начал уже испытывать к ней некоторые чувства. И мне было жаль, что мои надежды рухнули из-за какой-то глупой истории со стариками.
В конференц-зале, который Министерство внутренних дел выделило в их распоряжение, стратеги комитета закручивали последние болты: после успешного завершения двух первых этапов их моральное состояние было превосходным. Но расслабляться не стоило. Бофор настаивал именно на этом.
— Мы вышли на финишную прямую. Франсуаза Браше скоро начнет свою кампанию, э… как вы ее назвали, Франсуаза? Да, именно так, «Со стариками так дальше продолжаться не может». Сколько вам понадобится времени на ее проведение? Меньше чем полгода? Отлично. Нам пока будет чем заняться. Начать давить на Национальное собрание и на сенат: улица начинает требовать перемен. Более рациональное перераспределение богатств, увеличение помощи молодежи. Надо заставить депутатов высказаться, предложить решения вопроса. Но ни одно из них не будет действенным. Кроме одного, самого радикального, самого шокирующего. Возникает проблема: кто первый предложит наше решение? Только не мы. Мы его поддержим, проведем в жизнь, но оно не должно исходить от нас. Во всяком случае, официально. Что вы об этом думаете, Бертоно?
— То же, что и вы. Надо найти какого-нибудь депутата, который вбросит эту идею. Но депутата из другого лагеря. Потом мы с этим разберемся. Но кого именно? Безумца? Ворчуна? Честолюбца? Да, честолюбца. Кстати, у меня появилась одна идея. Я знаю одного депутата из «зеленых», который готов на все, чтобы получить министерский портфель. Да, чем больше я о нем думаю, тем больше он кажется мне подходящей кандидатурой. Я сам им займусь. В конце концов, он сделает это ради защиты окружающей среды, не так ли?
— Отлично. Как только эта идея будет высказана публично, мы ее подхватим. С неохотой, но ради спасения нации. Останется только сделать неизбежным референдум. Временной промежуток между датой объявления референдума и датой его проведения придется максимально сократить, чтобы застать оппозицию врасплох. Наша кампания будет к тому времени подготовлена, а они подготовиться не успеют. Если все пройдет гладко, через год заработают первые «Центры перехода». Полагаю, что мы хорошо поработаем.
С каждым днем тон выступлений Браше становился все жестче. После того как неправильное поведение стариков сначала удивляло, веселило, потом оно стало раздражать, вызывать гнев. Все уже твердо перешли на первую степень. Пресса уже больше не ограничивалась пересказом фактов, она стала их осуждать, призывать к вмешательству судебных органов с тем большей суровостью, что общество было вправе ожидать от стариков как минимум соблюдения гражданских норм поведения. Правда, не все же права должны быть им предоставлены!
Они вдруг словно разговорились: какой-то старик попытался изнасиловать подростка в туалете кинотеатра во время вечернего сеанса в среду. Какая-то бабушка играючи вылила кастрюлю с кипятком на голову своей невестки, чтобы отомстить, как она объяснила, за то, что молодая женщина не оставила ей шоколадного мусса. Какой-то отошедший от дел коммерсант просадил за одну ночь за рулеткой шесть миллионов франков и при этом продолжал улыбаться. Нечестность, нажива, злоба, всего было предостаточно. «Хватит!» — озаглавила первую полосу газета «День» перед тем, как начать обстрел раскаленными ядрами правонарушителей. Она не побоялась сделать амальгаму: осуждение пало на всех лиц третьего возраста, при этом не были забыты цифры, которые ставили под угрозу экономическое благополучие нашей прекрасной страны.
Странное дело, при всем этом не было никакого сопротивления. Оппозиция не видела приближения опасности. Редкие попытки защитить стариков были либо неэффективными, либо оборачивались против них же. Так, дебаты, организованные на тему «Что такое старость?», вызвали неожиданную реакцию телезрителей. Геронтологи, старики, приглашенные в качестве главных свидетелей, заявили, что плохое самочувствие и неумение приспособиться к жизни были напрямую связаны с преклонным возрастом. Несомненно, подрывная деятельность Браше приносила свои плоды: постоянно там, где ожидалось выражение симпатии, организаторы добивались только выражения сострадания. Вместо того чтобы добиться жалости, они добивались осуждения: зачем надо доживать до глубокой старости, если это связано со страданиями и так дорого стоило?
Некоему профессору все же удалось вызвать всеобщий интерес: один из участников теледебатов поставил под сомнение целесообразность научных изысканий в области медицины пожилого возраста. Зачем надо было продлевать жизнь в этих условиях? Эксперт объяснил, что, по его мнению, вопрос заключался не в том, чтобы жить дольше, а в том, чтобы жить лучше. Все ему аплодировали, кроме старика, сидевшего в глубине зала слева: его мучил ревматизм, но он продолжал сидеть. Как он сказал в своем вступительном слове, он продолжал цепляться за пальму.
Тот же самый профессор вечером того же дня провел презентацию немецкого обучающего аппарата «тренажер старости». Этот аппарат представлял собой что-то вроде комбинезона, нагруженного свинцовым балластом для уменьшения подвижности членов. Каска с узкой смотровой щелью и непрозрачным стеклом делала расплывчатым восприятие внешнего мира. Снаряженному подобным образом подопытному кролику было трудно перемещаться, брать предметы, видеть и слышать. Он становился стариком. Когда его извлекли из этого скафандра, он снова обретал все свои способности и испытывал ощущение возвращения к жизни.
Опыт всем понравился, всех убедил, «тренажер старости» стал модной игрушкой. Ни одна ярмарка, ни один парк аттракционов, ни один местный праздник, кроме тех, что организовывались для лиц третьего возраста, не обходился без того, чтобы на видном месте не красовалось это новое развлечение. Все хотели знать, как и когда люди становились старыми. Некоторые комбинезоны были усовершенствованы до такой степени, что позволяли имитировать разные возрастные категории. За сто франков можно было на четверть часа стать семидесятилетним стариком. За сто пятьдесят франков — стариком восьмидесяти лет. Для того чтобы побывать в шкуре девяностолетнего старца, надо было заплатить двести франков, эта надбавка была оправдана тем, что оборудование было более совершенным.
Реакция любопытных была единогласной: старость — это кораблекрушение. Смеясь от облегчения, делая круговые движения руками, приседая, чтобы убедиться, что кошмар закончился, они говорили всем, кому это было интересно: надо пользоваться молодыми годами, потому что старость… ужас! Так жить, если честно, не стоит.
Реклама на экранах телевизоров и на стенах домов стала все больше и больше изображать стариков жадными и заносчивыми, они уже переставали быть уличными шалунами.
То тут, то там стали возникать словесные перепалки, стычки. Молодые кулаки потянулись к муниципальным автобусам, захваченным обладателями карт «Сеньор». На тротуарах уже никто не отходил в сторону, чтобы пропустить пожилую женщину. Это было, конечно, просто выражением настроения, у молодых горячая кровь. В этих условиях можно было расценить чрезмерным заявление газеты «Монд» о возникновении мордобития нового типа. Новый тип, да, но такого рода мордобитие — это еще не преступление.
Как бы то ни было, отношения между поколениями становились напряженными. Озлобленность молодых привела к формированию у их предков смутного чувства вины. Они не совсем понимали причин иногда плохо скрываемой враждебности к ним. Чем они это заслужили? Но дело обстояло именно так, и надо было приспосабливаться к этим условиям. Тогда старики отвернулись от мира, перестали поодиночке выходить из дома в ночное время, а когда навстречу им попадались молодые, в их глазах загорался огонек тревоги. Однако для подобного психоза не было никаких причин. Провокации против них имели только словесную оболочку, и в них еще проскальзывали добрые слова. Все это происходило от типично французского юмора, возможно, не всегда деликатного, но который старые люди перестали воспринимать. В общем, возникло какое-то непонимание.
Для того чтобы с этим покончить и прекратить ссоры, Ролан Готе, один из депутатов от партии «зеленых», предложил некое решение. Он рассказал о нем в выпуске новостей в 20 часов. В прямом эфире. Открыто. Ведущий спросил его, откуда его движение и, если бы они пришли к власти, сумели бы они найти средства для революционного обновления отрасли производства электроэнергии? Установки для преобразования энергии ветра в электричество вместо атомных станций — это замечательно, но это стоит больших денег! Готе, элегантно подчеркнув, что речь шла о его личном мнении, заявил, что эти средства есть. У стариков. И что надо применить одну очень простую и рентабельную для страны меру: сократить продолжительность жизни всех французов до семидесяти-семидесяти одного года. Он не станет вдаваться в подробности, но специалисты подсчитали, что эта мера позволит экономить в год около двухсот миллиардов франков. Этого вполне хватит на использование энергии ветра!
Ведущий передачи был поражен: он сидел с раскрытым ртом и упавшей на лоб прядью волос и пытался найти на лице депутата хотя бы намек, какой-нибудь знак того, что это всего лишь шутка, причем очень сомнительного свойства. Но надо было признать этот факт. Впрочем, Готе вогнал гвоздь еще глубже: он понимал, что вызовет негодование зрителей, но был уверен, что для нации его предложение являлось реальным шансом прийти к процветанию. Возможно, единственным. И добавил, что в любом случае, когда пройдет шок, каждый быстро поймет и сам убедится в том, что варварство такого решения только внешнее и что в любом случае эта тема заслуживает того, чтобы над ней поразмыслить и обсудить ее.
Ловкий ведущий постарался воспользоваться шоком для собственной выгоды, почесать телезрителей там, где у них чесалось. Он носом почуял аромат кровавого скандала:
— И вы можете рассказать нам, как будет осуществляться… умерщвление семидесятилетних? Газовые камеры, расстрельные команды… Вы ведь понимаете, что те, кто нас смотрит, хотят знать все.
Готе отмахнулся от коварного вопроса ведущего. Он только что набросил настил на болото. На этом его миссия заканчивается.
Этот настил вызвал большую волну. Средства массовой информации набросились как на идею, так и на ее автора. Он сразу же стал телезвездой, на что ему было абсолютно наплевать: его интересовал только обещанный Бертоно портфель министра окружающей среды. Но он при этом не считал себя ни изменником, ни негодяем: крайняя мера, о которой он рассказал, ему лично казалась хорошим решением. Он был искренен. Искренен и смел. Журналистам он повторял, что надо глядеть правде в глаза и что он, Готе, ограничился только тем, что высказал вслух то, что многие думали. Многие. Как слева, так и справа. Вот и все!
Комитету оставалось лишь воспользоваться высказыванием ренегата. Теледебаты, запросы в Национальное собрание, торжественные заверения одних и других. Франция превратилась в клокочущий форум. А идея продолжала прокладывать себе дорогу. В тот день, когда газета «Нувель обсерватер» весь свой номер посвятила предложению Готе, отведя пять полос экономическим предположениям под заголовком «А что, если?», Бофор угостил коллег шампанским:
— Господа, теперь вы победили.
Действительно, спустя восемь дней после происшествия в гнусном поселке Нейли — так газета «День» назвала коттеджные поселки, — когда группа стариков изнасиловала девушку, президент республики воспользовался своими полномочиями. Он объявил о проведении референдума: надо ли сокращать продолжительность жизни?
12
Франция проснулась в ужасе. После того как в течение восемнадцати месяцев она веселилась или возмущалась зрелищем дурного отношения к старикам, после того как она покряхтела, услышав, сколько миллиардов тратится на предков, после одиночного выстрела Готе, который заставил ее надрывать глотки, Франция увидела, что смерть уже стучалась в двери.
Всего несколько дней, как сказал мне Кузен Макс, понадобилось членам комитета, чтобы понять, что дело было сделано. Президент республики назначил дату проведения референдума: 26 июня 2015 года. Для обработки им оставалось около трех месяцев. Но как убедить раскаленное добела общественное мнение, как противостоять такому брожению умов?
В едином порыве, выйдя наконец из оцепенения, оппозиция бросилась на абордаж: наконец-то приоткрылся занавес над происками правительства! Занавес был поднят, маски сброшены! И теперь было видно, что представлял из себя этот тоталитарный режим, да, тоталитарный, невозможно было подобрать другое слово для того, чтобы назвать политику, которая напоминала самые темные времена в истории страны. Трибуны левых сил ввязались в перепалку с огромной радостью, тем более что появилась возможность подергать за струны лирики и гуманизма. Одному богу было известно, понимали ли они что-нибудь в этом. Когда начнут пришивать желтые или серые звезды — от цинизма наших руководителей можно ожидать всего чего угодно — на одежды людей семидесятилетнего возраста? Когда будет построен ГУЛАГ? Когда начнется формирование составов из вагонов для скота? Как могли люди, стоящие у власти в демократической стране, — это слово теперь вызывает улыбку! — посметь в XXI веке решиться обречь на смерть миллионы самых преданных ее слуг? Значит, ужасы XX века не послужили для них уроком?
В оппозиционной прессе к прохожему обращались с драматическими заголовками: «Я обвиняю!», «К оружию!», «Франция геноцида!» Главные редакторы следовали за политическими тенорами. В своих редакционных статьях они старались отнестись к этим событиям непредвзято. Одна газета вспоминала о жестоких обычаях, существовавших в каком-то племени на юге Африки три века тому назад. Другая утверждала, что налицо были все составляющие для начала гражданской войны: власть хочет устроить Варфоломеевскую ночь для пенсионеров, она пожнет новую революцию. Третья доискивалась до причин, толкнувших правительство на это безумие. Она подозревала происки некой группы министров, очень закрытого клуба, готового пойти на все, чтобы окончательно покончить с остатками демократии и отправить Францию к папаше Юбу.
Вместо того чтобы устроить дебаты, популярные газеты соревновались между собой в выражении добрых чувств. «Франс-суар» объявила о сборе средств в пользу третьего возраста. Каждый день читателю сообщалось о состоянии счета, средства с которого направлялись для помощи в дома престарелых. Инициатива эта очень скоро угасла: хотя объявление о проведении референдума и потрясло читателей ежедневной газеты, но не заставило жертвовать деньги на группу населения, которая чаще всего была обеспечена лучше их. Короче говоря, они сохранили трезвость взглядов.
Газета «Матен» призвала всех разумных французов и француженок проявлять симпатию к своим старикам. На последней странице публиковали списки подписавшихся под призывом — фамилия, имя, профессия, — эти списки походили на плотные колонны, на батальоны на поле боя. Батальоны Армии освобождения, как утверждал некий журналист, склонный к громким сравнениям.
Газета «День» напрасно настаивала на том, что бо́льшая часть этих батальонов была сформирована из пожилых людей. Не было ничего удивительного в том, что именно они поспешили выразить свою симпатию.
Наконец, газета «Фар» добилась самого большого успеха. Она предпочла действовать следующим образом. Словно это ужасное решение было уже принято. И, чтобы показать весь ужас, чтобы описать его вредоносность, газета опубликовала списки приговоренных. Не просто списки приговоренных, этим никого было не удивить, а списки с разбивкой по профессиональной деятельности: ученые, певцы, актеры, руководители, короче, все, кто заставляет людей мечтать, кто так много сделал для страны и продолжает делать. Неужели отсекут голову лауреату Нобелевской премии? Уничтожат лауреата премии «Сезар»?
Бумажные носители наделали много шума. Простой народ стал драться за издания, в которых подробно описывались экипажи виртуальных повозок на эшафот. Какая потеря для страны! Какая это была бы ошибка! Но постепенно люди стали подумывать о публичных казнях, это такое зрелище! Какая аудитория будет у телеканала, который добьется права исключительного показа!
И какая радость в стратегическом комитете!
— Как долго я ждал этого праздника!
Бертоно пил какао. От возбуждения его шрам порозовел и стал выделяться на фоне обшей серости его облика. После почти четырех недель молчания настал момент для того, чтобы запустить машину. Газета «Фар» предоставила ему эту возможность своей двойной неловкостью. Это было очень на руку. Это означало, что впервые газета, бывшая государственным органом и не примкнувшая к делу «Семидесяти двух», допускала возможность принятия таких недостойных мер. Впервые встал вопрос о возможных последствиях, впервые рассматривался не абстрактный мираж, речь шла о самой основе проекта.
Второй оплошностью стало разделение приговоренного к смерти населения на две категории: знаменитости, скорбная судьба которых была достойна сожаления, и простой люд, на который всем было совершенно наплевать. Стараясь лихорадочно что-то доказать, газета распахнула дверь для классовой борьбы нового типа.
— Эти дураки не сообразили, что простые люди тоже голосуют, что их намного больше, чем знаменитостей, и что, когда они поймут, что их судьба никого не интересует, они могут просто так, инстинктивно, проголосовать «за», с единственной целью насолить власть имущим. Мы должны воспользоваться этой оплошностью.
За две недели члены комитета, в очередной раз вдохновленные Бертоно, чьи стратегические способности внушали уважение, вернули ситуацию в нужное для себя русло:
— Мы дали им возможность излить свою желчь. Главным было не мешать им высказываться. Теперь они выдохлись, начинают пережевывать одно и то же. Мы будем действовать по двум направлениям: выступление Гарсена по телевидению, затем увеличение количества дебатов. Но границы этих дебатов мы будем определять сами, в ходе их не должна обсуждаться альтернатива, поставленная этим референдумом. Мы сделаем так, чтобы оружие скрещивалось только по вопросам применения этой меры. Это — главное. Надо будет сделать так, чтобы через два месяца люди, даже не осознавая того, согласились с проектом «Семьдесят два».
Сказано — сделано. В ходе одного из выступлений, передававшихся по всем каналам телевидения страны, Гарсен серьезным, но спокойным тоном призвал французов к благоразумию. Как Бертоно и Бофору удалось сделать его своим рупором? Кузен Макс никак не мог этого понять. Он, как всегда, был восхитителен: поочередно то грустный и торжественный, то трагический и умиротворенный, он умело использовал все свои козыри. Высокий красивый мужчина с несколько вялыми чертами лица, он явно должен был нравиться женщинам. Он, кстати, не отказывал себе в маленьких ухищрениях, чтобы казаться соблазнительным и расположить к себе: это нервное покусывание губ, жесты, а этот взгляд, честный как золото, не отпускал от себя телезрителей, доходил до каждой сидевшей в кресле домохозяйки моложе пятидесяти лет, давал ей понять, что между ним и ею все могло быть возможным, и вызывал у нее нежные слезы потому, что она не сумела найти эту любовь, потому, как мало мы значим в этой драматической ситуации.
Эта мера, которую правительство было обязано представить на рассмотрение президенту республики, не давала ему спать ночами. Он мог признаться в том, что если бы на заре своей политической карьеры он знал, что станет когда-нибудь премьер-министром и ему придется претворять в жизнь такой проект, он бы отказался от будущей карьеры. Но надо правильно все понимать: да, правительство предложило его. Но вопреки своей воле. Правительство подхватило идею, высказанную депутатом от оппозиции, потому что под ее отвратительной оболочкой скрывались экономические реалии, увы, но перемены необходимы для страны. Никто, он повторял, никто из большинства или из оппозиции не смог предложить достойного альтернативного решения. Никто! Франция, некогда бывшая факелом для всего мира, погружалась в посредственность, у иностранцев она вызывала сарказм и сочувствие.
С болью в душе — но состояние души отступает перед величием нации — правительство поддержало это предложение. Главное, не надо было забывать положительные стороны этой меры: сэкономленные таким образом средства пойдут главным образом на создание новых рабочих мест. Более молодая, более динамичная Франция, где будет упрощена процедура создания новых предприятий, где пенсионеры, находящиеся в расцвете сил, смогут полнее воспользоваться заслуженным отдыхом, такая Франция вновь станет образцом для всего мира, чем она и была всегда. В заключение Гарсен сделал продолжительную паузу, устремив свой взгляд в глаза телезрителей, у которых от переживаний сжалось горло. А потом взволнованным голосом произнес слова, они запечатлелись в памяти тех, чей возраст был менее семидесяти двух лет:
— Дорогие соотечественники, мне недавно исполнился семьдесят один год. Пока будет разработана применительная практика этой меры, за которую я выступаю, я приближусь к роковому возрасту. Будьте уверены в том, что на это последнее свидание я отправлюсь с убеждением, что служу своей стране, что обеспечиваю ее будущее, что принимаю участие в ее обновлении. Я с легким сердцем отдаю мою жизнь моему народу. Благодарю вас за доверие, я тоже верю в вас. Да здравствует республика, да здравствует Франция!
Вот это человек! Нет, но какой человек! Газета «Фигаро» на следующее утро задала вопрос: был ли когда-нибудь во главе Франции патриот такой закалки? Да, этот человек не из тех политиков, которые творят подвиги на трибунах, а не на полях сражений! Он не из тех, кто призывает брать оружие и идти воевать! Этот поступок Гарсена заставляет нас вспомнить самые прекрасные страницы истории Франции. Проявляя столько величия в самопожертвовании, столько веры в родину, Гарсен становился достойным сыном достославной Жанны д’Арк. Значит, не все прогнило во французском королевстве.
Бой меняет состояние души. За исключением нескольких ворчунов из левых, в частности из движения «зеленых», для которых патриотизм не являлся основной ценностью и в чьих рядах выступление депутата Готе вызвало землетрясение, слегка смягченное его изгнанием из рядов движения, — никто больше не смел открыто выступать против референдума. Как, в то время, когда премьер-министр согласен незамедлительно пожертвовать своей жизнью — а ведь жизнь у премьер-министра очень приятная — ради своей страны, вы, кому оставалось жить целых двадцать пять лет, отказываетесь положить свой камень в здание страны?
Нет. Вскоре, как это и предсказал Бертоно, страна озаботилась прямыми последствиями внедрения проекта «Семьдесят два». После периода стонов и проклятий настал период переговоров. Захлестнув страницы газет своими дрожащими от волнения речами, штатные болтуны, философы и остальные политики поменяли стратегию. Они начали вести тайные переговоры с правительством в надежде получить свой кусок пирога. О, только не надо об этом плохо думать! Депутаты заранее отметали всякую личную заинтересованность: они начали переговоры не ради своих личных интересов, не для того, чтобы добиться для себя исключения из общего правила, а для того, чтобы защитить дело, которое им казалось справедливым. Как бы там ни было, на втором месяце подготовки к референдуму вся Франция в лице делегаций своих представителей прошла через кабинет премьер-министра.
Быстрее всего на все это отреагировало духовенство. Кардинал Куайно, сопровождаемый епископом Пуатье, предъявил свои требования:
— Если вы претворите свои угрозы в жизнь, господин премьер-министр, вы уничтожите всю католическую апостольскую римскую церковь! Во Франции, которая является ее старшей дочерью! Я первый сожалею о том, что наше население не из самых молодых. Стоит взглянуть, кого затронет ваше решение: кардиналы, архиепископы, епископы — это 93 %, священники — 70 %, монахи — 85 %. Вдобавок осложнение отношений с семинариями, вам не надо об этом напоминать. Не будет больше религии, не будет морали, той христианской морали, которая — хотят того люди или нет, верующие они или атеисты — начиная со времен Карла Великого цементировала Францию. Поэтому я призываю вас исполнить ваш долг. Нет правил без исключений: спасите жизни духовенству, это в интересах христианства и нашей любимой родины.
Вопрос действительно стоил того, чтобы его рассмотреть. Гарсен поблагодарил кардинала и заверил, что его ходатайство будет рассмотрено благожелательно. С той же благожелательностью он пообещал рассмотреть ходатайства, которые подали ему представители крестьянства, фармацевтов, работников учебных заведений всех уровней, железнодорожников, водителей большегрузных автомобилей, пригрозивших заблокировать дороги, профессиональных футболистов, военных, коммивояжеров, банкиров, метеорологов, журналистов, сантехников, булочников, социальных работников, публицистов, режиссеров-постановщиков, кинологов, сотрудников домов престарелых…
Самым интересным моментом этих переговоров было появление трех членов Французской академии. Облачившись в парадную форму, придерживая левой рукой шпагу, они с отрешенным видом прошли сквозь толпу журналистов газет правого толка. Кузен Макс, которому Бофор рассказал об этих переговорах, сообщил мне, что они всех разочаровали. Министр внутренних дел, ему Гарсен в тот день временно передал бразды правления, ожидал разговоров на возвышенные темы: о человеческой жизни и небытии, о том, что литература выше смерти, а вместо этого разговор шел только о Викторе Гюго. Гюго был образцом того, что годы только возвеличивают писателя, в восемьдесят с лишним лет из-под его пера все еще выходили шедевры. Возможно, самые совершенные.
— Так вот, господин министр, мне семьдесят четыре года, и я считаю, что только начинаю наконец овладевать в совершенстве французским языком. Я чувствую, что в моем творчестве наступает переломный момент, поскольку…
— А я сейчас работаю над пьесой для театра, — прервал его более молодой коллега семидесяти двух лет, — мне нужно еще четыре года, чтобы ее закончить. Подчеркиваю, что намерен написать еще и продолжение, что-то вроде второй части. Знаете, Годель в свои восемьдесят четыре года говорил, что…
— Могу ли я проинформировать господина министра, что готов оказать любую услугу, если это необходимо для того, чтобы завоевать ваше доверие? Правительство приступает к проведению мероприятия, чей размах, смелость, потрясающая острота нуждаются в хорошем пере. Если вам нужен певец, поэт, который сможет положить на музыку столь… гм, трагические решения, вы можете, господин министр, рассчитывать на меня!
Норбер Жамо, глава академии, проявил себя хорошим игроком. Он ничего не написал с восьмидесятилетнего возраста, но этот симпатичный старик, которого очень ценили телевизионщики за его жизнелюбие и высокую образованность, с удовольствием был готов надеть на себя ошейник. Людовик XIV оказывал поддержку творческим личностям, и никогда в истории Франции не было более процветающего периода. Правительству Гарсена предоставлялся уникальный шанс вызвать творческий подъем писателей. При условии, что им дадут возможность дозреть. Да и потом, поскольку мы можем говорить открыто, господину министру наверняка известно, что в подавляющем большинстве члены академии голосовали как надо, это должно помочь достижению взаимопонимания. В конце концов, они ведь просили не бог весть что — сорок академиков, это так мало, всего лишь Французская академия, вот и все, — речь не идет о лауреатах Гонкуровской премии и о прочих известных писателях. Равно как и о сотрудниках всяких институтов. Они и сами достаточно взрослые, чтобы самим во всем разобраться. Нет, только академиков!
Еще немного, и они готовы были сдать своих остальных тридцать семь братьев и сестер. Пораженный такой привязанностью к благам мира сего, Бофор выпроводил их, пообещав рассмотреть их просьбу с благожелательностью. Потом вызвал к себе на совещание Тексье и Кузена Макса. Перед началом совещания он не смог отказать себе в удовольствии процитировать классика: «Мне известны академики, которые ни на что не годны».
Удовольствие было одностороннее, как всегда бывает, когда планка слишком завышена. Отбросив в сторону безуспешные попытки понять причины игривости начальника, после оды технократа все открыли свои досье и засучили рукава. Им надо было отрабатывать свой хлеб.
13
Все теперь говорили только об этом: на 12 июня было намечено проведение большой манифестации противников принятия этой меры. За две недели до проведения референдума, которого с замиранием сердца ждала вся страна. С момента начала дебатов в рамках операции «Семьдесят два», а точнее, в течение двух с половиной месяца, Франция, болтавшаяся, как поплавок на волнах, казалось, была отдана в руки какому-то безумцу. Оглушенные, потерявшие спокойствие и душевное равновесие люди ввязывались в яростные споры, а затем впали в прострацию. Они насмехались над своими приятелями, которым был уже семьдесят один год и которым жить оставалось всего несколько недель, и только потом вспоминали, что им самим было шестьдесят девять лет и что очень скоро мог наступить и их черед. Люди смеялись над пьяным похотливым старцем, изображенным на рекламе кухонной посуды, а потом вдруг понимали, что он похож на дядю Робера. Они увлеченно следили за теледебатами сторонников и противников мер. Аргументы потрясали, порождали сомнения. Люди уже не знали, кому и во что верить.
— У всех такое чувство, что они снова оказались в 2005 году, — радостно комментировал ситуацию Тексье, почесывая свою бороденку, — население начинает заходить в тупик. Превосходно, превосходно…
Вмешательство иностранных государств окончательно заморочило голову основному населению. Алжирское правительство потребовало вернуть в страну всех выходцев из Алжира, достигших семидесятилетнего возраста, — все спрашивали себя, зачем они ему были нужны. Американские феминистки бросились на помощь своим французским сестрам. Они поместили на страницах «Монд» пространную статью в защиту равенства полов: это было прекрасным поводом доказать, что женщины умеют жертвовать своими личными интересами для того, чтобы добиться наконец того, к чему они стремились на протяжении нескольких веков. Они, находясь при этом по другую сторону Атлантического океана, не испытывали колебаний: раз семьдесят два года для мужчин, то и семьдесят два года для женщин. Французские феминистки, чья делегация объявила о достижении положительных договоренностей в ходе переговоров с Бофором — он пообещал рассмотреть их ходатайство с пониманием, — смотрели на это другими глазами. Французские феминистки, вероятно, были не столь рьяными феминистками, как их американские коллеги. Но зато более французскими, в их рядах нашлись несогласные, кое-кто начал разрозненные выступления против.
Вообще-то иностранные государства с большим интересом следили за новой революцией в стране лягушатников. Их руководители старались не высказывать свою точку зрения на происходящее во Франции. В Европе еще менее, чем в других частях света. Ошарашенные катаклизмом, вызванным выходом Франции из Сообщества, оставшиеся органы управления ЕС не шли на риск и не подавали свой голос против. В Германии, Великобритании, Канаде газеты уже стали призывать к бдительности, требуя от своих глав государств высказать точку зрения руководства. Началось обсуждение цифр. И там с ужасом обнаружили, что в области содержания стариков они не далеко ушли от Франции.
Как в этой обстановке можно было удивляться присутствию многочисленных иностранных тележурналистов, направленных для освещения манифестации 12 июня?
Это была необычная манифестация. Людское море. Не хватает определений для того, чтобы описать манифестацию 12 июня. «Манифестация века», как назвала ее газета «Фар»? Естественно! Этот век длился всего двадцать лет, и пока еще не было ни одного серьезного конфликта. Самая массовая манифестация всех времен, если верить газете «Франс-суар»? Утверждение казалось преждевременным, но если хорошенько поразмыслить… А как, например, с Освобождением? Или с завоеванием Кубка мира по футболу в 1998 году?
Но нет, даже эти две манифестации, хотя и очень массовые, не могли соперничать с манифестацией 12 июня.
Она должна была начаться в 15 часов на площади Бастилии, естественно. Но организаторы не учли того, что наши предки ужас как не любят опаздывать. И поэтому они всегда приходят заранее. В 13 часов все уже были на месте. В 13 часов тридцать минут толпа уже начала проявлять первые признаки нетерпения: может быть, надо было уже начинать, а вдруг опоздаем. А ведь обратный поезд ждать не будет. В 14 часов, несмотря на утвержденный префектурой полиции план проведения, кортеж тронулся с места. Отлично.
Они все собрались там, корсиканские деды, бретонские бабульки, старики из Бургундии и Прованса, короче, все. Куча автобусов, поездов, самолетов навезли в Париж солдат из глубинки Франции. Родина была в опасности? На них можно было рассчитывать.
Открывая бал, если можно так выразиться, поскольку они были великолепны в воскресных одеяниях, епископы и кардиналы выполняли свой долг. Они из принципа были против «Семидесяти двух», но ведь Гарсен ясно дал понять, что для духовенства будет сделано исключение. Не получив четкого ответа, церковные иерархи все же вышли на демонстрацию для того, чтобы слегка надавить на него и ободрить свою паству. И привели за собой всех тех, кто во французском шестиугольнике носил сутаны. Они выстроились в несколько подразделений. Одна группа с гримасами на лице несла — ох, до чего же оно было тяжелым — огромное деревянное распятие, с которого Христос, казалось, с удовольствием наблюдал за мирянами. Кто-то из толпы зевак крикнул — дураки есть повсюду — что Он, по крайней мере, не сопротивлялся так сильно и что Он обеими руками проголосовал бы за семьдесят два года!
А за распятием шли, хлопая глазами, толпы монахинь и монахов, вырванных из тишины своих обителей. Вид у них был болезненный, на босу ногу были обуты кожаные сандалии. Нестройным хором они пели «Сальве Режина», в душах их не было успокоения.
За ними шествовали самые представительные организации защиты пожилых людей. Члены Ассоциации «Оставьте их в живых», размахивая плакатами, несли картонные гробы.
Отряды скаутов вносили живую струю в это серое однообразие. Под эскортом своих наставников с суровыми лицами, они присоединяли свои голоса к песнопениям из передних рядов шествия, откуда доносилось «Ступайте к Господу средь радостных песен», что, возможно, было не в тему.
Бывшие воины составляли арьергард шествия. Среди них была горстка ветеранов, которые были недовольны, ну, совсем недовольны тем, что им удалось выжить и избежать участи партизан в джунглях Индокитая, в Алжире, а некоторым даже в боях с гитлеровскими ордами только затем, чтобы пасть от ножа правительства, которому они поверили.
Сердце кровью обливалось, глядя на то, как возмущаются баловни режима. Традиционное духовенство, непримиримые борцы за жизнь, отставные военные, все эти сторонники дисциплины и порядка сами теперь устраивали беспорядки, старались укусить руку, которую еще вчера целовали. И они, ободренные присутствием тысяч сторонников — полтора миллиона, по данным префектуры полиции, три — по мнению организаторов шествия, — охваченные лирическим порывом от воспоминаний о первых христианах, об отваге, которую они проявляли, идя на казнь, они запели новую молитву, но уже более стройными и твердыми голосами. Ведь, в конце концов, ничего еще не было решено, голосование «против» могло еще все отменить, об этом все вокруг только и говорили.
Чуть дальше в этой огромной процессии шли руководители оппозиции, с трехцветными лентами, повязанными через плечо, взявшись за руки и демонстрируя наконец-то вновь обретенное единство, они взвешивали все «за» и «против». Дела их были плохи, что вынудило их отдать пальму первенства сторонникам европейской интеграции. Но тем самым они одним выстрелом убивали двух зайцев: присутствие в первых рядах этих просвещенных могло поставить правительство в двойственное положение. А сами они, выражая свою солидарность с пожилыми людьми, вели себя не столь активно, скромничали, чтобы не озлоблять против себя молодежь. А молодые люди стояли вдоль всего маршрута шествия — фаланги Бужона хорошо поработали — и состязались друг с другом в остроумии, понятно, не всегда корректном, наблюдая за прохождением этой бесконечной вереницы людей.
Позади политических деятелей, в ряды которых затесались завсегдатаи мероприятий шоу-бизнеса, забытые певцы, сошедшие со сцены актеры, билось истинное сердце манифестации. Шествуя в окружении профессиональных демонстрантов, эти постоянные участники прошлых демонстраций, эти люди с баррикад шестьдесят восьмого года, вновь испытывавшие чувства своего двадцатилетнего возраста, бросали призывы, которые сразу же подхватывались толпой: «Мы все семидесятилетние, мы все семидесятилетние». В их рядах наблюдалось какое-то замешательство. Скандировать слово «семидесятилетние» было неудобно, несовпадение звуков, и все летит вверх тормашками, клич не совпадал с ритмом шагов. Июньская жара тоже не помогала делу. Как настоящие профессионалы своего дела, застрельщики привлекли на помощь аккордеон и народные песни. Это позволило старикам договориться между собой о новом лозунге. После непродолжительных споров выбрали «Геноциду нет!». Без особых выдумок, но более подходящий, чем первый. И толпа стала послушно скандировать «Геноциду нет!», а в это время зевакам стали раздавать голубые бейджи «Не тронь моего дедулю!» и розовые «Не тронь мою бабулю!» Голубые и розовые, но обрамленные черным. Интересная находка!
Движущаяся и кричащая, ощетинившаяся плакатами и транспарантами, весело поющая, скандирующая лозунги и припевы, которые время от времени предлагали подхватить громкоговорители, процессия на каждой остановке представляла собой великолепное зрелище: множество наспех установленных складных стульев с их полосатыми или фантазийными спинками, маленькие разноцветные квадратики. Это было очень красиво. Цветущий луг.
На первый взгляд это можно было принять за народное гулянье, на которое направлялась деревенская молодежь. Потому что среди манифестантов было много молодых людей, их легко можно было заметить по их джинсам, по ярким рубахам, по модным стрижкам, по серьгам в ушах или в ноздрях, по черным курткам с металлическими заклепками. Молодежь семидесяти — восьмидесяти лет.
Это явление, которого не наблюдалось ни в одной из приграничных стран, родилось, очевидно, во время хитроумной кампании обесценивания стариков. Когда их начали высмеивать, указывать на них пальцем, старики вначале приняли мудрое решение: не высовываться, делать так, чтобы их не замечали. Но вскоре, вдохновленные отставными специалистами по связям с общественностью, которые поспешили подать личный пример, добрая часть пенсионеров решила воспротивиться такому недоброжелательному отношению к себе. Это я-то старик? Никогда! Вдохновленные менторами, заваленные советами некоторых журналов — тут нельзя переоценить работу по оказанию моральной поддержки, по поддержанию в тонусе и в хорошем расположении духа еженедельника «Серебряные волосы», — старики стали косить под молодых. Им удалось разрушить облик, который приписали их сверстникам, штамп согбенного, усталого и безучастного старца, которого интересует лишь содержимое его тарелки да погода на завтра.
Они сменили свой гардероб, не побоялись покрасить волосы в каштановый, белый, оранжевый, голубой цвет. Они купили себе кожаную одежду, модные побрякушки, сапоги-казаки, кроссовки. Поменяли свои семейные фургоны на машины с кузовом купе без прицепа для каравана, на кабриолеты, на мотоциклы. Стали ходить в ночные клубы, танцевать до утра. Вальсы, танго… они не натирали полы, дружок, они стали отплясывать взрывные танцы, как дикие животные, они полюбили техно-музыку, рэп — это то, что надо. Конечно, им трудно было поначалу привыкнуть к манере разговаривать путем перестановки слогов, но это не помешало им записаться в молодежные ассоциации: гуманитарные, социальные, спортивные. Они стали полезными.
Но, правда, были и потери. В восемьдесят лет человек подвергается опасности, когда открывает для себя радости танца и текилы-бум. Особенно когда танцплощадка напоминает парилку. Сердечные приступы, дорожно-транспортные происшествия — превышение скорости, два грамма алкоголя в крови плюс наушники портативного проигрывателя в ушах, — это не прощается. Даже драки, увы, в ходе которых враждующие группировки оспаривали друг у друга кусок тротуара, заставили заплатить тяжелую дань сторонников нового образа жизни. «Быстрее, сильнее, дальше», — кричали они на своих сходках. Они осознавали опасность и шли на это. Лежа на больничных койках, уцелевшие заявляли журналистам, что не надо их жалеть, если бы можно было все начать сначала, они сделали бы то же самое.
Итак, они тоже были тут, те, кто выжил, собравшись под баннером «Быстрее, дальше, сильнее». Они одержали маленькую победу в своих модных темных очках, с сигарами в зубах и со своей татуировкой в стиле майори, являя живое доказательство того, что жизнь стоит того, чтобы жить и после этих проклятых семидесяти двух лет, которые хотело отмерить им правительство.
На улице Риволи, когда все уже решили, что манифестация закончится мирно, случилась трагедия. Один затерявшийся в толпе монах вдруг вылил на свою одежду жидкость из фляги. Окружавшие его люди в шутку посоветовали ему оставить несколько капель для утоления жажды. Но тут он чиркнул спичкой и превратился в живой факел. Слава богу, санитарные службы, находившиеся на месте по распоряжению властей, сумели сотворить чудо. За двадцать секунд с помощью одеял пламя удалось сбить. Несчастный монах отделался сильными ожогами ног. Но остался жив. Счастье никогда не приходит в одиночку: старушка, потерявшая сознание напротив статуи Жанны д’Арк, была реанимирована, а молодой старик, взобравшийся на крышу автомобиля, не сломал шейку бедра: простой ушиб.
Наконец процессия приблизилась к площади Согласия, и организаторы смогли перевести дух. Несмотря на то что в путь кортеж выступил раньше намеченного времени, в конечный пункт он прибыл с опозданием на сорок пять минут. Боязнь опоздать на поезд или на самолет, вполне понятная усталость не располагали к долгим и гневным речам. Выдохшиеся ораторы спрятали в карманы листки, по которым прошлось перо, смоченное чернилами негодования. Довольные удавшимся днем, уверенные в благоприятном для них исходе референдума после участия в манифестации столь многочисленной толпы, которая придет к урнам для голосования и вынесет свой вердикт, и обретя надежду на будущее, манифестанты разошлись по домам.
Кроме — как принято на манифестациях — нескольких банд громил, прибывших из приличных кварталов. Закрыв лица шарфами или касками, они разбили несколько витрин магазинов, подожгли три автомобиля и скрылись, завидев приближение сил правопорядка. Сила осталась на стороне закона: в семьдесят лет люди семенят не слишком проворно, и беглецам далеко уйти не удалось. Под вспышки фотоаппаратов полицейские затолкали возмутителей порядка в автофургоны, в то время как опоздавшие скандировали: «Полиция — СС» и «Освободите наших товарищей».
Бофор строго-настрого приказал полиции вести себя неконфликтно, главное, неконфликтно. Проявлять человеколюбие, снова и всегда.
Поэтому престарелые хулиганы были вскоре освобождены под аплодисменты своих сотоварищей, а средства массовой информации одобрили поведение полиции.
Итак, пленники были освобождены, с журналистами и манифестантами ничего не произошло, все были этому рады. День прошел хорошо, все были довольны.
14
Я тоже очень доволен! Ну да! Могу вас уверить в том, что успех манифестации не помешал мне спать спокойно. Прежде всего потому, что в ней приняли участие только старики. Или почти одни старики. Не было проявлено никакой солидарности поколений. Затем, не было никаких инцидентов. Все прошло гладко. Это больше напоминало принципиальную манифестацию, нежели взрыв негодования. Не надо обращать внимания на число участников. Народ за ними не пошел. Если он пока не совсем с нами, то этого ждать осталось недолго. Настал наш черед действовать. У нас остается еще две недели.
Хорошее настроение Бофора оказалось заразным. Когда с газетами под мышкой члены комитета входили в зал заседаний, на душе у них скребли кошки. Они не понимали, как можно было исправить положение, если эта огромная процессия, по их мнению, порвала их на куски. Каждый из них тайком уже проработал сценарий развития катастрофы. И тут вдруг Бофор заговорил с ними тоном победителя. И привел очень убедительные аргументы! А Бужон лил воду на его мельницу.
Бужон в свои сорок девять лет овевал комитет ветром молодости. Бужон и его улыбка, эта вечная улыбка, обнажавшая фарфоровые зубы, — Бужон, каков облик! — его фигура атлета, стремительность его движений, потребность быстро ходить, взбегать по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней, все это вселяло спокойствие в заговорщиков. Общаясь с ним, они чувствовали себя несколько помолодевшими, покидали на какое-то время клуб приговоренных и вступали в клуб бойцов, победителей. Сравнивая зажатого в тисках растрепанной одежды их министра внутренних дел — сегодня край рубашки опять болтался на животе довеском — с Бужоном, с его безукоризненным стилем одежды, они могли расслабиться, зная, что находятся в надежных руках, что все устроится, как нужно. Победа была близка. Странная победа, если хорошенько подумать. Но они предпочитали не думать слишком много.
Молодежь из фаланг Бужона во время прохождения манифестации смогла убедиться в том, что зрители пришли посмотреть на шествие скорее из любопытства, чем из чувства симпатии. Многие даже веселились, повторяя контрпризывы, вброшенные фалангистами. Не всегда лучшего качества, но очень полезные для того, чтобы нарушить всеобщую гармонию…
Бофор призвал присутствующих в свидетели:
— А я что говорил! Могу даже открыть вам небольшой секрет: опросы общественного мнения для нас очень благоприятны. Не так, как хотелось бы, но наблюдается неуклонный прогресс в последние три месяца. Чувствуется, что первоначальный ступор в умах людей прошел. Мало-помалу разум начинает одерживать верх. Если в течение предстоящих двух недель мы не совершим ошибку, в успехе я не сомневаюсь. Итак, господа, за работу. А работа наша будет заключаться в проведении переговоров и в общении. Вначале о переговорах: их количество надо увеличить. Я уже вам говорил, что не надо стоять на позициях голосования «за» или «против.» Мы должны заманить наших противников в переговорную ловушку, вести переговоры как официальные, так и тайные. Противник, который идет на переговоры, проигрывает. Поскольку оппозиция идет на амбразуру в разрозненном порядке, меня это не беспокоит, личные интересы очень быстро возобладают. Ах, очарование французской политики! Мы распределим роли в зависимости от важности и особенностей переговоров. На Гарсена по-прежнему возлагается основная ответственность. Вот уж никогда бы не подумал, что Гарсен… Отлично сработано, Бертоно, отлично! Нам окажут помощь и другие министры. Отныне весь состав кабинета министров будет привлечен к этому проекту. Некоторые министры доставили нам неприятности, но ведь надо уметь играть на струнах человеческой души, не так ли? Для тех из вас, кого пригласят за стол переговоров, инструкции прежние: демагогия, демагогия и еще раз демагогия! Никого не обижать, обещать все или почти все, а если зайдет речь о какой-нибудь уступке, обращаетесь к Бертоно или ко мне.
Затем работа со средствами массовой информации. Пора начать ужесточать тон. Наша подруга Франсуаза Браше уже поделилась со мной некоторыми своими планами. Они великолепны. Нам с вами тоже есть чем заняться. Возвращаясь к манифестации, хочу сказать, что мне кажется нелишним за несколько дней до всеобщего голосования слегка очернить ее. Бужон, подумайте, что можно будет сделать в этом плане с вашими фалангами. Знаете, можно пустить слухи, что этой манифестацией манипулировали… Кто? Да кто угодно! Вообще-то, как обычно, сила денег и зла. Вы знаете, что надо говорить: богачи, евреи, франкмасоны, ЦРУ; и при этом не надо бояться использовать заезженные штампы. Обычно это хорошо действует. И мы обязательно должны при любом удобном случае делать упор на раскол между молодежью и стариками. Вот в чем должно заключаться наше общение с массами!
Кстати, народ должен знать о том, что проводятся активные консультации и переговоры. Это — главное. Мы расскажем о них в нужное время. И наконец, хотя это само собой разумеется, напускайте туману по вопросу о практическом применении «Семидесяти двух»: «Центры перехода», вопрос о границах… Вы сами прекрасно понимаете, многие люди проголосуют за нас, когда будут уверены в том, что эта мера коснется только других и что в худшем случае они смогут что-нибудь предпринять, чтобы ускользнуть из сети. По-галльски, как говорится. Им надо оставить эту иллюзию.
Возбуждение Кузена Макса, когда он поздно вечером приходил в «Регалти», чтобы поделиться своими идеями, возрастало день ото дня: залы для тайных переговоров с министрами не пустовали. Тайные двери постоянно открывались и закрывались за многочисленными посетителями, которым даже летняя жара не мешала одеваться так, чтобы оставаться неузнанными, и приходить с поднятыми воротниками плащей.
Но эти черные очки от солнца не смогли ввести в заблуждение журналистов: Гэйро, да, сам Максимилиан Гэйро, генеральный секретарь Обновленной коммунистической партии, встретился с Гарсеном! Гэйро в кабинете человека, послушного НПФ, невиданное дело! И можно было задать справедливый вопрос, о чем они могли говорить. Конечно же, о выходе на пенсию! Будучи опознанным, генеральный секретарь согласился сказать пару слов под вспышки фотоаппаратов перед тем, как влезть в свою маленькую «ренушку». Эта простота, этот отказ от напыщенных фраз не помешали газетам наутро сделать противоречивые выводы. «Фигаро» объявила о безоговорочной капитуляции неокоммунистов, а «Новая Юманите» подала это как их победу: пятьдесят пять лет! Значительный успех трудящихся, это бесспорно, Премьер-министр сам это подтвердил после четырехдневных переговоров…
Помимо всего прочего, объявление о выходе на пенсию в возрасте пятидесяти пяти лет — что не являлось слишком ранним возрастом — положило конец самым фантастическим слухам: кто-то говорил о пятидесяти восьми годах, кто-то утверждал, что останется граница шестидесяти лет, и много чего еще! Теперь можно было заняться точным вычитанием: с пятидесяти пяти до семидесяти двух лет оставалось семнадцать прекрасных лет жизни на заслуженной пенсии, которые можно было провести активно и динамично. Мечта!
Проигнорировав призывы Бертоно к осторожности, Гарсен взял на себя инициативу официально объявить эту цифру. И был неправ. Учителя и железнодорожники, не говоря уже о ярых противниках меры, призвали к массовой демонстрации. К непростой, — они больше не знали, что делать, — а именно к массовой. Выход на пенсию в пятьдесят пять лет для всех? А как же тогда они? Они уже давно выходили на пенсию в этом возрасте! А где же тогда их преимущества? И где же тогда признательность государства этим двум столпам французского общества? Премьер-министр был вынужден дать задний ход и, — как лукаво подчеркнула «Канар аншене» — пообещал рассмотреть этот вопрос с благожелательным вниманием.
Да, но, проникнувшись идеями и речами правительства, военные почувствовали, что их общипали, словно голубей. В пятьдесят пять лет они испокон веков уходили в отставку с военной службы. А кроме того, не надо было вешать им лапшу на уши, они прекрасно знали, что будут нужны стране для выполнения грязной работы. Великая Немая армия начала изливать свою желчь.
Министру обороны Анри Бро пришлось принять срочные меры. Кроме своего благожелательного отношения к состоянию души своих протеже — о, как это было понятно, — он предложил, предварительно переговорив с Бофором, Бертоно и Гарсеном, значительно увеличить денежное содержание военным. И он не поскупился, военные за это еще ответят! Несколько новых назначений и перемещений, увольнение четырех человек, затем два исчезновения, и армия вновь пошла правильным путем.
Академикам было наплевать на благожелательное внимание министров. Как неоднократно повторял их представитель Норбер Жамо, дайте мне выражение, а в муке мы перепачкаемся сами. Ах, ему хорошо заплатили!. Ему, который после четвертьвекового молчания вновь обрел силы и взялся за перо, чтобы доказать, что писатель и в девяносто лет может давать отдачу! Все просто, он дописал роман, который он сам и его издатель ждали очень долго.
Перепачкаться в муке? Ради бога, но он плохо знал тех, кто решал его судьбу, если думал, что они не посмеют лишить французскую литературу одного из самых выдающихся ее представителей.
Итак, манифестация. Очень хорошо, очень подробное освещение в средствах массовой информации. Кроме того, стояла прекрасная погода. А пройти расстояние от Пантеона до Института французской литературы было вполне по силам для старческих ног. И они прошли это расстояние в абсолютном молчании. Их наряды вызывали некую оживленность своей архаичностью. В порыве солидарности, которая была свойственна только в этом кругу, их товарищи по перу пополнили ряды манифестантов. Прохожие были просто счастливы, они никогда не видели такого количества писателей сразу в одном месте. Писателей с головы до ног, которые передвигаются, а не тех людей, потревожить которых не хватает смелости на праздниках книги.
Они несли всего один плакат, но он заставлял задуматься: «Литература — это жизнь». Позади отряда академиков, двое из которых время от времени останавливались, чтобы сделать запись, — муки творчества! — манифестация объединяла мирок писателей, которые шествовали в порядке их заслуг, что вызывало ряд замешательств и толчею. Но, увы, не в хронологическом порядке: организаторы с сожалением констатировали почти единогласное отсутствие в рядах манифестантов писателей новой волны. Все эти молодые остолопы — опять-таки по выражению Жамо — еще пока не осмеливались аплодировать, но приближавшаяся гекатомба была им на руку: они уже распределяли между собой куски пирога в виде почетных должностей в жюри и в издательских домах. Честно говоря, это было отвратительно!
Критики составляли арьергард шествия. Они предпочли несколько дистанцироваться от созидателей. Не по причине ревности или скромности, а потому что все эти объявленные правительством меры их не очень сильно волновали. Перспектива выйти на пенсию в пятьдесят пять лет лила бальзам на их сердца: они смогут наконец-то забросить подальше эти нудные задания, которые давали им главные редакторы за мизерную плату, эти книги, которые надо было жадно проглатывать денно и нощно, до тошноты. Рабы чтения начали мечтать: им оставалось семнадцать лет пенсии на то, чтобы сесть, наконец, за написание романа, который уже давно вызрел в голове и заслуживал тех похвал, которые они были вынуждены расточать другим. И поэтому да, они были солидарны с писателями, не надо плевать в суп большого пишущего семейства, но эта солидарность не мешала демонстрировать собственную позицию.
Вышагивая рядом с писателями, студенты раздавали специальный номер газеты «Монд», посвященный произведениям стариков. Под портретом неизбежного Виктора Гюго культурная редакция газеты перечислила книги, картины, симфонии, скульптуры, фильмы, которых нас могла лишить преждевременная кончина их авторов. Сколько же их набралось! И каких великолепных! И они оправдывали вывод автора основной статьи: семьдесят два года станут невосполнимой потерей для человечества.
Газета «День» ответила на это публикацией списка великих художников, унесенных судьбой до положенного срока. Этот список был проиллюстрирован известной фотографией ангелоподобного Рембо с цитатой Корнеля: «Ценность не зависит от количества прожитых лет». «День», естественно, не пользовалась репутацией в части культурных страниц, но все же: призвать Корнеля, который умер в возрасте семидесяти восьми лет, на защиту противного лагеря, это было нечто. Подтасовка! Академики яростно возопили.
Хотя реакция писателей и не дошла до людских сердец, но она была занимательной. А вот выступление аграриев понравилось далеко не всем. Горящие автопокрышки на дороге, горы фруктов перед одной префектурой, куча навоза перед другой, короче, рутина. Санкционированная рутина с прибытием на места отрядов, вдохновленных благожелательным отношением и прибавкой к жалованью, обещанной их министром. По приказу Бро жандармы наградили аграриев несколькими ударами дубинок, арестовали пару-тройку заводил.
— В противном случае, — вынужден был объяснить Бро членам комитета, шокированным репрессиями за восемь дней до референдума, — если бы мы их не помяли, они посчитали бы, что победа не на их стороне и что их выступления никто не воспринимает всерьез. Посидят немного и вскоре вернутся по домам, им будет что рассказать, а народ успокоится: в стране воцарится порядок.
Порядок действительно царил. Несмотря на внешние проявления, на призывы к забастовке там и угрозы бунта сям. Комитет царил над страной, умело распуская подлинные и лживые слухи. За три дня до референдума! — было официально объявлено, что власти решили пойти навстречу женщинам. Срок дожития им продлили до семидесяти пяти лет! Правое дело женщин победило, они будут жить на три года дольше. Пустяк, но сердце замрет в момент, когда надо будет голосовать!
За два дня до референдума: хорошая новость и плохая новость. Извините, две хорошие новости, поправили люди, симпатизировавшие правой коалиции. Духовенство сможет избежать ножа. Иммигрантам придется выбирать: или они подчиняются республиканским законам и идут на свалку, как и другие, или не подчиняются, и тогда могут собирать свои манатки и выметаться из страны. Чартеров хватит на всех.
Радость кардинала Куайно при выходе из Матиньонского дворца останется самым волнующим моментом избирательной кампании. Он взял на себя инициативу пойти за новостями, выяснить, насколько благожелательно премьер-министр отнесся к просьбе Католической церкви. Облаченный в праздничные одеяния, с озабоченным выражением лица, он пробился сквозь толпу фотокорреспондентов… Эти переговоры были манной небесной для сентиментальной прессы: академики, священнослужители, адвокаты, военные, артисты, повара, пожарные, пилоты авиалиний, все они, одни красивее других, приходили защищать свои жизни. На обложках иллюстрированных журналов богатство соревновалось с воздержанием, галуны, награды, пурпур и ночь белых платьев восхищали публику, которая была рада увидеть богатство нарядов, в пристрастии к которым напрасно обвиняли соседей по ту сторону Ла-Манша. Почему же, вопрошал модный еженедельник «Плюс», эти прелести так долго держались под замком? Неужели только близость смерти смогла заставить нашу элиту стать такой кокетливой? И не является ли это проявлением той античной галльской традиции, основанной некогда Бландиной, когда та, после того как на арене в Лионе бык проткнул ее своим рогом, собрала последние силы, чтобы встать на ноги и привести в порядок прическу и одежду в то время, как, уточняет летописец, кровь и молоко слились в едином потоке.
Так вот, когда кардинал вновь предстал перед журналистами, он не позаботился о том, чтобы привести в порядок прическу и одеяния. Пребывая в веселом настроении, в сбившейся набок кардинальской шапочке на растрепанных волосах, в развевающихся на ветру одеяниях, явно старавшийся сдержаться от того, чтобы не запрыгать от радости, последним усилием воли оставаясь в рамках благопристойности, — ведь он только что узнал, что его братьям мусульманам, протестантам, евреям, буддистам и им подобным не стоит приходить плакаться, их не станут слушать, — он удержался от того, чтобы показать пальцами знак победы V. Раздираемый противоречивыми чувствами поспешно благословить тех, кого положено, исполняя свой долг, и проинформировать свою паству, он ограничился улыбкой, пробормотал псалом «Приветствую тебя, Мария» между двумя вопросами журналистов и сразу бросил Марию, чтобы подтвердить, что духовенство действительно добилось права жить. То есть он хотел сказать, что благодаря Господу они смогут продолжить возносить небу молитвы о своем ближнем и приносить моральное утешение, в котором этот ближний будет явно нуждаться… В конце концов, можно предположить, что Господь не шутит, что референдум не… благословляю вас, как и других женщин… да, да, и черное и белое духовенство, все… среди всех женщин и Иисусом… звонить в колокола? Об этом мы не подумали, а почему бы и нет? Нет, он думал обо всех тех, кто… он страдает за них, понимаете ли, Господь в своей милости всех их примет к себе, если референдум… молитесь за ваши души, несчастные грешники… Да, он в отчаянии, но ему пришлось на это пойти. У него много дел, он опаздывает.
Возбужденный больше, чем обычно, его преосвященство впорхнул в свой лимузин, потом выпрыгнул из него на секунду, чтобы дать собеседникам свое благословение, о котором пора было уже подумать сегодня и в час вашей, простите, нашей смерти и которое как две капли воды походило на последнее причастие.
15
Итак?.. Что итак? Как реагируют на все это люди? Молодые, пожилые, на улицах, на работе? За двое суток до голосования Кузен Макс был охвачен беспокойством. Его погружения в среду разночинцев «Регалти» не приносили ему успокоения. Конечно, посетители заведения только об этом и говорили, но тон их разговоров раздражал главу кабинета. У него складывалось впечатление, что люди — хотя всех их это касалось напрямую, даже самых молодых! — относились к этому делу как к шутке. Шутки завсегдатаев не вызывали у него улыбки. Что, папаша, немного сока? Весь зал покатывался при виде старика, к которому обращался какой-нибудь пьяница. Кроме Кузена Макса. Еще немного, и он был готов взобраться на стул и отчитать эту банду придурков, поскольку они и впрямь ничего не воспринимали всерьез. Даже свою близкую смерть. Это полное отсутствие критического отношения заставляло его опасаться самого худшего: они не проголосуют, как надо.
Однако его подружка Браше, великая специалистка по связям с общественностью, творила чудеса. Сказано — сделано, она ужесточила тон. Руководимые ею издания стали в открытую говорить, это самое меньшее, что можно было сказать, о скором изведении стариков. Афиши, газеты, телевидение, все только и говорили о негодных стариках. Да таким злобным тоном, что о шутке и речи больше быть не могло. С настораживавшей злостью. Старики напрасно каялись, говорили, что они не такие, — основной зритель мог только аплодировать будущему поражению отравителей праздников.
Например, рекламный ролик знаменитой марки консервированной соленой капусты. Два молодых человека и один старик — как его занесло на эту галеру? — оказываются на воздушном шаре, который теряет высоту. Надо сбросить балласт. С камнем на сердце молодые люди хватают банки с капустой, которую они очень любят, но тут их взгляды останавливаются на их самом старшем спутнике. Старик показан крупным планом, он вызывает антипатию. Крупным планом взгляд молодых людей. Затем камера стыдливо демонстрирует горизонт, а за кадром слышны проклятия, а потом отчаянный крик противного старика. Воздушный шар снова набирает высоту, а приятный женский голос за кадром произносит: «Ради капусты фирмы „Вебер“ люди готовы пойти на любое прегрешение».
Или еще одна реклама, на которой бабушка, которой оставили на попечение внучат — они такие милые, — готовит для них обед. С хитрым взглядом — ух, что за рожа! Повариха посыпает пирожки мышьяком. Голос за кадром: «Пирожки Савиньо… умереть от удовольствия». Ролик как ролик, по крайней мере, для старушки можно найти смягчающие обстоятельства: слабое зрение, рассеянность. Но этот демонический хохот, который раздается в то время, как сладкоежки набрасываются на свои тарелки, может сделать из самого яростного защитника прав пожилых людей столь же яростного геронтофоба.
Или такой ролик. Семейная пара, естественно, уже пожилых людей, но еще хорошо выглядящих, даже красивых, достойных, отзывчивых — это видно с первого же взгляда, — дарит своим детям и внукам новенький автомобиль «пежо» последней модели: вот, это вам, наши милые, нам теперь она не нужна. А пока вся взволнованная семья машет руками и носовыми платочками, пожилая пара, взявшись за руки, уходит в сторону заходящего солнца под музыку, заставляющую пустить слезу. В какую же загадочную страну уходит эта пара? Об этом не знает никто, но рекламный слоган обращается к телезрителю: «Езжайте дальше на „Пежо-72“».
— Все-таки, все-таки, — шептал Кузен Макс, — послание должно дойти, люди не настолько глупы.
Сегодня вечером он пришел раньше, чем обычно: из-за дебатов зал был полон посетителей. Хозяину «Регалти» пришла в голову мысль поставить в глубине зала телевизор, и теперь в его бистро всегда было полно народа. Каждый репортаж, каждое интервью на эту тему заставляли людей уходить из дома и присоединяться к себе подобным на лавках «Регалти». Там можно было встретить даже семидесятилетних людей, которые потягивали тизан[5] в надежде услышать хотя бы слово солидарности. Чаще всего их ожидания оказывались напрасными, поскольку споры между сторонниками и противниками меры сильно распаляли желчь выпивох, уже подогретых стаканами красного вина. На дверях заведения появилась табличка, указывавшая, что в ночь референдума там будет организован буфет и танцы. Достаточно было записаться и заплатить заранее — хозяин опасался проявления недовольства.
Но до этого было еще далеко: тем, кто хотел потанцевать, набив живот, надо было подождать еще двое суток. А пока продолжались споры. За одним из обсуждений следила вся страна. С того момента, как Филипп Вассеро, знаковая фигура из предыдущего левого правительства, который, по всеобщему мнению, навсегда ушел с политической сцены, бросил действующему премьер-министру официальный вызов. Гарсен, от которого этого никто не ожидал, этот вызов принял. Несмотря на протесты оппозиции, Бофор назначил дату этих дебатов, нарушив правило восьми дней. Дебаты за сорок восемь часов до начала референдума: ведь это означало — или пан, или пропал! «Знаю», — ответил он на это с загадочной улыбкой. Но, в конце концов, Гарсен не справится с Вассеро! «Увидим», — отрезал он, продолжая улыбаться.
— Я опасаюсь худшего. Вассеро быстро расправится с Гарсеном.
Кузен Макс заказал еще бокал бочкового пива, уже четвертый, что было признаком большого возбуждения. Потом попросил хозяина увеличить громкость. Титры передачи, представления напряженных до нельзя кандидатов, показ аудитории в зале, большинство из присутствовавших были раскаленными добела стариками.
— Но ведь это невесть что такое, ловушка, Браше потеряла голову.
Пиво явно не шло на пользу Кузену Максу.
Ведущий объявил программу. Вначале обычная игра в прямом эфире в вопросы-ответы со зрителями, которая, как всем известно, всегда проходит по-честному, потом музыкальная пауза и, наконец, столь долгожданные дебаты.
Внимание зала быстро притупилось: старики на съемочной площадке, такие же колкие, как и в рекламе Браше, задавали вопросы, на которые правительство уже тысячу раз отвечало, приводили высказывания, которые все уже тысячу раз слышали. Их коллеги-старики бурно аплодировали. Им очень хотелось освистать аргументы Гарсена, но организаторы попросили их вести себя прилично, да и с зубными протезами не посвистишь. Один из стариков заявил, что было бы самоубийством для нации отказываться от знаний и опыта ее старшего поколения. Одна старушка пригрозила, что никогда больше не будет голосовать за НПФ. В свои восемьдесят два года она громко воскликнула: «Как можно голосовать за партию, которая поддерживает такую меру? Лучше умереть!» На съемочной площадке наступило молчание. Еще один зритель считал нелепым жертвовать здоровыми семидесятилетними людьми в пользу более молодых инвалидов. Что касалось лично его, то в свои семьдесят три года он чувствовал себя мощным, как гроза. Как гроза в Бресте, добавил он, поскольку знал классиков и еще не достиг рокового возраста семидесяти восьми лет. Бурные аплодисменты. Какой-то завистливый муж высказался против скандального решения — да, именно так он и сказал, скандального! — добавить женщинам три дополнительных года жизни, и он… но возмущенные блеющие голоса заставили его замолчать.
В «Регалти» нам начинало казаться, что дело затягивается:
— Но ведь там выступают одни старики!
— А что, молодежь не имеет права высказаться по этому вопросу, да?
— Бедняга Гарсен, а он неплохо держится в этой клетке с хищниками! Ах, предки, они хорошо подготовились!
Перед самым началом схватки политических тяжеловесов весь зал уже был на стороне Гарсена, окруженного бандой подлецов. Кузен Макс уже не мог сдерживаться:
— Черт возьми, до чего же умна эта Браше, до чего же умна!
Рекламная пауза успокоила умы людей в студии, равно как и собравшихся в «Регалти». Каждый заказал себе очередную порцию выпивки, кроме стариков, которые продолжали хранить верность своему единственному бокалу кира[6].
Но вот началась сама схватка.
Сразу стало видно, что Вассеро был силен, намного сильнее соперника. Он сразу же взял Гарсена за горло, спокойно, но с такой решимостью, которую было трудно ожидать от человека семидесяти девяти лет.
— Господин Гарсен, вы, кажется, христианин? Просто верующий католик или посещаете церковь?
— Конечно же, я католик, — ответил тот, не чувствуя ловушки (все начиналось неплохо! Кузен Макс уже брызгал слюной), — я католик и хожу в церковь. И горжусь этим, в то время как вы…
— Я не католик, если можно так выразиться! Я не верую и не хожу в церковь. Как верный католик, вы знаете и выполняете десять заповедей… Вы можете назвать мне первую заповедь?
— Конечно… Я… Ну, конечно, не убий…
— Вот именно. Не убий. Что вы об этом думаете? Что вы думаете, готовясь к убийству скольких?.. Шести, семи, восьми миллионов невинных?
— Ай-ай-ай, он пропал. Все пропало. Ну, кому в голову пришло устраивать этот телепоединок!
Кузен Макс больше не верил в удачу. Он залпом выпил остаток пива. От пены на его верхней губе образовались усы, придавшие ему вид древнего, семидесятидвухлетнего старца, но его это не заботило. Столько труда, столько надежд, загубленных одной идиотской теледискуссией… Гарсену конец.
— Послушайте, Филипп Вассеро, коль скоро вы хотите поиграть на этой ноте, я хочу присоединиться к вам. Вы говорите шесть, пусть восемь миллионов невинных людей? Я отвечаю вам: шестьдесят три миллиона невинных. Да, шестьдесят три миллиона невинных французов, которым проводимая вами и вашими друзьями политика принесла только одни разочарования. И эта лишенная будущего жизнь, возможно, намного хуже смерти. Теперь я, быть может, вас шокирую, мсье Вассеро, но, поскольку вы говорите о какой-то Варфоломеевской ночи современности, я вам отвечу: речь идет о законной самообороне. Вот именно! Ваша убийственная политика вынудила нас, правительство и меня, прибегнуть к мерам законной самообороны. Франция — моя страна. Ваша страна, она защищается. Если вы знаете другой путь выхода из тупика, умоляю, укажите мне его, пока еще не поздно.
По столиками «Регалти» прошел одобрительный шепоток. Гарсен явно набирал очки. Он меня поражает, просто поражает. Кузен Макс упал с небес: после того, как Бертоно взял Гарсена в свои руки, тот стал уже совсем другим человеком.
Дискуссия приняла более выраженную политическую направленность, каждый из противников критиковал меры, от которых другой клятвенно отрекался. Гарсен держался очень хорошо. Гарсен ставил Вассеро в затруднительное положение: он освежал противнику память. Скажите, Филипп Вассеро, сколько денег вы потратили на то, чтобы привлечь на свою сторону благосклонность людей третьего возраста, которых вы считаете преданными нашему делу? Не лучше ли было использовать эти миллиарды на создание новых рабочих мест? Именно это мы и обещаем сделать. Но нет, вы разыграли карту пожилых людей. Это хорошая мера с точки зрения политиканства, но плохая с точки зрения политики. Если бы мы и дальше позволили вам это делать, Франция стала бы филиалом США со всеми этими стариками, запертыми в позолоченные гетто, где их деньги служат для того, чтобы вырывать молодые дарования из их родных стран и устанавливать свой контроль над предприятиями по всему миру. И они продолжают выжимать сок из лимона, чтобы стать еще богаче, и они требуют 15 %, 20 %, 30 % дивидендов, а руководство увольняет людей, а бедняки становятся еще беднее. Вот какое будущее вы нам готовили!
Новая рекламная пауза позволила Вассеро унять едва сдерживаемую ярость, а завсегдатаям «Регалти» перевести дух.
Когда возобновилась трансляция, мы все почувствовали, что Вассеро сменил тон. Он явно перестал выполнять свою задачу. В его семьдесят девять лет это было вполне естественно. Он решил больше не прибегать к помощи цифр. Он не станет говорить о двухстах миллиардах экономии, которые упомянул его противник, ведь цифры — это всем известно — каждый может толковать по своему разумению. Нет, ему хотелось бы говорить просто и ясно о том, что его ожидало на будущей неделе, если большинство проголосует «за». Он предпочел представить себе нескончаемые колонны жертв, которых набьют в вагоны для перевозки скота, о лагерях смерти, которые будут устроены повсюду, о горе семей, вдов, сирот…
В «Регалти» оживились. Старики у стойки пролили слезу в свой кир — по-прежнему первый и единственный, — они собирались просидеть с ним весь вечер, хозяин готов был их сожрать, большинство посетителей стали возмущаться. Этот Вассеро преувеличивает, он передергивает карты, это нехорошо, он представляется жертвой, хотя сам раздает удары, старый шулер. Заметьте, от стариков можно ждать всего что угодно. Двое или трое пьяниц уставились в свои стаканы. От слов выступающего им сделалось нехорошо, они представили себе, как идут на виселицу под конвоем охранников со злыми собаками, не имея при этом возможности выпить последний стаканчик. Здравый смысл возобладал. Кивком головы они заказали еще выпивку у хозяина. Взяв в руки бокалы с пивом, они повеселели, не будем драматизировать, да что это такое говорит товарищ Вассеро? Но товарищ продолжал в том же духе.
— Итак, начиная с понедельника вам придется иметь дело с восемью миллионами приговоренных к смерти. Я тоже буду в их числе. Какой же конец вы нам уготовили? Расстрельные команды? Газовые камеры? Атомную бомбу? Должны ли мы сами перед смертью рыть себе могилы? В алфавитном порядке? По возрасту или по выслуге лет? Самый старший по званию будет висеть выше всех?
— Вы неправы, Вассеро, воспринимая это в штыки. Эта мера ужасная, согласен, — но я все еще жду, какую вы предложите альтернативу, — потребуются годы размышлений и консультаций, прежде чем она будет приведена в исполнение. Видите, у нас еще будет время все обсудить! Поскольку время моего выступления ограничено, скажу всего еще пару слов. Речь идет о болезненной, но социально оправданной мере: деньги больше не будут помогать прожить дольше. Что вы думаете о страницах газет, купленных упрямыми лоббистами и призывающих проголосовать «против»? Что они защищают? Право на достойную жизнь для бедных? Для тех, кто умирает в безвестности в общих палатах хосписа?
И последний вопрос, который я хочу задать и который касается лично меня: мне семьдесят лет, и пока эта мера меня не касается. Но я говорю перед миллионами свидетелей, я отправлюсь в путешествие в первой команде. Капитан во всем должен подавать пример. И я с гордостью отдам свою жизнь за Францию. А вы, Филипп Вассеро?
— Гм… Конечно, я тоже отдам свою жизнь за Францию, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что…
Нет, если говорить объективно, Вассеро закончил дебаты на коленях. Его великолепное начало дало старикам надежду. Но он не смог продержаться всю дистанцию. Где был Вассеро конца прошлого века? Тех трудных лет, когда подрывная деятельность сломила лидера оппозиции. Не надо было ему стареть…
В воскресенье вечером, когда еще не все было окончательно ясно, было заказано шампанское, ибо проведенные его службами опросы на выходе с избирательных участков внушали Бофору оптимизм, члены комитета собрались в одном из салонов Матиньонского дворца. Поскольку Бертоно решил приписать Гарсена к успеху своей команды. На вопрос Бофора: «Что ты сделал такого, что Гарсен так изменился?» — Бертоно ограничился пожиманием плечами предсказателя.
Пока на маленьком экране транслировали процесс подсчета голосов, говорили о рекордной явке избирателей, о рекордных выручках рекламных агентств, ни единого человека не было на улицах, вся страна затаила дыхание, заговорщики уже подводили итоги своей деятельности, делали вид, что испытывают вполне понятное беспокойство, которое Бертоно развеял по-своему:
— Мы победим. Без проблем, благодаря индивидуализму французов. Молодые проголосуют «за» ради того, чтобы жить лучше на пресловутые двести миллиардов, менее молодые ради того, чтобы поскорее вступить в наследство, и даже многие старики проголосуют «за» ради того, чтобы досадить своему более старому соседу. Ах, до чего прекрасна страна Франция! И потом сами увидите, что не так грустно будет увозить их на бойню в эти, как вы их там назвали, «Центры перехода»… Красиво.
Бофор сделал вид, что смутился, так оно и было на самом деле. Рекламный ролик расхваливал достоинства одного бюро ритуальных услуг. Какая-то миловидная женщина подробно перечисляла услуги, которые предоставлялись родным усопшего. Какой у нее рот, вы только посмотрите! Бужон даже заерзал в кресле. А походка королевы, ну, взгляните же!
Никто смотреть не стал. Женщине пришлось уступить место курантам, стрелки которых показывали 23 часа 59 минут. Через минуту, ведущие телепередачи не скрывали своего волнения, Франция все узнает.
В двадцать секунд первого в салоне Матиньонского дворца вылетела пробка из бутылки шампанского.
16
57 %! 57 %! Результаты превзошли все ожидания. Еще лучше, чем в 2005 году! «Страна в шоке» — под таким заголовком вышла в понедельник утром газета «Монд». Эта затасканная формулировка не потребовала от журналиста большой выдумки и отразила состояние прострации, в которое впало население. Небо в прямом смысле рухнуло на головы галлов. В частности, на головы — и без того уже больные — лиц семидесяти лет и старше. Можно было подумать, что шестигранник покрылся плотным слоем снега. Все работало в замедленном темпе, прохожие втягивали головы в плечи и смотрели под ноги, автомобилисты не сигналили, города, казалось, очутились на другой планете.
Возможно, все это имело и более тривиальное объяснение, связанное с синдромом похмелья. Ведь не только были превзойдены рекорды явки избирателей, но и были побиты все рекорды потребления алкоголя, как в частных заведениях, так и в винных погребках или в шапито, где самые предусмотрительные ассоциации догадались поставить огромные экраны и организовать богатые буфеты. И все это в атмосфере праздника, которую драматичность события только оживила.
Вглядываясь в лица окружавших меня людей, я разделял точку зрения хозяина «Регалти», который по понедельникам был сильнее меня в анализе. У французов просто-напросто голова болела с перепоя: пятьдесят семь процентов сначала выпили за удачное голосование, потом отпраздновали свой успех, сорок три процента сначала выпили за удачное голосование, потом напились с горя. Какой успех, какое поражение, об этом я спросить его не осмелился. Мне вдруг показалось, что все слова были лишены смысла.
Известно, что алкоголь никогда и никому не помог по-настоящему решить конкретные проблемы. Согласитесь, что смертный приговор в расцвете сил, в возрасте семидесяти двух лет, ставит конкретную проблему. Пили они или же нет, но старики не смогли забыть свое горе. Я не смог удержаться от того, чтобы не рассказать с нехорошим удовольствием своим приятелям из «Регалти» случай в булочной. Едва проснувшись, я отправился туда за круассанами, рассчитывая, что они помогут мне справиться с головной болью, от которой я маялся всю ночь. Когда продавщица укладывала их в бумажный пакет, в дверях булочной показалось маленькое существо с затравленным взглядом.
— Здравствуйте, мадам Мулен, как поживаете? — спросила булочница, а потом поспешно и неловко добавила: — О, простите.
Она вспомнила, что не время было интересоваться состоянием духа или здоровья восьмидесятилетней женщины. Которая не обратила на эту неловкость внимания. На деле она даже и не расслышала вопроса, мыслями она была в другом месте, она уже отправилась в путешествие в некую злую страну, где стариков мучают перед тем, как убить их под звуки оркестра. Не отрывая взгляда от багетов, она подошла к прилавку и застенчиво показала на них пальцем:
— Могу ли я все-таки купить хлеб?
В «Регалти» это «все-таки» произвело настоящий фурор. В течение многих недель ни один из постоянных его посетителей не делал заказа без того, чтобы не спросить у хозяина: патрон, можешь ли ты все-таки дать мне это?
Мне пришла в голову неплохая мысль взять денек отдыха. Несмотря на мнения одних и других, глядя на молодых и менее молодых на улице, на беззаботность одних и на недоверчивость других, бездеятельность позволила мне почувствовать облегчение от мигрени, а после облегчения задаться вопросом, который меня мучил: был ли я в числе победителей или в числе побежденных? Конечно же, я проголосовал «за» за то, чтобы облегчить страдания семидесятилетних. Когда человеку нет еще тридцати лет, он не задумывается об угрызениях совести, свойственных пожилым людям. Несмотря на то что об этом мало рассуждаешь, все равно понимаешь, насколько они могут быть болезненными. Меня не радовало то, что стариков омолодят и что молодые со временем превратятся в стариков. Мы уже спорили об этом в «Регалти» и очень быстро сошлись во мнении. Мы ни за что не дадим нашим старикам страдать, мы проголосуем «за» ради их же блага. И ради нашего.
Таким образом, голосование не повлияло на мои убеждения. И все же теперь, когда кость была брошена, некое смущение не давало мне возможности насладиться чувством выполненного долга и выходным днем. Речь шла вовсе не о раскаянии или чувстве вины, все это было ерундой, так, камешком в ботинке, но это все же не позволяло мне чувствовать себя полностью в своей тарелке. Короче говоря, я уже не был столь уверен в себе, а точнее, я стал спрашивать себя, не лучше ли мне было задаться этими вопросами до голосования.
Пара-тройка стаканов дали мне возможность более ясно взглянуть на вещи и списать этот момент слабости на последствия мигрени, а также на кошмары, которые я видел во сне. Когорты стариков, выстроившихся перед бойнями, о которых во время теледебатов говорил Вассеро, вероятно, помешали спать спокойно не мне одному.
Появление Кузена Макса положило конец моим вопросам. Держа под мышкой несколько газет, он рухнул на лавочку с лицом, которое свидетельствовало о тяжелом дне. Настроение у него было угрюмое.
— Что за идиоты!
— Кто? Французы?
— Да не французы, они проголосовали так же, как их руководители. Нет, я говорю о газете «Либерасьон». Видел, до чего они докатились?
Нет, я еще не видел их первую полосу, превращенную в сообщение о кончине и трауре. Там был только один заголовок: Восемь миллионов приговоренных к смерти.
— Ну и что? Разве это не так?
— А из тебя вышел бы прекрасный политикан! Да наплевать на правду. Главное, как представить вещи. А тут они не просто сгущают краски в прямом и переносном смысле, они этому радуются. Они воют, как волки на луну, и втихую хихикают. Ну да ладно, давай поговорим о другом… Что говорят по телевизору?
Тут как раз началась программа новостей, и по телевизору наговорили и показали много чего. Сцены всеобщего веселья ночью в центрах городов. Молодые люди, которых в разгар танцев с криками «мы победили, мы победили» спросили о причинах веселья, с трудом смогли объяснить свою радость.
— Ну, мы, это… победили, — сказал один из них в то время как его приятели подталкивали его, чтобы он привел более веские аргументы. — На деньги стариков мы получим работу. Нет, не на деньги стариков, а на деньги, которые государство на них сэкономит. И потом мы будем раньше выходить на пенсию. И потом для стариков это клево, они будут меньше страдать, правда?
Молодежь криками подтвердила свою убежденность в этом, а более взрослые люди встретили эти слова молчанием. Несмотря на продолжительные поиски, журналистам не удалось найти ни единого человека семидесяти лет и старше. Не рассчитывая на их участие в празднике, журналисты с удовольствием показали бы, как старики играли в честную игру, признались бы, да, проиграли, но обиды нет. Но делать было нечего, старики заперлись по домам, пошли слухи об убийстве в восемнадцатом округе: какой-то старик, которому мешал спать шум на улице, якобы открыл огонь по толпе. Но после расследования выяснилось, что это были не звуки выстрелов, а разрывы петарды, что трупы еще шевелились, но были слишком пьяны, чтобы встать на ноги.
Поэтому журналистам пришлось ждать утра, чтобы пощупать пульс находящегося в состоянии нокдауна третьего поколения. Конечно, было уже слишком поздно, никто и никак уже не мог повлиять на результаты голосования, но следовало признать, что опрошенные предки не явили собой столь трогательный имидж своего поколения: недоверчивость, обида, агрессивность, зависть. Потрясенные случившимся, они не успели перед выходом из дома привести себя в порядок, и эта небрежность сильно им навредила. Какая-то старушка в бигуди проскрипела: «Они хотят нас всех убить, что ж, пусть убивают». Ее подруга в домашнем халате объяснила, что хорошо смеется тот, кто смеется последним: она намерена изменить свое завещание! Ее напарник по связке, древний, как лампадка, старик — возникал вопрос: кто кому помогает справить нужду? — погоревал о будущем своего пса, а потом подумал и трагически произнес: «Собака умрет вместе со мной! Да, мы отправимся на кладбище вместе, правда, Султан?»
После ликований и стонов на улице специалисты стали проливать свет на сам референдум и на его результаты, удивившие всех, кроме них. Одна врач-психоаналитик разложила по полочкам темную сторону человеческой души. Оказалось, что в этих темных зонах скрыто чувство безнаказанности за самое ужасное из преступлений, убийство своих родных. Ее коллега-социолог предпочла настоять на определяющей роли общества, где царит закон джунглей, где слабым нет места. Некий экономист предложил смело заглянуть в будущее: что же теперь произойдет? Будут ли достигнуты обещанные успехи? Как смогут воспользоваться ими предприятия?
Мнения специалистов разделились, один политик из оппозиции — из тех, кого большинство считали бесполезным и не любили, — задал вопрос: «Если это не пиррова победа[7], как тогда это назвать?» — и набросился с гневными обвинениями на правительство, чьи маневры только что завели Францию в туннель, из которого нет выхода. И в заключение он не удержался и сообщил свой возраст, о чем его никто не спрашивал. Он не собирается использовать до конца свой депутатский мандат. Он ему надоел, да, надоел!
Иностранные корреспонденты сделали обзор реакции на голосование из других столиц мира: никто не осуждал, никто не предостерегал и ни единой угрозы гуманитарного вмешательства. Нет, представители правительств сообщали, что руководство их стран с большим интересом следило за ходом эксперимента и что, как всегда, принимало во внимание особенность психологии французов. Потом красивая представительница метеослужбы рассказала, что в ближайшее время нас ожидает хорошая погода, а я не мог отделаться от мысли, что, несмотря на прогнозы специалистов и призывы политиков, жизнь начинает входить в обычное русло. Операция «Семьдесят два» еще не стала частью обычая, но, анализируемая, приветствуемая, отвергаемая, она уже стала частью жизни. Через несколько недель она будет пугать людей все меньше и меньше. Люди дадут приручить себя. И тогда придет время внедрять эту операцию в жизнь.
17
А кто будет этим заниматься? Я? Давай говорить начистоту: применение меры входит в сферу компетенции Министерства внутренних дел. Бофор будет постоянно за этим присматривать. Но он попросил меня подумать над проблемами, которые могут при этом возникнуть, и предложить их решение. У него под рукой будет специальная команда, почти все те же люди. Но он очень рассчитывает на меня. Он хочет, чтобы я стал в некотором роде руководителем проекта. Представляешь? Вместе с Бертоно, Бужоном и иже с ними… — Ты доволен?
Кузен Макс озабоченно наморщил лоб — лоб карьериста, который сделал карьеру. Доволен? Он не будет плевать в колодец, Бофор всегда проявлял к нему уважение и симпатию. Но теперь он возлагает на него огромную ответственность. Огромную! Он не жалуется. Понятно, он всю ночь не сомкнул глаз. Потому что понимал, что стояло за этой столь ответственной задачей. Смерть миллионов людей. Одно дело разработать проект, быть уверенным в его непогрешимости и необходимости, знать, что настанет день, и сам станешь жертвой своего проекта, а другое — взбрыкнуть перед препятствием. Особенно когда это препятствие называется смертью. Смерть, смерть, только это в жизни и является настоящим.
— Я — технократ, и, как таковой, я считаю, что индивидуум должен подчиняться общим интересам. Но это не мешает мне иметь совесть. О, она не сможет меня парализовать, я буду вести себя, как дисциплинированный солдат, но… Знаешь, о чем я думал этой ночью? О том молодом солдате СС, который охранял одну из дорог в Орадур-сюр-Глан во время бойни. Он не дал пройти по дороге одной семье, он этим спас им жизнь. И он плакал. А ведь он был солдатом дивизии «Райх». А буду ли я, организовав подобный помноженный на десять тысяч Орадур, похож на этого солдата? Я могу возглавить какой-нибудь комитет, рабочую группу. Смогу ли я назвать это «Райхом»? Ладно, хватит глупостей. Я устал. Не спал, без конца пил весь день в ходе собраний… Давай я лучше расскажу тебе, как провел вечер, это будет намного веселее.
Как только была открыта первая бутылка шампанского, Бофор с волнением в голосе, возможно, наигранным, поднял свой бокал:
— Господа, извините, дамы и господа, начинается новая эра. Мы можем быть горды выполненной нами работой. За ваше здоровье, за наше здоровье и, главное, за здоровье нашей любимой страны.
Бокалы в руках гостей помешали им устроить бурные аплодисменты, но серьезность на их лицах не вызывала сомнений, что все они были охвачены волнением. Каждый сказал краткую, но верноподданную речь. Бертоно настоял на том, чтобы все подняли тост за Гарсена, который так умело противостоял Вассеро, не так ли?.. Этот герой удостоился тройного приветствия и многочисленных похлопываний по спине. Он облил шампанским брюки и смущенно и молчаливо пустил слезу. Никто не посмел поинтересоваться причиной этих слез: неужели по поводу мокрых брюк? Спавшая с плеч ноша? Семейные неурядицы? Его коллеги прекрасно все поняли: он оплакивал свою судьбу приговоренного к смерти. На первой повозке! Но зачем он сказал это перед телекамерами? Вот к чему приводит комедиантство. Да, он заткнул рот Вассеро, но какой ценой! Он упустил два года, целых два самых прекрасных года жизни! Шампанское ободрило его, друзья расточали ему похвалы, которые он не уставал выслушивать, да, действительно, стоит вспомнить лицо Вассеро, когда он спрашивал, кто будет первым. Ах, он никак не ожидал таких слов от Гарсена, нет, честно, Гарсен, вы были просто великолепны от начала до конца! Наполнившись алкоголем и комплиментами, премьер-министр, пошатываясь, отправился домой выслушивать ругань своей супруги, которая, как все знали, была очень сварлива.
Бертоно тоже не стал задерживаться. Он тоже не любил такого рода празднества. Теневым персонам не нравилось слишком яркое освещение попоек.
— К черту трусов, гвардия, ко мне!
Бофор уже освободился от пиджака и своих напыщенных оборотов. Естество начало брать верх. Его рубаха вылезла на свободу и тоже праздновала победу. С бутылкой в руках, он раздавал похвальные листы:
— Бро, Буассу, Бужон, Лаверно, Моро, Брид, благодаря вам группа «Семьдесят два» работала быстро и хорошо. Говорю вам браво и спасибо. За ваше здоровье! Тексье, Майоль, благодаря вам — и другим членам — комитет работал быстро и хорошо. За ваше здоровье! Я пригласил вас к сотрудничеству, Франсуаза, потому что не сомневался в успехе. И этим успехом мы обязаны вам. Не стану в вашу честь давать салют признательной Отчизны, позвольте отдать честь высочайшему профессионализму и замечательной женщине. Позвольте, я вас поцелую… Спасибо за все. И спасибо за то, что вы были с нами во время проведения операции. А вы, мой маленький Макс, знаете что? Благодаря вам Группа по применению плана «Семьдесят два», или Комиссия, или как вы захотите это назвать, будет работать быстро и хорошо. Говорю вам браво и спасибо. За ваше здоровье! Будет вам, не делайте такое растерянное лицо. Вы знаете это дело лучше, чем кто-либо другой. Лучше других вы представляете себе все трудности его практического применения. Мы будем оказывать вам помощь. За работу. Начиная с завтрашнего дня. Я сгораю от нетерпения увидеть, как отправится первая тележка. Гарсен будет вести себя очень хорошо. Очень достойно и мужественно.
Поскольку Бужон еще не достиг и пятидесятилетнего возраста, он знал, что ему не угрожал никакой сюрприз, и поэтому он не удержался от того, чтобы прикинуться простачком:
— А после Гарсена чей черед?
Каждый из присутствующих тут же назвал свой возраст. Не сразу ответил только Брид.
— Семьдесят…
— Семьдесят лет? Ну, тогда следующий — вы! Тост за здоровье Брида!
Министр иностранных дел выпил свой бокал без особого порыва, застенчиво улыбнулся и, немного подумав, сказал, что поскольку его об этом так мило расспрашивают, то он решил воспользоваться этими двумя оставшимися годами и возглавить какое-нибудь посольство. В Улан-Баторе или Порт-Морсби. Да, Порт-Морсби, в Папуа — Новой Гвинее. Потому что это очень далеко и добраться туда непросто.
— Уж не хотите ли вы сказать, что… Не валяйте дурака, Брид!
По части шуток Бофор всегда использовал только первый уровень. Он смотрел на коллегу и не решался признаться самому себе, что вот оно, первое предательство. Брид решил ему помочь:
— Это очень далеко, и жить там можно спокойно, но я вернусь, естественно, чтобы исполнить свой гражданский долг.
— Ах, это замечательно, Брид, а то вы меня испугали. Представляю, что напишут газеты, если один из членов нашего правительства надумает скрыться! Хорошо бы выглядели! Майоль, вы должны будете закрыть все лазейки, сами понимаете, хитрецов будет предостаточно. В семьдесят один год и шесть месяцев во многих вселится демон туризма! Говоря о газетах, надо сделать так, чтобы они стали работать еще более активно! Сегодняшней ночью им дали достаточно пищи для размышлений! Мне очень хочется немедленно прочесть их заголовки… На Францию надели свинцовый колпак…
— Покойтесь с миром! — предложила Брижит Лаверно. — Это должно понравиться «Либерасьон».
— Попраны права человека! — Франсуазе Моро очень нравился заголовок, обыгрывающий права человека.
Сыпались предложения, вылетали пробки из бутылок, шампанское не подстегивало воображение, из министров не получилось бы хороших журналистов. Франсуаза Браше в эти разговоры почти не вмешивалась. Эти сеансы вульгарного расслабления вызывали у нее только сострадание. Впереди было столько работы, а тут напрасно теряли время!
Устав изобретать заголовки газет, Бужон проворчал, стараясь, чтобы его не услышала мадам Моро, что неплохо было бы что-нибудь пожевать. Сэндвичи? Он не говорил о том, чтобы поесть, просто перекусить. Небольшим кусочком свежей плоти. Не мог бы Бофор пригласить сюда нескольких девушек, которые…
Но Бофор был не в том состоянии, чтобы слушать, а тем более кого-то приглашать. С расстегнутым ремнем, закинутым за спину галстуком, с подтеками шампанского на рубашке, он лежал поперек кресла и храпел. Кузен Макс не мог не подумать о том, что с таким министром внутренних дел Франция могла спать спокойно. Но он был его начальником, ему он был обязан своим повышением. Такова жизнь, уходя, заключил он.
Пока он рассказывал о своем начальнике, я следил за хозяином «Регалти». Он готовился закрыть свое заведение, мы были последними клиентами. Поставив стулья на столы, погасив свет за стойкой, он подметал пол в зале. Среди опилок и обрывков бумаги позвякивали куски битого стекла. Мне показалось, что Кузен Макс, ловко орудуя метлой, сгребал в одну кучу послушных, как бараны, семидесятилетних, гонял их с одной стороны на другую, а когда метла на время оставляла их, чтобы достать их собратьев, притаившихся под столом, никто и не думал убегать, они принимали отставших с безразличием и снова начинали свой зловещий танец, покорно сметаясь в совок и стройными рядами отправляясь в горнило мусорного ящика.
— О чем ты задумался?
— Я? О тебе, о том, что тебя ожидает. У тебя теперь столько работы…
— Не говори мне об этом!
— Ты будешь продолжать держать меня в курсе дел?
— В курсе дел? Нет, малыш, я не только буду держать тебя в курсе, но, больше того, я посажу тебя на кресло в партере!
18
Надо было придумать название группе, которую ему поручили возглавить. Время фантомной рабочей группы и обязательного соблюдения тайны уже прошло. Однако не надо было — и он это понимал — выпячиваться, следовало проявлять сдержанность в выполнении столь щекотливой задачи. Но при этом Кузен Макс не хотел возглавлять рабочую группу без названия, это было, по его мнению, несерьезно. Он помнил о сдержанности, об опасениях, которые были проявлены при выборе названия проекта, о том, как Бофор в конечном итоге навязал всем название «Семьдесят два». Может быть, и ему следовало бы применить власть и навязать что-то такое…
На первом же заседании он попытался сделать это и включил этот вопрос в повестку дня. Но особого успеха не добился. Члены группы, очевидно, решили, что у них есть более срочные дела, а спорить с этим он не мог. И поэтому удовольствовался названием ГПН, Группа по применению наказаний, название без особой выдумки, которое он оставил для себя. Для себя и для меня. И ГПН вскоре начала заниматься концом, который предстояло уготовить Кандидатам.
Кандидаты! Поскольку члены комиссии не посчитали необходимым ее как-то назвать, они все же согласились с тем, что будущим жертвам надо было присвоить какое-нибудь достаточно понятное наименование, чтобы не волновать их понапрасну. Среди других вариантов были названия Путешественник, Доброволец, Гражданин, Пожилой, Почтенный.
Франсуаза Браше попросила участников без стеснения высказывать все, что приходит им в голову, даже если на первый взгляд это могло бы показаться нелепым, все равно высказывайтесь, истина нередко скрывается в кажущейся нелепости. С того момента обсуждение стало напоминать поэтическое собрание: Овечка, Теленок, Ставящий-палки-в-колеса — нет, это слишком длинное наименование, — Отпадающий, Цветок лилии, Облако, Старый сук, Носовой платок — почему носовой платок? потому что ими будут махать, когда составы тронутся! — Турист, Простофиля, Ангел, Шприц…
— Шприц, — уточнил Фавро, — потому что именно таким образом их… ну, вы понимаете, да я вам говорю об этом просто так…
Это было мелковато. Устав от споров, ГПН остановилась на Кандидате. Кандидат на небеса, естественно, но просто Кандидат звучит неплохо, не так сильно, как, скажем, Доброволец, но имеет свои положительные стороны. В конце концов, они голосовали, не правда ли, может быть, не «за», но их друзья, их родственники все решили за них и назначили их добровольцами. Короче, Кандидатами.
Помимо Бофора и Бертоно — они сразу же предупредили, что появляться будут эпизодически, поскольку у них работы хватало и без того, — в комиссию вошли Тексье со своей бороденкой и серьгой, Бужон со своей плотоядной улыбкой, Брижит Лаверно как представительница слабого пола, Франсуаза Браше для обеспечения постоянной связи с общественностью. А также навязанный Бофором некий Пьер Фавро со своими усами, столь же обнадеживающими, как и его службы: разведка, крупный бандитизм, специальная группа в Матиньонском дворце, короче говоря, человек, который прекрасно знает Францию.
Перед тем как перейти к самой работе, Кузен Макс позволил себе вкратце изложить свои соображения относительно самой сути их занятий. Вначале он постарался снять налет драматизма с их задачи. Не чистки, не геноцид, они отнюдь не возвращаются к самым мрачным временам двадцатого века. Им предстоит просто определить условия расцвета нового общества. Но в этой работе им придется столкнуться с первым вопросом: поведение стариков перед лицом смерти. Он уже интересовался этим вопросом, советовался со многими специалистами:
— Полагаю, что мы можем обрисовать основные контуры подсознания Кандидатов. Впрочем, нам на это наплевать. Нас интересует только их реакция, их поведение в такой ситуации. Это очень подробно описала социолог Анита Заллаг в своей последней работе: речь идет о животной реакции, особенно когда мы имеем дело с группой, а не с отдельным индивидом. Не будем забывать того, что человек — это прежде всего животное. Когда какое-нибудь экстраординарное событие заставляет его терять контроль над собой, приводит в паническое состояние, если так можно выразиться, его мозговой аппарат, тогда проявляется его животное начало. Паника, боль, удовольствие и так далее чаще всего отключают его «человеческие» реакции и поведение. Мы так ничтожны.
— Не все так просто, — поправила его Брижит Лаверно, — поскольку…
— Да, да, бывают исключения… Но не будем отвлекаться, у нас еще будет приятный повод вернуться к этой теме.
Кузен Макс, как он признался мне вечером того же дня, пустился в рассуждения, направленность которых в ходе его выступления стала казаться ему все более и более сомнительной. С одной стороны, ему казалось более удобным и более простым иметь дело с организацией конвоев Кандидатов-быков, чем конвоев Кандидатов-людей.
Успокоенная явной покорностью Кандидатов, ГПН посвятила свои первые заседания определению круга проблем и разработке календарного плана. Кузен Макс каждый вечер приходил ко мне все более подавленным. Они никогда не добьются результата! Что касалось его лично, он задавался вопросом, не лучше ли ему было уехать куда-нибудь на первом попавшемся автобусе.
— Посмотри сам, вот список вопросов, которые были поставлены сегодня. Только сегодня! Я сам тебе его прочту в произвольном порядке:
Уничтожение: как? где?
Учет опоздавших: как? по каким критериям? Опоздавшие — это все грязные старики, кто уже перешагнул порог семидесяти двух лет. Извини, я сказал «грязные старики», это просто вырвалось, но они причиняют мне столько хлопот, что я уже начинаю их ненавидеть. Детская реакция, но это пройдет. Скажем так: ликвидация запасов, если тебе это больше нравится. Понимаешь, тех, кому за семьдесят два, у нас восемь миллионов. Как можно обработать по двадцать тысяч в день? Это невозможно.
— Начни постепенно, по возрастам, сначала девяностолетние, потом восьмидесятилетние. И все будут довольны…
— Мы думали об этом, полагаю, выбора у нас нет. Вопрос в том, что это нужно делать срочно. Для налаживания хорошей организации дела нам потребуется два года. А это совсем немного. Люди проголосовали, они хотят принятия конкретных шагов. Чем дольше мы будем затягивать, тем труднее будет решать проблемы. Продолжаю перечислять вопросы: что будем делать с иностранцами? С лицами с двойным гражданством? С иммигрантами? С французами, проживающими за рубежом? Со смешанными браками? К счастью, нам не приходится заниматься юридической стороной вопросов, связанных с наследством, передачей прав, выходом на пенсию. Это Бофор поручил своему коллеге из Министерства по социальным вопросам. Наша задача ограничивается тем, чтобы собрать Кандидатов и отправить их в порт назначения, то есть в «Центры перехода». Остальное нас не касается. Но для этого все-таки нам придется плотно поработать. Закрывать границы бесполезно, всегда найдутся ловкачи, которые сумеют пройти сквозь сито. Хорошо. Чем же тогда запугать этих ловкачей? Конфискацией их имущества и счетов? Санкциями против их родственников? Разрушением домов, где проживают их близкие? Результат этого мы уже видели в Палестине! Можно предположить, что им будет совершенно наплевать на свои семьи. Что тогда? Нет, клянусь, эта задача похожа на бездонный колодец. И при этом надо все сделать быстро! Бофор каждую неделю подстегивает меня… Ага, вот и информационный выпуск. У меня даже не было времени его посмотреть.
В средствах массовой информации то, что оппозиционная пресса упорно называла конечным решением, всегда давало хорошие сборы. Однако — и Кузен Макс вскоре мне об этом сказал — в комментариях журналистов, в высказываниях людей уже больше не ощущалось напряжения первых дней. Кузен Макс был прав, люди свыклись, позволили себя приручить.
Телезрители ловили себя на том, что смеялись над стариком, который утром явился к деревенской мэрии с чемоданом в руках. Красивый, как цветок, в своем воскресном костюме, он объяснил, что ему только что исполнилось семьдесят два года и, следовательно, он готов послужить родине. Он никак не мог понять, что не все так скоро и так просто и что ему придется какое-то время подождать. Вовсе не обрадовавшись неожиданно предоставленной ему отсрочкой, он продолжал настаивать: он уже принял все необходимые меры, сжег свои бумаги, раздал мебель, продал дом, а перед его носом захлопнули дверь! Не надо его считать идиотом! Хотите, чтобы он поджег себя прямо на этом месте перед мэрией? Для подтверждения своей решимости он достал из кармана зажигалку и яростно высек искру. Не хватало лишь бензина. Прибежал запыхавшийся, срочно вызванный на помощь мэр. Он уже на бегу представил себе, что его коммуна войдет в историю в качестве места первого самосожжения семидесятилетнего старика. Только этого ему не хватало за двенадцать месяцев до муниципальных выборов! После напряженных переговоров Кандидат, настоящий кандидат, согласился подождать. Его пообещали разместить в доме отдыха для богатых, где он будет жить бесплатно, ему там будет очень удобно, он и не заметит, как пролетит время.
— А смогу ли я там курить?
Конечно, он сможет там курить, даже трубку. И ему будут бесплатно поставлять сигары. Сигары, правда? Дедок ушел очень довольный тем, что под рукой не оказалось канистры с бензином.
Самые яркие примеры, как и всегда, приходили с юга Франции. Так, мэр деревни Ло принял у себя некую молодую женщину, которой еще не исполнилось и шестидесяти трех лет. Ее муж был внесен в черный список, но она не могла допустить, чтобы он ушел без нее. Нет, это не он потребовал, он пытался ее отговорить, но делать нечего, она не уступит, она всю жизнь с ним прожила, она и умрет вместе с ним. Сможет ли господин мэр пойти ей навстречу? А поскольку дело повернулось именно так, не может ли она передать оставшиеся у нее двенадцать лет своей старшей сестре, которая в свои семьдесят три года находится в отличной форме и с удовольствием проживет еще и подаренные годы? Журнал «Пари-матч» посвятил этой паре свою первую страницу: нежный поцелуй и подпись «Я хочу умереть в его объятиях», чем заставил пролить не одну слезу в хижинах. И вызвал не одну ссору в тех семьях, где мужья, которые были старше жен и приговорены к ликвидации в самое ближайшее время, недобрым взглядом смотрели на своих спутниц жизни, со скрытой радостью готовившихся зажить новой жизнью.
— Могла бы и сказать, что готова последовать за мной! Хотя бы из вежливости!
После развлекательных пауз из таких случаев телеканал возвращался к серьезным вопросам с неизбежным участием многочисленных экспертов, консультантов и политических деятелей. Сегодня вечером некий специалист по вопросам стратегии бог весть чего рассмешил Кузена Макса утверждением, что эти меры начнут применяться не раньше чем через пять лет, поскольку у людей пока нет понимания того, с какими трудностями придется столкнуться. Давайте возьмем самый простой пример: мы должны снять фартук — дикий хохот — в семьдесят два года, а женщины в семьдесят пять лет. Эти семьдесят два года, они исчисляются как календарные или только после дня рождения? Вопрос не такой уж невинный, если взглянуть на него с точки зрения организации. И такой же непростой с точки зрения равенства — в зависимости от даты рождения одни смогут прожить на несколько недель или месяцев больше, чем другие.
После него выступил один депутат-неокоммунист, на чьи затруднения было жалко смотреть. Провал забастовок в государственном секторе экономики, к которым призывала оппозиция? Он попытался замять этот вопрос, рассказать о том, о сем. Все знали, что в своем большинстве трудящиеся проголосовали «за», и, следовательно, им не было никакого резона отвечать на призывы пожилых политиков. То, что трудящихся интересовало, и ради чего они готовы были выходить на улицы (тут депутат снова закусил удила), так это выход на пенсию в возрасте пятидесяти пяти лет и создание рабочих мест для молодежи. Все остальное относится к области литературы. Надо правильно понимать его слова, он по-прежнему солидарен с людьми третьего возраста, но в качестве народного избранника как он может не соглашаться с результатами демократического голосования? И он замолчал, понимая, что выступление не было блестящим, задумавшись о том, как на это отреагируют товарищи по партии, споры с которыми принимали очень ожесточенный характер. По крайней мере, они не смогут упрекнуть его в косноязычии: разве он не высказался откровенно, не сказал, что французы — дураки, по крайней мере 57 % из них, что они получили то, что заслужили, что демократия ему обрыдла, что — как это ни печально признавать — даже во времена правления маленького отца народов такого случиться просто не могло бы? Что бы кто ни говорил, но в стране, где нет настоящей власти, вождя, который указывает путь, каждый думает только о себе, а до других ему нет дела. Солидарность, альтруизм, что все это значит? Да, когда депутат покидал съемочную площадку, на лице у него была горькая усмешка. Его тут же сменил известный журналист из редакции «Нувель обсерватер».
Менее едкий, чем обычно, он был явно утомлен борьбой, которую он на протяжении десятилетий вел против крайне правых. Когда ведущий телепередачи спросил его, как он пережил свое поражение, журналист ощетинился:
— Поражение? Какое поражение? Вы говорите о референдуме, в ходе которого большинство наших сограждан, введенных в заблуждение подтасованными цифрами и демагогическими обещаниями, не видели ничего дальше своего носа? Это не мое поражение, это — поражение страны, прав человека.
Он еще некоторое время продолжал в том же духе, но ему не хватало огня, юмора, за который его так ценили читатели. На вопрос журналиста относительно состояния его здоровья он признался, что рак сильно подточил его силы, но вообще-то он очень на него рассчитывает, надеясь избежать унижения публичной казни. Молчание в зале.
Единственными серьезными противниками, как сказал Кузен Макс, являются старики, чью объективность, следовательно, можно поставить под сомнение. Увидишь, на сцене будет мало молодежи. Могу понять отчаяние таких людей, как этот. Всю свою жизнь они посвятили благородному делу. А в тот день, когда им грозит опасность, рядом нет никого. Странная страна. Странная цивилизация.
Новости дня сообщали о необычном оживлении на границах: ага, крысы бегут с корабля, Кузен Макс заерзал на стуле. Бегство капиталов: ага, сволочи, они не меняются, чем больше они имеют, тем крепче за это держатся. Рост численности НПФ: ах, дураки, они думают, что членская карточка их спасет. Слухи из надежных источников: правительство, возможно, смягчит строгость мер. Говорят о семидесяти трех, а то и о семидесяти четырех годах для мужчин и о семидесяти шести — семидесяти семи годах для женщин.
— Отлично сыграно, Браше. Именно она посоветовала применить политику кнута и пряника. После удара кувалдой на референдуме надо дать простому люду надежду на смягчение его участи. Надежда заставит спрятать когти.
19
Итак, теперь мы переходим к жестким мерам. Завтра «Журналь офисьель» опубликует правила применения меры. Услышишь, какой поднимется крик!
Выполняя поручение Бофора, ГПН работала быстро и хорошо. Браво и спасибо. За ее здоровье. За год с небольшим члены комитета смогли договориться по определенному кругу предложений и по календарному графику, что дало новое дыхание средствам массовой информации.
Начало применения закона дало наконец разъяснения, которых так ждали одни и так боялись другие.
I — Дата вступления в силу: 1 февраля 2017 года
1. Экстренный порядок сессий Кандидаты от 90 лет и старше: с 01.01 по 20.04.2017 г.
Кандидаты от 80 лет и старше: с 01.05 по 31.12.2017 г.
Кандидаты от 76 лет и старше: с 01.01 по 31.10.2018 г.
Кандидаты от 72 лет и старше: с 01.11 по 31.12.2019 г.
2. Обычный порядок
Начиная с 01.01.2020 г. мера будет касаться Кандидатов мужского пола, возраста полных 72 лет, и Кандидаток женского пола, возраста полных 75 лет.
3. Частота сессий
Сессии будут проводиться ежемесячно или ежеквартально. Решение об их проведении принимается префектом.
II — Условия применения
Сессии будут проводиться в специально для этого создаваемых «Центрах перехода». «Центры перехода» будут организованы на уровне департаментов или регионов.
III — Особые случаи
Выходцы из иностранных государств должны будут покинуть территорию Франции по достижении 72 лет (75 лет для женщин).
Обладатели двойного гражданства подчиняются законам, действующим на территории страны основного гражданства.
Проживающие за границей французские граждане должны будут вернуться во Францию.
Указанные меры не касаются служащих Римско-католической церкви.
Кузен Макс ошибся: криков не было. Стоял сплошной ужасный рев. Каждый стал стараться сказать свое слово, внести свой комментарий или поправку в текст закона, в котором нашлось много слабых мест. Вся Франция углубилась в лихорадочный анализ мер, прочтение которых заставляло возопить:
— Как же так, если я правильно понимаю, дядя Робер в свои семьдесят пять лет умрет, скажем, в 2019 году, а дедушка Тьерри, которому уже девяносто два, умрет раньше него всего на полтора года! Это немыслимо! У них была разница в семнадцать лет на старте, а на финише она будет менее восемнадцати месяцев! Вот уж не повезло дяде Роберу!
— А твой отец умрет в один год с моим, хотя твой старше моего на четыре года! Это, по-твоему, нормально?
Несправедливость могла породить волнение толпы, чего так опасался Кузен Макс. Потому что несправедливость была налицо. Ограниченные во времени, понимая, что в любом случае удовлетворить всех будет невозможно, члены ГПН ускорили события. Чем раньше все войдет в нормальный ритм семидесяти двух лет, тем будет лучше. А пока надо было держаться.
Но возмущение, вызванное этим несправедливым законопроектом, проявилось не сразу: с одной стороны, в конце марта дул холодный ветер, и старикам не очень хотелось выходить из дома. Они дорожили своим здоровьем, сегодня больше, чем когда-либо. На маршах протеста, к которым призывали их здравомыслящие ассоциации, можно было подхватить заразу. С другой стороны, в их рядах царил разброд. Тем, кому было больше девяноста лет, жаловаться не приходилось, и поэтому протестовать они не собирались. Тем, кому было за восемьдесят, взвешивали за и против: хорошо, по отношению к девяностолетним они проигрывали, но в сравнении с теми, кому больше семидесяти шести лет, они были в явном выигрыше. Лица в возрасте от семидесяти шести и выше также придерживались этого мнения и не завидовали судьбе тех, кому было больше семидесяти двух. А те, всеми покинутые, предпочли сидеть в тепле.
Тем более что в их возрасте они уже смогли накопить богатый жизненный опыт и не питали никаких иллюзий насчет солидарности с ними более молодых. В других обстоятельствах, возможно, поколения смогли бы объединить свои силы. Но пятидесяти- и шестидесятилетние задавали себе совсем другой вопрос: что ждало их в этих «Центрах перехода», о которых они, естественно, были наслышаны, поскольку газеты провели достаточно глубокие расследования по поводу этих новеньких зданий, которые росли как грибы после дождя по всей территории Франции? Да, смерть, это они знали. Но какая? «Журналь офисьель» ничего об этом не сообщал, представитель правительства намекнул на то, что каждый регион был волен выбирать вид умерщвления по своему усмотрению.
И потом, как водится, неясность дала разгуляться игре воображения, и за стойками баров обсуждали самые невероятные слухи. Некто, чья сестра знакома с племянником префекта департамента Изер, заверял шепотом, что в департаменте Рона-Альпы это будет повешение. А другой намекал на то, что в южном регионе выбор был уже сделан: эшафот. Эшафот!
Ревностно отнесшийся к успеху угольного региона Штими и к его заброшенным шахтным колодцам, в которые планировалось сбросить старых горняков, один хорошо информированный житель района Ланд поклялся нам, что в Аквитании, где большие площади поросли лесом, старикам предоставят шанс спастись и для этого их отпустят в леса, а потом будут охотиться на них с собаками. В это уж совсем никто не поверил, но бездельникам из бара такой вариант очень понравился. В час аперитива, разогретые двумя-тремя порциями анисовки, они взяли в привычку при виде какого-нибудь семенящего по тротуару старика становиться на пороге и, держа в руках воображаемое ружье, расстреливать несчастного: пум, пум!
Подталкиваемая в спину официальной информацией, главной целью которой, казалось, был конфликт поколений, погрязшая в тошнотворных шутках, потеряв, возможно, всякое чувство меры перед лицом вездесущей Смерти, Франция вошла в мрачный период своей истории.
20
Однако с первой отправкой все получилось хорошо. Я помню все, словно это было только вчера. Кузен Макс настоял на том, чтобы я поехал с ним. Он поехал инкогнито, а меня журналисты не знали. Это происходило 8 января 2017 года до полудня. Было прохладно, но небо было ясным. Мы стояли перед мэрией небольшого населенного пункта под названием Марсельян в провинции Лангедок.
Площадь была черной от народа. Пресса, радио, телевидение, артисты, представители местных или центральных органов всех политических партий, активисты ассоциаций «за» и «против», простые зеваки — никто не отказался от приглашения. Присутствовал, разумеется, и Муниципальный совет в полном составе, все празднично одетые. Мэрия была украшена трехцветными флагами, что придавало событию особую торжественность, равно как и большой духовой оркестр.
Мэр городка по фамилии Жан-Люк Драпо с большим трудом заставил оркестр умолкнуть. «Самбр и Мез»[8], это будет позже. Ему было что сказать. И он это сказал, хотя несколько смущался в присутствии кинокамер. Никогда он не видел стариков вблизи, впрочем, нет, вблизи он их видел, но никогда не обращал на них внимания. Сегодня все они уставились на него своими округлившимися глазами, и он, если честно, был несколько смущен: он не знал, следовало ли ему выдержать этот отсутствующий взгляд, то есть продолжать улыбаться. Но в этом случае он терял нить своей речи, а палец, которым он отмечал каждый абзац, слегка съезжал и вынуждал его делать паузы, а его облегченные восклицания — «ах, вот!» — только подчеркивали смущение. А в конце — ладно, тем хуже для кинокамер, не время для кокетства — он одним махом закончил свое выступление и, наслаждаясь аплодисментами, немного сожалел о том, что слышен был и свист сторонников интеграции из толпы.
Дальнейшее развитие церемонии сильно озадачило нас с Кузеном Максом. Мы ожидали, что все пройдет скромно и быстро, но Муниципальный совет решил устроить некое подобие народного гулянья. Главное должностное лицо вновь взял слово, но не стоит волноваться, он будет немногословен. Он пожелал напомнить присутствующим, чем мы обязаны нашим старикам, а потому беспокоиться не о чем, поскольку мы всегда будем стараться устроить героям дня такие проводы, которые они заслужили.
Сказав это, он вынул из кармана листок бумаги и аккуратно его расправил. Взглянул в камеру, прокашлялся.
— Приглашаю на трибуну… Валле Марсель…
Барабанная дробь, да! барабанная дробь, как в цирке, и из толпы вышел низкий бодренький старичок. Он без посторонней помощи взошел на три ступеньки и встал рядом с мэром. Руки его болтались, вида он был глуповатого и неестественного. Появление предка на трибуне было встречено бурными аплодисментами. Он продемонстрировал зубы, затем отвернулся к одному из своих приятелей, который его окликнул.
Выступающий продолжил перекличку. Шестеро учеников выкрикнули, что они на месте, и поднялись на трибуну, хотя одна немощная старуха доставила охране порядка массу забот, когда пришлось втаскивать на эстраду ее вместе с креслом. Получив от всех присутствующих свою порцию оваций, вполне заслуженных, старая гвардия — какой день! — мелкими шажками направилась в зал приемов мэрии, где им предложили выпить по-дружески со специально отобранными лицами.
За несколько минут до этого, глядя, как они стояли, выстроившись в шеренгу на эстраде, я подумал, что сейчас им завяжут глаза и поставят к стенке. Эффективность прежде всего. Но нет, их пригласили выпить в честь их же. И политики вознамерились сказать им несколько ласковых слов. Потом наступило время отправляться в путь. Прекрасный белоснежный автобус с ярко-голубой полосой посредине стал выруливать, осуществляя маневры, которые угрожали жизням людей в толпе. Вскоре Марсель Валле со своими приятелями и приятельницами из кантона Марсельян вышли из здания мэрии. Восторг толпы был настолько сильным, что жандармам с трудом удалось проложить старикам проход к автобусу. Оркестр надрывался, какая-то активистка из ассоциации «Оставьте их в живых» отважно распростерлась на асфальте перед автобусом, но ее бесцеремонно оттащили в сторону. Болельщики размахивали знаменами, на ветвях деревьев раскачивались гирлянды, северный ветер развевал волосы, дети плакали и звали бабушку. Сосед Марселя, находясь, вероятно, под воздействием лишней рюмки кира и потрясенный такими почестями, показал V — знак победы, крики «ура» разносились с удвоенной силой. Перед тем как закрылись дверцы катафалка, папаша Валле на всякий случай затянул «Марсельезу», которую подхватил хор из сотен глоток.
Журналисты бросились к своим мотоциклам. Им было не до песен, автобусу еще предстояло сделать несколько остановок перед тем, как доставить свою добычу в Монпелье, в региональный «Центр перехода». Эти стервятники еще не знали, что все подъезды к «Центру перехода» были перекрыты силами правопорядка. Министерство внутренних дел отдало распоряжение: все могут принять участие в сборе приговоренных, но никто, даже близкие родственники не могут быть допущены к финальной церемонии. Семьи, если пожелают, могут приехать забрать тела или пепел — по выбору, услуга была бесплатной — на следующий день.
— Что будем делать? Поедем вслед за автобусом?
Нет, с Кузена Макса на сегодня было достаточно. Финальная церемония его не прельщала.
— Предпочитаю подождать, пока все не встанет на свои места. Вначале неизбежны ошибки, некоторые шероховатости, не хочу при этом присутствовать. В любом случае, у меня будут подробные отчеты. Что ты думаешь об этой премьере?
— Любопытно… У меня было впечатление, что все шло, как по лезвию бритвы. Любой инцидент — и это могло перерасти в восстание. Мэр играл с огнем, не правда ли?
— Его можно понять, не так уж часто ему выпадает случай выступить перед всей Францией… Но когда я увидел, как они показывают V и поют «Марсельезу»… Человеческая натура не перестает меня удивлять… И толпа, которая запела хором! Сегодня все прошло хорошо, но я не витаю в облаках. Сколько времени понадобится, чтобы выйти на ожидаемую мною крейсерскую скорость, чтобы эта операция стала в один прекрасный день повседневной рутиной? Двадцать лет? Да целое поколение… А пока, увидишь сам, времени скучать у нас не будет…
Кузен Макс как в воду глядел. Не везде девяностолетние оказались столь же покладистыми, как в Марсельяне. То тут, то там было отмечено несколько инцидентов — о, очень быстро замятых, — у стариков не хватало сил, чтобы противостоять силам порядка.
Увы, средства массовой информации сделали свое дело. Прикрываясь правом граждан на получение информации, они рассказывали о нежелании сотрудничать с властями непокорных седовласых людей. Полиция поймала двоих из них в аэропорту Руасси, еще четверых на испанской границе. Правительственная пресса стала метать раскаленные ядра в уклонистов, критиковать эгоизм поколений, которые упорствовали в своем отказе дать дорогу молодым. Газета «День» призвала встряхнуться все живые силы страны, всех тех, кто по праву верил в расцвет обновленной Франции: эта Франция должна мобилизоваться, оказать поддержку правительству. Все на манифестацию 24!
Плохо проинформированный, Бофор не воспринял этот призыв всерьез, он забыл, как просто было манипулировать безработными, бездельниками и просто озлобленными людьми. Не веря в то, что древние демоны победят, он с глубоким знанием дела благосклонно отнесся к этому разгулу страстей, с которыми всегда умел играть и направлять их в нужное русло.
Как и ожидалось, в этой манифестации на площади Республики приняли участие десятки тысяч молодых и менее молодых, но не старики, которые по возможности были оттеснены фалангами Бужона и по возможности взяты под контроль полиции. Вначале все шло хорошо, плакаты и лозунги ограничивались требованиями строго соблюдать закон. Можно было прочесть и услышать «Будущее принадлежит молодежи», «Выход на пенсию в пятьдесят пять лет», «Миллиарды на занятость». Все шло как нельзя лучше. До того момента, когда, как обычно, подстрекатели не принялись сеять смуту. Начали они с того, что бросили кличи сомнительного свойства: «Молодых в кресла, стариков в гробы», «Семидесяти-, восьмидесятилетние, народ вас достанет». Чем глупее это звучало, тем больше нравилось манифестантам. Вскоре кавычки исчезли.
От слов до глупостей всего один шаг. И этот шаг сделали банды мерзавцев, как всегда прикрывшихся масками или мотоциклетными шлемами. Разбитые витрины, подожженные машины, а главное, охота на стариков. Но, с другой стороны, какой демон толкнул этих стариков явиться и поддержать манифестацию 24? Они ведь должны были догадаться, что манифестация 24 ничего общего не имела с манифестацией 12, о которой они с нежностью вспоминали. Присутствие среди зрителей этих нескольких не оценивших ситуацию стариков могло быть расценено как провокация. Больше ничего и не надо было для того, чтобы хулиганы утратили самоконтроль. В молодых людях, объединившихся в банды, волчье нутро прорезается очень быстро, а насилие является основным его выражением.
Заслуживающие доверия источники и свидетели рассказали о сценах насилия, от жестокости которых по спине пробегали мурашки. Одному старику приставили нож к горлу и заставили его проглотить два гамбургера и один чизбургер вместе с пакетом. И даже не дали запить это все кока-колой. Какую-то старушку силой затащили в бутик прет-а-порте, откуда эта несчастная вышла в мини-юбке, в модной куртке, без бюстгальтера и еле держалась на ногах в туфлях последнего крика моды с компенсирующей подошвой. По самые уши на ее голову нахлобучили бейсболку. Козырьком назад.
А плевки, а пощечины? К счастью, шествие не проследовало вдоль Сены, сердце замирало от мысли, что там могло бы произойти!
Когда появилась полиция, вандалы предпочли скрыться. Силы правопорядка ограничились тем, что составили список разбитых витрин и раненых, которых службы «скорой помощи» еще не увезли в больницу.
— Слава Богу, что никого не убили!
Бофор умел принимать быстрые решения. Силам правопорядка удалось задержать трех или четырех громил, среди которых был один алжирец. Это было очень кстати, поскольку недавно полицейские, которые грубо обошлись с несколькими престарелыми выходцами из Северной Африки, виновными лишь в том, что вышли подышать свежим воздухом в скверик, — вызвали возмущение общественного мнения. Правительство не имело права допускать такие промахи. И поспешило наказать виновных: всем дали по три месяца тюрьмы, а алжирца приговорили к году заключения. И объявили об этом во всеуслышание. При этом торжественно заявили, что впредь такие манифестации будут запрещены. И все отмылись от этой истории.
Однако на небосклоне этой новой «Кристальной ночи», как ее окрестил заголовок газеты «Монд», появилось облако со зловонным запахом, из тени которого, как тараканы из щелей, повылезали страдальцы по чистой родине и принялись вовсю болтать о своих привычках. До них наконец-то дошло значение референдума: новая Франция будет зачищенной и молодой. Для арабов и евреев зачистки были уже привычными. Но со стариками это случилось впервые. Вдобавок это шло вразрез с тем, на что их наставляли в учебных заведениях. Но хорошие ученики быстро усваивают новые уроки. В защиту их можно сказать, что сама обстановка благоприятствовала проявлению избытка чувств. Царившая в стране после референдума напряженность, руководимая Браше рекламная кампания, эти старики, дрожащие над своими деньгами, на все готовые со своими щербатыми ухмылками, — все это создавало пригодную для проявления жестокости атмосферу.
В то время Кузен Макс это приветствовал, а теперь он понял опасность настроений второго уровня: чувство безнаказанности, которое породили первые конвои приговоренных к смерти, задержка с принятием обещанных мер по созданию новых рабочих мест — все это способствовало возникновению эксцессов.
По улицам в поисках несчастных, которых следовало бы наказать, шныряли отряды так называемых поборников справедливости. Выкрикивающие оскорбления, размахивающие бейсбольными битами, муляжами, изображая русскую рулетку, эти молодчики вызывали только отвращение. А что полиция? Она опять-таки действовала твердо, но с некоторой задержкой. Можно было подумать, что она это делала нарочно, что все объединились для того, чтобы терроризировать старых людей, давая им понять, что им лучше было бы поскорее умереть.
Бедные старики поняли, что старость полна не только преимуществами. Они поняли — какой жестокий поворот событий для некоторых ветеранов движения крайне правых! — постыдную реальность преступлений против личности. Самым простым решением было решение не выходить из дома. Но ведь надо было есть, выгуливать собак, навещать друзей. И они рисковали, появляясь на улице с видом загнанных ланей, многие из них стали накладывать на лица обильный макияж, чтобы выглядеть моложе своих лет. Те, кому было менее семидесяти двух лет, сжимали в руках спасительные удостоверения личности, а те, кто был старше, расправляли плечи, что, принимая во внимание их возраст и страх, было для них очень неестественно.
На дверях многих бистро, этих гнезд для бездельников, появились таблички с отвратительными образчиками черного юмора: «Нашим трехлапым друзьям вход сюда запрещен». Эта капля переполнила чашу терпения. Началась всеобщая мобилизация ассоциаций против расизма, Лиги защиты прав человека для того, чтобы осудить, наконец, и принять надлежащие меры против этого постыдного унижения человеческого достоинства.
Ситуация осложнялась, Бофор больше не мог сидеть сложа руки. Скрепя сердце — это напоминает мне добрые старые времена — он принял напрашивающиеся решения: полиции — усилить патрулирование, а главное — приказ всем отделениям фалангистов проявлять поменьше рвения. Через нескольких месяцев люди успокоились. Мало-помалу страна вылезла из этой трясины и снова стала испытывать наслаждение своей легендарной сладкой жизнью. Старички снова могли, прислонив свои палочки к стойкам баров, заказать бокал розового вина. Их старшие собратья — пристыженные своими семьями, не желавшими лишних сплетен и новых провокаций возмущения, — садились в белые автобусы с голубой полосой без особого принуждения.
Приближался 2020 год, поколение женщин 1945 года рождения и мужчин 1948 года готовились встретить дату, без которой они с удовольствием бы обошлись, и вспоминали павших друзей. Казалось, все шло как по маслу. И тут случилась новая волна насилия, заставшая врасплох как ГПН, так и самых опытных геронтологов.
Относительная послушность восьмидесяти- и девяностолетних явно усыпила бдительность Кузена Макса и его коллег. Конечно, разрываясь между вопросами организации сборов, строительства и ввода в эксплуатацию «Центров перехода», непроницаемости границ и многими другими, он не мог предусмотреть все. И поэтому они упустили из виду один из главных факторов применения проекта «Семьдесят два»: ведь семьдесят два года это в конечном счете еще достаточно молодой возраст. В семьдесят два года человек может еще быть в хорошей физической форме, быть полным желаний и планов. Находящийся в хорошей форме и преисполненный желаний семидесятилетний человек, которому нечего терять, — поскольку он знает, что через пару-тройку месяцев его ждет укол, — может стать опасным индивидом.
Газета «Фигаро» стала первой, кто сообщил о случае ограбления банка в городе Морбиан. У грабителя, по всей видимости, поехала крыша или он нажал не на ту педаль, когда хотел ураганом умчаться с места преступления с награбленным. Но его развалюха врезалась в стену соседней аптеки, и жандармам удалось без труда задержать этого неуклюжего злоумышленника. Вроде бы ничего особенного. Но дело приняло совсем другой оборот, когда стало известно, что грабитель был в возрасте семидесяти одного года и десяти месяцев и что деньги ему были нужны для того, чтобы «совершить последнее безумство». И что при любом исходе ему было наплевать на то, что его посадят в тюрьму на два месяца, поскольку в апреле его все равно должны были ликвидировать.
Не прошло и двух недель, как трое молодых семидесятилетних стариков забаррикадировались с заложником в одной их шикарных кондитерских. Пресса описывала это в мельчайших подробностях. Глядя на пьяные рожи этих негодяев, легко было представить себе, какую жизнь они вели в течение последних сорока восьми часов! Самым печальным в этой достойной сожаления истории была, несомненно, реакция этой троицы:
— Мы здорово повеселились, теперь и умереть можно! А что?
На следующий день в Сент-Этьене некая бабуля почти семидесяти двух лет решила погулять по-княжески: ловко стянув роскошное колье в ювелирном магазине, — я и подумать не мог, представляете, бабушка, никогда бы не поверил, признавался коммерсант, — она отправилась в лучший в городе ресторан, потом покинула его, не заплатив, и проникла в один ночной клуб, где и была арестована полицией в тот момент, когда требовала подать ей вторую бутылку шампанского.
Устроенная в прессе шумиха по поводу этих преступлений послужила рекламой, и мы стали свидетелями эффекта снежной лавины, то есть резкого увеличения случаев отъема денег. Тут в драке между стариками погибли двое, там гонка на угнанных шикарных машинах закончилась бедой, в другом месте какие-то гарпии ограбили парфюмерный магазин. Было еще несколько случаев и похуже, но власти постарались, чтобы из этого не делали шума: убийства, самоубийства, сведение счетов в явно благополучных семьях. Ходило множество слухов, но никто не знал, стоило ли им верить. Средства массовой информации посвящали репортажи на тему «отчаяния последнего часа».
Бофор собрал антикризисную группу. Впервые в своей карьере Кузен Макс оказался в роли обвиняемого.
— Что я намерен предпринять, господин министр? Ничего! Абсолютно ничего! Ждать, когда это пройдет. Мы ведь не можем запереть дома всех стариков! Я полагаю, что единственными мерами в данной ситуации могут стать давление на семьи путем конфискации наследства сразу же после констатации преступления, отправление виновных с первыми же конвоями, не дожидаясь положенного срока. Надо подождать, пока все это уляжется, потому что я уверен, что это все — преходящая реакция. Возраст несовместим с безумствами, надо подождать, пока мера станет привычкой.
— Хорошо, действуйте, но все под вашу личную ответственность, Майоль. Я не могу долго удерживать молодежь на привязи. Какая-то банда вооруженных до зубов стариков напала на подростков, так продолжаться больше не может. Может пролиться кровь. Мне гражданская война не нужна!
— Не беспокойтесь, господин министр, ее не будет.
Действительно, так же, как утихли волнения после манифестации 24-го, постепенно в стране восстановилось спокойствие. Да, кое-где еще случались вспышки, то там, то здесь какой-нибудь семидесятилетний старик что-то да вытворял, но, благодаря придуманному Франсуазой Браше наступлению по всем направлениям, ГПН смогла снова взять ситуацию под свой контроль. В газетах добрые люди плакались: из-за безумства дедушки они лишились наследства. По телевидению один старый воришка горько сожалел о своем поступке: из-за этого завтра ему придется сесть в автобус на три месяца раньше положенного срока. Он так был зол на себя, так зол!
И также много других поучительных примеров, результаты которых не заставили себя ждать: приговоренные к смерти перестали взбрыкивать. Если не считать наличия неизбежных отчаянных голов, — но полиция следила за холостяками, которые были более других подвержены отчаянию и приступам безумия, — семидесятилетние явно производили впечатление людей, делавших хорошую мину при плохой игре.
— И все равно, — прокомментировал это Кузен Макс, настроение которого становилось с каждым днем все мрачнее и мрачнее, он с каждым днем менялся на глазах, больше не смеялся, потерял свой задор, я его не узнавал, — все равно, людям перед смертью необходимо расслабиться. Этой темой ты мог бы заняться. А пока бросай свою телефонную контору, я могу предложить тебе нечто более интересное. И давай думать о том, что бы ты мог сделать для стариков и старух, которые хотят насладиться последним удовольствием перед смертью. Лет через пять-шесть на этом рынке будет настоящий бум.
Он задумчиво умолк, дно его чашки кофе явно не давало ему вдохновения.
— И все-таки восемь миллионов менее чем за четыре года — это безумие!
21
Члены ГПН обернулись к Фавро.
— Плохи дела!
Полицейский явно не спешил высыпать на стол свой мешок плохих новостей.
— С чего начать? С забастовок? Я вам уже говорил о требованиях служащих «Центра перехода» в Сержи. Эти подлецы привели свою угрозу в исполнение. В результате три автобуса были отправлены туда, а оттуда вернулись вместе с грузом. Сто сорок восемь Кандидатов! Самое смешное, если можно так выразиться, заключается в том, что Кандидаты не были этим довольны, они возмущались тем, что зря приехали! Что-то сюрреалистичное. Директору «Центра перехода» удалось их успокоить, он уговорил их потерпеть и пообещал все устроить наилучшим образом в течение сорока восьми часов. Наилучшим образом! Пока переговоры зашли в тупик, но, по моему мнению, надо сбрасывать балласт: если эта процедура будет запятнана, нам придется хлебнуть горя.
— Поставьте себя на место Кандидатов, — справедливо подметил Тексье, — они долгие месяцы готовились к этому уходу, психологически созрели, они знают или думают, что их жертва послужит высшим интересам нации, возможно, интересам их семьи: возвращаться — это ужасно, они тут ни при чем, но выглядит все так, словно они передумали…
— Вы еще не знаете самого интересного во всем этом деле… — Бужон был, как всегда, эффектен. — Угадайте, кто должен был быть в составе этого конвоя? Гарсен! Ну да, наш премьер-министр, которому подошел срок по возрасту. В конце концов он решил, что немного погорячился в тот вечер во время известного спора с Вассеро — помните обещание отправиться в первой телеге? У него было время подумать. Убыть в положенное время он согласен, но умирать от излишнего рвения — это слишком, он не пожелал быть впереди Вассеро, который на десять лет его старше! Короче говоря, понимая, что это будет дурно истолковано средствами массовой информации, он решил, неизвестно почему, поехать неделей позже. Привилегия власть имущих! Кстати, вы в курсе про Бофора? Ничего не знаете? Говорю только вам: он сменит Гарсена! Да, Бофор станет премьер-министром. Прекрасная карьера, правда? Да, и относительно забастовок, они меня не очень беспокоят, надо оплатить им за сверхурочную работу, не надо экономить на спичках. Продолжайте, Фавро, думаю, что продолжение повеселит нас гораздо меньше…
— Действительно. Начнем с границ. Мы усилили кадровый состав пограничных постов, увеличили количество патрулей на уязвимых участках. Но это напрасный труд, все контролировать просто невозможно. Кроме того, сами понимаете, перевозчики хорошо организованы, у них есть сообщники по ту сторону границы. Расценки нам известны: Испания — сорок тысяч франков с человека, Италия — сорок тысяч, Швейцария — тридцать тысяч, Бельгия — тридцать тысяч, Германия, что любопытно, всего двадцать тысяч франков, можно подумать, что беглецы тянутся к солнцу. С наступлением первых холодов уже отмечены первые несчастные случаи. В Пиренеях три человека умерли от холода, в Альпах целая колонна попала под снежную лавину, включая проводника. Для перевозчиков наступили золотые дни, они не делают холостых переходов: туда везут стариков, обратно возвращаются с африканцами. Они обезумели от денег: на прошлой неделе они обстреляли патруль пограничников, а потом сбежали, бросив на произвол судьбы своих подопечных, двух женщин и четверых мужчин. Заметьте, все хорошо, что хорошо кончается: Кандидаты так настрадались от холода, так перепугались, что, когда попали в руки пограничников, поклялись, что сядут в автобус если не с энтузиазмом, то уж по крайней мере добровольно. Главное, чтобы там было отопление!
— Что же делать? Поскольку в этом замешаны деньги, можно ожидать всего чего угодно. Надо безжалостно разгромить сеть перевозчиков, прогнать их с границы. Все мы знаем, что борьба эта безнадежна. Разгромишь одну сеть, появится другая. Но для того, чтобы преуспеть, надо приложить старания, не так ли? Для таких Кандидатов следует принять те же меры, как в случае тяжкого преступления: санкции против их семей, отправка с первым же конвоем. Надо будет, чтобы мадам Браше сообщила об этом решении всем средствам массовой информации. Надо также будет воспользоваться юридическими пробелами закона, чтобы застолбить участок.
— Касаясь юридических пробелов, я хотел бы задать вопрос о покупке лет.
— Покупка лет?
— Вы ведь видели в газетах, Майоль, целые страницы, проплаченные АПП, Ассоциацией за право на продление. Это организация бизнесменов, рантье, лиц свободных профессий, короче, бедных там нет. Они предлагают выкупать у самых обездоленных несколько их лет. Таким образом, обездоленный уезжает, например, в возрасте шестидесяти пяти лет, но до этого безбедно живет за счет средств АПП. А счастливый приобретатель уезжает в возрасте семидесяти девяти лет, чуть менее богатым. Они сейчас лоббируют это в правительстве, и ходят слухи, что к ним уже прислушались некоторые министры.
— Что-то вроде продажи органов?
— Да, но сразу всех органов… Они прикрываются тем, что закон ущемляет их, обрекая всех на смерть в семьдесят два года: у богатых людей, как известно, продолжительность жизни больше, чем у бедных. И поэтому они предлагают исправить этот недостаток закона за свой счет. Они, кроме того, опираются на исключение, которое мы сделали для семейных пар.
— При чем тут это? Мы разрешаем жене уйти раньше срока для того, чтобы не разлучать с мужем, а не наоборот. Ее годы пропадают, и это едино для всех! Хорошо, я переговорю с Бофором, он сумеет наставить на путь истинный заблудших овечек.
Брижит Лаверно уже давно подняла палец:
— Хочу вернуться к вопросу о границах. Вероятно, его можно решить, но это решение может поднять волну протестов в плане права, а главное, этики… Кроме того, наука к этому еще не вполне готова. Но это вопрос времени. Речь идет о том, чтобы имплантировать в тело всех французов прибор обнаружения. Благодаря системе GPS, знаете, это такая спутниковая система, этот прибор позволит определить местонахождение каждого в любой момент. Для того чтобы избежать серьезных биоэтических проблем, достаточно будет применять эту меру только к мужчинам семидесяти двух лет и к женщинам семидесяти пяти лет. В США уже широко используется этот способ наблюдения за сельскохозяйственными животными: к ним прикрепляется электронный жучок размером с рисовое зернышко, вот и все.
— Правда, интересно… Но сначала надо будет уговорить на это подопытных кроликов, а это нелегко. Как бы там ни было, ваша мысль заслуживает того, чтобы к ней вернуться… Постарайтесь собрать побольше информации, и мы еще об этом поговорим… Определить местонахождение любого, в любое время, в любом месте… В любом. До дрожи пробирает… Есть еще что-нибудь, Фавро?
— Увы, да, я еще не закончил… — Как человек, старающийся произвести должный эффект, Фавро приберег самое лучшее напоследок: — Я должен обсудить проблему партизан…
Партизаны! Кузен Макс предпочел бы вернуться к забастовкам, к проницаемым границам, к уловкам богатеев. Партизаны-маки, они мешали работать государственной машине. Это явление появилось несколько месяцев тому назад и оставалось маргинальным. Но оно существовало и могло усилиться.
Зайца спугнула газета «Экспресс», посвятившая шесть полос партизанам третьего возраста. После забавного прохождения маршрута (повязка на глаза, связанные руки, снотворное на тот случай, когда других мер предосторожности недостаточно) репортер три дня прожил партизанской жизнью. Будучи не в состоянии указать раздраженным жандармам на карте район своего пребывания, он только сообщил, что этот район показался ему гористым. Но не очень.
Зато своим читателям он рассказал множество замечательных историй и представил много прекрасных фотографий. Народ дрался за эту газету. На первой странице были сняты восемнадцать партизан, гордо сидящих у костра, который напоминал давние походы с ночевками. Черные квадраты на лицах не позволяли узнать бойцов, но фотоснимки этого репортажа подтверждали, что они явно хорошо себя чувствовали и пребывали в прекрасном настроении.
Франция не могла не проникнуться симпатией к этому поселению, которое продолжало сопротивляться угнетателю. Во всем этом чувствовалось — и репортер не поскупился на дифирамбы — нечто от Астерикса или Версенжеторикса. Может быть — будущее покажет, — даже от Наполеона или от де Голля. Отряд действовал под руководством бывшего старшины пехоты. Он признался в том, что первые недели были очень тяжелыми. Сам он знал, каковы будут условия жизни и борьбы, но его соратники открыли для себя новый мир. Пришлось проявить огромное терпение и найти убедительные доводы, чтобы приучить семидесятитрехлетнего мужчину драить посуду железной мочалкой, втолковать его сестре, что теперь ее очередь идти за водой к ручью, который течет в трехстах метрах, заставить отставного банковского служащего пилить дрова. И дисциплина. Главное — дисциплина. Без железной дисциплины невозможно выжить во враждебном окружении.
Где брали продукты питания? Тут старшина стал менее разговорчивым. Много провизии они принесли с собой, а здесь посадили огород, расставляют силки, ну, и так далее. Больше ничего про это не сказал. Догадливый репортер сделал из этого вывод, что союзники должны были регулярно сбрасывать им продукты на парашютах.
Затем следовало описание сцен, одна другой живописнее: совместный прием пищи за низким, собственноручно сколоченным столом, выпечка хлеба в допотопной печи. Смех и веселье под баюканье раскачиваемых ветром ветвей деревьев. Послеобеденные занятия: охота и рыбалка для мужчин, сбор ягод и грибов и шитье для женщин. А потом был ужин при свете дрожащего пламени костра, эти воспоминания о былом, эта ностальгия, обостряемая звездами и шорохами ночного леса. Наконец, огонь гасится, тени уходят в свои убежища из брезентовых палаток, а перед этим воссылают последнюю молитву Создателю.
А что дальше? Старшина задумывается:
— Будет день — будет пища!
Очень хорошая статья, честное слово. Сюжет этот так всем понравился, что несколько месяцев подряд средства массовой информации только и говорили о партизанах. Бретонские партизаны, партизаны Бигурдана, Солоньо. И конечно же, самое главное, партизаны Веркора. Газета «Фигаро» шутливо повторяла, что история — это вечное повторение пройденного. На плато Веркор потомки павших в 1944 году бойцов провозгласили свободную республику. О, в ней было чуть больше сотни душ, но умиление, которое она вызывала, отзвуки, которые она находила в газетах, постоянно стремящихся найти новых сторонников, быстро вымотали нервы Бофору. Партизаны, пусть, но я не желаю слышать о героях, немедленно прекратите это, Майоль, не хочу больше об этом слышать.
Как бы там ни было, но по воскресеньям зеваки с фотоаппаратами на шее стали прочесывать деревни и леса. За хорошее фото партизана хорошо платили. Партизаны вошли в моду. Одна команда телевизионщиков показала обычную жизнь некоего затерянного в лесах лагеря: все было слишком чистым, слишком приятным. Старики не соответствовали своему возрасту, они были одеты в черные, слишком новые комбинезоны коммандос, на боках у них болтались кинжалы, под погончиками торчали береты. Все стали задавать вопрос: не было ли все это подтасовкой, слишком уж все было хорошо.
Газета «День» заявила об обмане: проведя расследование, ее репортер добыл доказательства этого. Старые партизаны не были ни старыми, ни партизанами. Пойманная с поличным телекомпания вынуждена была сознаться и принести публичные извинения. Это оказалось фальшивкой, детальным и точным воспроизведением жизни настоящего партизанского отряда, члены которого просто играли свои роли.
Но было уже не важно, подставные партизаны или настоящие старики: это явление приняло большой размах. Партизаны стали частью повседневной жизни французов. Кутюрье очень быстро приспособились к текущему вкусу: военные комбинезоны, пятнистая форма, платья из грубой ткани заполонили прилавки магазинов. Тех, на ком не было куртки партизана, даже не пускали в модные ночные клубы. Тот, на ком не было брюк стиля а-ля Че Гевара, не имел ни малейшего шанса очаровать ту малышку, в рейнджерах на ногах и в платье из домотканого материала цвета хаки с толстым кожаным ремнем.
По телевидению пошли телесериалы, седовласые герои которых, несмотря на спартанские условия жизни, на угрозу нападения сил правопорядка, заставляли зрителей задерживать дыхание: сможет ли Андре, такой соблазнительный в берете парашютистов, завоевать сердце Марии-Терезы, подруги командира отряда? Дело казалось проигранным заранее, но Роже, командир, был лыс и неровно дышал к Иветте, бывшей французской разведчице, ловкой, как обезьяна, когда она лазила по деревьям, чтобы осматривать местность. А с этого дерева она видела такие вещи! К счастью, она не была доносчицей…
Каждый вечер в час аперитива глубинная Франция являлась на назначенное свидание и снова находила эту теплую обстановку походных костров, старых песен — которые хотя и пелись слабыми голосами, но зато с душой, — с этой простой и вкусной едой — ах, прекрасное жаркое на углях! ах, свежие овощи, и каштаны, словно упавшие с неба…
Рекламщики тоже не смогли остаться в стороне. Партизанское движение стало образцом. Появилась реклама кастрюль, которые можно вымыть речной водой без моющих средств, вообще без ничего. Палатки, которые можно было натянуть без особого труда и, главное, быстро свернуть в случае опасности. Колбасные изделия теперь коптились только на огне костра, появились бутылки, которые можно было открыть без штопора. Многофункциональные ножи произвели фурор: они предлагали набор приспособлений от зубочистки до поперечной пилы, полный набор для законченного робинзона, — и все благодаря им, — да здравствует беззаботная жизнь в лесных чащах!
В результате вся страна превратилась в один огромный партизанский отряд.
— Пусть повеселятся, — вздыхал Бофор, — мода так переменчива. Да и потом в их возрасте детей они явно не наплодят… Но вот Веркор… займитесь им, Майоль.
Кузен Макс был менее оптимистичен: да, конечно, у них не будет потомства, но на смену им придут сегодняшние молодые. Может, действовать следует так: перекрыть им каналы общения с внешним миром. Поскольку Бофор оставался непреклонен, он не потерпел бы ни малейшей шероховатости. Один раз полиция сумела обнаружить небольшой отряд семидесятилетних. Все прошло тихо и гладко, они добровольно уселись в фургон. Но все испортили журналисты: под ослепительными вспышками фотокамер старики расправили спины, приняли воинственный вид и дали понять, что снова сбегут. «Герои Эндра» — так назвал их журнал «Пари-матч» — были достойны всяческих почестей.
Следовало избегать возможности возникновения любых неполадок в отлаженной работе машины. Кузен Макс представлял себе последствия какого-нибудь случайного выстрела! Главное не допускать никакой огласки. Этого удалось добиться организацией параллельных структур, более законспирированных.
Вот когда ГПН принял решение о создании сыскных агентств.
Вот так, получив инструкции Кузена Макса, я открыл первое из таких агентств. Открыл — это слишком громко звучит, ведь надо было действовать незаметно для любопытных глаз. Юридический адрес — моя квартира, очень официальная карточка аккредитации, номер телефона — и работай.
Задача моя состояла в том, чтобы отыскивать местонахождение партизан. После этого были возможны два пути развития событий: или я начинаю с ними переговоры о сдаче, в обмен на обещание, что к их семьям не будут применяться карательные санкции, или, в самых сложных случаях, передаю это дело команде полицейских, работающих под прикрытием в непосредственном подчинении префекта.
В случае успеха мне полагалась небольшая сумма на покрытие моих расходов и солидные комиссионные, благодаря которым я смог довольно быстро создать сеть осведомителей и взять на полставки моих приятелей Пьера и Франсуа.
Я задумал заработать побольше денег, выполняя живую, полную непредвиденных поворотов работу. Я сам мог распоряжаться своим временем и сам принимал решения и поэтому с энтузиазмом бросился на розыски «террористов».
— Никогда не произноси этого слова! Ты слишком молод, а эта терминология может привести ко всяким эксцессам. Ты ищешь не террористов, не борцов сопротивления, не партизан, а Кандидатов. Эти Кандидаты не хотят исполнить свой гражданский долг. Это, если хочешь, уклонисты по соображениям совести. Вот и все. Не надо проявлять ни ненависти к ним, ни презрения.
Да, с Кузеном Максом уже и пошутить было нельзя. Как и с моим отцом. Он вместо того, чтобы порадоваться тому, что сын нашел наконец-то интересную работу, когда я стал рассказывать все ее преимущества, прервал меня:
— Твои информаторы? Ты их так называешь? А знаешь ли ты, что такое донос? А знаешь ли ты, кем были коллаборационисты во время войны? А когда я доживу до этого возраста, ты и меня выдашь?
Я ушел, громко хлопнув дверью: старики решительно ничего не понимают…
22
Как все же хорошо время от времени выезжать на природу. Я веду безумную жизнь, просиживая в четырех стенах в своем кабинете, на заседаниях ГПН и на скамейке в глубине зала «Регалти». Да я в общем-то и не живу… Я тебе уже говорил, что от меня ушла Рашель? Два месяца тому назад. Как на нее за это обижаться, ведь мы с ней почти не виделись. Она меня даже не предупредила. Однажды вечером я вернулся домой, а там записка от нее. Заметь, я ее понимаю, все мое время отнимает эта работа, даже когда я дома, голова моя находится в другом месте. Теперь, по крайней мере, мне не надо делать вид, что куда-то спешу. А ты все еще встречаешься с этой блондиночкой, как ее там зовут, Мелани?
Кузен Макс по-прежнему выглядел плохо. Уход новой подруги очень сильно его огорчил, он, если можно так выразиться, находился между двух волн. До того как мы доехали до пригорода Сент-Этьена, я успел ему сказать, что с Мелани у нас все в порядке, что она хочет замуж, а я пока не решаюсь на это, но в тридцать семь лет — и Кузен Макс с этим согласился — пора уже было броситься в воду.
После празднеств, посвященных отправке первого конвоя в январе 2017 года, у нас не было случая присутствовать на сборе Кандидатов. За шесть лет машина стала работать довольно отлажено.
Нас встретил Жак Лерест, распорядитель церемоний города. Департамент решил проводить сеансы еженедельно по четвергам, в день работы рынков.
— Раз в неделю, это примерно пятьдесят — шестьдесят голов за один сеанс. Полагаю, цифра неплохая: не слишком много, не слишком мало, зато и толпы нет. Мы очень хотим придать этой церемонии праздничность. Сами увидите, я знаком с некоторыми сегодняшними Кандидатами, это очень веселые люди.
На площади Шанавель — здесь, как и везде, отказались от площадей перед мэриями, слишком официальных, слишком центральных, и проводили церемонии в более тихих местах — перекличка уже началась. Семидесятилетние в сопровождении многочисленных членов их семейств раздавали поцелуи и проливали слезу перед тем, как подняться по ступеням автобуса. Сыпались разные советы: бабушка, застегни куртку, а то простынешь, не забудь поставить за меня свечку святому Карлу. Малышей поднимали на руки, чтобы они смогли поцеловать через стекло губы дедушки. Не было никакой обиды, никакого возмущения, только покорность. Лерест признал, что это заслуга Центров психологической помощи, открытых департаментом для подготовки Кандидатов, у которых истекал разрешенный срок жизни.
— Буавино Жан-Клод! Буавино Жан-Клод!
Буавино Жан-Клод отсутствовал. Организаторы занервничали. Призванный на помощь Лерест бросил смущенный взгляд на Кузена Макса и пояснил, что, по правде говоря, все обычно работает превосходно, а вот сегодня, когда он принимает таких гостей, этот несчастный Буавино грозит все сорвать. Из автобуса стали доноситься возмущенные голоса.
— Ладно, поехали, поехали, не будем же мы здесь встречать Новый год. В конце концов, тем хуже для него!
Тем хуже для него! Я ушам своим не верил. Тем хуже для него, если он старается выиграть месяц-другой хорошей жизни в тепле. Очевидно, и его мне тоже придется преследовать в глубине леса… Но нет. Запыхавшись от бега, с покрасневшим виноватым лицом от того, что опоздал, Буавино Жан-Клод выкрикнул, что он на месте, и скрылся в автобусе.
— Привет, класс! Вы куда-то спешите?
— Да он и в полку вечно везде опаздывал!
Выпускники 1968 года снова были вместе. Бывшие курсанты, некоторые из которых не виделись со дня окончания военной службы, несомненно, предпочли бы встретиться в другой обстановке. «Ну да ладно, — сказал сосед Буавино, — когда-нибудь все равно придется умирать, так уж лучше умереть в кругу приятелей».
Со старушками шума было намного меньше. В то время как мужчины собрались в кучку в конце автобуса и, перекрикивая друг друга, вспоминали о своих молодых проделках, женщины знакомились, вспоминали о муже, который уехал четыре года тому назад, много говорили о своих детях и внуках. Да, вон тот, в красной шапочке с помпоном, это мой внучок, моя любовь, мой любимчик, ах, он меня не слышит.
— Дембель, черт возьми!
— Ты прав, старик, так оно и есть!
— Да, надо было бы захватить мое вязание, но боюсь, что не успею его закончить.
— Представляете, вчера дочь угостила меня пирогом с орехами, объедение…
Мы проехали вслед за автобусом до самого «Центра перехода» департамента Лаура. Он был расположен выше города. Сквозь стекла автобуса я видел, как лысые головы на какое-то время поворачивались в сторону рекламных щитов, где молодые пары улыбались своему будущему. Лерест рассказал нам несколько забавных случаев. Как известный писатель Жан-Ноэль Блан с отчаянной энергией отказывался садиться в автобус:
— Я еще не закончил написание главы, я еще не закончил главу!
Это было чистой правдой, потому что в «Центре перехода» он не ел, не танцевал и до самого последнего момента все что-то лихорадочно писал в своем блокноте. Лерест не знал, удалось ли ему поставить точку.
— А опыт козлов! Вы слышали об этом, господин представитель? Нет? Но ведь это стало расхожей монетой. Во время совещаний, которые мы проводим со всеми руководителями «Центров перехода», мы делимся нашими заботами, нашими инициативами, мы принимаем на вооружение все хорошие начинания. Идея с козлами и баранами показалась мне очень ценной. Речь идет о том, чтобы внедрить в конвой одного-двух весельчаков, достаточно старых, чтобы не выделялись, специалистов в искусстве разряжать напряженность и создавать хорошую атмосферу. Какие у нас были асы! У меня был один такой, увы, ушедший по достижении критического возраста, так вот он мог в два счета заставить петь во все горло Кандидатов и их семьи! Обстановка в автобусах была такой радостной, что еще немного, и все повыскакивали бы через окна! Умный козел ведет Кандидатов на смерть как стадо баранов. А потом, естественно, были разоблачения, Кандидаты распознали одного из козлов, поскольку определили, что тот был моложе их. У нас были неприятности. Они потребовали, чтобы козел шел с ними до самого конца. А тот, естественно, был против этого. Газеты разбирали это дело по косточкам. И тогда мы вынуждены были от этой практики отказаться. А жаль. Сердце кровью обливается, когда подумаешь, что Кандидаты закончат свою жизнь, пребывая в грусти. Но сегодня все должно пройти нормально… Вот мы и приехали.
Мы приехали. Длинное белое здание с потрясающим видом на горный массив Пиля. Что можно было желать лучшего в качестве последней картины жизни?
— Мы добились от архитектора, чтобы он замаскировал трубу. Вначале Кандидаты только на нее и смотрели: они не могли отделаться от мысли, что им придется оттуда вылететь в виде дыма. Представляете себе комментарии наших Кандидатов еврейской национальности… Прошу вас пройти за мной, мы войдем через служебный вход. Вы, конечно, знаете, что в тамбуре обычного входа мы распыляем веселящий газ. Бесцветный, безболезненный, без запаха, но очень эффективный. После того, как мы начали его применять, у нас не было никаких проблем. Без него у нас возникли бы большие сложности. Понимаете, люди такие же млекопитающие, как и все другие. Пусть они знают, что их ожидает, пусть они к этому уже подготовлены, но, когда смерть стоит рядом, они перестают себя контролировать. Нам пришлось пережить очень тяжелые моменты. Когда надо было силой увести одного непокорного, приходилось действовать втроем, чтобы с ним справиться. Крики, вопли, представляете, как это действовало на других Кандидатов, которые должны были по идее мирно дожидаться своей очереди. Тяжелые были сеансы! А что приходилось делать с той, что запиралась в туалете! Да, женщина, вас это удивляет? Мне тоже это было удивительно, поскольку обычно женщины проявляют большую твердость характера, чем мужчины. Может быть, потому что они хотят поскорее воссоединиться со своими мужьями? Не знаю. Так вот, одна Кандидатка заперлась в своей кабинке и отказывалась оттуда выходить. Я испробовал все: просьбы, увещевания, угрозы, ничего не помогало. Вместо ответа на каждый мой довод она сливала воду из бачка. Вам смешно, но мне тогда было вовсе не до смеха! Шло время, санитарки устали ждать, мне пришлось вызвать пожарных, чтобы высадить дверь. Но когда пожарные прошли через зал ожидания со своими топорами, остальные решили, что эти топоры предназначались для них. На укол они были согласны, класть голову на плаху — никогда! Клянусь! Мне пришлось целый час вести с ними переговоры, целый час. Взобравшись на стол, я дал слово, что пожарные не были палачами, переодетыми в пожарных, что санитары не были пожарными, переодетыми в санитаров, что причиной беспорядков стала одна дама, которая забаррикадировалась в туалете и не хотела отрывать дверь. И что там, внизу, господин в белом колпаке тоже не был палачом, переодевшимся в повара, что он был самым настоящим поваром и что это он приготовил так понравившиеся им блюда.
Пока Лерест все это нам рассказывал, Кандидаты вышли из автобуса. Их встретил любезный обслуживающий персонал. Мы снова увидели их в холле. Было очевидно, что газ привел их в превосходное расположение духа, дамы уже не стеснялись повышать тон и выговаривать замечания своим коллегам с последних сидений автобуса, которые старательно петушились.
Директор попросил у нас разрешения отлучиться на несколько минут, взял в руки мегафон, поднялся на несколько ступенек по лестнице, поздравил Кандидатов с прибытием от имени всей команды ЦП департамента Луара и объявил программу развлечений. Сегодня, согласно ответам на вопросы анкеты — тем хуже для тех, кто ее не заполнил! — предусматривался почетный прием с вином, банкет с караоке и бал с участием — сюрприз! — знаменитой Вероники Руйе. «Ура» стариков и поджатые губы старух: они знали эту Руйе! Шлюха, ни дать ни взять!
Директор добавил, к услугам Кандидатов были предоставлены все помещения ЦП: часовня, зал просмотра телевизора, игровой зал (классический бильярд, электронный бильярд, групповые игры). А пока он приглашает всех выпить по рюмке перед входом в зал ресторана.
— Вот, все будет хорошо. Вы увидите Веронику Руйе, солистку местной группы, она так заводит публику! Вы, конечно, останетесь пообедать с нами? С нами, то есть с Кандидатами. Правда, поначалу это может шокировать. Но им очень нравится принимать пищу с молодыми, у них возникает ощущение того, что они еще находятся в мире живых. Вам, господин представитель, вовсе ни к чему говорить, кто вы есть! Понимаете, в состоянии такой эйфории они могут вас еще с этим поздравить!
После аперитива, в ходе которого выпускники 1968 года продемонстрировали, что всегда умели пить с локтя, мы уселись за стол среди приговоренных к смерти. Мужчина, женщина, мужчина, женщина, мужчина, женщина, их было почти поровну, но впервые женщин было уже больше мужчин. Мне не повезло: обе мои соседки весь обед переговаривались за моей спиной. Иветта забыла рассказать об этом Соланж: «О чем она только думала, да, Мари-Клод, та, что из Талодьер, ты ее знаешь, так вот, Мари-Клод однажды рассказала под большим секретом, что у Лакомба, ну, ты помнишь его, большой Лакомб, так вот у него есть подружка! Вот именно! И уже шесть месяцев!»
Чуть поодаль Кузен Макс рассказывал про полуостров Лион, где он некоторое время учился. Его собеседница тоже там училась, как тесен мир! Не в одно время, естественно, но квартал совсем не изменился, там по-прежнему паркуют машины в два ряда…
Когда подали сыр, началось веселье: караоке. Для Вероники Руйе, которая явилась по-простому, почти как соседка — представляете, она живет в Сент-Шамон, — поручили провести эту первую часть увеселений, ее оркестр выйдет после кофе и коньяка — коньяк и сладости, великолепно! — не зря нос так чесался! — для Вероники заставить петь публику, родившуюся без исключения в 1945 и 1948 годах, было детской забавой. Не было никакой опасности ошибиться с выбором. Как большой профессионал, она начала с песни «Если бы у меня был молоток». Клоду Франсуа[9] не было равных в умении разогревать зал. Не заставив себя упрашивать, Иветта взяла микрофон, но ей было трудно читать слова песни на экране, она как идиотка оставила очки своей невестке, никто не предупредил ее, что они могут понадобиться в «Центре перехода», и поэтому ей пришлось ограничиться очень практичными ля-ля-ля, которые в любом случае перекрывал голос Вероники. Но она знала наизусть припев — я бы ударил сверху, оуо, это было бы счастьем!
На десерт был плавучий остров, затейница затянула «Под светом луны в Мобеже»[10], как давно она ее не исполняла! Кутилы из глубины зала с радостью подхватили песню, папаша Буавино прекрасно подражал Бурвилю[11]. После этого Джонни Холидей[12] — без него никак было нельзя — составил нам компанию с песней «Задержи ночь» (для нас двоих до конца света), во время исполнения которой мне показалось, что на лице Соланж сверкнула слеза. Она знавала времена балов и тихой музыки в полутьме, первое волнение, вызванное сладкими мелодиями.
— Здесь нам тоже пришлось побродить в потемках, — признался чуть позже Лерест, — за семьдесят два или семьдесят пять у людей было время послушать и полюбить песни. За три или почти четыре поколения мода меняется, успех проходит. В начале по договоренности с затейниками мы использовали смесь стилей в надежде удовлетворить тем самым все вкусы. Это было ошибкой! Мы скоро поняли, что Кандидаты, все Кандидаты хотели слушать только один тип песен… Нет, я неправ, на самом деле тип песен не имеет значения. Кандидаты хотят слышать песни, которые имели успех в совершенно определенное время: когда им было по двадцать лет. Говорят, что это — самый прекрасный период жизни. Вот лично я… впрочем, не о том речь. Люди дорожат своими двадцатью годами больше всего. Возраст мечтаний, планов, обретенной свободы, удовлетворения первых желаний, — весь этот мир отражается в любимых песнях. Позже, в тридцать, сорок, пятьдесят лет люди тоже любят песни, но нас они трогают уже меньше, мы не относим к себе их слова, этим занимаются молодые, мы уже отстаем от них, слова кажутся нам глупыми. Вот, послушайте, вам знакомо это? Далида[13]… И дзинь, дзинь, мандолина, мой маленький Бамбино, твоя музыка так прекрасна, итальянское небо так ясно… Что? Нет, я не видел Далиду, но выучил ее песню про мандолину, я слушаю ее раз в неделю в течение нескольких лет. Любопытно, не правда ли? Не думал, что она так врезалась в память этому поколению. И потом, слова, что я и говорил…
Официанты в черных жилетах и в галстуках-бабочках — к Кандидатам здесь относились по-королевски — разносили кофе и напитки: для дам сладкие, для мужчин покрепче, — ах, невозможно отказаться, это так помогает пищеварению! После Адамо[14] и его песни «Позвольте, мсье», припев которой сопровождался топотом и заставил просветлеть лица, программа затронула экзотическую тему: «Битлз». Слушая, как целый стол запел «Мы будем жить в желтой подводной лодке, желтой подводной лодке, желтой подводной лодке», я задал себе вопрос: где у Вероники заканчивалась изобретательность и где начиналось двурушничество? Знала ли она, что в английском языке слово yellow значило не только желтый, но и погибший? И, слушая, как пятьдесят приговоренных к смерти захотели поселиться на тонущей подлодке, я подумал, что смерть забавлялась тем, что облачалась в довольно коварные убранства.
После караоке все отправились в зал почета, где оркестр Вероники уже начал издавать первые звуки пасодобля. Работа ЦП департамента Луара была отлажена как часы. Его директор явно гордился этим:
— Главное, чтобы не было пауз! Промедление смерти подобно… То есть я хочу сказать… Ну, вы меня понимаете…
И вечер продолжился без пауз под звуки оркестра, полностью поддерживавшего дело своей солистки. Соблазнительно покачивая бедрами, она посылала кокетливые улыбки хвастунам у бара. Под воздействием старых песен они вновь обрели живость своей безумной юности: собравшись вокруг большой чаши, где дымился горячий пунш, — пунш! Какая прелесть, я не пил его целую вечность! — в ответ на бросаемые вызовы и обещания они подкидывали уголь в топку, прежде чем отправиться приставать к красоткам.
Возбудившись поведением седовласых, подмигиваниями певицы, старушки разобрали свободных кавалеров. Среди них были достойные люди в галстуках и до блеска начищенных ботинках, чувствовалось, что они образованы и с хорошими манерами, было приятно пройтись по залу в танце в их объятиях и кивнуть оставшейся без кавалера подруге.
Благодаря парам пунша, выпивохи откликнулись на призыв Вероники и присоединились к танцующим, все разбились на пары, а поскольку женщин было на одну больше, оставшаяся без кавалера старушка пригласила танцевать Кузена Макса. Получилось очень удачно, она когда-то была студенткой в Лионе. Все отдались опьянению вальсов, танго, очаровательной тарантеллы, в-о-ч-е-р-е-д-ь-ц-е-п-о-ч-к-о-й. Лерест запретил утиный танец с тех пор, как трех танцоров, которые решили, что им меньше лет, чем на самом деле, подвели позвоночники — их пришлось выносить на носилках. Они вынуждены были умирать скрюченными. Какая ужасная судьба!
Вскоре служащий в смокинге подошел к одной из танцующих и что-то прошептал ей на ухо. Она, казалось, не поняла, он повторил свои слова. Она кивнула, что-то сказала своему кавалеру и пошла вслед за человеком в черном. Я подумал, что ее вызвали к телефону.
— К телефону? Всякая связь запрещена, мы за этим строго следим. Нет, служащий пришел за ней, чтобы… Ну, вы должны догадаться… Когда-то надо кончать с этим. Я очень доволен таким подходом. Мы бросаем жребий, а потом как можно неприметнее уводим Кандидатов по очереди. Тут у нас тоже были неудачи. Мой предшественник предпочитал радикальный метод: звонок, как в казарме, окончен бал, вызов по громкоговорителю. Это была катастрофа! Оцепеневшие люди, оглушенные шоком, пристыженные, словно преступники, на которых указывают пальцем. Когда я его сменил, я перенял опыт моих коллег, я долго консультировался с психологами. И могу открыто заявить, что мы выбрали лучший подход. Менее травмирующий душу. Почему жеребьевка? Потому что в противном случае надо действовать в алфавитном порядке или по датам рождения. А людям надоело быть распределенными по алфавиту или по датам рождения. Они сами нам об этом сказали. С самого детства они были пленниками этих двух критериев отбора, и они пожелали это изменить, получить последнюю свободу. Жеребьевка, следовательно, при всей ее несправедливости и похожести на русскую рулетку, дает шанс, который можно получить в последний раз. Короче говоря, резюме жизни.
Служащий уже приходил несколько раз. И каждый раз счастливый избранный просил повторить приглашение, он его не расслышал. Музыка громко играла. Каждый раз избранник прощался со своей дамой или своим кавалером, делал крюк, чтобы обнять друга, выпить в последний раз последний бокал вина, а потом спускался по лестнице и шел по коридору, который ведет в комнаты.
— У нас работают четыре команды по два санитара. Вдвоем легче шутить, разряжать обстановку, записывать последнее желание, что-то передать, послать букет цветов. Хотите посмотреть? Нет? Как хотите. Смотрите-ка, господин представитель веселится от души! Ему явно нравится наше общество! Полагаю, возможно, он вам об этом уже говорил, что наступит время, и ЦП будут приватизированы, а? Это было бы обидно. Мы здесь стараемся соблюдать определенную этику. Видите ли, эта мера, «Семьдесят два», заставила пролиться много чернил и слюней, но у нее есть по крайней мере одно достоинство. Она очень демократична: перед смертью все равны. Можете убедиться в том, что этот же принцип лежит в основе этой церемонии: бродяга или бизнесмен, рабочий или буржуа, ко всем Кандидатам отношение одинаковое. И все проходит очень хорошо. Все-таки это люди… Представьте себе, что после приватизации может произойти повышение цен ради привлечения клиентов. Индивидуальный подход в обслуживании — это, конечно, лучше, но и стоит дороже. Семейный абонемент с подарком по случаю прибытия, вечер в «Лидо»[15], отдых под солнцем, ящик шампанского, да мало ли еще что? Могу вам сказать, что для бедных людей все будет делаться на скорую руку: сэндвич с котлетой, рюмка красного вина, и в постель. И у них не будет никакого интереса бузить. В противном случае никакого вина. Вы скажете, что я опускаюсь до примитивного левачества — будьте уверены, я всегда голосовал, как надо, у меня уже давно есть членская карточка, — но мой опыт приводит меня к следующему выводу: очень часто бедняки ведут себя здесь более гордо и достойно, чем богатые или интеллектуалы. Кстати, давайте поговорим об интеллектуалах! О, когда вопрос стоит о том, чтобы произнести речь, сделать заявление, призвать к борьбе, к проявлению мужества, тут они сильны. Но когда наступает момент истины, звучит совсем другая музыка. Смерть, что бы они там ни говорили, нежелательна для одних и отвратительна для других. Слушайте, я нервничаю, никак не могу начать. Кажется, сегодня до хоровода дело не дойдет. Да, хоровод! Вас это удивляет? Меня тоже удивляло, вначале. Вы понятия не имеете, какое удовольствие испытывают Кандидаты, когда они вновь переживают свое детство. После песен их двадцатилетнего возраста очень часто по инициативе затейника или одного из них они начинают играть в игры, про которые забыли за шестьдесят и более лет жизни. И они вспоминают все, правила, хитрости, дикий хохот, буйства! Да, клянусь! Классики, салочки, хороводы с влюбленными, в лес мы не пойдем, поцелуйте, кого хотите… Это прекрасные моменты, наполненные волнением и радостью… Не знаю, что мы приготовим будущим поколениям. Возможно, они проведут свой последний день за панелью управления видеоиграми или перед экраном компьютера.
Неуемный Лерест все говорил и говорил, неутомимый служащий в черном приходил и уходил. Ряды Кандидатов сильно поредели. Танцующие пары уже можно было перечесть на пальцах одной руки. Покинутый своей дамой, Кузен Макс отирал вспотевший лоб. Глядя на оставшихся в живых, я подумал, что они стали кружиться еще быстрее, что оркестр увлекал их в вальс последнего шанса. Можно было подумать, что они цеплялись за спасательный буек.
Осталось только две пары, потом полторы. Оставшаяся без кавалера дама продолжала кружиться в одиночестве, положив руку на плечо отсутствующего партнера, а потом стала танцевать с кавалером, у которого только что увели партнершу. Они снова закружились с потерянными взглядами, и каждый тур приносил им счастливые картины, смех детей, песни влюбленных, белые платья и нежность кожи, голос любимого человека. Певица умолкла, только аккордеон продолжал играть свою мелодию, головы танцующих были опущены, руки застыли на спине оставшегося в живых. Они принялись вращаться еще быстрее, чтобы не видеть приближавшегося к ним на цыпочках человека в черном. Старая дама осталась одна посредине зала, ей понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя, чтобы голова ее перестала кружиться. Она с удивлением огляделась, попыталась улыбнуться, когда аккордеонист издал еще несколько нерешительных звуков. А потом, словно найдя то, что искала, она зарыдала, даже не стараясь скрыть слезы или вытереть их, ее косметика поплыла. Аккордеонист осмелел, Кузен Макс тоже. Он подошел к ней, достал носовой платок, привел в порядок лицо своей невесты, и они закружились в танце. Медленно, прижавшись щекой к щеке, в молчании, в тысяче лье от мира, который уже им не принадлежал.
23
На обратном пути я вдруг понял, что мы слишком долго молчим. Находясь во власти своих забот, причину которых я видел в его должностных полномочиях, Кузен Макс не сводил глаз с дороги. Впрочем, казалось, что он все больше и больше испытывал удовольствие от этого поведения, которое он иногда резко отбрасывал, чтобы удариться в откровения или заняться лихорадочными подсчетами. Чаще всего это было минутной вспышкой, по окончании которой он снова превращался в статую Командора. Было видно, что уход Рашель на него сильно подействовал. Когда день за днем, а это длилось уже более десяти лет, человек думает о том, как бы ему лучше уничтожить себе подобных, нужны крепкие нервы и сострадательное ухо для очистки своей совести. За неимением такого уха нервам приходится подвергаться суровому испытанию.
Мое ухо было всегда в распоряжении Кузена Макса. Он знал это и не лишал себя возможности сделать меня свидетелем своих проблем, своих поражений и удач. Но что я мог посоветовать ему, чем подбодрить? Я был для него сыном, несмотря на небольшую разницу в возрасте, его доверенным лицом, его подопытным кроликом, его порученцем, его водителем. Но не советчиком. Среди людей его окружения я был единственным человеком, которому он доверял, но этого не хватало для того, чтобы вырвать его из одиночества, в которое он погружался все больше и больше. Но я все же рискнул:
— Ну, как тебе эта церемония? Что ты об этом думаешь?
— Что я думаю? Она принесла мне облегчение… Помнишь, несколько лет тому назад мы участвовали в отправлении первого конвоя Кандидатов, где-то в Лангедоке. Ты предложил мне поехать за ними до «Центра перехода», но я тогда отказался. Я боялся увидеть сбой в работе еще не отлаженного механизма.
— А что, были сигналы?
— Я тогда не ошибся. Я говорю не об этом ЦП в Монпелье. Сегодня их в стране почти восемьдесят. А в то время мы начинали максимум с двадцатью. Нужны были цифровые показатели. Но какой ценой! Мне никогда не хотелось увидеть это, и я об этом не жалею. Доклады, которые я получал, заставляли меня страдать. Неподготовленный, необученный персонал, бессовестные руководители… Я почти наизусть помню один отчет из Бургундии. Написавший мне человек был в ужасе от этого зрелища. Шестьдесят восемь бедолаг были собраны в одну комнату без окон и без отопления. Это в ноябре-то месяце! В целях экономии! Я вызвал директора, человека по фамилии Дюгри, до сих пор помню его имя. Его имя и его двуличную рожу: раннее облысение, большие очки, держащиеся на ушах, похожих на лопухи, постоянный оскал его лошадиных зубов, дряблая белая кожа, — внешний вид, соответствующий его работе. Тьфу! Я уволил его спустя неделю. Он сказал, что простынут Кандидаты или же нет, это ничего не меняет по существу дела. Ни стульев, ни скамеек, ни попить, ни перекусить. Люди содержались как скот. Каждые три минуты два дюжих молодца в белых халатах и в фартуках мясников появлялись в зале, хватали первого попавшегося, отбирали у него документы и уводили его без всяких церемоний, выкрикивая его имя в окошко регистрации. Как только дверь открывалась снова, оставшиеся в живых сбивались в кучу в угол, стараясь укрыться от мучителей, получая удары, подвергаясь оскорблениям. Варварство в чистом виде. В двадцать первом веке! Нам пришлось стукнуть кулаком по столу, ввести должностные инструкции, потребовать полного изменения процедуры. К счастью, мы заранее ввели ограничения: запретили доступ в ЦП семьям и свидетелям. Предпочитаю не думать о реакции людей, если они увидели бы, что их ожидало.
— А потом?
— Потом? Потом мы провели чистку среди персонала ЦП, ввели там должности психологов. Провели стажировки руководителей, циклы лекций по «очеловечиванию». Ввели обязательную отчетность не только по результатам работы, но и по способам их достижения. А поскольку во Франции люди ни в чем не знают меры, мы, естественно, из одной крайности впали в другую. Плохое обращение с Кандидатами? Этого не будет, теперь мы будем их холить и лелеять. Слишком хорошо никогда не бывает. Шикарные банкеты, дорогие вина, букеты цветов дамам, сигары мужчинам. Как бы вам хотелось, дорогой вы наш, покинуть эту долину слез? Через повешение? Нет проблем, веревка будет очень мягкой. А вы, мадам? Под поезд? Не может быть! Что ж, «Центр перехода» может пойти вам навстречу и удовлетворить ваше желание. Есть ли у вас дополнительные пожелания? Какой поезд желаете? Париж — Бордо в 15 часов 15 минут подойдет? Ах, вы предпочитаете поезд Женева — Океан 8 часов 12 минут? Это напомнит вам каникулы юности? Договорились, значит, в 8 часов 12 минут…
Я ничего не выдумываю, это было исполнение закона по заказу! Чего только не было. Вот, например, в ЦП в Тулузе директор придерживался явно прогрессивных взглядов, если не сказать левых: воля клиента — закон. Представляешь? Он подчинялся любому их капризу. Один Кандидат очень любил Робеспьера, и поэтому гильотина — настоящая (где он ее достал?!) и еще палач, кюре и зрители в костюмах той эпохи. А бывшие военные, что они ему устроили! У них была куча идей, хотя и речи не шло о том, чтобы замедлить его работу: расстрельная команда, без повязки на глазах, да здравствует Франция! И одно ружье, заряженное холостым патроном, чтобы стрелки не испытывали угрызений совести! Выбрасывание с вертолета, чтобы прочувствовать состояние своих жертв в Алжире. Кабильская улыбка[16], чтобы узнать, что чувствовали их самые невезучие товарищи по оружию. Не буду тебе говорить, что найти исполнителя для этого было очень непросто. Пришлось искать его в Северной Африке, и все такое. Кончилось все тем, что нашелся один доброволец где-то неподалеку от города Блида, но у этого добровольца были свои капризы, он не пожелал ехать ради одной «операции», как он называл свой удар кинжалом. Тогда пришлось обращаться к другим семидесятилетним департамента Верхняя Гаронна: не хотел ли кто-нибудь из них умереть с кабильской улыбкой? Но кандидатов оказалось очень немного! Как только я об это подумаю… Да, всякое бывало!
А яд, электрический стул, удавка — ее потребовал один дедок испанского происхождения, — автокатастрофа, да, одна женщина захотела умереть так же, как ее муж, естественно, она затормозила перед стеной. Служитель ЦП пришел на помощь и прикончил ее ударом монтировки, это было прекрасно! Короче говоря, Кандидаты выдумывали, кто что мог. Слава богу, не дошло до сожжения на костре. Ни одна из Кандидаток не захотела повторить подвиг Жанны д’Арк. Только этого еще не хватало бы! Можешь себе представить, какую жизнь устроило нам воображение приговоренных к смерти? А уж во что нам это все обошлось! И нам снова пришлось взять быка за рога: уколы для всех. И никаких хитростей!
Однако и с уколами у нас продолжились неприятности: несмотря на то, что все согласились с принципом быстрой смерти, когда приходил их час, не все Кандидаты проявляли твердость духа. Мне докладывали об ужасных сценах всеобщей паники. И тогда нам пришла в голову идея применять веселящие вещества. Сегодня, после того, как был доработан веселящий газ, это одно удовольствие. Но вначале ЦП работали как грубые ремесленники: в качестве веселящих веществ применялись красное вино или водка. Это все делалось из добрых побуждений, но возникала проблема с дозировкой. Женщины напивались и не понимали, зачем они туда попали, никто не смел им об этом напомнить, они требовали, чтобы их отвезли домой. Старики упивались вусмерть, и их приходилось вынимать из их рвоты и тащить на смертный одр. Какой ужас!
Да и с газом мы тоже определились не сразу, а методом тыка. Когда он был недостаточно эффективным, надо было видеть лица Кандидатов: моральное состояние их было на нуле, они были уверены, что бы им там ни говорили, что жить не стоило, критиковали всех и вся, пищу, музыку, декорацию, речи, даже персонал в конце концов от этого терял терпение. Когда газ был слишком эффективным, дело было ничуть не лучше: приговоренный к смерти не переставал шутить со своими товарищами, острить, лежа на топчане, смеялся так сильно, что санитары не могли найти вену, чем глубже они вводили иглу, тем сильнее он хохотал и кричал, что не любит щекотки… О, я мог бы такого тебе понарассказать… Но, в конце концов, все это в прошлом, нам удалось достичь некоторых успехов…
Несмотря ни на что, эта церемония оставила у меня неприятный осадок. Господу известно, что я не ищу себе неприятностей, но мне хотелось, чтобы возник какой-нибудь скандал, пусть небольшой, какое-нибудь сопротивление, какая-нибудь неприятность на этом празднике. Только для того, чтобы я смог успокоиться, чтобы понял, что невозможно так вот просто сделать из людей рабов, что они умеют умирать с цветком в стволе ружья. За семь лет существования ЦП, за те четыре года, когда они работали уже «нормально», то есть обрабатывали семидесятидвух- и семидесятипятилетних, случаи неповиновения можно было пересчитать по пальцам.
— А партизанские отряды, подпольщики на границах?
— Это так, есть некая форма сопротивления. Обычно те, кто действует близ границ, — люди богатые, которые не решаются расстаться со своими деньгами. Умереть, на худой конец, они согласны, но бросить свое золото — никогда. Партизанские отряды — совсем другое дело. Там более интересные люди. Но что они представляют собой по сравнению с населением страны? Ничего. К тому же, сам знаешь, уйти в партизаны сегодня намного проще, чем в 1940 году. Проще и безопаснее: им-то терять нечего.
— Если они, по-твоему, столь малозначимы, то почему же ты с таким упорством преследуешь их?
— Мы живем в правовом государстве. И должны уважать этих партизан! Мы должны дать им осмыслить свои поступки. Если мы оставим их в покое, то на кого они будут похожи? На трусов, на бездельников, на ловкачей. Преследуя их, мы делаем из них героев, а это помогает жить. И умирать. Бофор не разделяет мою точку зрения. Тем лучше. Эта история партизанства на плато Веркор его бесит. Остальные партизанские отряды его скорее забавляют, но он просто зациклился на Веркоре. Хотя и непонятно почему. Они там, на Веркоре, ничуть не лучше и не многочисленнее, чем в других местах. Но это Веркор. Я тебе говорил об этом? Он выходит в отставку, но будет продолжать руководить проектом «Семьдесят два». Я часто думал о том, какой была его истинная мотивация: отечество в опасности, новая и зачищенная Франция, — все это красивые аргументы, это нравилось, это позволяло увлечь за собой войска, но уверен, что есть более глубокая причина. В конце концов, пусть до нее докапываются другие, если им это интересно, а меня это больше не трогает. Полагаю, что я свою задачу выполнил. Я отдал ей самые прекрасные годы жизни, скоро мне исполнится пятьдесят, я слишком стар, чтобы казнить стариков, я хочу другого.
— Чего, например?
— Пока не знаю. Другого. Это так емко. Расскажи-ка лучше, как у тебя с работой, с сердечными делами?
24
Я рассказал. На сердечные дела, честное слово, жаловаться не приходилось: мы с Мелани переехали в трехкомнатную квартиру в семнадцатом округе с окнами во двор. Она торопила меня поскорее завести детишек, но я никак не решался: стоило ли рожать ребенка, которому я могу обеспечить лишь семьдесят два года жизни? Игра не стоила свеч.
Что же касалось моего сыскного агентства, то оно процветало. Перед появлявшимися конкурентами у меня было преимущество в стаже и опыте работы, а также в представленных мне льготах. В затруднительных случаях я упоминал о моих родственных связях с Кузеном Максом, и комиссариаты полиции сразу же сводили меня со своими информаторами, разведка давала мне след подпольной организации, о которой ей недавно стало известно. Я работал уже по всему Иль-де-Франс, а также на западе центральной части страны и на юго-западе. Я отказался от услуг служб осведомителей в других регионах, мне не хотелось быть заваленным работой: примера Кузена Макса было достаточно для того, чтобы меня образумить. Пьер и Франсуа уже работали целый рабочий день, они занимались первичными контактами. Как только кто-нибудь из наших осведомителей нам звонил, они сразу же отправлялись на место для проверки информации. Сколько раз мы выезжали зря: по доброй воле или из-за недостоверности данных, но осведомители наводили нас и на ложный след. Однажды я вихрем ворвался в какой-то сарай, где вокруг костра собрались скауты, их палатки ввели всех в заблуждение. В другой раз я нарушил трансцендентную медитацию неподалеку от Ла Вильетт[17]. Но не будем об этом.
Мои помощники работали с доносчиком. Интересно было наблюдать за его лицом, за бегающим взглядом, за улыбкой при виде пачки денег — этих тридцати сребреников, которые он хватал когтистыми лапами гиены. Как он узнал о существовании партизанского отряда? Видел ли он их своими глазами? Сколько времени он существует? Сколько в нем человек? Он базируется в одном месте или кочует? Какова система снабжения? Личности руководителей, пути подхода, возможности отхода, поддержка среди населения, и т. д. и т. п.
Заполнив формуляр, Пьер и Франсуа предлагали своему новому другу отвести их в партизанский отряд. Реакция была не лишена любопытства. Самые хитрые ссылались на поломку машины, самые честные признавались, что опасаются мести. Предлогов для отказа выдвигалось предостаточно, и иуды исчезали, лихорадочно и незаметно пересчитывая свою добычу.
Имея точные данные, карту, если это касалось участка местности, или генплан, мы находили наилучший способ, чтобы воспользоваться внезапностью при планировании наших операций.
Первое свое удачное дело я провернул всего в двух шагах от моего дома. Рядом стоял особнячок, на воротах его висел замок, и домик выглядел необитаемым. Сад зарос травой и сорняками, на крыше не хватало нескольких плиток черепицы, одна створка ставень была оторвана, домик явно требовал ремонта или сноса. Именно там — и расчет их был очень тонким — группа друзей решила укрыться от правосудия. Эти хитрецы проделали выход с задней стороны дома, и через этот проход сообщники раз в неделю доставляли им продовольствие. Но эта хитрость не помогла им зимой, когда пришлось обогреваться без электричества. У них было достаточно дров для камина. Но эти горожане забыли, что из труб идет дым, что труба в заброшенном доме не должна дымить. Я взял их с поличным во время приема пищи. Я очень скоро понял, что старые люди очень дорожат своими привычками, главная из которых состоит в режиме питания. В половине первого дня! — я был уверен в успехе. Кроме электричества, они ни в чем не нуждались: стоявшие на столе фрукты и бутылки свидетельствовали о том, что они могли долго выдерживать осаду, потрескивавшие в камине дрова придавали шашлыку вкус намного приятнее, чем если бы он готовился на стоявшей на этажерке газовой плитке.
После обычных для такого случая криков, плача дам, несмотря на то, что маленький лысый старичок размахивал револьвером и кричал, что готов на все, мы поговорили как нормальные люди. Немного поторговались, высказали несколько угроз, несколько комплиментов и пришли к общему согласию: я приду за ними через двое суток в это же время. Если они пойдут мне навстречу, я добьюсь того, чтобы были отменены санкции против их семей. А пока, они должны это понять, за домом будет вестись тайное наблюдение моими людьми. Если бы они знали, что моих людей было всего двое и мои друзья ни за что не согласились бы сидеть в засаде перед убежищем стариков, то, очевидно, попробовали бы рискнуть…
Но они ничего не предприняли. В назначенное время они покинули свое убежище и расселись на сиденья микроавтобуса, который я специально для этого нанял. Очевидно, они уже обо всем переговорили накануне вечером за бутылками вина, потому что никто из них не нарушил молчания до того момента, когда за ними захлопнулись двери «Центра перехода», который был предупрежден мною за двое суток до этого о прибытии опоздавших.
Были громкие успехи и небольшие неудачи, в конце концов я занял свою нишу. Благодаря умело организованной ГПН и Франсуазой Браше кампании в прессе, люди узнали, что некоторые нарушители стараются обойти закон, что это дорого обходится стране, что их семьи несут за это ответственность. Короче говоря, люди поняли, что, выдавая их, можно неплохо заработать. Заработать, совершая при этом добрый поступок. Это все оценили. У меня возникла проблема выбора. Очень скоро я уже имел в своем распоряжении сеть осведомителей из полупрофессионалов, и я добился исключительного права работы в этой сфере. К ним добавилось несколько полицейских, которых я обычно сторонился как чумы.
Однако именно один из полицейских позволил мне разоблачить маркиза Дюбеньона. Маркиз Дюбеньон, какая история! Однажды ночью меня разбудил телефонный звонок:
— Алло? Добрый вечер, я не представляюсь, это не нужно… Но я могу сдать вам одного маркиза.
— Сдать мне одного маркиза? Но что я должен…
— Я вам его не продаю, я вам его дарю. Деньги меня не интересуют. Единственная моя цель состоит в том, чтобы спасти жизни этих несчастных или по крайней мере не дать им умереть жестокой смертью.
— Что вы мне рассказываете? Если это шутка, я не…
— Вовсе не шутка. У вас есть на чем записать? Да, жду… Готовы? Итак, коммуна Беньон к северу от Де-Севр. Они находятся в имении господина Армана Брусто. Завтра, а то будет поздно!
Незнакомец повесил трубку. Завтра было крайне неудобно, я должен был поехать в коммуну замка в долине Шевреза, все было готово, отложить операцию было невозможно. Послезавтра, в субботу, я пообещал Мелани сопровождать ее по магазинам, а слово надо держать. Партизаны Беньона могут и подождать до воскресенья. Да, я готов пожертвовать своим воскресеньем, им не придется жаловаться на инертность моего агентства.
В воскресенье, когда я в сопровождении Франсуа прибыл в Беньон, мне показалось, что мы ошиблись адресом. Я ожидал увидеть одну из тех деревень района Гатин, которую пересекает пустынная улица с магазинами, закрывшимися из-за построенного неподалеку супермаркета, с небольшим оживлением в час мессы. А увидел плакаты «Добро пожаловать в Беньон» и украшенные цветами окна домов. Из громкоговорителей лилась музыка, которую обычно слышишь во время отпуска у воды, повсюду сновали люди, кафе были переполнены посетителями. Это был праздник.
— Что у вас за праздник? — поинтересовался Франсуа.
Какой-то мальчишка, успев вовремя затормозить на своем велосипеде, открыл нам завесу тайны.
— Это праздник, организованный охотниками. Там, на полях папаши Брусто. Я тороплюсь, а то и так уже опаздываю.
Мы тоже опоздали. Нам пришлось припарковаться в каком-то овраге, поскольку дорога, ведущая к полю папаши Брусто, была заставлена автомашинами. За рядами дубов на козлы положили доски, они служили и буфетом и столом, — водка и анисовка текли рекой. Здесь сидели руководители Общества охотников коммуны и записывали желающих: 50 франков за наблюдение, 100 франков за участие.
— Для того чтобы участвовать, необходимо ружье?
— Как вам будет угодно: ружье, праща, арбалет…
Толпа покатилась со смеху. Вокруг действительно стояла толпа, и эта толпа веселилась. Кое-где на раскладных столиках уже разложили закуску, мясник из Секондини предлагал сосиски, колбаски и сардельки, никто не забыл прихватить с собой бутылку вина, дети дергали матерей за рукав и спрашивали, когда же все начнется, получали подзатыльники и устраивали охоту на своих приятелей — ты будешь стариком, а я язычником. Не хватало только манежа для самых маленьких и бала на паркете для самых взрослых. Вдруг раздался крик:
— Я засек одного, я засек одного!
— Да кого — одного? Что здесь происходит? — Франсуа никак не мог этого понять, колбаска обжигала ему пальцы, он не знал, куда поставить кружку с красным вином. Все это обошлось в десять франков, это стоило попробовать, такого в Париже не отведаешь!
— Да одного старика. Террориста! Они скрылись в кукурузе, вон там, их несколько человек!
Франсуа повернулся ко мне:
— Партизанский отряд? В кукурузе? Что они там делают?
— Да, партизанский отряд. Почему бы им и не прятаться в кукурузе, это неплохое укрытие. Что они там делают? Понятия не имею!
Чтобы это выяснить, я приблизился к группе охотников, которые что-то горячо обсуждали. Учитывая вкрадчивое почтение, которое проявляли к ним окружающие, слова «оставь отца в покое», которые сказала мать дочке, захотевшей подойти к охотникам, я решил, что именно в этой группе и находились местные власти. Но что я мог им сказать? Вот и я, я — кузен Макса, у меня сыскное агентство в Париже, я приехал забрать ваших стариков? Я мог получить в ответ в лучшем случае насмешки, в худшем — выстрел. Тем более что люди были возбуждены, а чтобы снять напряжение, поглощали анисовку в больших количествах.
— А что будем делать со старым красным вином?
— Не беспокойся. Клод все устроит. Но мы выпьем его потом, ведь нам явно захочется пить!
— Ладно, давайте о деле. Что мы предпримем?
— Может быть, облава? Это будет проще всего. Спустим собак, и они выгонят их на нас.
— Облава? Согласны?
Охотники согласились на облаву. Но прежде надо было перекусить. Я последовал их примеру, но сосиска не лезла в горло. По большому счету я не вправе их осуждать, поскольку и сам занимался подобным делом. Но, с другой стороны, эта униформа, которая выдавала тоску по армии, эта жестокость и вульгарность — все это попахивало пьяной жаждой мести, нетерпимостью, расизмом и вызывало во мне отвращение. Я так и не понял, для чего им нужны были жаканы на кабанов, которыми они, по их словам, запаслись в избытке. Чтобы испугать? Чтобы убивать? Я не был уверен в том, что заряды для охоты на кабанов были холостыми.
Хорошенько закусив и еще лучше выпив, с раскрасневшимися рожами, смешивая в едином гимне радости отрыжки и вздохи облегчения, отряд охотников собрался вокруг некоего Кристиана, странного субъекта, чьи очки дали мне надежду обнаружить в нем уровень образования, которого могло бы хватить для установления диалога. Я осведомился у него, где мэр, которому я хотел бы рассказать о своих занятиях.
— Мэр? Он в отпуске, а мы пользуемся.
Именно это, как мне показалось, я понял из его местного наречия, которому меня не смог обучить выпускник Национальной школы администрации Макс. Все вокруг спешили проглотить последний кусок сыра, дожевать яблоко, допить стакан вина. Спектакль должен был вскоре начаться.
Четыре или пять дворняжек на поводках лаем проявляли свою добрую волю и достойное похвалы нетерпение. Великий стратег Кристиан расставил свои войска по углам поля.
— Стрелять только по моей команде.
Какая муха меня укусила? Мой крик «Сдавайтесь, вы окружены!», который я бросил, словно сигнал бедствия, затих во всеобщем изумлении. Местные охотники не привыкли предупреждать дичь. Некоторые из них приложили палец к губам, другие шепотом обругали меня.
Наконец спустили собак. Они хорошо знали свое дело. Лая и помахивая хвостами, они исчезли в зарослях кукурузы.
По доносившемуся до нас шуму можно было представить, как разворачивались события. Дикий лай, жалобные визги (дичь, видно, сопротивлялась), плач женщин, проклятия мужчин, треск ломающихся стеблей кукурузы. Потом стали слышны все более отчетливо, несмотря на лай собак, звуки шагов, треск початков, шорох сухих листьев. Вскоре стало видно, как закачались верхушки растений. Кристиан быстро все понял.
— Они щас выйдут, давай все сюда на помощь!
Двенадцать заряженных жаканами на кабана ружей, готовых разнести человека в клочья, были наведены на кукурузу, откуда неожиданно появилось распятие, с которого Господь устремлял на маленькую армию взгляд Того, кто уже много дал людям. Под распятием, мы увидели его в самый последний момент, когда он миновал последний ряд кукурузы, оказался священник с грозным выражением на лице. Он явно хотел высказаться, но сделать это ему было неудобно, поскольку за ним бежала вся стая, а один из самых ретивых псов вцепился зубами в его сутану. Священник врезал ему распятием по ребрам (прости, Господи) и пошел на ружья. Кристиан проявил восхитительное хладнокровие:
— Не дурить! Не палить! Надо поговорить!
— Изыди…
— Чо он сказал?
Он сказал четко и ясно изыди, Сатана. Я не сразу понял, что это не был спектакль, поставленный Домом молодежи Беньона. Пока продолжался этот диалог глухих, шайка партизан вышла из укрытия и собралась за спиной своего проводника. Десяток семидесятилетних людей, их могли отправить к Богу без исповеди. Священник, воткнув распятие в землю прямо перед собой, развел руки в стороны, защищая их:
— Господь сказал: тот, кто тронет моих агнцев, умрет в ужасных страданиях. Изыди.
В его глазах блестел странный огонь. Ружья опустились, Кристиан быстро принял решение:
— Мэр завтра вернется, пусть сам разбирается.
Опираясь на распятие как на посох, пастырь повел свое стадо в сторону деревни, распевая при этом: «Вверяю свои надежды Господу, я защищен его словом».
В рядах охотников все не могли найти ответ: было это салом или поросенком? Аргументы одних начали вызывать ярость других и наоборот. Но тут раздался крик:
— Привезли старое красное вино!
Эта новость согрела сердца, все было не так уж плохо, надо во всем видеть положительные стороны.
Нектар быстро прогнал чувство разочарования облавой, развязка которой не увенчалась успехом. Впрочем, как подчеркнул Кристиан, дичь, которая не бежит, не представляет для охотника никакого интереса.
25
Так прошли десять лет жизни после референдума. Сообщалось, что то там, то здесь были ликвидированы отряды партизан, но эта тема уже не приносила доходов. Кровопускания сопротивлению больше уже не публиковались на первых полосах газет. Как и предсказывал Кузен Макс, интерес к этим событиям стал ослабевать. Если французы еще оценивали по достоинству упорство этого эльзасца, которого отловили после двух лет преследования в горах Вогеза, — браво, в его-то возрасте! — то они все чаще стали подтрунивать над этими партизанами в пижамах, с бегающими широко раскрытыми, как у совы, глазами в свете полицейских прожекторов и вспышек фотокамер, понимая, что, в конце концов, те были не так уж недовольны тем, что их среди ночи поднимали с постели, столь мало пригодной для их старых членов. Ведь излишне говорить, что нет ничего лучше теплой кровати с мягким матрацем.
Вопреки предсказаниям Кассандры, Франция не разделилась на две части, не было ни демаркационной зоны, ни свободной зоны, единственной цензурой была крайне левая оппозиция. Довольно внушительной, конечно, но как страна могла жить иначе?
Левые после поражений 2002 и 2005 годов не смогли воспользоваться референдумом 2015 года для того, чтобы снова стать реальной силой. Раздираемые внутренними противоречиями, опасаясь кастрюль, которые держало в запасе правительство, они не сумели занять если не убедительную, то хотя бы ясную и четкую позицию. Но с той поры применение указанного закона, как ни парадоксально, придало левому движению новый импульс, освободив его от всех бюрократов, которые жили в тоске по восьмидесятым годам. Несмотря на это вынужденное омоложение, Социалистическая партия «Исторический путь» взялась за старое. Партия социалистов-радикалов не нашла себе ниши на политической арене, Социалистическая партия завтрашнего дня не могла предложить людям ничего, кроме своего названия. В рядах неокоммунистов шла борьба между теми, кто выступал за необходимость отказаться от классовой борьбы и за переход к борьбе поколений. Вопреки всем ожиданиям и несмотря на то, что в ходе референдума их поведение не было безупречным, «зеленые» смогли лучше других воспользоваться сложившимся положением. И даже сумели получить большинство в левой коалиции. Коалиция эта была достаточно непрочной, поскольку некоторые программные положения защитников экологии воспринимались в штыки столпами прогрессивных ортодоксов. Они не могли забыть Готе, этого ярого депутата от «зеленых», который в обмен на обещание — естественно, не выполненного Бофором! — министерского портфеля открыто выступил на стороне реакционеров и попытался объяснить свою позицию тем, что централизованное уничтожение стариков было в некотором роде заботой об окружающей среде. Гуманисты захлебывались яростью.
«Зеленые», которых за глаза (все-таки в одной коалиции!) неокоммунисты называли «окисью меди», наученные горьким опытом, овладели языком плаката. Язык плаката против змеиного языка, их речи все же производили двойственное впечатление. Они слишком упорно ставили на новое поколение, слишком настойчиво гладили его по шерстке, их искренность не могла не вызвать подозрение.
Послушать их, так все молодые были красивы и умны, только молодые могли проникнуться идеями чистой планеты, исправить ошибки, допущенные старшими поколениями. С помощью лозунгов, которые были не столь уж и невинны, как могло показаться, с помощью эффектных кампаний — озоновый слой, чистота моря, трансгенные продукты, загрязнение рек — они закладывали в сознание людей, возможно, сами не отдавая себе в этом отчета, настораживающие контуры не столь отдаленного общества молодых. В конечном счете этой евгеники, первенство в которой они приписывали крайне правым.
Правые не почивали на лаврах. Но был ли смысл продолжать говорить о правой коалиции, когда НПФ наложила лапу на все многочисленные мелкие партии, выросшие из потрясений конца прошлого века? В итоге от правой коалиции осталось одно название. Более спокойное, более удобное, чем определения, которыми прославилась правящая партия: национальная, националистическая, нового порядка. И чем те, которые приписывали ей ее политические противники: фашистская, национал-социалистическая…
Они не почивали на лаврах, они делали даже слишком много, чтобы помешать «зеленым» увлечь за собой молодежь, которой НПФ отдавала большую часть своей энергии и своего бюджета. Члены фаланг, которые организовал пятнадцать лет тому назад министр Бужон, отчаянно сражались на этом поле битвы. Они тоже проводили операции «Чистый город» или «Чистая деревня». Разве духовная чистота не начиналась с чистоты места проживания? Чистая вода, чистое сердце. Их лозунги заставляли раздувать грудь юных дозорных, о которых здравомыслящая пресса заливалась наперегонки, описывая, на что они тратят свои каникулы: на вырубку засохших деревьев, на очистку территории. Один отряд на юго-востоке специализировался на наведении порядка после ликвидации лагерей партизан. Как только партизан увозили в назначенные им места, по зову горна появлялись дозорные, которые с песнями приводили поляны в изначальное состояние. Потому что — и журналы с сожалением это признавали — старики не уважали природу: рубили деревья, повсюду разбрасывали мусор, пластиковые мешки, вскапывали дерн, устраивали отхожие места повсюду, нельзя было пройти, не глядя под ноги. Было очевидно, что правила гигиены и охрана природы не входили в круг их приоритетов. И как было мило наблюдать за тем, как эти юные бойцы, со смехом и шутками, действуют в полной гармонии с матерью-природой, быстро убирая грязь после этих так называемых бойцов сопротивления. Все спрашивали себя, какое они находили удовольствие валяться в таком свинарнике.
Таким образом, множились инициативы, направленные на пользу молодых. Про них часто рассказывалось в средствах массовой информации, не все они были успешными, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Менее молодым тоже кое-что перепадало. Правительство выполнило некоторые из своих обещаний: выход на пенсию в пятьдесят пять лет, помощь при создании новых рабочих мест. Надо называть вещи своими именами, эти меры привели — если вспомнить слова бывшего министра по вопросам государственной службы Брижит Лаверно — к значительному повышению уровня жизни. Да, богатые остались такими же богатыми, а бедные такими же бедными, но разве времена одинаковой бедности не канули в Лету? Впрочем, от выборов к выборам большинство голосовало как надо. Рецепт успеха правых был до смешного неоригинален: хлеба и зрелищ. А чтобы придать хлебу больше вкуса, нужна морковка. Правительство заботил вопрос о продлении периода дожития. Возможен переход с семидесяти двух на семьдесят три года для мужчин и с семидесяти пяти до семидесяти шести лет для женщин. Когда это состоится? О, пока еще ничего не решено. Вопрос уже обсуждался в Национальном собрании, были мнения «за» и «против», цена вопроса подверглась критике, особенно со стороны самых молодых депутатов.
Новая поросль политических деятелей успела приобрести хорошие манеры. После жертвоприношений, которые были вызваны применением нового закона, засадить грядки Бурбонского дворца и Люксембургского дворца особого труда не составило.
Национальное собрание, в котором средний возраст депутатского корпуса составлял пятьдесят один год, легко выдержало этот удар, пришлось заменить не более двадцати депутатов, сущий пустяк. Как левых, так и правых. Замененные депутаты, кстати, вели себя с достоинством. Конечно, они не представляли, что их депутатские мандаты могли закончиться именно таким образом, но тем не менее они продемонстрировали своим избирателям, что заслуживали их доверия, и в общей своей массе не устраивали комедии, когда усаживались вместе с ними в один автобус с голубой полосой.
Но вот сенаторы, о-ля-ля! Как было трудно справиться со ста тридцатью шестью сенаторами, которым объявили, что, во-первых, надо было уступить свое место, а во-вторых, отправиться в «Центр перехода», а не домой. Пользуясь поддержкой большинства своих коллег, которые уже слышат свист ядра, они заявили, что их статус освобождает их от приравнивания к остальным людям: у них депутатская неприкосновенность, и не надо забывать, что их нельзя ни привлекать к ответственности, ни арестовывать. Затем, их косвенное всенародное избрание, не так ли? И наконец, важность сената в политической жизни страны: обезглавить сенат означало обезглавить Францию. И вот еще что: профессиональная совесть не позволяла им пойти на отказ от мандата. Девять лет, и речи быть не могло о его сокращении. В заключение, в качестве итога их предыдущих выступлений, они открыто заявили: это скандал!
Прикрывшись, таким образом, правом и состраданием, они заперлись внутри сената. Одному Богу известно, чего только не видел Люксембургский дворец в историческом промежутке между Марией Медичи и Главным штабом Люфтваффе. Но сто тридцать шесть дедов при поддержке еще двадцати приближавшихся к опасной черте сенаторов, в галстуках и лакированных ботинках, блокирующих двери старой мебелью, это для дворца было впервые.
— Кто-нибудь позаботился о сэндвичах, о бутылках с водой?
— Что вы делаете, вы загородили дверь в туалет!
Вновь вызванный на помощь Бофор тут же принял решение:
— Быстро и тихо.
Быстро, но со значительно меньшим почтением, чем они могли бы надеяться, приговоренные были эвакуированы из сената ротой республиканской безопасности. Это было удачно, ведь сенаторы поклялись, что сдадутся только под напором штыков. Их коллеги, отважно подравшись, спешно собрались на заседание, чтобы обсудить вопрос замены ушедших. На сто тридцать шесть освободившихся мест нацелились депутаты Национального собрания. Оставалось только избрать сто пятьдесят шесть добровольцев на полсрока с учетом двадцати депутатов, которые приближались к роковой черте.
Французский народ проголосовал как надо и влез в авантюру, как это назвали несчастные отставники, с формированием омоложенного политического класса. Все вспомнили, что ценность человека не зависит он количества прожитых им лет, что в давние времена монархи часто восходили на трон, имея только пушок на подбородке. Люди быстро успокоились на этот счет, быстро привыкли к напору, радикализму, к ошибкам и к увлеченности новоявленных политиков.
Пока подростки убирались, депутаты занимались демагогией, а новые сенаторы квакали за исключение сената из общих правил, семидесятилетние стряхивали пылинки со свадебных нарядов, чтобы отправиться на бал, организованный «Центром перехода». Трудно было поверить в то, что менталитет людей изменился так быстро.
Честно говоря, и некоторые смельчаки из оппозиции это утверждали, можно было задаться вопросом: поддерживал ли простой люд это сокращение его срока дожития или же просто прогнулся в ожидании лучших времен? Опираясь на успех в ходе референдума, НПФ действительно не оставила народу выбора. Согласись или умри. Внесенные в Уголовный кодекс изменения и дополнения ужесточили санкции против упрямцев и их семей. Чаще всего упрямцам было наплевать на эти санкции. Но не их семьям, которые, прежде чем перессориться по поводу наследства, находили возможность сплотиться во имя его спасения, выискивали нужные слова, чтобы утешить своего ретивого дедушку.
Непокорных дедов и бабок по-прежнему жалели, это было обыденным явлением, только местная пресса, когда совсем уже нечего было печатать, опубликовывала самые оригинальные случаи. Сыскные агентства, специальные службы полиции быстро находили строптивых стариков, устраивали им разнос, их сообщников наказывали, а потом переворачивали эту страницу. Чаще всего сообщники не относились к числу родственников. Это были чуть более молодые друзья стариков. В ожидании своей очереди они делали для них все то, что надеялись получить от других спустя год или два.
Было, однако, одно событие, которое запомнилось всем. Случилось оно, если мне не изменяет память, в конце 2023 года. Испанская граница, что неудивительно, была излюбленным местом для беглецов. Они считали, что в связи с применением силами правопорядка все более эффективных средств перехвата проводники совершенно обоснованно скорректировали тариф на свои услуги. Теперь они брали по шестьдесят тысяч франков за голову. В конце концов, это было справедливо: риск был очень велик, да и у беглецов было достаточно средств, чтобы заплатить. Почему они не хотели укрыться где-нибудь во Франции? Потому что желали воспользоваться богатством, заработанным своим собственным потом. Они вкалывали всю свою жизнь и заслужили продолжения отдыха. Позолоченного отдыха. Вес их чемоданов сильно отличался от веса нищенских котомок африканцев, которых они встречали на своем пути.
Пока разгружались машины и в них усаживались кандидаты на иммиграцию, те и другие обменялись несколькими фразами, которые выявили полное непонимание:
— Почему вы хотите эмигрировать в Африку?
— Чтобы жить там мирно, греясь на солнце. Знаете, во Франции в семьдесят два года человек обязан отправиться на кладбище.
— Но, мсье, у нас, в Африке, мало кто вообще доживает до такого возраста.
Короче говоря, в Пиренеях становилось многолюдно, там появлялось все больше и больше таможенников, информаторов, полицейских и собак-ищеек. И тогда подпольные организации по переправке беглецов через границу сменили тактику и перенесли свою деятельность в северные регионы страны. Несколько месяцев средства массовой информации были счастливы оттого, что для них появилась новая пища, с упоением они пересказывали в мельчайших подробностях перипетии морских переправ. Усевшись ночью на подручные плавсредства, невзирая на непогоду и на оживленное судоходство в Ла-Манше, полчища семидесятилетних пытались добраться до английского берега. Их преследовали корабли береговой охраны. Неизвестно откуда появившиеся пираты грабили их, оскорбляли старичков, насиловали старушек, которые не верили своим глазам. Зафрахтованные международными благотворительными организациями корабли старались прийти к ним на выручку, один фрегат под британским флагом изменил курс, чтобы спасти тонущее плавсредство — посол Великобритании был вызван на Кэ д’Орсэ[18], едва не произошло обострение дипломатических отношений, — короче, Ла-Манш стал очень модным. Там тоже, как в случае с партизанами, по выходным стали появляться зеваки, чтобы поглазеть на этих пресноводных моряков.
Большинство из них действительно ничего не знали о море. Но были и те, которые, с трудом вспомнив молодость, сочли себя морскими волками и, пожелав скрыться в одиночку, пропадали в ходе приливов на парусниках или на лодках. А новичкам приходилось прибегать к услугам подпольной сети. Какие-то типы, часто не верившие ни в Бога, ни в закон, усаживали их на плоты или на катера с изношенными моторами, указывали им направление на север, ошибиться невозможно, надо плыть все время прямо. Кому-то удавалось добраться до Англии, кто-то причаливал к берегам Бретани, радовался спасению и попадал в руки полиции. Третьи умудрялись совсем ненамного разминуться с ирландским берегом и продолжали плыть в сторону Ньюфаундленда, удивляясь такой продолжительности плавания.
У всех еще был в памяти потрясающий рассказ выживших пассажиров «Плота ужаса», построенного из подручных материалов, которому журнал «Пари-матч» присвоил такое название. Брошенные бессовестными перевозчиками в лодке без единой пачки бисквитов, двадцать Кандидатов три недели тщетно пытались увидеть берег. Какая-то шаланда обнаружила их неподалеку от Шетландских островов. Больно было смотреть на семерых оставшихся в живых, едва не сошедших с ума в результате потребления морской воды, разбавленной мочой. Ужасное зрелище представлял собой и журналист. Где заканчивалась необходимость информирования и начиналась жажда наживы? Он неоднократно повторял, что наверняка были случаи каннибализма. А как иначе могли выжить эти люди в море? В их-то возрасте! Один из них, самый здравомыслящий, устало указал на товарищей по несчастью:
— В нашем возрасте мы довольствуемся малым. К тому же, если честно, съедобного тут очень мало.
Стараясь казаться честным, автор статьи оставил право делать выводы своим читателям. Голод, жажда, опрокидывания, столкновения с судами — список жертв взволновал общественное мнение. Власти усилили береговую охрану и стали драматизировать участь потерпевших кораблекрушение, вынуждая новоиспеченных навигаторов проходить обучение.
Слава богу, не все Кандидаты стремились увидеть перед собой морские просторы. В большинстве своем они проявляли гражданское послушание и направлялись на смерть без особых приключений. Появилось много исследований по проблематике не выбранной, но принятой смерти. Особенно этим увлеклись социологи. В материале недостатка не было. Описав случай, наглядный, но маргинальный, буйные — это всегда были мужчины, проявлявшие ярость, когда они оказывались в положении алкогольной зависимости, они баррикадировались, много кричали, угрожали убить жену, детей и внуков, отказывались от переговоров, наконец, уставали и сдавались со слезами на глазах — и депрессивные, которые, поразмыслив, но не задав себе правильных вопросов, лишали себя нескольких недель и праздника в «Центре перехода», исследователи сходились во мнении, что можно было выделить четыре основных типа Кандидатов.
Вначале, каждому свое, Гражданин: он подчиняется высшим интересам нации и будущих поколений. Его время прошло, и он уходит с высоко поднятой головой. Его можно было расцеловать за это!
Затем Галл: ворчун, упрямец, постоянно все критикующий, не заботящийся о высших интересах нации, но готовый пожертвовать собой ради славы и ради своих близких. Именно среди них находятся те, кто становится душой общества.
Потом Доверчивый: неприметный, но надежный. Никогда не опаздывает к отправке белого автобуса. Под внешней застенчивостью и испугом скрывает ту твердость души, которую привил ему его духовник: ему надо преодолеть плохой момент, понятно, но сразу же после этого, при небольшом везении, он войдет в Царствие Небесное, туда, где все прекрасно, спокойно и тихо.
Сенатор: назван так из-за скандального случая в Люксембургском дворце. Будем откровенны, он не вызывает симпатии. Посвятив последние годы жизни поиску льгот, выбиванию прав на отсрочку, он продолжает оставаться противником столь раннего ухода из жизни с учетом важности его персоны. До самой последней секунды он ко всему проявляет интерес, жестикулирует, шлет проклятия и проявляет признаки отчаяния. Дальше раскрывать его характер не будем.
После такого анализа социологи занялись вопросом распределения этих категорий по социально-профессиональной принадлежности. Согласно сложившимся обычаям, хотя всегда есть исключения из правил, не так ли, они решили, что Галл чаще всего имел скромное социальное положение, провинция, пригород. Бывший рабочий.
Доверчивый, несомненно, имел христианское образование, дополнявшееся искренней верой в основополагающие принципы церкви.
Сенатор находит возможность преуспеть во многих отраслях, преимущественно в преподавательской деятельности, в средствах массовой информации, в рекламе, в свободных профессиях, в руководстве предприятиями. Но были случаи поведения по типу Сенатор среди аграриев, банковских служащих, что очень кстати подчеркнул автор исследования, случается и в других сферах.
Гражданин, наконец, этот дорогой всем Гражданин, украшает собой любую среду. Это приятная неожиданность открытия. Богатые или бедные, интеллектуалы или неграмотные, реакционеры или сторонники прогресса, они полностью проявляют свои способности в любом общественном слое. И это обнадеживает. Его пример должен служить образцом нашей молодежи.
В качестве заключения эксперты уточнили, что воспринимать их труды следует так, как оно есть: простая фотография общества, и что они не претендовали на открытие истины в последней инстанции, но постарались приблизиться к реальности путем выбора примеров за последние два года.
Они пообещали углубить свои исследования, сделав упор на более четкое распределение по социально-профессиональным секторам. Например, на духовенство.
Духовенства они коснулись совершенно напрасно: это была революция!
26
Когда Бофору стукнул семьдесят один год, он решил уйти. Закон, в разработке которого он активно участвовал, позволял ему, как и всем политикам, продолжать карьеру пожизненно, грустная привилегия, но он посчитал, что пришла пора дать себе немного отдыха. Его дело, его детище, которое он выносил, вскормил, страстно приукрашивал, казалось, могло дальше жить своей жизнью и без его вмешательства.
Он был свидетелем того, как ушли из жизни, став жертвами собственной демагогии, большая часть бывших заговорщиков. Пока еще держались ставший государственным министром Бужон и отошедший от дел Бертоно. И теперь ему предстояло протянуть руку, перевернуть страницу, закрыть странную книгу, чтение которой его отнюдь не увлекало.
Он приводил в порядок свои последние дела, давал своему преемнику очередной урок руководства страной, когда ему сообщили о том, что кардинал Куайно настойчиво требовал его принять. Этот дорогой кардинал, для которого за несколько лет до этого в лихорадке подготовки к референдуму он сделал исключение, чему до сих пор завидовала вся Франция. Но разве он, ни больше ни меньше, не спас французскую Церковь? Чего же еще мог желать его преосвященство?
— Я хочу, господин премьер-министр, отказаться от права на исключение из общих правил!
Бофор едва не поперхнулся от неожиданности. У него не было слов. Монсеньор сильно постарел, сколько же ему было лет, восемьдесят восемь, девяносто? Странное дело: Бофор представить себе не мог, как выглядели девяностолетние старики, во Франции таких уже невозможно было увидеть на улице. Последние образчики укрылись в монастырях или в епископатах. И вдруг на тебе, перед ним оказывается один такой старик, довольно бойкий, весь из себя возбужденный, в своих развевающихся одеяниях.
— Не ослышался ли я, монсеньор? Вы хотите, чтобы исключение из закона было отменено? Вы хотите отправить к праотцам большую часть вашего духовенства?
Вот уж, действительно, неисповедимы пути Господни. Не случилось ли у него что-нибудь с головой?
— Вы правильно меня поняли, господин премьер-министр. Хотя я вовсе не желаю обречь на смерть наше духовенство. Можете ли вы уделить мне четверть часа? Я вам все объясню. Когда я пришел к вам ходатайствовать по нашему делу…
— Это было в апреле 2015 года…
— Вот именно, в апреле 2015 года я описал вам положение, в котором в то время находилась Церковь. Коротко напомню: восемнадцать тысяч священников на более чем тридцать тысяч приходов, восемнадцать тысяч священников, из которых двенадцать тысяч в возрасте старше семидесяти семи лет, двенадцать тысяч монахов и около двадцати четырех тысяч монахинь, среди которых большая часть состояла из довольно пожилых людей. Принимая во внимание кризис веры, картина с годами становилась все мрачнее. В итоге ваш закон обрекал Церковь на умирание. Вы прекрасно это поняли, и наша вам благодарность за это не имеет границ. Будьте уверены в том, что во многих аббатствах, во многих монастырях были поставлены свечи и прочитаны молитвы о том, чтобы Господь Всемогущий проявил к вам милосердие и чтобы…
— Очень мило, спасибо. Так в чем же проблема?
— Проблема? Проблема в том, что… Да простит меня Господь, но сегодня… Слово это не очень хорошее, но все объясняет, и поэтому, господин премьер-министр, не могу выразиться иначе: сегодня какой-то бордель!
— Бордель! Крепко сказано!
— Словечко действительно крепкое, но я говорю правду. Итак, начнем. В 2017, 2018, 2019 годах ваше — как это называется? — применение закона проблем нам не создало. К нам попросились несколько десятков Кандидатов и Кандидаток, конечно, все они не были юными, но мы не могли захлопнуть перед ними врата к Господу. Но начиная с 2020 года мы стали задавать себе вопросы, столкнувшись с потоками соискателей, лица и слова которых не позволяли догадаться о глубокой набожности. Вы можете возразить, что внешность обманчива, но, когда на ваших глазах к воротам монастыря подкатывает автобус с компанией семидесятилетних обеих полов, которые со смехом спрашивают у брата-привратника: «Мы приехали, чтобы стать монахами. Здесь смешанный монастырь?» — и сразу же начинают выгружать свои вещи, вам становится понятно, что что-то здесь не так!
— И что же вы предприняли? Вы их прогнали?
— Но как же мы могли их прогнать? Во имя кого? Тем мы объяснили, что смешанное проживание полов недопустимо, что стать монахом не так просто, как стать членом какого-нибудь клуба. Они обиделись и уехали на поиски, как они выразились, «более сговорчивого» аббатства. И таких случаев были десятки, сотни. Мы попытались их урезонить. Мы стали распускать лживые слухи, сгустили краски, описывали драконовские правила жизни монахов, стали принимать с трехмесячным испытательным сроком, пойдя на обман, да простит меня Господь, с рационом и качеством питания. Мы ввели для них обязательные службы: Предначинание, Утренняя в 7 часов, Третьего часа в 9 часов 30 минут, Шестого часа в 12 часов 15 минут, Девятого часа в 14 часов 15 минут, Завершение дня в 20 часов. Мы клали их спать в половине девятого вечера, поднимали в половине четвертого утра.
— И они выдержали это?
— Кто-то не выдержал, кто-то предпочел явиться по вызову «Центра перехода», нежели жить в таких условиях (что поделаешь, когда нет духовного влечения…), остальные остались. И мы сами себя заманили в ловушку, поскольку они оказались хитрее нас. Они выдержали испытательный срок, сумели притворяться в течение двух-трех недель, а потом сбросили с себя маски! И все стали делать так, как им хотелось. Отказываться от работ, отказываться от посещения служб, всегда первые за столом, ужас! Я не углубляюсь в подробности, вы мне не поверите. А в некоторых монастырях произошли такие случаи, что я… Надеюсь, что Господь всемогущий отпустит мне мои грехи, поскольку во всем этом повинен я, я думал, что поступаю правильно, думал, что решил проблему, а на самом деле я ничего не решил. Мои приходы опустели: у нас нет ни одного кандидата на должность кюре. Понимаете, им это не интересно. Чтобы стать кюре, нужно этому учиться, а потом служить, а это несладко. А вот быть монахом намного проще. Так им, по крайней мере, кажется. Но когда они сталкиваются с реальностью, они меняют мнение. Это не так уж просто, а к тому же не столь удобно. Они приходят поиграть в монахов Святого Бернара, некоторые даже приходят с песнями! Когда они понимают, что такое монашество, они испытывают разочарование. Самые честные из них уходят, хитрые остаются. Остаются и вносят беспорядок в ритм жизни. Наши добрые монахи, настоящие, чистые помыслами, живут в аскетизме и молчании многие и многие годы. Сами понимаете, для них такое соседство становится адом на земле. Они не понимают, что происходит. Они слышат разговоры о сексе, о выпивках, видят такое, от чего волосы становятся дыбом. А новенькие, не уважая ни своих братьев, ни Христа, живут вольготной жизнью. Поскольку у них есть деньги, они идут в город, закупают продукты, вино, легкомысленные журналы, сигареты. Это уже больше не монастыри, а дома отдыха. Самого худшего качества!
— А женщины?
— Женщины? О, здесь ситуация представляется мне менее трагической. Женщины, полагаю, более лояльны. Они охотнее соглашаются вступать в конгрегации социальной направленности. В семьдесят пять лет у них, естественно, нет былой активности, но им часто нравится то, чем они занимаются. Иногда отмечаются случаи запоздалого проявления истинного призвания. Вот, к примеру, Сестры Провидения, они за два года вдвое увеличили свою численность в парижском регионе, открыли больницы, отправили десяток монашек-миссионеров во Вьетнам. И Сестры Бедных — тоже, это немного радует… Увы, мы потерпели также много неудач, есть бездельницы, которые проводят все свое время за разговорами и за уходом за своими ногтями. Сплетницы, пройдохи. Но, повторяю, это не так важно.
— И что же вы предлагаете? Просто отменить ваши исключительные права?
— Конечно же, нет. Принимая во внимание то, что наши новобранцы, паршивые овцы или же нет, все перешагнули через рубеж семидесяти двух лет, мы рискуем попасть в западню, которой хотели избежать. Нет, мы долго обсуждали этот вопрос на Постоянном совете епископата. Нам хотелось бы получить ваше принципиальное согласие: в семинарию или в монастырь должны приниматься только мужчины в возрасте до шестидесяти лет и женщины в возрасте до шестидесяти трех лет. Таким образом, хотя шестидесятилетний возраст уже сам по себе достаточно солидный для принятия обета, это заставит их десять раз подумать, прежде чем записываться в дом отдыха! Посвятить двенадцать лет жизни служению Господу — это требует отречения и означает принесение себя в жертву, что заслуживает награды. А наградой будут годы, прожитые после исполнения семидесяти двух лет. Принимая в свои ряды шестидесятилетних, мы примем женщин и мужчин достаточно молодых для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в наши заведения. Что вы об этом думаете?
— Честно говоря, недурно. Совсем недурно… А что вы сделаете с вашими паразитами?
— С вашего разрешения мы рассматриваем вопрос о предоставлении их в распоряжение республики. Кроме тех, кто играет по правилам.
— Слушайте, вы действуете напрямик! Думаю, что вы воспользуетесь этим, чтобы дать им на память последнее причастие… Хорошо, попробую это устроить. Вам ведь известно, что на будущей неделе я ухожу в отставку. Старый пенсионер — это очень эфемерно. Но это совсем другая история. Последнее мое усилие я сделаю для вас. Французское духовенство — именно французское, поскольку ваш Папа долго вставлял нам палки в колеса своим божественным правом на жизнь! — оказало нам довольно большую помощь в течение всех этих лет, и мы просто обязаны оказать ему эту небольшую услугу. Не беспокойтесь, я этим займусь.
Да, духовенство оказало немалую услугу нам, Бофору, Кузену Максу и мне, в достижении поставленных нами целей. «Не обобщай, — сказал мне, однако, Кузен Макс, когда я поведал ему о низком поступке некоего аббата, — среди священнослужителей всякого хватает, как и везде. И все же там, наверное, чуть больше добрых людей».
Действительно, однажды в мою дверь позвонила одна девочка-подросток. Сосед из лучших побуждений дал ей мой адрес, а священник из еще лучших побуждений вдохновил девочку на этот поступок. Как друг семьи он вовлек ее в свой кружок и вынудил рассказать, какие заботы выражало ее замкнутое лицо.
Девочка была озабочена горем свей мамы. Вот как, у мамы было какое-то горе? Что же это за горе? Ее дедушка уехал. Ее дедушка уехал? И куда же? В леса, вместе с другими, чтобы его не схватили. Схватили, кто? Бедняжка пожала плечами, эти кюре совсем ничего не знают!
— Да жандармы. Ему надо было явиться в «Центр перехода», ведь ему исполнилось семьдесят два года, а в семьдесят два года люди должны…
— Знаю, знаю. Он уехал, хорошо, пусть, если ему так нравится.
— Да, но это не нравится мамочке, потому что у него все заберут, его дом, мебель, и все…
Такая симпатичная, такая приветливая, такая внимательная к служителю культа. Ее семья могла лишиться всего из-за выходки старого эгоиста! Прелат быстро нашел решение.
— Тогда надо разыскать твоего дедушку!
— Но мы не знаем, где он, он нам ничего не сказал.
— Слушай, есть люди, которые занимаются такими вещами, очень хорошие люди. Пойди к этому господину от меня, он мой друг, он скажет тебе, к кому надо обратиться за помощью. Возможно, не стоит тебе говорить об этом маме: давай сделаем ей сюрприз, согласна?
Стоя перед моей дверью, малышка кое-как пришла в себя. В трудные моменты жизни вера может принести желанное успокоение. Эта милая девочка очень много знала! Фамилию своего деда, в этом не было ничего удивительного, а еще его любовь к месту своего рождения, Верхней Виене, фамилии трех его приятелей, одна из которых женщина, с которой он и исчез. Это случилось два месяца тому назад. Он не ладил с дочерью, муж которой за несколько лет до этого тоже исчез, но по другим причинам. Получив эту информацию, я пообещал девочке, что проявлю усердие и что буду держать ее в курсе. Тайно, потому что мама ничего не знала. Поэтому молчок.
В Лиможе у меня были сильные позиции: два талантливых осведомителя, деды которых во время немецкой оккупации участвовали в Сопротивлении. Молодые ребята, очевидно, не совсем понимали, что это означало, они в какой-то мере восстановили равновесие. Со значительно большим успехом, чем шпики той поры, тогда их дедушки не были пойманы.
Они позвонили мне спустя месяц и доложили, что проблема решена. Обнаружен партизанский отряд неподалеку от Руайер, что в двадцати километрах от Лиможа. Май вызывал желание подышать свежим воздухом, дела шли своим чередом, в ногах моих ощущался застой. Я поехал в Лимож, а задачу по Кретей оставил своим приятелям. У меня появилось причудливое и невинное желание петь и гулять по усеянному маргаритками лугу. В Кретей это желание я удовлетворить не мог.
В Рауйер оба моих сыщика довели меня до тропинки, заросшей высокой травой, положили в карманы вознаграждение и повторили ориентиры: через пятьсот метров должен справа показаться ельник, надо пройти через него, потом пройти около километра вдоль ручья, справа будет каштановая роща, а сразу за ней ряд елок, за которыми лагерь. Ошибиться было невозможно.
Я и не ошибся. Стояла чудная погода, на небе было несколько облаков, которые только оттеняли небесную лазурь. Не обращая внимания на протесты маргариток, я шел по лугу, насвистывая какую-то глупую мелодию. А потом я снова стал серьезным. Ельник, ручей, прекрасный ручей, где водилась форель, а возможно, и раки. Каштановая роща и, наконец, ряд елок. А за елками — лагерь. Его я увидел не сразу, но услышал, как люди о чем-то говорили вполголоса, потом послышался смех. Несколько секунд мне казалось, что меня там ждали друзья. Оглушенный ощущением разделенного благополучия, я раздвинул еловые ветки.
Обычно и я получал от этого некоторое удовольствие, когда появлялся в лагере подобном этому, начиналась паника, агрессивность, отчаяние. А там ничего этого не случилось. Ко мне были повернуты удивленные лица. На них не было ни досады, ни грусти. Только едва заметный упрек с некоторым оттенком доброжелательности. Так иногда люди хмурят брови при виде малыша, совершившего какую-нибудь глупую выходку.
Я остался стоять на месте, разводя руками от удивления. С книгой в руках сидел какой-то человек, которому я никогда бы не дал семьдесят два года, — а было ли ему столько? С улыбкой он окинул взглядом своих сообщников:
— На сей раз мы попались… — Потом обратился ко мне: — Вы позволите нам закончить чтение? Тогда садитесь рядом…
Жизнь до нас доносилась Городскими шумами Что с тобой приключилось, Чтоб лить слезы ручьями?День близился к концу, тень от елей уже касалась опушки каштановой рощи, далекой кукушке отвечало журчание ручья, никому ничего не хотелось, все наслаждались этим покоем, этим медленно текущим временем, этим ароматом воздуха.
Как ты распорядилась Молодыми годами?И вот он закончил. Никто не шевельнулся. Я посмотрел на присутствовавших, их было двенадцать человек, из которых половину составляли женщины. Кто-то сидел, поджав под себя ноги, кто-то, лежа на боку, подпирал рукой голову, кто-то лежал на животе, но все они были в позах подростков. Травинка в углу рта, лютик в руке. Но по тому, как один выпрямил ногу, другой встал, потирая спину, можно было понять, что их старые члены плохо приспособились к отсутствию комфорта. Но зато на лицах читалась отрешенная улыбка, мечтательность, спокойствие, которое не потревожило даже мое появление.
— Итак? Вы пришли за нами? Мы не сильно утомили вас?
Уже забыта музыка стихов Верлена[19], тот мир, от которого они бежали, настиг их. Они собрались вокруг меня и ждали моих распоряжений. Поскольку стремление к буколическому удовольствию толкнуло меня на поспешный приезд сюда, я забыл все подготовить заранее. К счастью, явная покорность моих слушателей позволяла пойти на импровизацию. Сделав подобающее лицо, я сказал, что заказанный мною автобус будет готов только завтра и что поэтому я приду за ними утром. Если им это будет удобно. Мое удостоверение агента Министерства внутренних дел доказывало, что на меня можно было положиться.
Я уже собирался распрощаться, вспоминая обратный маршрут: каштановая роща, ручей, ельник, слева на этот раз, поросшая травой тропинка. Но тут человек, который читал стихи и явно пользовался авторитетом у друзей, взял меня за локоть:
— Возвращаетесь в Лимож? Зачем вам ездить туда-обратно? Оставайтесь на ночь с нами, у нас есть свободная палатка. Завтра утром, пока мы будем собираться, у вас будет время, чтобы найти ваш автобус. Согласны?
С самого начала, с момента встречи с той девочкой, это дело начало принимать какой-то причудливый оборот, который выбивал меня из привычной обстановки: слезы, стоны, прострация, попытки бегства. А тут все казалось простым и очевидным, красота обрамления, чистота Кандидатов создавала впечатление безопасности. Я чувствовал себя как во сне и не хотел, чтобы он заканчивался.
Хозяева разбили для меня палатку, положили в нее спальный мешок и пригласили меня разделить их трапезу. Солнце уже зашло, на еще светлом небе стали появляться первые звезды. Пристроив тарелки на колени, мы со вновь обретенным восторгом наслаждались жареным цыпленком.
— Они с фермы, — сказал мне сосед. — Но не стоит досаждать этим бедным людям, он не хотели сделать ничего плохого. Они даже денег с нас не взяли. Старая традиция наших деревень. Держите еще одну ножку, не упрямьтесь, да одолеете вы ее, вы же знаете пословицу: ешь — потей, работай — мерзни!
Вино — оно получено по другому каналу доставки! — и костер, языки которого танцевали на фоне полосы елей, скоро заставили нарушить молчание. Книгочей встал:
— Это наша последняя ночь. Последняя ночь здесь. Возможно, у нас будут еще несколько ночей, но я не уверен в том, что они принесут нам много радости. Мы с самого начала знали, что это наше приключение не сможет длиться долго. Но его стоило пережить. Давайте же не будем портить эту нашу последнюю ночь, давайте насладимся ею, как она того заслуживает. И выпьем великолепного бордо нашего друга Ришара.
Все подняли свои стаканы, я сделал это первым. Вино начало погружать меня в счастливое оцепенение. Я глядел, как все, на огонь, кожу ласкал легкий ночной ветерок, пахший лесом. Отвечая на общую просьбу и потому что кому-то надо было начинать, женщина по имени Мартина согласилась спеть, но только не знала, с чего начать.
— Стоп, вспомнила, песня, которую я выучила в школе, представляете себе, это было почти семьдесят лет тому назад!
Твердым и чистым голосом она запела «На ступеньках дворца». Остальные тихонько подпевали. Я не знал этой песни, я слышал ее впервые, и эти слова вызвали во мне желание заплакать. Я слушал этих приговоренных к смерти людей и понимал, что их жизнь была лучше моей. «Красотка, если ты хочешь, мы можем спать вместе». Они жили лучше и отдавались своему счастью. Счастью иметь возможность пройти через испытания и верить в будущее, счастью страдать и любить. И мы заснем там до конца света, до конца света. Я позавидовал им, позавидовал их волнению, взглядам, которыми они обменивались и в которых светилось удовольствие от разделенной песни и опасения перед завтрашним днем, тепло дружбы и страх перед неизведанным. А главное, в этих глазах горело беззаботное и нежное вновь обретенное детство.
Положив подбородок на колени, я наслаждался песнями Мартины. Я остался сидеть, даже когда все разошлись спать, и продолжал смотреть на угли, которые никак не хотели затухать.
Пучок сухой травы и полено вновь придали жизнь костру. Рядом со мной сел чтец стихов.
— Вы не ложитесь спать? Завтра вы будете не в форме, чтобы забрать ваших беглецов! Как вы нас нашли?
Информация, осведомители, все это по причинам деонтологии и конкуренции не подлежало разглашению. Потрясенный и растроганный в какой-то момент, я посчитал излишним хранить тайну. И я рассказал о том, что одна девочка попросила меня найти ее дедушку по фамилии Пьер Коломбо и что…
— Пьер Коломбо! Да ведь это я и есть! А почему она так хочет меня найти?
— Потому что она скучает по вас, она хотела бы снова вас увидеть.
Слова вылетели у меня раньше, чем я смог обдумать ответ, но, когда я увидел реакцию дедушки, мне стало тепло на сердце.
— Мой ангелочек… Никогда бы не подумал, что…
Глаза его увлажнились. И он стал рассказывать мне о своей жизни врача, о кончине жены, о дочери, с которой не очень ладил, о внучке, которую обожал, но которую разлучило с ним слишком строгое воспитание, религия тоже может принести вред. А потом о своей борьбе против референдума и о бегстве с приятелями.
— Мы здесь уже два месяца. Отрезанные от всего мира. Мы не тешили себя иллюзиями, это не могло долго продлиться, но все равно. Цену вещам придает их эфемерная сторона. Здесь у нас ничего нет, ни комфорта, ни журналов, ни радио. У нас нет ничего, но мы имеем все. Мы снова пожили настоящей жизнью, несравненно более богатой. Ночь под звездами, музыка стихов! Можете ли вы себе представить, что трое из моих товарищей ни разу в жизни, ни разу не слышали стихов! И вот теперь услышали! И они им не надоедают. Конечно, на их чувственность повлияло окружение, но все равно, я счастлив тем, что дал им познать эту радость — умывание в ручье, шорох листьев в каштановой роще. Это богатство, дорожить которым может только приговоренный к смерти человек. Мои друзья вам это подтвердят: мы прожили здесь самые прекрасные моменты нашей жизни.
— Почему вы говорите в прошедшем времени? Кто мешает вам продлить эти моменты?
— Кто? Да вы, черт побери!
— Я? Неужели вы думаете, что после такого вечера я выдам вас властям! Я вас никогда не видел, вы забываете про меня, я забываю про вас.
— О, нет, завтра вы нас заберете. Мы не можем больше здесь оставаться, мы не хотим закончить все на фальшивой ноте. Наше приключение закончилось, оно закончилось так, как мы этого желали, в волнении, в общении. Не перечеркивайте все это. И не вините себя: вы тут совершенно ни при чем, вы всего лишь орудие системы, которая сильнее вас. Но в любом случае спасибо за то, что были с нами до конца.
27
Утром участники сопротивления собрали палатки, прибрали поляну, фалангистам не придется за ними убирать. Они уселись в нанятый мной микроавтобус. Мы расстались с ними на заднем дворе префектуры Лиможа, не сказав друг другу на прощание ни единого слова. Мне очень хотелось, чтобы Пьер Коломбо обратился ко мне по любому поводу, я даже надеялся услышать от него слова поддержки. Но этого не случилось. Он тоже погрузился в молчание, которое подчеркивалось шумом города. Возможно, что именно там, за ельником Руайера, рядом с ручьем, в котором водилась форель, я сделал первый шаг в направлении Дамаска? В любом случае, спустя две недели я объявил моим старым приятелям, что закрываю лавочку.
— Все бросить? Да ты с ума сошел, дела идут как никогда лучше!
— Вопрос не в этом. Для меня все кончилось. Но у меня есть кое-какие мысли. Дайте мне несколько недель.
Когда мы снова увиделись, в голове моей уже был готовый проект.
— Вот что я вам предлагаю. Что касается меня, то я уже устал работать полулегально, раздавать взятки всяким грязным типам, которые готовы за три бумажки продать родную мать.
Я вкратце рассказал главное, о моей ночи в Руайере, о неприятном ощущении, которое я тогда почувствовал, о тех моментах, когда я решил, что больше не вправе был отбирать эти ночи у тех, кому хватило смелости их придумать. Голос Мартины постоянно звучал у меня в ушах, лица за стеклами автобусов постоянно удалялись навстречу судьбе. Против моих новых для них доводов человека, находящегося в конфликте со своей совестью, мои приспешники не смогли возразить. Им тоже разонравилось платить деньги доносчикам, они тоже устали отделываться уклончивыми ответами на вопросы относительно их профессиональной деятельности. Ну, о чем тогда идет речь?
— Уточняю сразу: клиентура остается прежней. Главное и самое важное отличие отныне будет заключаться в том, что вместо того, чтобы доставлять людям неприятности, мы будем удовлетворять их запросы. Понимаете меня? Нет? Я когда-то был знаком с медсестрой, которая почти все свое время сидела у постели больных до самой их смерти. Перед тем как закрыть им глаза, она слышала их последние слова. Она утверждала, что умирающий человек высказывает только сожаления. Никогда — угрызения совести. Хотя в такие моменты человек мог бы воспользоваться этим для того, чтобы облегчить душу. Сожаления! В момент, когда пора вручить Богу душу, люди не сожалеют о том, что совершили то или иное. Нет. Они сосредотачиваются на не принятых решениях, на не завершенных делах. Тогда, правда, они могли сослаться на смягчающие обстоятельства: смерть застала их врасплох, и, отложив это на потом, они оказались у разбитого корыта. Не повезло.
Теперь все оправдания совершенно ни к чему: люди знают дату своей смерти, поэтому у них есть возможность соответственно к этому подготовиться. Вот тут и находится наша ниша: мы будем помогать Кандидатам в осуществлении их самых заветных желаний. Кое-какие организации уже работают в этом направлении. Но неуверенно и с большими группами. Они идут уже проторенными путями: организация паломничества в Лурд, дегустация вин. Меня не интересует серийный пошив одежды, мы займемся индивидуальным пошивом. У каждого есть свои тайны, мы должны будем внушать нашим клиентам достаточное доверие, чтобы они сказали нам то, в чем сами себе не смеют признаться. Мы дадим им возможность осуществить наконец их самые сокровенные желания. Что вы об этом думаете?
Они думали только хорошее, смеялись от удовольствия при мысли о странных желаниях, которые могли вызреть в головах стариков.
— Но надо быть осторожными. Мы должны будем творить чудеса, чтобы не потерять марку. В этом бизнесе потеря доверия не прощается. Нашим девизом станет сдержать обещание или умереть.
— Ты не преувеличиваешь?
— Это я образно выразился. Прежде чем начать, нам необходимо время на подготовку. Вначале постарайтесь проанализировать самые частые желания. Благодаря Кузену Максу я знаком со многими директорами «Центров перехода». Они согласились включить в анкету Кандидатов еще одну строчку: что бы вам хотелось сделать перед смертью? Месяца через три у нас будет исходный материал. Во-вторых, надо будет создать структуру, которая позволит нам удовлетворить запросы. Нам, очевидно, придется прибегнуть к услугам посредников по ряду моментов: путешествия, гастрономия, культура… Поэтому придется найти партнеров и приложить наши усилия на выполнение особых запросов. В-третьих, обзавестись достойным этого названия помещением, с внушающими доверие фасадами и с хорошо организованной работой с клиентами. В этом, если вы ничего не имеете против, нам поможет Мелани: возможно, старые дамы охотнее доверятся женщине. И наконец, сделать так, чтобы о нас узнали. Конечно же, через знакомых, также используем наши связи с работниками «Центров перехода», и, естественно, через рекламу. Я знаю, что скоро откроются другие подобные агентства, первый, кто выйдет на этот рынок, получит значительные преимущества. Последний вопрос: как мы назовем это агентство?
— Э… Агентство… Агентство счастья.
— Это ерунда… А почему бы не назвать его Агентством сожалений?
— С таким названием нам крышка!
Мне пришлось прервать эти творческие изыскания: у нас было шесть месяцев, чтобы договориться по этому вопросу. Каждый из нас подумает над этим на досуге.
Шесть месяцев мы занимались решением проблем и формальностей, которые навалились на нас лавиной, и больше ни о чем не думали. В помещении, которое мы в конце концов нашли на улице Вожирар, нам пришлось поменять гобелены, отремонтировать полы, починить электропроводку, чтобы придать ему вид, достойный агентства: зал ожидания, создающий одновременно радостную и солидную обстановку, два кабинета с креслами, приспособленными для старых тел, и с располагающим освещением. Поначалу Франсуа предложил поставить там такие же прожекторы, как в комиссариатах полиции, которые, по его мнению, помогали выбивать признания из арестованных. Пришлось ему напомнить о том, что мы будем иметь дело не с арестованными, что Кандидаты будут приходить к нам добровольно, что мы должны будем дать им самое лучшее, что только можно, и что ни в коем случае он, Франсуа, не будет привлекаться для ведения переговоров. У каждого будет своя специализация.
Благодаря вопросникам, которые передали мне директора «Центров перехода», я понял, какого рода развлечений от нас могли ждать. Большинство пожеланий — и это ни для кого не было сюрпризом — заключалось в путешествиях и экскурсиях. Значительную долю пожеланий составляли шикарные рестораны, сильные эмоции (хождение по парапету, вождение машины на большой скорости, езда на аквабайках по морю). Чуть меньше, но я интуитивно засомневался в низком проценте и, как потом оказалось, был прав, было желание провести вечер со спутником или спутницей. Формулировка была расплывчатой, но я подозревал, что за ней скрывались всякие гнусности. Надо было быть готовым и к этому.
Поэтому мы заключили договоры о сотрудничестве с двумя агентствами путешествий, несколькими спортивными клубами, с шикарными ресторанами и с лучшими поставщиками. Мне также пришлось связаться с организациями, поставлявшими девочек по вызову. С двумя такими агентствами. В первом из них я хотел получить услуги по высшему разряду, но их расценки, и без того уже высокие, сразу же подскочили, когда они узнали о возрасте моих будущих клиентов. Поскольку девицы не внушали доверия, а мои семидесятилетние клиенты не могли спорить, я посчитал, что следует быть осторожнее, и воспользовался услугами более дешевого агентства.
17 сентября 2025 года мы открыли агентство «Седьмое небо». После чисто школьных разборок мы согласились с предложением Мелани. В конце концов, почему бы не назвать его «Седьмое небо»? Открыли скромно, конечно же, с приглашением избранных гостей из наших знакомых и некоторых важных шишек, но все же открыли. Сославшись на занятость, мэр прислал одного из своих заместителей. За исключением ночных красоток, наши партнеры явились все, безусловно, движимые чувством любопытства.
Самый почетный гость, Кузен Макс, согласился выступить с краткой речью. Конечно, он уже не руководил ГПН, но его новая должность в Министерстве по социальным вопросам не мешала ему внимательно следить за развитием и за работой машины, на создание которой он положил столько сил. В этой связи он отметил хорошее начинание правительства: оно сумело вовремя — пока этим видом деятельности не занялись бессовестные люди, которых больше интересует прибыль, чем человеческая сторона вопроса, — определить рамки, в которых будут работать и процветать такие агентства, которые уже хорошо зарекомендовали себя и взялись за решение достойной всяческих похвал задачи: дать нашим Кандидатам возможность осуществить их последнюю мечту.
Поэтому агентства такого типа будут работать при Национальной службе облегчения переходов. Эта служба будет выдавать лицензии на данный вид деятельности, отзывать их в случае грубых нарушений и следить за соблюдением деонтологии, которая будет строго контролироваться. От себя лично он с удовольствием отметил, что первое из таких агентств было открыто человеком, которого он долгое время знает, ценит и в честь которого хотел бы поднять этот дружеский бокал. Аплодисменты.
Спустя три недели мы с Кузеном Максом снова встретились на скамейке в глубине зала. У «Регалти» сменился хозяин, скамейки остались прежними.
— Помнишь, несколько лет тому назад я сказал тебе, что придет время такого рода деятельности и что ты должен на нее сориентироваться?
— Помню. Я ждал удобного случая или повода.
— И теперь, я понимаю, такой повод нашелся?
— Беглые Кандидаты неподалеку от Лиможа. Они отбили у меня вкус к охоте.
— Долго же тебе пришлось этого ждать… Теперь ты готов? Ты все предусмотрел? Сможешь удовлетворить все просьбы?
— Полагаю, что могу. Мы хорошо поработали.
— А к наглости ты готов?
— Наглость! А при чем здесь это?
— Да при том, что все будет заключаться именно в этом. Именно так будет себя вести большая часть твоей клиентуры.
— Я думал об этом, но как-то не хотелось в это верить…
— Как жаль, что я не могу разглашать профессиональные тайны, ты бы такое услышал! Сделаешь ли ты скидку для первого клиента? Возможно, им будет Перье, я где-то прочел, что он собирается уходить в следующем месяце. А он живет в твоем районе.
— Луи Перье? Академик?
— Он самый. Помнишь, как он в своей речи отказал своим коллегам по перу в праве стать академиками под предлогом того, что семидесятидвухлетний возраст недостаточен для того, чтобы надеяться на бессмертие. Да, можно сказать, что отказ Бофора встал ему поперек горла. Они были так уверены в том, что смогут избежать этой сети. Двадцать восемь приговоренных к смерти Бессмертных, как мы тогда смеялись в министерстве! Извини, не двадцать восемь, а двадцать семь: добрейший кардинал Куайно сумел спасти свой корабль. Из этих двадцати семи шестеро решили удариться в послушничество. Так выразился Куайно. Но лучше всего сказать, в непослушничество. Литература требует жертв.
— Я слышал об отчаянной баталии под Куполом, это правда?
— Нет, слухи были преувеличены. Прежде всего, это было не под Куполом, а в зале на третьем этаже. Покричали друг на друга, и все. У нынешних академиков горячая кровь. Не говоря уже о необходимости срочного обновления состава, надо избирать в члены академии людей, которых действительно читают. Жаргон и коверканий язык в стенах академии, кто бы мог представить себе такое лет пятнадцать тому назад? Но это хорошо, это стряхнет с академии пыль. Понимаешь, я часто думаю над тем, что мы такое создали, но продолжаю верить в то, что некоторым образом мы спасли искусство Франции. Точнее, мы оживили созидание. С дамокловым мечом, который мы подвесили над их головами, зная точную дату, когда он на них упадет, люди творческих профессий перестали откладывать любимую работу на завтра. Они открыли для себя вновь понятие срочной работы. Любой тебе скажет, на светских коктейлях стало появляться гораздо меньше людей. Музыканты, художники, писатели уже не хотят терять время. Прошли времена незаконченных симфоний, прерванных посланий. Ладно, ты сейчас скажешь мне, что народ уже устал от расцвета реквиемов: у поэтов и музыкантов только это слово на устах.
Другим положительным аспектом для них стало то, что средства массовой информации теперь не ждут их кончины для того, чтобы по достоинству оценить их произведения. Эта находка: празднование юбилея, наоборот, очень мне нравится. Прославлять писателя по случаю пятой или десятой годовщины до его смерти — это что-то! С одной стороны, люди могут воспользоваться этим, чтобы вновь ознакомиться с его творчеством, что-то извлечь из незаслуженного забвения. Главное, сам автор может этим насладиться. И в этом большое преимущество. Посмотри, как горд был Френьи в прошлом месяце! Повсюду его фотографии, интервью, жизнеописание, хвалебные отзывы о его книгах. Думаешь, это не придало ему силы при выходе на финишную прямую? Не кажется ли тебе, что это намного лучше лицемерных посмертных похвал старых времен? Очарование посмертной славы имеет свои границы.
Лицо Кузена Макса порозовело от волнения, он умолк. Во время этой тирады я снова увидел перед собой безжалостного и неутомимого автора закона, в правильность которого он сейчас явно не верил. В его старой песне о мире искусств, которая меня одновременно озадачила и восхитила, я уловил настроение измученного сомнениями человека, что проявлялось в утвердительных предложениях, заставлявших забыть о вопросительных. Даже чувство юмора стало его подводить. Он даже не притронулся к своему пиву и, казалось, не услышал моего вопроса о том, что сталось с Рашель. Работа в министерстве была ему неинтересна, долго он там явно не протянет.
— Давай, рассказывай про твое агентство…
28
Глядя на поднятый явно не по погоде воротник плаща и хитроватую физиономию, можно было сразу догадаться, что ему было что скрывать. Он толкнул дверь агентства, остановился, поднял нос кверху, чтобы убедиться в том, что не ошибся, — «Агентство „Седьмое небо“» (Национальная служба облегчения переходов, лицензия № 17.921). Убедившись в том, что не ошибся, он снова толкнул дверь и прошел в зал ожидания.
Я пригласил к себе в кабинет этого успокоившегося, но заинтригованного человека.
— Служба облегчения переходов… Я вот что не понимаю… Служба, это понятно… Переходы, тоже ясно… Но вот что значит облегчение?
— Облегчение можно понимать как смягчение, упрощение, но это было бы слишком просто. Вы ведь знаете терминологию правительственных чиновников. Чем меньше понятно, тем больше им нравится.
Он заговорщически хохотнул.
— Так чем я могу вам помочь, дорогой мсье?
— Так вот, я… Ладно, я записан на вторую сессию октября. Если точнее, 24 октября я обязан явиться в «Центр перехода» в департаменте Ер. Там пока еще нет… таких агентств, как ваше. И тогда я…
— И тогда вы решили обратиться к нам за помощью. Возможно, за тем, чтобы осуществить давнюю мечту. Что-то, что очень дорого вашему сердцу?
Глаза его загорелись. Устроившись поудобнее в кресле, он расслабился, сделал вид, что задумался, а потом бросился на абордаж.
— Вот что меня сюда привело. С самого раннего детства у меня было желание, но не было никакой возможности, если честно, я ее и не искал. А потом, моя жена была категорически против, и… Я хотел бы посмотреть на корриду! Настоящую! Полагаете, это можно устроить?
Этот старик меня разочаровал. В качестве моего первого клиента я ждал чего-то оригинального, брутального, смелого, чего-нибудь, что прославит агентство. А тут коррида! К тому же в конце сентября с этим нет никаких сложностей. Детская забава! Я сделал вид, что размышляю, полистал исписанные глупостями листы моей записной книжки:
— Нет проблем, это я вам устрою. Какое число вам подходит?
Лицо любителя боя быков преобразилось, он смотрел на меня так, словно я пообещал ему достать с неба луну. Дата? Все равно. Ну, конечно же, до 24 октября. Каких тореадоров он хотел бы увидеть? Но он никого из них не знал! А что насчет быков, где они должны быть выращены? В Муира, в Домеке? Но он ничего не понимает в быках! Ему подойдет все, что мы предложим. Я записал его координаты, пообещал, что позвоним ему через пару дней, чтобы сообщить все условия его поездки: дату отъезда — поезд? самолет? гостиница три звезды? четыре звезды? — дату возвращения, мы доставим ему на дом билеты, зарезервируем номер в гостинице, предоставим расписание боя быков. Он оставил задаток и посмотрел на меня увлажненными глазами:
— Честное слово, как здорово, что есть такие агентства!
Со следующим Кандидатом было труднее. Он и сам не знал, чего хотел. Опыт подсказывал мне, что это означало, что на самом-то деле он знал, что ему было нужно, но не смел в этом признаться. Потом он пустился в рассказ о жизни хорошего парня и сделал наконец первый ход: рассказал о прекрасных годах своей молодости, о своих приятелях и приятельницах, о беспорядочной жизни, которую они вели, у некоторых дам горели при виде его глаза, но это было так давно, а теперь старики никого не интересуют… Он говорил не останавливаясь. Я попытался выгнать его из норы, он стал заговариваться. Пришел еще один клиент, которого Мелани попросила немного подождать. Я занимался мужчинами, она женщинами. И тогда я спросил в упор:
— Вы хотите девушку?
Он покраснел, а потом, отбросив приличия, кивнул. Как интересно было наблюдать за этим старым лысым мужчиной, укрывшимся за дымчатыми стеклами очков, смущенным, как при первом причастии. Начиная с этого момента ситуация стала совершенно простой.
— На какое время? Сутки? Ночь? Вечер?
— Это, наверное, дорого?
— Все зависит от продолжительности свидания и от девицы. Можете выбрать из этого каталога.
Не надо мне было давать ему выбирать, надо было просто предложить самую страшную. Слюнявя палец, чтобы не пропустить ни одной страницы, он своими вылезшими из орбит глазами внимательно изучал каждый участок тела, с каждой из девиц предавался занятиям, которые осуждались моралью, тяжело дышал. Я оставил его наедине с невестами и отправился помочь Мелани. Но она в моей помощи вовсе не нуждалась: ее Кандидат в ответ на мою просьбу немного подождать ответил, что с удовольствием готов подождать, хотя может изложить свое дело и Мелани. После этого я смог вернуться к моему нерешительному клиенту. Но он был нерешительным только наполовину: он явно знал, чего хотел. Но пока не решил, с кем. Я попробовал ему помочь:
— Может быть, эта? Или эта?
Молчание. Я продолжил.
— Может быть, эта и эта?
Я попал точно в цель. Дрожащим пальцем он поправил свои очки:
— А можно… они…
Я утвердительно кивнул головой, но просветление продлилось недолго.
— Да, но эти конфетки будут дорого стоить?
— Чуть больше, чем две цены…
Он признался мне, что во время военной службы он получил сержантские лычки. Его командирам нравились его властность и инициативность. Теперь он эти качества растерял. Потрясенный, он по-мужски огорчился.
— Вот эта! Одна ночь! Гм, нет, только вечер. Но, гм… один вечер, можно… есть ведь время для…
— Программу определяете вы. Вечер означает с 19 часов до часу ночи. Оплата вперед здесь, в агентстве. Потом ничто вам не помешает заплатить девушке за сверхурочные… Вот, по просьбе агентства «Седьмое небо». Дорого? Вы полагаете? Увидите, за эти деньги вы получите все что угодно. Я позвоню вам сегодня вечером и предложу даты, хорошо? Договорились, спасибо. До свидания, мсье.
Я подумал о его счастливой избраннице Кате. Ей придется провести сказочный вечер без бакшиша, и такое бывает. Потом я присоединился к Мелани. Она уже закончила со своим Кандидатом, очень покладистым человеком. Он был гурманом. Вечером накануне его отъезда в «Центр перехода» надо было доставить ему домой выбранные им блюда и вина. При этом он выдвинул одно условие: официант должен был быть в ливрее. Мелани беспокоило количество, он не мог столько съесть. Но он изложил ей свою философию на этот счет: или пролезет, или сломается. Если сломается, он умрет на двадцать четыре часа раньше положенного, какая ерунда! Было о чем переживать!
Коррида, куртизанка, банкет — наш первый рабочий день открывал радужные перспективы. Мы уже собирались закрываться, когда в зал ожидания как ураган ворвалась какая-то старушка.
— Вы занимаетесь исполнением последнего желания?
— Можно назвать это и так…
— Хорошо, слушайте меня. Мне остается одна неделя. Вы организуете для меня в субботу обалденную фиесту на двух человек.
— Фиесту? А какого рода фиесту?
— Полную! Ужин, кабаре и шлюхи.
— Простите?
— Ужин, кабаре и шлюхи. Но по высшему классу, невзирая на расходы. Может быть, я зажгу лампу. Перед тем как уйти, я хочу доставить удовольствие моему внуку. У этого бедняги такая скучная жизнь! Мать его холит и лелеет, отец держит в узде, он носа не поднимает от своих книг. А ему уже девятнадцать лет. В моем возрасте люди начинают понимать, что учеба это хорошо, но в жизни есть многое другое. Я хочу показать ему, что именно. Сделайте все как надо, это будет для него сюрпризом, и для меня тоже. Что касается девицы, постарайтесь, чтобы… ну, чтобы она была хороша во всех отношениях. А я уйду спать, с меня будет достаточно! Представляю, какие будут лица у его родителей, когда они узнают об этой экспедиции! Задаток? Да, конечно, вот. О, как мы повеселимся в субботу!
Какая добрая женщина! Это стало небольшим триумфом для Мелани: «Видишь разницу между мужчинами и женщинами? Женщины думают о других, делятся радостью. А твои мужчины — каждый за себя…»
— Не заводись, всего четыре клиента, одна из которых женщина, выводы делать еще слишком рано. Кузен Макс был прав, когда говорил, что вскоре меандры человеческой души не будут для нас секретом.
Дверь снова с грохотом распахнулась под напором урагана:
— Забыла уточнить: пить будем только шампанское. В ресторане, кабаре, только шампанское, никаких смесей, не хочу, чтобы малышу стало плохо в момент… Веселенькая будет суббота!
Самый конец рабочего дня прошел намного спокойнее и дал нам возможность поспорить на излюбленную тему: режим работы агентства. Я стоял за принцип качественного круглосуточного обслуживания: двадцать четыре часа в сутки. Если не держать сотрудников постоянно, надо оставить номер телефона, по которому нас можно будет найти в любой момент. Заботясь о личной жизни, Мелани выступала за более разумный и щадящий график: с 9 часов утра до 19 часов вечера.
— Для чего нужна круглосуточная работа? Ты думаешь, что какой-нибудь Кандидат захочет прийти сюда ночью, чтобы изложить свою задумку? Но ведь эту идею он вынашивал в течение сорока, а то и более лет. Значит, это не является для него откровением, наитием, желанием, которое возникло вдруг и должно быть немедленно удовлетворено. Нет, у твоих клиентов решения вызревают постепенно, они уже поставили было крест на свой мечте, а потом вдруг узнают о существовании нашего агентства и снова начинают мечтать. Но теперь уже эта мечта принимает реальные очертания, потому что от них она уже не зависит. Им надо рассказать о ней кому-нибудь, тайно, и все шито-крыто. Они делают несложные расчеты: сколько им остается прожить, сколько у них денег в наличии, поскольку эти деньги в любом случае им скоро будут не нужны. Значит, все обдумывается заранее, ничего не делается спонтанно. Взвесив все «за» и «против», с удовольствием констатировав, что в колонке «против» почти ничего не отмечено, они справляются о часах работы агентства и приходят к тебе со своей тайной мечтой. Кому-то захочется прийти утром, смелость встает с зарей, другие предпочтут явиться ближе к вечеру, после сытного обеда. Вот так.
Именно так, она была права. Будем работать с 9 до 19 часов, а там посмотрим. А Кандидатка, которая только что вошла, желала говорить только с Мелани. Ей было тяжело носить в себе свою тайну. Через две недели она должна была уехать на белом автобусе, и ей хотелось всего-то ничего: пойти в театр, посмотреть какой-нибудь веселый спектакль, а потом отправиться в ресторан, в пивную, где будет много людей вокруг.
— Но что же вам мешает пойти туда самой? Вы вполне в состоянии это сделать.
Но это было не все. Она хотела пойти в театр, а потом в ресторан с кем-нибудь.
— С кем-нибудь? А с кем именно?
— С тем, кого вы найдете. Желательно с женщиной, умной и любезной. Она пообщается со мной, выслушает меня.
Потому что Кандидатка, овдовев тридцать семь лет тому назад, не имея ни детей, ни семьи, вынуждена была с болью в сердце в полном одиночестве брести по этой пустыне жизни, не имея ни друзей, никого, кто смог бы выслушать ее или просто поговорить с ней. Хорошо еще, что у нее был телевизор и кот. Перед тем как умереть, она хотела бы вновь испытать радости дружбы, пусть и искусственной. Перед тем как уйти из жизни, она хотела бы снова занять свое место в обществе, сделать именно так.
— Слушайте, если вы не против, я лично буду вас сопровождать.
Мелани проводила старую женщину, они расцеловались, как настоящие подруги. Бабулька проронила слезу, Мелани тоже. Она и слышать не хотела ни о гонорарах, ни о задатке, вообще ни о каких деньгах.
— Продолжаю утверждать, — начала она, сжимая в руке свой носовой платок, — женщины — это совсем другое дело… Теперь мне надо успокоиться, а то совсем расстроюсь!
Она умела понимать людей: отзывчивость, сострадание, способные толкнуть людей на откровенность, и в то же время чувство дистанции, стремление к объективности. Все эти необходимые качества приводили к тому, что ее клиентки доверяли ей заботу по организации их последних радостей. Но по причине своей маленькой слабости, повышенной чувственности она навсегда сохранила это волнующее воспоминание: ее старушка, посмеявшись над выходками актеров, хорошо и обильно поужинав, от души поболтав, разрыдалась в момент расставания. Ей уже совсем не хотелось умирать, ведь жизнь могла быть такой замечательной!
Моя, мужская часть клиентов-Кандидатов вызывала два варианта отношения к ним. Понимание или твердость. Понимание, украшенное положенной в данном случае лестью, поскольку петуху нравится, когда его почесывают в том месте, где у него чешется: вечер в «Фоли-Бержер»[20]? Видно, что вы знаток, прекрасный выбор. Провести выходные в Мон-Сент-Мишель? Это не банально, поздравляю вас, мсье, отличный выбор. Понимание сопровождалось улыбками, которых от меня ждали. Оно продолжалось до тех пор, пока желания заказчика не опускались ниже пояса.
Или твердость, поскольку мокрые курицы любят подчиняться. Вам нужно, мсье, провести вечер в «Фоли-Бержер». Что? Нет, это не дорого, я этим займусь. Я приеду за вами в субботу в 9 часов вечера. Посещение Лувра, хотя вы в этом не уверены? Почему бы и нет, вот, полистайте каталог, да, посмотрите внимательнее вот на эту, Жюстину, она вам нравится? Вы предпочитаете рыжих? Может, Кармен? Не знаете? Ладно, остановимся на Кармен, я ее знаю, вы не пожалеете…
Я начал задумываться над обоснованностью утверждений Мелани. Может, и впрямь женщины встречают смерть в более благородном состоянии души, чем мужчины. Этот вывод меня огорчил.
Как и новость об отъезде Кузена Макса. Все-таки, как он и обещал не столь давно, он решил воспользоваться своим положением свежеиспеченного пенсионера, чтобы покинуть нас:
— Я не выхожу в отставку, я вылетаю в отставку, почувствуй разницу! Но не переживай, мы еще увидимся, у нас будет о чем поговорить. Продолжай хорошо заботиться о своих клиентах.
Совершенно неожиданно для всех он решил улететь на север Камеруна, где присоединился к небольшой команде НСГ, которая решила дать новую жизнь деревням, разоренным засухой, политикой правительства и оттоком жителей.
— Ты не догадываешься о главной причине, которая толкает меня на это?
Честное слово, я об этом не догадывался. Возможно, из-за стариков, но глубокая мотивация Кузена Макса была мне непонятна. А он ничего мне об этом не сказал.
Спустя несколько месяцев после этого мой отец получил вызов на ближайшую сессию в «Центр перехода» в Эссоне. После открытия моего сыскного агентства он не желал ни слышать меня, ни видеться со мной. Новости о нем мне рассказывала его подруга, а вообще-то мне на это было наплевать. Классический конфликт поколений: мир развивался слишком бурно для человека, который продолжал жить воспоминаниями двадцатого века. Когда же я сменил род деятельности, то подумал, что когда-нибудь он придет ко мне, расскажет о своих мечтах, и это будет поводом для нашего примирения и нашего сближения. Но этого не случилось. Он сел в свой белый автобус с голубой полосой. Вероятно, когда он протянул руку для укола, в голове его были одни сожаления.
Как это ни удивительно, но намного больше я огорчился смертью Пьера. Глупая автокатастрофа, виновником которой был какой-то юнец. Во время религиозной церемонии прощания я вспомнил о дорожно-транспортном происшествии, которое устроил мне старик двадцать лет тому назад. Может быть, стоило — поскольку молодые стали представлять снова, как, впрочем, и всегда, общественную опасность — уготовить им такую же судьбу, какая была уготовлена старикам? Как только Кузен Макс вернется, надо будет с ним об этом поговорить. Нация без молодых и стариков. Приговоренная к вымиранию. Нет, можно еще будет открыть двери для иммигрантов. Эти несчастные, которые подвергаются тысячам опасностей в Гибралтарском проливе и в Пиренеях, не поверили бы своим ушам: господа, добро пожаловать. И были бы с большими почестями встречены нашим правительством, которое все больше и больше сваливалось вправо.
Уйдя в размышления, я даже не слышал молитвы пастора. Мне казалось, что со смертью друга я сам приблизился к смерти. Казалось, ее уже не было на церемониях открытия «Центров перехода»: за наигранной радостью, за гастрономическими изысками и за последними танцами привычка к этому процессу понемногу стерла всякую горечь, всякое возмущение ныне живущих. Семьи провожали своих стариков до автобуса, на следующий день приходили забрать урну, которую им дарила администрация, с тем же безразличием, с каким они дома включали газ.
Для того чтобы у людей снова возродились волнительные чувства потери, оставались лишь несправедливость болезни или несчастный случай. Пьер уходил в окружении друзей под музыку, которую он любил. Он мог в последний раз посмотреть на нас с любовью, растрогаться нашими слезами. Я вдруг испытал зависть к его кончине. Он ушел из жизни сам, по-своему, не дожидаясь гротескных карнавалов, которые ждали семидесятилетних. Его пируэт казался мне вершиной элегантности.
29
За несколько лет работы агентство «Седьмое небо» завоевало хорошую репутацию. Несмотря на конкуренцию, мы сумели остаться верными нашему принципу: качество приема и разговора с клиентами, качество оказания услуг, разумные цены, постоянное участие. Усилиями Мелани и моими трудами мы всегда держали наше слово — всегда или почти всегда. Когда нам казалось, что осуществление мечты было связано со слишком большими проблемами, мы честно говорили об этом клиенту. Так было, когда один дедок решил отпраздновать Новый год на вершине Монблана. С елкой, свечами и подарками наверху.
— Но только надо будет приготовить подарки и для провожатых!
— Слушайте, мсье, взойти на Монблан в разгар зимы — немыслимое дело. Тем более в вашем возрасте. Вы там погибнете!
— Ну и что? Умру я там или спустя две недели в «Центре перехода»…
— Да, но проводники пока умирать не хотят…
— Ладно, если вы не хотите за это браться, найду других!
Была еще одна неудача, но другого рода. С одним бывшим пролетарием, который гордился своим социальным происхождением. Его мечта вошла в конфликт с его классовым самосознанием, ему же хуже. У него был четко разработанный сценарий, все было расписано как по нотам. И даже было название: «Ночь сеньора в казино». По сценарию он приезжал в казино, Монте-Карло его вполне устраивало, на большом лимузине в сопровождении очаровательной спутницы и с карманами, набитыми банкнотами, все мои деньги, но мне на них наплевать, у меня нет наследников. Он играет, проигрывает крупную сумму, остальное отдает обслуживающему персоналу, на залитом лунным светом балконе целует свою красотку, — если все этим ограничится, это будет стоить не так дорого? — прогоняет ее, а потом пускает себе пулю в лоб. Мы немного повздорили по поводу развязки: и речи быть не могло о том, чтобы я достал ему оружие, поскольку Национальная служба облегчения переходов отбирала лицензии и за много меньшие нарушения. Я охотно закрою глаза на его намерения покончить с собой, но оружие он должен будет найти сам. Ладно, договорились. Все было замечательно. «Роллс-ройс», платиновая блондинка, швейцары в ливреях с золотыми галунами, по-королевски щедрые чаевые, ставки на зеленом сукне, платиновая блондинка одной рукой нежно касается плеча сеньора, а другой рукой удерживает бокал шампанского и улыбается подходящей для этой ситуации загадочной улыбкой. Но все пошло не так с первыми вращениями рулетки. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось подговорить крупье. Можно было подумать, что он все делал нарочно. За три часа игры наш пролетарий выиграл баснословные деньги. Дуракам везет. Блондинка уже гладила его по плечу с неподдельной любовью. Устав от игры, он встал из-за стола, держа в охапке жетоны, на балкон подниматься не стал, выбросил свой револьвер в урну и помчался на улицу старой Ниццы, где было полным-полно людей, которые могли помочь перейти границу. Италия, потом Южная Америка. Тем хуже для сценария.
В сравнении с другими скандалами, которые потрясали сферу нашей деятельности, эти неудачи не могли испортить нашу репутацию. Привлеченные запахом легких денег — они, по крайней мере, считали их легкими, — толпы желающих заняться этим бизнесом бросились в Службу облегчения перехода. Знакомства, взятки, раз, два и готово. Открывались агентства, которые уважали только лишь кошельки Кандидатов. Они им предлагали все что угодно по очень низкой цене. По телевидению, на афишах реклама расхваливала удовлетворение самых низких инстинктов. Стоящий в окружении слегка одетых молодых девиц старый весельчак предлагал организовать банкет всего лишь за две тысячи девятьсот девяносто девять франков — напитки оплачиваются отдельно. За сумму меньше чем двадцать пять франков можно было провести две сказочные ночи в гареме, самом настоящем гареме. Эти агентства ловили клиентов на скидки и бросовые цены. Они мягко стелили, но обманывали, в любом случае жертвы не имели возможности подать жалобу на недобросовестные услуги.
Вскоре все дошло до нелепости. Одно агентство в Лионе открыло свои двери, которые вовсе не надо было открывать, под девизом в новом тоне: «Перед тем как уйти, повеселитесь: подшутите над вашими друзьями». И старики начали веселиться! Поначалу это были безобидные шутки, а потом все приняло другой оборот и докатилось до сведения счетов. Сброшенный в канал автомобиль друга, подожженный дом, нападение на углу улицы. То тут, то там стали появляться сообщения о подозрительных кончинах. Службе облегчения пришлось на это отреагировать: отзыв лицензий у десятков агентств, запрет шуток любого рода, как добрых, так и злых. Перед тем как уйти, старики сохранили за собой право повеселиться, но по-доброму.
А разве не по-доброму они веселились в обстановке всеобщей радости по случаю Ста дней деда? Вот уже несколько лет как коммерсанты, вдохновленные празднеством Хеллоуина, снова ввели в моду кутежи бывших выпускников лицеев. С той поры за сто дней до смерти самые веселые дедушки и бабушки, надев белые балахоны и побрякушки, стали забрасывать прохожих конфетти и мукой. Крики жертв и нападавших сливались в один радостный визг. В деревянные чашки со звоном падали монеты. Вечерами в недорогих ресторанах раздавались распутные песни, из дверей, покачиваясь, выходили на тротуар силуэты, которые переводили дух, держась за фонарные столбы, и удалялись зигзагами навстречу оставшимся девяноста девяти дням жизни.
Я больше уже не мог. Я вскоре закончил то, что по официальной терминологии называлось этапом № 1, что давало мне право уйти на пенсию. Впереди у меня было нечто лучшее, этап № 2, то есть семнадцать лет беззаботной жизни, которой все дожидались с нетерпением. Для меня пятьдесят пять лет наступили слишком рано, безделье кружило мне голову. Я с таким трудом сумел найти работу, что даже не представлял себе, что когда-нибудь ее брошу. Без особых усилий я добился продления трудовой деятельности и мог продолжать наблюдения за природой человека. Мне казалось, что развитие людей шло в ошибочном направлении. Но где было правильное направление? В течение многих лет я старался следовать желаниям моих клиентов — я чаще всего использовал термин «пациенты», поскольку он лучше всего отражал волнения, которые испытывали большинство Кандидатов, — там не было ни романтизма, ни великодушия. Мелани считала это нормальным. По крайней мере, неизбежным:
— Оглянись вокруг, посмотри на поведение людей, когда они приближаются к семидесяти двум или семидесяти пяти годам и видят приближение развязки. В начале своего пенсионного возраста они используют свое свободное время, свою активность для того, чтобы участвовать в жизни общества, чтобы позаботиться о своих близких. Но по мере того, как приближается их час, они начинают замыкаться в себе. Чем старше они становятся, тем больше интересуются собой, тем сильнее чувствуют потребность «воспользоваться этим», воспользоваться последними годами жизни, чтобы предаться любым излишествам. Стараясь наверстать упущенное, они идут на все, а чувство безнаказанности придает им смелости. Им больше нечего терять, и они курят, едят, нет, извини, жрут, пьют. Они подбирают крохи собственной жизни. Рекламщики правы: их излюбленная цель — это те, кого смело называют «новые молодые», кто готов все испытать, все попробовать, а главное, способен за это заплатить. Поэтому в данных обстоятельствах, поварившись лет пять или больше в изобилии, в эгоизме, в попустительстве, как они могут накануне смерти вновь обратиться к ценностям, которые их научили презирать? Даже женщины, мне тяжело об этом говорить, но надо смотреть фактам в лицо, даже женщины захвачены этой волной гедонизма. Куда мы катимся?!
Но вот уже четыре или пять лет как вдохновленные, безусловно, рекламными кампаниями, направленными на молодых стариков, и замороченные агентствами облегчения перехода бабушки, похоже, очнулись. Чувственная струна не исчезла, они все чаще хотели разделить свои последние радости со своими детьми, с мужьями, если те еще были живы, с друзьями. Но участились случаи вывихов в сторону альтруизма. Воспылав жаждой общения, эти дамы стали скатываться к гурманству, а потом к приключениям: полеты на монгольфьерах, подводное плавание, этап велогонки «Тур де Франс». А потом, как будто бы они все вертелись вокруг одного горшка, женщины стали позволять себе прихоти, требовавшие припудрить носик: вечер вдвоем с таким-то модным певцом, с таким-то актером, которого они любили всю свою жизнь. Это стоило им бешеных денег, но они не обращали внимания на расходы. Вначале мне было очень трудно выполнять такие просьбы: артистов мало вдохновляла мысль о том, чтобы появиться на публике со старушкой, и они выдвигали чрезмерные условия. К счастью, такому отношению положила конец одна телевизионная передача. Поняв, что публике великодушные жесты по душе, оценив, что тем самым они предстают в выгодном свете, всякого рода знаменитости вдруг оказались свободными и готовыми позволить дамам и даже мужчинам, как сказала одна певица, провести сказочный вечер.
Следующим этапом стали, как и ожидалось, пожелания, связанные с плотскими удовольствиями. В конце концов, даже и в пожилом возрасте женщина остается женщиной, почему она не могла испытывать желание, потребность погладить нежную кожу, почувствовать, как к ее груди устремляются нервные пальцы любовника? К этому состоянию души Мелани, поборов первое разочарование, сумела отнестись с пониманием. Да, конечно, это совершенно нормально, вы далеко не первая и не единственная. Поначалу это было катастрофой, потому что такие заказы загоняли нас в тупик. Пришлось срочно подружиться с агентством по поставке жиголо. Услуги их стоили дорого, все по первому классу и в различных вариантах. Пожилая женщина, пожилой мужчина, по одному, группой — только заказывай. И плати.
Мелани делала хорошую мину при плохой игре, она не отказывалась от своих прежних утверждений:
— Старики ищут удовольствия, старушки хотят немного любви. Есть разница!
Когда Кузен Макс вернулся во Францию, ему только что исполнилось семьдесят лет.
— Семьдесят лет, понимаешь! Заметь, я ждал худшего. Я в прекрасной форме. Не знаю, кому это могло прийти в голову, но приговаривать к смерти людей в возрасте семидесяти лет просто-напросто глупо!
Я снова увидел его таким, каким он был раньше, Африка явно пошла ему на пользу.
— Знаешь, я там видел удивительные вещи: деревни, где почитают стариков, где считают, что с возрастом приходит мудрость и доброта… Когда я решил рассказать им про наш опыт, они приняли меня за сумасшедшего, а потом долго смеялись, решив, что я пошутил. Я не стал продолжать. Какое-то время я подумывал принять камерунское гражданство, но потом отказался от этой идеи: во-первых, у меня нет детей, чтобы оказать мне помощь в старости, а потом, у меня все-таки есть гордость. Рабочий винтик машины «Семьдесят два» откатится в сторону, когда придет его очередь? Никогда в жизни, лучше умереть, если можно так выразиться. А тебе скоро будет шестьдесят, и это кажется мне странным! Расскажи немного о работе. Что они из себя представляют, что мы представляем из себя, когда приходит наш час? Я не ошибся, когда предсказал, что 75 % твоих заказов будут касаться секса? Попробую догадаться. Большинство просьб: ночь, по крайней мере вечер с красивой девушкой. Кое для кого свиданию предшествует хороший ужин. В отдельных случаях тебе приходилось исполнять желания амбициозных стариков: две девушки. Экзотика: африканки, азиатки. Для извращенцев, возможно, молодые девочки, девственницы. Несомненно, для любознательных мужчин. Ну, и кое-какие оригиналы для общего счета. Я прав? Да? Я был в этом уверен. А остальные 25 % случаев — коррида, спорт, путешествия, еда, все очень классическое… Было еще что-то?
— Ты почти все назвал. Но все же были интересные и волнительные эпизоды. И смешные тоже. Одна женщина хотела любой ценой собрать белые грибы, настоящие, там, где они растут! Мне повезло, был сентябрь, мы отправили ее в Ардеш к моему приятелю, она там их столько собрала, что у нее голова пошла кругом. Но вот спустя полгода приходит старичок и требует того же самого. Белые грибы в апреле! И он получил свое. Мой друг из Ардеша помог мне спасти лицо фирмы: он достал из морозильника несколько грибов и воткнул их в землю на пути старичка. Как тот был счастлив!
— А как живет Франция?
— Столь же хорошо, сколь и мирно. Смерть уже больше не удивляет людей, они знают свой срок. И имеют все возможности, чтобы к ней приготовиться, украсить ее тысячами изысков, организовать свой последний ужин, последнюю прогулку, написать последнее слово, то есть изменить эпитафию. А потом начинают ждать смерть со скукой на лице. Именно скуку я начинаю чувствовать вокруг себя все сильнее и сильнее. Не знаю почему. Что тебе еще рассказать, что-нибудь очень смешное или менее смешное? Что, по утверждению «Монд», есть лаборатории, где стариков оставляют в живых, восьмидесяти-, девяностолетних, чтобы изучать их поведение, их эволюцию в специфических условиях. Ходят даже слухи о вивисекции… Сейчас ведется расследование. Что добрые христиане изменили текст молитвы «Приветствую тебя, Мария». Кажется, первыми начали дети, которые развлекались тем, что заканчивали молитву словами «отныне и до семидесяти двух лет» вместо «отныне и до самой нашей смерти». Это было мило. Взрослые много спорили по этому вопросу, спор завершила Церковь, и теперь молитва заканчивается какофонией: до шестидесяти одного года, до двадцати четырех лет, до трех с половиной лет, до шести месяцев, ну, ты понимаешь, каждый называет срок, который ему остался для жизни. Что еще интересного? Ничего… Я тоже начинаю впадать в скуку, когда я перестану работать в агентстве, время покажется мне долгим.
— А как Мелани?
— Мелани? Да, конечно, ты ничего не знаешь… Она меня бросила. Ушла и открыла собственное агентство для женщин, выдумки старых козлов переполнили в конце концов чашу ее терпения… Она, вероятно, и меня причисляет к старым козлам. А я впервые привязался к женщине… Однако я страдал от этого меньше, чем ожидал. Ничего не понимаю, мне кажется, что ничто меня больше уже не трогает, все становится серым, мелким, неважным. Словно в моей жизни перестал дуть ветер. По правде говоря, ее уход ничего не изменил в моей проблеме. А проблема моя в том, что теперь я вижу забор, конец поля. Я вижу его и не свожу с него глаз, он мешает мне дышать, каждый день все больше и больше. Я мог бы поступить как другие: набычиться и начать прожигать оставшиеся мне годы, уйти с арены с опущенной головой. Но это сильнее меня, даже когда я этого забора не вижу, я его чувствую, он там, в конце поля.
— Ты ведь знаешь историю Калигулы, которую рассказал Камю[21]. Он убивал своих подданных по собственному усмотрению лишь затем, чтобы уцелевшие поняли, какое это счастье — жизнь… Я вот думаю… Господи, какие подручные колдунов…
Кузен Макс умолк. Он в очередной раз оставил на столе «Регалти» нетронутый бокал пива, оставил меня в одиночестве на нашей скамье, ушел, даже не попрощавшись.
Кузен Макс умолк навсегда. Через день в газетах появились сообщения о его смерти. Пуля в висок. Он поспешил разделаться с Калигулой.
30
В тот же самый момент, когда я выехал на главную аллею — аллею Надежды, все-таки можно было посметь надеяться! — я почувствовал тяжесть в желудке, неожиданно подступившую тошноту. Вот так, готовишься-готовишься, прекрасно знаешь, как все происходит, но смерть убивает все самые твердые решения, и пытаться с ней справиться — иллюзия. Зверь всегда огрызается… Зверь во мне огрызался потому, что он чувствовал, что хотя эта церемония его еще не касается, но следующая непременно коснется. И что это произойдет именно здесь, в Лиможе, куда я записался, чтобы вернуться к моим семейным корням.
После нашего с Кузеном Максом посещения «Центра перехода» в Сент-Этьене, я решил вычеркнуть из памяти даже названия этих центров. И это мне почти удалось, принимая во внимание прожитые годы, мрачная рутина, в которой я продолжал оставаться из-за позднего выхода на пенсию, преждевременного ухода Мелани. Смерть Кузена Макса окончательно вырвала меня из реальности, все оправдания которой, как мне казалось, он унес с собой. Из праздности я выходил только тогда, когда родители маленького Макса просили меня присмотреть за малышом, за внуком, которого Пьеру не суждено было увидеть. Он стал моим внуком. Но я не мог отважиться спросить у них, почему они наградили его именем из другого времени.
Думаю, что мое недомогание было связано с тем, что я увидел в конце аллеи тарелку. На фоне неровностей местности она, казалось, увеличивалась и поднималась по мере моего приближения к ней, а утренний майский туман делал ее еще более величественной. Здание из стекла и стали, лужайки, клумбы с цветами, бескрайние лиможские леса на горизонте усиливали тишину, которую не мог больше потревожить двигатель моего автомобиля: я вышел из него, стараясь собраться с мыслями перед тем, как насладиться красотой дня. Стоп, сказал я себе, взбодрившись от свежего воздуха, скоро уже половина двенадцатого, должны появиться первые автобусы. Не успел я немного пофилософствовать, да, мы, старики, чем старше становимся, тем чаще смотрим на часы, обращаем внимания на погоду: одним глазом на циферблат, другим на небо, да уж… Короче, едва я успел перевести дух, как послышалось урчание первого автобуса.
Лица сидевших в нем гостей не соответствовали обстановке: мне показалось, что они был скорее безмятежными, но автобус так быстро проехал мимо меня! Возможно, они были задумчивыми. Нет, скорее сосредоточенными. Ну да, сосредоточенные гости. Это определение вполне соответствовало выражению их лиц, но мне это пришлось не по душе: разве можно было быть сосредоточенными, сидя в автобусе, который едет по аллее Надежды?
Как мне порекомендовал Хартли, я поставил машину на стоянку для персонала, но, прежде чем узнать, где находится служебный вход, я ненадолго задержался, потому что любопытно было понаблюдать за собравшимися у главного входа стариками. Дверь тамбура молча поглощала выходивших из автобусов дедушек и бабушек. На фронтоне портика матовыми золотыми буквами было написано: «Региональный центр перехода». Знаменитый РЦП, которым так гордился Региональный совет. Удачное архитектурное решение. Социальный прогресс. Умелое сочетание полезности и приятности. «Вместе в лучший мир». Руководителям по связям с общественностью Регионального совета нельзя было отказать в юморе: вместе, но вначале вы!
По обе стороны двери тамбура — зеркала, специально для того, чтобы позволить гостям взглянуть на себя в последний раз. Какая-то кокетка воспользовалась этим для того, чтобы поправить свой шиньон, другая успела подкрасить губы, какой-то мужчина поправил свой галстук. Они явно не сказали своего последнего слова, серия танго обещала стать жгучей.
А как я буду вести себя в апреле следующего года, когда придет мой черед? Потому что я прекрасно понимал, что в каждом из этих стариков, за чьей реакцией я наблюдал, я искал себя, видел себя. Я не стану надевать галстук, это понятно, но если мне протянут это зеркало, отвернусь ли я от него? Удержусь ли от того, чтобы бросить последний взгляд на человека, к которому все-таки сумел привязаться? Дам ли я прощение приговоренному к смерти, чьи прегрешения так хорошо знаю? Откажусь ли от губки, смоченной в уксусе?
— А, вот и вы! Я уж было подумал, что вы решили войти через главный вход. В конце концов, если вы хотите ускорить вызов, я могу поспособствовать…
Веселый, как синяк, этот дорогой Хартли, директор «Центра перехода», англичанин, проживший во Франции целую вечность. Он был здесь во время референдума, во время применения плана «Семьдесят два» и не воспользовался своим двойным гражданством, чтобы уехать. Он решил пустить корни во Франции, пережить со страной хорошее и плохое. Добрый англичанин. Он легко согласился сделать для меня исключение из правил. Прежде всего, я прибыл сюда не в качестве зрителя, а как будущий Кандидат, которому осталось несколько месяцев. Потом у него не хватило сил отказать в любезности бывшему работодателю своего шурина, осведомителю высокого полета, который когда-то сдал мне не один партизанский отряд в этом регионе.
— Итак? Продолжаете настаивать на визите? Но вы должны немедленно определиться: активный или пассивный визит? Если пассивный, то будете наблюдать издали. Если активный, сможете принять участие в празднике… кроме окончания, разумеется… Советую вам второй вариант, вы сможете покушать! Согласны?
Хартли для веселья не нуждался ни в ком. Его чувство юмора оставляло желать лучшего, но его смех слушать было одно удовольствие: громкий, заразительный, вызывавший слезы, которые он утирал носовым платком с голубыми и желтыми квадратами.
Продолжая улыбаться, он повлек меня к лифту.
— Начнем с галереи, у вас будет общее представление.
Галерея шла посредине между полом и куполом. В холле при входе уже слышались приглушенные разговоры гостей, лилась тихая музыка. Стеклянный купол уходил прямо в небо. Хартли незаметно показывал мне помещение: вон там, где царит оживление, регистратура, там бар. Вон там, на втором этаже, тематические залы — сегодня они касаются трех тем: музыкальный бал, как часто бывает, кинотеатр, как бывает иногда, зал с телевизорами, как всегда — киоски, фотостудия, — если бы вы знали, как они дорожат своими портретами! — цветочный магазин и кондитерская. Разумеется, часовня, мечеть и синагога. Но они не пользуются большим спросом, люди сводят счеты с религией до прихода сюда. И наконец, на антресолях, отсюда, естественно, не видно, комнаты…
— Поторопимся, пора. В половине первого запись заканчивается. По правде говоря, я не должен был бы этого говорить, но вам скажу. Взгляните вот на эту зеркальную галерею за дверью тамбура. Догадываетесь, что это? Это шлюзовая камера. Камера для декомпрессии. Скорее для расслабления. Гости вдыхают там TW2, газ, который погружает их в состояние легкой и спокойной эйфории. Сегодня это очень хорошо отлажено и… ох, да что это я, вы, естественно, все это знаете! Давайте спускаться…
За регистрационными окошками трое сотрудниц записывали данные опоздавших. Один из них, опершись на свою трость, просил снисхождения, в котором никто ему и не думал отказывать, — понимаете, с этой палкой я не могу быстро ходить и поэтому не успел на первый автобус. Другой, стоя в соседней очереди, беспокоился: служащая не нашла его фамилии в списке.
— Нет, Готье… Вас в списке нет.
— Как нет? Но посмотрите сами, вот мой вызов, вот мое удостоверение личности, проверьте… Этого только не хватало!
Он ждал от стоявших рядом стариков слов поддержки, понимающих жестов. Благодаря действию TW2 неучтенный старик вызвал всеобщую симпатию, его стали сочувственно похлопывать по плечу, не переживайте, все устроится, ну вот, что я говорил! Покраснев от смущения, служащая признала свою ошибку, она искала не в том списке, все правильно.
— Уф! Я так испугался!
Улыбающийся, окруженный сочувствующими, Готье Пьер прикрепил свой бейдж к лацкану костюма. Бейдж был красного цвета: этот плут выбрал бал. Вокруг было множество красных бейджей. Настоящий маковый луг! Желавших смотреть телевизор и носивших желтый бейдж было тоже порядочно, но вот синие бейджи любителей кино можно было пересчитать по пальцам. Не подавая виду, чувствуя горделивое удовольствие непонятой элиты, они собрались вокруг низкого столика явно для того, чтобы поговорить о последнем фильме.
— Добро пожаловать всем…
Взобравшись на эстраду, Хартли попросил тишины. О, не стоит беспокоиться, он не собирается произносить долгую речь перед гостями. Он только хочет поприветствовать их по случаю прибытия в Региональный центр перехода, познакомить их с программой и заверить в том, что он и его команда сделают все, чтобы гости были довольны. Его вступительная речь вызвала одобрительный шепот среди присутствующих. Я был поражен вниманием Кандидатов: они слушали его словно лучшие ученики класса. Никто не крутил головой по сторонам, никто не перешептывался, все внимательно слушали и не спускали с него глаз. Было видно, что они не хотели выделяться или пропустить какую-нибудь рекомендацию.
— Регистрация закончена. У всех есть бейджи? Очень хорошо. Банкет начнется в 13 часов в зале для приемов. В 15 часов начало праздника: телевидение, кино. Сегодня будут показан фильм «Унесенные ветром». А для любителей потанцевать будет организован бал с участием известного всем оркестра. Пока же я приглашаю всех выпить по стаканчику за дружбу. Бар находится слева от вас.
Его последние слова утонули в одобрительном гуле, какой-то весельчак спросил, будут ли танцевать служащие. Серая толпа хлынула в сторону бара, где на столах стояли тосты и орешки, разливалось красное вино.
— Сколько людей работает в РЦП?
Это был мой первый вопрос с момента прибытия сюда. Вопрос как вопрос, но мне потребовалось немало времени и сил, чтобы прийти в себя. Мне в этом помогла дружеская обстановка.
— Нас здесь работает семьдесят пять человек, включая медицинский отдел. Прекрасно работающее учреждение! У нас нет ни минуты свободного времени. Посмотрите сами, сегодня прибыли сто двадцать гостей. На прошлой неделе их было столько же. Вскоре мы перейдем на два сеанса в неделю. Подготовка, организация дня, развлечения, питание. При этом надо стараться принять во внимание индивидуальные запросы каждого. В целом все довольно однообразно, знаете, время стирает различия между личностями. У семидесятилетних людей примерно одинаковые заботы, не сильно отличающиеся друг от друга развлечения. На этом мы и играем… Но давайте пройдем к столу. Что? Да, вместе с гостями. Все сотрудники, кто не занят по работе, обедают вместе с клиентами, сотрудницы, естественно, тоже! Я на этом настаиваю. У нас всех одна судьба. Это я просто так выражаюсь.
За моим столом — он больше походил на ночной столик, это очень по-домашнему, как объяснил мне Хартли, — кипели разговоры. Про погоду, про дожди, про неурожайный год на грибы, про гибель в авиакатастрофе певицы Лоры Блак — вот уж не повезло, так не повезло, ведь могла бы полететь на другом самолете… Как ни в чем не бывало мои сотрапезники обсуждали последние события, смеялись над шутками, смеялись от души, показывая свои или вставные зубы. Все были одеты с иголочки! Высокий худой старик напротив явно заботился о своем костюме, это чувствовалось по тому, как он расправлял плечи, одергивал рукава рубашки, поправлял воротник. Новый костюм для праздничного выхода…
Отсутствием аппетита никто не страдал, бутылки с вином пользовались спросом. Когда подали сыр, Хартли объявил о сюрпризе, и это был действительно сюрприз: Франсис Гомез, собственной персоной. Франсис Гомез со своим аккордеоном. Его оркестр уже был готов и ожидал всех в танцевальном зале, а он пришел выпить с друзьями в предвкушении того, что их ждало. Сопровождая слова жестами, откидывая рывком головы свою знаменитую прядь волос, он порадовал аудиторию одним из тех наигрышей на аккордеоне, который многое говорил о виртуозности музыканта и о счастье, которое он собирался доставить слушателям.
Моя соседка по столу — та, что сидела слева, потому что та, что была справа, была не очень, — решила выяснить мои музыкальные вкусы. Честно говоря, к аккордеону у нее… Я сказал ей что-то, конечно же, выдуманное, но не лишенное смысла, про очарование аккордеона и про то, что он вызывает воспоминания о берегах Марны, о «Тур де Франс» и о деревенских танцах. Но тут она с ужасом меня прервала:
— А где же ваш бейдж? Вы его потеряли!
Что было ответить? Не переживайте, дорогая приговоренная, у меня нет бейджа потому, что сегодня еще не пришла моя очередь всходить на эшафот? Что у меня есть еще одиннадцать месяцев на то, чтобы наслаждаться жизнью? Что я здесь в качестве туриста? Чтобы посмотреть? Но в этом случае я рисковал подвергнуться всеобщему презрению; смотрите, вот предатель, козел, двуличник, он пришел посмеяться над нами, смерть узурпатору, укол ему, как всем! Как бы там ни было, я решил проявить мудрость. Да, а куда же это задевался мой бейдж? Видно, я плохо прикрепил его. Но я знаком с директором «Центра перехода», он все устроит.
— А… могу я вас спросить, какого цвета ваш бейдж?
— Красного, мадам, как и ваш…
— Тогда вы пригласите меня танцевать?
С этими словами она положила ладонь на мою руку, заглянула мне в глаза. Она в молодости была очень красивой, ее зеленые глаза до сих пор сохранили выражение игривой девушки. Во время обеда мы несколько раз выключались из общего разговора наших соседей по столу с их низменными интересами: слишком пережаренное мясо, облака, которые предвещают новые дожди. Ее звали Клер, она работала в банке, но большую часть своего времени посвящала археологии. Хетты перенесли нас в Анатолию, куда я все время мечтал попасть.
— Странная эта встреча, вам не кажется, последняя в жизни…
— Странная, это слово может ввести в заблуждение…
Но почему бы и нет? Почему бы, даже в этих обстоятельствах, не порадоваться нашей счастливой встрече? Мне показалось, что я стал чрезмерно чувственным, но место и время встречи располагали к лирике. И я не рисковал тем, что все будут смеяться над этим. И даже если Клер будет смеяться надо мной, смеяться ей останется недолго.
Но она не смеялась, она положила руку на мое плечо, потому что аккордеон Гомеза требовал этого. Ах, белое вино, я ответил на ее призыв, я положил руки на ее более упругую, чем можно было ожидать, талию, и мы стали покачиваться в ритм музыки.
— Встреча без продолжения, совершенно бесполезная встреча, не так ли?
— Именно об этом я сейчас подумал. Но мне кажется, что нет. Кто может утверждать что-то категорически? В общем, я не знаю… А у вас есть с собой фотография? Я хочу сказать, ваш снимок в молодости?
Я высказал просьбу, даже не успев ее обдумать, не поняв неуместность ее. Вашу фотографию, но той поры, когда вы были красавицей. Она не обиделась, вынула из сумочки бумажник, там были две фотографии. Вот, выбирайте. Я не ошибся, она в молодости была очаровательной. Ее легко было узнать по посадке головы, в которой было что-то от хеттской принцессы.
— Вы не подарите мне этот снимок? Здесь вы похожи не хеттскую принцессу!
— Вы хотите оставить ее у себя? Но зачем? Ведь уже… О, в конце концов, да, конечно.
Она посмотрела на снимок, потом повернулась к одному из гостей, который нуждался в ее помощи.
— Клер! Ты ведь должна помнить призывы мая 1968 года… Ну, помнишь, революционные выступления студентов…
— О, это было так давно… Отец мне рассказывал про баррикады, когда я была еще совсем маленькой… Постой-ка, вот: Пляж под мостовыми… Запрещать запрещено… И еще… нет, другие не помню…
Май 1968 года! Другой век, другой мир. Большинство Кандидатов, всех этих маленьких стариков вокруг меня, слышали про май 1968 года. Ах, мыслители революции и представить себе не могли, что их дети закончат жизнь в «Центре перехода». В полной свободе!
Чтобы прогнать заботы, нет ничего лучше, чем великая музыка. Над ней невластно время, молодые и старые, все ей подвластны. А великая музыка Гомеза знала свое дело: после «Белого вина» Гомез заиграл оглушительный «Вечерний вальс», сотня голосов хором подхватила припев, веселье было в полном разгаре. Умелые пальцы бегали по клавишам, выступающее брюшко было скрыто инструментом, на лице застыла улыбка от старания и от веса аккордеона. Музыкант был поглощен игрой, этот вышедший из жестокой сказки игрок на дудочке увлек за собой семидесятилетних детей.
Музыка ли это спровоцировала или нет, но коридор, который вел к местам развлечений, и находившиеся там магазинчики были взяты штурмом. Любители вкусно покушать выходили из кондитерской лавки с битком набитыми бумажными пакетами, и это не могло уже вызвать осуждения. Даже угрызений совести потребителей. В фотоателье приятели по трое-четверо снимались в последний раз. Позади лысых черепов время от времени возникали пальцы буквой V, все толкались, что-то выговаривали друг другу, смеялись над реакцией того, кому предназначались эти снимки, вот они повеселятся, когда увидят нас в таком виде.
Опьяненный этим вихрем, я вошел в цветочный магазин, задаваясь вопросом, чем мог он мне помочь. Дела у него шли явно неплохо, мне пришлось выстоять очередь, чтобы купить одну розу. Одну? Да, одну, спасибо. Я подарил ее Клер. Это была неплохая идея. Она поцеловала меня в щеку, как юная мидинетка[22].
— Ты очень мил… Будем на «ты», хорошо? Она так прекрасна! И к тому же не успеет увянуть… А роза прожила так, как живут все розы, помнишь? А эта проживет дольше, чем я… Не хочешь пригласить меня на танец?
Мы устремились на танцплощадку, где пары соперничали друг с другом в азарте. Клер положила голову на мое плечо, запах ее духов смешался с ароматом розы, которую она прижала к своей щеке. Вокруг нас дети мая 1968 года перемещались в разные стороны, словно ничего и не должно было произойти, один жаловался на мозоль на большом пальце, — не стоило надевать новые ботинки! — другая искала стул, чтобы опустить на него вспотевшее тело.
Франсис Гомез знал свое дело: сыгранные вначале медленные танцы типа танго и вальса сменили пасодобль и рок-н-ролл. Ритмы танцев все ускорялись, танцующие вращались все быстрее, можно было подумать, что они хотят натанцеваться до одурения, забыться от шума и усталости. Словно бы для того, чтобы не слышать имена, которые с регулярными интервалами произносились невидимыми громкоговорителями. Имена и фамилии падали с неба, их произносил нежный и приятный голос сотрудницы. Казалось, мы находились в аэропорту, а этот голос приглашал в путешествие… Услышав свою фамилию, пара резко останавливалась, партнеры смотрели друг на друга, не произнося ни слова, названный Кандидат доставал из кармана носовой платок, чтобы вытереть вспотевший лоб, и с опущенными плечами покидал круг танцоров. Пальцы мои чувствовали, как всякий раз, когда раздавался звук перед тем, как голос вызывал следующего добровольца, спина Клер напрягалась, а потом расслаблялась. Она открыла глаза: еще одна? Да, еще одна. И нас вновь подхватывал вихрь вальса и увлекал в королевство, где люди не стареют.
В конце концов мы рухнули на скамью неподалеку от входа в коридор. Здесь и там ряды Кандидатов стали редеть. Из кинозала изредка доносились краткие протесты. Конечно же, куда тяжелее было покидать объятия Гейбла, чем прощаться с каким-то запыхавшимся стариком. Зрительницы покидали свои кресла с гораздо большим сожалением, чем их коллеги танцевальную площадку.
— Ты знаешь, как это происходит?
В зеленых глазах Клер стояло облачко. Она спросила меня об этом, чтобы прервать наше молчание. Она прекрасно знала ответ. В конце коридора ее будет ждать санитар, проводник в последний путь. Он проводит ее в комнату с видом на майский пейзаж, такой прекрасный теплым вечером. Букет цветов на столе, музыка или варьете по выбору. Она ляжет на кровать, держа в руках мою розу, протянет руку для укола. И на этом все закончится. Пошлая смерть.
— Клер Жибо… Клер Жибо…
— Теперь я… Значит, это я ухожу от тебя… Благодарю тебя за все, за этот день, за розу… Встреча, как мне кажется, была не такой уж бесполезной…
Она обвила руками мою шею, поцеловала меня в губы. Наполненный нежностью и отчаянием поцелуй. Сделав несколько шагов, она обернулась:
— У тебя есть внуки?
— Э… есть, а что?
— Просто так. Надеюсь, ты сумел этим воспользоваться… До свидания.
Она оставила меня сидящим на этой скамье с фотографией хеттской принцессы в руках, окруженным ароматом ее духов, ощущающим вкус свежего дыхания. А главное, под впечатлением того, что вся моя уверенность уходила от меня, словно песок сквозь пальцы. Я уже не знал, зачем я сюда пришел, почему поддался мрачному любопытству, зачем выдумал про каких-то внуков. Я хотел представить себя в этой ситуации, но не смог этого сделать. Я был где-то далеко отсюда. И должен был уйти с чувством того, что события оказались сильнее меня. События, которым я сорок три года тому назад поспособствовал, ничего в этом не понимая.
Переполнилась бы чаша, если бы я не добавил в нее свою каплю?
Я попрощался с Хартли, который был счастлив от того, что мне понравилась церемония.
— Видели? Ни одной фальшивой ноты. Какая работа, хотя не все это понимают. Итак, до скорой встречи? Только не надо неправильно истолковывать мои слова, я хотел сказать, что если пожелаете увидеть еще одну церемонию, только позвоните мне, и я все устрою!
Память вернулась ко мне только тогда, когда я подходил к своей машине: нежность воздуха, тишина неба, мирное дыхание деревни, на которую опускается майская ночь. Я вдруг вернулся на много лет назад, я прошел вдоль ручья, потом каштановая роща, ельником, где меня ждали сидевшие вокруг костра люди…
Меня ждали, чтобы попеть песни, чтобы посмотреть, как вершины деревьев поглощала ночная мгла, чтобы послушать, как журчит вода в ручье, как шуршат листья от легкого ветерка. Меня также ждали для того, чтобы наутро я отвел моих пленников к автобусу. Я оставил их позади префектуры. От префектуры до паркинга «Центра перехода» было всего полчаса езды. Хватило ли у моих ночных друзей времени на то, чтобы полюбоваться лесом на востоке от Руайера, который солнце, прежде чем закатиться, окрасило в темную дымку? Было ли у них время на то, чтобы, прежде чем забыться в мрачной эйфории церемонии, спеть вполголоса «Ступеньки дворца»[23]?
Опершись о дверцу машины, я оторвал глаза от горизонта, на котором слабо и лишь на мгновение возникло очертание какого-то стройного дерева, только для того, чтобы взглянуть на фотографию хеттской принцессы. Ее звали Клер Жибо, у нее были нежные губы, когда в ее руку воткнулась игла шприца, она сильно сжала мою розу. А когда, через несколько месяцев, настанет мой черед, что я буду сжимать в руке?
Неподалеку от меня служащие «Центра перехода» по одному садились с свои машины, они торопились уехать в поля, где заборы пока еще не отметили пределы их жизни. Я стоял, убаюканный ветерком, этим ветерком с ароматом ельника Руайера. Темнота уносила меня в памятное волнение, меня охватило желание в корне переменить мою жизнь. Вдали город окрасил небо своими нахальными оранжевыми огнями. Я простоял там несколько часов, всматриваясь в темноту и наслаждаясь моими детскими мечтами. Утро застало меня врасплох. Я был в изнеможении, но решительно настроен.
По дороге домой, разбитый от усталости, очарованный пеной, которую мой автомобиль поднимал, как корабль на волне, я в двадцатый раз повторял, что мне нужно было сделать. Одиннадцать месяцев были не таким уж большим сроком. Я не стану ждать, когда мне придет вызов, мне не нужен этот щелчок, чтобы победить мои последние сомнения. В начале апреля я исчезну, и никому в голову не придет искать меня и маленького Макса на берегу ручья, где водится форель, за посадкой елей. Я буду учить его, читать ему стихи. Я покажу ему фотографию восточной принцессы. Он научится глядеть на небо, слушать ночь.
Там будет протекать простая и спокойная жизнь, а когда пробьет мой час, я, находясь вдали от жалких танцев, уйду, прижавшись щекой к щеке ребенка.
Примечания
1
Департамент на западе Франции у побережья Атлантического океана. — Здесь и далее прим. вед. ред. серии.
(обратно)2
Серно-натронные источники во французском департаменте Верхние Пиренеи, горнолыжный курорт.
(обратно)3
Здесь, видимо, проводится параллель с исторической личностью Генрихом Бофором (1377–1447) — английским государственным деятелем, епископом, председателем суда, приговорившего Жанну д’Арк к смерти.
(обратно)4
Республика во Франции после принятия действующей конституции 1958 г., подготовленной правительством Ш. де Голля.
(обратно)5
Сладкое шипучее вино, не отличающееся особенно высокими качествами.
(обратно)6
Аперитив с шампанским.
(обратно)7
Пирр (319–273 до н. э.) — царь Эпира, полководец, воевал против Рима, одержал победы при Гераклее (280) и Аускулуме (279), последнюю ценой огромных потерь (т. н. пиррова победа).
(обратно)8
Популярный французский марш.
(обратно)9
Франсуа, Клод (1939–1978) — французский эстрадный певец, популярный в 1970-е годы. «Если бы у меня был молоток» — одна из самых известных его песен, которая долгое время была в хит-парадах.
(обратно)10
Песня из фильма Жана Ширасса «Под светом луны в Мобеже» (1962).
(обратно)11
Бурвиль (1917–1970) — французский актер комедийного жанра.
(обратно)12
Холидей, Джонни (р. 1943) — французский рок-певец, актер.
(обратно)13
Далида (1933–1987) — французская певица из Египта, была невероятно популярной в 1970-е годы, покончила жизнь самоубийством.
(обратно)14
Адамо, Сальваторе (р. 1943) — бельгийско-французский шансонье.
(обратно)15
Всемирно известное кабаре Парижа на Елисейских Полях с шоу из девушек, весь костюм которых состоит из перьев и блесток.
(обратно)16
Народность кабилов в Алжире перерезала пленным французам горло от уха до уха. — Прим. пер.
(обратно)17
Парк в Париже, занимает 35 га.
(обратно)18
Министерство иностранных дел Франции.
(обратно)19
Верлен, Поль (1844–1896) — французский поэт-символист, ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую музыкальность.
(обратно)20
Первый в Париже мюзик-холл, открывшийся на Монмартре в 1869 г., одно из самых знаменитых французских кабаре.
(обратно)21
Имеется в виду пьеса французского писателя, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю (1913–1960) «Калигула» (1944).
(обратно)22
Дама полусвета, куртизанка.
(обратно)23
Песня французской певицы Наны Мускури.
(обратно)
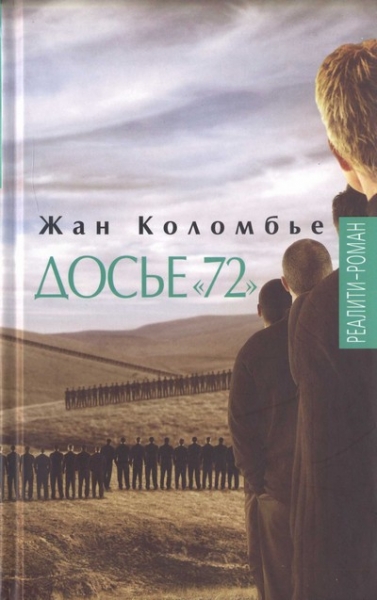
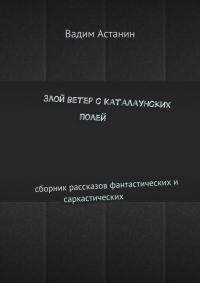




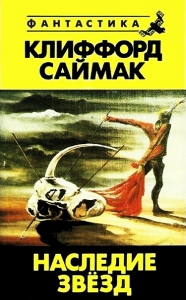
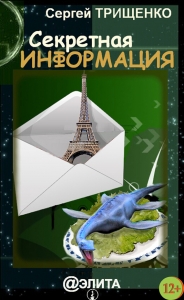


Комментарии к книге «Досье «72»», Жан Коломбье
Всего 0 комментариев