Галечьян В.А., Ольшанецкий В.А Четвертый Рим
…просто здесь, как и в других счастливейших случаях, имеет место поэзия. Высочайшая удача состоит именно в том, что она не связана с личностью и именем поэта.
М.ХайдеггерЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРОЛОГ
В это смутное время, когда жители Москвы жались по углам коммунальных квартир, проклиная страшный XXI век, группа верующих собиралась вечерами в крохотной церквушке в Филях. Большинство из них, давно уже безработные, и вовсе не покидали прибежище духа, если только не выгоняло на улицу чувство непереносимого голода. Впрочем, со столь низменным чувством помогала справляться система, проповедуемая их наставником.
Верующие стояли на головах, опираясь на локти и вытянув вверх ноги, или делали упражнение, называемое в простонародье «березка», когда ноги вертикально вытягивались вверх. Человек, стоявший на голове лицом к ним, размеренно вещал о пользе занятий йогой для развития духа и тела, деля ее на три важнейших раздела: тренировку грубого физического тела, развитие астрального тела и медитацию. Все во имя соединения собственного «я» каждого прихожанина с Богом.
Исповедуемая здесь религия именовалась Эзотерическим христианством. Весьма условно членов общины можно было считать последователями Елены Блаватской, тайная доктрина которой возрождалась через сто пятьдесят лет в посткоммунистической России. Впрочем, прихожане за исключением их главы Климента, прозванного ими Отцом, довольно смутно представляли себе смысл учения. Да и сам отец Климент не особо увлекался науками, а искал связи с Великим Высшим Богом. Христос в его вере был посланником этого Высочайшего наравне с Зороастром или Буддой, и почитал он их не выше, чем скажем таких послов мирового человечества, как Платон или Лао Цзы. В его своеобразной теории им всем отводилось соответствующее место, но как русский и рожденный в православии, Христа он принимал ближе всех. Естественно, что и прихожане его в основном были христиане, но веротерпимы они были как истинные буддисты, признававшие право на существование каждой религии.
Самые слабые прихожане поддерживали огонь в костре, неторопливо попыхивающем в центре зала. Его размеры казались чрезмерно велики по сравнению с габаритами здания. Однако дело здесь было не в каких-то архитектурных особенностях, а в полном отсутствии обстановки и убранства. Все, что можно, давно уже было разграблено или сожжено задолго до прихода сюда общины, и лишь две обшарпанные колонны тоскливо смотрели на происходящее вокруг.
Тем временем, закончив комплекс, верующие расслабили члены и растянулись на полу в так называемой мертвой позе — «шавасане», слегка раскинув руки и закрыв глаза. В холодный мартовский день, когда в неотапливаемом помещении при дыхании шел пар изо рта и замерзала вода, они должны были представлять себе ярко-синее небо и сверкающее горячее солнце летнего дня. Слушая мягкий, теплый голос наставника, все они почти мгновенно погрузились в сон. Вывести из него их удавалось лишь весьма настоятельными, но совершенно невыполнимыми пожеланиями отца Климента полетать. Сочувствуя им, чтобы не дай бог не разбились, он задавал высоту полета совсем небольшой, не более полуметра, и удобное положение — ногами вперед. То, что до сих пор никто не летал, отец Климент считал случайным отклонением от истинного течения вещей.
Встав перед слабо потрескивающим пламенем костра, отец Климент обвел долгим взглядом крохотную группку прихожан и неторопливо заговорил:
— Старая вера в Сына Человеческого вышла из душ детей его и превратилась в рутинное знание, чуждое истинному Божественному свету. Священную плоть растащили по школам, церквям и приходам мировых религий, отбросив Божественную душу за ненадобностью. Пришло время выявления истинных текстов и праведных слов. Имя Христово выше отдельных представлений о нем, глубже и всей суммы мнений о нем. Для постижения глубочайшей природы Господа нашего, Воли и божественной Личности требуется не только полнота любви, но и полнота мировой мудрости и знания, совместное участие сил, пребывающих в открытых нашему сознанию и скрытых от него мистических мирах. Мы покинули рамки православия во имя высшей цели — восстановления сокровенного знания. Следуя вечному завету, наряду с изучением Писания и толкованием священных книг, постигали мы откровения в мистериях и медитациях. Сегодня наступил великий день обращения к Предвечному.
Отец Климент замолчал и обвел глазами верующих. К его огорчению, напуганные неведомым таинством прихожане были совершенно не способны к сосредоточенному вниманию. Одни из них потерянно слонялись в темноте, другие, не в силах сдержать себя, тряслись на месте или стремительно сновали, меняя направление движения. Одинокая девушка потерянно рыдала в углу, временами вскидываясь в подобии молитвы и крестясь на образа.
— Свершилось! — вскричал вдруг родившийся в России китаец Ван в треухе и расстегнутом тулупе до пят. — Дух Старого ребенка снизошел на меня!
Он забегал, то хватаясь руками за волосы, то упирая их в бока, повторяя при этом: «шоу — голова, дзоу — идти; шоу — голова, дзоу — идти…». Наскочив на отца Климента, Ван оттолкнул его и принялся декламировать.
Путь, о котором можно поведать, — То не Предвечный Путь; Имя, которое можно восславить, — То не Предвечное Имя. Что было без Имени — Стало началом Небес и Земли, Обретшее Имя — Сделалось матерью всех вещей.Во время декламации Ван подбоченился и словно подрос, его расстегнутый тулуп развевался как халат, обнажая худенькое тело в одних застиранных трусах.
— Одним иероглифом «дао», состоящим из двух частей «шоу — голова, и дзоу — идти», я указал дорогу, которая ведет в голову мира, — стукнул китаец кулаком себя в грудь.
— Дал имя беззвучной, неизменной, повсюду действующей субстанции. Все потому, что дао — это пустота, и все сущее Вселенной и сама Вселенная растворены в нем, и не найдешь источника Единого.
Девушка, к которой он приблизился во время декламации, перестала рыдать и удивленно на него посмотрела. Ван продолжил:
— Я длил нескончаемую нить моей мысли, пытаясь выявить тайну, но даже мне не удалось преступить проницательность дао. — Тут Ван хитро покрутил пальчиком и усмехнулся, — ибо дао, которое может быть выражено словами, не есть истинное дао. А то дао, которое есть истинное, не может быть выражено никаким известным людям способом. И я был вынужден отступить, — тут Ван вздохнул и закончил.
— На что в таком случае способны вы!
Среди присутствующих пронесся согласный вздох облегчения и одобрения, оставивший тем не менее совершенно безучастным отца Климента.
— Продолжай пользоваться мыслями Великого Старца как оружием в постижении бытия, а не творить из него идола, — заметил он.
Китаец лишь захихикал в ответ и, хитро улыбаясь, спросил: — Отгадай загадку: «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа». Для тебя это — просто считалочка. Хи-хи-хи! — считалочка… Поскачи в классики. — Тут китаец захохотал еще веселее, стал подпрыгивать на месте, хлопая руками себя по бокам. — Считалочка! — Ох, уморил… Не могу удержаться. — Внезапно лицо его стало невероятно серьезным, он резко остановился и вперился взглядом в Климента. — На самом деле это великая мудрость, доступная китайцам. Она значит: «Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию». Впрочем, ты не китаец. Не китаец? — спросил отца Климента Ван, подозрительно осмотрел его и, удостоверившись в совершенно европейском виде священника, удовлетворенно заключил: — Нет, никакой ты не китаец. А раз не китаец, так ничего не понял в отгадке, — и он вновь весело залился смехом, но тут же стал серьезным. — Ну ладно. Перевожу специально для тебя. «Одно» — это первозданный космос, когда темное и светлое начала еще не разделились; под «два», как известно любому китайцу, понимается разделение космического хаоса и появление света и тьмы, а под «три» имеется в виду темное начало, светлое начало и гармония. Понял? — И вновь продолжил, не дожидаясь ответа: — Отгадочка-то получилась такая: «Все сущее носит в себе темное и светлое начала, испускает жизненную силу и создает гармонию», — сообщив разгадку, Ван стал потирать руки и весело подмигивать отцу Клименту. — Я и другие загадки знаю, — шепнул он заговорщически священнику, — слушай, — и наклонился к уху, но тут заметил на полу отшлифованный временем осколок бутылочного стекла и бросился на него всем телом, схватил и, пряча в сомкнутых ладонях, запричитал: — Пятицветная жемчужина, источник солнечной энергии, проглочу ее и буду рожден в Китае.
Отец Климент склонился над Ваном, тепло проповедуя ему: — Делай ты что-нибудь или занимайся недеянием, Небу наплевать, и в этом оно может служить примером. Нужно сделать свое сердце предельно беспристрастным, твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, и останется лишь созерцать их возвращение к своему началу. Возвращение к началу принесет покой, а покой возвратит к сущности. Возвращение к сущности принесет постоянство. Знание постоянства дает достижение ясности, а незнание постоянства приводит к беспорядку и в результате к злу. Знающий постоянство становится совершенным; тот, кто достиг совершенства, становится справедливым; тот, кто обрел справедливость, становится мудрым. Тот, кто становится мудрым, следует небу. Тот, кто следует небу, следует дао. Тот, кто следует дао, вечен и до конца жизни не будет подвергаться опасности. Так ты спасешь себя.
— Я верю тебе, возьми! — протянул Ван «жемчужину» отцу Клименту.
К беседующим подошел бурят в потерявшем цвет стеганом халате на ватной подкладке, в сапогах, сильно смахивающих на валенки с галошами, и меховой шапке с коническим верхом. Он крутил ручную молитвенную мельницу в виде бочонка размером с колесо детской коляски. Буддист непрестанно гнусавил, безуспешно побуждая христиан к молитве Просветленному, и столь же неприятно, в такт его шагам позвякивали колокольчики, подвязанные на бочонке. Проходя мимо отца Климента и китайца, буддист перешел на родной русский:
Будду спросили: «Мир вечен или невечен, конечен или бесконечен?» Будда ответил: «Вопрошающий вечен и бесконечен, а должен стать невечен и конечен». Уста Макхалли коварно шептали: «Нет действия, нет деяния, нет воли».Наклонившись над китайцем, буддист ущипнул его за волосы на груди.
— Как из всех тканых одежд волосяная самая худшая, так из всех учений учение Макхалли есть наихудшее, — объявил он Вану и проследовал дальше.
— У меня тоже припасена для тебя загадка, — улыбнулся отец Климент Вану.
— Спрашивай, учитель, — запахиваясь в тулуп почтительно ответил китаец.
— Объясни мне смысл изречения: «Пустота в ущелье не умирает, и это считается источником рождения всего сущего».
— Ущелье, будучи пустым, имеет форму, в то время как пустота в ущелье не имеет формы, — радостно выпалил Ван.
— Вернись в Лао Цзы, — раздраженно оборвал китайца Климент.
Вначале Ван весь как-то съежился, словно попытался исчезнуть, но тут же стал расти прямо на глазах. Его очи загорелись, на устах появилась хитрая улыбка, и он одобрительно хлопнул отца Климента по плечу.
— Сегодня я первый и единственный раз в земной истории продемонстрировал коридор между Вселенной и вневселенским бытием, а ты не узрел его.
Тут Ван оглушительно захохотал, а отец Климент очень серьезно продолжал пытать его о вневселенском коридоре и его обитателе. Почерневший от напряжения Ван лишь тяжело глотал воздух, тщетно пытаясь прорезать воображением космическую пустоту, пока изо рта его не пошла пена, а сам он не забился в конвульсиях на полу. Отец Климент бросился к китайцу, но тут грянул хор. Христиане обратились к Всевышнему с псалмом.
Боже! будь милостив к нам и благослови нас; освети нас лицем Твоим. Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое…На восточной стене, под самым потолком церкви вдруг появилось светлое пятно, размером с ладонь. Первым его заметил бурят и, восторженно превознося Будду, принялся отбивать поклоны. Пораженные его поведением, поющие невольно подняли головы и, заметив чудесное явление, запели громче. Внезапно вся церквушка озарилась светом и православные бросились на колени, восхваляя Иисуса. Не обращая внимания на христиан, бурят продолжал отбивать поклоны, клянясь, что не остановится, пока не узрит Будду. И словно отвечая его мольбам, на восточной стене на месте светлого пятна появилась тень, напоминающая человеческую. Бурят сразу признал в ней Просветленного, его черные волосы, желтовато-красные тело и платье.
Китайцу Вану привидился на стене он сам. Оседлав черного быка, он следил за безостановочным движением реки. Восхищенный небывалой картиной, Ван поднялся с пола и потянулся к изображению. Отец Климент слегка осадил не в меру самовлюбленного китайца. Священник испытывал даже большее возбуждение, чем другие, но его мистерия только начиналась.
Лица прихожан сияли от возбуждения и счастья. Отовсюду неслись ликующие голоса, слезы очищения омывали, казалось, не только лица, но и души. Запеваемые один за другим псалмы накатывались, как ласковые волны теплых морей.
Двери церквушки раскрылись, и другие ее постоянные обитатели — бомжи, выставляемые на время эзотерических служений, привлеченные звуками музыки, неумело крестясь и испуганно озираясь, робко стали втягиваться внутрь. Их не останавливали. Наоборот, люди рвались друг к другу, ища с кем бы поделиться благой вестью. Непонятно было, продолжал ли кто-либо еще петь или нет, но музыка росла и ширилась, захватывая мир.
— Когда ясновидец видит золотоцветного создателя, он достигает высочайшего соединения, — ликовал бурят.
Даже в ушах отца Климента отчего-то зазвучала музыка. Неожиданно для самого себя, невозмутимый священник, не сходя с места, упал на колени и горячо зашептал:
Вещь в неведомых мирах возникшая вечная всегда везде пребывающая всюду действующая вне всяких пределов преград вновь возвращаясь яви себя.Внезапно все стихло. Свет ушел. Зато вспыхнул угасший было костер. Отец Климент поднял взгляд на восточную стену, но она вновь была чужой и безмолвной. Священник опустил голову, как бы вслушиваясь.
Окружающий мир воздействует на человека бесконечно, а его любовь и ненависть не имеют предела, и люди истощают себя в желаниях. Когда же любовь и ненависть сдерживаются сердцем, в душе рождаются звуки. Так было с отцом Климентом сегодня, и вот сейчас он думал о музыке.
В справедливом обществе музыкальные звуки мирные и тем самым доставляют людям радость, в неупорядоченном обществе музыкальные звуки злобны и тем вызывают гнев людей, в гибнущем государстве музыкальные звуки печальны и тем вызывают тоску. Сколько он помнил народные песни России, мало было в них радости, но и злобой они не дышали. Оттого ли, что государственность Российская веками не могла установиться, по другим ли причинам, — задумываться об этом, с одной стороны, было недосуг, да и далеки были от него сейчас эти проблемы, а с другой стороны, уйти от них было невозможно потому, что иначе не завершить было ему свой многолетний подвиг познания мира.
Предвечный недвусмысленно показал, что рассматривает встречу с ним как музыкальную партию, и, значит, ответить можно было только на заданном языке. Ибо, — как он понял сейчас, — музыка истинного пути не слухом или зрением воспринимается, то есть это не светомузыка, и вообще не музыка в традиционном понимании, а особая форма энергии без использования каких-либо вспомогательных средств, включая органы чувств. Композитор здесь — не профессионал, постигающий тайны нот и струн, а искусный чтец человеческой души.
Когда не проявляют удовольствия, гнева, печали и радости, это называется состоянием середины. Когда их проявляют в надлежащей степени, это состояние гармонии. Середину считают наиважнейшей основой действия людей на Земле; гармония — это путь, которым должна следовать Вселенная. В ритмах музыки закодирована жизненная энергия великого начала. Когда удастся достигнуть состояния середины и гармонии, в природе установится порядок, все сущее расцветет и зазвучит Высшая музыка. Эта Высшая музыка конечно же служит основой и обычной музыки, но не многим дано услышать ее.
Вот только композитору желательно творить, когда в государстве царит спокойствие, все вещи пребывают в безмятежном состоянии, народ следует за тем, кто стоит над ним. А он должен принимать за образец смех утопающего, пение приговоренного к смерти, танцы умалишенных, чтобы рассказать о том, как государь и подданные путают свои места, отцы и сыновья покидают родной край, мужья и жены разлучаются, народ приходит в отчаяние. Но такое ему выпало время.
— …Это предание себя на потворство страстям… самоистязанию… неблагородно, бесцельно. Совершенный нашел средний путь, который открывает глаза и разум, ведет к успокоению, познанию, просветлению, нирване. Это кругом все правое, — тут бурят поднял вверх правую руку, зачем-то ее внимательно осмотрел и продолжил: — Вера, решимость, слово, дело, жизнь, мысль, самопогружение.
Отец Климент перевел взгляд на высокого, могучего сложения Александра, которого священник долгое время готовил к встрече с Предвечным. Однако его ученик неподвижно застыл на месте, вытаращил глаза и широко раскрыл рот, не проявляя ни малейшей готовности к контакту с высшей силой.
Буддист вновь взялся крутить ритуальную мельницу. Словно на звон колокольчиков, в церковь вошел белобрысый, нечесаный мальчик лет семи, в ватнике, драных брюках и дырявых кроссовках. Он жалобно огляделся и неестественно высоким голоском, а больше жестами попросился к огню. Отец Климент, выйдя из оцепенения, поманил вошедшего и попытался вернуться к собственным мыслям, но брошенный им вскользь взгляд наткнулся на стерильно чистый, абсолютно бессмысленный взор васильковых глаз, и священник словно поплыл в них. Бурят продолжал зубрежку бенаресской проповеди.
— Рождение… старость… болезнь… смерть… соединение с нелюбимым… расставание с любимым… неполучение желаемого — страдание. Возникает страдание от жажды похоти, жажды вечной жизни, жажды вечной смерти, которая сопровождается радостью и вожделением. Полное освобождение от этой жажды, уничтожение, отвержение, оставление, изгнание ее в соблюдении Срединного пути.
Отец Климент вдруг опустился на колени перед мальчиком и поцеловал его грязные заскорузлые руки. Тот попытался что-то сказать, но слов почти не знал, а звуки выговаривал настолько нелепо, что понять его было невозможно.
Обрадованные тем, что их наставник отстранился от тяжких дум, к отцу Клименту со всех сторон двинулись прихожане, окружая разошедшийся с приходом мальчика костер. Лишь одинокий буддист творил молитвы, да вновь захватив бутылочный осколок, вещал китаец Ван, представляя себя Лао Цзы:
— Жизнь человека между небом и землей похожа на стремительный прыжок белого коня через скальную расщелину: мгновение — и она уже промелькнула и исчезла. Стремительно, внезапно все появляются в этой жизни; незаметно, тихо все из нее уходят. Одно изменение — и начинается жизнь, еще одно изменение — и появляется смерть. Зачем же живые существа скорбят об этом? Зачем человеческий род горюет из-за этого? Ведь умереть означает лишь расстегнуть данный нам природой чехол, разорвать данный нам природой мешок, это лишь изменение и рассеивание жизненной силы. Духовное начало уходит, тело следует за ним — это действительно великое возвращение от бытия к небытию. Бесформенное переходит в обладающее телесной формой; обладающее формой снова переходит в бесформенное — эта смена рождения и смерти известна всем людям, но на нее не обращает внимания тот, кто близок к постижению дао. Об этом рассуждают многие люди, но тот, кто постиг дао, тот не рассуждает, ибо рассуждающий не постигает дао. Это и называется великим пониманием.
Китайца невольно поддержал бурят, наблюдая за огнем.
— Как пламя костра, то затухает, то снова вспыхивает, так же возникают и приходят живые существа, но тех, которые достигли нирваны, не увидят более.
Разрастающееся, казалось, прямо из воздуха пламя заполнило все пространство в центре церквушки. Сидящие по разные стороны костра уже не видели друг друга и в замешательстве оглядывались по сторонам, опасаясь быть поглощенными огнем. Прервали свои ритуалы китаец и бурят, и все многозначительнее становились шорохи, производимые человеческим дыханием, шуршанием крыльев поселившейся в церквушке вороны или любопытствующей мышью. Ибо всякая тварь, заскользнувшая сюда, имела право на жизнь. Отец Климент завершал последнее обращение к Предвечному, которого он почему-то искал в мальчике. Наступило время полной тишины.
В мгновение все головы вскинулись вверх и повернулись к восточной стене, но ничего не произошло. Взгляды буквально ощупывали таинственное место, не находя перемен. И тут возникло невозможное в темноте черное пятно и раздался голос, который шел не сверху, а откуда-то совсем рядом.
Всеобщее недоумение рассеял веселый смех отца Климента, радостно смотрящего на заговорившего чужими словами мальчика.
Начало всех начал основа всех основ предтеча всех времен и мест Я тот кто (то что) един и один не сотворен из материи ни есть во плоти не имеет ни цвета ни формы неизменяем и непредаваем но кто (что) всегда везде есть явил свою волю. Безглазостью зовущего зрачка объял черную точку в черноте раскрыл уста бывшей видимой ныне незримой беспредельной бесконечной беспричинной призывно трепещущей непознаваемой сущности периодов деятельности и покоя вошел звоном безмолвия в нерушимость дыхания незнающей себя предвечности пробудив сына-света крутить педали нового колеса бытия вселенной. Желтокожие гадатели в систематизированном числовом ряду великие учители великие начальники великие пестуны старые ворчуны постигая великий предел открывали меня в темном светлом начале прерывистых целых лучах гармонии символе числе толковании изменении влечении проникновении отчуждении безуспешно дешифруя три гекса граммы двоичного языка логоса. Повелевающие направляюще-подсобляющие когорты компьютерно-безграмотных императоров суча веревки плетя сети долбя бревна заостряя палки ущербно мыслящие математики неустанно напрягая мозги проникновенно поучая ущемляя примитивных программистов не сумели постичь путь перемен. Прилежные писцы вселенной липики подглядывали в сердца покойников ловили энергетические сигналы переработанных в информацию мыслей в мерцании звезд запечатлевали зародыши знания заполняющие пространство образами истины идеями духа интуицией вдохновением озарением сшивали в книгу жизни списывали в архив забыв музыку какофонии душ затыкали уши становились черствыми регистраторами перфораторами. И вот я кто (что) всегда везде есть вернулся взглянуть на представление высшего разума поднять прошлые будущие отчеты оценить действо режиссера игры ума его порождения мифы анекдоты суждения.Первым прореагировал на чудесное явление китаец Ван.
— Вот то одно, приобретя которое, небо становится чистым, земля — спокойной, духи — прозорливыми, долина — наполненной, все предметы рождаются, а правители и государь становятся нравственно чистыми! — выпалив тираду, китаец с победоносным видом сел на корточки. Он осторожно поискал взглядом отца Климента, но тот, занятый мальчиком, не обратил на Вана внимания.
Произнеся без запинки весь вложенный в него высшей силой текст, мальчик качнулся и медленно повалился вперед. Стоявший рядом отец Климент успел подхватить падающего ребенка и поднял его на руки, ища куда бы пристроить. Услужливые прихожане бросились на помощь, расчищая и подготавливая место. Мальчика положили на набросанную прямо на пол ветошь. Худенький и измученный, он лежал на спине с закрытыми глазами и сложенными на груди руками, его слабое дыхание было совсем не заметно. Отец Климент перекрестил мальчика и поднялся с колен. Женщины ласково отстранили священника и, хлопоча вокруг ребенка, смачивали ему голову дождевой водой, щупали пульс.
Одна из прихожанок, сбросив товаркам на руки перешитое из шинели пальтишко и оставшись в темном свитере и длинной юбке, внезапно пустилась в пляс, остановив свой выбор отчего-то на «цыганочке». Зажигательный танец не взбодрил прихожан, лишь некоторые из них сдержанно хлопали в ладоши. Большинство же опасливо посматривало по сторонам и друг на друга, не решаясь поднимать взгляд на восточную стену.
Возмущенный самоуправством Предвечного, появившегося на святом месте Будды, бурят, не желая принимать никакого участия в противоестественном действе, демонстративно отвернулся от мальчика к западной стене церквушки. Меряя шагами зал, отец Климент иногда наталкивался на него. Священник, шепча что-то себе под нос или задумчиво потирая лицо, поглядывал на суматоху вокруг мальчика, но не вмешивался ни словом, ни делом. Видно было, что он готовился к продолжению контакта с Предвечным.
Восторженно встретивший явление Вездесущего китаец додумался подглядеть реакцию бурята и, поняв безразличие того, решил, не раскрывать более собственных чувств и полностью погрузился в изучение собственного стеклышка. Впрочем, у него было сильное желание потанцевать, но он не успевал, ибо танцовщица уже шла на место, и Ван решил на всякий случай хорошенько запомнить ее.
Отец Климент горестно смотрел на членов своей многорелигиозной общины, не пожелавших принять величайшее таинство в истории Земли. Глубоко, истинно верующие не могли они подняться над собственной религией, и радостно приветствовали привычных богов. Многое мог он сказать, но не ведал путей разрушения одной истинной веры ради другой, пусть и более высокой, но далекой от нужд и страданий человека.
Из тысячи людей едва ли один стремится к совершенству, из стремящихся едва ли один решится познать сущность, — перефразировал священник высказывание Кришны, пребывавшего на земле пять тысяч лет назад. Его последователи давно уже заполнили Россию, и отец Климент частенько поражался, как это ни один из них не забрел в его общину.
Сострадающие мальчику прихожане вновь пели псалмы, обступив его словно Господа. Отдавая дань их безграничной любви и участию, отец Климент вспомнил Иисуса, который даже своим апостолам говорил: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Вроде бы Христос еще целых одиннадцать лет посещал своих апостолов после смерти, наставляя и поучая их. Отец Климент также учил своих прихожан мистически, но сейчас у него не было причин для радости.
Чувствуя приближение нового явления Предвечного, священник решил восстановить потерянную энергию. Он принял позу лотоса, закрыл глаза, соединил пальцы рук, затворяя каналы энергии в теле, и принялся медитировать. Испытывая некоторое неудобство, священник, не меняя позы, слегка приподнялся и завис над полом. Подобные упражнения были не в диковинку Клименту. Взращенный убежденным атеистом, в молодости он увлекался йогой, а, посчитав христианство естественным продолжением верований Востока, в среднем возрасте стал последователем Христа. Прихожане понемногу стали перемещаться к своему пастырю, привлеченные привычной, но все-таки каждый раз поражающей картиной энергетической мощи человека. Нахождение рядом со священником в такие моменты укрепляло их.
Вновь встрепенулся Ван. Видно стараясь произвести впечатление на танцовщицу, он заговорил так громко и внятно, что даже опустился на пол отец Климент.
Существует начало и то что еще не начало быть началом бытие небытие и то что еще не начало быть небытием а также то что еще не начало быть тем что еще не начало быть небытием. Внезапно появляется небытие и неизвестно что на самом деле существует приходит проходит уходит а что не существует бытие или небытие.Тут Ван выдержал паузу и продолжал также глубокомысленно изрекать.
— Теперь я уже что-то сказал, однако не знаю: в сказанном мною действительно было что-то сказано или в сказанном мною на самом деле ничего не было сказано?
На что буддист ответил ему:
— Я не желаю смерти, я не желаю жизни. Я ожидаю моего часа, как работник своего жалованья. Я жду моего часа, полный сознания и мысли. Мой путь к нирване открыт.
Во время монолога китайца мальчик, так и не приходя в себя, встал, не сгибая ноги в коленях, как какая-нибудь статуя, поднятая чужой силой, и застыл абсолютно прямой лицом к восточной стене, на которой сфокусировалось черное пятно. Женщины в тревоге вернулись к ребенку, отойдя от отца Климента. Бледный, будто вылепленный из гипса, с закатившимися вовнутрь зрачками, с пеной на губах, мальчик заговорил чисто и мелодично:
Я кто (что) всегда везде есть сказал: существует начало и это есть космическая жизненная энергия существует то что еще не начало быть началом и это есть несовершенный разум богов существует то что еще не начало быть тем что еще не начало быть началом и это есть неразвитый разум людей. Состояние человеческое есть бытие состояние Вездесущего есть небытие состояние божественное есть то что еще не начало быть небытием есть то что еще не начало быть бытием. Небытие неисчерпаемо бытие мгновенно. Так сказал я Предвечный.С этими словами веки мальчика смежились, и он был тут же подхвачен женщинами. Они положили его на место, припали к нему и сразу же отстранились, зовя отца Климента. Он проводил проводника Голоса Неба в последний путь и застыл в молитве.
— Счастлив покинувший этот мир в общении с богом, — проговорил буддист. — Ему предстоит самая легкая карма. Он родится богом.
Лишь китаец Ван, уверенный в том, что Предвечный обращался к нему, продолжал общение с Космосом, несмотря на исчезновение черного пятна и голошение женщин.
— Небо и земля родились одновременно со мной, — провозгласил он срывающимся от важности голосом. — Внешний мир и я составляем одно целое.
— Да, когда Предвечный слышит тебя, — закончив краткую молитву, вступил в разговор отец Климент.
— Поскольку мы уже составляем единое целое, можно ли еще об этом что-то сказать?
— Однозначно, нет!
— Поскольку уже сказано, что мы составляем единое целое, можно ли еще что-то не сказать?
— Не сказать всегда и по любому поводу можно очень много, это как раз то, что я делаю, общаясь с вами, — вздохнул священник. — Ибо сказано: «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями».
— Единое целое и слова — это два, два и один — это три, — невозмутимо продолжил не признающий в тот момент никаких иных мнений Ван.
— Единое целое — это слияние с Предвечным, слова — это слова, что равно два, и новое качество — это результат общения с Предвечным, что равно одному и что есть новый завет человечеству, — ответил ему священник.
— Если мы от небытия продвигаемся к бытию и достигаем трех, то что же тогда говорить о продвижении от бытия к бытию? — хитро прищурился китаец.
— Не надо продвигаться, остановись на следовании естественному течению, — посоветовал отец Климент.
— Так я же так и поступаю! — возмутился Ван и замолчал, любуясь стекляшкой.
Прихожане оставили мертвое тельце и скопились возле отца Климента, не замечавшего их. Напуганные его отрешенным видом, они теребили друг друга, не решаясь заговорить. Вечный их страх был связан с тем, что душа священника покинет как-нибудь его мужественное, сильное тело и отправится странствовать. Ибо ведомо им было стремление отца Климента научиться отделять душу от своего тела.
— Прости нас, сирых… Не отделяй от силы своей, — заговорили они, чувствуя, что не исполнили чего-то, ожидаемого священником.
Согласный шорох прошел волной по церквушке и проник сквозь броню отрешенности отца Климента. Он удивленно посмотрел на прихожан, мягко улыбнулся и заговорил.
— Один из Высоких наставников, Апостол Павел, говорил о себе, что не достиг высшего знания Божия во Христе Иисусе, силы воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Ибо кто из нас совершенен, так должен мыслить, а основатель Церкви не умел разделить веру и разум. Раскрылись мои глаза, и увидел я ложность пути в общении с вросшим в почву народом. Проповедовал я вам словом, делом, собственной судьбою, но глухи вы оказались к речам моим.
Тут отец Климент с глубокой грустью вновь посмотрел на могучего Александра, закрывшего наконец рот, но не только не выговорившего ни одного слова за все время мистерии, но даже ни разу разумно не глянувшего на священника.
— И вот пришел отрок юный, неразумный и постиг большее, неготовый, а вы, готовые, смотрели и не видели, слушали и не слышали. Постиг я на примере, что познание духовных истин может быть приобретаемо только изнутри, не от внешнего учителя, а лишь от Божественного Духа, построившего свой храм внутри нас. Одновременно постиг я истинность древней мудрости о том, что глубочайшая Мистерия конечного знания не может быть выдана никому, кроме сына или ученика. Вам же завещаю: держитесь образца здравого учения, которое слышали от меня, храните добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Я же ухожу в поиск души, способной вступить в контакт с Предвечным, — с этими словами произошло неуловимое колебание в воздухе, а тело отца Климента мягко осело и сложилось, как мешок.
— Ом мане падме хум, — прогнусавил бурят, и сам же перевел: — Да, ты драгоценность в лотосе. Аминь!
Книга первая. ЛИЦЕЙ
1. ФОТОГРАФИЯ
Тихая улочка привела начальника сыскного управления к пункту назначения. Он еще раз мысленно пробежал затребованную им информацию к сегодняшней поездке и вновь поразился тому, что сведений о Московском лицее, а правильнее просто Лицее, Лицее с большой буквы в управлении Информации Министерства Внутренних дел Москвы не содержалось. И это наводило на определенные мысли о могуществе сил, курирующих учебное заведение. Имеющий нулевую категорию секретности полковник, вероятно, мог бы получить необходимые сведения о лицее, хоть и не был до конца в этом уверен, но самому ему выбираться в Первое управление было недосуг, да и вопрос того не стоил, и он решил разобраться на месте.
Лицей раскинулся на целый квартал, и полковник долго ехал по сложенным из красного кирпича дорожкам, пока не попал к центральному входу. Он поставил машину, не въезжая в ворота, чтобы великовозрастные ребятишки, гоняющие мяч на освободившейся от снега баскетбольной площадке, не нанюхались лишний раз выхлопных газов, и поднялся на четвертый этаж. С виду Лицей ничем не отличался от обычной школы, только от совместного воспитания полов в нем видно отказались, потому что навстречу попадались одни мальчики. Единственный раз он пожалел, что не надел форму, когда разряженное в шелковые шаровары и прозрачную китайскую кофточку существо пригласило его подождать у заставленного электронной техникой письменного стола, объявив, что у директора совещание, которое продлится минимум еще час.
— Директор, однако, назначил мне на четыре, — заупрямился полковник, гадая к какому же полу отнести существо, мускулистые волосатые руки которого, оголенные до локтей, контрастировали с пышными бюстом и задницей.
В отличие от полковника, загадочное существо, не утруждая себя обременительными раздумьями, элементарно показало ему, что он болван и зануда, и, оставив сидеть у стола, испарилось.
Полковник было сосредоточил усилия, чтобы ждать — событие для его фирмы неслыханное, — как раскрылась дверь напротив его кресла, и из нее посыпался самый разный народ. Он ожидал увидеть среди преподавателей невзрачных дев, оберегающих свое хрустальное целомудрие с приготовительного класса до кладбища, отстрелявших свое на фронтах науки пегобородых доцентов, докатившихся до школьного образования, или наконец стадо играющих глазами коз из пед-университета. Но народ был решительный, в основном короткостриженый и в расцвете сил. Только в одежде наблюдался некоторый сбой, что в общем было совсем не странно после семи темных лет, когда никто ни во что новое не одевался. Так что он ничуть не удивился тому, что френчи соседствовали с бархатными халатами, а хромовые офицерские сапоги с сандалиями на манер «а-ля Рим».
Последним вышел директор, высокий, грузный, в официальном сером костюме и с тростью в руке. Его не портил даже венок из белых гвоздик, лепестками свисающий на самый лоб и вместе с официальными роговыми очками и благородной сединой придающий директору вид святого мученика в служебной командировке.
Приемная быстро опустела. Только один дородный рыжий мужчина с животом как у беременной женщины и в красной безрукавке, из-под которой обнажались налитые салом и обрызганные веснушками плечи, никак не мог оторваться от своего принципала.
— А я так не могу! — бушевал он, пронизывая директора полным обожания взглядом. — Вы уклоняетесь от выражения своего мнения. Трость или гроздь, выражаясь иносказательно. Пороть ли мне мерзавцев в случае неправильных склонений и спряжений или окружить однополой любовью и все простить.
Директор посмотрел на него, далеко отклонившись назад, чтобы сфокусировать толстое лицо в поле своего зрения, и чуть усмехнулся.
— На минных полях будущего, того будущего, которое они создадут, кто их будет окружать любовью и прощать? Пусть из десяти отсеется девять, но один будет готов. Выращивайте огурцы в теплицах, если вы хороший садовник, сюда вы пришли с мечом и распятием.
— Вот, вот, вот, — закудахтал толстяк умильно, — этого я ждал, ради этой фразы я и проторчал все наше собрание…
— Кстати, абсолютно идиотское и ненужное, — отмахнулся от него директор. — Мы созданы посткоммунистическим режимом и так же далеки от естественности, как все последние восемьдесят восемь лет. Зачем эти бессмысленные, навязшие в зубах упражнения в словесной шелухе, никчемные обязательства и безвластные предупреждения. Как я от них устал! Когда же целесообразность уничтожит трату нашего единственного достояния — времени! Кстати, завтра я назначил учебное совещание в три. Сразу после занятий. Не вздумайте опоздать!
Отпустив рыжего, директор сделал приглашающий жест и вернулся в кабинет. Почти под потолком с портрета криво улыбался морщинистым соколиным лицом папа нынешнего царя великий князь Владимир Кириллович. Сели под князем, закурили, причем директор лихо свернул цигарку из демократической газеты, а посетитель зачмокал необрезанной бразильской сигарой, чей фаллический, почти в африканском каноне вид вызвал в директоре волну почтения.
— Я вас отвлекаю, — сказал посетитель, — мне безумно стыдно. Простите великодушно, что краски совсем нет в щеках, такой уж состав крови бесчувственный, а то бы покраснел как рак.
— Раки в естественном состоянии не краснеют, — ответил директор веско, — впрочем, вы наверно оговорились, желая сравнить себя с цветком мака.
«Рак не вывез, так и мак не поможет», — подумал про себя посетитель и решил держаться естественней.
— Вам ведь звонили? — спросил он с оттенком утвердительности, — и вам обо мне все известно…
— Все, — безапелляционно подтвердил директор, — все кроме одного.
— Это на кой ляд я сюда пожаловал? Ну по телефону о такой скользкой субстанции не объяснишься. Человек у нас сбежал. И такой человек смешной, что мы его ищем уже три месяца по всем территориям. Мальчишка, знаете ли, с вывертом, ухватистый, склонность к разным языкам имеет, лицедей несравненный, вот и пришла начальству мысль: не забежал ли к вам.
— Посторонних у нас быть не может, — сухо отозвался директор, — компьютерная система уберегает от смешения. К тому же контингент у нас особой лепки, случайных почти нет, отбор метафизический: по крови, происхождению, то есть… На каждого воспитанника дискетка отдельная в сети, так что намудрили вы в сыске…
— Мудрим, мудрим, — согласился посетитель, но с места почему-то не вставал, щурился на директора таинственно, потом полез в карман, вытащил любительскую фотокарточку, передал из рук в руки. — Есть тут среди ваших сын недостойных родителей, ученых, особым образом попал, нетрадиционным, так это дружок его ближайший. Если наш пропащий в Московию сунется, не иначе в лицей полезет. Своего милого повидать. Вот вам его фотография, — не обессудьте. Затруднять вас нам неприлично, но помощи, помощи просим. Передайте педагогам для донесения. Обяжете по гроб жизни и далее.
— И как далеко? — спросил директор словно и не шутя.
Но тут посетитель его разочаровал. Встав со скрипучего кресла, он отвесил безо всяких комментариев поклон и вышел.
— Морда какая-то знакомая, — пробормотал директор, — да пес с ним. Пусть поскребет по чердакам и подвалам. Возражений не имею… — Директор набрал в грудь побольше воздуха, и дивный его рык преодолел пределы кабинета. — Володечка!
Влетело, судорожно подтягивая шаровары, длинноволосое существо и скромно потупилось у письменного стола. Жаром запылали кисейные щечки.
— Надо, Володечка, речь отпечатать, — просительно склонив голову набок проворковал директор. — Подготовь, мой милый, эйтишку с принтером, поработаем. Американцы завтра ко мне приезжают, дорогой Вольдемар. Опыт нашей школы постигать. Миллион с собой везут. В кейсе. У них там образование держится только на наркотиках. Как с утра марихуаны не завезли, ни один сукин сын не пойдет в школу. Очень им хочется втемяшить своим ученикам любовь к классическому знанию и этике, которыми так богат наш лицейский мир. Ну за миллион они у меня такого опыта наберутся, на тысячу колледжей хватит. Печатай, мой ненаглядный, — закончил свою просьбу директор и начал диктовать.
— Наша система воспитания основана на трех китах: любовь, любовь и еще раз любовь. Если бы педагогический коллектив руководствовался только долгом, он воспитывал бы только законопослушных граждан, а не полнокровных людей, которые в покое и счастье должны создавать семьи и творчески трудиться, реализуя себя. Если бы во главу мы поставили знание, то что бы сталось с нашей главной целью — делать наших учеников счастливыми людьми, и если бы, наконец, в отношениях с воспитанниками мы стремились только формировать их мозг и тело, что стало бы с их бессмертными душами, с их эмоциональным и чувственным восприятием мира, которое должно основываться на этических законах. Поэтому наш долг — любовь, проповедь знания мы несем через любовь, а наше этическое мироучение — любовь к богу и ко всему сущему. Как мы этого добиваемся? Строгим подбором преподавательского коллектива. У нас не педагоги судят детей, а дети педагогов. Но для этого и те и другие должны иметь бездну взаимного уважения и тепла, пребывать в любви.
— Здорово ты их, Стефан Иванович, — захихикал Володечка, отрываясь от клавишей и глядя с обожанием на грузного шефа. Вдруг он с неожиданной прытью подскочил к зазевавшемуся директору, сорвал у него с головы венок и бросился опрометью за шкаф.
— Отдай венок, падло! — прогремел директор, мерной поступью направляясь к шкафу и стягивая с себя ремень. — Отдай, кому говорят. Деньги бюджетные, сука позорная! — Рука с ремнем поднялась и сильно шваркнула вдоль стены, куда директору было никак не подлезть.
— Любит, не любит… Стефан Иванович услышал прерывистое бормотание, и словно стая белых перышек закружилась вокруг его ног.
— Цветы обрывает, паскуда, — охнул директор. Но тут из-за шкафа раздалось придушенное: «Любит!».
Володечка вынырнул прямо головой в директорский живот, ликующе помахивая общипанной метелкой — бывшим венком. Штаны почему-то со Стефана Ивановича спали сами. Зверски рыча, он стянул со своего партнера шаровары, обнажив белую круглую попку и, заурчав, слился с ним в любовном экстазе.
— Любит… — стонал Володечка, не выпуская из потных рук обрывки стеблей.
Преподнеся подрастающему поколению урок практической любви и совсем запыхавшись, директор все же усадил шалуна за клавиши и не надевая штанов пошел гулять по кабинету, шелестя батистовыми кальсонами. Нос у него раскраснелся, а одышка мешала плавности речи, но он невозмутимо продолжил:
— И еще. Одно из главных чувств, которого начисто лишены ученики как в США, так и у нас — это чувство исторической преемственности. Я говорю не о родовых знаках племени, которые сплачивают волчат в стаю по цвету глаз или произношению буквы «р», а о гражданах вселенной, точнее о вселенской гражданственности, которая дается только классическим образованием и вовлечением в поток мировой истории. Не затвержение пустых дат, а слияние с эллинской и римской культурой — вот путь наших учеников, которых мы готовим к возрождению моря российского в его старых берегах.
— А чем знаменита элинско-римская любовь? — полюбопытствовал Володечка.
— Высший Эрот в Риме, как и в Элладе — любовь между мужчинами, понял, обормот?
Володечка озадаченно кивнул, он никогда не подозревал, что даже в сексе Стефан Иванович следует столь высоким образцам.
— Вот что, дружок, — попросил директор, когда отзвучала последняя фраза, — сгоняй-ка ты в аудиторскую для старших классов и попроси педеля подняться ко мне с Луцием. Или сам его позови.
— Попка болит, — пожаловался секретарь. — Не пойду вниз, ко мне ученики пристают.
— А ты их кинжальчиком, — посоветовал директор, — где твой кинжальчик?
Секретарь нашарил под шкафом громадный нож в черных ножнах, перекинул перевязь через шею и исчез за дверью.
— Не вспори кого-нибудь в самом деле, болван! — успел ему рявкнуть вслед директор. Натянув кое-как штаны, Стефан Иванович присел к письменному столу и стал проверять изложения по знаменитой обвинительной речи Цицерона на процессе Каталины.
Раздался деликатный стук и на пороге появился выцветший педель Менелай и ученик предпоследнего класса Луций. Из-за их спин выглядывала довольная мордочка секретаря.
— Оставь нас! — рявкнул директор изумленному педелю и, когда дверь за ним захлопнулась, показал воспитаннику на стул:
— Садись, двоешник! В кабинете воцарилась тишина. Директор читал изложения, а Луций косил взглядом на многочисленные портреты римских императоров и полководцев, всех как на подбор прямоносых, в белых венках и тогах.
«Где бы такое полотно раздобыть? — размышлял Луций, не спуская глаз с белоснежных одеяний императора Августа. — У нас в спальне ни одной целой простыни не найдешь. Я понимаю одна дырка для головы, но когда их десять мелких, как горох…»
Тут директор отложил в сторону стопку изложений и довольно грозным взглядом воззрился на ученика.
— Покоя от тебя нет, — проворчал он, бросая через стол легкую фотографическую карточку. — Физиономистику вам Куц читает, ну-ка не посрами учителя. Что ты скажешь об этом субъекте?
Луций подхватил карточку двумя руками. Лицо товарища юных лет смотрело на него сквозь фотографический блеск и глянец.
— Так это, — сорвалось с его припухлых губ, но тотчас в мозгу клацнул челюстями сторожевик, и Луций невозмутимо продолжил: — Так это… не наш. В лицее таких нет, господин директор.
— Знаю, что нет, — директор добродушно выругался и вдруг пододвинулся к Луцию вплотную. — Давай сюда свою глупую башку, — пропел он, оплетая голову студиуса сложными резиновыми петлями и предъявляя для опознания сотню фотографий неизвестных лиц. После чего нажал на предательскую кнопку и стал смотреть на экран.
Десятки физиономий отражались в мозгу Луция, а бесстрастный самописец фиксировал всплеск эмоций. Линия эмоционального отклика шла плоско, пока на экране не возникла фотография, которую Луций только что мял в руке. Тут же образовался пик величиной с Гималаи.
— Кому ты баки заливаешь? — спросил директор, презрительно глядя на Луция. — Я вас, подлецов, насквозь вижу. Сейчас же снимай штаны, подвергну тебя наказанию.
— Господин Стефан, я такими вещами не занимаюсь, — строго отчеканил Луций, но директор и сам понял, что хватанул лишка.
«Да и силы мои не те», — разумно подумал директор и отодвинулся от строптивца, сам внутренне довольный.
— Ты что, до сих пор не початый? — спросил он удивленно потому, что не в обычаях школы было ломаться перед высоким начальством. — Или просто недисциплинированный?
Луций тоскливо молчал, свесив набок длинноволосую голову и подперев ее рукой.
— Ну ладно, — сказал директор, — отзываются о тебе неплохо, так что я тебя за проявленную дерзость не накажу. Пока не накажу. Но если ты, едва увидев эту злокозненную рожу, не бросишься опрометью ко мне, даю тебе честное римское слово, что отдам национальным гвардейцам, а ты слышал, небось, какие у них большие и ненасытные пики.
— Отдай меня, — пискнул Володечка, появляясь на пороге, и отблеск страшной ревности пробежал по его холеному личику. — У них уже занятия начинаются, — кивнул он в сторону Луция, который сидел, придавленный обращением с ним директора и страшной угрозой, которая могла в любую минуту сбыться.
Тем более что друг его юности уже неделю тайно приходил в лицей и практически жил в нем, пользуясь тем, что всех воспитанников ни один педель не знал в лицо.
— Ну иди, — кивнул головою директор, увидя, что молодого человека проняло, что называется, до костей. — Володя, проводи!
Пока Луций шел по длинным школьным переходам и пролетам до своего дортуара, настроение у него стало меняться, и он начал приходить к выводу, что жизнь, может быть, не так уж и плоха.
«В конце концов, — подумал он, — если я не отвечаю за своих отца и мать, за их роковые опыты и еще более роковые судьбы, то какого хрена я должен отвечать за Никодима, если он всюду шкодит как сиамский бойцовый кот и умудрился насыпать дерьма за пазуху самому директору».
2. ДОСТОИНСТВА РЕЧИ
Лекции по римской риторике с беспощадной регулярностью читались через день в продуваемом всеми ветрами зале для торжественных приемов с невесть когда пущенным на растопку наборным паркетом, опасно нависающими островками недосбитой штукатурки лепного потолка, со створчатыми окнами в два человеческих роста и щелями в кулак толщиной. Давно не мытые, закопченные снаружи и запыленные изнутри стекла служили надежной преградой дневному свету, а на месте других серели разбухшие, покореженные фанерные листы. Необходимая освещенность учебного помещения поддерживалась на достаточно высоком уровне благодаря многочисленным, ничем не заполненным зияющим пустотам в оконных переплетах.
Преподавательский контингент состоял из двух ящиков разного цвета и величины. Патриархом выступал маленький черненький ящичек, являющийся не чем иным, как обычным магнитофоном. Ответы на вопросы на понятной человеческому уху речи должен был давать сверкающий компьютер шестого поколения из последней заграничной поставки. Возможности его, правда, были известны лишь теоретически, поскольку никаких вопросов по читаемому курсу на занятиях никогда не задавалось. Преподаватели были ограждены от слушателей невидимым электронным барьером, не пропускающим сквозь себя никаких предметов как органического, так и неорганического состава. Любого пытающегося приблизиться к кафедре немедленно било током, напряжение которого превышало 220 вольт.
Несмотря на неблагоприятные условия, как только из динамиков раздавались первые монотонные слова электронного диктора, прозванного студентами Цицероном, слушатели раньше или позже начинали клевать носом в зависимости не от темы занятий, а исключительно от времени года и атмосферных характеристик. Кроме всего прочего, голос заикался, что скорее всего было связано с давно вышедшими сроками пользования магнитофонной кассетой, заменить которую было абсолютно нечем.
Каждое место в аудитории было подключено к электроэнцефалографу, регистрирующему биотоки студиусов. Стоило кривой альфаритма зарегистрировать задремавшего, как незамедлительно в заду несчастного происходил мощный электрический разряд. Временами вопли жертв просвещения полностью заглушали монотонное бормотание магнитофонного лектора, стелящееся над морем сонно покачивающихся голов.
Так и не успев прийти ни к какому выводу относительно Никодима, Луций продемонстрировал свой зрачок фиксирующему по сетчатке глаза посещаемость электронному сторожу и проскользнул на свободное место. Магнитофон уже вовсю бубнил об античной теории стиля.
Всякая речь бывает двух родов: одна ориентируется на слушателей, когда говорящий ставит себе задачу убедить, другая находится в зависимости от предмета, относительно которого говорящий что-либо разъясняет. В речи, имеющеей в виду слушателей, различается речь поэтическая и ораторская. Перед говорящим стоит задача выбирать более торжественные слова, а не общеупотребительные и вульгарные, и гармонично соединять их одно с другим, так чтобы этими приемами и другими, связанными с ними, — как, например, ясностью, прелестью речи и другими качествами ее, а также уместным многословием и краткостью, — услаждать и поражать слушателя и, подчинив его себе силой убеждения, иметь в своей власти. В речи же, в которой интерес сосредоточен на предмете, оратор прежде всего будет заботиться о том, чтобы опровергнуть ложь и доказать истину.
«Ни одно пари, — подумал Луций, а их на его памяти заключались сотни, — не кончалось успешно для того, кто тщился прослушать лекцию по римской риторике без электрического подбадривания. Усыпляющее действие предмета было так велико, что даже случайно приведенный в аудиторию дворовый кот Тиберий заснул, будто сраженный наповал. А ведь коту было легче. Он ориентировался только на интонацию, не задумываясь о смысле».
Достоинства прозаического и поэтического языка одни и те же и отличаются между собой только большей или меньшей степенью. Поэтический язык есть метрическая или ритмическая речь, путем украшения избегающая прозаичности. Складному и отделанному слогу наиболее приличествует изящ-плав-внушитель-ность в со-глас-ответств-ии с предметом обсуждения.
Об этом многое знал известный вам понаслышке Люций Анней Сенека — автор и персонаж единственной сохранившейся в латинской литературе претексты «Октавия». Претекста — трагедия, названная так по тоге с красной каймой, которую носили римские магистраты. Октавия — племянница, далее жена императора Нерона. Семейные истории римских принцепсов вызывали интерес общества из-за скандальности и влияния на судьбы государства.
Клавдий Друз Цезарь казнил смертию Мессалину, родившую ему Британика и Октавия, ибо сошлась она с Силием, а после взял в жены Агриппину, дочь брата своего Германика, вдову Гнея Домиция Агенобарба Нерона (семейный аспект), и сыну Агриппины Нерону отдал в супружество дочь свою Октавию (государственный аспект). После того как Клавдий, затем Британик были погублены отравою (государственный аспект), Агриппина, мать Нерона, заколота по указанию кесаря (семейный аспект), Нерон дает развод Октавии, которую ненавидит, и женится на Поппее Сабине (семейный аспект). Смятение и бунт народа, вызванные упомянутым разводом, Нерон подавляет многими казнями, а сосланную Октавию велит убить (государственный аспект).
«Пять смертей только при переходе правления от блаженного убийцы к убийце сладострастному, — посчитал Луций, — и все ради того, чтобы навесить на себя 1808 лавровых венков». Ему вспомнилась притча о спасителе с мечом.
У спасителя распадающегося общества меч может быть или обнажен, или скрыт в ножнах, но истина состоит в том, что, однажды изведав кровь, меч уже надолго не остается без дела. Пусть вожди льют слезы, подобно Цезарю, проявляют милосердие к врагам, распускают армии, как Август, клянутся в непролитии безвинной крови, однако меч от своего не отступит и неотвратимо погубит неправедный режим державы.
«Итак, можно ли на примере римских вождей выращивать героев, способных ответить на угрозы, вставшие перед обществом, и возродить его — так ставит вопрос перед историей наш лицей», — внезапно сформулировал все время ускользавшую от него мысль Луций.
Переходя к качествам речи, магнитофон отметил, что достоинств речи пять: чистота, ясность, краткость, уместность, красота. За этим стоит как первое из добавочных достоинств — наглядность.
Следует усвоить себе красоты слова, действующие на слух, и ярко звучащие буквы, выбирая их по ка-коли-честву. Красота слов состоит в особенной отделке самой речи, мыслей, в достоинствах самих предметов.
Так кто же приводит людей в трепет? С кого они в оцепенении не сводят глаз, когда он говорит? Кто вызывает у них возгласы восторга? Кого они, так сказать, считают богом среди людей? Тех, кто говорит строй-определен-про-стран-но, яркими слова-образа-ми, как бы вводя в самую речь некий стихотворный размер, одним словом, красиво, как Сенека:
Меж царств границы пролегли, и новые Воздвиглись города, и стали с копьями Чужое грабить или защищать свое. Бежала, нравами гнушаясь дикими Людей с руками, кровью обагренными, С земли Астрея, звезд краса бессмертная. Воинственность росла и жажда золота По всей земле, и зло возникло худшее: Страсть к наслажденью, вкрадчивая пагуба, Что крепнет, в заблужденьях силу черпая. В пороках многих, издавно копившихся, Мы тонем, и жестокий век нас всех гнетет, Когда злодейство и нечестье царствуют И всеми похоть властвует постыдная И к наслажденьям страсть рукою алчною Гребет богатства, чтоб пустить их по ветру.3. ЗАЛЕТНЫЕ
После занятий Луций вернулся к себе в расположенную на самом верху пятиэтажного здания мансарду с громадным окном, выходящим прямо на Кутузовский проспект, и уселся на подоконник. Справа от него, внизу, возвышались руины Триумфальной Арки, разрушенной танками хана Шамира, прямо под окнами банда таксистов лениво переругивалась в ожидании не появляющихся клиентов. Поток машин был вял и редок, поскольку нефтяная блокада Тюменской республики так и не была прорвана. На уцелевшей колонне бился на ветру золотой с черным монархический флаг. Двуглавый орел клевал воздух согласно порывам ветра. С противоположной стороны доносились гнусавые песнопения. Это бритоголовые кришнаиты пытались привлечь случайных прохожих.
Зазвенел железный будильник, который Луций выменял на раритет — карту СССР в границах 1985 года. Перед тем как отдать карту, они с братом долго с удивлением рассматривали изображение гигантской страны, равной которой по величине и мощи не было в истории. Что ж, семь часов, время встречать брата. Луций снял голубой нейлоновый комбинезон и надел дырявый синий халат. В карман он положил молоток на длинной ручке и острую отвертку с заточенным как бритва лезвием. Юноша вышел на проспект, поглядел вправо и влево и быстро зашагал к метро. Мальчик уже ждал его.
Метро оставалось одним из немногих общественных мест в городе, где в самом деле было безопасно. По распоряжению императора в каждом вагоне находились двое полицейских с собаками. Двенадцатилетний Василий был в белых куртке и джинсах, хотя Луций каждый раз просил его одеваться не броско. Обняв брата за плечи, Луций почти довел его до перехода, когда снизу из подземелья вынырнули двое «залетных», как их называли в городе, и плечом к плечу встали перед ним.
— Земляк, дай прикурить, — обратился один из них к Луцию, и его широкое, с медным загаром лицо расплылось в откровенной ухмылке. Юноша знал, если объявились двое залетных, то рядом обязательно обнаружатся еще четверо или больше, но также знал, что залетные свое здоровье очень берегут, поэтому он просто сунул руку в карман и вытащил заточку. Блестящий луч протянулся от руки Луция к лицу здоровяка, и тот сразу отпрянул.
— А то продай мальчишку, — сказал сипло второй громила и сунул руку в карман, — зелененькими заплатим.
— Бежим! — шепнул Луций брату, и они, выскочив обратно на тротуар, опрометью бросились поверх ограждения на проезжую часть, которая к счастью была абсолютно пуста. Как Луций и ожидал, залетные за ними не побежали. Просто к тем двум, которые лениво поднялись по ступеням и, стоя у перил, провожали взглядом убегающих, присоединилось еще несколько человек. Все они, казалось, чего-то ждали.
— Бери правее! — крикнул юноша брату, не желая наводить залетных на лицей и опасаясь таксистов, которые внезапно замолкли и стали поворачиваться к бегущим. Они забежали в свой переулок. Один из таксистов собрался броситься за ними, так во всяком случае показалось Луцию, и тут вдалеке, с устья Рублевского шоссе послышался стон сирены и засверкали синие «мигалки». Залетных с противоположной стороны тротуара тотчас словно сдуло в подземный переход. Таксисты бросились по машинам и с ревом умчались вперед, подальше от полицейского кортежа с проверкой документов, потому что чрезвычайное положение еще не было отменено.
— Чай будешь с вареньем? — спросил Луций брата. Тот только кивнул. Потом, решив что, может быть, кивок вышел не слишком убедительным, громко добавил:
— Хочу! И хлеба хочу с сыром.
Юноша пошел кипятить чайник на общую кухню, а когда вернулся, нашел рядом с братом ту самую злокозненную рожу, из-за которой он утром едва не лишился невинности. Нежданный приятель сидел рядом с Василием, полуобняв его и пощипывая рукой за щечку, вторая его рука держала вожделенный бутерброд с сыром, который Луций рассчитывал разделить с братом.
Увидев Луция, который не смог скрыть болезненной гримасы, его преследуемый друг встал, не отнимая бутерброд ото рта, и свободной рукой крепко обнял друга детства. Луций немедленно отстранился.
Никодим по лицу Луция прочитал все и, широко раскрыв рот, отгрыз сразу половину бутерброда. Причем оба брата сделали глотательные движения, будто помогая ему. Тут Луций опомнился и грозно посмотрел на брата.
— Я же приказал тебе никого не пускать, — прошипел он, и рука его нащупала розовое ушко Василия.
— Не трогай ребенка, — сказал Никодим, и ладонь его железным кольцом перехватила руку Луция. — Ты забыл, что для меня открыть любой замок, не фокус?
Луций как бы со стороны посмотрел на его лицо — лицо человека с фотографии. Прямой пробор разделял блестящие темные волосы, ровная щетка усов — холодные голубые глаза и алый рот. Он вспомнил, что Никодим вечно шатался по сборам и соревнованиям, и отпустил брата.
— Ты сегодня нервничаешь, — холодно констатировал Никодим и вдруг широко улыбнулся. — А я чертовски рад тебя видеть. И более того, страшно хотел бы продлить нашу встречу на два-три дня. — Ткнув Луция шутя кулаком в грудь, он продолжил: — Я уже по твоим глазам все прочел. В лицее непрерывный шмон. За сокрытие посторонних грозят изгнанием, а то и чем похлеще. У тебя даже нос вспотел от страха. Ума не приложу, что тебя здесь держит. Поехал бы со мной и парня бы взяли. — И он так чтобы Луций видел, погладил мальчика по голой коленке. Тот зарделся от удовольствия.
— Ты мне пацана не трави, — холодно ответил Луций, — парень и так грезит побегами в дальние страны: то в Крым, то на Кавказ. Я за него перед теткой отвечаю, и нечего его сманивать. А кроме того, тебя хотел спросить, — тут взгляд юноши упал на младшего брата… «Не выгнать ли его, — подумал он, но потом махнул рукой, — пусть слушает, может кое-что поймет»… И продолжил фразу: — Ты что, в самом деле считаешь, раз мы с тобой вместе росли и, можно сказать, за одной партой восемь лет проспали, это дает тебе повод открывать замки в моей комнате, съедать мою еду и соблазнять моего брата? Может быть ты забыл, что наша юность осталась в другой эре, как любили выражаться коммуняки. Ты появляешься то после Балтийской войны, то после Московских пожаров, то вдруг вслед за уходящими танками Шамира, вечно без денег, голодный, и существуешь с таким видом, будто я обязан тебя содержать. Да, когда были живы мои отец и мать, я принимал тебя как брата, но с тех пор моя щедрость также поизносилась, как и моя одежда.
— А я как раз хотел попросить тебя одолжить мне твой старый серый костюм-тройку, — невозмутимо перебил его Никодим. — По-моему, ты предпочитаешь ходить в халате. Кстати, — добавил он небрежно, не давая Луцию заговорить, — твои Родители живы. И более того, они работают по специальности.
— Перестань, — попросил Луций, приседая на стул и держась побелевшими пальцами за кончик кушака как-то оказавшийся у него в руках, — твоя спекуляция отвратительна, лучше забери костюм и убирайся! — Он подошел к шкафу, схватил висящий на плечиках костюм и швырнул его в лицо юноше.
Никодим перехватил брошенный костюм, ловко развернул его, аккуратно положил пиджак на кровать, а брюки надел прямо на синие тренировочные штаны, сбросив с ног черные тапочки. Потом он стянул серый старенький свитер, и под ним оказалась удивительной белизны рубашка и совсем забытый предмет туалета — галстук. Никодим ловко накинул на плечи пиджак и сразу стал похож на Почетного бургомистра Санкт-Петербурга Собчака, когда тот открывал новогодний королевский бал. Даже Луций посмотрел на него с некоторым удовлетворением, как божок на дело рук своих.
— Санкт-Петербург, станция Кировский завод, учреждение 7-40, цех 5, — отчеканил Никодим, вдруг переставая улыбаться и небрежно играя кончиком галстука. — Передачи раз в десять дней, свидания по престольным праздникам, побег невозможен. Состояние здоровья удовлетворительное. Последнее письмо перехвачено твоим директором в воспитательных целях.
На минуту лицо Луция стало страшным. Оно посерело и съежилось, будто за одно мгновение он пронес свою карму от семнадцатилетнего студиуса до могилы.
— Ты что, был в Петербурге? — спросил он, задыхаясь, еще совсем не веря, не веря ни одному слову этого запутавшегося в своих скользких делах человека и поэтому готового на любую ложь за приют и кусок хлеба.
— Чего я там не видел? — пожал плечами Никодим. — Там немцы бал правят вместе с американцами. Там порядок.
Слово «порядок» он произнес с той издевкой, с которой всякий уважающий себя русак относится к ничего не понимающим в жизни «прочим шведам».
— Понятно, — протянул Луций, сдержанным пинком отправляя брата в кресло, подальше от цепких объятий наглеца Никодима. — Такие, как ты, ненавидят порядок, там трудно мутить воду, нет грязи, в которой можно вымазать рожу, чтобы никто не узнал. Вот в Москве, где все шатко-валко, где сегодня правят вчерашние убийцы, а завтра уже их начнут уничтожать, в хаосе и мраке таким, как ты, раздолье. Только держись подальше от меня и моего брата, потому что мы хотим естественной стабильной жизни, — а не вечно нового порядка и не стальной руки.
— Не то говоришь, — ехидно ответствовал Никодим, в то же время посылая взгляд, томный, как воздушный поцелуй, обиженно скорчившемуся в кресле мальчику. — За всем, что ты говоришь, стоит только один вопрос: правду ли я тебе сказал о твоих или нет? Успокойся, малыш: я тебе… — тут он выдержал паузу, — не солгал. Твои в Петербурге. И у тебя есть шанс им помочь. Весь вопрос в том, сможешь ли ты легально выбраться из школы с предписанием или нам придется прятаться по всем вокзальным и станционным туалетам вместе с твоим братцем.
— Брат не поедет, — глухо сказал Луций, еще не сообразив, что говорит о поездке как о деле вполне решенном, — я им рисковать не буду. Я поеду один. Ты же сам только что сказал, что тебе нечего видеть в Петербурге. Да и твое общество слишком для меня опасно.
— Вот ты и проговорился, — засмеялся Никодим гулким перекатывающимся смешком. — А ведь не хотел. Внутри держал информацию. Нет чтобы друга предостеречь. Ну ладно, выкладывай все, что знаешь. Чем тебя смущает мое общество?
— А всем, — не раздумывая швырнул ему в лицо Луций. Слепая ярость подхватила и понесла его по извивам русской речи. — Ты не легализован, от тебя на расстоянии несет непрятностями. А мы с братом воспитаны на законопослушании. Не только ты один изменился за последние несколько лет. Спасибо, — съерничал Луций, — что ты не забыл меня, но я не верю тебе.
— Ты без меня в Санкт-Петербург не доедешь, — просто ответил Никодим. — Попробуй, и твой брат останется круглым сиротой. Придется мне его взять под опеку. Более того, ты и до вокзала не доедешь. Ты надеешься на метро. Так вот, Комсомольская площадь так и не восстановлена. Тебе придется идти два квартала пешком. Или ты возьмешь такси? Видишь, тебе самому смешно. Но если у тебя будет предписание, мы застрахуемся со всех сторон. Потому что преступные структуры я возьму на себя. А ментовские — ты. Пошло?!
— Я подумаю до завтра, — сказал Луций. — А пока — уходи!
Внезапно вошедший человек был невысок и полон, что само по себе говорило об определенном социальном статусе в обнищавшем за темные времена городе. Мягкий свитер облегал его круглые плечи и грудь. Новые джинсы топорщились на толстых бедрах.
— Вадим Александрович! — одновременно воскликнули Никодим и Луций. — Вы ли это?
— Я, я, собственной персоной, — кивнул пришедший, скидывая с кресла зазевавшегося мальчишку и располагаясь поплотнее, так что заскрипели ореховые ножки и спинка. — Засиделся я дома, никто к старику в гости не ходит. Милена моя и та ворчит: хоть бы ты, старый пень, прошелся куда-ни-будь, а то вечно на тебя натыкаюсь; я и пошел. Правда тебя вот не чаял увидеть, — обратился он к Никодиму. — Смел ты, однако, сынок.
— Может, чаю, — несмело заикнулся Луций. Толстяк только рассмеялся и лениво потянулся к большой черной сумке с фирменными лейблами на ней. Пока он ее расстегивал, Никодим, с жесткого лица которого сошло выражение превосходства, подошел к столу и внимательно рассматривал добротные кожаные ботинки Вадима Александровича.
— Я то смел, а вы смелее, — сказал он, глядя прямо в глаза своему собеседнику, — эвон ботиночки вовсе сухие, а ведь какой дождь идет.
— Неужели на такси? — ахнул Луций. Его брат обежал кресло и с собачьим выражением восторга уставился в спокойное лицо посетителя. Тот наконец справился с молнией на сумке и стал вытаскивать из нее предметы до такой степени разнородные, будто они принадлежали совсем разным людям. Сначала он с осторожностью положил на край стола большой револьвер с глушителем, затем браунинг, после нечто странное по форме, тоже напоминающее револьвер с двумя проволочками на конце вместо дула, еще газовый баллончик и бамбуковые нунчаки. Видимо на этом арсенал исчерпывался, потому что на нунчаки легла голубая плитка давно никем из присутствующих не виданного шоколада, сверху пышный батон и круг колбасы.
— Этот таксист вообще дурак, — сообщил Вадим Александрович, беря в руки большой револьвер и нежно его поглаживая. — Вот я позавчера только питон купил, слона валит на колени, самовзвод, и чуть болвану голову не запломбировал свинцом. Хорошо у него ума хватило сдаться. Так и сидит в машине с поднятыми руками… парализованный.
— Чем же он за руль держался, — усмехнулся Никодим, — пока вы сюда ехали?
— Я его привез, — важно сказал толстяк и полез в карман за платком утираться. — Ну и жара у тебя, братец, чувствуется, что школа живет не по нормативам.
— Тепла навалом, а вот с едой, — покрутил носом Луций, — стипендии хватает только на хлеб с сыром, — и он бросил красноречиво укоризненный взгляд на Никодима.
— И что, обратно тоже на нем собираетесь? — спросил безобразник Никодим, но Вадим Александрович только покачал головой:
— Вам бы только зубоскалить. Другой-то жизни и не знаете. Поди вам и в голову не приходит, что первоначальной функцией таксистов было доставлять людей куда они прикажут, а не увозить в неизвестном направлении. И тротуары были созданы, чтобы по ним гуляли люди, а не прятались от полицейских разъездов. Да что вам объяснять, вы же родились уже во время потопа. Лекции мои конечно не слушали, книг не читали.
— Мы знаем, что не всегда так было, — хмуро отозвался Луций, — но что было на месте великого царства из двух городов да одного водохранилища, и то сухого, представляем в самых общих чертах.
— Ну ладно, давайте чайку похлебаем, и я расскажу легенду о распаде великого царства… Вы прекрасно знаете, что империя эта называлась Союз Советских Социалистических Республик и была она самой большой и богатой на свете. Всего в этом государстве хватало с излишком. И все рассортировано. Скажем, в булочной стенки ломились от разных булок и хлебов, в молочных стояли рядами бутылки с молоком, в электротоварах можно было купить за рубли светильник или холодильник. Вот так процветало это замечательное государство, пока в нем не завелся один недостаток. Недостаток в идее. Старая большевистская идея усохла до того, что ее уже никак нельзя было продавать или даже даром давать с другим более ходким товаром в нагрузку. И у банды, которая этой великой страной потомственно правила уже несколько десятков лет, родилось сомнение, удастся ли им и дальше держать власть в руках, не имея за душой новых идей. Тогда они, те, кто стояли у власти, подумали и размежевались. Самые перспективные и мыслящие сделали вид, что они против остальных, традиционно держащих власть, на тот случай, если власть у них из рук выпадет и надо будет ее подобрать. Но они не учли, что империи умирают, как люди, и этой приспичило по возрасту, и никакие самые смелые лекарства…
— Поздно уже, — прервал его Никодим и, усмехнувшись, показал на мальчика, который не отрываясь смотрел на колбасу, — может не будем пацана травить байками?
Когда Луций вышел вместе с чайником, Вадим Александрович несмотря на полноту живо вскочил с места и отозвал Никодима к окошку, так чтобы Василий не слышал:
— Ты, болван, засветился, — сказал он грубым шепотом, — хорошо, что концы ко мне идут, а то уже перешел бы на казенные хлеба.
— Кто? — спросил Никодим.
— Не твоя забота, — отмахнулся толстяк, — сами справимся. Только ты в лицей больше не ходи. На тебя здесь уже сторожевик гуляет. Все, что на столе, возьми, — мотнул он головой в сторону оружия, — завтра выправим тебе разрешение и все документы для поездки. Остерегись, не своей головой рискуешь.
— Я сыск уважаю, — шепотком отвечал Никодим, — старая школа российских сыскарей работает получше нашей контрразведки, только в лицее я вполне затерян среди студиусов, да и директор ориентируется на крепкую руку…
Однако, встретив свирепый взгляд Вадима Александровича, речь свою прервал и осторожно загрузил оружие в карманы пиджака.
— Я исчезаю, — торопливым шепотом приказал толстяк, — а ты чай попей, да и топай отсюда. Я тебя по хазовкам ловить более не собираюсь. Утром ко мне за билетом и марш-марш в Петербург. Имей в виду, это тебе не Москва «старушка-простушка», там без выправленного документа и часу не продержишься, и на улицу носа не сунешь, и в номера ни въедешь. Нищенский хомут сбрось! — строго показал он на заношенный пиджачок. — Обрядись в первоклассное английское платье, для поездки всего получишь с лихвой.
— Мне прикрытие нужно, — сказал Никодим, тряся головой от полученной взбучки. — Я хотел с собой братьев взять, они в наших делах ни уха, ни рыла, и захотят, так не сдадут. Крючок для старшего есть, не сорвется. Я бы сам рожу из гостиницы и вовсе не высвечивал. Эти двое ни в какой картотеке ни значатся. Зуб даю на отсечение.
— Смотри, — равнодушно пожал плечами толстяк, — ответ твой. Не жопой, головой ответишь в случае неудачи.
Когда Луций вернулся с подносом, на котором дымились стаканы с крепким чаем, ни Никодима, ни бывшего школьного учителя истории уже не было. В углу спал младший братишка с недокусанным шматом колбасы в руке, а на столе, придавленная нунчаками, белела записка.
«По прочтении сожги, дубина», — ознакомился юноша и заскрипел от злости зубами.
4. ВЫБОР СЛОВ
Не успев прийти ни к какому выводу относительно Никодима, Луций зашел в аудиторию и, подняв руку в знак приветствия, осторожно прошел на свое место. Магнитофон все также бесстрастно препарировал качества речи.
Всякое суровое, стремительное вновь создан-необыч-ное тотчас придуманное слово в гневе, нападках делают речь правдивой и как бы воодушевленной. Там, где мы высказываем другое какое-нибудь душевное переживание, применять те же самые средства конечно нецелесообразно. В патетических частях речи, при душевных страданиях, когда оратор хочет вызвать сострадание, более нужны чи-про-стота, сладос-прия-тность.
Мощность речи есть не что иное, как знать и уметь должным образом и вовремя пользоваться всеми вышеназванными видами речей и им противоположными, а кроме того еще и всем остальным, что приводит к созданию тела речи. Мощности особенно близка сжатость.
Недостатки речи: сбивчи-ребячли-вость, напыщенность и ложный пафос. Сбивчивость возникает, когда не привлекая средств, создающих точность, перегружают речь, делая ее пространной. Если напыщенная речь в стремлении превзойти возвышенную надута, неискренна, противоположна желанному, то ребячливая в стремлении к необычай-привлекатель-изыскан-ному низмен-мелоч на, с-хо-ластичдуль-на.
Борясь с оцепенением и ощупывая слегка побаливающее туловище, Луций с удовольствием вспоминал случившееся на вчерашнем занятии по курсу «Власть над толпой». Это был единственный семинар, который он никогда не пропускал. Вел его отставной демократ Пузанский, бывшая правая рука мэра Попова, память о котором осталась в виде бюста, изображавшего разделенный на две половинки круг. Пузанский, историк по образованию, поднаторел на митингах и собраниях, пока они высочайшим повелением не были запрещены. Он излагал свое учение с жаром и энергией, неизрасходованными в бурные девяностые годы. После одного случая, когда Пузанский в качестве предметного урока на улице заворожил очередь алкашей, развернул их прочь от водочного магазина и отправил на разгром капиталистической собственности в Зеленоград, весь класс верил ему безоглядно и только мечтал повторить свободный урок.
Последний демократ был широк как мамонт. Вместо клыков у него свисали белые закрученные усы.
Луций быстро раскрыл общую тетрадь и принялся конспектировать.
— В каждом отдельном случае, — вещал Пузанский, — вы должны точно представлять себе цель воздействия и аудиторию. Если, например, надо увести с площади толпу воющих дебилов, то кретизна речи и жестикуляция должны разительно отличаться от беседы с группой юных домохозяек на предмет варения говяжьего языка. Даже если вам придется в процессе беседы убедить их вообще отказаться от мяса.
Итак, весь класс — дебилы, я — оратор. Луций — оппонент. Начали. Кстати, с чего я всегда начинаю? Ну, лучший ученик?
— Надо разжечь их. Слегка эпатировать, сшибить стереотип поведения. Дальше действовать по обстоятельствам. Что касается цели, то в этом случае я пас. Что еще можно сделать с дебилами, которые выпали из социума и живут первобытной жизнью?
— Сейчас увидишь, — загадочно улыбнулся лектор и хлопнул в ладоши. — Дебилы, на площадь.
Тотчас все перешли в актовый зал, который своей громадностью и пустотой более, чем другие помещения, напоминал городскую площадь. Дебилы разлеглись в освобожденной от стульев половине, некоторые для правдоподобия до пояса разделись, другие имитировали сексуальные игры, типичные для поселения дебилов в большом столичном городе. Пузанский и Луций, изображая праздношатающихся туристов, побрели между стульями, причем юноша все время устремлял взгляд на потолок в поисках музейных редкостей и потому спотыкался; Пузанский, напротив, все время глядел под ноги, будто разыскивая закопанный его прадедушкой, кронштадтским мещанином, клад, и поэтому первым наткнулся на полуголого дебила, затаившегося в кустах.
— Бедняга голоден, — констатировал Пузанский, брезгливо ухватив двумя пальцами худое обнаженное плечо и выводя туземца из кустов на свет божий. Тотчас его взгляду будто бы открылось и все племя, которое при виде чужих стало повизгивать от ярости и ерзать по земле. Но Пузанский широким жестом отодвинул от себя дебила и сказал, тыча ему пальцем под ребро:
— Здорово, братва! В этом мудацком городе ни одного человеческого лица не увидишь, все какие-то блядские морды. Наконец-то бог вас послал. Объясните вы мне, за какие грехи вы сидите здесь голодные и раздетые, когда весь город полон жратвы и девок. Может, за грехи ваших предков в седьмом колене. Или еще за что?
Дебилы немножко пошушукались, а потом стали приближаться. Видимо, слова Пузанского оказались им по нраву.
— Мы и предков своих никаких не знаем, — утешил преподавателя крупный цаплеобразный дебил, подсев к нему совсем близко. — Детдомовские мы, нас родители бросили в нежном возрасте, а государство подняло.
— Что же вы тут сидите? — спросил Пузанский укоризненно, и под его проникающим взглядом дебилы стали стыдливо отворачиваться и расползаться. — Объясните вы мне, может, я чего недопонимаю, почему вы здесь, а, скажем, не в каком-нибудь из бывших домов компартии, или, в конце концов, не в апартаментах гостиницы «Космос», где ванные в каждом номере, тепло и уж по одному буфету на этаж есть всяко.
— Да бедные мы, — нехотя признались дебилы, — денег у нас нет. И, признаться, никогда и не было. В гостиницах же за все надо платить, да похоже не простыми рублями, а валютой.
Что такое валюта многие дебилы понимали слабо, но очень это слово уважали.
— Но деньги же где-то есть?! — начал второй раунд Пузанский. — Похоже, что помимо ваших карманов остались места, где рубли водятся и в большом количестве. Вы родились на свет, чтобы быть счастливыми, трахаться под солнышком, любить своих детей и путешествовать. Кто из вас был дальше Люблино? Молчите? Вот то-то… И еще. Нельзя у этих дегенератов, которые у власти, просить. Они просьб не понимают. Они от чужих просьб надуваются как индюки и начинают чужое хапать с удвоенной быстротой. Хотите жить хорошо?
— Хотим! — взвыли дебилы.
— А внушать всем страх, причем самим никого не бояться?
— Хотим!
— Самим распределять жратву, оружие, одежду, деньги, квартиры? — тут уж Пузанский не стал дожидаться ответа, а стремительно продолжил. — Тогда собирайте всех наших от южных границ города до северных. Общий сход у центрального барка на Добрынинской площади. Там, где денежки лежат. Подыгрывай, — шепнул учитель Луцию.
Тот на секунду задумался, обвел взглядом ряды своих сокурсников, которые играли роль дебилов с блеском, который не объяснить одним только артистизмом, и закричал:
— Чем больше нас соберется, тем больше шансов, что мы захватим деньги! Даешь Императорский банк!
С криками «даешь!» дебилы набросились на Пузанского и Луция, сбили их с ног и промчались к выходу из актового зала, потому что как раз прозвенел звонок. Луций, слегка помятый, вскочил первым и протянул руку, помогая подняться грузному преподавателю.
— Дебилы! — выругался тот, отряхивая брюки и тряся ушибленной шеей.
Все это время магнитофон абсолютно невозмутимо продолжал лекцию, нимало не задумываясь о неприятностях, которые могут поджидать преподавателя в его непростом деле.
— Четвертый недостаток патетического стиля — неуме-ст-рен-ные во-сторг одушевление, подъем, названный учителем императора Тиберия Теодором Гадарским ложным пафосом.
Сенека иллюстрирует примерами в диалоге Нерона с Сенекой величие речи словами Нерона, а недостатки — словами Сенеки.
Нерон: Толпу лежачих топчет. Сенека: Ненавистных лишь. Нерон: Храни нас меч. Сенека: Надежней — верность подданных. Нерон: Быть страшен должен цезарь. Сенека: Должен быть любим. Нерон: Страх нужен! Сенека: Тяжко все недобровольное. Нерон: Хочу повиновенья. Сенека: Справедливым будь. Нерон: Я все решаю. Сенека: С общего согласия лишь. Нерон: Клинок внушит почтенье. Сенека: Да не будет так. Нерон: Терпеть и впредь без мести покушения, Стяжать от всех презренье, вдруг убитым быть? Враги умрут: они мне подозрительны. И за любимым братом пусть постылая Уйдет жена. Пусть рухнет все высокое.Услышав про клинок, Луций вновь нашел повод полюбоваться найденной им формулировкой, тщательно проговорив ее про себя, и… засомневался:
«Может, в самом деле им преподают безобидный и действительно необходимый курс риторики, и не методы Нерона ставят в пример, а используют, как образец, единственно сохранившуюся пьесу на римский сюжет. Не случайно, что и сохранилась именно эта трагедия, ведь народу ближе всего истории про жестоких тиранов, пьющих человеческую кровь.»
— Смущенный Нероном Сенека тщательно подбирает слова, — продолжил свой панегерик магнитофон. — Он пользуется заповедями о выборе, красоте, благозвучии, приятности слов для зрения.
Когда Сенеке приятно смотреть на Нерона, то и высказанное словами красиво.
5. МИНИСТЕРСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Эскорт из самых крепких и доверенных учеников сопровождал директора лицея на мотоциклах «Ямаха» с приваренными педалями и подставкой для прицельной стрельбы. Эти мотоциклы списала сыскная полиция специально для нужд директората. Иногда завхозу лицея удавалось выменять на школьные тетрадки бензин, но, по правде говоря, эта комбинация проходила не чаще одного раза в месяц. Сам директор разъезжал в кабриолете, запряженном округлых форм и шоколадной масти веселым конем Жоркой, а охрана в поте лица крутила педали мотоциклов, стараясь не отставать. На бензине ездили только две параллельные структуры: министерство Внутренних дел и городская мафия. По слухам сам царь Российский Георгий Первый держал конюшню с бывшего буденновского завода и по утрам совершал конный променад, галопируя между останками хранилища тела первого марксиста и манежем. Правда своими глазами директор этого ни разу не видел, а слухи в России дело неверное.
Кутузовский проспект, абсолютно пустой в столь раннее время — было семь часов утра — вывел процессию на Садовое кольцо, где всем, включая и самого директора, пришлось спешиться и подвергнуться таможенному досмотру по случаю пересечения границы префектуры Садового кольца. Однако некий документик, поданный директором старшему из доморощенных таможенников, позволил продолжить путешествие без особых хлопот. На выезде с кольца на Тверскую стоял еще один караул, совсем малочисленный. Сосчитав восемь душ сопровождения, все трое караульщиков, подхватив длиннополые тулупы, мотанули через главную улицу в ресторан София — сборное место центровой шантрапы.
Следующая остановка произошла уже на месте встречи в строгом монументальном здании рядом с Детским миром.
Тот же самый прилипчивый к директорской руке документик сыграл привычную роль в учреждении, куда Стефан Иванович прошел один, оставив сопровождающих у подъезда. На здании висела вывеска «Министерство Федеральной безопасности».
Путь по длинным коридорам с множеством затворенных дверей, видимо, хорошо был знаком директору, потому что сопровождающий с трудом поспевал за его решительным шагом. Строгий черный костюм и белая гвоздика в петлице придавали директору вид жениха, у которого в канун свадьбы сбежала нареченная. Наконец, через двадцать комнат добрались они до нужной приемной с напольными бронзовыми часами работы знаменитого французского мэтра Делакруа «Проститутка на баррикаде». Монументальная дама-секретарь радостно поприветствовала Стефана Ивановича и тотчас понесла свое дородное тело в кабинеты: доложить. Через совсем недолгий отрезок времени был он сопровожден в приемный зал, где застал человек семь или восемь, из которых почти все ему были знакомы. Говорил молодой военный с генеральскими эполетами и орденом Святой Анны на груди. При виде директора он не прервался, а только кивнул ему, как человеку хорошо знакомому.
… — Я не знаю, почему мы медлим! — восклицал между тем генерал, выбрасывая вперед правую руку, а левой упираясь в стол. — Фактически нет ни одного звена в системе управления государством, которое мы не контролировали бы. Причем сам государь полностью осведомлен. Единственное его требование — сделать шаг в сторону, чтобы его позиция невмешательства фиксировалась яснее. Что касается пограничных государств, то переговоры с большинством глав правительств показали, что они с большим пониманием относятся к идее возрождения Российской государственности в границах 1985 года и, как минимум, готовы с нами сотрудничать после переворота.
Генерал замолчал и сел в кресло, ожидая вопросов. Однако, прежде чем кто-либо с ним заговорил, кряхтя поднялся из председательского кресла округлый, пожилой господин с широкими, слегка покатыми плечами и мягким носом пьяницы.
— Как вас послушаешь, — заговорил он ни к кому собственно не обращаясь, — мы завтра распнем уже врагов трона и православия на телеграфных столбах вокруг Кремля, а как до дела дойдет, ой ли! Так ли победно обстоят дела, как вы нам докладываете, князь? С Москвой все ясно. Это гнилое болото принимало и примет любого вора, у которого хватит разума прикрыться штыками. Но если Санкт-Петербург нас не подопрет, боюсь весь наш замах растечется, как вода в песок. Только регент сможет формировать европейское политическое мнение о происходящем.
— Однако контакты с ним затруднены, — пискнул маленький невзрачный человек, чуть-чуть приподнимая голову над креслом.
Директор узнал в человечке известного патриотического писателя Виктора Топорова, который издавал в Санк-Петербурге монархическую газету «Утро». Тотчас он послал ему записку, в которой пригласил встретиться сразу же после совещания. Топоров, получив записку, обернул к нему свое большое, не по тщедушной шее и плечам лицо и понимающе кивнул. Тем временем председатель собрания продолжал.
— Правильно наш друг Викторий отметил, что трое доверенных людей, которых мы подсылали к Симонову с пакетом предложений, до него дотянуться не смогли, а были в течение суток выдворены из столичного города. По нашей надежной информации регент оказывает на простодушного государя дурное влияние, не допускает его никуда и ограждает от друзей престола. Вместе с тем и с нашими политическими антиподами — правоверными коммунистами — он окончательно рассорился. Окружение его состоит из промышленников и сионистов, что, впрочем, почти одно и то же, которые его покупают и продают по многу раз на день. С Петербургом мы затягивать не можем, поэтому муссируются два предложения: послать нашего лучшего агента с приказанием любым путем добиться встречи и склонить регента к положительному решению; или, наоборот, никого из наших не посылать, а попросить помощи у другого ведомства с тем, чтобы поставить на это ключевое место своего. Представитель всем известной организации ждет лишь команды, и в зависимости от решения, которое мы обязаны принять, я или буду резервировать теракт, либо форсировать его исполнение.
— Гарантии! — по-мальчишески выкрикнул генерал, вскакивая с места. — Гарантии, что место регента будет занято именно нашим человеком, а не каким-нибудь наивным америкашкой, который кроме цитат из Декларации независимости ничего в голове не имеет. А таких эмигрантов у царя-батюшки полный обоз. Еще по-русски не кумекают, а уже тянут одеяло на себя.
Директор встал, подождал, пока генерал выговорится, посмотрел на председателя ничего не выражающими глазами.
— Есть человек, которого регент примет, — спокойно сообщил он. — Старый его соратник еще по демократическим пирогам. Загвоздка в том, что официально его посылать нельзя — чина у него сейчас нет, а частным образом он дальше Московской товарной хрен отъедет. Если только забить ему отдельное купе с сопровождающими. Они, кстати, могут пройти в Пушкинский дворец вместе с ним и навестить регента, если им понадобится еще раз там побывать.
— За что люблю, — председатель безо всякой иронии пустил в сторону директора воздушный поцелуй, — как рассудит, так можно и собираться. Все, робята. Вертайтесь по домам. Будем считать: приговорили. Насчет отдельного купе сведайся с генералом. Он тебе, если надо, военный вагон прицепит, не то что купе.
— Вот этого не надо, — вновь высунулся из кресла Топоров, — взорвут твой вагон к бениной матери вместе с параллельными структурами.
— Ну ладно, — проворчал председатель. — Отправим демократа не по-демократически. За человека, ты, дорогой, головой отвечаешь. Твой кадр, я так понимаю?
Директор кивнул.
— Я с ним еще студиуса пошлю. Парень верткий, самонадеянный, пусть казачком прокрутится для услуг. Такой человек в пути не лишний. Те люди за кипятком на станциях бегать не будут.
Тотчас все разошлись, оставив директора наедине с писателем из Санкт-Петербурга. Директор, порывшись, достал из внутреннего кармана брюк уже известное фото Никодима и вручил его Топорову.
— Ко мне сыскной приходил, — пояснил он. — И, похоже, в больших чинах. Интересуется вот этой мордой. Так я понял, человечек не мелкий и известный. Последи за моим студиусом. Он в Петербурге как наживка для этого будет. В школе мне его не ухватить, а, похоже, малый центровой. На кого работает, где крутится — не знаю, но дружил сызмальства с моим мальцом. Как пронюхает, что тот в большую политику вдаряется, обязательно его накроет по дороге или в самом городе. Для него самый смак моего окрутить и на себя переоформить. Только со своими сопляками не шали, отдай в работу профессионалам. Захотят его брать, пусть не тянут, а то рыба скользкая, через все сети прошла. Кстати, что в Питере мусолят о Нижнем?
— Не ополчение же собирать, как при Минине! — отмахнулся Топоров. — Мы разыгрываем европейскую карту, а в глубинке пусть Москва ковыряется. Кто Нижний просрал — твой любимый генерал Клюцкой. И татар в Москву допустил Петербург, что ли? А вот демарш от имени ООН Питер организовал, а то бы до сего времени Казанские обрезанные хуи московских невест бы трахали.
— Так, так, — сказал директор, наливаясь сизым соком и сжимая кулаки, — снова значит Москве в раскоряку стоять между Азией и Европой, чтоб вы ее дули во все дырки. Погодите, ребята, немного. Дайте ноги свести вместе. Сейчас нам не хотите помочь, потом не обессудьте. Шамир в Нижнем для нас все равно, что кость в горле. Не раздышаться Москве. Все нервные пути перекрыты. Смешно сказать: в Киев едем через Балтию. А вы талдычите только: Европейская карта! Азиатская карта!
— У вас ноги сведены, а у нас всех руки, — огрызнулся Топоров, отдаляя от своего лица фотографию и пристально ее рассматривая. — Вы, Москва, никак не можете понять, что на глобусе мировом смотритесь геометрической точкой, то-есть местом пересечения политических интересов, а не государством. Да знаю я все, что ты хочешь сказать, не первый десяток лет вместе: и что Россию надо собирать, и что враги все пространство захомутали, а русскому человеку некуда ноги протянуть: или Чечня, или Мордва сразу на колени садятся. Вот только, сколь не долблю вам, понять не можете, что, пока не лопнет гнойник, не собрать России.
Рим и народы его избраны были Всевышним дабы понесть в мир не достижимое жидами и иными племенами христианство. Роль-то свою историческую Рим выполнил, да капитализировался и не сумел сохранить чистоту веры, несмотря на примеры великие. Дал им Господь второй шанс, перенеся столицу в царь-град — Константинополь и явил новых мучеников, только и тут обуржуазились. Положил Господь основу третьему Риму, воздвиг оплот веры на Руси-матушке. Создал великий, незатейливый народ, белостенную, златоглавую, ан нет Антихрист Петр порушил уклад православный и вертеп заложил на болоте, на костях русских. Дале боле. Задавила ересь жидомасонская народ русский. Так и пошло все наперекосяк в Риме третьем. Чует мое сердце, не долго вертепу капиталистическому стоять на болоте, утопим его. Встает, разгибается народ русский и никто его не удержит. Там и четвертый Рим поставим с Божьей помощью!
— Не веришь, смотрю ты, в посредника моего, — поморщился Стефан Иванович.
— Пущай едет. Только уже разложился наш санкт-петербуржец, — с каким-то отвращением выговорил ненавистное слово писатель, — продал душу. А посему не стоять мертву городу. Не сковырнем нарыв, так, помяни мое слово, сам гнойник взорвется! — Тут он неожиданно махнул рукой и рассмеялся. — О чем спорим, одному богу известно. Вроде всегда мыслили заодно. Что смогу, сделаю. Фотографию эту я сегодня по проводам на Литейный пошлю и бригаду покрепче подберу. Не уйдет твой карась из наших сетей.
6. ОСОБЕННОСТИ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЫДЕННОГО СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ
Вновь и вновь Луцию не давали покоя думы о смысле дальнейшей учебы, свойственные любому юноше его времени и возраста на Руси, и также привычно он уходил от них в высказывания древних. Перед очередным занятием по римской риторике Луций решил перечитать Сенеку, которого не особенно уважал за несоответствие образа жизни теориям, проповедуемым великим стоиком, но под несомненным влиянием которого находился. Этому было много причин, Юноше были близки взгляды Стои на жизнь, что было совершенно естественно для молодого человека без родителей в Московии. Кроме того, не соглашаясь с вывертами тезки, когда тот оправдывался в страстях и заботах, он преклонялся перед действом смерти последнего, сознательно сыгранного им в милой сердцу обстановке и обществе близких по духу сотрапезников. Луцию временами казалось, что и присвоенное в лицее имя, с которым он настолько сросся, что не желал признавать никакого другого, в том числе и прежнего собственного, он получил не случайно. Листая «Нравственные письма», он пошучивал: «Если Луций почти Луцилий, то Сенека учил почти меня».
Юноша размышлял над очередным наставлением римлянина: «Помнить — значит сохранять в памяти порученное тебе другими, а знать — это значит делать по своему, не упершись глазами в образец и не оглядываясь всякий раз на учителя».
Если первая половина высказывания о памяти не вызывала вопросов, то Луцию бы очень хотелось представить роль, в которой он станет действовать чуть больше, чем через год по окончании лицея. Места распределения выпускников и род их занятий держались в строжайшей тайне, что давало право на жизнь, казалось, самым неправдоподобным слухам. И никто не представлял себе неисчерпаемость вариантов, начиная с Дипломатической карьеры и заканчивая прозаическим местом заштатного коммивояжера. Более того, сама практическая Деятельность выпускников могла никак не соотноситься с названием должности.
Пора было двигаться на лекцию, и Луций с тоской захлопнул томик. Он подмигнул электронному сторожу, а вторым зрачком поприветствовал магнитофон, приступивший к проповеди особенностей уклонений от обыденного словоупотребления в монологе Нерона все из той же трагедии, которую вроде бы написал не Сенека.
Щадить опасных цезарю и родине, Надменных, знатных, истинно безумие… Сам Цезарь пал злодеев-граждан жертвою. О, сколько Рим, терзаемый раздорами, Своей увидел крови! Август, доблестью Стяжавший небо, славный благочестием, — Как много истребил он благороднейших… Ждут звезды и меня, коль все враждебное Успеет упредить мой меч безжалостный И дом потомством укреплю достойным я.Если стихи еще можно было слушать без ущерба для мозгов, то далее бормотание магнитофона напоминало монолог шизофреника.
К малоупотребительным словам — преимущественно архаическим выражениям — в силу своей устарелости давно уже вышедшим из обихода разговорной речи, относится слово «щадить», которым начинается четвертая строка монолога. Щадить — значит допускать несоблюдение законов в правовом государстве.
«Кровопролитие» — сложное слово в середине текста — дает одновременно и некоторое разнообразие благодаря своему составному характеру, и величавость, и вместе с тем некоторую краткость, так как заменяет целые фразы.
Сложное слово, состоящее из двух частей — частный случай среди новообразований рож-соз-дающихся самим говорящим путем-помимо соединения двух слов. Слова, образованные от существующих аналогией, подражанием, изме-присоеди-нением — неологизмы.
В разбираемом тексте новословообразование-неологизм — «злодеев-граждан».
Настойчивое употребление нового слова вызывает неудовольствие. Но если кто станет прибегать к новым словам кстати и изредка, как Нерон, тот новизной не только никого не оскорбит, но даже изукрасит свою речь.
В монологе Нерон не пользуется звукоподрожанием. Путем подражания предки римлян изобрели такие выражения, как «рычать», «мычать», «журчать», «шипеть». Этим видом украшений пользоваться следует редко.
Трудно было сказать, можно ли отнести к «звукоподражанию» происходящее на занятии, но выделить какой-либо членораздельный звук без сомнения оказалось бы не под силу любому сверхмощному компьютеру. Не свидетельствовало об элитарности учащихся и тщательности отбора и однообразие сонных лиц. А ведь лицей держал под контролем хотя бы одну гимназию в каждой префектуре Москвы, лучшие ученики которых рекомендовались к поступлению в подготовительный класс. С десяти до четырнадцати лет эти ученики ежегодно тестировались в своих гимназиях при том условии, что оставались в перспективных, а все данные о них хранились в лицейском компьютере. До лицейских экзаменов доходил менее, чем каждый двадцатый волонтер, а зачислялся в лучшем случае один из ста страждущих. Дополнительное двойное сокращение проходило во время обретения лицейских навыков в двух подготовительных классах, но и после этого ни один из студиусов не мог быть спокоен за собственное положение. Подобный жестокий отбор, казалось, гарантировал исключительно высокий интеллект обучающихся и соответственно уровень выпускников.
На самом деле подобным научно обоснованным путем в храм педагогики попадали единицы. Правильнее студиусов было бы разделить на две примерно равные категории: «по связям» и «по надобности». Первая формировалась традиционно римским, органично перешедшим в российский методом по положению в государственной иерархии; вторая — вызывалась к жизни полнейшим развалом экономики, когда все хозяйственные связи строились на прямом бартере, что, впрочем, тоже свойственно поздней римской империи, откуда перескочило в самую современную российскую. Но следует сказать, что положению студиусов двух последних групп не следовало бы завидовать уж слишком сильно. В том случае, если они ничем не проявляли себя, при отпадении надобности в их могущественных покровителях или их исчезновении, протеже мгновенно вылетали из лицея.
Перечисленные категории не охватывали весь контингент учащихся. По особому госнабору поступали в лицей юноши с отхваченных у Москвы или оккупированных нерусским населением традиционно российских земель. Весьма солидную прослойку составляла умственно отсталая молодежь, которая, впрочем, была совершенно спокойна за свою будущность, как по собственной природе, не способствующей глубоким раздумьям о грядущем, так и ввиду основательной материальной поддержки со стороны мирового капитализма.
И в ряду многочисленных студиусов, попавших в лицей всевозможными и не всегда постижимыми путями, Луций занимал особое место. Он единственный был доставлен сюда в полицейском фургоне и принят без каких-либо экзаменов или собеседований. Собственно в последнем было лишь формальное нарушение, поскольку способности юноши к наукам, унаследованные им от родителей, были известны. Нельзя сказать, что Луций попал в лицей против собственной воли, поскольку знал желание родителей направить его в лучшее учебное заведение Москвы и не видел причин противиться их воле. Вот только в тот день он остался без родителей, и их загадочное исчезновение вновь не давало ему покоя во время занимательной лекции.
Из допросов и бесед с ним Луций знал, что его родителей обвинили в финансовых хищениях в особо крупных размерах. Как будто бы они продали программное обеспечение неустановленным лицам на многомиллионные суммы, но было неизвестно, согласились ли они с обвинением, да и на что были потрачены эти невероятные капиталы. Никаких денег или их следов обнаружено не было, а образ жизни семьи никогда не свидетельствовал о сколь-нибудь приличном достатке. Еще более подозрительной делало всю эту историю полная невозможность не только встретиться с родными, но и получить какие-либо сведения о их нахождении уже в течение шести лет.
Луций поклялся отыскать родителей, и вот кажется впервые появилась у него пусть робкая, но все же надежда. За растущим в душе ожиданием встречи Луций даже не заметил окончания лекции.
7. СМЕРТЬ ШИВЫ
Утреннее занятие как всегда заменял диспут демократов с монархистами, и Луций решил его проспать. Тем более, что в очередной раз на его руках остался маленький брат, которого он не рискнул проводить в ночь. В общем, Луций счастливо вздохнул и перевернулся лицом к стенке, а спиной к будильнику, подоткнул одеяло под спину притулившегося к нему брата, но тут в дверь постучали.
— Клянусь Юпитером, нет покоя от педагогов, — воскликнул юноша и плотнее подлез под одеяло, но следующий сокрушительный стук заставил его взлететь над кроватью. — О боже, — простонал Луций, вооружившись оставленными нежданными посетителями нунчаками, ибо стук был не педагогический. Он скинул крюк с двери и поднял нунчаки над головой. Никто не вошел. Юноша немного подождал и тихонечко приоткрыл дверь наружу. Тотчас она с шумом распахнулась, и два выпускника втолкнули завернутого в простыню босоногого студента. Луций раскрутил над головой деревянные палочки, но узнав присутствующих, присмирел и отбросил их в угол. От шума проснулся братишка и захныкал, не смея высунуть голову из-под одеяла.
— От кого вооружился, — спросил Эол, староста выпускного класса, — от нас, что ли? — Он подобрал с пола нунчаки и передал вошедшему с ним великану в черной облегающей рубашке и с маленьким колечком в ухе. — Познакомься, — добавил он, не извиняясь что пришел в несусветно раннее время, — вот это и есть тот самый Луций, о котором я тебе говорил. — У тебя баба, что ли, ночует? — добавил он, мельком взглянув на кровать.
— Да нет, братишка припозднился, пришлось оставить, — буркнул Луций, пытаясь понять причину столь раннего визита.
Пути Луция с таким важным лицом, как Эол, перекрещивались крайне редко. Он знал, что тот пользуется полным доверием директора лицея и разъезжает по городу в какое хочет время; что касается приятеля Эола, то того он видел впервые.
— Ты поднимайся, — приказал Эол, — и парень твой пускай встает, у него наверное в школе занятия начинаются. Пусть мотает. Ты что, все диспуты подряд решил просыпать, учиться надоело…
— Так ведь гундосят одно и тоже! — возмутился Луций, однако покорно стал поднимать брата. — Да и потом тебе-то какое дело, как я на занятия хожу, я же не в твоем классе?
— Наглый, — удовлетворенно улыбнулся Эол. — Это хорошо. Тебя, я смотрю, не до конца патриции обломали.
— Да я тебе что, салага! — рассмеялся Луций. — Слава богу, год осталось отмучиться, и баста!
— Баста или не баста, это не тебе решать, — улыбнулся ему в лицо так и не представленный приятель.
Он стремительно закрутил нунчаки, и вдруг ударил бешено крутящейся палкой по ножке стула, на котором сидел Луций. Стул крякнул и перевернулся. Луций едва не упал под ноги Эолу, но вовремя выпрямился и встал.
— Молодец, — похвалил его Эол и придержал за плечо второго. — Хватит аттракционы устраивать. Этот парень вполне надежен.
— Ты, брат, не серчай, — словно нехотя проговорил чернорубашечник и спрятал законные Луциевы нунчаки себе за пояс. — Один вот серчал вроде тебя, а сейчас тихо лежит. — И он показал равнодушно на завернутое в простыню тело, которое перед тем оттащил в глубь комнаты.
— Труп? — побледнел от догадки Луций, так и не понимая, почему к нему пришли эти двое, и со страхом поглядывая на простыню. К его облегчению, человек под простыней шевельнулся и даже простонал что-то вроде: «Дай».
— Дай ему, раз просит, — посоветовал Эол чернорубашечнику, но тот покачал головой:
— Пусть оклемается, сейчас его что бей, что ни бей, кайфа не словит. Он у тебя в уголочке полежит, охладится, а после мы его унесем, — довольно любезно обратился он к Луцию.
— Да вы что, ребята, на меня вешаете?
— Не тусуйся, — прикрикнул на него Эол, подошел к лежащему и носком туфли скинул простыню.
Принесенный имел довольно благообразное, удлиненной формы лицо, крепкий загорелый, даже лоснящийся торс и все остальное, что положено обычному человеку. Вот только у него было четыре руки. Глаза лежавшего были крепко зажмурены, но в уголке рта прицепилась зеленой пиявкой сигаретка. Тотчас по всей комнате поплыл аромат ментола, смешанный с острым запахом анаши.
— Дебил Шива, — воскликнул в ужасе Луций, — из параллельного класса. Да нас затопчут.
— Не журись, дивчина! Он сейчас в великом Ничто и Нигде, а прежде чем очухается, мы его заберем. Он нам самим живой нужен. А чтобы ты не сомневался, мы ему сейчас маленький дурманчик под кожу залепим.
Чернорубашечник вытащил из кармана коричневую ампулу и одноразовый шприц с кривой иглой, потемневшей от частых впрыскиваний. Резким ударом о край стола выбил головку ампулы и, набрав полный шприц тягучей коричневой жидкости, засадил иглу в руку лежащего.
— Вот так и лечим бедолагу, — подмигнул он Эолу. — Раньше вечера не проснется. А мы заберем его во время второй лекции.
— А когда меня заберут? Придет уборщица, откроет своим ключом дверь, под кроватью этот красавец трепыхается, куда она побежит? Может в директорат, а если к дебилам? Сами знаете, как с ними разговаривать. Ничего не докажешь. Нет уж, забирайте все четыре руки вместе с головой и ушами. Мне не надо, чтобы за мной все московские дебилы с палками гонялись!
— Не заливай, сказочник! — Эол крепко схватил Луция за воротник. — Чтобы через две секунды тебя вместе с твоим щенком здесь не было. Можешь все на нас валить. Понял? Но если ты немедленно не уберешься, я заберу твоего братца и продам арабам в Торговый квартал. Они его вымоют, обстригут ногти и натрут благовониями. Все ясно?
Что же тут было неясного. Пришлось вставать и срочно одеваться. Проводив брата в метро, Луций вместо лекции решил сторожить свой номер от посягательств уборщиц. Он сел в конце коридора на мягкий облезлый диван и прикрылся каким-то учебником, случайно взятым в пустой аудитории. Так он просидел несколько минут, опасливо озираясь при каждом стуке лифтовой клетки, когда самая простая мысль пришла ему в голову.
«Какого черта он тут тусуется, трясясь как осиновый лист, если он может спокойно дотянуть дебила-Шиву до ближайшего мужского туалета и забыть о нем. Тем более что под каликами тот и собственную мать не вспомнит».
Коридор, по счастью, был пуст, и Луций, отважно вдвинув ключ в скважину, разом отворил замок и проник к себе домой. На прежнем месте Шивы не было, но, окинув комнату широким взглядом, юноша обнаружил его на своей постели под собственным одеялом. Более того, глаза лежащего были широко открыты и обращены на хозяина комнаты. В них явно читался какой-то вопрос или предостережение. Тотчас заботы о безопасности отошли для Луция на второй план. Простыня была у него одна и одеяло тоже. Этим своим привилегированным положением он отличался от большинства лицеистов, которые спали на голых нарах и прикрывались пальто.
Не помня себя от ярости и не подумав о раскрытой двери, Луций бросился к кровати и содрал с негодяя одеяло.
— Ты что же это, козел, разлегся на чужой лавке? — закричал он, но осекся. Потому что остекленевшие глаза Шивы продолжали тускло и мудро смотреть на него, как живым не свойственно. Пятясь, не сводя глаз с обнаженного тела, Луций дошел до стены и вжался в нее. Потом ощупью нашел за собой дверную ручку и спиной вперед вылетел в коридор.
«Бежать, — колотилась в нем одна мысль, — спасаться куда глаза глядят!» — Луций сделал один шаг, другой… и наткнулся на педеля…
— Ты пьян! — возликовал педель. Пока Луций соображал, то ли дать ему в морду и убежать, куда глаза глядят, то ли завести дружескую беседу и увлечь в сторону, педель обнюхал его еще раз и, убедясь в своей ошибке, сказал миролюбиво.
— Ты, ишак, вовсе не думаешь о своей душе. Ты можешь пропускать физики, химии, астрологии, но прогуливать лекции по римской риторике с электронной фиксацией посещения станет лишь кретин или потенциальный самоубийца.
«Так я и есть потенциальный самоубийца», — как-то весело подумал Луций и, сорвавшись с места, побежал закрыть дверь.
Педель дождался его и, отчаянно рыся, повел в аудиторию, где юноша и застрял.
8. ТРОПЫ
Первые несколько минут Луций слушал как в тумане. Магнитофонная пленка казалось крутилась прямо в мозгу, разрывая сознание набором непонятных механических звуков. Временами шум отступал, и юноша делал малоуспешные попытки проникнуться особенностями оборотов речи, научно именуемыми «тропами». Но потом смысл слов стал доходить до него, и он оказался созвучен происходящему…
— В монологе Нерона тропят дорогу еще другие изоб-выразительные словесные украшения, которые отделены от перечисленных ранее, потому что все они образуют особ-единый род. Характерны для всех них отказ от обыч-собственного значения слов, обогащение их оборота.
Рискованную метафору превращают в сравнение прибавлением слова «как». Сравнение — это расширенная метафора.
Из метафоры развивается тот прием, который не ограничивается одним употребленным в переносном значении словом, так что говорится одно, а подразумевать следует иное. Это также важное украшение речи. В нем надо избегать темноты смысла. Сюда принадлежит то, что мы называем загадками — «в боязни смерти и оружья трех мужей», — на самом деле одного Октавиана.
«Сколько же я должен бояться „мужей“? — невольно задумался Луций. — Если не гибель от рук разъяренных дебилов, обязательно достанет его директор и отдаст сыскарям выдавливать из него информацию о Никодиме, да еще и этот Эол с чернорубашечником ввязались. Как раз трое мужей, — усмехнулся юноша. — А если чудом обойдутся обе эти мерзкие истории, то все равно каждый день шансов влететь во что-то предостаточно», — применил он на практике синекдоху, способную раскрыть по одному многое, по части целое и припомнил одновременно с магнитофоном «ждут звезды и меня, коль все враждебное успеет упредить мой меч безжалостный…»
Лектор сюда же примкнул менее красивые, но все же не заслуживающие полного забвения обороты, когда вместо множественного используется единственное число, множественным обозначается один предмет…
…«оружием» обозначается «группировка», — додумал за магнитофон пример Луций и опять вернул ему слово.
— Этот способ выражения служит украшением не только ораторской речи, но употреблен и в обыденном разговоре. Некоторые называют синекдохой и тот случай, когда из контекста речи мы улавливаем то, о чем умалчивается.
Тут Луций не согласился с вдалбливаемым в мозги подходом, что все решается мечом, а основа власти в страхе.
«И вождь, в бою разбитый, корабли, готовые бежать, направил к Нилу, чтобы смерть найти», — вновь не желал Нерон назвать собственным именем Антония — одного из «трех мужей».
«Действительно, бежать безумие, согласился Луций с магнитофоном. — Да и на кого он оставил бы брата в этой сволочной жизни?»
— Катахреса состоит в том, что неточно пользуются похожим и родственным словом вместо определен-точ-ного. С катахресы начинается разбираемый текст, когда Нерон совершенно справедливо объявляет себя божественным и абсолютным монархом, между тем как Рим юридически оставался республикой, и император-принцепс считался правителем, но не властелином, так что римляне ему были как бы согражданами.
«Опять меня в чем-то специально путают», — понял Луций. Но был совершенно не в состоянии разобраться, какие же подменяли понятия, прославляя монархию.
Внезапно возникший контакт между магнитофоном и Луцием прервали вопль и возня в коридоре. Казалось, что это шайка мартовских котов пробралась на кухню и там колобродит. Ученики удивленно воззрились на дверь, словно призывая ее к ответу, и та отворилась. Чудовищная, похожая на бычью, морда возникла в дверном проеме. Она венчала узенькие плечи и кривые ножки дебила Саши. Вопли за его спиной раздирали барабанные перепонки и полностью заглушали шепелявиние магнитофона. Два дебила выдвинулись вперед и грозно стукнули об пол цилиндрическим деревянным столбиком с закругленной вершиной, по всей видимости, изображающим фаллос. Дебил Саша лишь на палец возвышался над символом веры.
— Его убили, — закричал Саша, демонстрируя невероятной величины острые клыки, — всех уничтожим, берегись!
За ним в раскрытую дверь уже вваливался поток яростно вопящих дебилов. Четверо самых крепких несли тело Шивы с неизменной зеленой сигареткой в уголке рта и четырьмя сжатыми кулаками вдоль бедер.
«Кранты», — подумал Луций и словно примерз к столу, не смея поднять глаза.
Прошло несколько секунд. Галдя и вопя о мести, дебилы положили обретенного бога на стол перед кафедрой, согнав учеников из первых рядов и полуокружив тело.
«Сейчас начнется», — решил Луций. Он оглянулся, ища какой-нибудь тяжелый или острый предмет, чтобы подороже продать свою жизнь, но, кроме столов с ручками на. них, ничего не обнаружил.
Один лишь компьютер с невозмутимым спокойствием взирал на происходящее и размеренно разматывалась магнитофонная пленка.
— Все, что может быть выражено более кратко, а ради украшения излагается более пространно — «в бою непобедимый покоритель стран, вождь в почестях с Юпитером сравнявшийся…» — есть перефраза.
Гипербат — соединенное с изяществом нарушение обычного порядка слов путем их пере-движ-станов-ки — «и вновь Египет пил кровосмесительный кровь римского вождя…» — является как бы самым верным признаком взволнованного чувства.
— Что с ним?.. Отчего он умер?.. — зашелестели голоса потрясенных учеников, постепенно начавших приходить в себя.
«От ваших мудацких вопросов», — подумал Луций холодея, но Саша-морда, продолжая тихонько подвывать, ткнул пальцем под левый синий сосок Шивы, где торчала, словно приклеенная, рукоятка ножа:
— В туалете, — всхлипывая сказал он… в туалете на унитазе… голый, только у ног простыня.
— Посмотрите метку, — впервые на памяти студиусов вступился компьютер. — Всякая простыня в лицее сдается в стирку… — и продолжил. — Мертвец должен быть помещен в специально отведенное место. Неживой организм не способен обучаться римской риторике, поэтому я временно прерываю лекцию.
Магнитофон действительно замолчал, однако это нисколько не утихомирило дебилов. Даже Луций со своего места увидел, что глаза Саши-морды стекленеют от гнева, но компьютер и не подумал остановиться:
— Если мертвецов приносят слушать лекции, это свидетельствует о недоразвитии общественной формации.
— Кто мертвый? — прошипел компьютеру Саша, как-то по особому горбясь и приближаясь к нему стелящимся беззвучным шагом. — Разве боги умирают!
— Вы говорите, бог? — изумился компьютер. — Тогда, чтобы я мог вас квалифицировать, ответьте, что вы понимаете под термином «бог»: высшее сверхъестественное существо, верховный предмет религиозного культа, первопричина, конечная основа всех вещей, совершенное существо, необходимый постулат критического разума, абсолютный дух…
Тут Саша-морда вырвал нож из груди Шивы и с воинственным кличем высоко поднял над головой. Неотрывно разглядывающий лезвие Луций не обнаружил на нем ни кровинки. Занесенное над компьютером, оно, на самом деле, не менее грозно нависло над юношей, как над участником преступления.
— Расскажите о вашей религии? — с олимпийским спокойствием продолжал интервьюировать Сашу-морду компьютер.
— Я принесу тебя ему в жертву! — прошелестел дебил Саша и бросился на электрический барьер.
— Жертвоприношения — типичный культ недоразвитых племен из Южной Африки, — удовлетворенно констатировал компьютер. — Кроме того, было довольно широко распространено и в самых миролюбивых австралийских общинах до середины семнадцатого века. Однако вы уверены, — снова обратился он к Саше-морде, — что ваш культ включает в качестве выбранной жертвы компьютер?
Сашу в это время трясло и корежило электричество, то растягивая почти до нормального человеческого роста, то сжимая до размеров щенка, но он не отступал, пытаясь пробиться к электронному врагу. Видя такое невероятное усердие и тягу к знаниям, компьютер вновь включил магнитофон.
— Самый ходульный троп — гипербола. Она основывается на превосходстве или невозможности. — «То дар богов, что Рим мне в рабство отдался и с ним сенат». В продолжении фразы раскрывается, что на самом деле овладение Римом явилось плодом прод-ум-анной-ело проводимой политики — «мною устрашенные и против воли молят нас униженно».
Как правило, надо придерживаться естественного порядка слов, укрепляемого частицами, употребляемыми вместо стонов и вздохов — «О, сколько Рим, терзаемый раздорами, своей увидел крови!»
Изречение о стонах и вздохах, единственное понятое Сашей-мордой, укрепило его в мнении, что компьютер издевается над ним. Саша взвыл из последних сил, пытаясь перекусить невидимые линии электрического напряжения. Его лицо мгновенно перекосило невероятным образом так, что левый уголок рта ушел к уху, а правый почти достал до глаз. Сдавленный рык перешел в сипение, напоминающее звуки, исходящие из крана, когда продувают водопровод, а сам Саша весь опал, как пустой мешок.
Происшедшее с Сашей не произвело ни малейшего впечатления на великолепную технику и лекция покатилась дальше:
— Требования самого языка таковы, что не найдется такого необразованного человека, который не старался бы сливать гласные звуки. «Ждут звезды и меня, коль все враждебное успеет упредить мой меч безжалостный», — говорит Нерон. В этих как бы зияющих провалах при столкновении гласных есть какая-то мягкость и доля непринужденности, свидетельствующей о привлекательной небрежности человека, больше озабоченного существом дела, чем словесным выражением.
Также и согласные, в особенности более шероховатые из них, враждуют между собой в стыке двух слов, например, если «х» в конце слова встречается с «с». — «И страх стал прочной власти основанием». Еще хуже, если сталкиваются два «с» и получается шипение.
Словно приняв сказанное на их счет или осознав унижение главаря, дебилы вновь загалдели и замахали руками. Пока они совещались, магнитофон продолжал тираду:
— «Соединили боги все достоинства в одной, и мне она судьбою отдана».
Внезапно дебилы всем скопом бросились на невидимую электрическую охрану с дикими воплями и ужимками. Линия защиты оказалась чуточку продавлена к кафедре, но тотчас вернулась в прежнее состояние, а напрыгивавшие на нее нападающие зависли на разной высоте над полом, словно стая обезьян на решетке. Между атаковавшими и защитой создалась система динамического равновесия, ознаменовавшаяся мгновением абсолютной тишины и покоя.
Ситуацию прокомментировал компьютер: — Как и речь, животные, когда дерутся, сжимаются в кольцо для приобретения большей мощи.
В колоне речь продвигается размер-медл-еннее, в комме жив-быстр-ее. В первом случае напряженным движением правой руки подносится к телу меч, а во втором — ранится тело частыми, быстро следующими один за другим ударами.
Наглядно подтверждая мысль, компьютер увеличил сниженное им напряжение в сети, и дебилы легонько завибрировали. Удовлетворенный эффектом компьютер внезапно выключил на мгновение напряжение, и дебилы попадали друг на друга. Включение тока заставило их стремительно отползти на сторону учащихся и там, плача, зализывать раны. Очевидно, что во все это время магнитофонная тирада не затихала ни на секунду.
— Концы отдельных стихов представляются как бы узлами для присоединения дальнейших частей, и в периоде мы эти узлы скрепляем. Если мы хотим говорить расчленен-но, то делаем в этих местах остановки и таким образом, когда нужно, легко и часто отрешаемся от строгих требований непрерывного течения речи.
Время поджимало преподавательский контингент, и компьютер больше не останавливал магнитофон и не иллюстрировал заключительную часть лекции.
— Не-опытны-сведущи-й в искусстве речи человек бессвязно распространяется, насколько хватает сил и ограничивает свои словоизлияния запасом дыхания, а не художественными соображениями, оратор же всегда так укладывает мысль в слова, что она обрамляется определенным ритмом, выдержанным и в то же время свободным. Мы должны добиваться, чтобы речь не расплыва-отклоня-лась, не допускала непредвиденных остановок, не выходила за намеченные пределы, была правильно расчлене-законче-нной.
В стихе одинаковое внимание уделяется начальным, средним, конечным частям, и он страдает, если в любой из них обнаружилось шатание:
Щадить опасных цезарю и родине, Надменных, знатных истинно безумие, Когда довольно слова, чтобы сгинули Все, кто мне подозрителен?В ораторской же речи, напротив, лишь немногие замечают начало, а конец — большинство, и так как эта часть бросается в глаза и привлекает к себе внимание, она должна разнообразиться, чтобы требование вкуса или пресыщенного слуха ее не забраковали.
Дебилы вновь зашевелились, приходя в себя и готовясь к очередной акции, но в это время прозвенел звонок на перемену. Не дожидаясь конца представления, Луций проскользнул в коридор и быстренько поднялся к себе.
9. АТАКА
Дверь, которую Луций успел закрыть перед тем как его прихватил педель, снова была незаперта. Значит Эол сдержал свое слово и вовремя забрал труп. Теперь Луцию оставалось молиться, чтобы дебилы не схватили Эола и не вышибли из него истинную картину происшествия. Только юноша перехватил на голодный желудок корку хлеба с остатками вчерашней колбасы, как в дверь снова постучали. Луций едва успел сообразить, что шайка дебилов вторглась бы молча и, значит, пока бояться нечего, как уже вошел к нему сосед по этажу, его же соученик Тесций. Пухлый, краснощекий, несмотря на голодные времена, он имел прекрасные, чуть выпученные синие глаза, алый рот и тщательно ухоженные завитые волосы, в которых обычно носил белый цветок. Сев у стола, он с жадностью покосился на исчезающий во рту Луция кусок хлеба, но просить ничего не стал.
— Меня на разборку вызывают, — сказал он меланхолично, — я деду ботинки не почистил. Может, сходишь со мной?
— Так ведь я не в авторитете. Возьми кого-нибудь из дедов, — попытался отбиться Луций.
— Пойдем, — настоял Тесций, — Эол зовет. Они спустились на первый этаж лицея, прошли через черный ход во двор, потом поднырнули под полузаваленный проход в штабелях дров и оказались на небольшом дворике, огороженном с трех сторон глухой стеной и с одной поленницами. Только они взошли на утоптанную площадку, как навстречу поднялись трое, среди которых не было ни одного знакомого.
— Вот он, — сказал Тесций, торжествуя, — вовсе идти не хотел. Пришлось выдумать, что его Эол зовет, только тогда решился. Я уж его и так и сяк…
Сильный удар ногой в пах ошеломил Луция. Однако ко второму удару он уже был готов и, скрестив руки, отвел его в сторону. Бил его здоровенный молодой студент в сером, похожем на школьную форму костюме, который явно был ему мал и из обшлагов пиджака вылезали руки с мосластыми кулаками. Кроме них на площадке было еще человек пять народу, но они стояли в отдалении, как бы демонстрируя нежелание участвовать в разборке. Среди них не было никого из дебилов, отметил с удовлетворением Луций. Привыкший к такого рода приветствиям за пять лет обучения, он сразу вычислил на кого обрушиться, хотя еще не вполне понимал, за что его бьют.
Увернувшись от следующего удара и поборов искушение вцепиться старшекласснику в незащищенное горло, Луций обошел его и, схватив Тесция за завитые волосы, поверг на землю. Пока студенты не схватили его, он успел дважды лягнуть своего однокурсника в лицо и вырвать из его головы целый клок замечательно ухоженных волос. Луций вошел в такой раж, что только три опытных «деда» сумели оттащить его от поверженного Тесция, который вообще не сопротивлялся, а только слабо постанывал.
— Молодец, салага, — примирительно съездил его в бок тот же выпускник. — Пока больше не тронем. Теперь слушай сюда. К тебе утром кто-нибудь заходил?
— Заходил, я сам видел, — сквозь рыдания прохныкал Тесций. Не глядя ни на кого он поднялся и, хромая, отошел к стене.
Луций ни на секунду не колебался. Признание в визите Эола означало бы добровольную сдачу дебилам. Слово же такого слабака, как Тесций, по всем законам покрывалось его словом.
— Педель заходил, — процедил он сквозь зубы. — За что ты меня ударил? И по какому праву!
— По праву Великой Российской империи! — вполне серьезно ответил студиус и выдвинул вперед свой крепкий кулак. — А если правду не скажешь, отсюда живым не выйдешь. Прямо под штабелем и похороним.
— Только вместе с ним, — указал Луций на нервно причесывающегося Тесция. — Иначе он сдаст вас так же быстро, как продал меня вам.
— А кроме педеля? — спросил до сих пор молчавший высокий худой студент, садясь на деревянный табурет и приставляя рядом еще один. — Садись, поговорим, салага!
— Я тебе вот что скажу, — начал беседу Луций как можно проникновеннее. — Если кто-нибудь из вас до меня хоть пальцем дотронется — можете меня хоть на кол посадить — ни слова не услышите.
— Мы тебя не на кол, мы тебя на хуй посадим, — успокоил его студент. — Только можешь говорить, можешь нет, мы-то знаем, кто у тебя утром был в гостях и кого с собой притащил. Слышишь, как дебилы колобродят? Думаешь, из-за кого весь кошачий вой? Кто им нужен в качестве жертвы для своего живого бога? Ты малый сметливый — рассуди!
— Что вам надо от меня? Вы же прекрасно знаете, что я не убивал. А за других я отвечать не буду. Идите к тем, кто у меня был, и с ними качайте права.
— С ними будет другой разговор, — улыбнулся студент. — Ты им погоди завидовать.
В это время из калитки вынырнули две тени. Это был Эол и его гигант-товарищ в черной рубашке.
— Ну как, — спросил Эол у студента в серой форме, — выпотрошили козла?
— Да нет, малый упорный. Никого не назвал. Уж мы его и мытьем и катаньем.
— Нет, честно? — удивился Эол и раскрыв объятия двинулся к Луцию.
Тот посмотрел на него, как бы не узнавая, потом, изогнувшись, поднял с земли тяжелое полено и перепоясал им Эола.
— Проверки учиняешь, — спросил он бледнея. — Сначала подставляешь под мокруху, а потом заставляешь своих шестерок из меня показания выкачивать. Пошел ты знаешь куда. Дай пройти, а то голову размозжу.
— Молодец! — восхищенно воззрился на него староста, жестом удерживая своего друга, который уже изготовился прыгнуть на Луция. — Да ладно, ладно, не скворчи, как подгоревший кусок сала. Проверку тебе не я указал учинить. Что касается Шивы, то он же бессмертен. Что ему какой-то нож. Хоть и запущенный сильной рукой, так ведь только в бренное тело. Так что ты о нем не думай, а лучше вообще забудь.
— Забудешь тут, когда дебилы на каждом этаже концерты устраивают. За головой они моей охотятся. Случись, кто им настучит в каком номере их главного бога ухайдокали.
— Наверно твоя мать совокуплялась с ослом, — задумчиво сказал чернорубашечник. — Иначе невозможно объяснить, отчего ты родился столь упрямым. Тебе человеческим языком растолковали, чтобы ты обо всем забыл.
— Да подожди, — сказал Эол с досадой, с ним не так надо разговаривать, — и продолжил серьезно. — Ты прекрасно знаешь, что в лицее, как во всякой порядочной демократической организации, около десятка главных партий. Конечно, больше всего дебилов, они на лучшем счету, потому что не критичны. И сплоченнее тоже по этой причине. Потом есть посткоммунисты — даниил-андреевцы — те за всемирную федерацию независимых стран; есть монархисты, есть и лига демократических реформ.
Но этот Шива был не такой как все. Черт с ним, что он четверорукий, к нам поступал абитуриент из Уфы с двумя головами. И поступил бы, если бы ему на улице не сшибли одну из голов. Просто этот Шива своих буквально гипнотизировал. По его приказу они бы родную мать зарезали и съели. Вышвырнуть из лицея его было нельзя. У нас же контракт с американцами, по которому на каждом курсе обязаны определенный процент дебилов обучать. Похоже, американцы, прежде чем учинять помощь, хотят убедиться, что наш уровень обучения только для дебилов и годится. Вот сам и рассуди, что остается делать в такой ситуации честным людям, которые болеют за честь своего лицея. Спокойно смотреть, как к дебилам присоединяется все больше и больше студентов? Согласись, что Шива просто сам напросился.
— Да я то здесь при чем? — устало спросил Луций, но ответа не дождался.
Из узкого прохода в поленнице молча вышли люди со свечками в руках, босые, завернутые поверх рубах и свитеров в белые простыни. Несколько десятков дебилов взяли Эола и его друзей в тесное кольцо. Из плотного строя вышел Саша-морда, проковылял на кривых ногах в центр площадки, открыл пасть.
— Вот мы вас и нашли, — сказал он просто. — Тестик, душка, иди ко мне.
Чуть подволакивая ногу, Тесций отлепился от маскировавшей его стены и пошел мимо Эола и его друзей. Когда он поровнялся с Луцием, торжествующая улыбка озарила его.
— За каждый мой волосок, — прошептал он, приглаживая голову, — за каждый…
— Скажи, Тестик, ты ведь все видел собственными глазами, — вкрадчиво спросил Саша, цепляясь за него жилистыми ручищами и принуждая сесть рядом с собой на жесткие поленья из рассыпанного штабеля.
Тесций только кивнул, отчего Саша расплылся уже в совсем сладчайшей улыбке:
— Вот эти двое? — быстро спросил он, указывая на Эола и его друга. — А третий щенок, прикрыватель? Ну что скажешь, Эольчик, правду он говорит? Или, может, врет по злобе? Только ножичек-то не соврет, ножичек-то именной, дембельный.
Эол шагнул к Саше, протянул не глядя руку, Саша вложил ему рукоять в ладонь. Эол поднял нож к глазам, рассматривая в затененном дворе надпись на рукояти.
— Такой нож есть у каждого студиуса, — наконец сказал он. — Ты что мне хочешь предъявить, друг мой? Я вижу, ты не веришь в Шиву?
— Что ж, давай затеем богословский диспут, — язвительно усмехнулся Саша, не поднимаясь с земли и поглядывая на Эола вертикально вверх. — Поговорим о том, откуда явился наш божественный Шива, чему он нас учил…
— Не об этом, — ответил Эол, приседая на корточки и с тончайшей улыбкой кладя руки на плечи Саше.
Молчаливая толпа дебилов все плотнее окружало их. Огоньки в их руках слабо колыхались, высвечивая тронутые идиотизмом угрожающие лица.
— Давай лучше поговорим куда ушел Шива. Сдается мне, что ты в него не веришь.
Саша вскочил. Мгновение казалось, что он бросится на Эола, но дебил удержался. Он снова медленно присел на поленья и замолчал.
— Если ты веришь в божественную сущность Шивы, — невозмутимо рассуждал Эол, — ты бы понимал, что Бога невозможно убить. Что Бог сам выбирает, каким путем ему изменить свое земное пребывание, и если в самом деле Бог выбрал руку, которая изменила его существование, то значит он этого хотел.
— Как ты сказал? — жадно спросил Саша. Лицо его показывало напряженную работу мысли. — Можно ли убить Бога? Друзья мои! — ликующе закричал он, вскакивая на ноги. — Снимите траурные накидки. Наш бог Шива жив! Он только перешел в другое измерение. То-то мне казалось странным, неужели, думал я, смертный смог убить нашего Шиву. Но жертва, — спросил он, требовательно обводя взглядом полукруг, — нашему богу нужна очистительная жертва!
— Был бы нож, — сказал Эол, как бы между прочим, — а жертва всегда найдется.
— Кто? — спросил Саша, переводя требовательный взгляд с одного студиуса на другого. — Кого ты мне отдашь?
— Ты уже выбрал, — усмехнулся Эол. Он протянул руку и коснулся лба сидящего на земле Тесция. — Сначала он предал Луция, потом меня тебе. Чья следующая очередь?
— Ах нет, — закричал Тесций, — вы это не сделаете. Директор расправится с вами. Директор любит меня. Он подарил мне цветок.
— Мы подарим тебе другой цветок, — утешил его Эол.
— А впрочем, зачем тебе цветок. По-моему, тебе нужнее саван, — и, сдернув с плеч ближайшего дебила белое покрывало, он небрежно набросил его на вопящего Тесция.
Тотчас двое из шайки дебилов ухватили Тесция за руки и прислонили спиной к поленнице. Саша, держа нож на раскрытой ладони острием к себе, приблизился к Тесцию, который извивался и кричал, но не мог вырваться из крепко держащих его рук.
Дебилы вытащили новые свечи и стали ставить их зажженными на землю. Саша подошел вплотную к Тесцию, сорвал с себя нейлоновую черную куртку, а затем майку, и сделал ножом на груди глубокий надрез напротив сердца. Льющуюся из пореза кровь он пальцами стряхивал на лицо Тесция, а тот выл в диком ужасе, не в силах вырваться из крепко держащих его рук. Когда простыня на плечах Тесция оказалась обрызганной кровью, на смену Саше подошел другой дебил. Остальные встали в кружок и торжественно запели. Свечи разгорались в наступающей полутьме вечера. Простыня чернела и, казалось, начинала дымиться. Дебилы сменяли друг друга. В экстазе они наносили себе глубокие раны и пригоршнями швыряли кровь в лицо Тесцию.
Внезапно все смолкли. Из круга дебилов вынесли мертвого Шиву. Его почтительно поддерживали за плечи избранные, создавая впечатление, что он идет сам, грузно переступая по утоптанной земле.
Увидев покойного предводителя, Тесций перестал кричать, его голова последний раз качнулась на длинной шее и застыла. Взгляд загустел на бронзовом лице Шивы с закрытыми глазами. Шива приблизился вплотную к Тесцию и, казалось, обнял его четырьмя безжизненными руками. Саша подскочил к Тесцию с другой стороны. В одной руке он держал нож, другой зажимал разверстую рану на груди.
— О, Шива! — закричал Саша. — Прости, что я не могу отдать тебе всех, кого ты бы хотел видеть, но одного, во всяком случае, ты заберешь с собой. Это я тебе обещаю! — с этими словами он высоко взмахнул ножом над головой Тесция.
Бедный Саша! Не надо ему было обещать богу того, что еще предстояло сделать. Потому что только Саша начал опускать ритуальный нож с капельками собственной крови, как во дворик посыпались тяжелые поленья. Едва ли не первое из них тюкнуло Сашу в висок и он упал, не сумев донести клинок до горла жертвы. Тесций, потрясенный неожиданным спасением, вскочил на ноги, но следующее бревно угодило ему в плечо, и он снова упал в объятия Шивы, которого уже никто не держал.
Прикрывая голову руками, Луций посмотрел вверх и сквозь мелькающие поленья разглядел несколько фигур, копошащихся на макушке штабеля. Число их все время увеличивалось, как и количество бросаемых вниз кусков дерева. Луций не стал ждать на месте непременной гибели, а пригнувшись побежал к проходу, который ему удалось достигнуть невредимым. Несколько студиусов, у которых воображение было развито сильнее, чем у остальных, во главе с Эолом бросились за ним. Хуже пришлось дебилам, которые остались без предводителя и никак не могли сориентироваться в происходящем. Сначала они сели на корточки и стали медленно продвигаться к выходу одной компактной массой, но по мере того, как град поленьев все усиливался, от основной толпы стали отслаиваться небольшие группы, из которых выскакивали дебилы с вытянутыми над головой руками и прижатыми к груди подбородками.
Увидев, что поле битвы очищается, нападающие перестали скрываться и с ликующими криками «Бей лицей!» спрыгивали вниз, где вступали в схватку с отступающими дебилами. Те от такого поворота событий совсем дурели и, совершенно не заботясь о защите, только и мечтали поскорее убраться со двора.
Вбежав в лицей, Луций убедился, что двором битва не ограничилась. Мимо него в разные стороны сновали озабоченные лицеисты видимо в тщетной попытке организовать оборону.
— Да это настоящий штурм! — понял Луций, когда мимо него пронесли здоровенный директорский шкаф, видимо в фундамент водружаемой где-то баррикады.
С толпой студентов Луций вбежал на первый этаж и очень вовремя. Эол вместе с оправившимся от удара дебилом Сашей раздавал желающим палки, велосипедные цепи, железные прутья и ножи. Когда Луций в свою очередь подошел к раздатчикам, Эол, взяв его под руку, отвел в сторону, снабдив большим секачом для рубки мяса, и велел идти вместе с группой поддержки отбивать столовую.
— Это все ложная атака, — указал он на вбитый в двери парадного входа шкаф, о который с внешней стороны билась толпа нападающих.
Оказалось, что лицей атаковала банда голодных беспризорников, которые давно враждовали с лицеистами. Пока беспризорники имитировали нападение в центре, сильно и гулко молотя палками по шкафу, некоторые из них просочились в столовую, где организовали вынос продуктов через тот самый дворик, в котором Луция вместе с Эолом чуть было не принесли в жертву бронзовому богу.
Когда Луций вместе с остальными лицеистами ворвался в столовую, бой там уже затихал. Первый, на кого они наткнулись, был обнявший громадную кастрюлю с утренней кашей рыжий мужик с толстой шеей и драным полотенцем на плечах, которое заменяло ему куртку. В одной руке он держал поварешку с кашей, в другой длинный нож для разделки хлеба, которым начинал размахивать, как только к нему кто-либо подходил. Почему-то все обходили его стороной, предоставляя всласть наедаться не любимой лицеистами пшенной кашей, и схватывались с визжащей и прыгающей по скамейкам шайкой полуголых мальчишек, которые, несмотря на юный возраст, очень быстро умыкали через окно мешки с сахаром и крупой, коробки с консервами из директорского неприкосновенного запаса, а заодно и верещавшего, как свинья, завстоловой Семечкина, посчитав его видимо за толщину и большие груди усладой арабских террористов.
Студенты, сбившись в кучу, мрачно за ними наблюдали, но вступить в битву не решались. Может быть, на них неважно действовал пример одного отважного студиуса, который первым ринулся в битву за урожай и теперь отдыхал, молчаливый и бездыханный, под мешком с отвоеванной им манной крупой.
Увидев подкрепление, студенты оживились и, размахивая палками и цепями, двинулись вперед, оттесняя противников к черному ходу. Видимо, беспризорники и сами решили отступать, они сжались в линию, оставив на аванпосту одного мужика с кастрюлей, и потихоньку выдавливались во двор, откуда, карабкаясь, как обезьяны, уносили на вершину поленницы отбитые при набеге продукты. Особенно близко соприкасаться с ними никто не желал.
Заминка произошла только в самом конце сражения, когда обнаружилось, что завстоловой никакими усилиями транспортировать на штабель нельзя. Беспризорники вспомнили, что в тылу у лицеистов еще действует несломленный пожиратель пшенки и предложили студентам обменять его на Семечкина.
Семечкина никто не любил, но мужик, оседлавший кастрюлю, внушил всем своей невероятной прожорливостью определенные опасения, потому предложение было принято и сверх того мужику было позволено умыкнуть с собой черпак, который он во время переговоров успел опорожнить.
Книга вторая. ИНТЕРНАТ
1. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УРОК
— Скажи мне, Петя, — обратился отец Авакум к мальчику с телескопическими голубыми глазами и жирными до неприличия складками на шее, — все ли народы равны между собой или… — тут священник сделал многозначительную паузу, — есть один народ, особо предпочтенный Божеством?
Вопрос не показался для Пети особо затруднительным, недаром его и вызывали всегда первым на показательных уроках в интернате. Тряхнув пухлыми плечиками, он рассыпался мелкой дробью, причем его белокурые длинные волосы и прямой греческий носик сводили на нет легкую картавость речи.
— Коммунистическая демагогия, — сказал ученый мальчик, — декларировала, будто все народы по своей одаренности и по вкладу в историю равны между собой. Однако, как учил нас святой мученик Даниил Андреев, имя которого носит наш интернат, есть один народ — богоносец, провидением избранный для решения задач планетарного значения.
Мановением указательного пальца отец Авакум посадил отрока на место и сказал, обращаясь к членам Всемирного попечительского совета, по традиции присутствующим на открытом уроке:
— Итак, вы могли убедиться, что не зря вкладываете средства в детей и внуков ваших, что слова «Россия», «русские» для них не пустой звук. Не стесняйтесь, дорогие родители, спрашивайте ваших отпрысков сами. Надеюсь, они смогут рассказать вам что-либо новое из всемирной истории, а если вопрос окажется сложным, то все равно он даст почву для раздумий.
Родители, однако, мялись и, чтобы сократить паузу, сам педагог задал следующий вопрос.
— Я рассказывал вам о ересях, которые проповедуют иудеи. Изгнанные со своей родины и заклейменные распятием Христа, Спасителя нашего, — тут священник размашисто перекрестился, — они уже две тысячи лет беззастенчиво проповедуют учение об исключительности и превосходстве евреев над другими нациями. Кто из вас, — тут он обвел широким жестом класс, — кто из вас сможет аргументированно опровергнуть это лжеучение?
Тотчас сорок рук взметнулись над партами — ровно по числу учащихся, — уж больно выигрышным и хорошо усвоенным смотрелся школярам вопрос. Выбрав, как показалось ему, наиболее усердно тянущуюся руку, священник разрешил отвечать.
Бойкий худенький школьник Илия вскочил с места и красноречиво стал распинать иудеев.
— Абсурдно, — сказал он, — и предположить, что малый численностью народец может внести в сокровищницу прогресса столько же, сколько многочисленный могучий народ, давший миру выдающихся личностей практически во всех отраслях знания. Национальная одаренность нашего народа — это свидетельство его уникального места в истории.
Все зааплодировали. Илия сел на место, а почтенный священник, весьма польщенный живой реакцией публики, вновь к ней обратился:
— Так не стесняйтесь, почтенные, выявить слабые места наших питомцев. Мы не считаем зазорным что-либо не ведать и не корим за прямое незнание чего-либо наших школьников.
Побуждаемые убедительными заклинаниями педагога, попечители зашевелились и стали придумывать вопросы:
— А вот скажите, дети, — обратился к мальчикам бравый майор, ведущий военно-игровую секцию во Всемирном попечительском совете, — знаете ли вы, что за цель преследовали ваши учредители, когда открывали для вас интернат имени святого Даниила.
На этот раз вместо леса рук взметнулись вверх только два-три легких побега, из которых отец Авакум, чтобы не рисковать, снова поднял Илюшу.
— По учению отцов нашей всемирной церкви, должны мы совершенствовать свой умственный облик, развивать облик нравственный, формировать свой религиозный облик, не забывать и о физическом. Для этого создана наша школа — колледж-интернат. Вторая стадия обучения после окончания и успешного послуха в школе это гуманитарно-религиозный университет и, наконец, высшая ступень обучения — это всемирная религиозно-философская Академия.
Ответом все остались довольны, кроме жирной бестии Пети, который сваляв из оконной замазки твердый, как камень, шар, пустил его способному ученику чуть пониже брючного ремня. Только что такой благонравный и знающий мальчик превратился внезапно в разъяренного тигренка. Чувствуя ужасную боль в одной из половинок и объясняя ее простым щипком, Илия схватил со стола том метафилософии истории и обрушил «Розу мира» на голову сидящего сзади ученика. Тот, опешив, несколько мгновений был совершенно неподвижен, не понимая, за что получил порядочный удар, потом выхватил в середине стола вовсе не оправдавшую своего названия чернильницу-непроливайку и запустил ею в Илию. Кувыркаясь и расплескиваясь, метательный снаряд достиг своей цели, рикошетом поразив Илюшиного соседа. Тут отец Авакум прервал распрю, вынув из кармана тоненькую ременную плетку.
— Выходи! — зычно скомандовал он и обратился к шумно переговаривающимся попечителям: — Сядьте, дорогие наши родители, и послушайте. Сейчас вы столкнетесь с удивительной, только нашему интернату присущей системой самовоспитания. Прошу внимания.
Попечители заинтересованно замолчали, а священник воззрился на вышедших со своих мест к доске заляпанного чернилами Илию и потирающего гудящую макушку младшего брата Луция Василия.
Главный же зачинщик, Петя, продолжал оставаться на своем месте, наивно полагая, что так он наверняка избежит наказания. Но проницательный отец Авакум мягкой походкой подошел к нему и выманил с места.
— Друг наш Петя, — обратился он к толстяку, — какое моральное наказание мы вынесем с тобой за эту безобразную сцену? Жду твоего ответа.
И снова легковерный Петя раздулся от гордости и смеха. Будучи мальчиком от природы добрым, он высказал кроткую мысль, что Илие надо дать пять плетей, а Василию — три, за взаимное хулиганство.
— Согласен, — кивнул священник, — только сколько ударов получит подстрекатель? — И он так сурово посмотрел на Петра, что тот, наконец, понял, что был разоблачен с самого, так сказать, начала. Поскольку мальчик затруднялся с ответом, священник мягко положил ему руку на голову и сказал:
— Ничего не получит подстрекатель, потому что он шалил, и не его вина, что проказа обернулась потасовкой. Также не будем мы наказывать и самих драчунов, поскольку один из них подумал, что его ударил сзади другой, а тот не смог сдержаться, получив попусту по голове.
Школяры зашептались, зная, что это еще не развязка, а попечители, сами писавшие уложения о телесных наказаниях, неодобрительно зашумели.
Не обращая внимания на шум и шепот, священник продолжал:
— Хотелось бы на этом и закончить дело, но есть в нем и другая сторона, не рассмотрев которую можем мы нанести урон моральной структуре личности наших воспитанников. Понятно, что зависть к удачному ответу была толчком к шалости Петра. И это мы ему простили. Однако Петр, во-первых, хотел слукавить и остаться незамеченным, чем нарушил заповедь «Не лги». И вторую заповедь «Не жестокосердствуй» тоже нарушил он, за что по совокупности статей приговаривается к восьми ударам плеткой. Рассмотрим же теперь поступок Илии, который, ощутив жгучую боль в ягодице, обрушил удар на голову неповинного своего товарища. И не то страшно, что проявил он этим свой вспыльчивый норов, а то, что в качестве подсобного средства использовал он святой наш учебник закона божьего. А окажись в его руках крест или икона православная, так он и иконой и крестом начал бы орудовать как средством нападения, что кощунственно и беззаконно. Таким образом приговаривается отрок Илия к пяти ударам плеткой по совокупности причин.
И, наконец, остается у нас по внешности невинный ученик Василий, который, однако, должен был соизмерить силу своего броска с наличием других вовсе неповинных мальчиков в классе. Ибо, если так распустить свою волю, можно ополоснуть грязью и учителя своего, и родителей, почтивших нас посещением своим. Поэтому Василий, как наименее виноватый, приговаривается к трем ударам плетью вместе с остальными. Таким образом, — продолжил отец Авакум, повернувшись на этот раз к попечителям, — мы соблюдем великий принцип святого Даниила о том, что насилие может быть признано годным лишь в меру крайней необходимости, только в смягченных формах и лишь до тех пор, пока наивысшая инстанция путем усовершенствованного воспитания не подготовит человечество к замене принуждения — добровольностью, окриков внешнего закона — голосом глубокой совести, а государства — братством. Другими словами, пока самая сущность государства не будет преобразована, а живое братство всех не сменит бездушного аппарата государственного насилия.
— Мудро рассудил, — воскликнул председатель попечительского совета, крутя от восхищения головой, — а то я уже боялся, что бесчинства школьные окажутся без наказания!
— Что вы, — отозвалась бойкая попечительница в тигровой накидке и с острым красным носиком, обращенным в сторону представительного председателя в майорском мундире, — батюшка Авакум в миру до пострига военным прокурором был, и конечно профессионализм при нем так и остался.
— Из военных вообще получаются замечательные богослужители, — хохотнул майор, — наверно потому, что они привыкли служить.
— …И дисциплину знают, — подхватил разговор третий член попечительского совета — знаменитый монархист Ткаченко.
— Да ладно вам, господа, шутки шутить, — отмахнулся от слов монархиста маленький худенький мужчина с клювообразным носиком и бесцветными глазками, знаменитый историк, академик Наперстков, который принимал самое активное участие в основании интерната. — Само понятие дисциплины вытравлено тому уже как двадцать лет. С первого указа Горби о кооперативах. Тогда народ почувствовал, что можно зарабатывать большие деньги ничего не производя. До этого указа ловили золотых ершей в мутной воде только единицы, а уж после миллионы вовлеклись в потребление без производства. Так же как вырубленная годом раньше виноградная лоза до сих пор обернулась пропажей виноградных вин, так же пагубное приучение больших слоев народа российского, прекрасных ремесленников и рукотворцев, к бесцельному дуракавалянию обернулось исчезновением производителей.
— Горби этот конечно был человек удивительный, — продолжал при общем молчании Наперстков. — Я недавно перелистывал подшивки газет того периода и сделал анализ, пока внутренний, его деятельности. Самое замечательное качество этого президента заключалось в том, что он никогда не мог просчитать последствий своих поступков. Глядя на его высокий лоб, в голову приходит кощунственная мысль: может быть ему тайно провели лоботомию. Практически каждый его шаг имел для общества обратные желаемому последствия. Даже вполне невинный заключительный шаг — создание собственной фирмы, чтобы зарабатывать деньги — известного фонда, — обернулся полным его разорением и крупнейшим судебным процессом, во время которого он и умер.
— Все это вздор, — сухо отчеканил до сих пор молчавший член Совета. — Давайте закончим урок, а после я постараюсь вам доказать, что разрушение страны, от которой остались, что перед собой умалчивать, рожки да ножки, это следствие не политики девяностых годов и даже не двадцатых. Да, Горби инициировал процесс разбегания, но не дай бог этому котлу повариться под крышкой еще лет пятнадцать. Так бы рвануло, почище Чернобыля. Вы уж нас извините, уважаемый батюшка, ласково обратился он к отцу Авакуму. — Все нынче политики стали, — негде пробы ставить. Давайте дальше учиться.
— А дальше порка, — горестно вздохнул педагог. — Для всех нас занятие мучительное, но необходимое. Желаете присутствовать?
— Для показательного урока могли бы сделать исключение, — поморщился майор-председатель. — В самом деле, смотреть на голые задницы — наше ли дело?
— Я исключение сделать могу, — проникновенно возразил батюшка. — Однако должен я не о своем покое думать, а о душе моих воспитанников. И если один раз пренебречь наказанием…
— Душу розгами не наказывают, — безапелляционно прервал его знаменитый историк. — Впрочем, не наше дело лезть в воспитательный процесс. Секите, а я, пожалуй, пойду.
Академик вышел в коридор, а вслед за ним ушло большинство попечителей. Желающих смотреть на голые детские попки оказалось не больше трех человек.
В коридоре член совета, обещавший доказать, что разбазаривание державы Российской дело давнее и концом века не ограниченное, попросил у майора сигаретку, а закурив, продолжил:
— Беда ваша, академик, в том, что историю вы изучаете, отталкиваясь от идеи, в данном случае идеи великой Российской империи, а не смотрите на нее непредвзято. В физике сказали бы, что вы влияете на чистоту эксперимента. Ваше имперское мышление не позволяет вам обвинять величайших российских собирателей от Калиты до Сталина в преступлениях против человека. И если я вам задам вопросик сакраментальный, зачем нужна великая империя и зачем нужны великие идеи? Вы мне на него не ответите. Не ответите потому, что вопросы вам покажутся неправомочными и даже кощунственными. Мол, зачем солнцу светить или бога любить. А я все-таки повторю вопрос: зачем нужны все великие идеи? Во всяком случае, исторические.
Профессор усмехнулся, но в самом деле отвечать не стал.
— Вот видите, — продолжал его оппонент, нервно теребя узел своего галстука, — а между тем у человека непредвзятого и мыслящего реальными и бытовыми категориями все-таки складывается свой ответ: растащили империю на сто кусков, но сам этот факт еще ничего не значит; если люди в каждом куске живут богато и счастливо, если их никто не угнетает, то зачем нужна была империя, в которой все жили плохо. Для меня критерием необходимости большого государства являются условия жизни, и духовной в том числе, его граждан. Если граждане несчастны, значит, мощь государства направлена против них, а не для защиты. Не изволите ли свою точку зрения дать? Зачем государство нужно?
— Вы в одном только правы, — неохотно и резко начал Наперстков. Слова из него выворачивались туго, как болты приржавелые из железа, — что вопрос это непростой. Но в Метаистории простых вопросов не бывает. Это не арифметика с алгеброй. Вы как бы невинно перемешали понятия империи и государства и уравняли Калиту с Горбачевым. Не хотелось бы вас оскорбить, но боюсь недостаточно изучали вы даже самый основополагающий труд нашего великого святого. Иначе вам было бы очевидно, что превращению России из окраинной восточноевропейской страны в великую евразийскую державу, заполняющую все полое пространство между Северо-западной, Романо-католической, Мусульманской, Индийской и Дальневосточной культурами (то есть между почти всеми культурами, ныне существующими), следовало придавать особое значение. Ввиду всемирно-исторического назначения России эти пространственные резервы должны послужить ареной для творческих деяний сверхнарода, которые были прерваны большевиками, но свидетелем которых явятся уже наш и двадцать второй век.
Культура, призванная перерасти в интеркультуру, может осуществить свое назначение, лишь тесно соприкасаясь со всеми культурами, которые она должна ассимилировать, объединить и превратить в планетарное единство. Раз русский сверхнарод предназначен стать реактивом, трансформирующим и себя, и все сверхнароды мира в духовно единое Человечество, то ему должны быть уготованы пространства, соответствующие размаху его борьбы, его идей и творческого труда. Ведь уже были явлены вершины мирового романа и музыкальной культуры в девятнадцатом веке, истинно народной — примитивистской и истинно элитарной — постмодернистской живописи, авангардного балета и поэзии в двадцатом веке. То ли будет с воцарением Мирового правительства Розы Мира! И с этой позиции, чуть лучше живется населению стран или чуть хуже, не так важно. Важно, чтобы каждый гражданин воспитывался в правильном национально-религиозном духе. И тогда даже некоторая скудость внешних жизненных обстоятельств не будет его смущать.
— Стало быть, вы за царство нищих! — вскричал его упрямый оппонент. — Все, что вы говорите, — просто демагогия. Уже сто лет история России пошла в такой косяк, что каждый гражданин ее живет, будто погруженный в озеро нищеты духовной и физической, так что только кончик носа выглядывает из тины и камышей. Забота о ежедневном пропитании и одежде, а также личной безопасности занимает полностью время и мысли гражданина российского, и все равно не хватает ему ни того, ни другого, ни третьего. Из ваших слов незримо следует, что недостаток средств возмещается духовной свободой и концентрацией творческих сил. В самом деле, это может подойти старцу, бродящему по стране, или отшельнику, но, согласитесь, не могут все быть юродивыми или пустынниками. И я говорю, что нищета, как духовная болезнь, травит ум, разлагает и уничтожает нацию. Сколько же великих умов дала наша страна за время большевистского и постбольшевистского правления. Трех или, может, четырех. Пальцев одной руки хватит. — С этими словами говорящий действительно принялся загибать пальцы. — Одного писателя — Солженицына, двух физиков — Ландау и Сахарова, еще кого? Зато погубили великих десятки, талантливых тысячи и способных без числа. Если в этом божественное провидение, на кой черт оно такое нужно?
— Эх, дяденьки, дяденьки, — раздался укоризненный голосок прямо из-под колен говорящего.
Попечители потрясенно посмотрели вниз и увидели удивительного ребенка Илюшу, который одной рукой гладил поверх джинсов высеченную попку, а другой с видом философическим ковырял в носу.
— Мы эти ваши диспуты еще в первой четверти проходили. Неконструктивные они, потому что основаны на голой предубежденности и не подкреплены модельной логикой или формальными доказательствами. Какой дурак не хочет жить хорошо, и каждому лестно думать, что ради него и ему подобных организован гигантский институт государственности. И чем хуже он живет, этот дурак, — при последних словах дитя уцепилось за ремень оппонента академика и вздохнуло, — тем ему эта полуистина кажется правдивей. Но каждый из тех, кто работает в государственном аппарате, пришел в него вовсе не с той целью, чтобы какому-нибудь ивану-дураку хорошо жилось, а со своей собственной. Во-первых, вскарабкаться как можно выше по служебной лестнице и, во-вторых, при этом самому хорошо жить.
Из такого рода желаний работников аппарата и складывается его функционирование. Конечно, может быть, раз в десять лет, а скорее, в двадцать пять и найдется какой-нибудь идеалист, который тщится о своем народе, так, во-первых, его запросто предадут те, кто, кроме как о себе и своей семье, ни о чем больше не тщится, во-вторых, за какие-нибудь несколько лет обкатает его системка так, что он еще хуже других станет, ну а, в-третьих, все его желания бред, голая шизофрения на фоне государственности, так вот сумасшедшие заведения и пополняются съехавшими с последнего ума идеалистами.
Тут удивительно развитый ребенок отпустил ремень оппонента и перешел к академику.
— Откуда ты так хорошо знаешь эту тематику? — ласково спросил у ребенка попечитель, гладя его по лысой головке.
— Мой папа был такой идеалист, — ответил мальчик, судорожно сжав кулочки и бодая Наперсткова в грудь. — Уж мы с матушкой по этим домам находились, — и мальчик горько заплакал, орошая пиджак академика.
На этом дискуссия закончилась, потому что прозвенел звонок и школьники с воплями и свистом выскочили изо всех дверей.
2. ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН
— Вы трусы, — сказал Петя решительно, и жирный его животик затрясся от гнева. — Давайте, догнивайте в этой помойке, скоро еще война будет, мой отец вчера говорил.
— С кем война-то? — спросил недоверчиво Василий, тряся длинными локонами, — поди, для войны запасы продовольственные нужны, а вся империя хлебов сеет — воробьям на поклев.
— Со всеми, — отрубил Петя, и его круглые глаза еще больше увеличились, — со всеми, кто под нами был. До великого примирения. А жрать, что война, что без войны, все равно нечего.
— Если война будет, так и в Крым незачем ехать, — рассудил Илюша, — стало быть, и валюту добывать ни к чему.
— Дурак, идиот, — налетел на него вспыльчивый Петя с кулаками. Дело происходило в подвале, и оглядываться было не на кого. — С валютой ты любую войну выдержишь. Кроме того, с Крымом войны не будет. Крым-то не татарский, а турецкий.
— Какая там валюта в ходу? — поинтересовался Василий, разводя драчунов в стороны. — А то возьмем какую-нибудь… некон… неконвертируемую, вроде наших рублей.
— Золотой рубль сойдет, — поправил его Илия, — их мало делают. Да и кто нам даст. И за что?
— Для этого мы здесь и сидим, — озлился Петя. — Выкладывайте, какие у кого есть идеи, как валюту добывать.
— Ограбить банк, — уныло пошутил Василий и схлопотал от Пети по шее.
На этот раз он не обиделся, понимая, что приятели умнее его. Значит, что-нибудь придумают.
— Мы здесь трое исконно русских, — решительно сказал Илия. — Правда насчет Петьки у меня сомнения, картавит, как злостный сионист, ну да ладно, сомнения в пользу обвиняемого, так суд признает. Нам что Авка говорил: русские — самые умные в мире. А нас трое. Значит, у нас валюты должно быть, хоть жопой ешь.
— Так ведь нету, — вздохнул Василий.
— Значит, Авка врет, и мы не самый избранный народ в мире.
— Это что получается, чем больше валюты, тем избраннее? — удивился Василий. — Так за бугром вообще валюты нет. Что у нас валюта, у них расхожие деньги.
— Кончай трепаться, — строго посмотрел на него Илия.
— Главное — это логика. Уехать из матушки-России мы хотим? Хотим! На юг? На юг! Валюты нужно сколько?
— Тысяча! — отрубил Петя и зажмурился от удовольствия.
— Тысяча чего?
— Фантиков, болван!
— Не смейся над ним, — вступился за Василия Илюша.
— Тебе-то что, генеральский сынок, увалень, а он вообще без отца, без матери, из милости принят, как и старший брат его.
— У них как в гражданскую, — рассмеялся Петя. — Один брат за белых, другой за красных. А третьего у тебя нет, — поинтересовался он, — тот бы воевал за зеленых.
— Правильно, правильно говоришь, — неожиданно согласился с ним Илия. — Не знаю, какое у римлян было знамя, только мы, скажем, натуральные белые, монархисты, а зеленые — это ислам, татары да кавказцы.
— Я, по-моему, решил задачу, — скромно сказал Петя. Он сделал стойку Наполеона, скрестив руки на груди и напыжившись, отчего его курточка растянулась и наполнилась; формы Пети уже приближались к женским. — Кто больше всех зарабатывает у нас валюты? Только не говорите мне о дипломатах и проститутках. Нам еще рано это делать. Вот так, молчите?! А разгадка лежит на поверхности и ждет. И вы ее знаете. Сказать?
Друзья заинтересованно закивали.
— Шпионы, — четко произнес Петя. — Поняли? Шпионы. И не смотрите на меня, словно бараны на флагшток. Вы прикиньте, братцы. Ну что мы в самом деле можем продать, чтобы валюту заработать. Посольство ограбить? Так мы еще маленькие. И оружия у нас нет. Кто нас всерьез примет. Ты ему крикнешь, положим, на японском языке «Руки вверх!», а он тебе в ответ «Черепаха!». Это у них на Востоке самое страшное ругательство.
— Ну и пускай обзывается, — удивленно сказал Василий.
— Брань где-то там не виснет. А я валюту взял и ушел.
— А он как скомандует самураям, как они начнут тебя крушить своими мечами. А из-за ограды менты налетят. Без задницы уйдешь!
— И без ног, потому что их выдернут, — добавил Илия.
— Да я и говорю, что, кроме продажи секретов, нам не вывернуться.
— Может, тебя продать? — задумчиво спросил Илия. — Твоему отцу по весу. За каждый килограмм десять долларов.
— Пока мой отец раскошелится, я похудею долларов на пятьсот. Легко ли из генерала деньги вытянуть. Да и это все старо. Но мыслишь ты правильно. Цвет нашего воинства — белый, ангельский цвет. Стало быть, исламские шайтаны или римские варвары с удовольствием нам заплатят за наши секреты. Тем более перед войной.
— Ты у батюшки в кабинете бывал? — строго спросил Петя Василия.
— Да почаще, чем ты! — крикнул Василий и едва сдержал желание садануть воображалу в ухо.
— А конверты у него на столе видел?
— Бывают иногда. С сургучными печатями.
— Между прочим, точно такие конверты под сургучом частенько мой отец приносит из генеральского штаба, только к ним подкрасться невозможно, да и отца жалко. Расстреляют старика. Он такой жадный, что все решат, будто он сам продал секреты даже за бумажные гривны.
— Ты, стало быть, предлагаешь, — задумчиво произнес Илия, — эти самые конверты похитить и продать врагам веры, царя и отечества?
— Да, — сказал Петя просто. — Только если ты донесешь, я от всего откажусь.
— Дурак, — ответил Илия. — Нужен ты мне сто лет… Я только думаю, а что, если в конвертах все пустое. Нам за твои голубые глаза платить не будут. Тем более за близорукие.
— Я логически рассуждаю, — вдруг сказал, к общему удивлению, Василий, которому подобные посылки были до сих пор чужды.
«Вот чего валюта с людьми делает», — уважительно подумал Илия, а Петя неуважительно сказал:
— Дожили!
Однако, не обращая внимание на реплику, Василий рассудил:
— Конверты приносят отцу Авакуму, чтоб он их читал. Ну как почтальона для дальнейших рассылок его же используют, ежу понятно.
По подземелью что-то прошуршало, и трусливый мальчик Петя громко сказал: «Ой!»
— Значит, Авка знает полностью содержимое конвертов. Может, его и похитим, — открыл приятелям свой гениальный план Василий. — Во всяком случае, дело верняк. Похитим и будем продавать, кто больше даст. А заодно и конверты в придачу. Если они, конечно, будут.
— В столе у него старые есть, — задумчиво отозвался рассудительный Илия. — А как мы его будем из кабинета забирать?
— Все уже продумано, — важно сказал Петя, перехватывая инициативу. — Мы его будем брать из спальни. Ночью. Под снотворным. Снотворное есть у моей матери. Она его в малых дозах каждый вечер принимает. По одной таблетке.
— Только где его держать? — спросил Василий задумчиво. — Его же кормить надо. Чтобы он мог на вопросы отвечать.
— Вот здесь! — Петя театрально развел руками. — Чем наш подвал хуже тюрьмы замка Иф, где сидел граф Монте-Кристо?
— Да тем, что тут выход не запирается, дубина ты стоеросовая. — Илюша топнул в сердцах босой ножкой об земляной пол подвала.
— Сюда же не ходит никто, — сказал Василий радостно.
— Мы лампочки разобьем. И пусть сидит, пока его татары не купят.
— Я все-таки склоняюсь к мысли, что продавать священника мусульманам безнравственно, — подумал вслух Илия. Его худенькое лицо пылало от возбуждения. — И не потому, — прибавил он, явно передразнивая самого отца Авакума, — не потому я против, что Татары его, если он будет молчать, живьем на кол натянут, это еще не беда, а именно потому, что, кажется мне, не выдержит бедный Авка пыток и примет мусульманство. Тем самым он наш замечательный интернат опозорит и запросто погубит свою бессмертную душу.
Я предлагаю продать его римлянам. Тем более что это можно сделать, так сказать, на корню. Вон у Васьки там брательник учится. Пусть с ним переговорит, нужны ли им православные военные тайны и сколько дадут, но не меньше тысячи, — решительно добавил он. — Крым — страна богатая, там с центами делать нечего.
— Брат ко мне сегодня обещался, — весело крикнул Василий. — Наверно, уже едет.
— Ура, — закричали все и, взявшись за руки, заплясали, отбивая босыми ногами чечетку на скользком полу.
Только они отвеселились и решили уходить, чтобы заняться уже детальной разработкой счастливо найденного плана, как далеко, еще в первом коридоре, прикрытом от них дверью, раздался какой-то шум и зазвучали слабые голоса.
Место встречи заговорщиков было прежде котельной и имело массу темных закоулков и клетушек, где можно было спрятаться. Только дети успели залезть за разбитый фундамент котла и прилегли за ним, как слабый свет скользнул в чрево подвала.
Ничего не видя, Василий тем не менее отчетливо слышал голоса двух мужчин, звучащие совсем рядом с противоположной стороны прохудившегося котла, причем один из голосов показался ему знакомым.
— Воспитанники здесь не шастают? — требовательно спросил знакомый ему голос, и запах сигареты щекотнул нос Василия.
— Практически нет, только вы учтите, что мы дверь поменяем на сейфовую, завезем с понтом какое-либо оборудование, будто хотим котел чинить, и все запрем. Кто надо, тот будет в курсе, а простым учителям и школьникам в подвал шнырять запретим. Да и через стальную дверь не слишком пошастаешь.
— Звучит реально, — одобрил сказанное знакомый Василию голос. — Только смотри, чтобы проколов не было. Ты за склад головой отвечаешь. Я бы тебе порекомендовал подобрать отдельную каморку и ее еще отделить от основного помещения. Ей-богу, спать легче будешь.
— Поместим все? — с сомнением произнес второй голос.
— Мы у тебя гаубицы и бронетранспортеры размещать не будем. Двадцать деревянных ящиков, максимум двадцать пять. Стандартного размера гробов. Два метра на один. Так что хватит тебе места.
— Я что еще хотел спросить. Очень меня смущает отсутствие оперативной связи. Я же не могу сидеть на телефоне день и ночь. И официальная служба, я все-таки вахтер интерната, и разные… делишки. Дали бы связь.
— Это, голубчик, не твоя забота. Получишь телефончик в нужное время. Пока ситуация до конца не вызрела. И груз может лежать хоть до четвертой мировой.
— Вроде еще и третьей не было. А вы уже о четвертой, — поинтересовался вахтер.
— Может быть, для остального мира и не было, — буркнул его собеседник, — но мы, Россия, удивительная страна, у нас все случается раньше других или, наоборот, значительно позже. Остальной мир живет после второй мировой, а мы уже двадцать с лишним лет, как воюем всем миром. Твоя задача — оборудовать помещение и никакой инициативы не проявлять. Вообще-то лучше тебе больше дома сидеть. Окромя, конечно, ночных твоих вахтерств. Тебе, наверное, на жизнь не хватает.
— Кому нынче хватает, — уклончиво отвечал вахтер. — Изволите видеть, я не жалуюсь.
— От того, что ты не жалуешься, мне не легче. Ты лучше жалуйся, но не скрытничай. На вот тебе на первое время.
Послышался шелест пересчитываемых бумажек.
— Каждый месяц будешь такую сумму получать, но старайся больше быть дома.
— Благодетель! — восхищенно воскликнул вахтер. Свет давно уже погас, смолкли шаги за ушедшими, а мальчики все еще сидели в своем укрытии. Лишь убедившись, что кругом все тихо, они перебрались к проходу, но выйти из подвала не решались.
Наконец храбрый от недостатка воображения Василий приоткрыл дверь, просунул в нее голову и огляделся. Все было тихо в большом интернатовском саду, только день уже начинал клониться к закату и засерело на востоке. Перекрестившись, Василий выскользнул во двор. Петя и Илия не спешили следовать за ним.
— Не нравится мне эта история, — после некоторого раздумья начал Петя. — Никак они хотят устроить в интернате склад оружия.
— А мы его продадим…татарам, — начал Илия и вдруг погрустнел. — Нет, — сказал он, — в оружие, контрабанду и наркотики приличные дети не играют. Лично я больше в этот подвал ни ногой.
— Целиком тебя поддерживаю, — вежливо согласился с ним толстый Петя. — Единственная мысль, которая пришла мне в голову, может, стоит все-таки анонимно проинформировать полицию о том, что мы слышали. Представь себе, что в этих замечательных ящиках окажется не стрелковое оружие, как ты, наверное, подумал, а гранаты и мины или снаряды. Так ли удобно жить на пороховой бочке?
— А у моего брата друг — татарский агент, — похвастался Василий, возвращаясь в подвал и оттирая лицо от капель дождя, который моросил в саду. — Давайте ему продадим весь склад.
— И поедем в ЮАР, — задумчиво произнес Петя. Лицо его на миг стало худым и вдохновенным.
— И поедем в морг, — прервал полет его мыслей Илия.
— Кончат нас, не посмотрят, что дети.
— С особым цинизмом, — добавил Петя. — И вообще пора нам отсюда выбираться. Время уже к вечерней проверке.
— Мне пора брата встречать. Побегу к вахте.
— Как раз и на вахтера напорешься, — остановил Василия Петя. — Вспомнил я. Новый у нас вахтер со вчерашнего дня. Самолично я от дежурного педагога слышал, когда он им пугал первоклассников. Новый вахтер, говорит, придет и всех вас унесет, если кушать кашку не будете.
— Ну вы, молодцы! — зловеще сказал Илия, так что Василий, который успел добежать до выхода из сада, притормозил и повернул назад. Пете было легче в том плане, что он успел только развернуться и промерить взглядом дистанцию.
— Настоящие друзья, — продолжал Илия в том же тоне.
— Бизнесмены! Ни о чем не договорились, план действия не определили и смылись. Будем мы Авку пленить или все наши разговоры в пользу нищих?
Василий ушел с вахты, проболтавшись возле нее более часа, но так и не дождавшись брата. Зато он хорошо рассмотрел вахтера, похожего на настоящее чудовище, с густой бородой, покатыми могучими плечами и плешивой головой. Стараясь не попадаться ему на глаза, мальчик вертелся у вахты до десяти часов, а потом пошел в спальню, рассудив, что брат, ежели придет, сам ухитрится его найти.
3. ПОХИЩЕНИЕ
В спальне уже был потушен свет, потому что именно в десять часов в интернате был отбой, но друзья Василия, свежие и одетые, лежали на своих кроватях в полной боевой готовности и только ждали его возвращения.
Только Василий зашел за порог, как они осторожно вскочили с кроватей, не желая будить других воспитанников, и гуськом проскочили в туалет, где, естественно, никого не было. Чтобы убедиться в этом, достаточно было открыть двери кабинок.
— Снотворное у меня, — сказал возбужденно Петя. — Я, признаться, его еще раньше спер. Думал как-нибудь за ужином усыпить всех к чертовой матери и поочередно ночью надругаться. Только ленивый я, все откладываю, откладываю, а теперь ох, конец мечте! Для дела отказываюсь от сексуальных извращений.
— Дурак ты! — крикнул Илия нервно. — Мы бы тебя на суд чести вызвали. Ты же дворянин, а не пролетарий с Красной Пресни.
— Какой там суд чести, если вы бы все уже были опущенные, — хохотнул Петя. — Я, брат, все продумал, да лень было начинать. Суд чести состоял бы только из меня одного. Да хватит болтать. Самая у нас трудная задача — подсыпать батюшке снотворного в чай. Ему каждый вечер в пол-одиннадцатого служка чай несет.
— Выходит, мы опаздываем. Надо служку отвлечь чем-либо, — судорожно дернулся Василий.
— Так он и выпустит стакан из рук, — пожал плечами Илия. — Нет, братцы, я другое придумал. Мы подождем, когда служка выйдет, и тогда…
Только отец Авакум отхлебнул горячего сладкого чая из большой фамильной кружки, как раздался телефонный звонок. Звонили с вахты. Хриплый голос нового вахтера умолял срочно прийти, поскольку на него оказывают давление. Кто и как оказывает давление, отец Авакум не понял, но, на всякий случай положив в карман пистолет, с которым по давней армейской привычке никогда не расставался, священник отправился на вахту. Слова удивленного, в одиночестве дремавшего вахтера о том, что никому он не звонил, да и давления никакого не боится, поскольку способен сам любого раздавить как блоху, заставили опытного интригана батюшку Авакума призадуматься и быстрой рысью вернуться в опочивальню. Однако, отворив в спешке незапертую дверь, не обнаружил он ничего нового или опасного. Только разогретая быстрой ходьбой жажда стала терзать батюшку еще сильнее. Чай уже, видимо, подостыл, хотел он налить нового, но, потрогав, убедился: еще вполне горячий чай. Крошки сахара плавали на дне чашки, отец Авакум раздавил их серебряной ложечкой, потом размешал и с удовольствием весь чай выпил. Тотчас его потянуло в сон. С трудом он дошел до диванчика и прикорнул на нем, дав себе слово, что спать будет не более часа, а потом сядет писать новое «Слово к гражданам России» от «Союза за оздоровление нации», секретарем которого являлся еще в бытность свою председателем военного трибунала.
Три молчаливые тени, две легкие, а одна грузная, скользнули к дверям опочивальни, раздался легкий стук, но никто на него не ответил. Дрогнула и отворилась незапертая дверь. Тени беззвучно проникли в комнату. Щелкнула задвижка, пугливые тени заперлись изнутри.
— Уф, — с облегчением выпрямился Петя, окидывая взглядом батюшкину спальню, — не ожидал, что все так просто получится.
Спальня была переделана из библиотеки и представляла собой круглый зал с высоким сводом, с которого спускалась прямо-таки царская, из бронзы с хрусталем, люстра.
— Вот что надо продавать, — кивнул коммерсант Петя на люстру и вдруг, опустив взгляд долу, завопил: — Братцы, пол-то какой. Наборный паркет. Да этой фатере цены нет. Вот бы что толкнуть.
— Вместе с интернатом, — сказал Илия. — Здесь таких царских палат половина. Да не унесешь. Карманы узки. И не ори. Авку разбудишь.
— Его теперь только через сутки разбудишь, проверено, — похвастался Петя. — Будем считать, что он впал в религиозный экстаз. — Тем не менее нам тут рассиживаться не с руки. Повернитесь лицом к документации, господа.
И школьники взялись за дело. Изо всех столов и канцелярских шкафов они вытаскивали папки и сносили их на кровать к батюшке, страшный храп которого периодически пугал засыпающего на ходу Василия. Когда поток бумаг иссяк, сели к батюшке на кровать сортировать их. Василий так привык к мысли, что отца Авакума и пушками, как говорится, не разбудишь, что из-за недостатка места стал раскладывать бумаги у того на груди. Илия, однако же, поправил его, объяснив, что при всем при том наркотик не яд и необратимых последствий от него ждать не стоит, почему батюшка неожиданно может проснуться. После разъяснений Василий папки с груди спящего убрал, а находясь вблизи него, старался сдерживать дыхание.
Илия отобрал толстенную кипу бумаг и сложил в припасенный для этой цели мешок, а остальную документацию велел загнать назад.
— Значит, так, вы его пока кантуйте на пол, только не шибко роняйте, а я пойду в подвал и запрячу там папки. После вернусь и мы отнесем туда же священника.
— А как же оружие? — заикнулся было Василий, но Илия только рукой махнул, мол, сколько можно чушь городить, и, осторожно приоткрыв дверь в коридор, вылетел пулей вниз.
Оставшись вдвоем, Василий и Петя незамедлительно приступили к транспортировке священнослужителя. Правда, Петя, как он и сам объявлял, был ленив сверх всякой меры и как-то не способен к физическому труду, поэтому он, неспешно подойдя к спящему, выбрал самую его легкую часть — ноги и взялся за них. Василию досталась самая тяжелая часть — голова и плечи, о пояснице же каждый из них подумал, что пускай ее несет Илия, когда возвратится. Натужно взвыв, Василий просунул руку под плечи лежащего на спине священника и с криком «Раз-два, взяли!» стал его подтаскивать к краю кровати. Увидев, что дело у него движется, а ноги педагога, наоборот, разворачиваются в его сторону, Петя отбросил их и присоединился к Василию. Толкал он очень слабо, но запыхался сильно, и, когда голова отца Авакума отделилась от кровати, Петя совсем устал. Василий, более привычный к физическому труду, продолжал оттеснять переднюю часть священника к краю.
— Передохнем, — выдохнул Петя и, бурно дыша, заглянул в лицо батюшке, благо голову его он придерживал на весу. К его ужасу, голова вдруг приоткрыла глаза и рот и стала читать молитву о странствующих и путешествующих.
— Бежим! — крикнул Петя. Он отпустил голову, которая со стальным скрежетом ударилась о край кровати и… замолчала. Петя тем временем добежал до двери и стал рвать на себя ручку, забыв, что она открывает дверь в другую сторону.
— Оглянись! — крикнул ему Василий. — Спит он, спит.
— Вы что орете? — с большим недоумением спросил отворивший дверь Илия. — Еще народ не заснул, а ваши вопли по всему этажу слышны. Ох, накличете дежурного педагога на мою голову.
— Да что твой педагог, — завизжал Петя, размахивая руками, — когда только что Авка проснулся и стал псалмы читать. И если бы я не выронил его говорящую башку, он бы черт знает что мог еще натворить. А этот, — презрительно посмотрел он на Василия, — вместо помощи как завизжит да как бросится орать. Ты его и слышал.
От такой наглости у Василия перехватило горло. Несколько раз он разевал рот, но звуки выходили такие хриплые, что понять ничего было нельзя. Тогда Василий, компенсируя потерянный дар речи, обеими руками схватил Петю за волосы и стал трясти.
Петя от испуга даже плакать не посмел, а в свою очередь, обхватив Василия своими руками, пытался его повалить и высвободиться.
Илия сначала с изумлением наблюдал за возней деловых партнеров, потом к ним присоединился. Кончилось все тем, что они втроем свалились на кровать, кубарем пронеслись над ней и уже вчетвером свалились на пол. Трое упавших быстренько поднялись и, тяжело дыша, стали приводить себя в порядок, в то время как четвертый, вовсе не пострадав от падения, остался мирно спать на полу.
— Дурак ты! — крикнул Петя, предупреждая расспросы Илии. — Это, может, был художественный вымысел. Каждый имеет право на свободное выражение своих мыслей — это у нас в конституции записано. А ты мне рот затыкаешь, волосы вот с корнем вырвал. Уж не демократ ли ты? Или экстремист?
— Не ври! — пробормотал Василий и нагнулся над поверженным священником. — Беремся, иначе до утра не донесем до места.
— Куда же мы его понесем? — задумчиво спросил Илия. — Неужто в самый низ? А может, сначала о деньгах договоримся, а пока он пусть на полу поспит. А мы дверь прикроем на замочек, и никто его не найдет до утра.
— Ты чего? — возмущению Пети не было предела. — Совсем одурел. Его же утром хватятся. А в подвале он может пролежать хоть до следующей весны. Случайных бродяг на территорию не пустят.
— Все это хорошо. Но кто купит русского священника в подштанниках и бороде. Согласитесь, вид не вызывающий уважение.
— Ну что ж, понесли, — вздохнул Василий. По темному коридору они дотянули тело священника до лестницы и остановились перед ней.
— Если его катануть, — прикинул Василий, — можно сразу на два пролета спуститься.
— Мы ему всю голову при вращения тела по ступеням оттяпаем, — возразил Илия.
— Кто его купит без головы? — возмутился Петя. — Стоило полночи так страдать. Давай его, голубчика, посадим, и он у нас съедет как миленький на собственной попе.
Плюм-плюм-плюм — скатился священник сразу на два пролета вниз. Дело чуть было не пошло поживее, но Илия запретил дальнейший аккордный спуск тела.
— Мы бизнесмены, а не лондонские потрошители, — заявил он. — Я уже не знаю, как товар показывать лицом. Неизвестно, сколько мы нанесли священнослужителю внутренних переломов. Нет уж, лучше ты, Петька, бери его все-таки за ноги, а Василий за руки и приподнимайте.
После нескольких бесплодных попыток Пете с Василием удалось приподнять отца Авакума над первой ступенькой, а Илия продернул под ним свернутую ковровую дорожку.
Тотчас тело выскользнуло из ослабевших рук похитителей и торжественно и покорно заскользило вниз. Так постепенно проехали они все четыре этажа, причем Илие казалось, что батюшке даже нравится такое передвижение, во всяком случае, вид у лежащего был вполне умиротворенный.
Однако дело застопорилось. Одна нога отца Авакума застряла между прутьев перил на первом этаже, и развернуть его в таком положении не было никакой возможности. Самое удивительное, что лежащий как бы вверх ногами священник не испытывал от нового своего положения никакого дискомфорта и храпел так, что стонали деревянные перила.
— Сколько мы можем за него получить? — спросил наконец Илия, чьи нервы не выдержали первыми. — И от кого?
— Может, бросить эту жирную свинью прямо в таком положении и пускай выкручивается, будто на амвоне, — поддержал его спровоцированный Василий.
— Может быть, не может быть, — проворчал Илия, — может быть, бумаги ничего не стоят, вся надежда была на батюшку, а он застрял.
— В подвале его тоже долго не удержишь, — рассудительно сказал Петя. — Черт его знает, есть ли покупатели на попов. Повезло нам, надо сказать, с операцией, так не будем дразнить удачу. Пусть батюшка спит, а мы, пока никто нас не застал и не нафискалил, пойдем-ка тоже вздремнем.
Для очистки совести еще раз постарались сдернуть втроем батюшку со ступеньки, но он застрял основательно. Тогда, бросив прощальный взгляд на задравшийся выше колен голубой батюшкин халат и голые ноги, торчащие сквозь прутья перил, злоумышленники запрыгали вверх по лестнице и исчезли за поворотом коридора.
4. ВИДЕНИЕ
Батюшка проснулся оттого, что у него свело судорогой левую ногу, причем так, что ее просто нельзя было повернуть. Он застонал, хотел приподняться, оперся рукой, как он полагал, о матрац и ощутил ребро каменной ступени. Одурманенное сознание батюшки медленно реагировало на ситуацию, но все-таки он почувствовал, что лежит не в кровати. С большим усилием разлепил он глаза, не решаясь шевельнуть головой, которая почему-то болела чуть ли не в десяти отдельных местах, и увидел высоко над собой белый лепной потолок. Чуть скосив глаза, он разглядел знакомые очертания перил с торчащей в них его собственной ногой. Батюшка застонал и попробовал перевернуться. Однако ничего не получилось. Проклятые прутья плотно держали ногу. Он еще раз дернул ей и окончательно пришел в себя. Он лежал на спине вниз головой на лестнице в одном халате, одетом на голое тело, и в громадные окна, распахнутые между этажами, било сияющее утреннее небо. Голова его чувствовала себя так, будто по ней проехал средней тяжести бронетранспортер на гусеничном ходу. Через несколько секунд отец Авакум полностью пришел в себя и стал бешено вырываться из тисков. Что-то хрустнуло, резкая боль пронзила его, но из двух предметов — нога или прут — прут оказался слабее. Отец Авакум перевернулся через голову и упал, освобожденный, навзничь. Рядом со звоном приземлился вырванный с корнем прут.
— Батюшка, вам здесь удобно? — спросил педагога тоненький детский голосок, и отец Авакум увидел над собой склоненную маленькую головенку со вздернутым носом и любопытными глазками. — Вы с пятого этажа упали, да?
Батюшка привстал на колени и застонал, потом, опираясь на ступеньки, перевернулся и сел на нижнюю. Впереди себя он обнаружил несколько выглядывающих из-за двери голов. Когда он обернулся назад, то увидел, что через пролет лестницы глядят на него воспитанники…
«Черт-те что, — подумал педагог. — Я выпил чаю и прилег, потом пошел на вахту… а на кой черт я туда пошел. Познакомиться с новым вахтером? Вроде нет. В любом случае, кроме чаепития, ничего не помню. Однако надо выбираться отсюда».
Отец Авакум встал и, к своему ужасу, увидел, что весь пролет лестницы уже набит школьниками. Некоторые из них смеялись и показывали на полуголого отца Авакума пальцем. Отец Авакум одернул халат, поплотнее завернулся в него и пошире расставил ноги, потому что его сразу стало вести.
Шум и галдеж среди воспитанников интерната вдруг прекратились. С верхнего этажа спускалась делегация. Во главе ее шел директор интерната доктор Лада, с которым у батюшки были весьма натянутые отношения. Оба лидера интерната хотели быть у власти, но не желали ей делиться. До сих пор позиции отца Авакума, как лица духовного, к тому же идеолога Андреевского учения, были крепче, но утреннее лежание на ступеньках явно не добавляло ему авторитета.
Укрепившись у подножия лестницы и держась неприметно одной рукой за перила, отец Авакум собирался для битвы.
«Неужто это он, подлец, мне подсуропил», — с гневом подумал батюшка, но по секундном размышлении эту мысль отверг. Хоть и враг его был директор Лада, однако авторитет преподавателей ценил превыше всего и никогда бы не подставил своего коллегу таким мерзким способом. Однако, несмотря на загадочность происшедшего, одно было неоспоримо: нельзя было никому рассказывать о том, что обыкновенная кружка чая могла привести его на крайнюю ступеньку пролета.
— Дорогой мой! — подлетел к нему бородатый и кудлатый доктор. С ним стояла стайка его ближайших сторонников и последователей, как считал батюшка, еретических учений. — Как вы здесь очутились? Что с вами?
— Чудо! — ответствовал отец Авакум громко и вдруг бестрепетной рукой отодвинул Ладу в сторону и крикнул басом на всю десятипролетную лестницу: — Чудо, дети мои! Внемлите своему пастырю!
— Отец, не надо кричать, — голос Лады скорбно прервался, — вы нас всех с ума сведете своим трагическим состоянием. Я уже послал за доктором.
— Доктора себе оставьте, — отмахнулся отец Авакум и обратился к десяткам любопытных воспитанников, усеявших лестницу. В основном их привело сюда сообщение, что главный их наставник сошел с ума, и батюшка прекрасно это понимал.
— Не просто так оказался я здесь в шесть часов утра, в позе распятого, в унижающем мой сан одеянии, — грянул величественный бас возродившегося священника. — Великое видение было мне этой ночью, и велено с вами всем познанным поделиться.
— Какой старик! — восхищенно воскликнул Илия, стоящий в благоразумном отдалении в окружении верных своих друзей Пети и Василия. — Могучий старик, боец. Уже, кажись, ему хана, только кондрашка осталась, а он выпутывается и еще других топит.
— Но не будем мы с вами нарушать установленные в интернате обычаи, не выветрится с моих уст слово, не уйдет из памяти. Расходитесь с миром по своим спаленкам, готовьтесь к наступающему светлому дню. А вместо обычной ежедневной проповеди после занятий я передам вам новое знание, что посетило меня сегодня.
С этими словами, сопровождаемый покоренными коллегами во главе с директором, никак не способным понять, в чем тут дело, хоть и полагающим, что оно нечисто, батюшка стал подниматься снова по тем ступенькам, по которым его так безжалостно протащили ночью. Дойдя до верха и с каждым шагом освобождая рассудок от дурмана, батюшка с благословениями отпустил преподавателей и вернулся наконец к себе. Не без трепета душевного стал он осматривать комнату, из которой таинственным образом был похищен. Вопреки его ожиданиям нашел он в ней тот обычный порядок, которому следовал в своей армейско-монашеской жизни, только подушка почему-то валялась на полу да был раскрыт один из ящиков письменного стола, где отец Авакум хранил некоторые свои бумаги.
Обозрев поверхностно комнату, бросился отец Авакум к стенке, у которой стоял массивный платяной шкаф, и неожиданно легко отодвинул его. За шкафом в стену был вмонтирован стальной сейф, вот к нему-то в тревоге и устремился священник. Дернув за медную ручку, удостоверился он, что сейф вполне не поврежден и находится взаперти. Закрыв предварительно на задвижку входную дверь, отец Авакум всадил с трудом ключ в сейфную скважину и открыл его. Вполне удовлетворенный осмотром хранящихся в сейфе секретных и ценных бумаг, уже в другом расположении духа он сделал целую серию обратных движений, в результате чего вещи в комнате заняли прежнее положение, а сам он оказался у входа в комнату перед большим четырехугольным зеркалом, в каковое он и заглянул. К своему ужасу, священник, всегда заботящийся о своей внешности и высоко ее ценивший, увидел в зеркале босяка с подбитым глазом, усеянного светло-синими и зелеными пятнами по щекам от многочисленных побоев.
— Что это? — ужаснулся священник, но мужество и тут его не покинуло. Он открыл дверцы письменного стола и достал коробочку с телесного цвета гримом, посредством которого быстренько подкрасил все сомнительные места на своем лице. Как опытный турнирный боец, он любил быть во всеоружии на дискуссиях по богословию и считал, что приятная внешность — это половина успеха. Однако, отправляя обратно грим и другие коробочки, используемые для придания лицу вида мужественного и интеллигентного, он для ревизии открыл другой ящик, в котором хранилась в основном его деловая и хозяйственная переписка. И беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: здесь кто-то постарался.
Похолодев, отец Авакум обнаружил пропажу всей его длительной переписки с управлением питания Монархического Совета, в которой он выбивал для воспитанников продуктовую норму. И вместе с ней, что вообще было удивительно, пропал толстенный, на много сотен страниц, список продуктов питания, предлагаемых интернату едва ли не с момента его организации.
Трудно было предположить, что кто-либо в твердом разуме мог польститься на эти письма или список продуктов, разве только в кабаллических целях, и священник, хваля себя за проницательность, положил при первом удобном случае спрыснуть свою опочивальню святой водой для снятия заговоров и колдовских задумок.
Сколь ни старался, никак не мог он сообразить причину своего перенесения из спальни на каменный пол и свести его с похищением никому не нужных конвертов. Однако решил быть настороже и более никогда не оставлять дверь открытой. Чай же свой он арестовал и положил при первом удобном случае отправить на экспертизу по поводу снотворного. На этом священник досмотр прекратил, поскольку вроде бы все козни врагов были на тот момент раскрыты, да и следовало поразмыслить о предстоящей проповеди.
— Этой ночью, — начал отец Авакум, повернувшись вполоборота к залу и словно всматриваясь куда-то, — совершилось событие необыкновенное, памятью о котором я хочу с вами поделиться. В третьем часу, только смежил я глаза после упорного труда над новой своей рукописью, как упал на мою кровать через окно зеленый световой столб и в нем я увидел человека.
Зал зашевелился. Многие воспитанники пришли послушать обыкновенную субботнюю проповедь и вовсе не ожидали такого таинственного начала. Другие, видевшие или слыхавшие об утреннем пробуждении батюшки, были заинтригованы не меньше.
— Человек был высок и худ, лицо его светилось белизной. Одет он был в полосатый зэковский наряд: куртка да брюки. На голове имел фуражку странного типа. Поманил он меня пальцем за собой, и я, как был в ночном одеянии, за ним пошел. Так в молчании мы шли по тускло освещенному коридору, пока не вышли на свет. И тогда человек сказал: «Узнаешь ли ты меня, батюшка Авакум? Таким ли меня рисуют в букварях и учебниках. Похож ли я на отца своего?» И я его узнал.
Отец Авакум сделал многозначительную паузу, и тишина овладела залом.
— …Стоял передо мной, слегка покачиваясь в воздухе, полупрозрачный и таинственный Даниил, будто только что выпустили его большевики из тюремных ворот и пошел он, голодный и холодный раб божий, неся в своей душе погибель всем воителям христианства. И когда я его узнал, страх у меня почему-то пропал совершенно, потому что то была реакция на невесть откуда возникшее существо.
И я спросил у него: «Святой мученик, что ты хочешь в нашей обители верных тебе и твоему святому учению детей господа нашего?» И он мне ничего не ответил, лишь снова поманил за собой, и так мы шли нескончаемо долго, пока первые утренние лучи не коснулись моего лица. Увидел я себя стоящим на предпоследней ступеньке, а чуть ниже в своей робе застыл мученик и молча на меня смотрел, будто тщился что-то сказать, но губы его были неподвижны и мертвы. Убедившись в невозможности выражения, он только горестно вздохнул, благословил меня троекратным воздушным поцелуем и растаял…
Шелест изумления пронесся по залу. Только из угла, где сидела троица наших старых знакомцев, послышалось приглушенное гоготание.
— Вот он, артист несравненный! — восхищался Илия.
— Из таскания по лестницам целую проповедь сочинил.
— Правильно мы сделали, — добавил расчетливый Петя, — что не продали батюшку туркам. Он бы быстренько принял ислам и такого там наговорил, что турки вернулись бы из нас котлеты делать. — Ты, кстати, с братом разговаривал? — требовательно повернулся Петя к Василию, который один из всех, казалось, не слушал замечательной проповеди, а сидел, потупив взор. Его мучили угрызения совести за поцарапанный нос священника.
— Разговаривал, — тем не менее ответил он Пете. — Брат сказал, что познакомит нас со своим директором и что мы сами сможем ему все передать.
— Что ж ты молчал! — вскинулся Илия. — Два часа сидим на месте, а ты молчишь. Надо как-то из подвала конверты доставать.
— Рано, — сказал Петя, — сейчас после проповеди, наверно, поднимется настоящая суматоха. Лучше подождать два-три дня, пока вся эта история не забудется.
Отец Авакум выждал момент, пока крики изумления и гомон стихли.
— Великое свидетельство истинности нашего пути — вот что знаменует видение, — определил я для себя в бдении. В чем же глубинные истоки наших подвижек? — спросил сам себя батюшка Авакум и ответил: — В апокрифическом следовании заветам отца нашего Святого Даниила о воспитании облагороженного человека. Только наш интернат предлагает цели, ради которых стоит большую часть времени проводить в его стенах. Мы формируем личность нового мира, в котором не должно быть ни воинской повинности, ни гонки вооружений, ни соревнований между политико-экономическими системами. Мы хотим и все для этого делаем, чтобы интернат стал вашей семьей, а сами вы между собой братьями. Цель наша — воспитать адептов, которые смогут заменить в стране принуждение — добровольностью, окрики внешнего закона — голосом глубокой совести, а государство — братством. Есть вечные вопросы, от правильного ответа на которые зависит, быть или не быть нашей стране и всей мировой цивилизации; на них не может ответить наука, а тем более практически их не решить.
Существует ли Первопричина, Творец, Бог — науке неизвестно. Существует ли душа или что-то подобное ей, и бессмертна ли она — наука не знает. Что такое время, пространство, материя, энергия — об этом мнения резко расходятся. Вечен ли и бесконечен мир или, напротив, ограничен во времени и пространстве? Материала для твердого ответа на эти вопросы у науки не имеется. Ради чего я должен делать добро, а не зло, если зло мне нравится, а от наказания я могу уберечься? Ответы невразумительны совершенно. Как воспользоваться наукой, чтобы предотвратить возможность войн и тирании? Молчание. Как достичь с наименьшим числом Жертв социальной гармонии? Выдвигаются взаимоисключающие предложения. Но мы знаем, что искомые ответы могут быть получены не на основе так называемого научного мировоззрения, а на приобщении к духовному миру, на осуществлении во всех сферах жизни завета деятельной и творческой любви.
Мы готовим из вас праведников, которые в грядущем возглавят объединенное человечество, усилят дух всемирного братства и ослабят насилие государства. Образовался гигантский вакуум духовности, и вы призваны его заполнить. Наш интернат — это лоно творческих сил, в которых вызреет предопределенная к рождению всечеловеческая панрелигия.
Выпалив одним махом все эти поучительные сведения, отец Авакум замолк, вытер пот с лица и заглушил самодовольную улыбку. Ряды ошарашенных слушателей зашевелились, послышался говор и смех.
«Подождите, голубчики, — подумал отец Авакум, — я вас сейчас заглушу до конца. Забудете, в каком виде нашли вы наставника своего. Но какая же сволочь меня усыпила и так обработала?»
— Сидеть! — крикнул отец Авакум трубным гласом. — Ишь задергались, архаровцы. Каждый ли день вам является откровение. И похожи ли вы на тех спасительных отроков, о которых вещал учитель наш святой? Пусть каждый себя спросит и найдет ответ в сердце своем.
Устыдив школяров и установив полную тишину и порядок, отец Авакум продолжал:
— Вам предстоит орошать и озеленять пустыни, комплексно, всесторонне преобразовывать огромные площади земной поверхности, поворачивать русла рек, недоповернутых прежними поколениями, утеплять области и зоны вечной мерзлоты, расчищать леса, связывать вдоль и поперек материки меридианными и широтными трансконтинентальными железнодорожными магистралями.
Вы выведете народы из стран, страдающих от перенаселения, на свободные земли других государств. Жилье станет в равной мере отвечать равным потребностям живущих. Любой из граждан независимо от нации, местожительства, рода занятий будет обеспечен так, чтобы полностью были удовлетворены основные его потребности в материальной и духовной пище.
Каким же образом водворится всеобщее материальное благосостояние и гармонизируется человеческое общество? Не удивлюсь, если вы с нетерпением ждете ответа на мой вопрос, — иезуитски улыбнулся батюшка и хитро оглядел собравшихся.
— Просвети, батюшка, страждущих, — елейно пропищал один из ближайших прихлебателей священника.
— Просвети!.. Свети!.. Свети!.. — понеслось над лестницей многоголосое эхо.
— Вероятно, Роза Мира будет приходить к контролю над государственной властью разновременно в различных странах. Несомненно, что уже в самом ближайшем времени она победит в Великой Российской империи, откуда и начала свой победоносный путь. Вообще приход Розы Мира ни в чем не ограничивает режимы суверенных государств, в конституции будет включаться лишь один пункт, оговаривающий признание самой ее как инстанции, ограничивающей государственный суверенитет.
То же самое относится и к социально-экономической структуре отдельных стран. Социализируясь, они будут реорганизовывать частные предприятия в ассоциации свободных производителей. Взимание средств с населения останется в форме универсального прогрессивного налога, когда основная его часть станет направляться государству.
Единственным препятствием для функционирования политических партий будет повсеместный их агрессивно-национальный, агрессивно-классовый или агрессивно-религиозный характер. Квалифицировать ту или иную партию как агрессивную будут иметь право только инстанции самой Розы Мира. Впрочем, Роза Мира никогда не ставила своей целью запрещать что-либо, поэтому партиям будет разрешено все за исключением: проведения собраний, регистрации членов, устной и письменной пропаганды.
На высшей стадии мировые государства преобразуются во Всемирное Братство с единообразным административно-политическим устройством, лишь с минимальными местными уклонениями. Таким образом, Роза Мира, как всемирно разветвленная организация, придет к контролю над властью во всемирном масштабе. Во избежание перепроизводства фактически неисчерпаемые средства можно и должно будет обратить на задачи религиозно-культурного строительства.
Вот то немногое, что должен был я поведать вам, — не в состоянии более ворочать языком стал закругляться батюшка. — Приближается к концу мое немощное изложение откровения, но неиссякаема мудрость гениальной Розы Мира. Святой Даниил вполне отдавал себе отчет в ее чрезвычайной сложности и в том, насколько мало найдется людей, чья духовная потребность была бы достаточно сильна, чтобы заставить их преодолеть трудности этой книги. Вместе с тем еще три поколения назад он предвидел приход истолкователей и популяризаторов. Ваш приход. Вооруженные великой теорией, вы поведете за собой массы воплощать заветы святого провидца.
«Благословенна желанная встреча в зените!» — пропоете вы ему, и святой снизойдет к вам, как снизошел он ко мне.
Но и на этом проповедник не закончил, а совершенно внезапно для пущего эффекта вдруг продекламировал отрывок из поэмы Даниила Андреева «Навна».
В небе России, в лазури бездонной Ждут зарождающиеся миры, И ни Тимуры, ни Ассаргадоны Не загасят их лучистой игры. О, наступающий век! Упованье Гимны за гимнами шлет на уста, — Многолучистых светил рассветанье! Всечеловеческих братств полнота!5. РАССЛЕДОВАНИЕ
В отличие от школяров, которые всему поверили и все забыли, доктор Лада не принял на веру ни одного слова, сказанного Авакумом. Его ледяной ум оценил так же высоко, как и Илия, единственно возможный ход священника. С самого основания лицея между ним и священником шла скрытая война за влияние на умы и сердца воспитанников, а также и за то, кому представлять интернат во внешнем мире. И сейчас он, несмотря на поздний час, тщательно анализировал, что же все-таки произошло со священником и как можно это таинственное происшествие перевернуть в свою пользу. Справедливо полагая, что в разговоре люди, даже самые умные, тайно от себя проговариваются, он сразу же после божественного откровения, которое выплеснул отец Авакум на головы почтительных учеников, направился к нему с распростертыми объятиями и пригласил на чашечку чая вместе с коллегами по учебной работе.
Лада понимал, конечно, что Авакума на кривой козе не объедешь, но надеялся, что потрясения предыдущей ночи не прошли для священника даром и лишили его обычной осторожности. Тем более пока отец Авакум разглагольствовал, пришли и продолжали потихоньку собираться новые факты о ночной активности вокруг него. Один из уборщиков нашел на ступеньке верхнего, четвертого этажа туфлю, которая по всей видимости принадлежала Авакуму и была им сброшена или с него снята. Во время проповеди по приказанию Лады вошли тайно в комнаты отца Авакума два близких и преданных директору человека, которые тщательнейшим образом обследовали всю квартиру и нашли в ней присутствие не столько духов, сколько вполне материальных существ. Перевернутый стул, сброшенный второй тапок и несвойственный аккуратисту-священнику беспорядок в постели и на письменном столе могли означать только одно: на отца Авакума напали во время сна, видимо, пытали, стараясь выжать из него высокой цены предмет или информацию, а затем его сбросили с лестницы, рассчитывая, что он сломает себе шею. И если отец Авакум начисто отрицал ночной разбой и насилие, то за этим непреложно что-то крылось.
Быстрый приход священника не позволил Ладе обобщить полученную информацию. Ему пришлось играть роль радушного хозяина, а она забирает человека целиком.
По случаю явления святого подвижника, духовного основателя интерната, стол накрыли в актовом зале. Из приглашенных были в основном светские учителя. Отец Авакум, оголодав за целый день, проведенный на виду у школы, сразу наложил себе целую тарелку еды и стал ее уплетать, одновременно с интересом прислушиваясь к разговорам, которые прямо или косвенно вернулись к событиям прошедшей ночи, точнее, венчающей ее третьей части, когда он был найден поврежденный, но живой на лестнице.
Заморив червячка, священнослужитель приготовился к атакам, которые не заставили себя ждать. С бокалом в руке поднялся доктор Лада.
— Наш дорогой и любимый друг… — начал он столь торжественно, что отец Авакум подумал: «Словно некролог зачитывает, не хватает гроба и отверзлой могилы» — …нет слов, чтобы передать охватившую всех нас радость, когда посредством твоего общения со святым и очень быстро исчезнувшим духом мы узнали, что сам святой Даниил уверен в правильности избранного нами пути. Твоя полная дивного красноречия речь написана поистине широкими мазками и узнать бы хотелось более подробно, как проходил визит столь почтенного гостя.
«Начинается, — подумал отец Авакум, — да ладно, мы тоже не лыком шиты. И вся прелесть видений в том, что на них засыпаться невозможно: что хочу, то и ворочу!»
— С удовольствием отвечу на ваши вопросы, — сказал отец Авакум, тонко улыбаясь, — тем более что народ заявил мне о желании увековечить явление мне святого Даниила в камне, используя как помещение, ну скажем, часть вашего кабинета. — И он усмехнулся Ладе в хмурое лицо.
— Итак, вопрос первый, — сказал Лада, — не откроете ли вы мне, в какое конкретно время произошло то самое знаменитое событие?
— Я во сне часов не ношу, — отпарировал после короткого раздумья отец Авакум. — Лег я после двух, стало быть, между тремя и четырьмя.
— Вы говорили, что на призраке была полосатая роба с нашивками. Разглядели ли вы, в каком месте на куртке была изображена мишень?
— Эта куртка не походила ни на один известный мне образец. Наверно, в небесном ателье святому сшили что-то на заказ.
— Всем известно, что святой при жизни чуть заикался, сохранилась ли эта особенность речи при вашей беседе? — поинтересовался длиннобородый преподаватель основ всемирной религии, единственный священник, не считая самого Авакума.
— Святой изъяснялся на прекрасном русском языке, правда, со свойственными только ему канцеляризмами. Видно, заикание за столько лет божественного служения улетучилось, — получай, казалось, крикнул батюшка, вперяя в вопрошающего свирепый взгляд.
Получив три абсолютно достоверных и честных ответа, Лада приуныл, но ненадолго. Он оставил веселую компанию доедать банкетную снедь и сласти, а сам вернулся в свой небольшой прекрасно оборудованный кабинет и вызвал к себе доверенного воспитателя.
Тотчас тонкой струйкой потянулись в кабинет воспитанники, чьи спальни были расположены в одном крыле со спальней отца Авакума. Директор задавал ученикам стандартные вопросы и следил не столько за фонетикой ответа, сколько за модуляциями голоса и движением лицевых мышц школяров. Уже на четвертом ему повезло. Им оказался Петя, который возлежал на своей кровати в спальне, когда наряженный Ладой воспитатель вытащил его на допрос.
— Ты ночевал у себя в спальне? — задал директор вовсе невинный и единственно верный вопрос, от которого у Пети огнем запылали уши и далее волна алого цвета дошла до основания шеи.
— Конечно, — утвердительно замахал башкой Петя, — в спальне, где же еще? Я только раз в неделю, по воскресеньям, ухожу домой, а эту ночь, как обычно, провел в койке, да и спал как убитый, ничего не помню.
— Один тоже ничего не помнил, пока к нему с небес сам Даниил не спрыгнул, — ухмыльнулся доктор Лада. — К тебе ночью никто из святых наших не являлся: ни Солженицын? Ни Сахаров? Ни святой Алексий?
— Спал я, — повторил Петя упрямо. — Спал без задних ног. Ничего не помню. Никто не являлся.
— А вот твои товарищи докладывают иное, — строго сказал воспитатель, который расспросил дюжину Петиных знакомцев по комнате, прежде чем его пригласить с собой. — Говорят, не было тебя ночью в спальне и товарищей твоих не было. Будто явились втроем только под утро и вид у вас был как у нашкодивших псов.
Раз за разом употреблял профессор свой вопрос, и вдруг он «сработал». Трусливый Петя начал «колоться». Правда, делал он это очень аккуратно, не теряя долларовой перспективы.
— Зарок я дал, — твердил Петя упрямо. — Не открывать ничего, что видел. Вы нас, — обратился он с укоризной к директору, — Станислав Егорыч, сами учите правде и слово держать. Как же я солгу перед товарищами своими.
Делать нечего, директор распорядился привести товарищей. Привели, но не тех. Тут ошибся уже служка. Он снял двух с ближайших коек. Эти двое разом сознались, что они и есть ближайшие и единственные Петины друзья. Петю все очень уважали, так как он единственный в интернате был сын генерала. И внешность соответствующую имел.
Целый час убил на них Лада, пытаясь выяснить, что они делали ночью, причем злокозненный Петя утверждал, что немедленно все расскажет, как только его товарищи сознаются.
Однако мальчики оказались крепкими орешками, потому что в самом деле спали мертвым сном и ни о чем не ведали.
Наконец Лада сказал им вот что:
— Я и подумать не мог, что ложь и злокозненность так далеко успели пролезть в ваши юные души. Скажите мне, ради чего я трачу на вас свое академическое время, когда я мог бы сейчас возглавлять педагогическую миссию в Париже или, скажем, на Сейшельских островах, где круглосуточно в течение всего года стоит тропическая температура двадцать восемь градусов в тени, где бродят очаровательные светло-коричневые, как шоколадное эскимо, аборигенки.
Я изучил досье на каждого из вас. Вот вы, Сморчевский, любите Алину из параллельного шестого «б», а вы, Ботинкин, больше жизни помешаны на воскресных кремах и джемах. За ваше несносное поведение, за ложь и предательство данииловских традиций я мог бы выслать вас вон из интерната, и если я не делаю этого, то только в надежде, что вы исправитесь, перестанете болтать о том глубоком сне, в котором вы якобы находились, и честно опишете свои ночные приключения.
Если же вы будете упорствовать, мы перейдем к иным методам воздействия, — со всей возможной строгостью в голосе стал угрожать Лада, смутно представляя, что же делать дальше.
Но никакие угрозы не могли заставить честных мальчиков признаться в том, о чем они не ведали.
В этот момент воспитатель, видя, что педагогические теории никак не помогают в допросе, притворно сделал круглые глаза и произнес удивленно:
— Позвольте, да Петя вовсе не с ними дружит.
— Кого же ты мне прислал? — взревел Лада, но педагога не тронул, только велел быстренько бежать в спальню и привести кого надо.
Илия и Василий, увидев Петю в директорском кабинете, оторопели.
— Предатель, — прошипел Илия, но Петя только передернул плечами.
— Станислав Егорыч, — поспешно обратился Петя к Ладе. — Я от своих слов не отказываюсь. Как только мои товарищи скажут вам, где мы с ними ночью побывали, я все, что знаю, добавлю.
Илия запустил в Петю возмущенный взгляд из-под густых красивых ресниц, оценив способ передачи информации.
— Но почему же ты, — спросил Лада устало, обращаясь к Петру. — Почему ты сразу не предупредил меня, что приходившие раньше два школьника не те, с которыми ты провел всю ночь?
— Разве вы мне бы поверили? — удивился Петя. Оценив ситуацию и даже определив метод, которым всю его шайку вычислили, Илия вдруг с размаху бросился на колени и завопил:
— Прости меня, святой Даниил, за то, что тайну твою выдаю.
Далее Илия безо всяких расспросов поведал изумленному Ладе, что вчера в три часа ночи, выйдя с товарищами по малой нужде, увидели они свет, исходящий из двери отца Авакума, такой нестерпимой яркости, что закрылись сами собой глаза, а когда они их открыли, то увидели, как в обнимку с батюшкой идет вниз некто во всем полосатом, как матрац. Они-де проводили святой призрак вниз до выхода на улицу, а затем, чтобы не смущать воскресшего духом Авакума, удалились с большой осторожностью к себе в спальню, где тотчас заснули.
Выслушав его версию, Петя чуть заметно кивнул, давая понять, что в сторону не уйдет. При этом он осторожно показал на Василия, которого надо было контролировать.
Лада мог только руками развести. На какое-то мгновение он поддался соблазнительной мысли, что в самом деле некто в полосатом посетил ночью священника, но потом вспомнил его рябое, хитрое лицо и усомнился. Но и поверить, что священник сговорился с детьми, он тоже не мог. Ведь в таком случае дети были бы должны сами распространять слухи о божественном видении, а не прятаться от директора. Оставалось последнее средство — пригласить отца Авакума и устроить всем четверым очную ставку.
Священнослужитель, торжествующий свою победу над мальчишкой, как он называл Ладу, был также изъяснениями Илии весьма поражен. Тотчас в уме у него составилось объяснение многим малопонятным прежде событиям. Однако под пристальным взглядом директора мог он лишь принять по возможности скромный вид и только изредка осаживал Илию гневными взглядами. По всему интернату прокатилась волна изумления, и трое наших героев стали самыми знаменитыми после отца Авакума людьми.
На следующий день после уроков батюшка вызвал троих своих адептов в ту самую спаленку, из которой был ими унесен. Пришел только один Илия, потому что Петя и Василий выступали с отчетом у старшеклассников, которые с большим скепсисом отнеслись к их рассказу и разными коварными вопросами пытались сбить их с толку. Когда отец Авакум повернул к Илие свое лицо, мальчик чуть не прикусил язык от изумления. Лицо отца Авакума было сплошь зеленым, как огурец. Только красный нос торчал среди ровного зеленого цвета щек и подбородка. Это отец Авакум лечил свои ушибы специальным огуречным бальзамом.
«Сейчас будет пытать о документах», — решил Илия, и твердое намерение не выдавать себя отразилось на его замкнутом лице.
Однако отец Авакум вовсе был не такой дурак. Уже все он понимал, даже каким образом удалось его усыпить, только никак он не мог найти форму, при которой мог бы зайти разговор о документах. Начать такой разговор было для него равносильно саморазоблачению, потому что явно выказалось бы то, что при всей ясности как для него, так и для мальчика было выгодно обоим держать глубоко внутри себя.
Поэтому отец Авакум приступил совсем с другой стороны.
— Я хочу с тобой посоветоваться, — сказал он мальчику, — потому что твердо уверен в твоем уме и скромности. — Есть у меня подозрение, что некоторые наши педагоги используют злонамеренно наш интернат для совсем других несвойственных ему задач. Ты ведь не генеральский сын, как Петр, чья карьера видна невооруженным глазом. Однако же и не безродный сын, вроде Васи, который в лучшем случае может рассчитывать на должность писца в департаменте педагогики, и то если будет ноги пошире расставлять и задницу свою не беречь. Тебе же нужен покровитель, который сможет обратить тебе же в пользу твои несомненные способности и некоторую склонность к авантюризму. Что я под этим понимаю, ясно и тебе и мне, и мы поговорим на эту тему как-нибудь позднее, когда, во всяком случае, сойдут синяки с моего лица и я смогу появляться на людях без грима.
При этих словах Илия скромно потупился, однако тень злорадства пробежала в его прекрасных глазах.
Священник сделал вид, будто ничего не заметил, и продолжал:
— Ты знаешь, что в планы наши входит посыл эмиссаров Всемирного Братства во все страны мира, и выбираться они будут из числа выпускников интерната. Твой покорный слуга не последнюю роль сыграет в отборе таких посланцев, и если ты поможешь мне своими наблюдениями, а учишься ты прекрасно, то я буду ходатайствовать, чтобы именно на тебя пал выбор при посылке делегации, например, в Париж или в Варшаву. От тебя мне надо совсем немного. Я хочу, чтобы ты вместе со своими друзьями взял под наблюдение нового вахтера, который принят почему-то по личной протекции нашего ученого директора и по внешности скорее похож на боксера-тяжеловеса, чем на скромного сторожа. Дошли до меня слухи, что по поводу и без он частенько шляется в школьные подвалы, и это рождает во мне тревогу. Как только в котельной навесят новые двери, тоже директорский прожект, я тотчас дам тебе ключи от нее и попрошу как-нибудь вечерком полазать по подвалу. Обо всем, что вы там найдете, просьба докладывать мне.
Услышав последнюю фразу, Илия похолодел. В словах священника присутствовал явный намек на то, что тот знает, где находятся похищенные документы.
Спасительный стук в дверь прервал переговоры. Вошел директорский служка в рваных тренировочных брюках и футболке и сухо предложил батюшке пройти опять к директору для конфиденциальной беседы.
— Вот ему неймется, — чуть не ругнулся бывший советник юстиции второго класса, но вовремя удержался.
Он быстренько выпроводил Илию и, велев ему явиться двумя часами позже для продолжения душеспасительной беседы, внимательно запер дверь на все замки, после недавних событий батюшка стал архиосторожен.
Идя вслед тощему служке и любуясь дыркой на его ветхих тренировках, отец Авакум подумал с неприязнью:
«Ишь выделывается, бессребреник! И слуг себе подобрал под стать. Дырка на дырке; Все хочет показать, что он не такой, как все мы, грешные».
На мгновение даже мелькнула у отца Авакума соблазнительная мысль пренебречь приглашением, то есть показать директору фигу, но, рассудив, что в нынешней скользкой ситуации ему брыкаться не след, отец Авакум утешил себя мыслью, что завтра пойдет куда надо и там в очередной раз выразит сожаление по поводу экстравагантных директорских выходок и более чем прохладного отношения к религии. Там, в департаменте по делам религий, его всегда понимали.
Проходя по коридору, батюшка заметил, что со всех сторон на него устремляются любопытные, но без искры почтения, а скорее развеселые взгляды воспитанников. Не в силах воспринять этого странного веселья, он как-то отмахивался от непочтительных глаз, когда уже у директорского кабинета на него натолкнулись две малявки лет восьми. Взглянув разом ему в лицо, малютки вдруг присели и залились таким веселым переливчатым смехом, который стены интерната, может быть, никогда и не слышали. И тут отец Авакум сообразил, что в спешке он не снял с лица огуречный компресс и только его сан и повсеместное уважение удерживало встречных от насмешек над ним.
«Экого же я клоуна сыграл», — подумал батюшка и заметался по коридору в поисках туалетной комнаты. К счастью, дверь с надписью «М» оказалась совсем рядом, батюшка влетел в нее и вышел совсем другим человеком.
— Что же ты, чижик-пыжик, меня не предупредил, — дернул батюшка служку за плечо. — Ну ты, ядовитый сморчок, набить бы тебе морду, да сан не позволяет.
Служка не отвечал, только один раз поднял на батюшку маленькие черные глазки, полные змеиной злобы. Отец Авакум, не тратя лишних слов, пнул нахала сапогом в рваный зад и прошел в кабинет.
Лада встретил его сухо, кивнул на кресло у стены, изучая по-прежнему какой-то лист, весь заполненный нервными каракулями, курил тонкую женскую сигаретку, с которой медленно стекал ментоловый дымок. Батюшка против обыкновения не возмущался, молча ждал, собираясь, как кот, для защиты.
Наконец директор отложил в сторону письмо, взял заранее приготовленную книгу и протянул ее Авакуму.
— Вам, как главному наставнику нравственности, хочу я книгу презентовать, — сказал он, — философа Платона. На греческом изданную, так что для вас труда ее прочесть не составит.
Священник рассыпался в благодарностях, Лада выслушал его молча и продолжал:
— Когда наша цивилизация утратила Прометеев порыв и упала на полпути, единственный способ привести ее в движение — это воспитать творческих личностей, которые смогут дать ей движение, — он забрал с извинениями книжку у отца Авакума и привычным жестом раскрыл ее… и зачитал: — «…личности, способные перенести божественный огонь из одной души в другую, подобно свету, засиявшему от искры огня». Вот таких личностей мы с вами и воспитываем, не правда ли?
Священнику ничего не оставалось делать, как кивком головы подтвердить свое согласие.
— И наше совершенство не возможно, — продолжал Лада, — пока мы одиноки на своем пути. — Речь давалась ему с трудом. Видно было, что он очень взволнован. — Мы обязаны даже ценой каких-то личных утрат и потерь в собственном развитии мобилизовать всех, чтобы вести по пути совершенства. Вы следите за моей мыслью?
И вновь священник утвердительно кивнул.
— Я рад, что вы согласны со мной, но мне кажется согласие ваше вынужденным, неискренним. Потому что, если вы мыслите так же, как и я, то каким образом совмещаются наши педагогические идеи с применением телесных наказаний, которые вы ввели в практику интерната? Или вы хотите сказать, что подобным образом решаете задачу, как войти с воспитанниками в интеллектуальный союз. Молчите пока, не отвечайте.
Мир, в котором предстоит жить и трудиться нашим ученикам, — это общество простых, обычных людей. Задача творческих личностей в том и заключается, чтобы массу заурядных людей превратить в своих последователей, активизировать Россию, направить ее к цели всемирного объединения. В этом основное отличие идей нашего интерната от проповедей, скажем, Лицея. Если мы хотим из России делать часть всего мира, то они, наоборот, весь мир хотят превратить в Римскую провинцию.
Но мне неприемлемы ваши методы активизации творческой активности, основанные, мягко говоря, на неправде.
Лада прямо взглянул в глаза священника. Тот скучающим движением прикрыл рот и зевнул. Его расслабленность была мнимой.
— Слишком редки и чудесны явления святого в мире, чтобы я поверил вам. Кроме того, духовный опыт учит, что тот, кто общается со святыми, приобретает внутреннюю духовную благодать. Простите, но вы как-то не изменились. Может быть, я не прав, но согласитесь, что для меня ваше объяснение выглядит неубедительным. Я уже не говорю о внешних деталях, но почему святой должен был прокатить вас по лестнице и ушибить на каждой ступени?
Я ни одним словом не показал и не покажу, что ваш религиозный опыт — просто миф. Я не буду разочаровывать ту часть учеников, которая поверила вам, и не буду потрафлять другой части, которая знает вас как священника, не вполне готового для принятия благодати. Но есть еще одна сторона, не рассмотрев которую мы не сможем идти одним путем. И здесь я хотел бы от вас большой искренности. Вы сложившийся человек, но в эту… историю как-то оказались замешаны дети. Я после неоднократных разговоров и с ними, и с вами так и не смог понять, почему они с достойным сожаления упорством настаивают, что видели вас в обществе нашего великого предтечи. Если вам было видение, то это явление нематериального порядка, и практически исключено, что оно же показалось троим случайно оказавшимся в коридоре ученикам. Или вы хотите сказать, что божие провидение специально вызвало у них позыв, не найдя другого способа выманивания их из спальни!
— Вы очень опасный человек, — ответил священник после недолгой паузы. — Я знаю, что вы сейчас подумали. Вы подумали о том, что этими словами я признал свое поражение, что я сознался. Сознался в том, что придумал видение, чтобы скрыть какую-то безмерно гадкую, случившуюся со мной историю, сознался в духовном совращении трех отроков, потому что в самом деле надо пройти сильную дрессуру, чтобы вот так непокоренно стоять на своем, как это делают они. Но вы рано расслабились. Называя вас опасным человеком, я имею в виду совсем другое.
Священник встал, нервно зашагал по комнате, уже не пряча в сторону свое разбитое лицо, взяв в руки даренное сочинение Платона на неведомом ему греческом.
— Вы схоласт, — определил он, даже с какой-то жалостью вглядываясь в правильное, сильное лицо Лады. — Вы в самом деле только тот, кто вы есть, — доктор теологии. Но в вас нет главного и никогда не будет, хотя бы вы изучили греческий почище Платона и изъяснялись на латыни красноречивее Цицерона. В вас нет терпимости и веры. И все ваши замечательные таланты и качества ничего не значат, попросту стираются отсутствием этих двух первейших свойств натуры, которые можно найти в самых простых и невежественных семьях. Именно этим объясняется ваша нетерпимость ко всем, кто не разделяет полностью ваших воззрений и методов, иначе говоря, осмеливается мыслить по-своему.
В самом деле, вы застаете меня, при всех наших разногласиях и обидах равного вам и делающего одно дело воспитателя, в положении экстраординарном, но какие выводы и поступки вы совершаете? Вы не думаете о том, что меня постигло несчастье, удар, безумие, болезнь, кара за грехи или приступ отчаянной тоски. Вы сразу ищите в моих поступках голый уголовный сюжет и проводите тупое до идиотизма расследование, потому что вы мыслите не как деятельный и чувствующий человек, а как идеалист, полагающийся только на правильность своих серых теорий. Вы не осмыслили картину широко, вы не подумали, а как я так выпытываю, что это за человек, который интригует против меня, который вводит другие методы и системы управления и воспитания. Но этот человек прошел путь от старшины во второй Крымской войне до советника юстиции во время татарского нашествия и ни разу, ни под каким обстрелом не праздновал труса.
6. СУББОТНИК
Данииловские субботники проводились не раз в год, в апреле, как это было принято в доперестроечные времена, а каждую вторую неделю месяца на протяжении всего учебного года. Они служили превращению интерната с прилегающей к нему территорией в город веры — Верград. Верград, как и было положено, имел свой храм Солнца Мира — учебный корпус; систему парков, водоемов, улиц, рощ и площадей в виде размеченных колышками с когда-то натянутыми на них веревками клочков земли и проплешин в чахлой растительности приинтернатского участка. Мистериалами, медитериями, театрами, музеями, храмами синклитов и стихиалей служили помещения интерната и будочки, там и сям раскинутые на участке.
Субботник начался, как обычно, с чтения вслух глашатаем вывешенной на доске почета директорской диспозиции. Действия каждой группы, каждого класса были расписаны в ней до мельчайших подробностей. Выслушав указания, относящиеся к их классу, Петя, Илия и Василий узнали, что надлежит им трудиться в саду, убирать всякий хлам, скопившийся за зиму, и окапывать деревья, чтобы почва вокруг них была рыхлой и пропускала влагу к корням.
— Что меня больше всего умиляет в нашем директоре, это его умение развести тягомотину на ровном месте. Написал бы коротко: шестой «а» — уборка сада и прилегающих к нему территорий, — сплюнул Илия.
— Он по-русски писать не умеет, — обронил ворчливо Петя.
Бедный мальчик держал, как ружье, на плече штыковую лопату, отчего его толстый живот выпятился над брюками, как тыква. Василий по своему обыкновению промолчал и ждал, что предложат ему друзья. Ждать пришлось недолго. Только вышли они в сад, украшенный обломками ветвей и кустов, листами бумаги и ржавым железом, как Илия спросил:
— Скажите, други, а входит ли в понятие прилегающей территории наш интернатский подвал? А если входит, то не нуждается ли он в уборке и очистке, как это явно указано в диспозиции нашего крупнейшего теоретика господина Лады.
— И не отсырели ли там некоторые, принадлежащие славному шестому «а» бумаги, добытые ох в нелегкой борьбе, — дополнил его Петя.
— Ты понял нас, друг Вася, — добавил Илия строго.
— Как только углубимся мы в землю, кому-то придется сгинуть незаметно с глаз долой и вытащить из-за фундамента некоторые документы. Неделя уже прошла с достопамятного события, и пора бы приступать к реализации второй части нашего плана.
И тотчас Илия вонзил лопату прямо под корень с вызывающим видом кривившейся яблони и потер одну руку о другую. Дело шло быстро, солнышко пригревало, рыхление совершалось по всем правилам, то есть рыхлились и земля, и корни растения. Постепенно ребята отдалялись от основной массы копающих, пока наконец не оказались скрыты от них невысоким, но вовсю зеленеющим кустарником. Тут они сразу остановились, воткнули лопаты под углом в землю и уселись на ухоженной природой травке.
— Петьку посылать нельзя, — проанализировал обстановку Илия, — его с любой точки интерната видно. Здоровенная мишень, — и он посмотрел на друга даже с некоторым удивлением. — Я, конечно, не такой приметный, но зато неуклюжий. Бегаю плохо и вообще больше на словах мастак, а с физическим воспитанием знаком слабо. Так что дерзай, друг Василий.
— Используй естественный рельеф местности, — порекомендовал Петя авторитетно. — Как увидишь канаву, сразу в нее прыгай. Кусты не обходи, чем ты ближе к кусту, тем безопаснее. А мы тут за тебя три нормы дадим! — С этими словами Петя с размаху всадил свою лопату так далеко и глубоко в землю, что не удержался и полетел на землю вслед за ней.
— Небольшой обвальчик, — прокомментировал Илия это незаурядное событие, — не обращай внимание, Вася. Ждем.
Василий дернул между деревьями наискосок к желтому зданию интерната и быстренько исчез за невысокой насыпью. Проводив его взглядом, Илия обернулся к лежащему на животе Петру, который, казалось, чувствовал себя на земле так уютно, что вовсе не пытался с нее подняться.
— Ты это брось, — сказал Илия грозно. — Прекращай с самого начала отлынивать. Сказано начальством рыть, так ты рой. Иначе нас быстро определят. Мы с тобой у Авки итак на самом плохом счету, а если с субботником облажаемся, хрен поедем на каникулы. Да вставай ты, корова среднеземноморская!
— Лопату ищу, — прохрипел Петя, поворачиваясь на бок и роясь в земле. — Только что здесь была.
— Не дури, — погрозил ему Илия, и вдруг на его глазах Петр исчез с поверхности земли. Вместо него образовалась порядочная дырка метра полтора диаметром, и снизу чуть придушенный голос спросил:
— Батюшки, где же я?
— Не дури, — повторил Илия, но как-то растерянно. Он подошел аккуратно к краю вдруг образовавшегося кратера, заглянул вниз. В дырке было совсем темно и тихо.
— Петя, где ты? — спросил Илия ласково. — Подай голос, деточка.
Из края дыры показалась рука и протянула Илие что-то завернутое в промасленную бумагу. Машинально Илия принял это «что-то» и отложил.
— Петр, вылезай! — прокричал он, уже находясь в состоянии легкой тревоги. И снова из дыры поднялась рука и передала ему на этот раз нечто тяжелое и продолговатое, тоже завернутое, только не в бумагу, а в тряпки.
— Тут этого много! — ликующий голос Пети поднялся из-под земли. — Как ты думаешь, что это такое?
— Сейчас посмотрим, — бодро сказал Илия, присел на корточки и стал распаковывать завернутый в бумагу предмет, в то время как из-под земли продолжали вышвыриваться самой разной формы и упаковки предметы. Однако, развернув предмет, Илия почему-то ему не обрадовался, а отбросил тем жестом, каким избавляются от ядовитых пауков или тараканов.
Тотчас подлетел он к яме и заорал не своим голосом:
— Перестань бросаться, идиот, всех нас взорвешь, вылезай немедленно!
Петина реакция на опасность всегда поражала окружающих. И еще не успели последние звуки сорваться с губ Илии, как обе руки поднялись из ямы и решительно оперлись на ее край. Послышался звук, будто лопнул мешок с картошкой, и целые потоки земли покатились в яму.
— Засыпает! — закричал Петя звонким до неузнаваемости голосом, и снова две его руки уже в полном отчаянии вылетели из-под земли.
На этот раз Илия не медлил. Схватив лопату, он сунул черенок гребущим воздух рукам и стал тянуть изо всех сил, не уставая при этом проклинать Петиных родителей чуть ли не до десятого колена за то, что они родили такого придурка, как Петя, и не удушили его в колыбели. Уже и сам Петя показался над ямой, держась обеими руками за лопату. На лице его было написано то же задумчивое выражение, как перед походом за документами. Он явно считал будущие дивиденды. Тоненький Илия, как ни старался, не мог вытащить бугая Петю наружу. Тот сначала застрял над обсыпающимся краем ямы, потом медленно стал сползать назад. В этот момент Илия ощутил столь необходимую ему поддержку. Это вернулся Василий, и тотчас объединенными усилиями они выволокли Петю наверх.
— Принес? — спросил Илия, и Василий коротко кивнул.
— За пазухой, — сказал он просто.
— Что там? — подскочил Петя к Илие. — Оружие, верно? Я еще в яме на ощупь определил.
— Болван, ты чуть не подорвал меня, — сказал Илия сердито. — В том свертке, что ты мне передал, по виду наверняка граната.
— А в других? И мальчики осторожно, но с невероятным интересом стали разворачивать свертки, в которых содержались практически все виды оружия ближнего боя. После того как на траве образовался небольшой арсенал из новеньких пистолетов, карабинов и гранат, приятели сели передохнуть и задумались.
— Вот тебя угораздило, — проговорил Василий восхищенно. — Я знаю, что за ценную находку сейчас до тридцати процентов дают.
— Дадут нам, — фыркнул Петя, — да еще добавят. Ты все же, Васька, полный кретин!
— Сообрази, Василий, — перебил его Илия томным голосом. — То, что мы вытащили, это лишь малая часть того, на что Петя наткнулся. Но ведь кто-то все это сюда положил. И стало быть, заплатил деньги за оружие, за секрет, за перевозку и так далее. Как ты думаешь, тому, кто это сюда положил, очень понравится, что какие-то лоботрясы забрали его вещи, и какие вещи, ни на одном базаре не купишь. Илия залюбовался черным блестящим браунингом с золотой насечкой на рукоятке.
— И зачем получать треть, когда можно забрать все! — крикнул алчный Петя и стал собирать оружие в охапку. — Это все мое, — бормотал он, сдвигая в одну кучу стрелковое и взрывоопасное оружие, — захочу, поделюсь, захочу, сам продам.
— Продашь, продашь, — успокоил Петю насмешливый голос. Из-за яблони вышел отец Авакум, взял, не разговаривая, Василия за ухо и выгреб у него из-за пазухи толстый конверт с документами.
— Потеряли вы, юные следопыты, бдительность, — мягко пожурил он ребят. — Вы что думаете, я вас с того первого дня не вычислил? Вот видите, как ваш культпоход кстати.
Потрясенные друзья молчали, не зная, как избежать неминуемых кар.
— Боже мой, да что это у вас?! — послышался рядом с кучей оружия голос священника. — Вы наткнулись на клад боеприпасов? Отвечайте!
Делать было нечего, и друзья, не заговаривая о документах, подробно рассказали, как они наткнулись на склад и сколько единиц оружия еще хранится внизу.
— Если бы не посветлело, — пробормотал батюшка нечто загадочное, потом огляделся по сторонам, оценил опытным взглядом старого вояки опоясывающую половину сада гряду и кусты, скрывающие собеседников от посторонних взглядов. — Я вам предлагаю сделку, — сказал он серьезно, — вы помогаете мне перенести оружие и забываете о нем, а я забываю о том, как вы волокли меня по лестнице, и о похищенных документах. Забыть вы должны обо всем в ваших собственных интересах. Тайна оружейного склада — это тайна, которая ядовита, как гремучая змея, и смертельно опасна. Я бы с удовольствием отпустил вас от греха подальше, поскольку волнуюсь за ваши юные жизни, да и, сказать правду, за свою тоже. Но привлекать еще кого-нибудь к этому делу — значит превратить тайну в секрет полишинеля. Время подошло к обеду, все участники субботника уже в школе. Давайте поработаем ровно час и приведем все в порядок. Ну как, согласны?
— На юг хочется, — сказал вымогатель Петя. — Мы планировали находку продать за валюту и съездить в Крым. Неужто сто единиц оружия и бог весть сколько гранат не стоят трех билетов в Ялту и обратно.
— Уговорил, — сказал отец Авакум серьезно, — уговорил, уговорил, я не шучу. В первый же день каникул я сам отправлюсь вместе с вами в Ялту. За такую находку мы вам выдадим приличное вознаграждение. Верите?
— Верим, — сказал за всех Илия и скрепил сделку рукопожатием с батюшкой как равный с равным.
— Я тоже верю, — сказал Петр с особым смыслом. — Если вы забудете о своем обещании, то мы, наоборот, можем вспомнить о складе.
Один Василий ничего не сказал. Он схватил в охапку три винтовки и, покачиваясь, потащил их по указанию отца Авакума в подвал.
На самом деле не час и не два заняла работа. Только поздно вечером последняя единица оружия была вырыта и переброшена в подвал. По счастью, после обеда никто из воспитанников в отсутствие своего духовного наставника и не вспомнил о субботнике и, таким образом, не смог помешать работе.
7. НАПАДЕНИЕ
Беда пришла поздно ночью. Вахтер, как всегда подремывая в своей будке, посматривал в полглаза за ворота на дорогу, когда сзади кто-то выстрелил в запертую дверь сторожки, а затем, прежде чем вахтер смог вскочить и достать свое табельное оружие, его прошили автоматной очередью.
Несколько смутно видных в темноте фигур промелькнули между деревьями и скрылись за оградой. Видимо, убившие вахтера люди открыли ворота, потому что вслед за легкими тенями въехала на лужайку подле еще недавно имевшего место быть склада пролетка, запряженная двумя лошадьми. Однако разрытая яма и пустое хранилище показали владельцам склада, что они опоздали. Тотчас двое из них пошли по следу, состоящему из тонких струек сырой земли, сыпавшейся из тряпок и промасленной бумаги при перемещении оружия. Однако еще на полпути между складом и зданием интерната следы полностью исчезли, так что оказалось совершенно невозможно догадаться, в какую сторону было унесено оружие.
Посовещавшись, тени отвели пролетку с лошадьми подальше в кусты, а сами потихоньку проникли в здание интерната и поднялись на второй этаж в квартиру Лады. Видимо, солидной подготовкой отличались нападавшие, потому что запертую изнутри дверь они открыли шутя, и Лада заметил их присутствие, только когда острие ножа кольнуло ему в шею и две жесткие ладони зажали рот. Тотчас его спеленали веревками и забросили на кровать. Глаза и рот оставили открытыми, только предупредили, что при малейшей попытке позвать на помощь или медлить с ответами, паче будут его спрашивать, зальется он собственной кровью.
Когда Лада открыл наконец глаза, он увидел вокруг себя несколько лиц кавказской национальности, загорелых до степени копчености так, что можно было бы принять их за цыган, если бы не благообразной формы носы с горбинкой и удлиненные профили.
— Где? — спросил его единственный из всей банды мужчина в летах, большой и благообразный, — и не говори, что ты не знаешь. Ты такую простую вещь пойми, — почти дружелюбно обращался главарь к директору. — Вот я, вот они, — он обвел руками стоящих кругом джигитов, — мы были поставлены это охранять. Ей-богу, на полдня отошли, к земляку поехали, вернулись, ничего нет. Я за него, положим, головой отвечаю. Его нет, моя голова на плечах тоже «нет». Они не только головой, кожей отвечают. Если мы свое не найдем, их не зарежут, с них живых кожу снимут и бросят свиньям. Поэтому, если ты думаешь, что ты можешь словами отговориться, ты так лучше не думай. Так где оно?
— Вы меня смертью не пугайте, — сказал Лада с достоинством, ухитряясь кое-как даже выпрямиться в связанном состоянии. — Но все-таки объясните для начала, о чем, собственно, идет речь, кто вы и что у вас пропало?
— По одному будем к тебе детей приводить и тут же голову отрезать, раз ты такой храбрый, — сказал пожилой медленно и повторил для верности: — Ты понял, что я тебе сказал, — на этот раз он низко наклонился над связанным. — По одному будем приводить к тебе учеников и перерезать им горло на твоих глазах, так что их еще теплая кровь будет брызгать на твои белые манжеты. По лицу твоему видно, что ты фанатик и, может быть, и не испугаешься, когда мы будем отрезать твои пальчики один за другим или даже засунем тебе в рот твой отрезанный член, но невинных деток ты же не дашь на заклание?
— Не дам, — сказал Лада безо всякого раздумья, — спрашивайте. Только сомневаюсь я, что есть у меня такие сведения, ради которых надо вам идти на риск смерти, а мне на пытки. Я все же учитель в школе, а не комендант военного гарнизона. В конце концов скажите, кто вы и что вам надо?
Главарь вместо ответа уселся напротив него и долго и пристально смотрел ему в лицо. Его люди расселись по кабинету, зорко наблюдая за движениями пленника.
— Плохо, — сказал главарь после долгого молчания. — Плохо для нас, для всех. Кто мы, ты можешь узнать только накануне собственной смерти, а я вижу, что ты в самом деле знаешь не больше моего, куда делся наш арсенал. Но кто-то это знает, и мы должны его найти. Даже если мы будем трясти одного школяра в течение минуты, все равно нам понадобятся сутки, чтобы перетрясти всю вашу бодягу или интернат, как вы себя именуете. Стало быть, давай-ка вместе напряжемся и подумаем, куда может быть перепрятано оружие. И что это шанс для тебя, единственный шанс выбраться из этого дела малой кровью твоих воспитанников. Мы даже не будем искать тех, кто его перепрятал. Но если, — он посмотрел на большие стенные часы, — в течение двух часов мы его не найдем, клянусь, мы перекроем всю вашу богадельню и подожжем ее. Тех, кто будет высовываться из огня, просто перестреляем. Все зависит от тебя, думай быстрее.
— Где было оружие? — спросил директор коротко.
— В саду.
— Вы уверены, что его не вывезли из интерната?
— Пост наблюдения был снят только на несколько часов. И земля свежая, еще дымится. Мы проследили похитителей почти до здания интерната.
— Есть только одно место в интернате, где можно без помех запрятать большое количество свертков, — сказал Лада без колебания. — Это подвал. Другие хозяйственные постройки всегда полны народа. Ключ от подвальной двери вон в той связке на гвоздике у двери. Правда, каждый час вокруг подвала ходит вахтер, постарайтесь уложиться меньше чем за один его обход. Вы заберете оружие и уйдете?
— Нет, — сказал главарь улыбаясь. — Если оружие в самом деле там, мы не сможем его забрать сейчас. Нам это неудобно. Мы оставим своего человека в подвале на ночь. А утром увезем все. Мы не можем посреди ночи ездить в пролетке по городу. А вот часов в девять утра это будет в самый раз. Я оставляю вас, дорогой друг, в приятной компании Шамиля. Это удивительный человек, самый искусный в наших краях.
Главарь кивком головы подозвал невысокого сухого мужчину с удивленным выражением лица и громадными ручищами.
— Чем же он так удивителен? — сухо спросил директор.
— Он, как никто, умеет вырезать ремни из кожи, — серьезно ответил главарь. — Уже и кожи, можно сказать, нет, а человек все еще жив. Будем надеяться, что из вашей спины он ремней не успеет наделать до нашего возвращения.
С этими словами главарь в сопровождении двух охранников выскользнул из директорского кабинета. Шамиль взгромоздился на письменный стол, положил пистолет рядом с собой и, вытащив из кармана своего кожаного пиджака трубку, не торопясь, разжег ее. Табак, который он курил, был дьявольской крепости, к тому же Шамиль каждый раз пытался направить выхлоп прямо в лицо связанному директору, отчего тот дико кашлял и задыхался. Покурив таким образом минут пять, Шамиль стал клевать носом, потом соскочил со стола, придвинул вплотную к директору его собственное кресло, завалился в него и заснул. Директор, убедившись, что негодяй спит крепко, попытался было освободить связанные руки, но быстро убедился, что с ним поработали мастера своего дела. Тогда он закрыл глаза и стал ждать прихода остальных бандитов. Проснувшись, Шамиль первым делом посмотрел на часы и пробормотал проклятие. Прошел целый час с тех пор, как он остался один.
— Подлый шайтан, — крикнул он директору и наотмашь ударил его каменной ручищей по губам. — Куда ты их послал?
Однако при всем желании директор не мог ответить. От удара его стул перевернулся, и Лада головой ударился о край письменного стола, а потом еще и о деревянный пол. К его счастью, он потерял сознание, потому что Шамиль явно возымел намерение подвергнуть его столь прославленному на его родине искусству вырезания ремней из кожи клиента. Пнув Ладу пару раз ногой и убедившись, что толку от него мало, а связан он крепко, Шамиль приоткрыл дверь и высунул в нее свою круглую курчавую голову.
От удара обрубком трубы по голове она из черной стала темно-красной. В тот же момент батюшка Авакум втащил обмякшее тело обратно в кабинет и положил рядом с Ладой. Видимо, для симметрии. Коллегу, правда, он сразу поднял вместе со стулом, к которому тот был привязан, и привел в чувство, вылив на голову несколько кастрюль ледяной воды, для чего пару раз сбегал в ванную комнату и обратно. В спешке он забыл развязать директору ноги, что обнаружилось, когда тот, придя в себя, медленно стал подниматься и снова повалился лицом вниз прямо на хрипло дышащего Шамиля, вокруг головы которого уже набежала порядочная лужица крови.
От ледяной воды у Лады зуб на зуб не попадал, но он в подробностях сообщил батюшке историю и причины нападения на него каких-то восточных людей.
Батюшка слушал молча, не выказывая никаких эмоций, только когда директор рассказал, как главарь обещал ему вырезать весь интернат, заскрипел зубами от злости. Тотчас директорскими веревками педагоги связали Шамиля, обмотав ему из человеколюбия голову найденным в ванной полотенцем, и бросили под стол дожидаться приезда полиции.
— Я же их в подвале накрыл, — взахлеб рассказывал батюшка ход своей военной операции. — Не спалось мне, понимаете ли, — говорил он, в то время как Лада проницательно мерил его своими пытливыми глазами.
— Снова Андреев святой явился? — спросил наконец Лада, но сам и рассмеялся. — Ладно, не буду огорчать своего спасителя, простите уж, дорогой мой батюшка!
Отец Авакум прекрасно понимал, что обижаться на помятого, к тому же стукнутого по голове директора не стоит, и продолжал:
— Стою я перед дверью подвала, и вдруг оторопь меня взяла. Слышу, по длинному коридору приближаются шаги. Явно идут несколько человек.
— Четверо их было, — вставил директор. — Четверо и все очень хорошо вооружены.
— Я, признаться, так и подумал, что это пришли хозяева за своим добром, и решил от них спрятаться. Громадный военный опыт и тут помог. По коридору над полом так на уровне метров двух проходят какие-то трубы. Я, знаете, со страху, как обезьяна, подпрыгнул, подтянулся, залез наверх и на этих трубах залег. Прошли они в подвал, а ключи оставили в двери, видно, считали, что в столь позднее время некому блуждать по ночным коридорам. Спустился я вниз, от страха почти не касаясь земли, подошел к двери и узнал связку. Ваша ведь связка. В ней одной есть ключи от продовольственного склада и библиотеки древних рукописей, как и у меня.
Ну, думаю, до вас они добрались в первую очередь. Только как вы им могли про подвал рассказать, если сами о нем ничего не знали. Короче говоря, я ключик дважды в стальной двери повернул, и голубчики мои остались, как птички в клетке. Да они об этом еще не знают. Они, видимо, еще по подвалу лазают. Ищут место. Оружие-то мы довольно ловко спрятали. Его не так просто и найти. Как я эту банду запер, сразу побежал к вам. Бегу и думаю, все-таки, несмотря на все наши разногласия, чертовски обидно будет, если вас уже того…
— Спасибо, тронут… — сухо поклонился ему директор, — проявили сочувствие.
— Только я к кабинету вашему подбежал, а из него голова вылезла. Бандитская голова, завитая, как каракулевая овца. Ну двинул я по ней, дальше вы сами знаете. Что будем делать? Вы ведь с этими негодяями больше общались. Кто они и какие у них намерения?
— Так вы еще в полицию не сообщали, — воскликнул директор, — а я то думал…
— Да когда же я мог успеть, — удивился в свою очередь батюшка. — Мы же только что с вашим телохранителем разобрались.
— Точно, с хранителем моего тела, — невесело усмехнулся директор. — По-моему, он собирался лишить меня головы и охранять одно туловище. Однако у меня сомнения по поводу приглашения полиции. Абсолютно ясно, что эта банда представляет интересы целой организации. Если мы выдадим оружие и их самих властям, то не начали бы они мстить нашим воспитанникам. Из беседы с их атаманом я понял, что человеческую жизнь они не ставят ни во что.
— Вы меня кофейком не угостите? — вдруг попросил батюшка. — Время все-таки к трем ползет, меня потянуло в сон.
Лада рассмеялся и уже совсем дружелюбно посмотрел на нахального пастыря. Скоро сварился кофе, и два бывших врага уселись за письменным столом с маленькими чашечками из чистейшего Ломоносовского фарфора, которого осталось в Москве совсем немного.
Директор погасил яркий верхний свет, оставив только голубой торшер. Стало совсем уютно и тепло в кабинете. И если бы не тяжелое дыхание и хрипы лежащего ничком на полу человека, можно было бы подумать, что просто встретились поздним вечером скоротать время два закадычных друга.
— Я согласился бы с вами, — в раздумье батюшка отпил глоток и поставил чашку на стол. — Согласился бы, если бы речь шла о московской или хотя бы о российской банде или группировке. Но сдается мне, глядя на морду этого негодяя, что мы столкнулись с самой настоящей пятой колонной из Чечни или Осетии. Кавказ не забыл, что многие десятилетия был под пятой России и теперь, когда страна сжалась до размеров носового платка, пытается использовать ее в качестве утирки. Они не понимают, что России не впервой восставать из пепла, что те же самые причины, которые ее раздробили, точнее, расчленили на десятки независимых частей, они же заставят страну слиться вновь, как сливаются капельки ртути, разлитые на полу. Но чисто в практическом плане, если интернат, а мы с вами и есть интернат, передаст оружие кровным своим врагам — это для нас и для нашего детища — политическая смерть. Одно дело, если бы мы и не знали о тайном складе. Даже если бы кавказцы завалились с оружием, то наша роль была бы быстро выявлена безо всяких последствий для интерната. Другое дело, когда выясняется, что директор и главный религиозный голова без сопротивления выдали врагам империи склад с подпольно хранящимся оружием. Это нанесет нам такой урон, который можно сравнить только с пожаром или землетрясением.
— Что же делать? — возопил Лада, в свою очередь отставляя чашку и поднимаясь от стола. — Тут впору не кофе пить, а что-нибудь покрепче, — пробурчал он и вынул из секретного ящичка в шкафу пол-литровую бутылку с зеленой этикеткой.
— Батюшки-светы, — закудахтал отец Авакум, — еще польска не сгинела. Неужто в самом деле «Зборовая»?
— Варшавского розлива, — подтвердил Лада. — Приз за лучший доклад на всемирном симпозиуме богословов, второй год храню. Считаю, самое время ее употребить для расслабления мозгов и выработки наилучшего плана действия.
— Наилучший план мы придумаем без бутылки, — закачал головой батюшка. — Впрочем, принять по одной рюмочке не помешает. А то как-то стоит в горле комок и не уходит. План у меня простой. Надобно, чтобы все они вместе со складом исчезли бесследно. Как это говорится у нас в судопроизводстве: нет человека — нет дела. Они к нам с ножами пришли, от ножей и погибнут. Отпустить их с оружием, вы сами говорите, нельзя. Не отдать оружие — значит подставить под огонь наших воспитанников. Так просто они от своего не откажутся. И мысль о том, оставить ли нас в живых ради оружия или убить, у них даже не возникнет. Так что «на войне как на войне!».
Забрав с собой связанного Шамиля, оба священнослужителя отправились в подвал. Там, спустив потерявшего сознание Шамиля на землю, они долго прислушивались к шорохам, доносившимся из-за закрытой двери. Директор вооружился найденным у тела вахтера ножом, а у батюшки был в руках револьвер Шамиля.
— Фактор внезапности, — повторил батюшка, — и максимум движения. Учтите, что мы будем абсолютно невидимы, в то время как они обязательно работают при каком-нибудь освещении. Иначе им не вырыть и не сложить для отправки несколько сотен единиц вооружения. Пошли, с богом!..
8. ПОХОРОНЫ
В полдень пробили большие часы на башне царского дворца и выпалила на Москве-реке пушка. Гроб отца Авакума стоял весь усыпанный цветами, и перед въездом в сад переминались тихие лошади с катафалком. Актовый зал был полон воспитанников интерната, и большой поясной портрет отца Авакума с теплой, все понимающей улыбкой наблюдал за последними отдаваемыми ему почестями.
Доктор Лада подошел к открытому гробу, наклонился и поцеловал отца Авакума в лоб. Трагедия вчерашней ночи казалась ему сном, но этот сон вошел в область действительности и так переплавил ее, что приходилось ломать все жизненные установки. Он огляделся.
Воспитанники больше с интересом и некоторой веселостью, чем с печалью и сожалением, рассматривали человека, который совершил для них по меньшей мере то, что делает мать: дал возможность жить. Кроме детей в зале была масса разного сочувствующего народа: коллеги по партии, мрачно обступившие мать умершего, священники в черных и коричневых рясах, корреспонденты всех имеющихся в наличии четырех газет скандальной хроники и множество случайных зевак.
Директор распрямился рядом с гробом, долго и молча разглядывал преображенное смертью, разглаженное вечным покоем лицо священника.
— И тогда он открыл дверь, — проговорил Лада, и зал замолчал, как будто все ведали, что весь смех и толчея только прелюдия к чему-то дальнейшему. — Он открыл ее, и мы вошли в темноту. Я не зачисляю себя в разряд слишком храбрых людей, и, клянусь, мое сердце дрогнуло, когда далеко в глубине коридора я увидел огни факелов и услышал мерный звенящий звук — это били острыми лопатами мертвый подвальный гранит.
Наш дорогой отец Авакум был настоящим бойцом, достойным продолжателем дела своего знаменитого тезки, но, кроме этого, он был профессиональный тактик, специалист по разведке боем, о чем всегда умалчивал, не желая в религиозных занятиях смущать воспитанников воспоминаниями.
Он приказал мне стоять, а сам пошел вперед. Мне показалось это справедливым. Ведь только у него было огнестрельное оружие. У меня был лишь нож, принадлежащий второй невинной жертве — нашему сторожу, который первый пал в неравной схватке, защищая границы интерната от врагов. Я человек сугубо штатский и не представлял всей серьезности положения, не понимал, что эти негодяи готовы уничтожить половину интерната, чтобы запугать оставшихся в живых кровавыми пытками. Но отец Авакум все это предвидел, как я повторяю, он был профессионал не только в вопросах религиозных.
Итак, отец Авакум, оставив меня сзади, осторожно приблизился к занятым перегрузкой бандитам. Он оставался невидим для них, а сам мог спокойно выбрать себе цель. Господа, все произошло абсолютно просто. Батюшка действовал хладнокровно, как в тире. Не спеша он поднял свое оружие, быстро прицелился и дуплетом, стреляя практически без перерыва, уложил наповал двоих кавказцев. И если бы не дьявольская реакция того, кто называл в разговоре со мной себя главарем, он смог бы подстрелить и его. Но негодяй, как видно прошедший тоже не одну войну, успел погасить ближайший к нему фонарь и исчезнуть за поворотом. Батюшка кликнул меня, я взял оружие у одного из застреленных им бандитов, таким образом, позиция наша усилилась, и мы пошли по следу, а точнее сказать, по звуку удаляющихся шагов. Конечно, когда шаги стихли, нам не стоило продолжать преследование. Достаточно было захлопнуть наружную дверь, и главарь оказался бы в ловушке. Но нами овладел охотничий азарт. Батюшка вырвался вперед и настиг бандита. Дальше я услышал взрыв, и меня отбросило в сторону головой о цементный пол. Когда кавказец увидел, что отец Авакум настигает его, он от страха подорвал себя гранатой. К сожалению, пастырь наш был от него слишком близко.
Закончив повествование, Лада приостановился, придал лицу более соответствующее печальному событию выражение и перешел к панегирику.
— Вы знаете, что всякая душа на путях перерождения пересекает систему разноматериальных слоев, тесно связанных между собой структурно и метафизически, — сакуал. Так и нашего батюшку приняла сакуала Просветления, где огромные цветы Готимны, составляющие целые леса, склоняются и выпрямляются, качаются и колышутся, звуча в непредставимых ритмах, и это их колыхание подобно тончайшей музыке, никогда не утомляющей и мирной, как говор рощ, но полной неисчерпаемого смысла, теплой любви и участия к каждому из оставшихся жить на земле.
Великий святой свидетельствует, что в затомисе Небесная Россия среди просветленных лишь ничтожное меньшинство известно нам, знакомым с историей нашей Родины. Но мы с вами сегодня можем назвать еще одно имя, которое навсегда останется в народной памяти. В очистительной борьбе с соблазнами плоти и души, ведомый Великой истинной верой, раб божий Авакум вознесся в многохрамный розово-белый Небесный Кремль, стоящий над Москвой.
Завершая речь, Лада высоко поднял голову и проникновенно заглянул в очи школьникам, желая всех до единого пронять заключительным словом:
— Раскройте души ваши славному духу батюшки Авакума, не пожалевшего за вас живота своего, и несите образ его во все миры земли нашей — Шаданакары!
Книга третья. ЛИЦЕЙ
1. ШКОЛЬНИЦЫ
Гимнастический зал никогда не привлекал Луция. После утомительного лицейского дня он предпочитал полежать с книжицей или послушать удивительные истории о двадцатилетней войне всех против всех, которая кончилась только к его шестнадцатилетию. Но после трепки, дважды заданной ему на протяжении одного дня, определил он для себя, хоть и через силу, ходить на тренировки в какую-нибудь из секций боевых искусств. Видимо, похожая мысль пришла на ум и Тесцию, потому что первый, кого увидел Луций, был обнаженный до пояса предатель, усердно тягающий диск от штанги под наблюдением какого-то шкета в зеленом тряпичном свитере и белой «блином» кепке. Пухлое безмышечное тело вызывало в Луции отвращение, и он отошел как можно дальше от Тесция к гимнастическим снарядам, состоящим из старого козла, обитого вытертой кожей, и параллельных брусьев. Несмотря на обильную рекламу, зазывающую студиусов на ежедневные занятия в боевой клуб, никого в зале более не было. Луций несколько раз отжался на брусьях, прыгнул через козла справа налево и наоборот и, отчаявшись дождаться членов клуба, уже собрался уходить, когда в зал вошла небольшая группа студентов, возглавляемая чуть знакомым ему другом Эола, который на этот раз был не в черной рубашке и светлых брюках, а в белом кимоно, опоясанном красным поясом.
Увидев Луция, инструктор довольно благосклонно подозвал его к себе и велел становиться в один ряд с остальными. Постояв несколько минут на коленях, Луций решил, что основная цель преподавания состоит в том, чтобы научить их как можно ниже и гармоничнее кланяться, однако последующие два часа занятий заставили его поменять мнение. Повозив на себе стокилограммового партнера, пройдя гусиным шагом и на корточках по двадцать кругов и парируя в течение часа наскоки драчливых спарринг-партнеров, он последние пятнадцать минут занятия плавал как в тумане, а с кончика его носа капал мелкий дождь пота. Однако в конце он был вознагражден зрелищем поединка между гигантом в белом кимоно и маленьким человечком в свитере и кепочке, который оказался мастером довольно высокой ступени и в завершение поединка лихо промчался по стене, иногда взбегая под самый потолок. Вся дуэль проходила на втором этаже на уровне плеч и локтей, казалось, бойцы летают, подвешенные прозрачными резиновыми канатами и только изредка касаясь земли. Увлеченный этим зрелищем, Луций вовсе забыл, что обещал брату зайти к нему в интернат нынче вечером и навести порядок с какими-то бумагами, из-за которых, по заверению Василия, его терроризировали.
В ночное время Москва была столь же безопасна, как минированный укрепрайон перед наступлением противника, но обманывать брата ему вовсе не хотелось.
Пообещав тренеру завтра быть уже в спортивном костюме, правда, не зная, где его взять, Луций ополоснулся, причесал мокрой пятерней разлохмаченные после занятий волосы и вышел на порог лицея. Было девять часов вечера. Весенняя светлая Москва, казалось, тихо дремала за стенами домов и темными кустами сквера, но Луций знал, насколько обманчива эта тишина. Разбитый вдребезги шкаф валялся в кустах, куда определила его орава беспризорных подростков. С проспекта, невидимого за поворотом улицы, изредка доносилось рычание мчащихся на больших скоростях машин или цоканье копыт какой-нибудь блатной пролетки. Пахло гарью, где-то в ближайших дворах жгли костер из старой мебели. Пустынная в этот час улица казалась спящим ручьем, могущим мгновенно привести к водопаду.
Луций еще помедлил на пороге, пытливым взглядом окинул весь проулок, часть сада, растущего на противоположной стороне, и решился было идти.
— Какая же она должна быть, чтобы ради нее рисковать жизнью? — услышал он за спиной. — Показал бы хоть.
Луций обернулся и заметил тренера в белой кепке, который, зевая, встал на пороге.
— Вы о ком? — спросил Луций и сделал шаг в сторону, освобождая для тренера пространство перед домом.
— Молодец! Мне давеча Эол объяснял, что из тебя лишнего слова клещами не вытянешь. И с шивапоклонниками держался здорово. Так что, проводить тебя к ней?
— Да не к ней, а к нему, — досадливо отвечал Луций.
Тренер отшатнулся в сторону.
— Я ваши римские штучки-дрючки не одобряю, — презрительно сказал он. — Я еще понимаю — за решеткой, там народ богом и жизнью обиженный, а здесь зачем? Все тянетесь к древней империи, не понимая, что она была сильна мужественным духом граждан, а не извращениями аристократов…
— Да к брату я, — перебил его тираду Луций и с этими словами рванул за ограду.
Тренер, обрадованный, что его подозрения оказались напрасны, догнал его уже у поворота на Кутузовский проспект и пошел рядом.
— Экий ты запальчивый малый, — укоризненно произнес он. — Бога благодари, что у меня сегодня есть свободные пара часов в запасе, и Эол в ответ за молчание просил за тобой приглядеть вечерок-другой. Куда это ты собрался, смею тебя спросить, и как? Пешедралом?
— На метро.
— Да будет тебе известно, — прокричал тренер, подделываясь под быстрый шаг своего спутника, — что с сегодняшнего дня отменены дежурства полицейских в электричках и на перронах метро. У властей нет средств на их содержание. Тебе нужен интернат? Или ты идешь домой к родителям?
— Интернат. Линия прямая: метро «Кунцево».
— Ну что ж, рискнем. Переходами сейчас может пользоваться только самоубийца. А по прямой, чем черт не шутит, может, и прорвемся.
Как ни странно, до своей остановки они доехали вполне благополучно, прождав всего полчаса на пустынном перроне, где кроме них стояли лишь две малолетки, которые, видимо, раз и навсегда положили никого и ничего не бояться.
Пустой вагон с разбитыми окнами под свирепый свист и перепляс туннельных огней домчал их мигом до «Кунцево», где выплюнул всех четверых и погнался назад. Промежуточных остановок не было. Не было и выхода с перрона в город, потому что обе круговые лестницы были искорежены и разбиты во время военных действий. Во всяком случае, пожар затушили только что. Тлеющие головешки еще резвились по покрытому осколками камня и пепла перрону, густой дым валил из тоннеля наверх в город. Высокомерные малолетки, которые вышли вместе с ними, так как поезд дальше не шел, повернули к Луцию свои кукольные личики тринадцатилетних школьниц, отлученных от знаний ради постели, и, преодолев гордость, поинтересовались, не знает ли он, как подняться наверх. Практически были искорежены только нижние ступеньки, будто кто-то задался целью не допустить бегства врага из подземелья.
— Все, девочки, — весело сказал тренер. Квадратный, маленький, он доставал Луцию всего до плеча, так что подружки были повыше его. — Придется вам обратно ехать, спасение ваше, если только руки у вас цепкие.
— У нас все цепкое, — гордо сказала одна из девчушек, одетая в огненный рыжий свитер и такого же цвета лыжную шапочку.
Без колебаний она позволила Луцию взять ее за талию и поставить ножками в белых носочках, туфли она предусмотрительно передала подруге, на плечи тренеру. Потом она распрямилась, перебирая руками по железным скрученным стойкам, дотянулась до последней целой ступеньки и стала медленно подтягиваться на пальцах, причем Луций, распрямляясь, потихоньку подталкивал вверх ее оторвавшиеся от плеч тренера ноги. Потом ноги ее оказались на вытянутых руках Луция, и девчушка встала коленями на первую висящую в воздухе ступеньку.
Потихоньку освоившись, она поднялась на ноги и храбро шагнула на следующую ступень.
— Машка, подожди, — закричала снизу вторая школьница и, аккуратно размахнувшись, послала точнехонько ей в руки одну туфлю за другой.
Надев туфли, Маша спокойно стала подниматься вверх и вскоре исчезла за поворотом.
— Что ж, прошу, — предложил тренер второй девице, — займись гимнастикой. — И он похлопал себя по плечу.
— Там тусовка, — сказала девица, не поворачивая к нему головы. — Сейчас Машка им накрутит шеи, быстро прибегут с лестницей.
— Где же они лестницу возьмут, твои тусовщики? — поинтересовался Луций, любуясь тонкой талией и длинными светлыми волосами малолетки.
— Где хошь, — безразлично отвечала малолетка и вдруг зарделась под пристальным взглядом Луция.
— Когда наши придут, ты на меня не смотри так, а то живым не уйдешь, — серьезно сказала она Луцию… — Ты кто, студент?
— Как угадала?
— Одет как нищий. И руки не распускаешь, словом, лох.
— А ты бы хотела, чтобы я приставал к тебе? К тебе… к тебе… такой, как ты есть, — так и не сумел он подобрать слов, чтобы выразить впервые в жизни испытанное восхищение просто от вида собеседницы… — и неуклюже закончил: — Ты бы больше берегла себя и не ездила одна вечером в метро.
— Я не одна, а с Машей, и потом, за нас не боись, студент, к нам никакой залетный не прилипнет, слово знаем, какое тебе и не снилось. Кто меня обидит, он и неделю не проходит на этом свете, какой бы крутой из себя ни был.
— А если какая-нибудь банда южан или прибалтов, которые местных людей не знают, как себя оборонять будете? — вмешался тренер. — Или ублажите всех и дальше пойдете. Ножки в стороны, руки в боки…
— Ты, дедок, наверно, сексуальный маньяк, — насмешливо отпарировала девчонка. — Таких в кино показывают. Сам маленький, а дрын как пенек. У тебя мысли все в одну сторону капают.
— Дура ты, — озлился «дедок», которому от силы было лет тридцать пять — сорок. — Дочка у меня такая же шалава растет, только еще моложе. Страшно же за вас, тоже болтается неизвестно где и день и ночь. У него вот брат тебе ровесник, едем его проведать.
— Ты меня с твоей дочкой не ровняй, — сверкнула глазами девица. — Ей в мою тусовку отроду не попасть.
— Жаль, что нет у меня такой сестрички, — вздохнул Луций, продолжая любоваться девочкой. — Я бы ее жалел.
— Только жалел? — вспыхнула девочка и отвернулась… Потом, справившись со своим лицом, мягко, даже нежно посмотрела на Луция.
— Я найду тебя, студент. Я знаю, ты из лицея. Вас там разные идиоты учат. Я тебя обязательно найду…
— Лина, — послышалось сверху, — принимай канат!
Два парня спустились почти на последнюю уцелевшую ступеньку лестницы, сверху за ними тянулся толстый канат с узлами. За ними на верхних ступеньках стояли, смеясь, юные девушки и парни, причудливо разодетые в яркие кожаные и нейлоновые куртки. Как только канат опустился на землю, Лина уцепилась за него и стала легко подниматься вверх, не сводя тревожного взгляда больших голубых глаз с лица Луция.
Спрыгнув на лестницу, она на мгновение задержалась, глядя вниз, потом помахала им открытой ладошкой и исчезла за поворотом… Парни, державшие канат, тоже враз его выпустили и стали карабкаться вверх. Через мгновение на лестнице никого не было. Только канат вибрировал от недавних прикосновений.
Тренер, пока Луций стоял, задрав кверху голову, подскочил к канату, подергал его, пробуя на прочность. Канат был привязан крепко. Когда они оба выбрались на Рублевское шоссе, рядом с метро уже никого не было.
Чтобы сократить путь, они поднялись по поросшему травой откосу наверх, где ровная асфальтовая площадка оканчивалась небольшим кирпичным зданием с плоской крышей и скульптурами древнерусских богов по периметру.
— Эй, вы к кому? — прорычал, не открывая калитку, седой кряжистый дед, обряженный в перешитый из занавески балахон светло-зеленого цвета.
2. ЭКЗАМЕН
Похороны одного из самых ценных учеников послужили достаточным основанием для того, чтобы сместить время заседания педсовета с трех на восемь часов вечера. Простившись с покойным и распорядившись вызвать полицию для расследования убийства, директор лицея засел у себя в кабинете, поручив секретарю никого к нему не пускать. Он тщетно рылся в словарях и энциклопедиях, выискивая информацию об индуистском божестве — Шиве.
Когда в приемной собралось достаточное количество педагогов, Володечка рискнул поскрестись ручкой в дверь кабинета.
— Вводи! — рявкнул директор, не поднимая головы.
Педагоги гуськом ввалились в кабинет и испуганно замерли в дверях.
— У меня есть замы, — пророкотал директор, — у меня есть педеля, у меня есть три десятка властителей душ — лекторов, преподавателей, в общем, целая свора дармоедов, которые хором уверяют меня, что знают все вплоть до последней мысли последнего двоечника. Вы думаете, мы потеряли ученика?! Контроль над самой многочисленной сектой лицея — вот что мы потеряли! Теперь я могу открыть вам, что Шива был нашим человеком. С его помощью мы направляли сектантов. Вы, наверно, забыли, зачем был создан лицей? Забыли, кого мы готовим в этих стенах? Но я вам напомню!
Взмахом руки директор повелел приближенным рассаживаться, а сам же, наоборот, поднялся и обвел всех свирепым взглядом.
— Боже мой, сейчас разольет политучебу на три часа, вздохнул Пузанский. — Пивко завезли в «Жигули». Шеф-повар меня пригласил еще по старой демократической дружбе. Скиснет пиво, пока закончит. — Но делать было нечего, и Пузанский обреченно уткнулся мощным подбородком в цыплячью грудь.
— Все вы на себе ощущаете, что осталось от великой империи, — громыхал бас вошедшего в раж директора. — Да, Третий Рим, который включал в себя и субтропический юг, и Крайний Север, мусульманскую Азию и католическую Европу, этот Рим исчез. Но это не значит, что он потерян навсегда. Великое собирание — наш удел, и что за беда, если мы отрезаны от тюменской нефти и кавказских плодов, балтийского янтаря и украинского сала. Что за беда, спрашиваю я, если мы ограничены по периметру Золотого кольца вражескими укрепрайонами и только одна нитка железной дороги соединяет нас с другими уцелевшим осколком империи — Санкт-Петербургом. Народ погибает тогда, когда исчезает национальная идея, его объединяющая. А когда она была сильнее разожжена в Московии?! Да, татары угрожают нам, как в смутные времена Годунова, да, Карелия, как говорил поэт, «всеми ладонями» передалась финнам, но нам не нужна Карелия или Татария, Армения или Молдова; нам нужен Четвертый Рим — и уже завтра в границах 1985 года. И за эту великую идею воссоединения мы боремся. Как известно, наш лицей основан в тот исторический день, когда императорские войска вошли в стольный град Киев, но были вынуждены оставить его под угрозой мусульманских термоядерных ракет. Тогда стало ясно, что в настоящий момент истории нельзя применять идею панславянства на штыках. Значит, экспансия должна ныне протекать в других рамках.
— Вот вы, любитель пива и пышнотелых воблин, — обратился Стефан Иванович к Пузанскому, — ближайший мой, самый первый помощник и друг. Вы помните, отчего мы создали лицей?
— Мы были нищими рабами. Нами правила… Нами правила банда оголтелых канонических идиотов. Каждого из них можно было в натуральном виде экспонировать в музее мадам Тюссо. Только боюсь, что другие восковые фигуры, возмущенные таким соседством, ожили бы. Гнусно управляемые, каждый день разграбливаемые, мы существовали только из-за одного удивительного чувства. Это была гордость от владения огромной частью света, целым миром. И это чувство географического и разноклиматического пространства вероятно спасало нас от чудовищного быта. Как ни странно, но тем не менее, не владея ничем, мы незыблемо веровали, что все это громадное пространство — наше. И когда единственная уникальная империя превратилась в едва видимое чернильное пятно на мировой географической карте, а весь мир счел и считает, что наступил конец — диалектически это было начало, начало Четвертого Рима!
— Молодец, Сережа! — грациозно подогнул толстое бедро и сделал шутливый книксен Стефан Иванович. — Все истинно русские люди именно так чувствуют.
— Какой я тебе истинно русский, — буркнул сквозь усы Пузанский. — Да один мой нос словно мост в Иерусалим.
Но Стефан Иванович его не слушал, увлеченный собственным красноречием:
— Нужны были люди, проникнутые римским мироощущением, нужны были стоицизм, мужество и выкорчеванная перестройкой преданность державе. Таких людей надо было воспитать. Старые школы или университеты не могли нам помочь. Более того, мы не могли даже воспользоваться услугами преподавателей, потому что на смену личностям в истории пришли нуворишы без идей, мировоззрения и бога в сердце.
Мы готовим наших студентов в качестве контактеров с русской диаспорой, рассеянной по провинциям четвертой римской империи. Мы готовим их на длительное оседание, поэтому необходимым предметом для них будут знание местных наречий, быта и культуры наших бывших и одновременно будущих провинций. Мы не можем войти в новый Рим с обветшалыми идеями демоса. Чтобы создать свой аппарат управления, мы должны наполнить его нашими выпускниками.
Вкратце все. У кого есть предложения по смерти Шивы? Хотелось бы найти убийцу до прихода полиции.
Вскочил рыжий педель. На этот раз он был закутан в розовый плед, из которого торчали только уши да волосы цвета незрелой хурмы. Видимо, он хотел сказать что-то необыкновенно важное, поскольку несколько раз судорожно открыл и снова закрыл рот.
— Ты чего разоделся, словно сексуальные меньшинства! — сурово указал ему Стефан Иванович, но на место сажать не стал. — Хорош рот разевать, издай членораздельный звук! После занятий за чаркой водки уж как красноречив!
— Я, конечно, не обладаю таким громадным жизненным опытом, как вы, — заикнулся рыжий. — Я не владею политической и экономической ситуацией, с людьми не могу разговаривать на вашем уровне. Я хочу попросту спросить: почему мы с ними цацкаемся? Почему не гоним в шею все эти секты-мекты, вшивистов этих, анархистов, дебилов. Какой из дебила специалист? Смешно кому-нибудь сказать. Чего мы ждем? Пока студенты нас самих не выставят и не захватят лицей? Почему студенты не могут, как раньше, объединяться в одну организацию, скажем, не комсомольцев, так анархистов, какая разница! Но свою организацию, нами полностью контролируемую. Можно начать прямо сейчас. Под предлогом убийства этого дегенерата с двумя парами рук, да двух-трех посадить для острастки. Замечательно учеба пойдет. И я уверен, что поголовное большинство студентов от чистого сердца скажут нам спасибо!
Рыжий замолчал и, скрестив просительно руки, бросил взгляд на директора лицея: давай, мол, разгоним, а?
Директор аккуратно развел ладошки и поаплодировал:
— Гениальный план, — сказал он без тени улыбки. — Знаете что, давайте вам его и поручим. И тут же безо всякого перерыва зарычал: — Неужели вы могли предположить, что мы не просчитывали и этот вариант? И если отказались от него, значит, для этого были весьма веские причины! И основная причина, что все прогнило! Сама основа власти расползлась! Представьте, что я разрешил вам действовать по вашему разумению. Ваш план?
— Я вызываю полицию, — важно сказал рыжий, — и просто-напросто арестовываю зачинщиков. Потом приказом по лицею объявляю о самороспуске всех самодеятельных организаций. Потом…
— …Подождите. Во-первых, полиция не станет арестовывать ваших зачинщиков, потому что против них не окажется веских улик. А сам факт участия в деятельности религиозных и политических фракций для полиции не криминал. Она сама расколота на десятки разнообразных движений и сект. Более того, лидеры группировок, узнав о вашем решении интернировать их, обязательно пошлют бойцов, которые разобьют вашу апельсиновую башку. Ваши действия после выхода из больницы?
Рыжий вяло отмахнулся и сел.
— Не судьба мне в Наполеоны, — пробормотал он. — Однако невозможно мириться с каннибалами.
— Ваша ошибка в том, — миролюбиво укорил его директор, — что вы хотите бороться со злом в масштабах одного учебного заведения. Но если мы уберем зачинщиков из всех высоких структур, то и наши автоматически слиняют. Думать надо о Родине, а не о своих просиженных штанах. Впрочем, пыл одобряю. Остальные можете идти, а вы, дружок, останьтесь. Поможете принять экзамен.
Коллеги с завистью посмотрели на педеля, особенно преподаватель пения, чей тонкий голос, накрашенные губы и серьга в правом ухе наводили на вполне определенные соображения. Однако рыжий, совсем недавно переведенный на ответственную должность педеля из штаба российской гражданской обороны, не освоился с особенностями преподавания в Римском лицее под водительством мужественной натуры Стефана Ивановича.
Володечка, поджав губки, вытер насухо отсыревший от преподавательской слюны стол и положил скатерть. Косясь недобрым взглядом в сторону Стефана Ивановича, он достал откуда-то из-за спины бутылку водки и сервировал стол бутербродами. Стопки, тоже им поставленные, директор тщательно протер, бормоча себе под нос: «Еще отравит, подлец!»
Секретарь вышел, шмыгая носом и раскачивая бедрами, а из-за дверей кабинета ни живы ни мертвы показались двое студиусов, которые из-за несданного зачета остались без стипендии.
Салаги были в столь юном возрасте, что и пух со щек, наверное, не сбривали.
— Смелее, юноши, смелее, — ободрил их директор и показал на стулья, — садитесь и доставайте листки бумаги. Вот это, — показал он на рыжего педагога, — наш новый воспитатель по гражданской обороне. Если бы таких воспитателей было много, мы бы не просрали оборону во второй крымской войне и остальные наши земли не отдали бы неприятелям. Слушайтесь его, как меня, и начнем углубляться в тему.
Вошел Володечка с поджатыми губками. Не спрашивая, взял бутылку, разлил всем четверым и удалился.
— Ну, студенты, сегодня у вас день боевого крещения. Я пью за ваши знания, за то, чтобы ценили своих руководителей и верили им.
Все выпили, причем директор, не стесняясь, стал рассматривать юношей. Вновь заскочил Володечка со второй бутылкой, норовя задержаться подольше, но был без промедления выставлен вон Стефаном Ивановичем, узурпировавшим поллитровку.
— Что же это вы, — ласково спросил директор, — ростом гренадеры, на каждом плече мышц по два пуда, а историю цезарей римских не воспринимаете?
Студиусы, без закуски одолевшие по сто граммов, только качали головами и щурились.
— Из всех римских цезарей, — расхрабрясь, сказал наконец младший, — я отличаю двоих: Нерона и Калигулу. Может, они как люди были малость жестковаты, друзей пытали. Нерон вон родную мать не пощадил. Но как деятели политические, особенно Нерон, всегда были на высоте. Даже расширили империю, хоть и так была велика.
— Нерон тебе нравится! — возопил вкусивший вторую стопку учитель гражданской обороны. — Но у него же личная жизнь не сложилась, как я помню из учебников. Жена умерла, катаясь на лодке. Или иначе как-то погибла. Но факт, еще совсем молодой.
— Вот что, дети, — сказал директор, полуобнимая сидящего рядом с ним студента за плечи и подливая в стопку водки, — нам в такие дебри лезть сейчас не обязательно. Сейчас секретарь включит музыку, а вы, ребята, спляшите танец римских гладиаторов, которых публика, как известно из истории, видела исключительно…
— …голыми, — внезапно для самого себя выпалил педель, но директор не стал упрекать подчиненного за подсказку, а, наоборот, ободряюще заурчал.
Словно подслушивая, влетел Володечка, швырнул на кресло два прозрачных марлевых хитона и снова исчез.
— По третьей! — скомандовал директор и высоко поднял рюмку. — Ты, милый, не пропускай, — укорил он младшенького стройного студента. Под его настойчивым взглядом студиус выпил лихо рюмку и зажевал бутербродиком. Старший тем временем ухитрился погладить педеля по толстой коленке. Тот сначала, оглушенный водкой, ничего не понял, а потом отодвинулся в сторону вместе со стулом.
— Музыку вам пустить? — осведомился Володечка по внутреннему телефону.
— Пускай, стерва! — заревел Стефан Иванович и, кряхтя, приподнялся над столом. — Выпьем, други, за искусство, — проникновенно произнес он, снова разливая остатки водки, — живем мы еще плохо, бедно живем. Американский спонсор морду воротит от нашего образовательного комитета, кукиш и тот без масла; в общем, тяжело. Одно отдохновение — хороший зажигательный римский танец! Вот вам хитоны, танцуйте, друзья мои.
Все выпили. Студенты нырнули в узкий проход между шкафом и стенкой, и оттуда стали вылетать их носильные вещи: брюки, носки, рубашки, трусы.
Под звуки «Прощание славянки» завернутые в прозрачную марлю студиусы, чуть покачиваясь, маршировали по комнате, при поворотах отдавая директору честь. Стефан Иванович, возбужденный воинственными упражнениями, снова привскочил со стула и, скинув пиджак и рубашку, пошел махать руками за студиусами. Взгляд его уперся в голую попу младшенького и уже не колебался ни вправо, ни влево. Рыжий педель, потрясенный невиданным им ранее способом приема зачета, машинально налил себе полстакана водки и дернул ее. Через мгновение вид у него стал вовсе оглушенный, он попробовал проследить за марширующими студентами и обнаружил, что у него перед глазами маячат не две, а четыре голые попы.
С победным рыком Стефан Иванович ухватил младшего студента за плечи и поволок в соседнюю с кабинетом гостевую комнату. Студент не сопротивлялся, однако, волочась мимо стола, успел цапануть свою зачетку, которую и понес в руке, так как положить ее ему просто было некуда. Оставшись со старшим студентом, учитель ГО заплетающимся языком предложил ему одеться и выметаться. Однако наглый студент только усмехнулся и, продолжая маршировать, ухитрился прижаться животом к спине рыжего педагога, отчего тот ощутил в груди неприятное стеснение.
— Поставь пятерочку, — шептал ему в ухо студент, и его толстые губы уже облепили лысую макушку преподавателя и легонько жевали ее. — Ну поставь, чего тебе стоит. Или ты пассивный? — вдруг забеспокоился студент, отскакивая от педагога и поворачиваясь к нему спиной. — Тогда хоть тройку поставь, я тебя отблагодарю.
Рыжий неловко на него замахнулся и вылетел в приемную. Тут он увидел аккуратно складывающего на кресло кофточку секретаря и, полоснув взглядом его голые плечи, проскочил в коридор. Студент, путаясь в хитоне, мчался рядом с ним, размахивая зачеткой. Из-под длинного хитона вылетела парадная лакированная туфля и полетела, кувыркаясь, впереди бегущих.
— Черт с тобой, — с ненавистью выкрикнул рыжий, увлекая студента от посторонних глаз в пустую аудиторию.
— Получай свой зачет и убирайся.
Студент облапал его и, пьяно дыша, стал целовать в губы. Рыжий отбивался. Потом студиус отлепился от него и, преданно глядя в глаза, раскрыл зачетку:
— Римское общество в эпоху ранней империи, — прочитал он. — Ставьте вот здесь.
Рыжий машинально развинтил стило, но вдруг сквозь пьяную одурь какая-то мысль промелькнула в его глазах.
— Я же преподаю гражданскую оборону, — изумился он. — Как же я могу поставить тебе зачет по Риму? Разве у них была система защиты от оружия массового поражения, система дезактивации в условиях зараженной местности, схема эвакуации? Да в этом Риме и противогазов не было.
— Да какая разница, — утешал его студент. Прозрачный хитон с него слетел, и рыжий с ужасом наблюдал его могучее естество, восставшее в полуметре от его носа. — Там, в Древнем Риме, если хотите, были проблемы и почище, чем ваша зараженная местность. Например, когда гунны напали на Рим, они даже гусей и то всех съели, не говоря о гражданах. А рабы! Конечно, атаку с использованием нервно-паралитических газов пережить сложно. Но кое-кто и выживал. А если тебе залить глотку расплавленным серебром, а после сварить в оливковом масле, то шансов нет. И противогаз не поможет. Так что ставьте подпись, не сомневайтесь. — И, желая запугать преподавателя, добавил: — Или подпись, или я в таком виде выхожу в коридор и кричу: «Спасайтесь! Газовая атака!»
Студент сделал шаг к двери, и рука педеля сама собой расписалась в зачетке.
Рыжий хотел встать и уйти, но студиус, горящий благодарными чувствами, насильно снял с него брюки. Только через час с расстегнутой рубашкой и мятыми брюками педель выскочил в коридор. Студенту он велел сидеть в аудитории и ждать, пока Володечка не принесет ему одежду. Заскочив в туалет по дороге и пригладив волосы перед зеркалом, рыжий, почему-то с хитоном в руках и чуть протрезвевший, вошел в приемную. Володечка сидел к нему спиной и что-то печатал.
— Шеф где? — умоляюще спросил рыжий, не замечая сурового взгляда секретаря.
— Отдайте хитон, — вдруг сказал секретарь, — он прокатный. И не дело педагогов хитоны по коридорам носить. Да вы его смяли, не отгладишь, — всплеснул он руками. — Идите лучше к директору.
3. ВЗРЫВ
Рыжий педель открыл дверь и, припадая почему-то на левую ногу, зашел в директорский кабинет. Каково же было его удивление, когда он увидел педсовет в том же составе, как и утром, возглавляемый свежим и подтянутым Стефаном Ивановичем.
Весь учительский коллектив встретил появление педеля настороженным молчанием. Хотя туловище его от шеи до ног было закутано шерстяным пледом, спутанные вихры, рдящие от пламенных поцелуев студента щеки и расслабленное выражение лица прямо выставляли его как источник противоестественного разврата.
— Коллега, — шепнул ему конфиденциально Пузанский, — вы бы хоть ванну приняли. — Что с вами произошло за столь небольшой промежуток между заседаниями? Свалились с балкона или подверглись нападению сексуального маньяка?
— Обидно, — сказал рыжий, не задумываясь. Он, покачиваясь, сделал шаг вперед и повалился боком на стул. — Вы, коллега, иронизируете, а на меня в самом деле не далее как полчаса назад напал гомосексуалист. — Ему показалось, что он говорит еле слышным шепотом, но в тиши его слова прозвучали звонко и отчетливо. Тотчас все взгляды обратились на рыжего, а некоторые и на директора.
— Коллега шутит, — решительно прервал его Пузанский, наступая гиппопотамовой своей ножищей на носок ботинка педеля. — Он ведь с ночного дежурства, еще не спал.
Разрядив таким образом атмосферу в кабинете и ткнув рыжего под столом в бок, Пузанский как ни в чем не бывало вытащил из оттопыренного кармана банку импортного пива и стал рассматривать этикетку: не просрочено ли? Однако благодушное его настроение не передалось коллегам.
— Прежде чем разыгрывать спектакль, не мешало бы определиться в жанре, — выступила в роли застрельщицы преподавательница литературы и до недавней, не бог весть какой сложной операции мужчина — Ева. — Если я персонаж высокой трагедии, как я до сих пор и воспринимала наш педагогический совет, то вне зависимости от того, палач я или жертва, я сохраняю самоуважение. Могут меняться этические ориентиры, но неизменен факт значительности происходящего. Если же меня вовлекают в грязный фарс, причем неизвестно даже, в роли действующего лица или наивного зрителя, то я попросила бы уволить меня от такого спектакля. Мне казалось, что канва нашего сегодняшнего действа — убийство студента, причем и ранее обиженного судьбой до умопомрачения. Потому что только в умопомрачении, вызванном генетическим уродством, можно объявить себя живым богом и, преодолевая сопротивление социальной среды, вызвать поклонение к себе. И вот этот незаурядный, искалеченный не только судьбой, но и людьми мальчик, может быть, гениальный мальчик, может, в самом деле проявление живого бога, убит своими сверстниками. Мы же ведем себя как шуты, злобные шуты, готовые все исковеркать. Играйте, если хотите, свои спектакли, но я пришла сюда, влекомая великой идеей возрождения страны, и, если все сводится к шутовским обрядам и вспышкам, я не хочу оставаться в лицее.
«Если закроешь глаза, — подумал Пузанский, — никогда не поверишь, что всю эту гневную, а главное, искреннюю тираду произнесла совсем юная женщина, а не средних лет дебелая мадам. Удивительное, конечно, существо. Юность, искренность и…мудрость, которую она, наверно, впитала еще до рождения, в мужском обличье. И вот результат — Ева, но Ева невинная, не стремящаяся к грехопадению и тем более привлекательная. Из какого музея она вынесла это черное платье с пышными рукавами и нитку розовых кораллов вокруг высокой шеи. Кто из женщин носит украшения на каждый день…»
Ева села. Несколько минут поле ее выступления было тихо, словно каждый член педагогического совета примеривался: сможет ли он сказать что-либо столь же значительное, чтобы сравниться с ней.
Наконец встал отец Яков, проживший много лет в русской общине Иерусалима и вернувшийся, чтобы летописать гибель империи. Директору удалось завербовать его в педагоги, соблазнив возможностью покопаться в древних славянских рукописях, переданных в лицей еще до разрушения национальной библиотеки полчищами крыс. Отец Яков читал курс славяно-византийской филологии и очень редко принимал участие в учительских сходняках.
— Горячишься, а не права, — укоризненно обратился он к Еве, которая, ни на кого не глядя, сжав кулачки и вытянувшись, сидела на стуле рядом с ним. — Не смотришь в корень явлений, а все по воздуху, по воздуху. — Он сделал плавающий жест ладонью, будто прогоняя ее над гребнями только ему видимых волн. — Отдадим покойному должное, но и спросим себя: кто он был, по какому в конце концов обряду его хоронить? Случайно ли, что этот юноша, не достигший еще двадцати лет, обозвал себя Шивой — ох, недобрым богом. Не христианский это бог, но и самое поверхностное знакомство с кришнаитским вероучением выдает нам, что Шива — это полубог, управляющий гунной невежества и уничтожающий материальный мир. Злой бог! Чем же был влеком этот юноша, что из трех гунн: саттва-гунна — добродетель, раджа-гунна — страсть и тамос-гунна — невежество он выбрал третью, все разрушающую?
— Да из-за рук он выбрал имя бога Шивы, — вскочила Ева. — Что вы думаете, он читал ваши древние сказки? Просто увидел картинку или фотографию индуистского храма, а может, по телеку танец индийский, мифологический. Есть такие танцы, где две или три танцовщицы, манипулируя руками, создают облик многорукого бога. Но принять имя — это одно. И совсем другое — превратить свое уродство и немощность в объект поклонения.
— Истинно, — маскируя икоту, вступился рыжий педель и на редкость удачно продолжил: — На самом-то деле по этим индусским верованиям четыре руки было не у Шивы, а у Вишну. Я прочитал это в энциклопедии, — укрепил он собственное высказывание, остальные преподаватели по-прежнему игнорировали его, и рыжий вновь позорно икнул.
К тому времени Пузанского уже слегка разобрало от немецкого пива, и он поспешил внести свою лепту в дискуссию.
— Простите меня, недостойного, — поклонился он Еве, — но, по-моему, вы излишне упрощаете, я бы даже сказал, вульгаризируете картину. Бог индусов Тримурти был един в трех лицах еще раньше христианского. Это были: Брахма, создатель вселенной; Вишну, ее хранитель; и Шива, разрушитель. Прежде чем Шива возвысился и стал величайшим, он после гибели верной супруги своей Сати наложил на себя схиму, отдалился от богов и стал отшельником. Нагой, заросший волосами с головы до пят, весь обсыпанный пеплом, с тлеющими углями в руках, Шива носился по холмам и лесам. Так он забрался на вершину горы к семи мудрецам. Их жены сбежались глазеть на никем не узнанного безумного бога, а он кричал по-ослиному, рычал быком, выделывал различные неприличные телодвижения. Пляски и пение Шивы зачаровали добродетельных жен, не знавших оргазма от великих мудрецов. Они обступили доблестного и преследовали его, куда бы он ни направлялся, норовя подержаться за священное место.
Небесные мудрецы в мозгах и священных книгах безуспешно отыскивали заклятия, которые, естественно, не могли ни остановить Шиву, ни вернуть жен. Наконец, объединив усилия мысли, они сумели лишить бога его детородного члена, следом исчез и сам Шива. И сразу прекратился порядок времен, смешались звезды на небе, а мудрецы утратили то, что считали мужской природой. Ошалевшие, они бросились к Брахме, тот повелел сделать макет члена Шивы в виде лингама. Следуя указаниям жен, мудрецы смастерили его из самого высокого дерева в их сосновом лесу и целый год поклонялись естеству. Весной Шива навестил их с недостающими деталями туалета и объяснил, что умащение тела пеплом и нагота нужны ради очищения от грехов, подавления страстей и обретения высшего мужества. С тех пор лингам повсеместно почитается как образ Шивы, символ мужественности и верности.
Так что выбор веры и бога этим несчастным вполне объясним и естествен, — с этими словами Пузанский последним глотком осушил банку и грустно спрятал ее в стол.
— Так вот чему они поклоняются! — оскорбленная в невинности, закраснелась Ева, но не смогла сдержать женского любопытства: — И что там дальше случилось с этим Шивой?
— Все вернулось на свои места, — успокоил Еву Пузанский. — Потом он с новой-старой женой целый год не вылезал из постели. Весь пантеон богов насилу соскреб у него с… — тут преподаватель сделал паузу…
— Ах, — вздохнула Ева.
— Именно с того самого органа, — подхватил ее Пузанский, — боги добыли капельку семени.
— Я не изучал, как вы, философию Востока, — вежливо и тихо вновь вступился отец Яков, — но и крайне поверхностного знания достаточно, чтобы сделать вывод о предопределении сим учением трагической судьбы этого искалеченного юноши. Насколько я знаю из информации, поступающей от педелей и концентрирующейся в личных делах на дискетах, этот человек объединил вокруг себя порченых для зла, и в том, что зло схватило именно его, нет ничего удивительного. Назовите мне хотя бы одно доброе дело, которое он или его друзья совершили в лицее, и я соглашусь похоронить его по христианскому обряду. Но такого дела нет, потому что его сознание было замутнено картиной собственного уродства, и весь мир казался ему злобным и недостойным доброты.
— Но кто его учил доброте?
Мы все учили его. Но его глаза были закрыты злобой. На мои лекции он просто не ходил, Ничему нельзя научить человека против желания. Даже добру.
Встал Стефан Иванович, поправил свежий венок на затылке.
— Я вижу, — сказал он, — что мнения у нас разделились. Это замечательно. Шива, конечно, ни к кому на лекции не ходил, потому что он стеснялся. Он мне сам рассказывал еще в первый год учения, что его задразнивают. Он и бросил ходить. Но экзамены он сдавал сам, а не его новое воплощение. Значит, готовился, учил конспекты. Теперь с его смертью мне будет труднее удерживать студентов от взаимных нападений. Кстати, после набега уличных еще один наш ученик лежит в лазарете с разбитой головой. Однако о нем никто не торопится позаботиться. А он защитил наш дом ценой здоровья. Я предлагаю послать к нему наших непримиримых дискуссионеров со словами привета и подарками.
Последние слова директора были прерваны странным событием. Раздался громкий треск, и часть пола разверзлась. Из широкой щели вырвался столб дыма и пыли, окутавший всех собравшихся с головой. Среди педагогов поднялась самая настоящая паника, потому что мина могла оказаться не одна. Часть из них, перепрыгивая через щель и расталкивая друг друга, устремилась к двери и сразу закупорила проход. Другие скучились вокруг директора и мужественно ждали, когда осядет известковая пыль.
Взрывы, к счастью, не возобновлялись, щель в свою очередь также не проявляла намерений к росту, и смельчаки, которые решились подойти к ее краю, услышали явственно монотонное гнусавое пение в ее глубине. Новую панику внес совсем потерявший голову секретарь Володечка, который мирно спал в закутке директорского кабинета, а когда прогремел взрыв, от страха потерял сознание. Придя в себя через несколько секунд и обманутый облаком дыма, Володечка с криком: «Пожар!» — ринулся спасать директора и провалился в щель.
Гнусавое пение внизу тотчас стихло и сменилось воплями, напоминающими блеяние овец. Потрясенный судьбой своего протеже, кашляя и протирая глаза, Стефан Иванович бросился к щели и встал у ее края на колени. Сначала сквозь дым и осыпавшуюся штукатурку он ничего не смог разглядеть, но когда облако рассеялось, изумленному взгляду педагога явился богатый открытый гроб, установленный на столе прямо под щелью. На сафьяновой обивке гроба выделялась лежащая на подушечке прекрасная голова Шивы, с которым соседствовали пышный зад и оголенные руки Володечки, которыми, казалось, он обнимал мертвеца. Вновь потеряв сознание при падении, Володечка, видимо, не представлял, как ему повезло, что он упал на Бога. Надо сказать, что ему повезло во второй раз. Заваленную штукатуркой крышку гроба сняли, чтобы ее очистить, как раз перед падением секретаря, непредумышленно освободив ему место. Однако, прислушавшись к возбужденным голосам шиваитов, собравшихся вокруг гроба, директор вдруг осознал, что везение его подчиненного не совсем полное, ибо верующие увидели в чудесном падении в гроб пышноволосого блондина с крупными формами и задом чуть ли не знамение.
— Жертва, жертва! — послышался ропот вокруг гроба. Из толпы шиваитов выдвинулся Саша, вся грудь и голова которого были обмотаны бинтами, и завертелся волчком вокруг гроба. В его руке появился блестящий клинок, которым он размахивал перед самым носом лежащего без сознания Володечки. Сбежавшие педагоги тем временем стали возвращаться в кабинет.
— Взрыв? — спросил Пузанский, кашляя и протирая глаза.
— Похоже, — согласилась Ева. Ее длинное, почти до полу, платье из черного бархата посерело от насевшей на него известки.
— Там Володечку режут! — спохватился директор и, расталкивая педсовет, бросился вниз. Хорошо зная расположение помещений лицея, он не петлял, а сразу нашел аудиторию. Преданный рыжий педель, Ева, путающаяся в длинном подоле платья, меланхоличный Пузанский и другие члены педагогического коллектива устремились следом.
Двери аудитории оказались заперты и, несмотря на все усилия замечательно сильного преподавателя гимнастики, никак не хотели открываться. Между тем религиозный экстаз в аудитории все усиливался, пока наконец не завершился ликующим воплем.
— Убьют его, паразиты! — причитал Стефан Иванович, обхватив крестообразно обе створки дверей и чуть ли не лбом пытаясь их открыть. Под его локтем дергал дверную ручку мужественный преподаватель физической культуры, пока наконец не вырвал ее с треском. Окончательно озверев, рыжий педель с разбегу боднул дверь плечом и вышиб ее половинку вовнутрь.
Толпа разъяренных педагогов влетела в аудиторию и замерла у входа. В обрамлении двадцати горящих свечей на единственном в аудитории столе сиял усыпанный белыми лепестками лакированный гроб. Под обнаженным телом Шивы тоже абсолютно голый лежал Володечка, связанный по рукам и ногам, и щурил обезумевшие глаза на полуобвалившийся потолок, а все пришедшие проводить в последний путь своего Бога подвижники вертелись волчком вокруг гроба, выкрикивая обрядовые заклинания.
Увидев теснящуюся у дверей группу педагогов, шиваиты не прервали ритуальный танец. Продолжая кружиться вокруг гроба, они все теснее обступали его, почти скрывая своими телами стол. Рыжий педель, мучимый желанием исправить дурное впечатление, произведенное им на педсовет, выдвинулся вперед и, раздвигая круг студентов-шиваитов, неожиданно легко оказался у гроба. Володечка, так и не пришедший в себя, был им вытащен из-под мертвого Шивы и сгружен к подножию стола.
На этом успех педеля и кончился. Только он наклонился развязать веревки, стягивающие руки и ноги Володечки, как был опрокинут на пол сильным ударом в голову. На мгновение педель потерял сознание, а когда снова открыл глаза, его ослепило мелькание ног вокруг стола, под которым он лежал, спеленутый в несколько цветных халатов, так что торчала только одна рыжая голова. По яростным крикам педагогов, среди которых выделялся повелительный бас Стефана Ивановича, и ответному свирепому ворчанию шиваитов он понял, что схватка за его освобождение уже началась и, сделав героическое усилие, выкатился из-под стола. Тотчас он сообразил, какую совершил ошибку, потому что на его бока и незащищенное лицо немедленно посыпались пинки. Катиться дальше в лесу лягающих ног не было никакой возможности. Рыжий педель перевернулся на живот, втянул голову в воротник спеленувшего его руки халата и застыл. Потом он рассказывал, что не чаял дожить до освобождения от пут, чувствуя под ногами дерущихся, как утлая лодчонка в шторм.
Тут раздался второй взрыв, который снес чуть ли не полпотолка в аудитории. Куски штукатурки, обломки паркета и известковая пыль засыпали аудиторию вместе с находящимися в ней людьми и тем самым привели к вынужденному перемирию. Везде слышались вопли, стоны, чихи, возгласы изумления и боли. Стефан Иванович получил удар по голове скользнувшей в пролом книгой старинного философа и математика Шифаревича, в которой говорилось на более чем пятистах страницах о коварстве русских жидомасонов. Ранее он упрекал автора за скудость собранного материала, но теперь, потирая шишку на затылке, возрадовался, что книга не была толще.
Пробужденный громовым ударом с неба, Володечка был прикрыт створками распахнувшегося при падении комбинированного канцелярско-платяного шкафа. Шкаф упал так удачно, что ничуть его не придавил, однако выползти из-под него не было никакой возможности. Оглушенные взрывом, заваленные обломками, шиваиты, не помышляя о сопротивлении, стали пробираться к выходу. Однако дверь уже была заткнута пробкой из удирающих педагогов, которые, забыв об истинно римском присутствии духа, разом грянули прочь и вовсе ее закупорили. Притом сверху сквозь разверстый пол директорского кабинета падали потихоньку или с грохотом, в зависимости от габаритов, различные предметы, что не поднимало духа присутствующих.
Постепенно пробка стала рассасываться. Сквозь дым и клубы пыли в коридор вылез Пузанский, отряхнулся и пошел по старой привычке в кабинет. На полпути он вспомнил, что кабинет, так сказать, анатомирован, и вернулся назад. Уже по эту сторону взрывоопасной зоны столпилось несколько усеянных известковой мукой преподавателей. Стефана Ивановича среди них не было. После того как последней выпрыгнула Ева и, не глядя ни на кого, пошла, виляя бедрами, приводить себя в порядок, коридор заполнили посеревшие одеяния шиваитов. С заунывными молитвами они вынесли доверху наполненный штукатуркой и паркетными дощечками гроб, придавленный крышкой, под которой угадывались очертания четверорукого бога, и понесли его вниз в актовый зал.
Стефан Иванович вышел последним, как капитан с тонущего корабля. В одной руке он держал роковую книгу, чуть не пробившую ему голову, другой тянул за шиворот спеленутое тело рыжего педеля. Захлопнув дверь, он встряхнулся, как пес после купания, и, обретя себя, волчьей рысью потрусил наверх. За ним потянулись вновь обретшие волю педагоги.
Первым, на что они наткнулись в приемной, была сорванная мощным взрывом дверь в кабинет. Далее за ней была пропасть, перед которой директор остановился. Разметанный взрывом пол и этажное бетонное перекрытие частично слетели вниз, а частично задрались до потолка, выгнувшись к нему перпендикулярно. Бумаги и мелкие вещи усеяли пол ниже лежащей аудитории, среди них белым пятном выделялся шкаф с раскрытыми, как крылья птицы, створками. Не понимая полностью, что произошло, директор остолбенело созерцал плоды взрыва, когда вдруг шкаф, лежащий вверх тормашкой, зашевелился и отпал в сторону. Поднимая клубы дыма и размахивая руками, Володечка возник на заваленном мусором полу и бросился опрометью к дверям. Как ни пытался директор впоследствии заманить его в аудиторию для приведения в порядок разбросанных взрывом вещей, ничего у него не получилось.
Поскольку кабинет директора был полностью обезврежен и находиться в нем не было оснований в прямом и фигуральном смысле, а учительская могла оказаться объектом номер два в случае нападения, решили собраться в спортивном комплексе. Сам Стефан Иванович заходил в него не ранее трех лет назад и решил, что бомбу под него здесь подкладывать не будут. Однако непреклонная Ева об руку с рыжим педелем за полчаса обшарили весь подвал на предмет установления в нем взрывных устройств и, только доложив Стефану Ивановичу, что прямой опасности нет, разрешили всем войти в спортивный зал. Одновременно по приказу директора лицея первый курс студентов был аврально снят с занятий и брошен на разборку и ремонт поврежденных взрывом помещений.
Преподаватели долго сидели молча и мрачно переглядывались. Не было никаких сомнений в том, что некая террористическая организация, действующая внутри лицея, решила одним ударом смести Педсовет и захватить всю власть себе. Близость смерти была настолько полной, что красноречие иссякло даже у Пузанского.
— Ладно, — сказал Стефан Иванович, убедившись, что от его центурионов пока мало толка. — Идите, господа, отдыхайте, а я пока у себя в покоях покумекаю.
4. ДОЗНАНИЕ
Покоями Стефан Иванович называл небольшую надстройку над крышей лицея, состоящую всего из двух комнат и маленькой кухоньки, где он помещался со дня основания учебного заведения. Не успев прийти к себе, Стефан Иванович спешно взялся за телефон, в результате чего его одиночество было вскоре нарушено.
К его великому удивлению, нарушителем оказался тот же самый офицер сыскной службы, пришедший почти один, потому что сопровождающий его мозгляк в офицерском мундире без погон и красных галифе тянул на какого-нибудь комиссарика последнего ранга или шофера.
— Террористическая организация…впервые за все годы…взорвать всех, — бормотал директор не в силах даже возмущаться, что вместо квалифицированной бригады из подразделения по борьбе с диверсиями ему прислали малозначащего сыскаря с попугаем в красных галифе. Попугай, правда, оказался на редкость активным, потому что, послонявшись малость у аудитории, где в дымном чаду студенты разбирались в бумагах и ценных вещах из директорского кабинета под внимательными взглядами педелей, он как-то мгновенно вышел на секретаря, увел его в отдельный класс, быстро утешил и разговорил.
В это время его сыскной начальник пробивался сквозь паутину недоверия, которой обтянул его гордый Стефан Иванович.
— Я не спрашиваю вас, подозреваете ли вы кого-нибудь, — говорил сыскной, держа в руках сигарету и взглядом выпрашивая у Стефана Ивановича разрешения покурить. — Только хочу сказать, что покрывать вредителей вам никак нельзя. Я хоть специально работе минера не обучался, однако точно вам скажу, что заряда, который под вас подложили, хватило бы, чтобы отправить вас не вниз, а на самый верх вместе с потолком и стенами. Счастливый ваш жребий, что из подложенных мин взорвались только полторы, потому что первый взрыв таким и считать нельзя, а другие не подключились из-за низкого качества проводов, которые в нужный момент электричество к зарядам не подпустили. А всего их было семь, и форму они образуют так называемого альпийского цветка, что явно сужает круг наших поисков. Можете вы мне назвать, какие кружки, секты, секции разрешены в вашем лицее, а мы поглядим по каталогу, символом какого цветка та или иная группа обладает.
Стефан Иванович с трудом удержался от возмущенного рыка, поскольку не был уверен, что беседующий с ним сыскарь не зарычит в ответ. Вместо этого он достал из кармана авторучку и маленький блокнот в дорогом кожаном переплете, раритет времен начала перестройки, и стал перечислять всю политическую и духовную подноготную лицея, не делая скидки, вернее, не скрывая ни детского возраста некоторых сектантов, ни участия в сектах педагогов лицея.
— Вообще говоря, я не слышал, чтобы у граждан Великой Римской империи был такой разнобой во взглядах, — откровенно начал он, не столько рассчитывая на эрудицию собеседника, сколько пытаясь сам для себя сложить логическую нить событий, приведших к взрыву его доверия к студентам. — Но мне кажется, что источники просто не считали нужным рассказывать о мелких партиях, может быть, одной улицы или квартала или о разрешенном поклонении не главному или не римским богам, где верующие ничего, кроме гадливого презрения у самих римлян, не вызывали. Или маскировали эти партии под общее, как бы полупрофессиональное распределение на коллегии, которых было не счесть. Я не могу сказать, что наш лицей сколок нынешней Российской империи по ее социально-политическому раскладу. У нас нет партии аграриев, трудовиков, купечества, но вместе с тем все студенты так или иначе разобраны в различные секты религиозного или сексуального характера. До вашего прихода я пытался смоделировать ситуацию, при которой лицей оказался бы в руках экстремистов-студентов, но проиграть ее до конца не смог, потому что она не жизнеспособна. Все педагоги прекрасно заменяемы, включая вашего покорного слугу, который хоть и является одним из трех основателей лицея, однако прекрасно понимает, что попечительский совет и правительство Московии нашло бы ему замену. Да и вообще факт теракта, несомненный по внешней видимости, теряет смысл при углубленном изучении его последствий для любой группировки. Я пришел к выводу, что он носил чисто символический характер и не был направлен против педагогического коллектива как такового.
«Хороша символика: чуть весь этаж не обвалился», — парировал про себя офицер из сыскной, но вслух делать замечание не стал.
— С вашего разрешения мы немного покрутимся здесь, — попросил он. — Походим, посмотрим, со студентами поговорим, но все без нажима. Бескровный теракт в конце концов пустяки, но на лицее висят два трупа. За один день убиты два студента, согласитесь, что это серьезно.
— В лицее занимается более пятисот студентов, — отозвался невозмутимый Стефан Иванович. — Убийство главаря, конечно, взбудоражило шиваитов. Но их всего человек тридцать, тридцать пять. Остальным, честно говоря, плевать. Что касается студента, погибшего при защите лицея от нападения уличных, то с ним все ясно. Поймайте любого беспризорника и актируйте как убийцу. Не мне вас учить. Последнее нападение на лицей было две недели назад и закончилось для нас еще более плачевно. Правда, убитых не было, но негодяи унесли из холодильной камеры половину коровьей туши, что само по себе очень обидно в условиях нынешней продовольственной блокады. Студенты две недели обходились без мяса. И вот новое нападение. Я написал заявку в департамент культуры о выдаче десяти автоматов. Следующее нападение будет для нападающих последним.
— Я не сомневаюсь, что вашу заявку удовлетворят, но вы раскрылись, и у меня возникло сразу два вопроса…
— Да, да, — благосклонно кивнул директор, — я к вашим услугам. Спрашивайте обо всем, что вас заинтересовало.
— Так вот, первый вопрос. Как согласовываются гуманистические идеи, которые, как я понял, вы пытаетесь привить вашим воспитанникам, с организацией массового убийства людей, которые виноваты только в том, что родились и живут голодными. Ваши воспитанники, за редким исключением, не знали, что такое драться за кусок хлеба. И сразу второй вопрос, вы уж извините. — Сыскарь выдержал паузу. — Если сравнить количество студентов лицея, которых всего пятьсот, и тьму уличных, не кажется вам, что после кровавой бойни, которую вы им готовите, они вернутся, чтобы отомстить? И если сейчас они вожделеют мяса, то после расправы над ними начнут вожделеть крови.
— Я не вижу, чтобы ваши вопросы что-нибудь открывали в преступлении, совершенном у нас. Но допустим, что вами руководило не голое любопытство, а, скажем, желание прояснить для себя атмосферу, в которой вызрело убийство и террористический акт. И я вам отвечу так. Если бы Рим боялся врага, это бы был не Рим. Если бы Рим боялся крови, это тоже был бы не Рим. Рим всегда брал на себя ответственность за действия своих граждан, и, если мы хотим создать в стенах лицея дух суровой Римской империи, мы не должны отступать от ее традиций. Если уличные банды еще раз войдут в стены лицея, они будут уничтожены. Если они попытаются вновь собраться, чтобы отомстить, мы вызовем регулярные войска и рассеем их. Если анархия и развал в империи достигли такой степени, что войска окажутся бессильны, значит, наше государство обречено, тогда нечего жалеть и нас.
— Если ваш подход именно таков, как вы его изложили, то нечего удивляться и результатам, — заметил сыскарь, премило улыбаясь и вставая со стула.
В это время, бесшумно ступая, к нему подошел помощник и стал что-то шептать на ухо. Сыскарь слушал его со вниманием, а директор, хотя и притушил дыхание, ничего, кроме «господин полковник» и «как вы приказали», расслышать не мог.
— Мы не прощаемся, — сказал «господин полковник» уже от двери. — Я оставляю своего помощника, а сам приеду к вам завтра. Но выслушайте мой совет: ритуальное убийство, даже если жертва виновна в гибели живого бога, — тоже убийство. Я бы на вашем месте не допустил, чтобы отпевание Шивы проходило в стенах лицея. В Москве все еще стоит буддийский храм — отвезите гроб туда.
— Я бы давно распорядился, если бы не крайние обстоятельства, связанные со взрывом, — отозвался директор. — И в свою очередь тоже хочу вам кое-что сказать, полковник. Вы обладаете информацией, сколько человек ежедневно погибает на улицах Москвы. А вообще на территории России? В пограничных областях? В так называемых горячих точках бывшей империи, которыми усеяна она как оспой или, точнее, бубонами черной чумы. Не кажется ли вам, что случайная смерть двух студентов слишком вами драматизируется. Тем более что один погиб в случайной драке с беспризорниками, а второй, возможно, просто самозадушился.
— Но позвольте! — воскликнул помощник, с изумлением его выслушавший вместе с шефом. — Какое там самозадушился, если под левым соском у него проникающее ножевое ранение. И о какой случайной стычке с беспризорниками может идти речь, если столкновения с ними, как вы сами только что нас проинформировали, происходят чуть ли не еженедельно. Все это говорит о высокой напряженности в отношениях между отдельными группами студентов и преподавателями.
— До завтра, — игнорируя его слова, попрощался Стефан Иванович с сыскным и отошел в глубь зала. К его удивлению, полковник, вместо того чтобы уйти, пошел за ним.
— Новая информация, — бросил он коротко. — Настоятельно прошу вас присесть еще на несколько минут.
— Какая может быть новая информация, если вы от меня вообще не отходили? — раздражился директор, впрочем, машинально садясь в кресло.
— Я не выходил, но мой помощник не терял времени даром. Дело в том, что у него с точки зрения сыска способности экстраординарные. Ну, вы меня понимаете?
— Я спустился вниз, в актовый зал, — сказал помощник. — До этого я переговорил с вашим секретарем, и он рассказал мне все, что знал.
Стефан Иванович невольно рассмеялся.
— Прошу прощения, — сказал он. — Так странно, когда Володечку называют «он».
— Он, она, не в этом дело, — отмахнулся помощник. — У вашей метрессы мысли скачут как испуганные кролики, ничего не разобрать. А в словах он все время путается. Но потом, как я уже сказал, я спустился в актовый зал.
— …И нашли там шиваитскую секту во главе с новым лидером у гроба покойного.
— Да, отпевание очень красиво. Но вот нож…
— Какой нож?
— Орудие преступления. Он был засыпан известкой и завален обломками мебели, но шиваиты его нашли. Они хотели опросить всех учеников и таким образом найти убийцу. После того как пострадавшего в нападении беспризорных Сашу-морду отправили в больницу, им вновь потребовалась ритуальная жертва. Но я объяснил им, что в этом нет никакой необходимости. Конечно, они не сразу мне поверили. Пришлось прибегнуть к довольно смешным доказательствам. Поиски пропавших вещей в карманах. Определение принадлежности того и другого предмета. Это их особенно утешило. Ведь нож тоже кому-то принадлежал.
— Вы, собственно, сыскарь или фокусник?
— Ни то и ни другое. Полковник объяснил вам, что я помощник. Я не работаю в его департаменте, и это приводит к некоторой проблеме.
— Что это вы все кругами, — раздражился директор. — Говорите прямо.
— Предмет сам по себе не такой, чтобы о нем прямо изъясняться. Впрочем, то, что я не служу в конторе, затрудняет вас, а не полковника. Он в конце концов за меня не отвечает.
— Ничего не понимаю, — Стефан Иванович был голоден, зол, хотел принять ванну и засунуть голову под подушку. В ушах еще стоял звон взрывного дуплета. — Я за вас отвечать тоже не берусь. Да и что вам, собственно, надо? Полковник, может, вы объясните?
— Предмет деликатный, — с неудовольствием сказал сыскарь. — Вы лучше повнимательней отнеситесь, тогда и разжевывать не придется.
— Да я разъясню, — утешил помощник. — В конце концов суть дела известна Стефану Ивановичу лучше, чем нам.
— Он по предметам определяет владельца, но это вроде уже прозвучало, — вмешался полковник, нетерпеливо поглядывая на дверь. — Это не фантазии, а вещи проверенные. Нож он забрал, и сейчас мы едем с ним работать. Но по косвенным показаниям мы вышли на довольно узкий круг антагонистов убитого лидера или бога, как они его называют. У нас, конечно, нет еще полных доказательств, но они будут сегодня ночью. Мой помощник может работать только дома, и самое большое несчастье, что по результатам работы он не может врать. Владелец ножа-то из вашего окружения, вот и проблема возникла, что с секретарем делать после разгадки.
— Вообще-то последователи бога Шивы имеют право на месть на законных религиозных основаниях? — осведомился Стефан Иванович и сам, же ответил: — По-моему, нет.
— Дело не столько в мести, сколько в скандале, — размышлял помощник. — Хотя ваши шиваиты, по-моему, и бога-то своего знают понаслышке. Обряды у них не канонические. Этот как его… Шива у них в гробу лежит, а его давно уже сжечь должны.
— Вы, надеюсь, это им не рассказывали? Сожгут к чертям собачьим лицей.
— Однако завтра, когда я получу точные сведения о владельце ножа, я не смогу их замолчать. Вы сами-то знаете убийцу?
— Чтобы вы не бросали мне в лицо подобные намеки, я вам скажу безапелляционно: погибший был со мной в хорошем контакте. Я помогал ему. И может быть, поэтому в рядах моих охранников, без которых, как вы сами знаете, обойтись невозможно, к его секте возникла особая неприязнь. Покажите мне нож, может быть, я без вашего гадания определю его владельца.
Помощник покачал головой.
— От лишних глаз сила уходит. Завтра можете им хоть хлеб резать, хоть в песочек втыкать, а сегодня он мне нужен, защищенный от чужих эманаций.
— Так что мы будем делать с этим человеком? — спросил полковник. — Перед тем как появиться у вас, я получил вполне определенные приказания помогать вам во всем и избегать малейшей вашей компрометации, которая, несомненно, возникнет, если ваше имя всплывет рядом с именем убийцы. Он наверняка пользовался вашим покровительством. С другой стороны, как я могу скрыть результаты своих расследований, если они прямо покажут на убийцу.
— Вы и не скрывайте, — весело сказал Стефан Иванович. — Нож-то у владельца украли. Этому тьма свидетелей есть.
— Вы не понимаете. Мой помощник, начав работать, уже не сможет остановиться и выдаст полную картину преступления. В голове у него возникает картина, в которой будет фигурировать убийца, жертва и место преступления. К моему большому сожалению, мы будем знать имя не владельца ножа, а преступника.
— Понятно, — также весело сказал Стефан Иванович, безмятежно глядя на полковника. — Именно в этой голове? — и он протянул руку к голове помощника, у которого сквозь иссиня-черные редкие волосы просвечивала основательная лысина.
— Вы это что! И не смейте! — полковник невольно шагнул вперед, словно заслоняя ясновидящего. — Он заменил один целое управление.
Стефан Иванович взял полковника под руку и шажком, шажком отвел в сторону.
— Эх, молодежь, молодежь, — вздохнул он, — все мудрствуете! Ты утречком зайди к шефу и документики ему в стол и отдай. Начальству своему доверять надо. Начальство разберется!
Раскланявшись, директор поднялся к себе, но заснуть не мог. Не то чтобы его волновало предстоящее разоблачение убийцы Шивы или смерть двоих учеников, но обстановка в лицее явно выходила из-под контроля и было неясно, как с этим бороться.
5. НОЧНЫЕ ВИЗИТЫ
На следующий день Стефан Иванович отменил занятия на всех курсах, кроме подготовительных. Впрочем, было ясно, что взбудораженные смертью товарищей студенты учиться все равно бы не стали до похорон.
— Педсовет продолжается! — объявил директор смущенным срывом занятий педагогам.
Вместо своего разрушенного кабинета он выбрал музей римской истории, расположенный на чердаке лицея и ничем особенным не примечательный, кроме коллекции оружия и доспехов, скопированных с римских редчайших образцов. Педагоги не очень жаловали чердак, за исключением Пузанского, который после нескольких банок пива умудрялся еще подняться вверх по крутым ступеням и часами примерял к руке мечи, дротики и копья, воображая себя легионером в отпуску.
Стефан Иванович, встав, несколько секунд облучал разом замолкнувших учителей своим радиоактивным взглядом, потом сказал:
— Мы, господа, не разойдемся, пока не примем радикальное решение. Одно из двух: может, нам самораспуститься и закрыть лицей, студентов же отправить на принудительные сельхозработы в пустыню Каракумы, куда приглашают туркмены по спецнабору. Или перестать наконец перекладывать ответственность на вашего директора и начать работать с контингентом. Мы все забыли, что наша цель не отрабатывать зарплату или скрываться от старых грехов в ожидании новых, а готовить управленческую элиту для будущего империи.
Вчерашний инцидент в моем кабинете, именно он, показал, что многие из вас не обладают виртус романа, которая включает в себя все высокие качества общества и индивида — справедливость, умеренность, верность и благочестие. В силу этих качеств древние римляне всегда предпочитали союз с окружающими государствами и народами, а в течение самой войны старались больше действовать предупреждением и доверием, чем угрозами. Все это черты народа, избранного Провидением для совершения великих дел. Хотя знание римской истории было необходимейшим и первым условием для преподавания в моем лицее, вы видно забыли ее. Ну а те, кто не забыл, наверно, согласятся, что внешняя и внутренняя история Рима полна тяжелых испытаний и борьбы с внешними врагами, с одной стороны, и борьбы между самими гражданами — с другой. Как мельчайший осколок древнеримского колосса поставлен и наш лицей. Но ведь несмотря на все трудности, Рим в силу присущих ему высоких качеств из всех испытаний выходил победителем. Почему же вы, мои помощники в воспитании доблести, позорно бежали при первых же звуках опасности и даже не пытались спасти моего секретаря, которого сначала чуть не принесли в жертву очумевшие шиваиты, а потом накрыл всей своей тяжестью шкаф. Единственный, кто смело бросился вперед, был вот он, — директор указал на рыжего педеля, который сидел впереди всех с белой повязкой на лбу и нервно мял левую ладонь. — Но при этом он забыл, что кроме доблести римляне обладали еще и рассудительностью, которая помогала им выжить там, где наш верный педель давно бы погиб. Кого же могут вырастить такие учителя, которые сами бегут от опасности? Таких же трусов, как и они! Прежде чем принять окончательное решение, я бы хотел выслушать людей, которые, на мой взгляд, готовы перестроить свою работу, готовы воспитывать истинных граждан нового Рима.
— Я не согласен с вами только в деталях, — сказал Пузанский. — То, что мы все струсили, — это неверно. Мы просто несколько опешили. И ничего в этом удивительного нет. И Сулла, и Калигула, и самый великий — Цезарь невольно бы вздрогнули, если бы под их ногами оседала земля. Но дело не в личном страхе, его можно превозмочь, и не во внимательности в поисках секретарей, дело в том, что лицей расколот. Он расколот так же, как наше несчастное государство, и является на самом деле осколком Российской малой империи, а не Великого Рима. Если общество раздираемо митингами, забастовками, фракциями, партиями и идеями на тему, как улучшить жизнь, то для лицея это секты, общества, курсы и религии. Но если мы смогли выловить в нашем несчастном обществе идею великого объединения и собирания, то наша прямая задача и честь — передать эту идею своим детям — лицеистам.
— Спасибо, старый друг, — растроганно сказал директор и заключил Пузанского в свои объятия.
Они трижды с хрустом расцеловались. Тут поднялась Ева. Поводя округлыми плечиками, единственная женщина среди мужчин бросила в лицо Стефану Ивановичу:
— Самое простое — свалить всю вину за разлад и анархию на педагогов. Но вы бы лучше вспомнили, что сами поощряли сектантство, сами учили нас, что наибольшее количество индивидуальностей создаст необходимые условия для конкуренции, в которой победит самый приспособленный к внешней среде. И мы поверили вам, что привело к междоусобной войне между отдельными группировками и отсутствию единых принципов обучения. Но мы верим вам, — закончила Ева, — и надеемся, что сегодняшний день, первый день после большого взрыва, поможет нам начать собирать студентов в римскую элиту.
Внезапно Ева взвизгнула и присела, выпятив округлый задок. Это Пузанский ущипнул ее чуть пониже спины. Раздался смех.
Ночью Володечка проснулся оттого, что в комнату его кто-то вошел. Он услышал, как шаркнула запираемая изнутри дверь, поток холодного воздуха обдал его.
— Пришел, — пискнул Володечка и стал вглядываться в темноту приемной, которая, оставшись без кабинета и уже более не используемая по прямому назначению, превратилась в спальню и место тайных интимных свиданий.
Дефицит строительных материалов был настолько велик, что ремонт кабинета даже для всемогущего директора был из разряда неразрешимых задач. Поэтому и приемная утратила свой первоначальный смысл. Однако Володечка, хоть и пискнул призывно, оставался пока еще в недоумении, кто, собственно, к нему пожаловал. Знал он только, что это не директор, потому что сам бегал к нему наверх только вчера и не ждал следующего приглашения раньше, чем через неделю. Но и кроме директора Володечка путался со студентами старших курсов, некоторые из которых были так дерзки, что могли, пожалуй, и замок дверной отколупнуть.
Чтобы не терять времени, он на всякий случай скинул одеяло и перевернулся на живот. Но вместо жарких рук и ласковых поцелуев на голую спину Володечки обрушился удар плетки. Володечка взвыл и скатился с постели, спина горела, как будто с нее сдернули кожу, да еще присыпали солью и горчицей. В страхе он нырнул было под диван, на котором только что так сладко отдыхалось, но пинок в бок прервал дыхание, а следующий отбросил на середину приемной.
— Дверь забита? — спросил один невидимый голос у второго.
Послышалась легкая возня, будто кто-то нашаривал ручку. Потом два перекрестных луча вонзились секретарю в глаза.
— Стой неподвижно, пидер, — услышал он спокойный шепот. — Дернешься, спустим на следующий этаж и запрем снаружи. Говори, кто вчера к тебе приходил?
— Из полиции, — пропищал Володечка, робким жестом прикрывая глаза, но тотчас получил удар плеткой по руке и голым ногам.
— Не заслоняйся, я по твоему лицу узнаю, ты врешь или правду говоришь. Так, говоришь, из полиции приходили. И что спрашивали?
— Фамилии, — прошептал Володечка, за что снова был наказан.
— Громче говори! — потребовал тот же голос, и плетка опоясала Володечкины ноги.
Тщетно он таращил глаза в темноте, пытаясь разглядеть своих истязателей, кроме двух радужных пятен, светящих ему в лицо с разных концов комнаты, ничего он не смог увидеть.
— Фамилии, — проговорил он угрюмо, пытаясь понять, насколько агрессивно настроены его ночные гости, — фамилии были нужны всех охранников директора. Потом спросили, знал ли я кого из шиваитов и какие обряды они в лицее распространяют.
— И ты дал фамилии? — то ли спросил, то ли констатировал голос.
Володечка только перебрал по ледяному полу босыми ногами и горестно вздохнул.
— Мне Стефан Иванович велел выдавать этим любую информацию по их просьбе. А фамилии его охраны внесены в график дежурств, бери и запоминай кому не лень.
— Что их еще интересовало?
— Больше, пожалуй, ничего. А вы меня отпустите? Кроме того, что меня спрашивали, я ничегошеньки не знаю. Мое дело — на машинке стучать да чай подавать в директорский кабинет.
— Ты дурочку не строй! С тобой сыскные говорили более часа, а ты утверждаешь, что дал им всего десять фамилий.
— Глаза болят, — выдавил Володечка, — погасите свет, не могу говорить.
Фонари погасли, оставив в глазах секретаря багровые пятна и мельтешение. Новый удар отбросил его к стенке. Володечка присел на пол и торопливо заговорил в темноте:
— Будете драться, вообще ничего не скажу. Я на боль очень терпеливый. Я не знаю, про что они еще спрашивали, потому что жандарм меня загипнотизировал.
— Какой еще жандарм? — похоже, обладатель сурового голоса не обладал достаточным терпением.
— Маленький такой, в красных брючках ходит. С ним, собственно, мы и говорили. Он попросил картотеку с фамилиями, но она осталась под пеплом и пылью, и он не настаивал… и вообще вел себя как джентльмен, а не пьяный извозчик, у которого только руки чешутся кого-нибудь стегнуть. Он посмотрел на меня пристально, и меня потянуло в сон. Я думаю, много чего наговорил, только я же себя не контролировал.
Чуть попривыкнув к вопросам, Володечка начал лихорадочно прикидывать, что его ждет.
«…Раз свет не включают, стало быть, лица открывать не хотят. И убивать меня не станут», — чуточку успокоился он.
— А как он тебя гипнотизировал? Что при этом говорил и делал? — продолжал теребить главарь.
— Я не знаю, — сказал Володечка. И вдруг разрыдался. — Отпустите меня, — скулил он. — Мне страшно. — Сам он тем временем, пользуясь отсутствием света, потихоньку пятился к дверям, благо расположение своей приемной знал очень хорошо.
— Гипнотизер-полицейский? — услышал он еще более удививший его вопрос.
— Да кто же еще! — в отчаянии воскликнул секретарь и резко приоткрыл дверь.
Уже перед ним был освещенный коридор, и ничего не заслоняло путь к бегству. Володечка переступил голыми ногами порожек и ринулся вперед, оглашая истошным криком «Убивают!» сонную пустоту лицея.
Только раз успел он крикнуть о помощи, как удар наотмашь деревянной палкой погрузил его в нирвану не хуже, чем искусный гипнотизер.
Тотчас за ноги он был втянут обратно и уложен под воровским светом фонарей в свою собственную постель.
— Зря время потеряли, — сказал один из нападавших другому. — Может, добить его?
— От этого кретина ни один детектор лжи ничего не добьется, — утешил его второй. — Да ты ему всю память отбил последним ударом по затылку. Завтра проснется и будет вспоминать, кто его так крепко загипнотизировал. Пусть живет, фикус голожопый. Дай бог, чтобы своим криком он никого не разбудил.
Налетчики вышли в коридор, удостоверившись сначала, что никто из спящих не проснулся и не выглядывает через дверь. Однако еле освещенный коридор был пуст и равнодушен к ночным воплям. Каждую ночь посвящали новичков в тайны мужской дружбы, и к крикам о помощи привык лицей так же, как и привык оставлять их без ответа.
Неспешно поднялись оба неизвестных на последний этаж и прокрались уже знакомой им дорогой к комнате Луция. Так же просто был открыт дверной замок, и вошедшие, на этот раз вооруженные не плеткой, а свинцовыми кастетами, на цыпочках подошли к кровати, на которой, завернувшись в одеяло, лежал хозяин комнаты. Сверкнули лучи фонарей, выпрыгивая из своих обиталищ, и скрестились на лице спящего человека. И тут же с криком удивления оба вошедших притушили их свет. Человек, который лежал в комнате Луция и на его кровати, был кем угодно, но только не студентом. Немолодое своеобразное лицо, обрамленное жесткими редеющими волосами, безусловно, свидетельствовало об этом.
Естественно, что первым движением вошедшие вернулись вспять, к двери, чтобы заглянуть в коридор и разобраться, как это могли они так безобразно ошибиться. Ведь позы и смертоносное оружие вошедших не оставляли сомнения в цели посещения студента, который стал для многих нежелательным свидетелем. Но раз комната была не та, получалось, что не только мог пострадать невинный, но тем самым и свидетель предупреждался о нависшей над ним беде. Поэтому, пока один из преступников обшаривал тонким лучом стены помещения, другой вышел назад и сверил номер комнаты. Когда он вернулся, его приятель тотчас направил на него луч фонаря, но никакой другой информации не смог получить, кроме как подтверждение, что комната была той самой, вполне им известной, о чем, впрочем, сообщала и большая фотография самого Луция с родителями и братом, вывешенная на стене. Снова приблизились два луча к лицу, по-видимому, крепко спящего человека, что было даже удивительно, ибо кто же спит в чужой комнате под взглядами двух громил с кастетами и недобрыми намерениями, когда ярчайший свет режет твои глаза и ты не знаешь, сон это или явь.
— Будем трясти, — полувопросительно, полуинформируя сказал один из вошедших и, не ожидая ответа, подошел вплотную к кровати, на спинке которой была аккуратно сложена одежда спящего.
Такой вывод преступники сделали потому, что никакой другой одежды в комнате не было. Значит, Луций ушел на всю ночь, и это было даже неплохо, если спящий на его месте человек смог бы вразумительно объяснить, где он и как можно лучше его подкараулить.
Аккуратно просунулась дубинка между грудью спящего и одеялом и, зацепив постельное белье, свалила его вниз. Человек задвигался беспокойно во сне, перевернулся на живот и снова замер. Дубинка поднялась и ударила его по обтянутому кальсонами заду. Человек, не разгибаясь, как бы взвился над постелью и снова спустился в нее. Приходя в себя, он покрутил головой, глаза его широко раскрылись на резкий свет фонарей. Могучая рука ущемила его волосы в горсть и запрокинула назад голову, прежде чем он сумел крикнуть.
— Посмотри на эту птичку, — сказал один приятель другому. — Ты его когда-нибудь видел здесь?
— Где Луций? — спросил другой громила, расставляя пошире ноги и прицеливаясь пнуть носком сапога в промежность сидящего.
— У вас устаревшая рецептура, — ответил человек спокойно, будто не его горло было перехвачено толстыми пальцами и не его задница полыхала огнем. — Вы придавили мою гортань и хотите, чтобы я отвечал, причем на два вопроса одновременно. Может быть, вы включите свет, мы сядем как цивилизованные люди, и я с удовольствием расскажу вам все, что знаю, а вы мне.
В голосе его была такая спокойная убедительность, что ему позволили удобно сесть на кровати, в то время как допрашивающие заняли кресла напротив.
— Что касается Луция, я не застал его и расположился ждать, правда, не его. Он меня абсолютно не интересует, так как роль его в убийстве незначительна.
Оба приятеля, раскрыв рот, смотрели на незнакомца. Потом Эол, у которого голова работала быстрее, спросил:
— Ты в лицее не числишься, правда? Для студента ты стар, а для педеля у тебя морда слишком трезвая. Значит, ты…
— …Полицейский, — добавил его приятель, — ищейка сыскного управления.
— Оружие есть? — рявкнул Эол, подскакивая к полицейскому и насильно ставя его на ноги. Он обшарил туловище пришельца и залез под подушку. Оружия у ищейки не было.
Позволив себя обыскать и снова усевшись на кровать, полицейский продолжал как ни в чем не бывало.
— Вы забыли обыскать мою одежду, сразу видно — новички, но я вас могу успокоить, что и там вы ничего бы не нашли.
— Ловкий у тебя метод, — ухмыльнулся Эол, — ложишься в постель, дрыхнешь без задних ног, а утром рисуешь портрет убийцы.
— Убийц, — поправил его полицейский, — в моем отчете будут указаны двое. У вас нет мнения, кто именно будет назван?
— Ты решил, что мы у тебя в кабинете на допросе. Только до этого еще надо дожить. Если хочешь жить, говори, где Луций и что ты вынюхал здесь.
Игнорируя его вопрос, сидящий на кровати человек заговорил медленно и задумчиво, будто разгадывал ребус.
— Кто, собственно, такой этот Шива и какое место он занимал в лицее? Ясно, во-первых, что он из своего генетического несчастья собрался сделать карьеру, и все данные у него для этого были. Основной вопрос: как он вписывался в атмосферу Римского лицея со своей религией? Но если вспомнить, что Рим принимал все религии, кроме христианской, под своей крышей и всем давал справлять свои религиозные обряды, то становится понятным, что директор лицея и при желании ничего не мог сделать с шиваитами. Однако по мере усиления влияния группировки шиваитов автоматически возрастал вес ее главаря у директора и увеличивалась жажда его смерти, скажем, у людей охраны. Поэтому смерть Шивы можно рассчитать с компьютерной точностью. Однако сам он никого не убивал и не обрекал на страдания, поэтому его смерть должна быть отомщена. Я увидел глаза убийцы на лезвии ножа, — мягко добавил полицейский. — И я их не спутаю ни с какими другими.
Эол отошел к стенке, ткнул пальцем в выключатель. Сел рядом с полицейским, полуобняв его за плечи и не забыв положить рядом с собой вынутую из кармана дубинку.
— Но ты с нами поделишься, — прошептал он почти нежно. — Усопший, можно сказать, был нашим другом. Ты расскажешь нам, кого ты подозреваешь?
— Не подозреваю, а знаю. — Так же нежно полицейский скинул руку Эола со своего плеча. — Да что там ходить вокруг да около. Вы пришли сюда, чтобы пришить единственного свидетеля вашего преступления, который хоть и не видел, где и как вы убивали своего сокурсника, но мог подтвердить, что принесли его тело к нему в спальню. Но я-то знал, что вы придете, и услал Луция на всю ночь, чтобы проще было с вами разбираться. Вас я ждал, дорогие мои.
Говоря о том, что он услал Луция на ночь, полицейский на самом деле врал, но ложь получилась правдоподобной и потому очень убедительной.
— Чего же ты нас ждал, а охраной не озаботился, — спросил Эол и рассмеялся. — Или озаботился? Только спрятана хорошо. Если мы всех подряд свидетелей глушим, то что нам стоит тебя отправить малой скоростью да на четыре стороны. Как же ты о такой мелочи не подумал?
Эол повел взглядом, и друг его растянул в руках вынутый из кармана тонкий шнурок, готовый по первому слову накинуть его на шею полицейского. Однако тот смотрел на них, покачивая беспечно носком ботинка, будто не замечая всех приготовлений. И эта непонятная беспечность мешала Эолу отдать приказ о его ликвидации.
— Я, наверно, совсем на идиота похож, — сокрушался тем временем полицейский, осторожно скашивая взгляд на стоящего сбоку от него человека с веревкой в руках. — Что ж вы полагаете, я тут почти всю ночь лежу, ожидая с вами встречи, и о себе вовсе не озаботился. Нет, ребята, у меня все в порядке. Вы своей веревочкой и детишек в ясельках не напугаете, потому что у каждого ребеночка на вашу паршивую веревку есть ножичек в кармане у воспитателя. А мой ножичек в кармане — это острый разум.
— Делай! — крикнул Эол, и тотчас петля сомкнулась на горле говорившего.
Но вместо того чтобы повалиться навзничь, дрыгая ногами от удушья, полицейский остался сидеть, даже не переменясь в лице. Что-то не заладилось с руками душителя, и как он ни напрягал их, как ни пытался свести за спиной жертвы, ничего не получалось. Несколько секунд длилась беззвучная борьба человека со своими руками, потом кулаки разжались, руки бессильно скользнули по бедрам, а веревочка так и осталась висеть на шее полицейского.
— Ты что, — в исступлении закричал Эол, — ты что, заснул над ним! Ведь эта самая веревка по нам с тобой плачет!
Он хотел перехватить свисающие концы шнурка, и тотчас непонятная сила скрутила руки у него за спиной и отшвырнула его от кровати в угол. Сотоварищ его остался стоять, опустив руки вниз, и видно было, что эту позу он менять не собирается.
Полицейский встал, подобрал дубинку Эола, подошел к нему. Эол, увидя безнадежность попыток двинуть рукой или ногой, благоразумно стоял не шелохнувшись, следя расширенными глазами за всеми движениями экстрасенса.
— Почему, — спросил тот, подойдя к нему совсем близко и тыча дубинкой в лоб. — Почему я не могу в ответ протянуть тебя дубинкой по спине или ногам так, чтобы ты почувствовал всю смертельную боль, которую причинял другим. — Он размахнулся, и дубинка со свистом пронеслась в нескольких миллиметрах от лица Эола. — Почему я не могу перебить тебе кости, как вы это собирались сделать с Луцием, и выкинуть тело из окна. Такие были у вас планы, признайтесь?
Эол застонал и попытался рывком освободиться от стягивающих его метафизических пут.
— Надо сделать совсем простую мыслительную работу. Рокировку. Прикинуть на себя все, что ты причиняешь другим. Но с тобой и говорить на эту тему бесполезно. Такие, как ты, понимают только силу. Но я, могущий во всех подробностях вообразить действие боли, как я могу причинить ее даже таким выродкам, как вы. — Он засмеялся. — В католических церквах существовал обычай расправы без пролития крови. Вот и я сниму с себя моральную ответственность за ваши души и тела. Свяжу вас не воображаемой, а моральной веревкой и передам властям. Око за око, мальчики мои!
Уже светало, когда в коридоре лицея возле комнаты Луция раздались грузные шаги. Залитый светом коридор вдруг погрузился в темноту. Только резкая полоска света шла из-под двери. На секунду дверь отворилась и снова захлопнулась за вошедшим. Человек с закрытым платком подбородком и носом подошел к лежащим на кровати мастерски связанным и прикрученным к кровати громилам и вытащил откуда-то из рукава нож. Не торопясь, разрезал он одну веревку за другой, пока не уничтожил все связывающие движения путы. Затем он погасил в комнате свет и исчез за дверью.
Эол с товарищем полежали несколько минут неподвижно, не чая своего освобождения, потом заворочались, распрямляя спеленутые веревками члены. С кряхтением и стонами они сползли с кровати, поднялись, привели, как могли в темноте, себя в порядок и, не подбирая дубинок и шнурка, выскочили в коридор и исчезли во тьме. Их шаги были слышны какое-то время, потом затихли.
6. ПРИГОВОР
Вернувшись к себе, Луций с большим удивлением разглядывал следы, оставленные посетителями. Обрезанные куски веревки, дубинка, кастеты, одинокая туфля у входа. Воображение его отказывалось поверить даже в десятую долю опасности, которая высвечивалась в каждом найденном предмете. Наконец он решил объявиться директору, чтобы взять краткосрочный отпуск и уехать со всеми документами и братом в Санкт-Петербург. Несколько удивленный обилием праздношатающихся лицеистов и педагогов, которые временами шарахались от пробегающих с грозным видом шиваитов, однако же безо всяких приключений добрался Луций до третьего этажа и тут же вошел в прикрытую дверь директорской приемной. Комната поразила его присутствием нескольких лиц в белых халатах, окруживших выдвинутый в центр диван. На нем лежал некто весьма знакомый с закатившимися глазами и ледяной повязкой на лбу. Сестра набирала как раз одноразовым шприцем розовую жидкость из маленькой бутылочки, а повернутый спиной к окружающим и лицом к больному человек в полуформенном кителе тихо, но настойчиво вопрошал: «Кто же тебя так саданул, родимый?»
Видя, что присутствующим не до него, и справедливо полагая под белой повязкой мягкие черты секретаря, Луций ни минуты не медлил и, резко раскрыв двери, вошел в кабинет. То, что он увидел, поразило его. Соскользнув с остатков паркетного пола, Луций задержался на обломке перекрытия, который подозрительно кренился вниз, провисая в междуэтажную пустоту. Юноша замер на месте, чувствуя, что при малейшем движении может провалиться. Потом шажок за шажком ему удалось дойти до порога, с которого он так легкомысленно стартовал, и выбраться назад в приемную. Казалось, никто не обратил внимание на его манипуляции, но только он вышел за дверь кабинета, как к нему подлетел небольшой человек, вовсе ему не знакомый, и увлек его в коридор.
— Я насчет вашей кровати, — начал человек, продолжая держать Луция за руки своими худыми и очень цепкими пальцами. — Вы ведь сегодня не в стенах ночевали?
— Не в стенах, — с изумлением ответил Луций не в силах сообразить, по какому праву его допрашивают и какой линии ему лучше держаться.
«Может, он хочет купить мою кровать, так как она широкая и мягкая», — даже подумалось ему, и он стал мечтать о сделке, чтобы было на что купить билеты. Но вопрошающий как-то мало походил на коллекционеров подержанных кроватей, почему Луций с мыслью о продаже распрощался и снова прислушался к словам незнакомца.
— Вы после улицы должны были переодеться, — талдычил свое незнакомец, — надеюсь, эти двое вас не потревожили?
— Какие двое? — с изумлением посмотрел на него Луций, и вдруг истина стала доходить до него.
— Это вы оставили у меня мусор? — накинулся он на слабо пищавшего что-то человека. — И дверь так бестолково вскрыли, что ключ почти в замке не поворачивается. Я еще не посмотрел, что у меня пропало, но, если вы украли что-нибудь ценное, рекомендую вернуть, потому что я не замедлю обратиться в сыскной отдел. Там у меня родственник служит. — Последнюю фразу добавил он для устрашения, потому что и сам почувствовал какую-то легковесность в своих словах.
Почему-то его упоминание о сыскном отделе собеседника очень обрадовало. Он заулыбался, развел руками в стороны и сообщил юноше, что сам является приверженцем упомянутой организации.
— …Только прежде, чем вы ринетесь в сыскную, я хочу попросить лежащих у вас преступников никак не трогать и не развязывать. С минуты на минуту я жду специальный наряд, чтобы их забрали, не вызывая волнения. Кроме того, рекомендую не возвращаться к себе, пока я вам не разрешу, потому что Эол и Квинт Гортензий направились к вам, чтобы лишить будущий суд ценнейшего свидетеля.
— Это меня что ли? — недоверчиво спросил Луций и засмеялся. — Они же знали, что я не буду давать никаких показаний. Только вы опоздали малость. Комната моя давно пуста. И постель уже холодная. Птички улетели, не знаю, впрочем, как далеко.
Маленький человек посмотрел на него искоса и сразу ему поверил.
— Вижу, что не врете, — сказал он, сжав зубы так, что слова с трудом через них прорывались. — Вы ведь директора искали, так пойдем, я думаю, мои подопечные не так далеко ушли.
Почему-то Луций пошел за человечком не раздумывая, а тот неторопливой походкой спустился на второй этаж. Еще не доходя до преподавательской, услыхали они сквозь стены баритон Стефана Ивановича и невнятное бормотание отвечающих ему лиц. Не стучась, человечек толкнул дверь и вошел, взглядом приказывая Луцию следовать за ним. Преподавательская, которую Стефан Иванович вынужденно сделал своей штаб-квартирой, была небольшой и уютной комнатенкой, где педагоги, устав от своих юных учеников, пили втихую чай.
Перед директором стояли двое юношей из охраны — Ромул и Рем и, свесив головы на могучие шеи, слушали потоки самой изощренной аргументации, срывающейся с губ директора.
— Что значит они не идут? — шумел директор. — Как это понимать? Ты им объяснил, что речь идет об их полудурочных шкурах?
— Объяснил, — нехотя сказал Ромул. — Правда, мои объяснения для них, что евнуху публичный дом. Они просили вам передать, что прошлое для них — затерянная могила, жизнью своей они дорожат не больше, чем ветхой тряпкой, а главное для них — это замаливание грехов для будущего рождения.
Все это Ромул прочитал, вынув из кармана замызганную бумажку, чтобы не было сомнений в источнике.
— Сошли с ума, — упавшим голосом пробормотал директор, но что-то, видимо, в коллективном сумасшествии его охранников казалось ему неестественным. — Приведите их насильно, — потребовал он, — будут сопротивляться — свяжите. Людей возьмите сколько надо, но чтобы через пять минут оба грешника были у меня.
Выпалив это все и проводив не шибко рвущихся выполнять поручение охранников, он обратил наконец внимание на Луция и его спутника. Точнее сказать, он вовсе не обратил внимания на студиуса, зато весьма пристально вгляделся в полицейского, которого узнал сразу.
— Напрасную работу проделываете, — с укоризной сказал ему полицейский, — вторичную, так сказать. Я имею в виду ваши слова насчет связывания. Уже были голубчики связаны, да вы же и развязали. Только я вашу акцию предусмотрел…
— Так, так, — сказал директор после некоторого размышления, — я, признаться, так и думал, что это вы на ребятишек моих порчу напустили. Вообще-то сильны. Я полагаю, что в средние века вы бы свои нынешние года не пережили. За колдовские штучки. Вы что предпочли бы: костер или плаху?
На такой простой вопрос у полицейского ясновидца слов не нашлось, он только пожал плечами и произнес, испытующе глядя на директора:
— Сейчас я их вам вызову. Прошу любить и жаловать.
Но Стефан Иванович только рассмеялся.
— Смешной вы малый, — сказал он веско. — Но кто же так вульгарно убийство обставляет? Да и кроме того, должны же вы чувствовать, что я человек с принципами. И в них вовсе не входит уничтожение собственных учеников. Даже странно, что мне приходится это объяснять такому человеку, как вы. Я бы отсеял его на сессии, и он, не будучи студиусом, сразу бы стал для меня безвреден. Они были у меня утром. И можете поверить, я сразу понял, что вы над ними поработали. Но простите, уважаемый, бесчеловечно лишать людей их прошлого.
— Я их лишил памяти, чтобы обезвредить, — сурово отвечал полицейский. — Если их прошлое несло зло, то я постарался чтобы настоящее этих людей было нейтрально.
— И вызвали полицейский фургон, — ухмыльнулся Стефан Иванович. — Вы, наверно, не знали, что с территории лицея никто не выдается. У нас тут экстерриториальность, милейший. И если бы я, например, приказал запрятать вас поглубже цокольного этажа, а потом бы заявил, что вы сбежали, ни одна собака не пришла бы расследовать случившееся.
— Это что, угроза? — вдруг посерьезнев, спросил экстрасенс. — Или вы меня запугиваете на всякий случай?
— Да ладно, — махнул рукой директор. — Интересно мне с вами, вот и стараюсь наступить то на одну мозоль, то на другую. Скажите, нет ли надежды этим несчастным молодым людям на возвращение памяти?
— Памяти о чем? — спросил экстрасенс и добавил: — Я выветрил их них воспоминания, связанные с лицеем. Я прикинул, что до вашего обучения вряд ли их души были переполнены злом. Еще я прикинул, что, если не дать им противовес в виде веры в какого-нибудь диковинного бога, жить им в беспамятстве будет невозможно, а так у них есть психологическая компенсация. Кстати, видели бы вы только их просветлевшие лица после того, как у них раскрылись глаза!
— М-да, — сказал директор, взглянув на него искоса, — так это, пожалуй, счастье.
Экстрасенс, недоумевая, посмотрел на него.
— Счастье, я говорю, что таких, как вы, бесконечно мало. Иначе бы вы нас всех неизвестно в кого превратили. Да, впрочем, известно. В нечто по своему образу и подобию. Только ваша деятельность меня, педагога, призванного следить за моралью своих питомцев, потрясает своей полной безнравственностью.
— Не этого я ожидал, — сказал экстрасенс тихо. — Я думал, что вы будете признательны мне за то, что я избавил вас от проблем, я даже хотел обратиться к вам с просьбой. В самом деле. Двое преступников, пользуясь вашим покровительством, учиняют в лицее серию убийств. Они убивают сначала своего главного конкурента в ваших глазах, а после направляются к свидетелю преступления. Этому свидетелю, — он взял Луция за руку и чуть выдвинул вперед, — повезло, что он не оказался дома. Хуже пришлось вашему секретарю. Так вы полагаете, я не должен препятствовать вашим боевикам?
— Как это скучно, — сказал Стефан Иванович, зевая во весь рот. — Да ты оставайся, — кивнул он Луцию, который, сообразив, что доверительного разговора не получится в присутствии постороннего, решил уйти, отчасти из скромности, а отчасти из чувства самосохранения. — Потом есть к тебе приватный разговор.
«Вот это попал», — подумал Луций скромно… и промолчал.
— Как это скучно, — повторил Стефан Иванович, — зачем же вы мне все вторичную информацию выдаете? Неужели я хуже вас знаю, что ребята пошалили, даже и слишком. Вы бы хоть влезли мне внутрь, что ли, и сами вытащили все, что я вам хочу сказать. Или невозможно? Я понимаю. И причины просматриваются. Но я о другом. Вы, собственно, кто? Откуда вы явились и кого представляете? Как вас величать прикажете?
— Климент Александрович, — сказал экстрасенс и чуть даже руку вперед не послал здороваться, но вовремя удержался.
— Да нет, ваше имя-отчество мне без всякой надобности. Более того, как я себе представляю, вы из семьи бедной, но интеллигентной. Талантливый недоучка, да? В полицию пришли, чтобы добро приносить, да и кушать хочется. Впрочем, не о том я, не о том, — досадливо поправил себя директор. — Кто вы с общественной точки зрения? Член царствующей фамилии? Народный избранник, имеющий за плечами миллионы избирателей? Или верховный судья? На каком основании вы свои законы устанавливаете? Или вы философ, сформулировавший свою мировую этическую систему. Такую систему, чтобы ни одного в ней не было логического противоречия. И по этой системе имеющий моральное право всех судить. Я вам неспроста свои вопросы задаю. Потому что прежде чем браться за суд, как вы думаете праведный, неплохо было бы установить границы этой праведности. Только кому их устанавливать? Вам? А с какой стати? Когда в физике каждое действие находит тут же противодействие, так это мировой закон. За этим законом стоит вся история эволюции мира из первоточки. Все запасы вселенской массы и энергии, все правила игры между микро- и макротелами. И когда человек переступает закон, с такой же неизбежностью, как в физике или в логике, рождается ему целый набор противовесов: от общественного осуждения до электрического стула. Имя этой системы противовесов — уголовный кодекс. Но я ни в одном кодексе даже самой отсталой или, наоборот, ультрасовременной страны не слыхал, чтобы за убийство, причем официально не расследованное, до конца недоказанное, следовала как наказание «амнезия» — лишение памяти. Согласитесь, если веками отрабатывались институты наказания, то любая отсебятина для истинного судьи невозможна. Так же, как невозможен самозваный судья.
Рассчитали ли вы свои силы, молодой человек, когда взялись за дело, требующее либо наследственных привилегий и власти, либо подтвержденного народом мандата на суд?
Экстрасенс чуть посерел, но апломба своего не потерял.
— Так ведь не то вы в основание кладете, уважаемый. Чушь — все то, что вы говорите, без знания и веры. Да, впрочем, откуда вам понять все это. А насчет ваших охранников… Что же, — спросил он с возмущением, — мне их обратно в прежнее разбойничье состояние приводить?
— Да нет, — улыбнулся Стефан Иванович. — Раз уж вы свидетелей преступления от смерти уберегли, да и подсудимым вашим не дали лишний грех на душу взять, сдается мне, что лучше им остаться у кришнаитов отмаливать грехи свои. Я у вас, может быть, и в долгу. Так что не стесняйтесь, заходите. Глядишь, и подлечите старика. А то сердце с вашими богами и злодеями вовсе никуда стало.
Экстрасенс-полицейский вышел. Тотчас сразу несколько человек попытались войти на прием, но директор всех одним мановением руки выгнал.
— Все про тебя знаю, — строго сказал он Луцию, усаживаясь поудобнее в старинное, принесенное из разбитого кабинета кресло. — В делах весьма паскудных замешан, чуть не убит своими же сотоварищами, шляешься без разрешения аж на другую сторону города, в учении, впрочем, усерден. И еще одно на тебя есть: малышек развращаешь, что уже никуда не приклеишь и ни на какие римские каникулы не спишешь, — тут, вспомнив о собственных, немалых уже годах, директор вздохнул не без чувства зависти, но продолжил с должной строгостью в голосе: — Сейчас ты на меня посмотрел, будто хочешь спросить: мол, каких малышек? Да ни сном ни духом не ведаю. Ан малышки есть. И неспроста эти малышки тобой интересуются и торчат с утра у ворот, из которых два часа назад только похоронная процессия вышла. Что же ты, никого не совращал, любовью не завлекал, не знакомился? Не иначе, только что ушедший магнетизер тут сработал. Да ты не вертись, все может еще поправится, если умен будешь. Главная для тебя надежда, что не имеешь ты, сынок, ни отца, ни матери в наличии. Поэтому с тобой легче мне изъясняться, чем с большинством маменькиных сынков, кои в наш лицей по великому блату проникли и ведут в нем себя, как в своей недвижимости, приобретенной за купеческие родительские рубли. Только идею нашу стержневую не только за рубли, но и за самые конвертируемые в мире марки или фунты не возьмешь. Не все в этом мире продажно, дорогой мой, и ты просто мне в этом поверь.
«Экой лисой стелется, — подумал несколько удивленный Луций, — надо быть настороже. Ведь неспроста он всю эту бодягу на меня выплескивает. Как бы мне со своей просьбой вставиться?»
— Стефан Иванович, — попросил он, дождавшись паузы. — Можно мне одну просьбу вам высказать? Жизнь моя от нее зависит.
— Жизнь твоя зависит не от нее, а от меня, — отмахнулся Стефан Иванович, — просьбу твою разберем в свое время. Ответь мне, в каком ты мнении о нашем старом демократе? Как он тебе?
— Самый мой любимый преподаватель, — без колебаний отвечал Луций, потому что знал о старинной дружбе между двумя педагогами, а кроме того Пузанский был ему вполне приятен.
— Это замечательно. А еще замечательнее то, что я для тебя приготовил большой сюрприз. Ты дальше Москвы бывал?
— Нет, — с грустью отозвался студент, — но у меня и просьба относительно поездки моей…
— Погоди. Погоди. Суть дела в том, что Пузанский командируется мной в Санкт-Петербург по лицейским делам. Что такое Октябрьская железная дорога ты, наверно, знаешь. Хотя бы понаслышке. Ехать неделю, а в дороге от вещей не отойдешь, чаю не получишь и так дальше. Короче, нужен ему надежный спутник, верный как пес, чтобы с него все бытовые заботы снять, да и в городе престольном работа есть. Даже боюсь, одному тебе не охватить ее. Большая работа.
— Брат у меня есть, — взахлеб зачастил Луций. — Мальчишка двенадцатилетний, но шустрый, спортсмен. Как курьер может запросто использоваться, да и в школе у них каникулы скоро. А без него мне никак. Не на кого оставить.
— Каникулы, говоришь, — директор посмотрел на Луция и вдруг засмеялся. — Счастливый у тебя сегодня день, малыш. Да и ночь была не плоше. Ты хоть понял от какой беды тебя сыскарь уберег? За твоей головой кореша приходили.
— Ваши кореша, Стефан Иванович? — спросил Луций, и мурашки побежали у него от шеи вниз. — Кто корешам-то шепнул куда идти?
— Дурачок ты, дурачок, — улыбнулся ему директор. — Кто бы чего не решал, судьба-то перерешила. Радуйся!
И в самом деле радоваться бы бедному студенту, что желание его малосбыточное само собой вдруг исполняется, что вместо полного опасностей и смертельных неожиданностей нелегального и безбилетного путешествия он, как белый человек, поедет в купе с профессором лицея, что не надо ему опасаться за жизнь и брата, ан нет радости хоть убейся. Наоборот, тоска на сердце, да любопытство вовсе не по теме: о каких таких малышках старик талдычит?
Не в заводе было у студентов с малышками знакомиться, вся их любовь происходила в лицее между воспитанниками. Малышки требовали денег и квартиры для свиданий. И что мог предложить Луций кроме своей единственной рубашки да скамейки у лицейского сада. А тут услышал он в голосе директора не то что подначку, а, наоборот, уверенность, что говорит он о человеке вполне живом и вплотную ему, Луцию, знакомом. Вспомнил было студент двойку-тройку случайных подруг, которые сами ловили его у ворот и увлекали в глубь парка своей грошовой любовью, да тошно только ему сделалось. Какие тут малолетки!
Спрашивать он, однако, заопасался, потому что вдруг придумалась ему история, будто какая-то исключительной влиятельности сударыня на нем свое внимание остановила и директору об этом где-нибудь на рауте рассказала.
«Ходит же старая сволочь на приемы к друзьям, — подумалось Луцию. — Наверно, там и пролилась слезами чья-нибудь маменькина дочка. Только где она могла его видеть? И в чем он был одет?»
Однако он прекрасно знал, что все ему примыслившееся — бред, а на поверку выйдет совсем другое.
— Отпускные, билеты, оружие — все получишь у завхоза завтра. Брата берешь под свой риск. Мы за него отвечать не намерены. От меня зайди к профессору, может, какие распоряжения даст. И смотри мне, если по твоей вине поездка завалится, можешь сбегать хоть к чеченам, хоть к якутам — выловлю и накажу.
— Мама, — шептал Луций, выходя из учительской, — неужели все может случиться, как говорил старый негодяй Стефан. Неужели он через неделю уже будет в Петербурге искать знакомый по названию Путиловский завод? Неужели ему удастся свидание с родителями? Однако и при самом удачном раскладе надо было еще доехать, а перед этим предстояла ему масса дел: как-то забрать брата, вернее, выкрасть из интерната. Оформить все проездные документы и свидетельства и определиться с транспортом, так как ночью через полгорода идти с вещами невозможно. Не только что вещей, и костей не соберешь.
Отягощенный новыми, хоть и приятными заботами, он вовсе забыл, что утром впопыхах от удивления и страха не закрыл комнату. Найдя теперь дверь приоткрытой, с доносящимся изнутри ужасающей крепости храпом, он не торопился войти, а стал прислушиваться, кто это у него хозяйничает внутри. Постояв несколько секунд у порога, он разозлился, пожалел, что оружие выдадут только перед отправлением, и то не ему, а старому демократу, и все-таки, хотя и трусил, отворил дверь и вошел.
Гремело радио, лилась из крана вода, а с кровати глядело на него, бессмысленно улыбаясь, лицо Никодима.
Зачем он рассказал этому мошеннику и шуту гороховому про свою поездку, Луций и сам не понял. Было что-то в его закадычном дружке располагающее к откровенности. Никодим поездкой ужасно загорелся; оказалось, он в Петербург мотается чуть ли не каждый месяц и город знает почище, чем Москву. Стал он ему рассказывать о дорожных опасностях, о станциях, где из вагона и носа показывать нельзя, о перегонах, ради шутки обстреливаемых иногда мирным сельским людом, где лучше, наоборот, выползать из вагона на животе и отлеживаться на травке у шпал. Также назвал он неразумному Луцию некоторые петербургские злачные места, где можно дешево и вкусно поесть, только сославшись на его, Никодима, дружбу, а под конец, покрутив с большим сожалением головой, добавил, что никак не может отпустить самого своего закадычного друга на верную погибель, да еще с неразумным юнцом на привязи и, бросив все дела и ожидаемую от них прибыль, обязуется довезти Луция с багажом и привеском до самого Петербурга и обратно. И Луций оказался таким идиотом, что поверил ему.
7. ЛИНА
Фортуна отвернулась от Луция и Никодима на обратном пути. Уже все препятствия, казалось, были преодолены. Василий так быстро и аккуратно собрался, что никого не разбудил из своих приятелей по комнате. А их было еще десять учеников. Вышли они из интерната также незаметно, как и вошли, и крались мимо сторожки, почти невидимой в предрассветные смутные часы, боясь разбудить нового, еще более гориллоподобного сторожа. Пустой ночной вагон выбросил их на перрон той самой станции метро, с которой юноши стартовали несколько часов назад. И все прошло у них гладко, только вот напоследок на своей, можно сказать, до последнего угла знакомой остановке судьба уколола Луция, видимо, потому, что оказался он по своему делу не один.
Ночной, самый последний поезд умчался по колее; впереди до самого эскалатора не было видно ни одного человека. Они поднялись, возбужденно болтая, по неподвижному эскалатору, вошли в длинный, тоже абсолютно пустой переход и пошли по нему, уже видя себя в теплой комнате Луция за чаем с последними, тщательно хранимыми остатками сыра и булки. Когда до выхода оставалось буквально несколько метров, из-за угла вышли двое залетных и молча пошли на них. Луций и Никодим встали, заслонив своими спинами мальчишку, примериваясь к будущим противникам.
Не так легко было бы с ними справиться — у каждого в кармане топорщился нож, а у Луция еще был заткнут за пояс молоток, и не впервой было им меряться с отдельно гуляющими по своей ночной работе залетными, но, когда оставалось до сшибки уже метра полтора и Василий, как нашкодивший кутенок, сжался в уголке, один из мужчин, преградивший им выход, поднял круглую голову, недобро рассмеялся и играючи развел полы пиджака. На животе у него под ремнем торчал пистолет. Игра становилась скучной. Более опытный Никодим резко обернулся и с криком «бежим» рванулся к дальнему проходу. В самом деле, казалось, им могут помочь только быстрые ноги. Луций с братом бросились за ним, однако, пробежав несколько десятков метров, они остановились и обернулись как по команде. С гиканьем и прибаутками кампания, состоящая теперь уже из десятка залетных, кричала им вслед, приплясывая и свистя. И было им с чего веселиться. Из-за поворота, к которому они так быстро мчались, вышла вторая бригада бандитов. Вперед высунулась толстая морда с конусовидными ушами и, подбоченившись, стала подходить:
— Ну что, приплыли, гуси лапчатые?!
— Чего надо? — спросил Луций хрипло и вытащил нож.
Однако не такая стояла погода в длинном переходе, чтобы нож что-нибудь решал.
— Храбрый, падла, — восхищенно сказала морда и повернулась к своим: — Какие нам ребята бесстрашные попались, а, Серега. Может пожалеем их?
— Нет, — категорично сплюнул лосеподобный Серега. Большими красными руками он вытащил отливающий белым металлом пистолет с длинным стволом и заорал: — Брось нож, паскуда, а то замочу!
Луций оглянулся. Сзади подходили другие бандиты.
«Забьют, — тоскливо подумал он. — Да и парня жалко. Или продадут на Крымском невольничьем рынке, или заставят колымить на базарах. А потом…»
— Ну что, храбрецы, — звонко крикнул Никодим и длинное лезвие отброшенного им ножа со звоном ударилось о камень. — Кто из вас горазд на кулачках? Да еще с пушками против голых рук.
Подошедшие сзади подозрительно загоготали.
— С этим хочу, — указал на Луция верзила, которого называли Серега. — Он от меня в прошлый раз убег, сейчас отыграться желаю, — и, окончательно повернувшись к Луцию, добавил: — Помнишь, длинномордый, как я тебя добром просил продать мальчонку, а ты что мне в ответ показал? Вот теперь и мальчишку отберем и самого пустим…
— …По разным городам курьерской скоростью, — добавил стоящий за его спиной пожилой бандит в джинсовой куртке с грубым загорелым лицом.
— С этим потом будешь, сначала со мной попробуй, — крикнул Никодим и вслед за ножом сбросил наземь свою куртку.
— Сейчас ты у меня, петушок, получишь по суслам, — пообещал Серега и сжал мощные татуированные кулаки. — А ну, братва, разойдись!
— Разойдись, разойдись, — засуетился и Никодим и стал расталкивать слишком уж близко сошедшихся с разных сторон бандитов.
Никодим и Серега встали друг против друга и, прежде чем начать битву, примерились. На вид силы, конечно, были неравны, но Никодим, видимо, об этом не думал.
— А что, братва, если я вашего побью, какая нам скощуха будет? — спросил Никодим, принимая боевую стойку, что вызвало целый град насмешек в его адрес.
— Не побьешь, вражина, — выдохнул Серега, и его громадный кулак, как мячик, прыгнул в лицо Никодиму.
Тот, не ожидая такого скорого начала боя, оказался к нему совсем не готов. Отброшенный назад, он упал навзничь и перевернулся со спины на живот. Все замерли. Залетные от того, что бой оказался совсем неинтересным, а Луций — от горестного предчувствия, что поражение Никодима закрывает для них последний просвет.
Серега с удовольствием посмотрел на свой кулак, потом на поверженного Никодима, и озабоченность отразилась на его лице.
— Никак в кровь разбил! — воскликнул он, разглядывая окровавленный кулак. — Вот сука, распорол мне шкуру своими гнилыми зубами.
Он широко, в удовольствие размахнулся и приложил ботинок к Никодимову бедру. Точнее хотел приложить, потому что юноша изогнулся, как кошка, и плотно встал на ноги.
— Иди сюда, — позвал он Серегу, — сейчас я с тобой поговорю.
На худощавом лице Никодима удар вовсе не был заметен. Только нос чуть покраснел и налились губы. Серега от неожиданности попятился, но быстро пришел в себя, и вот уже десятки кулаков обозначились вокруг лица Никодима. Так быстро бандит проводил многоударную серию.
— Ты, кореш, лучше сдавайся, — насмешливо крикнули из толпы, когда последний удар из проведенной серии все-таки достал отступающего Никодима.
— Серега-то у нас дважды Сибирь брал. Он чемпион Енисейской республики.
Никодиму в самом деле было не до советов. Серега оказался боксером высокого класса, и юноша ничего не мог противопоставить его длинным рукам. Уже не надеясь на победу, он решил не отступать более, а, согнувшись, броситься вперед и схватиться с соперником вплотную. Ласточкой пролетел он Сереге в ноги и обхватил их. Однако Сергей поступил очень мудро и, не размышляя, схватил прильнувшего к его ногам Никодима правой рукой за шиворот, а левой за пояс брюк и поднял перед собой.
— Очень интересно, — услышал вдруг Луций, прикрывший глаза, чтобы не видеть бесславного конца своего закадычного друга, мягкий девичий голосок, уместный здесь так же, как взбесившийся бык на вечеринке.
— Отпусти-ка его, он симпатичный, — повторил голос повелительно, и Луций поневоле оторвал взгляд от застывшего в воздухе Никодима.
В двух шагах от себя, за цепью залетных, увидел Луций одиноко стоящую юную девушку, которая вдруг поднесла ладонь к губам и чмокнула ее. В ее золотистых, распущенных волосах выделялся черный полукруг гребенки, шею оторачивало длинное боа и во сне не виданное юношей. Она улыбалась, запрокинув лицо вверх, и схваченный за шиворот Никодим улыбнулся ей разбитым ртом. Однако девушка равнодушно скользнула по нему взглядом и вновь через головы воров послала воздушный поцелуй. Залетные расступились, и девчушка неторопливо прошла в полукруг. Ее высокие каблучки гулким эхом постукивали по камню. Подойдя вплотную к Луцию, девушка обошла его сначала с одной стороны, потом с другой, покачивая головой, обнаружила Василия, который скорчился у стены, ожидая, наверно, смерти, взяла юношу за руку и вывела на середину. Потом посмотрела вверх на Никодима.
Серега воспринял ее взгляд как команду, осторожно подхватил Никодима за штаны и опустил вниз.
— Разбойное нападение, — засмеялась девчонка, и банда ответила ей довольным гоготом.
Девчонка, а это была совсем молоденькая девушка, заголила локоть и достала из-под рукава свитера тускло светившийся браслет. Отстегнув его, она повернулась к Сереге, который улыбаясь ее разглядывал, и протянула ему браслет.
— Выкупаю, — сказала она решительно, — всех троих. Берите, пока не передумала.
Серега осторожно ухватил браслет с ее руки, а потом завладел и всей рукой. Аккуратно оголив ей локоток, он вернул браслет на место и, ловко орудуя распухшими пальцами, застегнул его.
— Ты все хорошеешь, — сказал он. — Отцу привет передавай. Да не броди одна, разбойница.
— Отобьюсь, — махнула рукой девчонка и вновь протянула руку Луцию. — Пойдем, теперь ты мой.
Серега аккуратно обнял ее за плечи, поцеловал в щеку.
— Не ходи одна, — еще раз сказал он с нажимом. — Скоро за тебя кенты резаться начнут.
— А мне-то что? — отмахнулась девица презрительно. — Они уже режутся.
Не веря в неожиданное спасение, Луций смотрел, как расходятся бандиты, не поворачивая к ним лица и не обменявшись словом. Вот уж последние спины скрылись за поворотом подземного перехода, и девчонка со смехом бросила Луцию:
— Чего смотришь? Лучше спасибо скажи, дуралей! И тут Луций узнал ее. Это была та самая отважная деваха, которой помог он с подругой выбраться с разбитой станции метро. Только по сравнению с прошлой встречей она, казалось, повзрослела на пару лет.
— Вот ведь смешная вещь, — прохрипел, поднявшись с земли, Никодим. — Такой малый неповоротливый, а как-то по случаю сумел меня ухватить. Но если бы мы еще раз схватились, все, ему бы пришла смерть.
— Кому пришла смерть? Фраер ты, бедный, — прыснула девчонка. — Это же Серега, вожак Смоленско-Кутузовских. Да он один размел взвод ментов. А с таким шмендриком, как ты, ему и делать нечего. Только дунуть — и ты улетишь.
— Девочка, почему они тебя слушаются? — спросил, растягивая слова, Василий, улыбаясь своим приятным лицом.
— Ты не встревай, малыш, — высокомерно отвечала девица, хотя была старше от силы на два года. — Твое дело солдатское: молчи в тряпочку. Вы двое катитесь отсюда. Если кто пристанет, скажите, Лина пропуск дает, мне с человеком поговорить надо. — И она просунула руку под локоть Луция.
— Где пропуск-то? — спросил Василий тупо, но Лина, вдруг озлившись, вырвала руку из под локтя Луция и яростно крутанула мальчика к дальнему выходу.
— Катись отсюда! — крикнула она. — А то братву назад позову!
— Вы лучше ступайте, ребята, — попросил Луций, — а мы за вами пойдем. — Как вы относитесь к чаю с бутербродами? — уважительно поинтересовался он. — Я бы хотел пригласить вас к себе, если только вас не смутит ночное время.
— Лина, — представилась девчонка и протянула Луцию ладошку.
Сам не зная почему, Луций поднес ее к губам и поцеловал. Тотчас щеки Лины стали розовыми, глаза увлажнились и наполнились теплым блеском. Она стояла в недоумении, не зная, должна ли забрать руку назад, а ей не хотелось, пока Луций сам не выпустил ее.
— Ты меня спасла, — сказал он, — черт побери, без тебя они меня бы съели живьем, но скажи, Лина, почему ты можешь им приказывать?
— Чепуха, — отмахнулась Лина, — просто они знают моего отца, а он… — она осеклась и поскучнела вдруг. — Короче говоря, мой папочка у здешних громил в большом почете. Только мне от этого одни неприятности. В прошлый раз, когда я оторвалась от охраны, знаешь, какую они трепку от отца получили! Он хитрый, понимает, что со мной воевать бесполезно. Так он вымещает на бойцах злобу, а теперь, как я без них пойду, он снова накажет их. А мне так хочется к тебе. Ты точно зовешь меня в гости? Для меня твой лицей все равно, что заколдованный замок. Наши сколько раз пытались в него забраться, только еле ноги уносили.
— За тобой что, охрана все сутки напролет; следит? — спросил Луций почтительно. — А вот сейчас, например, где они?
Лина улыбнулась, привстала на цыпочки и внезапно достала из кармана маленький пистолетик.
— Руки вверх! — крикнула она Луцию и нажала курок.
Раздался оглушительный выстрел, и из дула пистолета повалил дым. Луций еще не успел испугаться, как Лина с триумфом повернулась назад, тыча пальцем в две незамедлительно появившиеся из-за ближайшего угла фигуры в характерных черных кожаных куртках и с толстыми могучими шеями.
— Пистонный, — пояснила девочка и отрицательно помахала фигурам рукой: мол, зря не вылезайте.
Фигуры, ворча что-то невнятное, снова скрылись за углом.
— А если у тебя не будет времени выстрелить? — поинтересовался Луций, поднимаясь вместе с девочкой наверх из перехода.
— Так они же подглядывают, — негодующе крикнула она, — Каждые пять минут свои морды высовывают из укрытия и снова прячутся. Думают, я их не вижу. Вот, вот, смотри.
Лина резко обернулась назад, увлекая за собой студента. Тотчас две головы скрылись за поворотом.
— Вот видишь, — сказала Лина, — я-то в безопасности, но, чтобы пойти к тебе, мне надо отпроситься у них. Иначе весь район на ноги поднимут. Ты иди вперед и не оглядывайся.
Лина сорвалась с места и помчалась назад. Луций, решив подчиниться взбалмошной девчонке, медленно пошел через Кутузовский проспект, высматривая брата и Никодима. Он подумал было, что напрасно отпустил их вдвоем, но, вспомнив, в каком состоянии находился Никодим после битвы, утешился, и тотчас за спиной раздался перестук каблучков Лины. Луций уже дошел до середины проспекта, когда услышал вдалеке характерные звуки сирены.
— Полицейский патруль, — крикнул он. — Бежим!
Лина капризно передернула плечами. Мохнатый свитер вольно облегал ее стройную фигуру. Высокие сапожки и кожаные штаны довершали облик маленькой разбойницы. Патруль приближался. Уже видны были передовые мотоциклы, сопровождающие джип с десятком сидящих в нем полицейских.
«Сейчас задержат, — с тоской отметил Луций. — Начнут проверять документы, руки вывернут, им только дай предлог. Все из-за этой глупой девчонки, у которой, наверно, даже и документов нет и которую запросто могут бросить в спецприемник».
— Двое на трассе, остановитесь! — загремел, казалось, над самым ухом динамик.
«Попили чайку», — грустно подумал юноша. Он остановился и дернул за руку девчонку, которая продолжала идти вперед как ни в чем не бывало.
— Ты что, с ума съехала?! — зло крикнул Луций. — Тебя застрелят прямо на проспекте. Стой!
Лина передернула плечиками, но остановилась, картинно выдвинув ногу. От патруля оторвались два мотоцикла и, разгоняясь, направились к ним. Полицейские мчались на стоящих неподвижно юношу и девочку, как бы стремясь сбить их. Подъехав почти вплотную, мотоциклы заложили крутой вираж и, как по команде, остановились в нескольких сантиметрах от ног Луция.
— Руки за голову, стоять неподвижно, при малейшем движении стреляю! — рявкнул один из мотоциклистов и ловко спрыгнул с подножки своей машины на асфальт.
Остальной патруль вместе с джипом медленно направлялся к ним, когда мимо него на громадной скорости проехало такси. Послышался звон разбитого стекла, из окна такси высунулся ствол и гулкая очередь рассыпала крупу по асфальту. Тотчас патруль развернулся и, набирая скорость, помчался за такси. Полицейский, уже протянувший руку к Лине, внезапно развернулся, вскочил в седло мотоцикла и с ревом умчался догонять своих товарищей. Его коллега отстал от него на несколько секунд.
— Выучка, — уважительно сказал Луций, провожая взглядом виражирующие вверх по проспекту мотоциклы. — Вот это удача! Второй раз вылезаем из дерьма.
— Удача! — высокомерно посмотрела на него Лина. — Для студента у тебя очень скудное воображение. Не слишком много тебе удач! Если бы ты мне не понравился еще тогда, — она махнула рукой, словно показывая, как давно это было, — стала бы я вмешиваться в дела чужой банды. А если ты думаешь, что каждый день по улицам мчатся такси специально, чтобы подстрелить дорожную полицию, значит, ты ничего не понимаешь в жизни.
— Если это твои люди и ты знала, что они из-за тебя подвергают свою жизнь опасности, почему же ты даже шаг не соизволила ускорить? Я тебе удивляюсь. Все-таки не пять лет.
— Я тебе хотела показать, как меня хорошо охраняют, — сказала Лина, — а если ты раздумал приглашать меня к себе, так и скажи. Я как-то тебе не навязываюсь, — и она повернулась к Луцию спиной.
До лицея оставались считанные метры, и юноша снова подумал о том, что девочка спасла ему жизнь. Да и что он знает о жизни залетных, чтобы судить дочку одного из главарей. И вообще причем тут ее отец?
Вместо ответа он взял девочку под руку и осторожно повлек за собой. Несколько мгновений она сопротивлялась его движению, потом подчинилась, храня рассерженное молчание.
— Ты только не воображай, что я к тебе иду, — сказала она напоследок уже перед дверью лицея. — Мне просто твой лицей посмотреть интересно. А в твою комнату я могу и вообще не заходить.
— Как хочешь, — собрался сказать Луций, которого уже качало от вывертов девицы, но в очередной раз промолчал.
Первый, кто им встретился, был старый демократ. Полный пива и благодушия, он, видимо, подыскивал себе очередного слушателя, потому что один и тот же человек не мог длительное время воспринимать его сентенции.
— У нас посетительница, — воскликнул Пузанский, останавливаясь и качая головой, как носорог, случайно вонзивший рог в пальму и не знающий, как выбраться, — и какая прекрасная! Луций, сынок, кого ты привел в наше царство ночи и запустения? А у меня, ты знаешь, бессонница. Лечился до четырех утра и пивом и травником — не помогает. Вышел курить в коридор — и вдруг ты. И с таким прекрасным цветком в петлице, как вас зовут, дорогая?
— Сами вы толстый кактус, — неприязненно сказала Лина. — У кого это я в петлице торчу, хотела бы я спросить? Неправда, я сама по себе.
— Я не хотел тебя обидеть, о дитя ночи, — загудел Пузанский, — и если ты дашь мне возможность, я исправлю свое заблуждение. Сравнение с цветком тебя оскорбило — это выше моего разумения, но красота и юность всегда правы — по определению. Пойдемте ко мне, отрок и юница, и я напою вас крепким чаем и расскажу, что такое любовь.
— Он чокнутый? — осведомилась Лина, ничуть не снижая громкости своего голоса.
— Да, — также громко ответил Луций, — но очень умный. Если хочешь, можем пойти к нему в гости.
— Так вот, любовь, — загудел Пузанский, обнося гостей горячим, заваренным в сервизных расписных чашках коричневым чаем. — Это тонкая штука, и много прекрасных влюбленных расстаются только из-за того, что считают любовь чем-то отлитым в навечно застывшей форме, пожаловавшим навсегда. На самом деле любовь — это не форма и не содержание, это процесс, это жизнь в ее бесконечном развитии и изменении, и если этого не понимать, то можно ее убить. Когда люди встречаются, им кажется, что взаимное чувство друг к другу — это Уже произошедшая любовь. В действительности это только приготовление.
Чтобы перейти к истиной любви, необходимо провести громадную работу совместного движения, надо не уставать и не лениться понимать и узнавать другую личность, чтобы вливать в то первое чувство все новые и новые грани уважения и трепетного нежного удивления. Человек не может раскрыться сразу даже перед самым близким и дорогим ему существом. Ему нужно время, чтобы повернуться то одной, то другой, то третьей гранью своей души и дарования, чтобы в процессе этого взаимопроникновения меняться и расти, отдавая свою личность. Вот поистине пример того соединения, когда чем больше отдаешь другому, тем больше получаешь сам. И если ты искренен, добр и самосущ, то чувство, принимаемое тобой за любовь, изменится и вырастет в истинное чувство, которое поднимается над эросом и привычкой и над всем земным. Сейчас половина того, что я вам говорю, кажется вам неинтересным, а вторая половина воспринимается не разумом, а эмоциями, но пройдет время, и когда-нибудь вы припомните, причем независимо от того, разведет ли вас рок или оставит вместе, припомните, что говорил вам наполненный пивом бурдюк, то есть я.
— Господин учитель, — сказал Луций, потягивая сладкий, чуть горчащий чай и наблюдая за Линой, которая, казалось, была поражена тирадой Пузанского и тихо прихлебывала из своей чашки, — мы только сегодня по-настоящему познакомились. Да и согласитесь, как-то это мудрено все, что вы говорите. Я не силен в философских и исторических определениях любви, но понимаю только одно: если мне человек нравится, то это происходит сразу, а если я к нему безразличен, то пусть он хоть разорвется на сто частей, я все равно не сумею себя переменить.
— И много раз ты проверял свою теорию? — хитро осведомился Пузанский.
«Ни разу», — честно хотелось ответить студенту, но присутствие Лины сдерживало его. — Проверял, — ответил он уклончиво, будто не желая повествовать о многочисленных своих победах.
Педагог рассмеялся, но ничего не сказал, а девчонка нашла в темноте ногу Луция и пребольно надавила на носок своим острым каблучком.
— Пошли, — шепнула Лина ему на ухо. — Я хочу посмотреть, как ты живешь, — и она неодобрительно обвела взглядом громадную пустую залу Пузанского.
Оттого что потолки и стены были выбелены, все пространство расширялось и еще более скудной и нелепой казалась обстановка: два обшарпанных кресла и журнальный столик в одном углу да обеденный стол, за которым они сидели, в другом. Кроме этого во всю длину комнаты тянулся стеллаж с книгами. Лицей когда-то, в легендарные годы, был дворцом великого князя то ли Николая, то ли Михаила. Поэтому до сих пор, многократно изуродованный снаружи, он сохранял внутри монументальность и основательность древних строек. На лестничных клетках пустовали выемки гигантских стенных зеркал, где-то еще горели мозаичные непроницаемые окна, остатки фресок, невыскобленных временем и произволом новых хозяев, проглядывали на почти соборной высоте, под потолком.
Открывая свою многострадальную келью, Луций взглянул на нее как бы чужими глазами и удивительным образом получил удовлетворение. Несколько узкая комната была достаточно длинна, и окно во всю стену от пола до потолка гармонично расширяло ее. Особенно смотрелся высокий камин с деревянными резными обводами и мраморной облицовкой.
Перед тем как отправиться в экспедицию за братом, Луций провел в комнате полную уборку, и яркое сияние старинной латунной лампы это подчеркивало. Оказалось, что оба путешественника, Василий и Никодим, не дождавшись их прихода, мирно спали одетые поперек кровати, что еще больше подчеркивало ее ширину и основательность. Не желая их будить, вошедшие сели за стол поближе друг к другу и стали говорить шепотом, что волей-неволей их как-то сближало. Лина с большим любопытством осматривала комнату. Взгляд ее блуждал от одной стенки к другой, пока не остановился на книжном шкафу, к которому она спорхнула со своего стула.
— Рим, Рим, Рим… — бубнила она, перекладывая книги, потом, не взяв ни одной, вернулась к столу. — Что это у тебя одна история? — удивилась девочка, неодобрительно посмотрев на Луция прямым взглядом светло-серых глаз.
— Из нас готовят специалистов по римской истории, — попытался объяснить ей Луций на самом деле и для него необъяснимое. — Мы должны стать такими же, как древние римляне: смелыми и воинственными, чтобы отвоевать обратно всю страну.
— Какую страну? — удивилась Лина. — Мы разве не в своей стране живем?
— Это очень долго объяснять, — сказал Луций. — Ты в школе-то географию учишь?
— Да ну ее, — отмахнулась девочка. — У нас школа закрыта полгода, учителя бастуют. А до них бастовали строители, которые обещали сделать ремонт. Так что даже если учителя и вернутся на занятия, нам еще ремонтироваться до зимы. Смутное время на Руси? — догадалась она тем не менее. — Когда от союза каких-то стран остались ножки да рожки. И все друг на друга войной пошли. Мне отец много про эти годы рассказывал. Он говорит, что для его работы это было самое счастливое событие, — но тут же она перескочила к более близкой для нее теме. — Что-то я не заметила особой мужественности в твоем дружке, когда Серега его над землей держал.
— Он у нас не учится, — почему-то стал оправдываться Луций. — Это мой друг самый закадычный. Он ко мне в гости пришел.
— Я его где-то видела, — задумчиво сказала Лина. — По-моему, у него какие-то дела с нашими были. Ты вообще с ним осторожнее. У него слишком морда гладкая.
Луций с удивлением и невольным уважением посмотрел на Лину. Правильное лицо Никодима с блестящими от избытка внутренних сил глазами и жесткой линией губ и подбородка, казалось, должно нравиться женщинам. Правда, женщинам, а не девочкам вроде той, которая сейчас сидела рядом с ним. Девочка в самом деле, видимо, забыла о Никодиме и своем отношении к нему. Она в упор смотрела на Луция, скрестив руки на груди, потом положила оба кулачка под подбородок и спросила:
— Почему ты меня не поцелуешь? — Луций от изумления смог только пожать плечами.
Он поднялся и пробурчал нечто невнятное, одинаково смахивающее на «если хочешь, поцелую» или «отстань к черту».
Возмущенная девочка встала, обошла стол и молча направилась к двери. Луций поспешил за ней, но она остановила его сердитым взглядом и так шваркнула дверью, что от грохота проснулся Василий. Не обращая на него внимания, Луций выскочил вслед за быстро уходившей по длинному коридору Линой. Однако, прежде чем он успел ее догнать, открылась одна из студенческих дверей и рыжий педель вышел из нее. Столкнувшись лицом к лицу в седьмом часу утра со свободно разгуливавшей по коридору сверхмодной девицей в туфлях на каблуках, он от неожиданности попятился и встал как вкопанный у стены. Девочка прошла мимо, не заметив его. Тогда педель опомнился и бросился за ней.
— Стой, — закричал он громко, так что, наверно, разбудил весь четвертый этаж и половину третьего, — ты что тут шляешься, шлюха!
При слове «шлюха» Лина остановилась, резко повернулась назад и молча пошла на него. Торжествующий педель, абсолютно не понимая ситуации, как-то не придал значения поведению девочки, которую, как ему казалось, он застукал за платной работой. Мысли о повышении по службе на должность инспектора старших классов, а то и завуча застили перед ним лицо юной девушки.
Луций прибавил шаг. Он не знал, за кого больше боится: за девочку или за педеля, который играл с огнем, сам абсолютно этого не зная. Но он запаздывал, а Лина, подойдя вплотную к воспитателю, абсолютно не задумываясь, высоко подняла вверх правую руку и с силой опустила ее на рыжую голову. Раздался щелчок, напоминающий удар мяча о стенку. Педель отшатнулся, но в следующую минуту схватил Лину за плечо, оттолкнул грубо к стене и ударил кулаком в грудь. В это время Луций добежал до них.
Лина стояла у стены, прижав руки к груди и пытаясь что-то выкрикнуть. Рыжий педель, сбросив с девочки боа, схватил ее за ворот свитера и подтянул к себе.
— Нападение на педагога, — заорал он счастливо. — Будешь в тюрьме ночевать, стерва!
Луций встал между ними и попытался оттолкнуть педеля, но тот, увидев кавалера, ловко вывернул ему руку и повернул к стене, не выпуская при этом девочки.
— К директору пойдем. Он покажет тебе, как баб водить. Грубейшее нарушение лицейского распорядка, караемое отчислением с волчьим паспортом, — злорадствовал рыжий. — Да ты не вертись. От меня не уйдешь.
Пользуясь тем, что внимание педеля было отвлечено, Лина крутанулась и выскочила из свитера, оставшись в одном лифчике, через который просвечивала ее маленькая грудь. Педель бросился за ней, но она вдруг поднесла обе руки к губам и пронзительно засвистела.
Превозмогая боль в вывернутой руке, Луций все же двинулся за рыжим крепышом и настиг его. Когда, растопырив руки, тот навис над девочкой, юноша, подойдя со спины, присел на корточки и рубанул здоровой рукой педеля под коленки. Нелепо замахав руками, рыжий умудрился уцепиться за Лину и, сползая, рванул бретельки лифчика, оголяя грудь. Девочка обернулась и ударила его сжатым кулачком в нос.
— Не так, — произнес чей-то голос. Луций внезапно обнаружил за своей спиной двух удивительно спокойных здоровяков в одинаковых джинсовых рубашках, расстегнутых на груди. Все их отличие состояло в том, что у одного на шее болталась толстая золотая цепь, а у второго проглядывал золотой же крестик с красным камнем. Стоящие молча разглядывали голые Линины груди и разорванный лифчик, лоскуты которого зажимал в руке рыжий. Другой рукой он зажимал нос. Сквозь сжатые пальцы на пол падали черные капли крови. Ничего не замечая от боли и ярости, педель отшвырнул прочь обрывки материи и, вскочив на ноги, схватил свободной рукой Лину за плечо. Девочка крутанулась всем своим худеньким обнаженным тельцем и не смогла высвободиться.
— Сейчас они его зарежут, — в ужасе подумал Луций, — и тогда накрылась моя поездка…
Рыжий, не видя, что происходит у него за спиной, оторвал вторую ладонь от лица и стал заламывать Лине руку за спину. Кровь ручейком стекала с его подбородка на белую рубашку, но он уже ни на что не обращал внимания. Подтянутые молодые люди молча наблюдали за манипуляциями педеля. Потом, к удивлению Луция, один из них почесал переносицу и отвернулся. Второй отступил на шаг как бы для того, чтобы дать простор борющимся.
Луций обхватил педеля сзади и пытался оттащить от девочки, когда раздался легкий шлепок и тело воспитателя обвисло у него в руках. Это охранник ударил педеля в бок носком сапога с разворота. Второй охранник подошел с другой стороны, и голова педеля резко откинулась назад, ударив затылком Луция в грудь. От боли юноша отпустил тело, и оно безвольно распростерлось на полу. Лина выдернула из-под педеля свой заляпанный кровью свитер и натянула его. Один из охранников набросил на нее боа. Морщась от отвращения и боли, девочка встряхнулась, повела плечом, потом упрямо улыбнулась Луцию:
— Мой защитник, — гордо сказала она и, подскочив к студенту, нежно поцеловала в губы.
Не оборачиваясь, троица выскользнула из тесного коридора и бросилась вниз. Педель зашевелился, встал на колени и пополз к выходу. Он повернул голову к Луцию, будто желая что-то сказать, но руки перестали держать тело, и педель распластался на каменном полу.
8. ФИГУРЫ РЕЧИ
Луций оттащил педеля в его каморку, уложил в постель и, убедившись, что тот не пришел в себя, но дышать стал ровно и спокойно, с чистой совестью закрыл дверь на ключ. Потом вернулся к себе и разбудил гостей. Обсудив с Никодимом сложившуюся ситуацию и выработав стратегию поведения, он выставил гостей и стал собираться на занятия.
Пузанский, выслушав Луция, обещал ему поддержку и посоветовал, как и Никодим, «быть в полном отказе»: девицу, мол, знать не знаю, как истинный римлянин защищал от посягательств педеля, внезапно вмешались посторонние, которые-де оглушили самого Луция, поэтому он их даже не видел и ничего сказать о них не может. Выдав Луцию ценные указания, Пузанский велел ему немедленно отправляться на занятия по все той же римской риторике.
Предпоследняя лекция обещала стать самой длинной и нудной, но выхода не было, и, заняв традиционное место в среднем ряду, Луций приготовился делать вид, что слушает разглагольствования магнитофона.
— Фигура определяется двояко: как всякая форма, в которой выражена мысль, или как сознательное отклонение простой формы в сторону большей поэтичности, красноречия. Словесные фигуры являются неким видом построения речи. Удво-повтор-ение одного, нескольких слов в целях усиле-возбужде-ния речи-сострадания сильно действует на слушателя и больно ранит противника, подобно копью, вновь и вновь вонзающемуся в одну и ту же часть тела. Так использование Нероном союза «если» позволяет подчеркнуть невосприимчивость народа к либеральной политике. Даже после раскрытия заговора Плавта и Суллы, римские граждане не сделали для себя никаких выводов, что поставило под угрозу законное управление страной.
Как терпелив я в гневе, если факелы Не погасил, преступно мне грозившие, Я кровью граждан, если не текла она По Риму, породившему мятежников.Как истинный «отец отчизны» Нерон вынужден задуматься о судьбе Октавии:
А та, кого мне хочет навязать народ, Та, что всегда была мне подозрительна…Только Луций, из последних сил приподнимая захлопывающиеся веки, решил, что, похоже, и у него появилась та, о чьей судьбе он может задуматься, как в разбитое окно вплыла золотоволосая девочка в белом платье с длинным шлейфом. Ее распущенные волосы коснулись щек Луция, он погрузил в них руки и тяжелая гибкая, податливая лента заструилась между пальцами юноши. Тогда Луций с головой окунулся в прохладную сверкающую гладь, в ответ нежные пальчики коснулись его затылка и прочертили на нем таинственные неведомые знаки. А голова юноши продолжала неспешное движение, пока не легла на два мягких кружочка на белой плоскости.
— Лина! — выдохнул юноша, вспомнив грудь девочки под разорванным педелем свитером и прильнул к ней.
— Луций, — ласково прижала его к себе девочка. В этот миг страшный удар тряхнул неожидавшего подобного предательства Луция. Он подпрыгнул на месте и раскрыл глаза. Вместо прекрасной наяды его окружали сокурсники, подобно юноше, отчаянно боровшиеся со сном.
Привычный к подобным метаморфозам преподавательский контингент невозмутимо продолжал свое дело:
— Антистрофой называется такой прием, когда мы повторяем не первое слово, как в предыдущем случае, а постоянно возвращаемся к последнему, как Нерон в своих мыслях о народе.
Страшнее наказанья заслужила чернь… Пожары покарают чернь зловредную… …Лишь страх пред карою Научит чернь повиноваться принцепсу.Охват — фигура, объединяющая оба вида украшения. При ее применении часто повторение начального слова с неоднократным возвращением к конечному, повторяются одновременно началь-конеч-ные слова.
Нерон не понимает причин разложения трудового Рима:
Под нашей властью счастьем развратился плебс, Неблагодарный, глух он к милосердию, И мир, что даровал я, нестерпим ему, И, одержимый беспокойной дерзостью, Он к пропасти несется в ослеплении. Ярмом тяжелым, гнетом бед смирять его Я должен, чтобы смуты не затеял вновь…Одновременно кесарю приходится оберегать и собственную личную жизнь:
И на священный лик супруги цезаря Поднять глаза не смел…Луцию, как и цезарю, приходилось оберегать собственную личную жизнь, но ему хотелось просто находиться рядом с преданным ликом любимой. Вот только как найти Лину? Теперь он понял, кто приходил к лицею на встречу с ним, более того, он даже не представлял, как это он мог не догадаться сразу. Сейчас он бы ощутил ее присутствие, почувствовал малейшее колебание воздуха от ее дыхания, но после всего случившегося, без всякого сомнения, Лине было совершенно невозможно здесь появиться. Неужели им никогда больше не суждено встретиться?
В это время заглянувший в аудиторию Пузанский подозвал Луция, и тот под завистливые взгляды радостно выскочил на волю.
9. ПИЩЕБЛОК
— Держи, — протянул Пузанский Луцию небольшой пластиковый пакет с кредитками разного достоинства. — Ехать нам долго, а дороги ненадежны. Тут пятнадцать миллионов, должно хватить на две недели для троих.
Метр добродушно пошевелил кончиками пальцев перед носом Луция и удалился.
«Ну и задачка», — подумал Луций, пряча деньги под рубашку и оборачиваясь во все стороны, но никто не обратил на их разговор внимания, и успокоенный юноша отправился к себе.
Продуктовая дилемма была весьма непроста. Для начала Луций пошел по пути наименьшего сопротивления. Он опустился вниз, в подвальное помещение лицея, где помещался пищеблок.
Пройдя через всю исполненную в античном духе столовую, аляповатая обстановка которой только подчеркивала нищенские порции, носимые к столу самими студентами, он очутился в узком зеленом коридоре с распахнутыми в обе стороны дверями. Обычно за этими дверями в громадных холодильных камерах томились немалые сверхлимитные запасы, выбитые всемогущим директором, но после недавнего нападения беспризорников камеры были пусты.
В самом конце коридора на груде мешков с мукой сидели трое крепких мужиков в майках и засаленных джинсах. Один из них и был нужный Луцию повар.
— Привет, шеф, — мирно сказал Луций, подходя к сидящим на мешках людям. — Как она, жизнь?
— Жизнь кончилась с последним налетом, — мрачно ответствовал тот из сидящих, которого юноша называл шефом. Он поднял на Луция мрачные, залитые жирком глаза и добавил: — Шел бы ты, студент, отседова к бениной матери. Здесь не отломится.
— Продай мешок сахара и ящик тушенки, — деловито предложил Луций, на всякий случай держась вне пределов досягаемости, — наличными заплачу.
— О чем ты говоришь, студент, — почти задушевно отвечал ему шеф. — Кому нужны деньги в этом говенном заведении, что на них сейчас можно купить кроме геморроя?
— Ты бы принес лучше грамчиков двести спирта-ректи-фиката, вот и договорились бы, — подхватил второй. — А за деньги можешь получить центнер овса. Вместе с мешком. Так что тащи наверх свои бумажки!
Луций чуть отодвинулся назад и попытался объяснить, что овса ему вообще не надо, так как в настоящее время он лошадей разводить не собирается.
— Не хочешь овса, возьми пшеницы в зернах, — все рекомендовал ему второй повар. — Весьма питательная пища.
Луций отрицательно покачал головой и вновь спросил, обращаясь к шефу:
— Так что, не продадите продуктов? Я хорошо заплачу.
— Купи лучше себе веревку и повесься, раз не хочешь овес кушать, — огрызнулся шеф и начал медленно привставать с мешка, на котором сидел.
Луций, сам наливаясь злобой, уже с угрозой смотрел на его мясистое потрепанное лицо и бормотал, правда, еще про себя:
— Давай, давай, дядя, подойди ко мне. Я быстро тебя посажу на задницу.
Видно, что-то прочитав на его лице, вся троица во главе с шефом вдруг задержала свой подъем и, утвердив вновь зады на мешки, уставилась на Луция с большим подозрением.
Луций, видя, что ничего, кроме небольшой драчки, не предвидится, не стал искушать судьбу и опрометью бросился по коридору. На самом выходе он столкнулся с человеком, который нес на голове ящик с пивом. Налетев на него, Луций, сам того не желая, вынудил человека развернуться и грохнуть ящиком в окно. Тотчас дождь бутылок пролился вместе с осколками стекла вниз на внутренний дворик, и вопль потерпевшего смешался с криками, видимо, гуляющих по дворику студентов.
— Держи его! — заорал издалека глядящий на столкновение шеф-повар.
Зычный глас подстегнул Луция, который, ловко избежав вторичного соприкосновения с грузчиком, выскочил из подвала и опрометью помчался прочь.
«За свои кровные, — думал он на бегу, пока быстрые ноги уносили его от ужасного гнева столовских работников, — за свои кровные хотел купить чуток продовольствия, вежливо, честно, открыто, и за все про все вынужден драпать, спасая живот и голову. Что же это жизнь такая несуразная, когда даже самую естественную и простую в цивилизованном мире вещь приходится делать с полным напряжением сил и безо всякого толка. Если бы я, например, решился продовольствие с кухни украсть и с этой целью повертелся бы внизу и был застукан, и то я уверен, что ко мне отнеслись бы лучше. Нет, что ни говори, а на Руси проще украсть, чем купить».
В таком, можно сказать философском, раздумье Луций пробежал несколько пролетов лестницы, убедился, что погони за ним нет, и поднялся к себе. Близкий отъезд в качестве сопровождающего Пузанского поставил его в привилегированное положение по сравнению с другими студиусами, и никто из педелей уже не вмешивался в его жизненное расписание. Неудачный поход на кухню поставил его в сложную позицию, поскольку единственным местом, где можно было купить еду просто за деньги, остался рынок. Место, о котором всуе никто не говорил. О рынке ходили легенды. Говорили, что на нем в самом деле есть все: от белого хлеба до черноморских баклажанов, которых никто никогда не видел. Но место это было почти табуировано бесчисленными опасностями, которые ожидали храбреца, вздумавшего двинуться туда в тщетной надежде отовариться.
Уже давно выражение «приехал с рынка» было уподоблено в мрачном этимологическом ряду таким, как «сыграть в ящик» или «дать дуба». Если опасности, которые подстерегали живую душу при попытке проникнуть на своих двоих на территорию рынка еще как-то можно было предвидеть и избежать, то обратную дорогу с продуктами можно было сравнить только со знаменитой тропой паломников через горный Тибет и Лхасу, где каждый метр пути был усыпан костями. Однако Луций не представлял себе, как появится перед Пузанским без продуктов.
Луций, конечно, был не такой дурак, чтобы идти на рынок в одиночку. Поэтому он на доске объявлений нашел номер аудитории, в которой занимался выпускной класс Эола, и стал поджидать его у дверей. К его счастью, скоро прозвенел звонок, и из дверей неторопливо выплыли бородатые старшекурсники, ведя вальяжные беседы друг с другом и с преподавателем, которым оказалась прекрасная Ева.
Эол со своим другом-чернорубашечником вышел последним. На этот раз они были в длинных желтых балахонах, доходящих до щиколотки. Юноши непрерывно перебирали четки из гальки, а толстенькие косички, свешивающиеся с бритых наголо, почерневших от солнца голов, смешно подпрыгивали в такт движениям.
Еще более удивительным, чем внешний вид выпускников, оказался ответ Эола, последовавший на просьбу Луция:
— Совершенный не ест мяса, рыбу, яйца, не употребляет алкоголя, кофе, чая и соблюдает еще два основных принципа: не занимается денежными махинациями и не вступает в половые отношения вне брака.
А гигант Квинт Гортензий с совершенно серьезным видом добавил:
— Вдоль железнодорожного полотна всегда растет много травы и полевых цветов, а это, как известно, лучшая пища на свете.
Озадаченный Луций не решился комментировать столь достойные советы и проводил неспешно удалившихся последователей то ли Кришны, то ли Шивы полным недоумения взглядом.
10. ФИГУРЫ РЕЧИ (продолжение)
Вернувшись в столь блистательно покинутую аудиторию, Луций глубоко задумался. До сих пор он как-то не подозревал, что добыть продукты можно только с риском для жизни. То есть он знал, что, например, уличные гибнут при попытках нападения на склады, но к себе такую ситуацию не примерял, а поход на рынок был намного опаснее рядового налета.
Раздумья Луция ничуть не мешали заурядным рассуждениям магнитофона о фигурах речи:
— Построение фразы, при котором слова, не будучи связаны между собой, спешно несутся одно за другим, рисует то состояние тревоги, при котором человека что-то одновременно удержив-толк-ает…
Лектор настолько точно описал его состояние, что Луций невольно усмехнулся. Ему действительно хотелось броситься на розыски девочки, и это горячее желание буквально выталкивало с места, но одновременно сомнения в том, что залетные с одобрением отнесутся к цели его визита, удерживало юношу.
«Почему он не взял у девочки никаких координат?» — терзал себя Луций, а магнитофон в это время как бы подстраивался к юноше.
— Человек, связавший члены бегущих, лишил бы их быстроты движения. Точно так же и чувство, которому мешают союзы и прочие прибавки…
«…его подавляемое чувство, — согласился с диктором Луций, — которому мешают союзы и группировки…»
— …негодует на эту помеху, — продолжил декларирующий — она лишает его свободы, не позволяет нестись как снаряду, выброшенному орудием…
«…сразу во всех направлениях», — мог бы добавить к магнитофонному тексту Луций, для которого сидение за столом превратилось в нестерпимую муку.
— Ступенчатость приводит к последующему слову не раньше, чем поднялись к предшествующему. Особую прелесть заключает в себе частота повторений предшествующего слова, являющегося чертой, характерной для этой фигуры. Весь монолог Нерона и последующий его диалог с префектом направлен на определение врага и меры наказания.
Префект: Но главари убиты нечестивые. Нерон: А чернь, которая с огнем осмелилась Напасть на мой дворец… Кары избежит она?В градации, называемой климаксом (от греческого — лестница), искусственность более очевидна и подчеркнута, а потому эту фигуру следует реже применять. Она также является фигурой пространности состава слов, повторяя сказанное и перед тем, как перейти к последующему, останавливаясь снова на предшествующем.
Наиболее удачным видом фигур надо считать исоколон, когда начало и концы фраз находятся в соответствии между собой, то есть колоны приблизительно сходны по составу слов, оканчиваются одинаковыми падежами и имеют созвучные окончания.
Из равных колонов образуется и так называемый три-колон (трехколонная конструкция), в которой, однако же, не требуется, чтобы созвучия приходились непременно на заключительные слова. Но такая фигура может состоять и из четырех и более членов. Образуется она иногда и из отдельных слов.
Многоколонная конструкция представилась Луцию отчего-то не в виде сочетаний слов, а уходящей широкой галереей вроде какой-нибудь римской колоннады. В ярко-синем небе пели неизвестные птицы южной страны, большие, плоские и длинные, узкие, как осока, но совсем не колючие листья вечнозеленых деревьев свешивались через перила балюстрады. Лина в своем белом платье с длинным шлейфом, который она придерживала свободной рукой, шествовала на этом сказочном фоне под руку с Луцием к восходящему солнцу.
Изображение в мозгу юноши мгновенно переключилось, как в видеоклипе. Возлюбленные уже поднимались по мраморной лестнице. Лина отпустила платье, и его шлейф, словно туманом, окутывал все остающееся за ними. И только вступив в коридор, Луций узнал лицей. Испытанное потрясение от прозаического путешествия потрясло Луция, и он пришел в себя.
11. РЫНОК
Дверь отворилась без стука. На пороге стоял мальчик и молча, не шевелясь, смотрел на Луция. На мальчике был черный картуз с длинным, полузакрывающим лицо козырьком, черный узкий пиджак, из тех, о которых Луций только слышал, но не видел никогда. Расклешенные белые брюки довершали наряд. В руках у мальчика была тросточка с бронзовой замысловатой рукояткой, изображающей голову змеи с широко раскрытой пастью. Глаза мальчика смеялись, а непокорные каштановые волосы лезли на лоб и виски.
— Все студенты — бездельники, если они похожи на тебя, — строго отчеканил мальчик и сделал шаг вперед.
Чуть выпяченные вперед губки и надменный носик мальчика что-то напоминали Луцию, но что?
— Нет, в самом деле, — продолжил мальчик и сел без приглашения так, что весь поместился на стуле вместе с длинными ножками, которые он умудрился подвернуть под себя. — Вы мне не только не рады, но смотрите с таким выражением, будто перед вами бутылка с уксусом или лимон. Того ли я ожидала?
И при слове «ожидала», столь неуместном в устах расфранченного подростка, Луций ее узнал.
— Лина! — выдохнул юноша и замолк. Он столько собирался сказать девочке при встрече, но дыхание вышло из груди и было не произнести ни слова.
— Я все думала, как к тебе попасть, — затараторила Лина, сдергивая с головы картуз и радостно смеясь. — Не всех же ваших идиотов по больницам рассаживать. Как тот рыжий, живой? — поинтересовалась она небрежно.
— Трудно сказать, — тяжело ворочая языком, проговорил Луций. — Пока еще его в лицее не видать.
Лина между тем, не замечая состояния юноши, с любопытством осматривалась. От ее внимательного взгляда не ускользнули приготовления Луция к отъезду.
— Признайся, — полушутя обратилась она к Луцию, — ты решил сбежать от меня?
Луций вновь попытался поведать о своих чувствах, но язык ни за что не хотел повиноваться, и в очередной раз ему пришлось смириться с невозможностью высказаться.
— Мне надо в Петербург, — чужим голосом ответил он.
— Кажется, у меня там нашлись родители.
— В Петербург! — закричала Лина. — Выходит, ты уезжаешь. И мне ничего не сказал. Ну и черт с тобой. Знала бы — ни за что к тебе не пришла!
Она вскочила со стула и, подхватив картуз, гордо направилась к двери. Луций бросился следом, но вновь отчего-то сдержал себя, не желая подчиняться капризам взбалмошной девчонки.
— Я столько ждал тебя, — наконец произнес он тихо.
— А теперь ты уходишь, когда так нужна мне, — и замолк, словно испугавшись собственных слов.
Однако как ни тихо были произнесены слова, Лина услышала их, резко крутанула попкой и повернулась с порога к юноше.
— Какая тебе помощь нужна? — спросила она недоверчиво, но все же словно нехотя вернулась назад. — По-моему, — добавила она, пристально глядя на юношу, — ты не нуждаешься ни в какой помощи. Ты все придумываешь, чтобы меня удержать! Признавайся, признавайся! Если честно скажешь, я тебя прощу.
— Говорю тебе абсолютно честно, — устало сказал Луций, чувствуя полную безнадежность борьбы с собственным языком и переходя к изложению фактов из какой-то другой, сразу показавшейся ненастоящей жизни. — Мне нужно попасть на рынок, чтобы купить продукты на дорогу. Ты сама понимаешь, что одному мне там несдобровать. Да я, признаться, и не знаю ни одного рынка. Ты же на улице чувствуешь себя как дома. Дай мне пару ребят для охраны, в лицее мне не удалось найти никого, а лучше сама сходи со мной…
Луций еще продолжал говорить какие-то другие правильные слова, но на самом деле ему просто хотелось идти с Линой все равно куда, только бы надолго, навсегда…
— В Санкт-Петербург, — задумчиво протянула Лина, — и надолго?
— За границей жизнь дорогая, — засмеялся Луций. — Я не думаю, что у лицея хватит средств долго нас содержать. Едет собственно наш профессор, а мы с братом при нем.
— И тебе нужно закупить продукты. А деньги-то есть?
— Да. Пятнадцать миллионов.
— Ближайший рынок на бывшем стадионе у Москвы-реки. На метро туда не попасть. Ну да ладно. Что-нибудь придумаем.
На протяжении всего пути, а шли они какими-то тропками и закоулками через сады и проходные дворы, Луций так и не смог понять, есть у них провожатые или нет. Он оглядывался по сторонам, зная, что представляет легкую добычу для любой местной шайки, но никого за собой не обнаруживал. Впрочем, Луций скорее делал вид, что беспокоится, поскольку нельзя же было неотрывно пялиться на Лину.
Уже на подходах к стадиону, когда показались опоры разбитого моста, а точнее эстакады, перекинутой через Ленинские горы, стали впереди появляться разрозненные группы людей, в основном оборванцев, идущих в одном направлении. Группы эти как-то укрупнялись, в них вливались другие люди, видимо, того же клана и с шутками и прибаутками все тянулись в одном направлении. Идущие особняком Луций и Лина невольно привлекали к себе внимание. Особенно Лина, в ее сверкающем кожаном пиджачке и картузике набекрень. На нее оборачивались, ухмылялись или просто меряли глазами, но близко никто не подходил. Они прошли под воротами, ведущими к стадиону, и вышли на усеянную осколками булыжника и кусками вывороченной мостовой улицу, которая вела уже к трибунам стадиона.
В это время один из идущих впереди бродяг, одетый в рваный балдахин и деревянные опорки, обернулся, увидел идущую позади Лину и Луция и замедлил шаг. Его слегка шатало, злобные глазки перебегали с кожаного пиджачка на оттопыренные ассигнациями карманы Луция.
— Эй, — негромко окликнул он своих сотоварищей, менее оборванных, но столь же шатающихся и грязных, — вы только взгляните, други, какие редкие птички летают за нами!
Приятели оглянулись и тоже стали замедляться. Пьяной гурьбой оборванцы растеклись по обеим сторонам тротуара, оставив проход, и стали ждать. Когда Луций и Лина, чуть замедлив шаги, поравнялись с ними, оборванец вышел из толпы и, растопырив руки, позвал:
— Ути, ути, ути!
«Ну, попали», — тоскливо подумал Луций, потому что следующий поступок Лины уже не вызвал у него удивления.
Девочка спокойно сунула руку во внутренний карман, достала маленький красный газовый баллончик и пустила струю газа в лицо бандита.
«Сейчас измолотят», — подумал Луций, но ноги сами поднесли его поближе к девочке, чтобы защитить ее хотя бы в первое мгновение.
Однако, к его удивлению, оборванцы вдруг рассеялись как бы сами собой, оставив вокруг них пустое пространство. Только стоявший перед Линой присел на корточки, закрыв лицо руками, и почему-то между пальцев у него проступила кровь.
Подошел полный широкоплечий и улыбчивый человек, посмотрел на оборванца, который медленно, как бы от его взгляда, заваливался на бок, потрепал Лину по плечу, поправил на ней сбившийся картузик и отошел куда-то в сторону.
Лина крепко взяла Луция под руку, прижалась к нему и попросила:
— Смотри, чтобы нас не растащило, а деньги отдай Володьке на сохранение и расчет. Он сам все возьмет.
И тут Луций заметил, что вокруг них стоят четверо могучих мужиков, появившихся только что. Один из них протянул здоровенную руку, захватил все ассигнации и небрежно бросил в карман.
— Вы внутрь не входите, — посоветовал он Лине, не обращая на Луция более никакого внимания, — погуляйте лучше по периметру, пирожков пожуйте. А я через минут пятнадцать приду.
В сопровождении троих оставшихся бойцов Луций и Лина пошли по периметру кипящего людьми котла, стараясь не слишком забираться в глубь рынка. Впечатление было такое, будто люди собрались не для купли-продажи, а для совершения воинственного религиозного действа. То и дело рядом возникали местные конфликты с мордобоем и бряцанием металлических предметов, но быстро утихали. Чуть глубже в огороженном кругу кавказцы играли в кости, азартно крича и похлопывая себя по толстым бедрам. Громадные пачки денег лежали перед каждым из них, но почему-то никто не приходил их забирать.
— Подайте бабушке на пропитание, — вдруг пересекла Луцию дорогу толстая старушка с костылем и, получив рублишко от Лины, с благословениями удалилась.
Временами из толпы выныривали подозрительные личности с недобрыми взглядами, но, обнаружив вокруг ребят охранение, так же мгновенно исчезали. Чем торгуют на рынке, из-за круговерти народа разобрать было трудно. Жуя пирожки, ребята с интересом смотрели на мгновенно меняющиеся лики толпы, пока из нее вдруг не выскочил обвешанный кульками и сумками Володька.
— Держи десять лимонов сдачи, — деловито передал он пук ассигнаций Луцию, — да спрячь поглубже, а то и оглянуться не успеешь. Продукты мы тебе доставим прямо в лицей, пехай себе налегке.
— Давай устроим пир, — прижалась девочка к Луцию, — вдвоем: я и ты. Я уверена, что Володька лишканул миллиона на два-три.
— Давай, — с облегчением отозвался Луций, делая первый шаг в сторону от страшного рынка. Однако чувство тревоги не покидало его до самого лицея.
После того как охранники внесли в комнату всю закупленную еду и, отблагодаренные, исчезли, Луций, Василий и Лина уселись за уставленный яствами стол. Однако, намазывая бутерброд маслом и ливерной колбасой, девочка вдруг бросила нож на пол и, обхватив Луция за плечи, горько зарыдала.
— Как я его, — прошептала она. — Газом прямо в глаза, а потом ему еще голову разбили. Он же тоже человек, только дикий, мне его жалко. Сейчас валяется где-нибудь на помойке полумертвый или в больнице для бедняков безо всякой помощи.
— Он бы тебя не пожалел, — осторожно отозвался Луций. — Разорвал бы на части вместе с товарищами.
— Ну и что. Он же глупый и несчастный. Наверно, с рождения ласки не видал, вот и живет волком. Сколько их, с виду зверь зверем, а внутри совсем несчастные.
— Не плачь, — попросил Лину Василий и сам зарыдал.
Луций, поднявшись со своего места, словно навис над Линой с Василием, одновременно желая приласкать девочку и не зная, что делать со своими руками. Наконец он решился и прижал Лину к себе. Девочка доверчиво ответила на ласку и положила голову на плечо Луция. Они надолго застыли, прижавшись друг к другу.
Юноша понимал, что следовало перейти к более активным действиям, но не решался, будучи совершенно неподготовленным к возникшей ситуации и к тому же боясь потерять найденную трепетно-доверчивую связь с Линой. Он даже был чем-то благодарен брату, и не подумавшему оставить их вдвоем.
12. ТИПЫ РЕЧИ
По настоянию Пузанского, преодолевая громадное собственное нежелание, Луций вынужден был посетить заключительную лекцию по римской риторике. Магнитофон вел ее с обычной своей страстностью и темпераментом.
— В «Октавии» Нерон совершенно справедливо опасается силы женской слабости.
Луций вспомнил жест Лины, протягивающей ему ладошку, выкуп-браслет, громадные доверчивые глаза, ласковые нежные губы, прямоту и обидчивость на кажущееся девочке несправедливым и не поверил опытному императору. Он не опасался силы слабости, спасшей его. Юноша снова закрыл глаза, чтобы лучше вспрмнить Лину, и девочка появилась вновь. Как ни в чем ни бывало они продолжали прерванное путешествие.
Луций взял Лину на руки и перенес через порог. Он вспомнил, как возгордился своей пещерой, взглянув на нее глазами Лины, и на сердце стало тепло и радостно от одной этой мысли. На этот раз кровать была свободна, и он опустил Лину прямо на нее. Луций обнял девочку, и она доверчиво прижалась к нему. Пальцы юноши неумело спускали платье с плеч, а губы целовали каждое новое место, открывающееся на обнаженном загорелом теле. Вот его губы коснулись чашечек крепких белых грудей с ярко-красными кнопками сосков. Не выдержав напряжения, девочка опрокинулась на кровать, и Луций еще крепче прильнул к ней… И тут невероятной силы взрыв в ягодицах подбросил Луция над столом…
— Теперь будем говорить о различных тип-вид-ма-нер-ах речи: величав-изящ-скуд-мощ-н-ом, а также среднем, смешанном.
Речь окажется выдержанной в величавой манере, если к каждому предмету приурочить самые цветистые, точные, необычные слова, возвеличив-сострад ающие украше-выраже-ния.
Средняя манера заключается в менее высоком достоинстве не совсем низких повседневных слов. Этот стиль представляет собой мастерский, замечательно отшлифованный род красноречия, наименее напряженный, наиболее привлекательный в ораторском искусстве.
Цветистый изящный тип предполагает шутли-в-есел-о-преле-сть содержа-выраже-ния краткости, красоты фигур ненапряженной обезьяны:
О легкий ветер, о мягкий Зефир. Ты на облаке нес эфирным путем Ифигению в день, когда Дева ее С жестких своих унесла алтарей, — И эту умчи несчастную ты Туда, где стоит стройный Тривии храм!Луцию вдруг привиделась Лина, вылетающая из окна его кельи. Шлейф ее платья распушился и стал похож на хвост, а сама девочка превратилась в белоснежную птицу с меховым воротничком вокруг шейки — это из боа, в котором я ее видел, отметил про себя Луций, и золотым обручем на головке — а это на самом деле браслет, догадался юноша. Впрочем, он не долго предавался раздумьям. Сдерживаемая все занятия сила любви взметнула его из-за стола, и Луций взмыл вдогонку за девочкой.
Лина обернулась и призывно замахала то ли крыльями, то ли широкими рукавами платья. Луций радостным кличем ответил на зов. Они прижались друг к другу так, что казалось само дыхание стало общим, и так парили над зубцами кремлевской стены, куполами церквей и пели от счастья. Весь мир был перед ними, весь мир был подвластен им, они были всем миром. Ни богов больше не было, ни Эринии злой.
«Я тот легкий ветер, тот мягкий Зефир, — хотелось кричать Луцию, — который на облаке понесет тебя эфирным путем. Я тот соловей, чьи слезы радости будут вторить твоим слезам!»
Но, видно, не пришло еще время их любви, упорхнула от Луция птица, и он тяжело свалился на свое место прямо к словам:
— А те, что стремятся к серьезной ораторской манере, сбиваясь с пути, расплываются в туда-сюда колеблющейся, ничего не охватывающей бессодержательности…
Но и на этом не остановился мерзкий диктор и снова завел свое:
— Рядом с изящным имеется безвкусный стиль, проявляющийся в содержании, словарном составе, сотадеях с их изнеженностью, разбит-вольн-ых размерах:
О, когда бы судьба Соловьиньи мне подарила крыла! Сбросив тяжесть тоски, улетела бы я На пернатых крылах от мрачной толпы, От жестокой вражды, от кровавой резни, Среди тонких ветвей в безлюдных лесах Я сидела б одна, и жалобный мой Ропот лился кругом из печальных уст.Когда нечто великое излагается ничтож-без-жизнен-скуд-ными словами получается пошлая, вульгар-разговор-ная, сухая речь. Часто предметы, сами по севе красивые, кажутся неприятными вследствие выбора слов для их обозначения.
Как мы могли убедиться в нашем курсе: божественная сила речи наводит радость, отвращает печаль, потому что мощь заклинания, соприкасаясь с человеческой мыслью, обманом убеждает, очарованием переиначивает ее. Ритор своим красноречием ведет за собой слушателя, давая слабому аргументу перевес над сильным, разрушая старые нормы морали, этики, ставя на их место понятие уместности и соответствия политическому моменту. Эти правила античности, различнейшим образом комбинируемые, собственно и должны служить предметом подражания.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРОЛОГ
Прихожане не сразу сообразили, как поступить с телом отца Климента. В конце концов решили положить в гроб и держать на улице на морозе сорок дней, дожидаясь возвращения души. Только горячая любовь к покинувшему их священнику помогла раздобыть доски и сколотить некое подобие ящика. Они отпели тело и присыпали гроб землей, дабы не привлекать излишнего внимания. Никаких специальных постов не выставлялось, но в любое время суток кто-нибудь постоянно дежурил у захоронений.
На сороковой день ящик внесли в церквушку и положили в придел. Немногие оставшиеся верными общине прихожане расселись вокруг трупа и принялись молиться Христу. Бурят молился Будде, а даосист Ван общался с Лао Цзы. Отец Климент совершенно не изменился, только зарос волосами и с щетиной на щеках лежал спокойно и благостно, как человек, отдыхающий после честно исполненного долга. Вокруг раскрытого ящика горели заранее заготовленные свечи, висели иконы, бурят притащил статуэтку Будды, а китаец картинку с изображением Лао Цзы верхом на черном быке. Танцовщица, которую обхаживал Ван, поднялась и запела псалом высоким чистым голосом.
Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его. Кто, Как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, Приклоняется, чтобы призирать, на небо и на землю; Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, Чтобы посадить его в князьями, с князьями народа его; Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуия!Буддист, проявляя свою любовь к отцу Клименту, взял тело его за руку и так заговорил:
Во время блужданий в одиночестве, вдали от преданных друзей, Когда пустые, отраженные облики собственных мыслей появляются перед тобой, Да удостоят тебя Будды своей милостью И рассеют страх, ужас и трепет. Да избавят тебя от страданий божества-хранители. Да защитит тебя, молю Сострадательный.Ван, завидуя буддисту, принялся лихорадочно грызть ногти, подыскивая цитату из Лао Цзы, но не успел подобрать ничего подходящего. Ему показалось, что отец Климент моргнул. Недоверчивый китаец решил проверить себя и упустил момент. Воскресение отца Климента открылось уже всем.
Священник вначале недоуменно осмотрелся, вновь открыл глаза, усмехнулся привычному окружению, пошевелил пальцами, почувствовал их работу, поочередно напряг левую руку, ноги, туловище, шею, мускулы лица, правую руку, расслабился в той же последовательности, войдя в мертвую позу — «шавасану», затем поднялся в воздух и в рекомендуемом положении — вперед ногами — переместился на свое обычное место, опустился на подстилку, принял позу «лотоса» и сказал: «Приступим к занятию!»
Однако не так просто оказалось собрать верующих. Ошеломленные ожидаемым, но все же невероятным воскрешением священника, они разбежались по углам церкви, где застыли в ужасе и тоске.
Увидев страх и смятение в тех, от кого он мог ожидать только радость и ликование, отец Климент не огорчился. Он хорошо знал человеческую природу и решил согреть дух и тела своих прихожан. Повелительным жестом священник заставил паству подтянуть к центру зала подстилки, и те, стеная и кашляя, с трудом приняли позу «лотоса» и впали в экстатическое состояние.
Необычно начавшееся занятие закончилось еще более чудесным образом. На этот раз прихожане не вышли из шавасаны; все они совершенно внезапно обнаружили себя в залитой солнцем горной долине. Верующие быстро приспособились к замечательно жаркому климату, скинули свое тряпье и окунулись в пенящиеся воды стремительной реки. Насладившись купанием, они разбрелись по склонам и грелись под палящим солнцем, вовсе забыв заморозки ранней московской весны. Отец Климент вместе с самыми верными своими приверженцами после омовения взялся за сооружение каменного креста.
* * *
Луций проснулся поздней ночью, сполз с постели, показавшейся ему необычайно низкой и жесткой, и захотел глянуть в окно своей комнатки, но не сумел рассмотреть ничего ровным счетом в кромешной тьме. Лишь непривычно яркие звезды сияли над головой. Теплый пряный воздух, нагнетаемый не иначе как чудесным образом включенными кондиционерами, что, впрочем, было совершенно немыслимо при нищенском бюджете лицея, приятно освежал кожу. Мешала лишь непонятно зачем прихваченная им с постели простыня, и Луций попытался сбросить ее, но не тут-то было. Непокорная вещь оказалась на самом деле плащом неведомого покроя, перекинутым через плечо. Пока юноша стаскивал непривычный наряд, на его плечо легла чья-то тяжелая рука и пригнула к земле со словами: «Смотри и слушай!» Ничего, не понимающий Луций решил, что все это происходит во сне, и не сопротивлялся.
Постепенно привыкшие к темноте глаза рассмотрели внизу, под пригорком, на котором сидел Луций, неказистый с виду каменный крест. Юноша попытался было выяснить, где он оказался и каким образом попал в это удивительное место, но причудливо одетый в греческий плащ и сандалии собеседник отвечал загадочно.
— Воля человеческая направляет душу во времени. Само же время не имеет направленности, и потому нельзя утверждать, что было раньше и даже что когда произошло, а путь, которым я веду тебя, не проложен по какой-либо местности или стране, это вечный путь человеческой мудрости, — вещал священник, в котором юноша окончательно признал спасшего ему жизнь экстрасенса-полицейского. Впрочем, тут же смягчившись, отец Климент как бы пояснил: — Порождая любую мысль, человеческий мозг производит некоторую работу. Кроме того, энергия мозга расходуется и на переработку мысли в информацию, выводя ее в пространство. Вселенские писцы — Липики расшифровывают энергетические сигналы и запечатлевают информацию о деяниях и мыслях людских на невидимые скрижали Астрального Света. Открытость времени во всех направлениях позволяет фиксировать все то, что было, есть или будет в проявленной Вселенной в Книге Жизни. Способность управлять энергией и есть та духовная сила, которая ведет лучших человеческих сынов. Величайшее наслаждение нисходит при чтении Вселенской книги жизни, которую посвященный открывает на любой странице. Тогда он слышит Высочайшую музыку.
В это время китаец Ван, беседуя о музыке с приглянувшейся ему танцовщицей, все настойчивее гладил ее отошедшую от цыпок в теплом климате ручку.
— Слабо разбирающийся в диалектике Конфуций, — хитро начинал даосист, ненавязчиво намекая на свои недюжинные способности, — знал лишь пять нот, но был музыкантом и никогда не делал более чем трехлетних перерывов в занятиях музыкой, чтобы она не пришла в упадок. Заманивая учеников, он пел под лютню и танцевал под большой барабан, тряся жиденькой бородкой и суча ножками.
— Ха-ха-ха! — хохотал над философом китаец.
— Хи-хи-хи! — вторила танцовщица. Учеными разговорами Ван добился поставленной цели, полностью смешав немногочисленные мысли в голове танцовщицы, и невообразимо возрос в ее глазах. Воплощая русскую народную пословицу «Куй железо, пока горячо», китаец обнял красотку и прижал к груди. В практических действиях он готов был пойти и дальше, но условия для этого еще не созрели, и Ван, косо поглядывая на других прихожан, увел свою добычу в сторону.
У самого креста отца Климента и Луция догнал рыжебородый ассириец. С рождения и до зрелых лет он чистил обувь и продавал шнурки от ботинок на Тверской улице, что дало ему массу времени для саморазвития и самовоспитания. Тряся чалмой, наверченной из вафельного полотенца, ассириец невинно подсказал:
— Два духа явились в начале бытия, как пара близнецов, добрый и дурной — в мысли, в слове, в деле. Они установили, с одной стороны, жизнь, а с другой — разрушение жизни. С того времени исход вечной борьбы между добром и злом зависит от выбора пути человеком.
Последние слова ассириец договаривал уже в окружении общины, бросившейся приветствовать отца Климента. Ван почувствовал угрозу своим акциям в лице живописного ассирийца, щеголявшего кожаным фартуком в металлических бляхах и заклепках, и, решив еще более возвыситься перед прекрасной женщиной, разродился следующей тирадой:
— Лишь считая глубину сокровенного основой воплощения дао, а умеренность — важнейшим принципом действия, поймешь, что твердое ломается, а острое тупится.
Вдохновленный собственными словами и сверкая глазами, китаец зашептал танцовщице:
— Готовя себя заранее, я постиг способ, стиль, глубину толкания!
С этими словами распаленный даосист схватил в охапку вяло сопротивляющуюся танцовщицу и уволок в пещеру. Потревоженный шумом бурят оторвался от перебора четок и заговорил, сочувствуя своему другу Вану:
— Люди, побуждаемые жаждой жизни, мечутся как заяц в силках. Безумный уничтожает себя погоней за наслаждениями, как если бы он был своим собственным врагом. Не знать страданий, друг, — поднял буддист глаза на Луция, — не знать происхождения страдания, не знать уничтожения страдания, не знать пути, ведущего к уничтожению страдания, это, друг, называется неведением. Страдание возникает из радости и вожделения жажды жизни. Уничтожение неведения достигается верой в Просветленного.
Пораженный таинственным видом креста, Луций сосредоточенно рассматривал культовое сооружение. На постаменте рядом с крестом лежало только что найденное отцом Климентом яйцо. Повсюду попадались следы недавней работы, это приводило юношу в еще большее недоумение. Луций нагнулся за тяжелым теплым яйцом, и тотчас оно пошло трещинками в его руках, а в вылупившемся мягком комочке юноша признал лебеденка, который мгновенно покрылся перьями и взлетел с дивным криком. Потрясенные прихожане следили за полетом лебеденка с открытыми ртами, с трудом пытаясь сообразить, как же тот прокричал: «Калахам-са», «Кали Хамса» или еще как-нибудь. Какие-то смутные воспоминания подсказывали им, что через такого вот черного лебедя приходит Божественный луч на землю.
Узнав причину затруднений, ассириец, который подсчитывал завалявшуюся в карманах фартука выручку, пояснил лениво:
— «А-хам-са» значит «Я есмь Он», если слышал «Са-хам», будет «Он есть Я».
— «Калахам-са», мы слышали «Калахам-са», — уверовали прихожане и отвернулись от занудного ассирийца, забыв, что сами обратились за разъяснениями.
— «Калахам-са», — невозмутимо проговорил ассириец с прежним презрением к невеждам, — тогда получается: «Я есмь Я в вечности времен», или, как учил великий Зороастр, «Я есмь то, что Я есмь».
— Черный лебедь — Хамса всегда означал недосягаемую для человека мудрость. Когда ему дали в пищу молоко, смешанное с водою, птица разъединила их, выпив молоко и оставив воду, ибо молоко было символом духа, а вода — материи. Значит, и тебе предстоит нечто подобное, — уважительно заметил бурят Луцию.
— Благодарю тебя, Предвечный, за ответ мне! — вдруг пал на колени перед памятником отец Климент. Поднявшись, он повернулся к Луцию, который недоуменно переводил взгляд с подножия креста на небо, вслед улетевшей птице. — Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло?
— Во сне все, что хочешь, может произойти, — весьма разумно отвечал юноша, который в глубине души сомневался: спит ли он — слишком живыми были шастающие вокруг с безумными выкриками прихожане, да и восторженное воркование, доносящееся из пещеры, было весьма реально.
— Если бы кто-нибудь, — пояснил священник, — зашел сейчас в твою комнату, он обнаружил бы спящего Луция, только никак не смог бы его разбудить. Но я могу поклясться, что ты в самом деле говоришь со мной, хоть и не просто тебе будет это совместить с тем, что тело твое мирно раскинулось на кровати в лицее. Впрочем, это не существенно, главное, что рождение в твоих руках священной птицы подтверждает твою избранность богами.
Услышав слова священника, на вершину горы выскочил ассириец и закричал, размахивая сломанной пальмовой веткой:
— В мире Бытия единая точка оплодотворяет линию, Девственное Чрево Космоса и непорочная мать дает рождение Форме, содержащей все формы, — тут он дико захохотал и вновь скрылся.
— В разные времена и в разных религиях преображающее влияние на Вселенную и человеческую жизнь космической энергии маскировалось под непорочное зачатие. Так подтверждалась таинственная запись, сделанная в архаическом манускрипте в те времена, когда письменность была неизвестна, — пояснил отец Климент Луцию.
— Не забудьте Лао Цзы, рожденного из бока Сюаньмяо-юйнюй! — выкрикнул Ван из-за загораживающего вход в пещеру валуна.
Вдохновенная радетельница за веру, сухая и морщинистая, вечно одетая во все черное Клавдия поднялась со своего места, решившись наконец дать отпор иноверцам, и торжественно проговорила:
— Сказал ангел Марии: Дух Святый найдет на Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим…
Дав Клавдии выговориться, прихожане примкнули к ней, затянув псалом:
Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его; Того, Который один… Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его; Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте бога небес, ибо вовек милость Его.Эхо многократно усиливало в долине голоса и хохот ассирийца. Таинственные звуки окружали Луция со всех сторон. Он напряженно крутил головой, переводя взгляд с одной вершины на другую: с перса на поющих женщин, на вдруг возникающих на третьей горе Вана с танцовщицей или просто вслушивался в слова отца Климента, располагающегося рядом с ним с четвертой стороны горизонта.
— Космический логос — это одновременно и слово и его смысл. Его значение определено уже начальными словами Евангелия от Иоанна: «В начале был логос, и логос был у бога, и логос был бог». Вся история земной жизни Иисуса Христа — это воплощение и «вочеловечивание» логоса, который принес людям откровение и сам был этим откровением «бога незримого». Конечно, творца и родителя этой Вселенной нелегко отыскать, — вздохнул священник, — потому что он одновременно находится во всех ее местах, но в Логосе мы открываем Предвечного. Я давно ищу избранника божьего, который услышит его слово и донесет людям.
— Что до того: есть Вездесущий или его нет, вечен или конечен мир, тождественны ли душа и тело, будет ли совершенный жить после смерти? Помогут ли размышления о неведомом избежать страданий и прервать цепь перерождений? Никогда! — ответил отцу Клименту бурят. — Потому Будда всегда отклонял такие вопросы.
— Человек, — это придуманная Богом звуковая игрушка. Так что, если Он дернет за одну ниточку — получится одна нота или одно па, если за вторую — другие. Поэтому пусть всякий мужчина и всякая женщина проводят свою жизнь, играя в занимательнейшие игры, — подмигнул ассириец танцовщице.
— Радость порождается спокойствием, спокойствие порождается справедливостью, а справедливость происходит от соблюдения законов истинного пути. Тогда музыка, пение и танцы служат урегулированию желаний, — возмущенный выступлением самозванца, поставил его на место Ван.
Покоренный собственной речью, китаец положил голову на колени танцовщице и блаженно закрыл глаза, но ассириец не давал ему покоя. Он отобрал решето у одной из прихожанок и, тряся им, начал подпрыгивать на вершине.
Восхищенная пляской танцовщица невольно радостно замахала в ответ. Ван в последний момент сумел удержать порыв девицы и назидательно наставил ее:
— Когда душа властвует над страстями, жизнь — справедлива, если же окажется в их власти, то несправедлива.
Сорвав аплодисменты буддиста, Ван с последними словами повлек танцовщицу на землю.
Не замечая перепалки, которую затеяли перс с китайцем из-за танцовщицы, отец Климент вскричал:
— Благодарю вас, боги, что снизошли ко мне! — Затем, повернувшись к юноше, он пояснил ему: — Совершенное знание Бога наступает, когда человек начинает видеть Его во всех человеческих фигурах: святом и грешнике, невинном и порочном. Достигший такого ощущения Бога пересекает границу добра и зла, поднимается выше добродетели и порока, чувствует действие Божественного во всем.
«Любопытное, однако, местечко, — задумался Луций. — Свет струится с неба потоком из какого-то невидимого источника, и вообще в атмосфере попахивает чем-то необычным. Судя по всему, когда-то в прошлом здесь действительно было ритуальное место поклонения Предвечному. Не случайно тут божественное нисходит на обычных людей, что отец Климент мне наглядно демонстрирует. Хоть это-то я понимаю, — отвесил себе юноша сомнительный комплимент. — Интересно, научусь ли я когда-нибудь, подобно отцу Клименту, видеть скрытое за людской оболочкой?»
Священник закрыл глаза, воздел руки к небу и забормотал:
Смотрю слушаю чувствую раскрываюсь красоте вне красоты форме бесформенной формы немыслящему уму неразумной мысли неопределенному неоценимому неведомому свету вне света…— Вижу! — вдруг закричал он. Луций посмотрел вслед за отцом Климентом на небо, и тотчас горячая волна обдала его лицо. Он прикрыл глаза ладонями и прижался к земле, чтобы его не смело воздушной волной. Глухой грозный рокот пронесся над ним, будто одновременно зарычали тысячи медведей.
Небо над головами прихожан померкло, и на нем зловеще вспыхнула тусклым пламенем красная точка. Разрастаясь, она набухла, как почка сирени, вдруг взорвалась и красной волной побежала по небосклону. Отрывающиеся от волны капельки белели, теряя цвет, и, как рои мошек, застывали на месте, рождая звезды.
Потрясенный раскрывшейся перед ним картиной мироздания, священник подошел к юноше, обнял его за плечи, насильно развел сомкнутые руки и заговорил:
— Серебряные лучи жизненной энергии прошивают пустоту, превращая ее в первоздание Единого Ума. Как обращенный к Предвечному, неведомо существующему с внешней стороны паутины, сплетенной в космосе лучами жизненной энергии, Ум един, как обращенный к Земле множественен в истекающих серебряных струях. Паутина напрягается и колеблется, безуспешно пытаясь познать Предвечного. Отворяясь Логосу, запечатленному в космических лучах, Ум познает себя. Мысля свое содержание — идеи, Ум одновременно и творит их.
Распространяемый Предвечным свет весь не поглощается Умом, а, отражаясь, образует Душу. Она легким облаком окружает Землю. Душа, как и Ум, имеет две стороны. Верхняя Душа раскрывается космическим лучам и не ведает мир под собой. Нижняя Душа, пронзенная Логосом, провожает идеи в чувственный мир. Душа бестелесна и в сущности неделима. Высшая часть природы и есть низшая часть Души. Сама же природа — это мир явлений, которые реальны настолько, насколько они отражают через Душу идеи Ума.
— Брахман есть Абсолютная Реальность, а все феномены вроде чувств и ощущений нереальны, — поддержал вдруг священника бурят, но тот не слышал его.
— Отраженные идеи изливаются из Души семенным Логосом в природу, порождая весь вещественный мир. — Тут священник открыл глаза и осмотрелся. — Вот я вижу свечение Христа, Лао Цзы, Будды и Заратустры. Четыре пучка энергии с четырех сторон. Они несут на Землю свечение Предвечного. Как свет не может не светить, так и Предвечный не может не производить вокруг себя освещенность, которая, как и всякий свет, убывает по мере удаления от своего источника. Там, где свечение Предвечного окончательно угасает и смыкается тьма, возникает материя. Она есть обратная, теневая сторона природы. Это не-сущее, не-существующее, но не вообще не существующее, но только иное, нежели существующее. Ты чувствуешь разницу? — обратился священник к юноше.
— Я вижу мужчин и женщин на вершинах, а вы говорите, что их нет.
— Черные, рыжие, худые и плотные, благоухающие и потные, они — ненастоящие, ибо материальны. А материя есть отсутствие должного света, погасший, источившийся свет. Ты же похож на подземную реку. Проход к ней завален глыбами, но, если их отодвинуть, откроется сильный поток чистой как слеза воды. В тебе есть духовная сила, хоть она и не видна снаружи, а в ней заключена частичка Мировой Души. Ибо, как Предвечный нисходит во многое: ум, душу, природу, так и многое по той же цепочке восходит к нему, стремясь присоединиться к благу. Ведь благо — это то, от чего зависит и к чему стремится все сущее, имея его своим началом, — с этими словами отец Климент взял Луция за руку и повел на вершину, продолжая наставлять.
— Постигая благо, высшая душа входит в экстаз и возносится. Подобным мистическим образом душа человеческая соприкасается с божественной, и природное существо направляется дальше к последней инстанции, постигая пути Вездесущего. Вот только никто не знает ответ на вопрос: «Воистину ли пути божественные являются путями Предвечного?»
Внезапно отец Климент сделался чрезвычайно серьезен. Тяжелый, не мигающий взор священника сдавил мозг Луция. В черноте глаз наставника ослепительно мигнул огонек, вначале раз, другой… Затем ровное, непрерывное сияние вытеснило тьму и образовало два столпа света, слившихся в единый поток.
— Прыгай! — приказал отец Климент, и юноша, не раздумывая, бросился со скалы на дно ущелья.
* * *
Луций очнулся поздним утром в своей лицейской каморке в судорожных попытках спрятаться под одеялом от нестерпимого холода. Дрожа и клацая зубами, завернутый в одеяло, он подскочил к окошку и убедился в наступлении так часто встречающегося в апрельской Москве почти по-летнему теплого утра.
«В каких же жарких краях надо было побывать, чтобы замерзнуть в двадцать градусов тепла?» — поразился юноша и задумался об истинности странствий во сне.
Книга первая. СУМАСШЕДШИЙ ДОМ
1. ПАЛАТА
Каждый попавший в сумасшедший дом в результате нарушения мозговой деятельности или в силу каких-то иных причин проходил вполне регулярный ритуал. Сначала пациента приводили в регистратуру, как в обычной поликлинике, хотя в последние несколько лет таких в Москве никто не наблюдал. Седая старушка со всеми признаками вяло текущей шизофрении встречала, как в добрые прежние времена, пациента-добровольца или приведенного принудительно в большой, плохо освещенной приемной и, согнувшись за облупленным столом, честно заносила в компьютер те анкетные данные, которые потенциальный идиот хотел или мог ей сообщить. После производства всех анкетных фиксаций добрая старушка брала горемычного за руку и вела в небольшой закуток справа от громадного зеркала, занимавшего целую стену вестибюля. Весь закуток оккупировала громадная, почерневшая от отсутствия эмали ванная, рядом с которой был втиснут деревянный табурет. Потрясенный видом антиквариата, пациент безропотно позволял старушке снять с себя одежду, которая аккуратно складывалась на табурет. Тут же бабуля так ловко, невзирая на сопротивление, мылила клиенту лицо и голову, что он никогда не успевал залепленными мылом глазами уследить, как исчезала его одежда, а на ее месте появлялся рваный больничный халат выморочно-серого цвета. Чисто вымытый и переодетый клиент доставлялся сияющей старушкой в смотровую комнату.
Никодим, который считал себя в некоторой степени старожилом, до сих пор с содроганием вспоминал, как он впервые попал в смотровую комнату. Комната эта собственно таковой не была, а представляла собой стеклянный прозрачный стакан высотой в два этажа с устланным остатками ковра полом. Когда юноша решил избрать своим временным жилищем именно неврологический диспансер, в нем сохранялась еще видимость порядка. И персонал еще не весь растерялся и не впал в удрученность и тоску, и кормили тут лучше, чем повсеместно в Москве, и даже у сверхсекретных комнат стояли посменно часовые, охраняя каких-то хоть и съехавших с ума, но очень опасных государственных преступников. Так вот тогда, еще впервые перешагнув порог сумасшедшего заведения, после помывки, одетый в дырявый халат Никодим был препровожден в смотровую, где вслед ему был брошен тонкий скатанный матрас и одеяло с подушкой. Кроме него в смотровой было еще два пациента: старик и мальчик, которые были посажены в стеклянную клетку значительно раньше Никодима и, видимо, поэтому были более похожи на настоящих сумасшедших, чем он.
Никодим пришел в сумасшедший дом по хорошей рекомендации и планировал пожить тут столько времени, сколько понадобится, чтобы о нем забыла распадающаяся и запойная московская контрразведка.
Обещали ему отдельную палату и много книг для самообразования, но вместо этого, по недоразумению, покойная старушка с уютными очками на круглых выпученных глазах проводила его в стакан. Поначалу на новом месте Никодиму понравилось. Особенно потому, что двое других пациентов его не касались и не заговаривали с ним. Расстелив себе в уголке матрац, он прикрылся жиденьким одеялом и остался совсем один. Тишина стояла как под толстым слоем ваты, и только каждые пять минут мелькающие в смотровой какие-то любопытные рожи в белых косынках портили впечатление полного одиночества. Он заснул, как давно не спал в полных беспокойства коммунальных квартирах или в номерах, а когда проснулся, его тихих, как хорьки в сметане, соседей уже не было. Три дня просидел Никодим в смотровом стакане, ни с кем не общаясь и получая три раза в день в открывающуюся на мгновение дверь кружку ледяной воды и ломоть черного хлеба. От такой кормежки где-то на третий день блатник спятил всерьез. Только тут до Никодима дошло, что его по ошибке сунули к чужому врачу, а это сулило ему серьезные неприятности.
— Как же это с вами случилось? — сочувственно спросила врач. — Вас привезли к нам с работы или забрали из дома?
«Да я абсолютно здоров!» — воскликнул было Никодим, но вовремя сдержался. Привыкший рассуждать решительно и здраво, он сразу прикинул, что все его попытки оправдаться только усилят подозрения юной врачихи. Тактику своего поведения он выработал буквально за доли секунды.
Умиленным взглядом посматривая на налитые груди врачихи, он разыграл смущение рубахи-парня, у которого все в жизни просто и понятно, и, взъерошив волосы, заявил:
— Хоть меня убей, не пойму, когда я успел так надраться. Просыпаюсь, и, можете себе представить, не только не подняться с постели, но и лежать в покойном положении невозможно — страхи гложут душу. Видимо, напрочь сбил всю нервную систему.
— Вы хоть знаете, где вы? — спросила доктор небрежно, а на самом деле задавая один из самых значимых и коварных вопросов.
— Конечно, — не растерялся Никодим, — и дураку ясно, что в психушке. Где еще тебя будут трое суток, словно бактерию-туфельку, держать под микроскопом?
— Так много, говорите, выпили? — переспросила врачиха и, не дожидаясь ответа, вдруг поднялась со стула, распрямляя длинные упругие ноги. — Сейчас вас проводят в самую лучшую у нас палату, отлежитесь малость и домой. Дома-то ждут небось, — добавила она безо всякого интереса и звякнула в легонький бронзовый колокольчик, который лежал на ее письменном столе рядом со шкатулкой из чароита и бронзовым прибором в виде кальяна.
Прибор этот был странен и представлял интерес для здравомыслящего историка. Искусно вырезанная голова основоположника социализма, отца и брата горских народов, держала под волнистыми усами трубку с изображением на конце другого, лысого основоположника, так что дым выходил у него прямо изо рта, а голым задом он касался губ прекрасного грузина. Оценив про себя эту скульптурную композицию, Никодим только хотел спросить о судьбе рекомендованного ему врача, который должен был пристроить его в тихий, непроходной кабинет, как вдруг на плечо ему легла тяжелая рука санитара.
Самая лучшая в устах медицинской дамы палата, в которую доставили Никодима, была удивительно многолюдной и тесной. Народ, правда, был здесь весьма схожий с оставшимися на воле: наркоманы, пьяницы и мелкие жулики, так что атмосферу можно было назвать привычной.
Положили Никодима между двумя идиотами, один из которых был известный поэт, обнаруженный матерью голым перед зеркалом, а второй — рок-певец и музыкант, который несколько лет назад, выпрыгнув из вертолета на крышу атомной станции, устроил там концерт в защиту окружающей среды. Поэта прозвали Нарциссом, а композитор величал себя Орфеем. Идиотизм обоих поначалу не оставил для наблюдательного Никодима сомнений, и только после некоторых контактов стал он думать, что идиотов в психбольнице вроде и нет.
Настоящей целью Никодима было сделать из больницы постоянное для себя пристанище, чтобы мог он по своему желанию, когда хотел приходить и уходить, а между тем, чтобы была у него каждый день теплая койка и гарантированный обед. Однако сразу же оказалось, что ни выхода, ни входа у идиотов нет, а есть лишь злые санитары с красными рожами и арбузными кулаками у дверей.
Утром Никодима разбудили психи-соседи и повели в туалет знакомиться с народом. На корточках тут курило разного сброда человек двадцать, а то и двадцать пять.
— Вот это Владимир, — рекомендовал Нарцисс крупного шестидесятилетнего мужика с окладистой бородой и невинными голубыми глазками, в которых разгорался уже явный огонек безумия. — Володя уже троих укокошил, — не без гордости расхвастался своим знакомцем тщедушный Нарцисс, — очень он человек горячий.
— Не горячий, а больной, что ты, сука, городишь, — разволновался Володя, — психопатия меня проклятущая душит, из-за нее полвека по тюрьмам да сумасшедшим домам скитаюсь… В последний раз сижу себе тихо в кабаке, вообще никого не трогаю, мне, кстати, и жена запретила с нехорошими людьми связываться. Вдруг в пивную кентяра заваливается, двадцать пять лет на ушах, где-то половину этого срока мы и не виделись. Стуканулись от взаимной радости кружкой о кружку, чтобы пена перехлестнулась через край, а потом с чего-то он мне сказанул дерзкое, а может, и не мне, а соседу через стол. Все равно, повел себя грубо, я и саданул ему ножичком под нужное ребро, благо, опыта и духа не занимать. Говорю я этим сукам: лечите меня, бляди, ведь сам от вспыльчивости страдаю. Никак не могут меня ввергнуть в хладнокровие. Месяца три али пять подержат взаперти, а потом, как ветошь, выбрасывают на волю и мне приходится там кого-то обязательно шваркнуть, и жизнь моя от этого идет наперекосяк.
— Ты, кстати, умеешь таблетку на кадыке держать? — спросил его заботливый Нарцисс, который, как оказалось, и сам не ангел: то ли он мать придушил в пьяном экстазе от самолицезрения, то ли старушка сама честно умерла от старости, а он утром, обнаружив ее недвижимой, сдался полиции.
— Я на суде требовал для себя высшей меры, — гордо рассказывал поэт, — но суд меня оправдал и отправил сюда для перевоспитания медперсонала на примере моих стихов. Так вот, — продолжал он без перерыва, — умение держать таблетку на кадыке — это одно из основных умений в нашей сумасшедшей жизни, без которого ты окочуришься за две недели. Так как со слов ты все равно ничего не поймешь, я для начала покажу тебе одного пижона, а ты уразумей.
И, не ленясь, поэт отвел Никодима обратно в палату, где показал на крайнюю койку. На койке этой поверх одеяла лежал, скорчившись, закутанный в необычайно узкую рубашку с завязанными сверхдлинными рукавами тихо стонущий человек, который корежился и изворачивался на своем мягком ложе, как будто ему в зад вставили зажженную свечу.
— Стреножили на все четыре копыта, — представил барахтающего в судорогах человека поэт-всезнайка. — Если бы не крепкая рубашка, он бы мог переломать себе кости ног и рук, так его выкручивает после уколов. Наказан за пререкание с лечащим врачом, будет так лежать три дня. Правда, до уколов мы с тобой не дойдем, но каждые три часа все должны принимать хуеву тучу таблеток, среди которых львиную долю занимают сверхвредные для мозга аменозин и галлопередол. После трех месяцев приема уже ничего не восстановит твою память. А после шести ты можешь занимать свою койку пожизненно с полным правом самого крутого дебила в клинике.
— Неужели и отказаться нельзя? — спросил Никодим с естественным ужасом.
— Вот этот отказался, — кивнул головой поэт в сторону стонущего и извивающегося в судорогах человека, — результат перед тобой. Пошли-ка, брат, тренироваться.
В результате они снова вернулись в туалет, который был вроде мужского клуба для психов. Там к ним подошел некто Жора, который был как бы инструктором для новичков. Из кармана своего халата он достал засохшую корку, отщипнул от нее кусочек и протянул Никодиму.
— Представь, что ты глотаешь таблетку, — сказал он Никодиму, — но не до конца, а так чтобы сестра воображала, что ты ее проглотил. Глотай!
Никодим сделал усилие, и ему удалось, как принято в психушке выражаться, «поставить крошку на кадык». Правда, потом он закашлялся и выплюнул мнимую таблетку, но главное, суть, ухватил. Целых два часа после того тренировался он на шариках, скатанных из хлеба, пока не научился удерживать мнимые таблетки глубоко в горле, а потом выплевывать в кулак.
Целое утро он промучился мнимым страхом затеряться на больничной койке, покинуть которую можно было только со справкой, заверенной лечащим врачом, и горько проклиная себя за то, что выбрал столь стремное жилище, а днем произошло нечто, с чем клиника в своей истории не сталкивалась. Разрушение, в котором пребывала вся страна, докатилось и до этого до сих пор относительно нетронутого островка благополучия и стало подмывать его.
Сначала куда-то исчезли краснорожие санитары, в любое время подпирающие стены и двери клиники. Пропали они как-то в одночасье, и уже позднее Никодим узнал, что всех их мобилизовали, невзирая на состояние здоровья, во внутренние войска и отправили охранять границу с Атаманским государством. Вооруженные отряды атамана войска Донского и Кубанского Григория переходили границу через реку Волгу и грабили приграничные села, а некоторые совершали даже отдаленные рейсы в глубь страны, вплоть до Валдайской возвышенности. Как собиралось правительство при помощи лодырей-санитаров защищаться от вторжения казаков трудно сказать, разве только при помощи знакомых им таблеток. Мобилизованные, видимо, должны были засовывать медикаменты в рот вооруженным грабителям и тем самым вызывать у них временную амнезию. Вывод этот напрашивался сам собой потому, что вскоре после пропажи медбратов куда-то подевались и таблетки. Так что естественно было подумать, что санитары забрали их с собой в качестве единственного хорошо знакомого им оружия. Дольше всего, как ни странно, из привычной жизни клиники сохранялись сестры-хозяйки и запасы питания в столовой. Между этими двумя вовсе разнородными феноменами даже образовалась неоспоримая связь, потому что только стоило истаять припасам на кухне, как стал таять младший и средний персонал. В отличие от медсестер врачи держались до конца, похоже, в другие места их уже не брали, и постепенно заменяли исчезающий обслуживающий персонал. Дошло до того, что на воротах стояли и разносили подносы с продуктами на кухне кандидаты психологических и медицинских наук, а так как с каждым днем все-таки часть научного коллектива безвозвратно таяла, то наступил тот знаменательный день, когда государственная клиника душевнобольных превратилась в товарищество растерянных идиотов с ограниченной ответственностью.
К этому времени Никодим уже занял вполне авторитетное положение среди дураков, нашел ходы к сердцу еще всесильной сестры-хозяйки. Вместе с прежними соседями он спал в единственной четырехместной палате. Четвертым был какой-то безликий псих из разграбленной таджикскими наемниками деревни, с которым никто не разговаривал и который попал в привилегированную палату как экстраинтересный случай маразма. Юноша имел доступ ко всем библиотечным фондам (а библиотека была одна из лучших, которую только можно представить) и шлялся по всем этажам клиники за исключением секретного отделения, у которого так и стояли истуканы в форме и белоснежном халате поверх нее.
В этот день Никодим впервые проснулся не от криков медсестры, требующей встать и застлать кровати, а просто потому, что выспался. Он открыл глаза, несколько секунд еще понежился, глядя в потолок, а потом перевел взгляд на расположенный между койками стол, где как обычно уже стыли стаканы с вкусным кефиром и горкой лежали в соломенной хлебнице давно уже исчезнувшие на воле кренделя и сушки. Поднявшись и опустив ноги на покрытый потертым ковриком пол, он обвел взглядом окружающие стол койки и с удивлением увидел, что все они пусты. Часов в клинике у больных, естественно, не было, но по яркости света, бившего в окно, можно было предположить, что время завтрака давно прошло и наступило уже время обеда. Не было и металлического пузатого чайника с кипятком, и кастрюльки с кашей, и вообще все как-то было неправильно.
Никодим надел халат, влез в войлочные расхлебанные тапочки и отправился искать истины в коридор. Туда вели двери сразу из всех палат, обычно открытых и полных гомона, но сейчас он наткнулся на полную тишину.
Осторожно просунул он голову, приоткрыв дверь внутрь палаты, и не обнаружил в ней пациентов. Во второй была та же пустота, и только оглянувшись, он заметил какое-то движение возле двери своей палаты. Быстрыми шагами Никодим вернулся назад и обнаружил унылого психа, который с поразившей юношу наглостью набивал карманы больничного халата сахаром и сушками. Крысятничество вовсе не поощрялось в психушке, и даже самые буйные психи знали, что их ждет в случае поимки. Тем более удивительным было то равнодушие, которым встретил деревенский псих появление Никодима. Он вяло повернул голову в его сторону и продолжал набивать карманы до тех пор, пока его бока не стали похожи на бедра жирной куртизанки.
Обозленный и недоумевающий, Никодим подошел к соседу вплотную, посмотрел на стол, на котором, кроме пары обглоданных бубликов, ничего не осталось, и спросил:
— Ты что, зараза, последнее соображение потерял, чьи ты порции крадешь, горилла деревенская!
— Так все ушли, — невозмутимо отозвалась «горилла». — Ты что, не знаешь, что сегодня сняли караул у ворот и никто более никого не пасет?
— Свобода, брат, свобода нас встретит нагишом у входа! — загадочно продекламировал псих явно не им сочиненные стихи и, схватив со стола последний надкусанный бублик, невозмутимо вышел в коридор.
Забыв о голоде, Никодим гигантскими прыжками побежал вниз в раздевалку. Конечно, своей приличной одежды он не нашел, но, врезав пару раз доктору психологии Морозу, уже две недели исполнявшему роль каптерщика, все-таки получил пару туфель, светло-серые поношенные брюки и скрученный как сосулька пиджак, который при рождении был коричневым.
Никодим за время вынужденной изоляции растерял свои многочисленные связи и знакомства, поэтому в тот день ему пришлось хорошенько побегать по городу, чтобы вновь заявить о себе. С другой стороны, во время многообразных своих контактов он убедился, что никто уже за ним не надзирает. Наладив самые необходимые связи, он вернулся в психрезиденцию одетый в свой излюбленный наряд: черный свитер и потертые джинсы, неся в пакетике взятые в каптерке напрокат шмотки. Думал он при этом, что застанет больницу опустевшей и темной, однако, напротив, во всех палатах горел свет, слышались оживленные голоса и смех, и более того, за некоторыми запертыми дверьми раздавался даже звон стаканов. Поднявшись к себе в палату, увидел он, что оба его интеллигентных друга тоже материализовались за столом и пусто было место только деревенского «чайника», который за такой короткий срок еще не мог и до дома добраться.
Грустный певец поведал ему, что за время политической ссылки пропали не только его жена и теща, но и само жилье, в которое теперь вселился какой-то жлоб с большим животом и многочисленным семейством. Этот тип, будучи полным нулем в искусстве, с радостью вернул Орфею его любимый музыкальный инструмент — звуковизор, но наотрез отказался вернуть квартиру. Не сказать, что бедному поэту повезло больше. Его бывшая жена, которая после суда развелась с ним официально, не только не исчезла из квартиры, но, напротив, привела себе нового мужа и родила от него ребенка, так что благородный поэт вернулся в казенное жилище.
Едва несчастные душевнобольные обменялись своими печальными историями, как в палату самовольно вселился какой-то никому не известный китаец, с порога заявивший, что он носит в себе эдипов комплекс и поэтому должен занять свободную койку. Беспомощные поэт и певец посмотрели на Никодима и высказали в один голос мысль, что только вшивых китайцев им в палате не хватало. Никодим встал, посмотрел на старика, который был ниже его на две головы, и жестом показал на дверь. Китаец, худощавый и темный лицом, безропотно подошел к порогу и, скрестив руки на груди, сказал шепотом, так что его мог услышать только Никодим: «Когда заходит солнце, начинают квакать лягушки».
Ужасная своей банальностью фраза произвела на Никодима прямо чарующее воздействие, он распростер руки и весь засветился, как будто бы на пороге стоял не сморщенный китаец, а очаровательная женщина вроде его лечащего врача. Взяв китайца за руку, он вывел его в коридор, а возвратившись, без объяснения довольно сухо предупредил, точнее уведомил творческую элиту, что китаец сам известный поэт, к тому же певец-аккомпаниатор и будет жить с ними.
Несмотря на презрение к нему, китаец оказался весьма удобным и воспитанным сопалатником. Вставал он раньше всех и к подъему остальных уже успевал вскипятить на кухне им же добытый вместо исчезнувшего чайник и заварить в большой фарфоровой чашке одному ему известным способом душистый и густой чай. Кроме того, он в самом деле неплохо разбирался и в музыке и в литературе, правда, со странным для европейцев подходом, где детали значили более целого, и один удачно найденный образ или звук приводили его в больший восторг, чем целая поэма или симфония. Правда, общаться с ним можно было только глубокой ночью, после его ежедневных таинственных отлучек вместе с Никодимом.
2. ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА
С каждым новым днем все ярче светило весеннее солнце, и все меньше влияний из большого мира доносилось до психбольницы. Основная жизнь психов постепенно смещалась из больничных корпусов во двор. Если раньше вовсю свирепствовали надсмотрщики-врачи и медбраты мучали несчастных психов регулярной уборкой, а не соблюдающих графики били, то теперь исчезли даже нянечки, об экзекуциях никто и не смел заикнуться и порядок, к радости психов, был совершенно забыт.
Если отсутствие наказаний и лекарств радовало больных, то, к сожалению, с исчезновением порядка в палатах стал скапливаться мусор, а больничное белье из белого превратилось в серо-черное. Постепенно сумасшедший дом организованно или стихийно перешел на одноразовое питание. В определенное время между больничным завтраком и обедом подавали овощную похлебку с добавлением залетных ингредиентов вроде кусочков мяса или рыбы да кипяток, который добывали в редкие паузы между перерывами в подаче электроэнергии и газа.
Безропотно выполнялся всеми пациентами только график мойки посуды, ибо порция лентяя просто съедалась более энергичными сопалатниками. Поэтому некоторые светлые умы стали вынашивать идею обедать во дворе, с тем чтобы каждый мог ополоснуть свою миску в фонтане.
Надо сказать, что светлых умов среди психов было немало, а были и просто выдающиеся. Среди них первое место несомненно занимал некий монах. Свое имя он никому не открывал. Ведомо лишь было про него, что в недавнем прошлом был он служителем Московской отдельной церкви с поэтическим названием «Эзотерическая», которую покинул после таинственного исчезновения ее настоятеля отца Климента.
Что это за чудная эзотерическая церковь и с какого хрена монах съехал с ума и попал к ним, остальные психи не знали. Касательно других случаев каждый точно знал, что безумны все окружающие, кроме него самого, но неведомая церковь с таинственным безымянным служителем была вещью непонятной и вполне возможно, что входили в нее люди необычные.
Высокий, черноволосый и кареглазый монах с острой испанской бородкой и длинными баками мало походил не то что на русского, но и на любого нацмена. Наиболее наблюдательные психи решили между собой, что человек с такой внешностью вряд ли будет православным, а скорее он католик и не иначе как агент самого… Папы Римского. Эта мысль поднимала их собственный статус и монаха звали не иначе как Иезуит.
Монах все-таки не был вполне нормален, так как признавал только два состояния: или молчал, или проповедовал сам себе. То ли он обращался к своим духовным противникам, то ли наставлял анонимных страждуших, но в любом случае говорил он так горячо и непонятно, что психи, как один, сбегались его послушать. Одно время больные пытались обнаружить, каким образом Иезуит передает донесения патрону из Рима, но вскоре, не найдя никаких специальных приспособлений связи, оставили эту затею, решив, что сеансы шпионской связи проводятся каким-то образом во время длительных молчаний Иезуита.
Обычно психи подтягивались во двор ближе к полудню, когда весеннее солнышко уже порядком нагревало землю и можно было с блаженством на ней растянуться. Они примерно представляли, какой великий бардак творится за стенами их плохо охраняемого убежища, и старались кучковаться все вместе, особо не решаясь разбредаться по всей территории двора. Как всегда перед кормежкой все были готовы потешиться дежурной перебранкой историков, которые заменяли бормотание Иезуита.
Многоопытные профессора истории прежде были непримиримыми соперниками на ниве науки, но почти одновременно выставленные из конкурирующих университетов и оставшись без средств к существованию как-то неожиданно превратились в пациентов сумасшедшего дома. Здесь их, как и всех, бесплатно кормили и, кроме того, предоставляли любопытствующую аудиторию, которая с удовольствием выслушивала исторические бредни.
Как монах, всегда одетый в черную, похоже, перешитую из портьеры сутану, так и оба профессора остались верны нарядам их прежней жизни. Они были облачены в некое подобие темных вечерних костюмов-троек, а на ногах имели перевязанные веревочкой штиблеты, чем удивительно выделялись среди пациентов, особым шиком для которых было разодрать свою синюю униформу в клочья и как можно живописнее драпироваться в лохмотья.
— Как вы считаете, уважаемый коллега, какими факторами была предопределена победа варваров над римлянами? — интересовался профессор Губин у своего коллеги профессора Тойбина.
Всякий раз историки начинали свою беседу вполне воспитанно, что вначале умиляло малоинтеллигентных психов, но вскоре озлоблялись и переходили на площадную брань. К сожалению, выбор собеседников отсутствовал, а желание обменяться бурлящими в головах идеями было выше прошлых обид.
— Ни одна граница не устоит между обществами разного уровня цивилизации, — важно отвечал импозантный профессор Тойбин, сжимая в крепких еще зубах трубку, набитую жмыхом. — Менее культурный сосед обязательно победит.
— Значит, дурно пахнущие националисты свалят нашего душку императора? — хитро прищурился скуластый и низкорослый Губин.
— Несомненно и исторически неизбежно.
— Похоже, — согласился неунывающий Губин. — Все равно как мы с тобой и эта урла. — Он обвел взглядом развалившихся на солнышке психов. — Сначала мы их учили по контракту с дирекцией, и что в результате. Не они отсюда вышли в цивилизованный мир, а мы к ним пришли и здесь прописались. Не они стали учеными, а мы сумасшедшими.
— Про тебя я никогда не сомневался, — распетушился Тойбин. — Даже в те далекие времена, когда ты был молодым хамом-аспирантом. Но как ты мог сказать такое про меня? — И он возмущенно схватил коллегу цепкими пальцами за ухо.
Внимательно слушающий диспут монах вскочил с места и мигом разнял дерущихся. Когда же профессора отдышались, он обратился к ним с давно мучающим его вопросом:
— Так что, богопротивные компатриоты и на этот раз победят?
— Безусловно, батенька, — хором отвечали историки. — Да и какая разница, кто победит. Для истории любая ваша заварушка — плевок на мраморном полу человеческой культуры.
— Плевать на мраморный пол по меньшей мере неэлегантно, — услышал Тойбин чарующий голосок за своей спиной.
Историки и Иезуит разом обернулись, и перед их глазами предстала совсем юная девушка с дерзким взглядом и чуть выпяченными свежими губками, по цвету напоминающими июньскую клубнику. Если еще при этом упомянуть щеки и шею, которые по свежести и чистоте можно было уподобить парному молоку, то неудивительно, что любому мужчине хотелось съесть ее с первого взгляда. Несмотря на то, что одета она была в стандартный белый халат, туго перетянутый цветным кушаком, пациентам было ясно, что такие цветы в гнилом болоте психбольницы не произрастают и, значит, очаровательница явилась из внешнего мира. Историки расступились, как бы принимая незнакомку в свой элитарный круг, предварительно выпихнув из него Иезуита, который задумчиво отошел к самой ограде, переваривая умные мысли наставников.
Но тут вмешались притянутые незнакомкой, словно магнитом, Орфей и Нарцисс.
— Как же теперь жить? — тихо произнес Орфей, испытывая неведомое ранее чувство жжения в груди.
Нарцисс же открыл было рот, чтобы спросить: «Откуда появилась эта таинственная незнакомка?», но несвойственная застенчивость остановила его, и он только посмотрел искоса на девушку.
Однако прелестница, улыбнувшись, сама рассказала свою историю. Оказывается, последние три года она провела рядом с ними, можно сказать, на соседней койке, только под специальной охраной, за бронированной дверью.
— Что же вы такого натворили? — выдавил из себя Орфей, не в силах понять, как можно было обидеть этакое создание.
Девушка действительно была больна, причем болезнью социально опасной и трудноизлечимой. С самого детства, как только начала юная Анита лепетать, она затруднялась скрывать свои мысли. То есть говорила то, что думала. Причем болезнь ее прогрессировала с годами, и если в нежном возрасте она еще могла скрывать свои отрицательные эмоции, то после седьмого класса вовсе потеряла способность лгать. Эта черта характера, может быть, терпимая в зрелом обществе, в императорской России привела ее к заточению в психушку. Лечили ее, правда, щадящими методами, в основном полной изоляцией, и она смогла сохранить свежесть своего лица и интеллекта.
Услышав ее удивительную историю, Губин решил не терять времени даром и, убежденный в своем превосходстве, спросил:
— Скажите, Аниточка, кто из нас вам больше понравился?
— Вот они, — не колеблясь ни секунды, показала девушка на двух замечательных друзей Нарцисса и Орфея. — Они чистые души с верой в себя и в жизнь. Еще подождите, Орфей в самом деле запоет, так что мертвые из гробов восстанут, а Нарцисс своей красотой нас спасет.
Обе «чистые души», ошеломленные пророчеством, несколько секунд стояли неподвижно, переваривая сказанное. При всей шизофренической вере в свою исключительность в самых затаенных уголках души друзей коренились некоторые сомнения в собственных талантах.
Тойбин прищурился на девчушку, а потом, отведя ее в сторону, спросил, чуть понизив голос:
— Может быть, уважаемая дама кроме порока говорить одну только правду и ничего, кроме правды, еще обладает даром прорицания. Потому что я человек вполне дюжинный и поэтому мыслящий реалистически, — легким нажимом на слове «дюжинный» он дал девушке понять, что на самом деле все совсем не так обстоит, — так вот я вижу перед собой два деградирующих огородных пугала. — И с вовсе не присущей ему дипломатичностью вкрадчиво продолжил: — Понимаете ли вы, что своим неосторожным заявлением вы лишаете бедолаг последней возможности войти назад в собственный разум и увидеть мир и себя в нем такими, какие они есть?
— Зачем? — спросила Анита и рассмеялась. При звуке ее голоса что-то ударило Тойбина в грудь, отчего сердце его замерло и сладко заныло. С трудом удержался он, чтобы не схватить девушку в охапку, но классическое образование его удержало.
— Душевные превращения, — продолжала девушка, будто не замечая волнения очарованного историка, — не нами придуманы и не мы за них несем ответственность. И что это за разум такой, если он от двух-трех неосторожных слов срывается, словно камень с обрыва. Ничего вам не стоит отменить вами же придуманные законы и вместо них другие накатать. Я же подоплеку вашего вопроса вижу: «Как же так, подумали вы, ну ладно, вот он, — и тут Анита указала на Губина, — мелкий прохвост, но я мощный интеллект, оригинальный ум, да и мужчина еще хоть куда, несмотря на поношенный костюм, а рядом два, как вы выразились, огородных пугала. И кто-то, не важно кто, этим пугалам предпочтение отдает». Разве не так вы подумали? Ладно, молчите, соврать неудобно, а правду не высказать.
Друг мой, — продолжала она, и невыразимо грустные нотки зазвучали в ее голосе, — ваша беда в том, что вы заиндевели между реальностью и безумием, а эти двое органичны.
— Кто же вас выпустил! — прервал ее в сердцах Тойбин, а Губин, ничего не говоря, привстал на одно колено и поцеловал подол халата.
— Город опасен, — сказал он славным тенорком, — вам надобен спутник, чтобы добраться до дома, а и цел ли ваш дом? В наше смутное время и дома исчезают бесследно, как люди.
— Мы все вас проводим! — в восторге закричал Орфей, который, отойдя от шока, бросился на лужайку собирать лопухи, коими заменил еще не распустившиеся цветы, воображая, что галантен не менее вылощенных историков.
Так же и Нарцисс готов был хоть на край света вести неожиданно возникшую даму своего сердца, и даже мелькнула у него идея, что, может быть, вдвоем они смотрелись бы еще чудесней. Однако эту крамольную мысль он отогнал, тем более что девушка со словами благодарности отказалась подвергнуть их опасности пешей прогулки по стольному городу и сказала, что с минуты на минуту ждет своего отца, которому она исхитрилась уже утром передать весточку. Подробнее о папаше она распространяться не стала, а только скромно пояснила, что он как лицо служебное передвигается на полицейской машине с охраной.
С этими словами девушка тепло распрощалась со своими случайными собеседниками и пошла к выходу через дверь главного корпуса, куда по ее разумению должна была подъехать машина. Окрыленные Нарцисс и Орфей все-таки навязали себя ей в спутники, обещая, что по приезде папы немедленно исчезнут, хотя про себя недоумевали явному нежеланию девушки представить таких очаровательных ухажеров отцу. Из щелочки между занавеской и оконной рамой смотрели они, как Анита в сопровождении двух каких-то важных военных чинов со сверкающими серебром эполетами на плечах садилась в открытый кабриолет, и лошади, осторожно цокая копытами, повезли его сначала тихо, а потом под свист ямщика и удары кнута быстрее и быстрее по узкой московской улочке. Долго еще был виден им белый Анитин халат и цветной закрученный вокруг талии пояс, пока не заслонила хрупкий силуэт полицейская машина сопровождения.
Обратно друзья не пошли, а остались сидеть на подоконнике, болтая ногами и собираясь с обрывками мыслей, рассеянных красотой девушки словно ударом молнии. Долго они толковали между собой, пока не утешились мечтами о том, что красота одного и дивные песни другого сделают каждого из них знаменитыми в этом громадном городе, и тогда Анита непременно вернется к ним, чтобы погреться в лучах их будущего величия…
— …Которое она сама и предрекла, — закончил Орфей, словно желая еще раз убедить Нарцисса в правоте своих слов и отщипывая от сильного волнения один кусочек зеленого листа за другим.
— Я снимусь в фильме в ее честь, — сказал Нарцисс и от радости спрыгнул с подоконника, пытаясь разглядеть себя в глазах Орфея. — А ты запишешь пластинку со своими песнями и отошлешь ей в подарок, — утешил он своего друга.
— Не могу больше гнить в этих постылых тюремных стенах. К солнцу. На волю! — вскричал Орфей и бросился в сад, на ходу срывая с себя одежду.
Нарцисс, поклявшийся превзойти самого себя в погоне за красотой и славой, последовал за другом.
После мимолетной встречи с предсказавшей им судьбу пифией по имени Анита Орфей и Нарцисс кардинально изменили обычное времяпрепровождение, которое заключалось в распитии дармовой браги и стрелянии окурков, и для усовершенствования своих талантов перешли к естественной жизни на природе, невольно превратившись в верных слушателей историков. Несмотря на свою неприязнь к словоблудствующим демагогам, они не пропустили ни одного диспута, ибо историки вещали обычно в месте постоянного расположения друзей, у заросшего травой и тиной действующего из последних сил фонтана.
В любую погоду Орфей, превратившийся в последователя давно умершего аскета Порфирия Иванова, столь же безумного, как и он сам, с утра поднимался на порушенное кирпичное основание под некогда изваянной и давно исчезнувшей скульптурной группой фонтана и пребывал на своем посту до отбоя. Стоя обнаженным, с заросшим седой щетиной телом и опавшим сморщенным пенисом, он каждое утро прочищал горло, поднимая гимном сумасшедших. Весь день он выпевал самые нелепые словосочетания и рифмы, сопровождая свои усилия непристойным пуканьем, так что к ночи, изнуренный, мог только сипеть.
Его верный сосед Нарцисс располагался на раскрошенном бордюре бассейна и целыми днями смотрелся в то, что ему представлялось водной гладью, любуясь собственным отражением. Был он кривобок, кривоног, плешив, однако имел украшавший его животик — предмет зависти исхудавших психов. Когда дамам удавалось отхватить лишний кусочек, возбужденные, они подходили к Нарциссу поближе и нежно гладили мягчайшую выпуклость, заигрывая с ним и вспоминая, верно, мужчин из своей прошлой жизни; но Нарцисс их не замечал. Перестав принимать лекарства, он более ни с кем не общался и лишь собственное отражение в блестящей грязи и тине занимало его. Кроме историков, он более никого не слушал и ни с кем не говорил, только изредка кивал Орфею, как бы не желая обидеть великого певца, да временами глядел вдаль.
Помимо того, что лишь в саду можно было растить столь великие таланты, еще крепче здесь держала друзей несгибаемая вера в новую встречу с пленившей их девушкой, которую они боялись пропустить более всего на свете.
— Что же делать. Как дальше жить в этой стране? — обхватив голову руками, бродил по саду Иезуит.
— Прежде чем наставлять других, учись сам, — мягко улыбался Тойбин. — Вспомни, о чем писал Платон в своих письмах…
— …Подъем творческой личности происходит через напряженный интеллектуальный союз и интимное личное общение, дабы перенести божественный огонь из одной души в другую, — блеснул Губин.
— Именно так учил меня отец Климент, — пораженно заметил монах.
— Этот ваш грек, что он имеет в виду под интимным общением? — почти дружески спросил вдруг Нарцисс у Губина, вновь вспомнив Аниту.
— Откуда мне знать, — отмахнулся Губин.
— Но вы же ученый.
— У меня нет привычки читать чужие письма. А он мне не писал, — осадил бездаря профессор.
— Был такой Климент, — согласился Тойбин с Иезуитом. — При жизни не был святым, проповедовал в Александрии, поэтому и звался Александрийским. Во втором веке дело было. Так ты утверждаешь, что слышал его. Никогда бы не подумал, что ты такой старый!
Пораженный Тойбин отшатнулся от монаха и стал издали ощупывать его пронзительным взглядом.
— Есть два вида возраста. Один — когда человек зрел, а внутренние органы у него, как у младенца. Это как мы с тобой, — объяснил ему Губин, — а бывает наоборот. С виду человек достаточно молодой… лет двадцати пяти, а его внутренние органы… ох…
— Старичок ты наш, — погладил Тойбин монаха по спине. — Давно ты последний раз слушал Климента?
— Давно, — огорченно мотанул головой Иезуит. — Он теперь никого не учит. Отправился на поиски ученика…
— Плохо ты его слушал, — продолжал Тойбин, — а то бы уяснил себе, что Господь не раскрыл для всех то, что принадлежит избранным, потому что сокровенные вещи доверяются устной речи, а не писанию.
— В речи главное звучание! — произнес вдруг Нарцисс и натужившись прорычал:
Над Северной громадой В тихом сумраке ночей Безрадостно зову усладу Души измученной моей!А Орфей лишь тихонечко пропел: «Ани-та!»
— Лишь тому, кто способен сокровенно видеть доверенное ему, будет раскрыта истина! — перебил карканье влюбленных Тойбин.
С этими словами, не обращая внимания на присутствующих Орфея и Нарцисса, историки накинулись на Иезуита и стремительно сорвали с него сутану, так что он остался в одних полосатых трусах. Сутану они накинули на все три головы и стали стаскивать с молодого монаха трусы.
— Сколь слабы наши поучения по сравнению с той благодатью, которой можно удостоиться лишь в темноте, возлежа под покрывалом, — забормотал Губин, пытаясь повалить монаха на землю и одновременно расстегнуть свои штаны.
Однако пришедший в себя от изумления Иезуит легко вырвался и вновь натянул на себя сутану.
— Испытание не прошел, — грустно заметил Губин, — нельзя объяснять тайные вещи в достаточной мере.
— Тирсом его, — злобно зарычал отброшенный могучей рукой монаха в самую грязь Тойбин, — бей его жезлом священным!
Губин достал припрятанную тут же толстенную суковатую палку и, схватив ее двумя руками, замахнулся на Иезуита.
— Этот тирс символизирует спинной мозг, был бы ты поменьше, и жезл был бы потоньше, — злорадно прошипел Тойбин.
Возмущенный монах прокричал несколько фраз, вероятно по латыни, и, схватив историков за шиворот, с силой столкнул их лбами.
Бедные ученые без чувств упали на землю, причем Губин в падении задел Нарцисса, который тоже не удержался на ногах. Когда они очнулись, то, потирая ушибленные лбы и смотря вслед сбежавшему от них к самой ограде Иезуиту, заголосили:
— Дьявол!
— Прикинулся монахом, а сам — истинно Сатана! — Однако, видя что монах только трясется от злости, но близко к ним не подходит, они воспряли духом и стали обсуждать происшедшее с исторической точки зрения.
— Если есть всеохватывающее благо, то откуда взяться на Земле злу? — спросил Тойбин и сам же ответил: — Беда в том, что вся история с мирозданием необычайно запутана. Вовсе не обязательно, что наш бог самый главный в Космосе. Вполне вероятно, что некто сотворил его самого, подобно тому, как он создал нас по своему образу.
— Игра в испорченный телефон, — ухмыльнулся Губин, — но мы признаем только научный подход и должны говорить только о том, кого знаем…
— …и кого видели…
— О боге…
— …о дьяволе.
— А красота от бога или от дьявола? — задумался Нарцисс, прихорашиваясь. — Мне кажется, что идеальная красота, как моя, например, — скромно добавил он, — явно от Бога, а красота совращения, красота порока — то от дьявола.
Оба историка при последних словах посмотрели на Иезуита, но тот, не обращая на них внимания, собирал подснежники у ограды.
— Наш сатана — это ведь падший ангел.
— То-то он рвет цветочки, — заключил из опыта личного наблюдения Тойбин.
— Бог предвидел его падение и спровоцировал его. Ибо в ответ на дьявольские проделки появляется возможность нового творения.
Заинтересовавшись умным разговором, монах уже давно собирал цветы возле историков. Ученые мужи, многозначительно обменявшись взглядами, на всякий случай подтянулись друг к другу, но сделали вид, что не замечают Иезуита.
— Такое уж у Бога удивительное совершенство, что никак оно не дается человеку, — вздохнул коварно Губин.
— Да здравствует утрата смысла. Слава сумасшедшим. Они одни истинны и невинны. Ура! — продекларировал Орфей, но никто его не поддержал, даже Нарцисс, потому что никто не признавал себя безумным.
— Может быть, это никакое и не совершенство, — многозначительно подмигнув коллеге и потирая лоб, на котором уже проклюнулась здоровая шишка, проговорил Тойбин и стрельнул глазами в Иезуита, с невозмутимым видом плетущего очередной венок.
— Нет, совершенство, но падшеангельское.
— Когда инь перешло в ян, сатана уже не в силах удержать его от нового акта творения переходом от ян к инь на более высоком уровне.
— Наконец-то я понял, что постоянно происходит с нашим душевным равновесием, — обрадовался Орфей, с трудом отрываясь от мыслей об Аните, — его вечно нарушает дьявол. Оттого мы такие нервные. Мы убедились с тобой, что дьявол обречен на проигрыш потому, что он не на тех напал. Как ему с нами справиться?
— А если ему в другой раз повезет? — усомнился Нарцисс, с неменьшим трудом отрываясь от созерцания водной глади.
— Ну что ж, тогда расплатится человек, но Дьявол, — и тут Тойбин повысил голос, — должен помнить, что тем самым он дает Богу возможность совершить новый акт творения.
— Долой историю. Да здравствует новый человек! — вновь вскричал Орфей. При этом он спрыгнул с постамента и, стуча в ладоши, подошел к своему другу, любовно гладившему собственный голый живот.
— Ура! — поддержал его Нарцисс и прильнул к другу животом и грудью.
— По-моему, ты стал еще краше, — польстил ему Орфей, надеясь на ответный жест.
— Думаю, — заключил Тойбин торжественно, — вы поняли, что в человеческой истории любому возмущению оказывается противодействие, и это есть великий принцип Вызова и Ответа.
— Первую стадию Вызова и Ответа, перехода от инь к ян, или, что то же, от покоя к движению, я ощутил на себе, — сказал Губин, потирая шишку на лбу и бросая злобный взгляд на монаха. — Что же будет дальше?
— Накануне искупительной жертвы человек переживает грядущее, не предпринимая действия, но готовясь к смерти истинной или аллегорической. Собственным недеянием он меняет ритм вселенной, поворачивая от ян к инь…
— …или от движения к покою, — уточнил для себя Губин, который усиленно заучивал декларируемые истины. — А Сатана, значит, несмотря на известный ему порядок действия ян и инь, снова точит когти.
Тойбин невольно дернулся, стремясь убежать, но Губин схватил его поперек туловища.
— Нет, не наш. Наш до сих пор в ностальгии по своему ангельскому прошлому.
— Он просто прикидывается!
— А-а-а-а! — закричали историки в ужасе и, схватившись за руки, побежали.
Заметив, однако, что, монах их не преследует, запыхавшиеся ученые вскоре остановились, и Губин обратился к Тойбину.
— А с чего это мы побежали? Ведь все то, что ты мне рассказывал, — лишь эзотерическая теория. Весь этот Вызов-и-Ответ не про простого человека, а про мифического…
Согласившись, что спор их в самом деле зашел в тупик, историки дружно повели носами и, унюхав запах подгорающей на кухне каши, живо мотанули в лечебный корпус, пообещав дьяволу в монашеском облике изгнать его после обеденного перерыва.
Орфей и Нарцисс, никем более не отвлекаемые, с новым рвением принялись за работу. От усердного пения щеки Орфея раздулись вдвое, а животик Нарцисса к вечеру принял форму яйца. Друзья чувствовали, что их таланты стремительно развиваются со дня на день.
3. ПСИХОЛОГ
Почитаемые в сумасшедшем доме за истинно мифических людей, Никодим со своим коллегой-китайцем в отличие от остальных обитателей психушки все свободное время проводили в палате, никогда не показываясь во дворе.
— Знаешь, Ника, — задумчиво сказал китаец, вытирая рот после постного ужина и потягиваясь, — я старый охотник секреты и в жизни украл их больше какой-нибудь другой желтый джентльмен. Но один секрет я никак не разгадать. Может быть, ты помогать, раскрыв своя таинственная славянская душа?
— Душа душой, — отвечал Никодим, которого в отличие от тощего китайца постная каша вводила в раздражение аппетита, — только я не славянин, а татарин. Предки мои со славян дань собирали скакунами и красотками, поэтому со славянской душой у меня проблем нет. — «И души нет», — хотел он добавить, но почему-то промолчал. — Короче, подними со стула свою тощую задницу и поведай мне тайну, которую ты не сумел разгадать.
— Поведаю, — неожиданно легко согласился китаец, — хотя тайна велика есть. Уже месяц мы живем без централизованный управления и снабжения. Так кто же, черт побери, нас кормить и поить бесплатна? Кому нужна в этом сумасшедший мир на чуть подпорченная психа тратить драгоценная крупа?
Никодим улыбнулся равнодушно, лег на койку и прикрыл рукой глаза.
— Тебе, постороннему китайцу на нашем посткоммунистическом пиру, — медленно протянул он, — так и быть поясню. Понятно, что ни один кретин-чиновник не выделит отдельно существующему сумасшедшему дому ни грамма гуманитарной помощи. Да и какая гуманитарная помощь может быть от русского чиновника. Стало быть, наш дом имеет неограниченные стратегические запасы разного сорта круп и консервов. И нам с тобой, людям потенциально не богатым, лучше всегда держаться руками и ногами за юбку здешней сестры-хозяйки.
Он улыбнулся и жестом пригласил старика сесть к нему на койку.
— Рассказать тебе, какой секрет гложет меня? — улыбнулся он. — Нашел невидаль — дармовую жрачку. Вот ты мне объясни, какого хрена работает каждый день лабораторный корпус, и «больные» покорно несут свои изломанные тела на сомнительного качества процедуры.
Не успел он закончить, как в палату вошла толстая сестричка с добродушным румяным лицом и грузными ляжками и сказала:
— Никодим, голубчик, тебя опять психолог вызывает, хочет поиграть с тобой на сон грядущий в тестики. Да и энцефалограмму ты уже не делал дней несколько. Давай, дорогуша, прошвырнись.
— Это же парадокс, — замахал руками Никодим, когда нянечка вышла. — Какого черта я должен посещать шизанутого за всю масть невротика с его сраными тестами…
Отведя душу в значительно более крепких выражениях, Никодим со стоном поднялся с постели и стал-таки готовиться к неприятному визиту.
Поев из общего котла, историки решили прилечь, чтобы завязался какой-нибудь жирок на тощих животах, но, промучившись полчаса на одной кровати, которую сообща занимали для сохранения тепла, разом вскочили и, жмурясь на солнышке, стали одеваться. Жажда «доесть» злокозненного монаха и публично еще раз изложить свое понимание истории и природы привело их к фонтану. Иезуит и голые оппоненты историков в это время бродили между обломками мраморных статуй и собирали цветы.
— Священная история вершится ее вечным повторением в человеческой жизни, а не только в эзотерических спекуляциях, — начал Тойбин без всякого вступления. — Любое истинное событие не только указует на Высшее, но и само обладает Высшей значимостью и состоит в опыте поглощения индивидуального божественным. Там, где исчезает этот опыт, теряется постигаемый смысл и божественное меняется на свою противоположность.
— Понимая все это, я вернулся, — гордо выпрямился Губин.
— Вы можете не бояться меня, — прошептал незаметно подошедший Иезуит, поправляя венок на голове. — Я очень жалею, что не проявил достаточного смирения в обучении.
— Вот видишь, — обрадовался Тойбин, — подтверждение моей теории само пришло, — и продолжил, развеивая недоумение Губина: — Разве я не учил, что человек достигает цивилизации в ответ на вызов в ситуации особой трудности, воодушевляющей его на беспрецедентное до сих пор усилие.
— Действительно, — должен был согласиться Губин. — Ведь это мы с тобой создали систему особой трудности для него.
— Конечно! — воскликнул Тойбин и дружески хлопнул Губина по плечу. Тот поморщился, но отвечать не стал.
— Цивилизация несет погибель, возрождает же любовь! — провозгласил Орфей и схватился за губную гармошку.
— Любовь поднимет нас над всеми, — ухватил Орфея за ногу Нарцисс.
— Как же все-таки постичь истину, чтобы нести ее в массы? — вздохнул Иезуит, и историки невольно повернулись к нему.
— Существует один истинный путь получения волевого импульса, — презрительно оглядел монаха Тойбин. — Ты должен найти достойную историческую личность и вступить с ней в духовный союз.
Тут он напыжился, давая Иезуиту представление об истинном виде образца.
— Слушать глухими ушами неземную музыку кифары Орфея — ну и идейка! — захихикал Губин.
Тут все невольно обратились к Орфею, и тот ответил совершенно загадочно:
— Ты услышишь музыку, если душа твоя созрела для понимания.
Надо отдать должное Никодиму — он никогда не задумывался о собственной душе и, более того, мгновенно отметал любые дискуссии на данную тему. Однако юноша пребывал далеко не в лучшем состоянии и, дабы успокоиться, считал ступеньки на пути к психологу.
Пять пролетов вниз, потом проход по мощенному булыжником двору, огороженному со всех четырех сторон глухими стенами, дверь, обитая блестящим пластиком, и… широкий вестибюль приемного покоя. Вращающаяся стеклянная дверь, раскидистые пальмы в горшках с изъеденными зелеными листьями, все то же, как при первом визите в качестве душевнобольного, только тогда у входа стоял молодой конвойный прапор со штыком у пояса. Сейчас вместо него так же сурово и неподвижно стояли два хмыря из местных психов в байковых серых халатах, таких же, как и на Никодиме. Вместо штыков у них были подвешены на кушаках железные прутья, свинченные с больничных кроватей, но выражение лиц психов было еще более служебное, чем у царских часовых. Если те, прежние, служили, дабы не выпускать беглецов, то задача нынешних более сложна — не впустить с улицы претендентов на больничные харчи.
Никем не сопровождаемый, не то что в былые времена, когда каждого испытуемого в лаборатории конвоировали не менее двух санитаров, Никодим поднялся в отделение психотерапии.
«Косить или не косить, — думал он, идя по узкому коридорчику, где, как и несколько месяцев назад, висели таблички с фамилиями и научными званиями врачей, — вопрос тяжелый. С одной стороны, ранее, когда псих косил, он уходил от наказания со стороны карательных органов, с другой, сейчас скажи, что ты здоров, и сестра-хозяйка не поможет. Сами психи выгонят лишний рот к такой-то матери».
Он постучался в кабинет врача и осторожно приоткрыл дверь. В окружении трех сияющих экранов ему навстречу повернулось узкое лицо с внимательными глазами из-под русой челки. Психолог был молод, бодр и, несмотря на всеобщую деградацию, полон энтузиазма. Он жил в лабораторном корпусе вместе с женой и сыном, которых поселил рядом из соображений экономии и безопасности. Кроме того, он считал, что чем раньше ребенок познакомится с теневыми сторонами действительности, тем больше у него шансов выжить.
— Просматривал я вчера ваш вопросник тестовый, — безо всякого приветствия обратился к Никодиму врач, — и пришел к выводу, что вы, дорогой, при ответах бессовестно врете. Открою вам сейчас такой секрет, такой секрет ужасный… — психолог замахал, как утка крыльями при кладке яиц, — вы своим ушам не поверите и, конечно, разнесете его по палатам. Дело в том, что во всех вопросниках, которые я даю больным для заполнения, существуют поправочные кривые на правду и ложь. И эти кривые, дорогой мой, ни вам, ни вашим коллегам никак не обойти. Все ваши ответы я суммирую на мониторе и получаю так называемый «профиль». Так вот, такого лживого профиля, как у вас, я не видел даже у знаменитых аферистов. Более того, когда вы нажимаете на кнопки, я изучаю не только информацию, которую вы передаете, но и моторику ваших рук. И есть, к вашему сведению, целая наука почище графологии, которая позволяет по движениям рук, непроизвольным движениям, естественно, составить такой же профиль вашей духовной сущности. Вы пронизаны ложью, мой друг. Причем вы лжете, даже когда простой расчет рекомендовал бы придерживаться истины. При этом вы очень хитры, честолюбивы, неразборчивы в средствах для достижения цели и изобретательны в методах. Что же вы делаете у нас, абсолютно здоровый и незаурядный разбойник? Никогда не поверю, что у вас ничего не припасено на черный день и вы нуждаетесь в дармовой каше.
Никодим улыбнулся. «Вот могилу себе роет, — . подумал он лениво, — ну прямо сам нарывается на чистку. Самого болвана держат здесь по инерции, так нет, неймется. Лезет в сыщики. С другой стороны, я тоже хорош, надо было подготовиться лучше к этим сраным тестам, а не прокалываться по мелочам. Еще два месяца назад все это было бы опасным, сейчас просто смешно… до тех пор, пока этот тип не обратится в полицию. А он обязательно настучит».
— Однако, доктор, вы в точку попали, — ухмыльнулся он. — Скрываюсь я тут от преследования. Конечно, никакой я не больной, просто здоровее не бывает, и друг мой вместе со мной прячется. Знаете китайца из моей палаты, тоже притворщик. Я вам эту информацию дарю; что вы будете с нами делать?
Психолог нервно стиснул одной рукой дискету и посмотрел искоса на Никодима.
— Вам покажется смешным, — сказал он задумчиво, — но я в отличие от вас не утратил своих моральных принципов. Поэтому я не могу безразлично отнестись к тому, что два проходимца бесстыдно обкрадывают больных и претендуют на их скромную пайку. И не думайте, что вам удастся просто так улизнуть вместе с вашим бессовестным азиатом. Я через одну минуту позвоню в полицию, и, хотя там с людьми совсем напряженно, ради меня они пришлют за вами наряд. Отольется вам дармовая каша!
— Кровожадный вы человек, — сказал Никодим, оглядываясь. Увидев, что никого, кроме них, в кабинете нет, добавил: — Вы очень ревнивы к отсутствию порядочности в других, ну а как же вы и ваши коллеги, которые годами вынимали мозги из голов беззащитных людей своими таблетками и уколами. Сколько на вашей совести людей, потерявших здоровье и память? По ночам не снятся?
— Выбраковка, — сказал врач. — Естественный процесс. Кто не выдерживает интенсивного лечения — погибает. Иначе весь город наводнился бы неполноценными людьми. Впрочем, — улыбнулся он, — к чему лишние споры? Приберегите ваш язык для следователя тайной полиции.
— Да ладно, профессор, — чарующе улыбнулся Никодим, — хватит шутить. Я вот предлагаю вам пари. Ставлю свой байковый халат против вашего ситцевого. — Он взял доктора за рукав белого халата. — А суть пари в том, что никуда вы звонить не будете, потому что я вас за несколько минут уговорю и перевоспитаю.
— Наглец, — сказал психолог, глядя на Никодима как на какую-то сальную тряпку. — Неужели вы думаете, что на меня может подействовать ваша невежественная демагогия. Ваш халат я не возьму, даже чтобы мыть им сортир. Но одну минуту я вам дам. Убедите меня, если сможете.
— Да одной-то много, — утешил его Никодим. Он чуть повел правым плечом и резко сжатым кулаком ударил врача в лоб. Психолог, не сказав ни слова, перевернулся в воздухе и грудой мятого белья свалился на пол. Не теряя времени, Никодим приподнял его за плечи и посадил в кресло. Чтобы доктор не свалился, он стянул его под грудью своим кушаком и привязал к спинке кресла. Затем, не долго думая, открыл объемистый белый шкаф и стал выгребать с полок на стол банки и пробирки с разнообразными лекарствами. При этом он косил на дверь кабинета, не желая, чтобы его застигли врасплох. После того, как целая батарея бутылок, склянок и пакетов с таблетками была выгружена на стол, Никодим достал одну ампулу, на которой было написано «Морфий» и раздавил кончик. Одной рукой он разжал рот психологу, а другой слил ему на язык содержимое ампулы.
Познания Никодима в фармакологии были довольно скудны, и, чтобы не ошибиться, он слил в рот врачу понемножку из самых разных бутылок. Видимо, действие лекарств было разноречивым, потому что психолог то приходил в себя и начинал рваться из кресла, то мирно чмокал губами и похрапывал во сне. Решив, что смирнее всего он становится после действия лекарственной жидкости из одной объемистой бутылочки, Никодим, не церемонясь, воткнул ему горлышко бутылки в рот и резко поднял дно. Жидкость полилась сквозь стиснутые зубы врача к нему в горло, и после двух вынужденных глотков он расслабился и затих. Никодим деловито слил ему в рот все до последней капли, потом, развязав, приподнял и ловко снял с врача халат. Оставив спящего в одних брюках неопределенно-серого цвета и синей рубашке, он обнял его за плечи и поволок прочь из кабинета. По карманам он рассовал с десяток коробочек с чарующими названиями: «промидол», «седуксен», «аминозин» и тому подобными. Поддерживая врача, он буквально снес его вниз и пересек вместе с ним дворик, ведущий в больничный корпус. Оставив спящего мертвым сном психолога под лестничной клеткой, Никодим отправился за подкреплением.
Вчетвером они с трудом подняли грузное тело, причем Орфей с великим усердием нес спящую голову, а Нарцисс суетливо брался то за одну ногу, то за другую и больше мешал, чем помогал. Китаец же со свойственной его племени старательностью залез буквально под тело и поддерживал врача на весу. По дороге им встречались больные и сестры, но никто не задал ни единого вопроса — так расшаталась дисциплина в психбольнице. Они беспрепятственно внесли спящего врача к себе в палату и, крепко связав, сунули под Никодимову кровать.
Самым обычным делом в Москве было то, что пропадали вдруг люди, и случаев таких было столько же, сколько смертей от естественных причин, так что никто не пришел на следующее утро с обыском и не поинтересовался, что могло случиться с не в меру любознательным психологом.
У Никодима с китайцем по поводу судьбы врача состоялся тем же вечером долгий разговор. Друзья решили не растворять врача в серной кислоте и не скармливать подопытным собакам, и такие были в клинике, правда всего две-три и очень заморенные, а оставить в палате под действием наркотиков, зато перепробовать на нем все!
4. АКАДЕМИК
Несмотря ни на какие изменения за оградой, жизнь в сумасшедшем доме шла своим чередом, но случаются события, которые не в силах предсказать даже величайшие историки. И вот как-то в один, с виду ничем не примечательный денек из-за пней вышел весьма странный субъект в джинсах, пиджаке спортивного покроя в крупную клетку, в сиреневом блейзере и ярких кроссовках. Вместо шляпы его голову охватывал выкрашенный желтой краской бумажный круг с полями, который он с недавнего времени никогда не снимал, а во время климатических невзгод прикрывал прозрачным целлофановым пакетом. Если бы в тот день на вахте стояли историки, они бы не пустили этого типа на порог, но ученые никогда не опускались до подобных рутинных дел, а, как обычно, дискутировали.
Вновь прибывшего встретил Иезуит, весь засиял, побежал к наставникам сообщить радостную весть, а пока он это делал, коллега историков бросился им навстречу с распростертыми объятиями. При виде новенького Губин весь заклокотал, а Тойбин просто упал в обморок. Нарцисс зачерпнул ладонью воды из бассейна, но, увидев собственные пальцы в солнечных лучах, более не мог оторваться от незабываемого зрелища и забыл обо всем на свете.
Маленький, худенький третий историк со всклокоченным гребешком волос на голове очень напоминал птичку и так же удивительно подпрыгивал при передвижении, будто готовясь взлететь в любое время. Однако эта птичка была вовсе не безобидной, ибо именно ее происками произошла отставка обоих историков, а появившийся в заведении академик возглавлял единственную в Москве действующую кафедру истории в Государственном университете. Старожилы имели несомненное преимущество в живой силе, но профессиональная солидарность все же не позволила им выбросить вновь поступившего через забор. Месть профессоров проявилась в том, что они отказались слушать историю Наперсткова, хотя прекратить его вульгарную интерпретацию мирового порядка им не удалось.
Историки, как люди деликатные, внимания на своих обидах не заостряли и, конечно, не подслушивали беседы Наперсткова с монахом. Казалось, они вовсе забыли об их существовании, как вдруг академик и Иезуит напомнили о себе самым поразительным образом.
Однажды, сразу после завершения обеда в столовой, когда еще только-только отстучали ложки и были отодвинуты миски, а пациенты, блаженно откинувшись на скамьях, внимательнейшим образом прислушивались к работе собственных желудков, Наперстков торжественно поднялся со своего места и громогласно объявил:
— Пришло время открыть вам, верные друзья, что я оказался здесь далеко не случайно, а был заслан из космоса. По велению своего Высочайшего Покровителя, я принял образ земного странника, но на самом деле я вестник Логоса, воплощаемого в Солнце. Великие Посвященные, посылаемые с секретной миссией, имеют своим символом Солнце; и потому на мне великий знак, — важно коснулся своего козырька Наперстков.
— Истинно так учит нас эзотерическая церковь, — поддержал оратора монах, а психи никак не прореагировали, ничуть не сомневаясь, что присутствуют на законспирированной встрече резидента римского Папы со своим новым агентом.
Один лишь Нарцисс робко промямлил:
— Скажите, космический странник, в ваших путешествиях во Вселенной не встречалась вам девушка несказанной красоты по имени Анита?
Наперстков пожал плечами, прося уволить его от подобных вопросов, и продолжил поддержанный монахом, а Нарцисс, потрясенный описываемой оратором картиной, даже не решался перевести дух.
— Ежесуточные бдения, когда душа моя, отправленная во внешний мир, совершала путешествие по всему человеческому пути от предыстории до наших дней, а мозг мой изучал собравшиеся здесь чистейшие души, позволили прийти к неоспоримому выводу… — Тут академик сделал многозначительную паузу и, раздувшись как лягушка, провозгласил: — Эпицентр Мирового Времени здесь! Мы с вами находимся у самого выхода оси мировой истории!
Психи удивленно посмотрели под ноги, но ничего, кроме заросшего грязью, заплеванного цементного пола, обнаружить не сумели. Тогда они доверчиво взглянули на профессоров, но те, не желая дискредитировать науку публичной сварой, дружно рыгнули. Впрочем, почти тотчас от зависти к первооткрывателю у Губина свело живот, и он стремительно выскочил из-за стола.
— Этот невежда бросился патентовать наше открытие. Глупец! — сардонически расхохотался Наперстков и тут же перешел на грозный тон.
— Призываю вас, господа, в свидетели. Первыми об открытии заявили мы! — и он покровительственно обнял Иезуита.
Потому ли, что значение открытия было неизмеримо велико, или скорее из-за того, что оно опередило свое время, но академику довелось жестоко пострадать. Возмущенный логикой теории, Тойбин схватил половник, подбежал к ученому и с криком: «Будет тебе наука!» — со всего маху ударил его по голове. В результате монаху пришлось вынести безжизненное тело Наперсткова во двор на руках.
Опередившие их профессора, не замечая ничего вокруг себя, чуть не сбили оппонентов с ног, но поскольку насмехаться над потерявшим сознание человеком они не могли, то лишь сновали вокруг недостойной парочки, сверкая глазами, топая и обмениваясь восклицаниями. Выяснение отношений они решили отложить на более позднее время.
Придя в себя, Наперстков лучезарно улыбнулся и поманил профессоров. Те, естественно, не двинулись с места, фыркая, как кони, и всячески выражая свое презрение парии. Однако великий поэт и его друг Орфей, чтобы не упустить космической информации, подступили к Наперсткову совсем близко.
Не унывающий академик решил не терять времени и заговорил, отчего-то заговорщицки подмигивая профессорам:
— Рождение Осевого времени ознаменовалось исчезновением старейших культур древности, существовавших тысячелетиями, и возрождением идеи империи за шестьсот лет до нашей эры в Индии, Китае, Греции и Израиле. Каждая из них собственными силами достигла вершин примерно одного уровня, и на земном шаре, как пики горной цепи, возникала универсальная по своему духовному значению сфера всеобщей истории. Внутри нее появилось все то, о чем размышляют люди и что непосредственно касается их. Тем, что свершилось, было создано и продумано в то время, человечество живет вплоть до сегодняшнего дня.
— По-моему, вы все время выпускаете из виду, что христианская церковь явилась самой великой и возвышенной формой организации человеческого духа, которая когда-либо существовала. Вы же сами учили меня, что Иисус — последний в ряду иудейских пророков — внес в христианство религиозные импульсы и предпосылки, от греков сюда перешла философская широта, ясность и сила мысли, от римлян — организационная мудрость. Православие через греческую ветвь цивилизации несомненно взяло в себя лучшие качества христианства, жаль лишь, что мы не овладели практицизмом римлян, — мрачно сверкая глазами на нового наставника вступился монах.
— Весь исторический процесс движется к Христу и идет от него по временной оси, — заюлил академик. — Более того, я бы хотел добавить, что христианская церковь оказалась способной соединить даже самое противоречивое, вобрав в себя все идеалы, считавшиеся до той поры наиболее высокими, и надежно хранить их в виде нерушимой традиции, — тут он вполне естественно вернулся к ранее начатой мысли.
— Лишь за пятьсот лет до нашего времени пути китайской, индийской, восточно- и западноевропейских культур разошлись окончательно. Запад первым вступил в век науки и техники, за ним последовала подотставшая Россия и лишь в прошлом столетии присоединился Китай. Совершенно новой, внесшей радикальное изменение в развитие Запада стала идея политической свободы, связанная с осознанием внутренней глубины бытия и личности.
— Ты все понял? — спросил Нарцисс Орфея почему-то шепотом.
Тот покачал головой.
— Я уяснил главное, — сказал он торжественно. — Все развитие истории шло по поступательной линии с единой целью — создать достойных божественного сознания индивидуумов.
Однако профессора по-прежнему не желали воспринимать Наперсткова с его отвратительным подмигиванием, хоть и не могли не слушать милую сердцу музыку родной терминологии.
— Видеть фактические данные об истинном расположении временной оси, обрести в них основу для создаваемой нами картины мировой истории означает: найти то, что, невзирая на все различия в вере, свойственно всему человечеству. Одно дело видеть единство истории и верить в него, и совсем иное — мыслить единство истории, соотнося свою веру с сокровенной глубиной величайших историков, твоих коллег, — решил подольститься Наперстков.
— Ты что подмигиваешь? — обрушился на Наперсткова Губин. — Хочешь меня переманить в свой лагерь?
— У меня нервный тик после удара по голове, — пожаловался тот.
После признания академика его младшие коллеги испытали к нему невольное снисхождение и перешли к конструктивному обсуждению доложенного материала.
— Тоже мне открытие — теория осевого времени. Эка невидаль, — фыркнул Тойбин.
— Ты когда-нибудь видел ось… Ну хоть ту, на которой крепятся колеса автомобиля или телеги, — набросился на него Наперстков и продолжил, не дожидаясь ответа: — Сколько у нее концов?
— Два! — радостно опередил Тойбина Губин.
— Именно! — подчеркнул академик. — А где они…
— Ну, первый в доисторическом времени…
— А второй?
— Вероятно, осевое время закончилось с наступлением века Науки и Техники…
— Умер и теорийке конец! — захихикал Губин.
— Что же мы, по-вашему, живем вне истории?
— В истории, но не в твоей, — презрительно ответил Губин.
— Нет, мои дорогие, — многозначительно улыбнулся Наперстков. — Второй конец оси истории находится здесь.
— Где? — поразились профессора.
— Тут, — ответил Наперстков и после некоторого раздумья ткнул пальцем в фонтан, а Орфей пукнул.
— Подтверждает, — задумчиво заметил Губин. Профессора бросились к фонтану, а Наперстков, пританцевывая, двинулся следом и, подойдя к Нарциссу, дал щелчок тому по животу. Пораженный великим открытием Нарцисс не стал в ответ прибегать к грубой силе, но выразительно глянул на гения так, что тот рассыпался в извинениях.
Ветераны-историки никогда не клюнули бы на теорийку Наперсткова, если бы не чудесное место, как нельзя лучше приспособленное к выходу мировой оси из тверди веков. Тогда сразу становились понятны поведение и роль мифологических Орфея и Нарцисса, поставленных Высшими Силами охранять конец мировой оси.
По какой-то, пока не до конца ясной причине появившийся на арене мировой истории этнос их сумасшедшего дома преобразил местный ландшафт, вырубив все деревья и вычерпав воду из бассейна фонтана. В ответ природа перестала давать воду и выращивать деревья, но зато наполнила сад выдающимися фигурами.
Воистину, было над чем задуматься.
5. ВЛЕЧЕНИЕ
Возможно, Никодиму и китайцу в самом деле стоило растворить несчастного психолога в серной кислоте, а может быть, и в обычной царской водке, но не впрыскивать в него массу ингредиентов, каждый из которых был рассчитан на то, чтобы сломить волю пациента к сопротивлению, расслабить его или измучить болью. Однако среди специфических средств психушки были и экспериментальные, рассчитанные как на подавление, так и на возбуждение самых различных человеческих желаний.
Первые несколько дней врач просто спал, одурманенный приемом снотворных наркотических веществ, потом сон у него отняли. Крепко связанный по рукам и ногам, запеленутый в смирительную рубашку, он пережил всю гамму чувств, которую в течение нескольких лет доставлял своим пациентам. Под действием насильно принимаемых таблеток его бросало то в жар, то в холод, он стонал, бился в судорогах, просыпался от безумных страхов и галлюцинировал наяву.
На четвертый день ухмыляющийся китаец, который вообразил себя ученым-экспериментатором, склонился над ним и с вежливой ухмылкой втер ему в рот горсть красных мелких таблеток, которые взял из банки с замечательной наклейкой «Супер». Что означало это «Супер» китайцу предстояло узнать в тот же день.
На этот раз пробуждение психолога было полным и окончательным. Только что он был в глубоком и мрачном забытьи, где все время проваливался в узкий канализационный люк со смазанными, сверкающим жиром стенками и летел, летел куда-то вниз, в тянущуюся к нему огненную ноздреватую массу. И вдруг из разрывающего мозг сна он перенесся в больничную палату с успокаивающе белыми занавесками на окнах, облупленным потолком и рядами кроватей. Сам он, спеленутый, лежал на крайней, ближе к выходу, и мог поворачивать только глаза. Несмотря на то, что от веревок и неподвижного лежания у него должно было болеть все тело, он чувствовал себя бодро и свежо. Скосив глаза, он увидел, что лежит в палате один. Тогда, напрягшись, врач рывком перевернулся со спины на живот и скатился с кровати на пол. От падения узы, стягивающие его, ослабли, и постепенно врачу удалось распутаться. Он скинул с себя смирительную рубашку, распутал стягивающие его тело куски простыни и веревку и несколько минут неподвижно стоял возле кровати, наслаждаясь вновь обретенной свободой.
В это время он впервые ощутил, что с ним происходит что-то неладное. Сначала у него затрещали штаны, и когда он почувствовал, как напряглось его естество и щекотка желания пронизала его с паха до макушки, то понял, что должен немедленно найти женщину. Если бы врач был в состоянии, то вспомнил бы, что сам принимал участие в разработке грандиозного средства против импотенции. Только похоть овладела им целиком.
Психиатр вышел в коридор и быстрыми шагами двинулся к ординаторской. Он казался себе одним огромным пенисом и от вожделения готов был кусать сам себя. Когда он вошел в ординаторскую, там было сразу два искомых объекта. Молодой лечащий врач и средних лет дебелая нянечка с отвислой задницей и крутыми грудями, которые показались врачу необыкновенно соблазнительными. Однако проблема выбора поставила его в положение осла, застывшего перед двумя охапками сена.
— Господи! — всплеснула руками лечащий врач, глядя на исхудалого коллегу с чувством глубокой женской жалости. — Дорогой мой, как же вы изголодались. И где вы пропадали все эти дни, мы все уже начали беспокоиться, а ваша жена…
Тут она прикусила язык, потому что жена психолога, подождав его два дня, пустила к себе в кабинет профессора Тойбина под предлогом изучения истории в ее реалистическом аспекте. Все врачи клиники, чья корпоративная сплоченность еще не совсем пропала, очень ее осуждали за неравноценную замену, но не рассказывать же коллеге, каким образом его жена переживает его исчезновение. Тут психолог втянул носом сладкий запах духов и от вожделения чуть не прыгнул на лечащего врача. В последнее мгновение его удержал страх спугнуть добычу, и он только облокотился на женское плечо, что можно было объяснить потерей сил в заточении. Хрупкое и нежное плечо дрогнуло под его алчущей рукой, и если бы не сестра, с удручающим видом заполняющая в углу канцелярскую, давно никому не нужную книгу, возможно, врач решился бы на насилие.
— Хочу поговорить с вами наедине, — нашелся он, с превеликой неохотой отпуская плечо молодой женщины и поворачиваясь к ней спиной, чтобы она не увидела его физического возбуждения.
Ему казалось, что никогда в жизни он не встречал ничего желаннее, чем эта затянутая в белый халатик стройная женская фигурка с высокой грудью и подбористым маленьким задком. Он зажмурился и застонал. Медицинская сестра с испугом посмотрела на него и стала суетливо собирать свои записи.
Лечащий врач, казалось, ничего не замечала, пока дрожащая рука не легла ей на грудь и хриплый голос не произнес над ухом: «Умоляю».
Самой ужасной оказалась сила страсти. Преодолев сопротивление женщины, психолог взял ее тут же на протертом диване ординаторской и вроде бы насытился. Теперь, идя по коридору в обратном направлении, он сожалел, что так быстро ее отпустил.
Он не стремился узнать, что она чувствовала и думала, лежа под ним, как она его приняла и что с ней сейчас. Он воображал ее ни как живого человека, а как объект неудовлетворенного желания и с каждым шагом, удаляющим его от лечащего врача, похоть вновь усиливалась. Рывком открывал он одну дверь за другой в поисках медперсонала и, к своему счастью, застал в третьей по счету палате ту самую ядреную медсестру, которую спугнул в ординаторской. Согнувшись в три погибели сестра склонилась над постелью спящего больного с градусником в одной руке и уже наполненной уткой в другой. Этого больного психолог сам изучал в лучшие времена, пока тот еще мог ходить, но многочисленные психотропные средства сделали его беспомощным инвалидом, который спал двадцать четыре часа в сутки и делал под себя.
Психиатр на цыпочках вошел в палату и осторожно прикрыв за собой дверь. Медсестра, не меняя позы, разглядывала градусник, а больной лежал с закрытыми глазами и едва дышал. Распаленный новым приступом желания врач медленно приближался к новой жертве. Он уже протянул вперед руку, чтобы схватить ее, как вдруг от напряжения с его брюк разом осыпались все пуговицы и с костяным стуком запрыгали по полу.
Предупрежденная таким образом медсестра резко обернулась и, увидев бешеные глаза психолога, с криком отчаяния бросилась под кровать. Стеклянная утка выпрыгнула из ее рук и вновь нырнула под одеяло к больному, который, казалось, ничего не замечал. С утробным рычанием психиатр, на лету сдирая штаны, повалился под кровать и в темноте нащупал толстое бедро медсестры. Она одна занимала все подкроватное пространство, и когда психолог попытался пролезть к ней, то обнаружил, что под кровать не проходит. Взмокнув мгновенно от желания, он схватил медсестру за ногу и попытался выдернуть из-под кровати, но она отчаянно визжала и отмахивалась свободной ногой, так что вытянуть ее было столь же сложно, как отодрать рыбу-прилипалу от камня.
Еще более распаленный ее сопротивлением врач вскочил, сорвал с себя остатки штанов и трусы и, схватив кровать за стальную спинку, попытался перевернуть вместе с больным, дабы высвободить женщину из ее добровольного плена. В воспаленных своих мыслях он уже срывал с нее халат и одежду и заваливал здесь же на половике, но кровать оказалась привинченной к полу специальными крепежными болтами и не поддалась. В неистовстве врач в кровь разодрал руки о железные углы и, оставив свою затею, снова нырнул под кровать. Прильнув боком к жертве, он попытался совершить половой акт прямо под кроватью, уже не разбирая, с какой частью тела имеет дело. Почувствовав на себе его жадные руки, медсестра закричала еще пуще, чем приманила китайца, который только что вернулся из города и направлялся в свои привилегированные апартаменты.
Когда китаец вбежал в палату, он увидел ритмично дрыгающий голый зад, каждое движение которого сопровождалось возней и страшными криками из-под кровати. Не разобравшись, он решил, что это кричит больной, лежащий на кровати, и что его утонченным способом насилуют снизу. Чтобы спасти несчастного человека, он с размаху ударил носком сапога по заду и, схватив голову больного вместе с подушкой, пытался поднять его с постели.
Далее события развивались следующим образом. Больной, который десять лет пролежал неподвижно, вдруг пережил жесточайший нервный стресс, в результате которого сам вскочил с кровати, без особых усилий вырвал привинченную к полу спинку и, широко размахнувшись, ударил китайца так, что последний отлетел на несколько метров к двери и застыл на полу. Медсестра, увидев, что потолок над ней начинает подниматься, выскочила с другой стороны поднимающейся постели и ринулась, не разбирая дороги, к выходу. Второпях она наскочила на китайца и, перелетев через него, с грохотом свалилась рядом, потеряв от страха сознание. Больной же с чувством исполненного долга лег рядом с ней и закрыл глаза. Когда иступленный психолог обнаружил, что его дама испарилась, и вскочил на ноги, он увидел перед дверью трех неподвижно лежащих людей, причем ни один из них не дышал. Потрясение от этого зрелища было так велико, что похоть мгновенно его оставила. Психолог осторожно, на цыпочках, представляя собой странное зрелище человека, одетого сверху в половину смирительной рубашки, а снизу вовсе голого, перешагнул через них поочередно.
— Повесят, — бормотал он, мчась по коридору к кабинету, — или расстреляют. Нет, за три трупа обязательно повесят или перережут горло гильотиной.
От страха у психолога поднялись дыбом волосы, к тому же, несмотря на ужасное состояние, им снова стала овладевать похоть, что получило свое выражение в его облике. С поднятыми, как на сапожной щетке, волосами и прямым, как копье, членом, он ворвался к себе в кабинет, где обнаружил профессора Тойбина, излагающего его законной супруге некоторые тезисы прямо в постели. Никто не знает, что было потом, однако профессор неделю не мог сесть на заднее место, а супруга психолога удивительным образом снова его полюбила и ходила с темными кругами вокруг прозрачных от страсти глаз.
6. КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
Гениальное провидение Наперсткова объединило историков, и вот, преодолевая во имя истины взаимную неприязнь, они собрались на Ученый Совет во дворе. Скорее это был даже не научный шаг, ибо гипотеза о выходе в фонтане бассейна оси мировой истории за прошедшие дни прочно укоренилась в головах профессоров. Математико-статистические расчеты с абсолютной очевидностью свидетельствовали о невозможности случайного нахождения в одном месте трех величайших историков, к тому же дополняемых многими другими весьма достойными личностями. Постулаты теории Вызова-и-Ответа и антропогенных ландшафтов, а также эзотерического христианства еще более убедительно подтверждали наблюдение. Так что свидание скорее было тщательно рассчитанным с обеих сторон дипломатическим шагом.
Поскольку старожилы прочно держали оборону, переговоры начал Наперстков.
— Возвращаясь в мир действительных фактов и здравого разума, я вижу, что мое место здесь, где содержатся те немногие достойные люди, которых я знаю, — так объяснял академик причины своего появления в сумасшедшем доме.
Наперстков с Иезуитом и два профессора стояли напротив друг друга, но души их были еще весьма далеки.
— Я родился во время зимнего солнцестояния, — продолжал академик, — когда знак Девы поднимается над горизонтом. Имя моего отца неизвестно, но потому, что мать никогда не открывала его и всегда неистово молилась, я уверен: это был не человек.
«Не иначе какой-нибудь кенор», — подумалось Губину, но он не стал смущать увлеченного рассказчика.
— Слабо и немощно зимнее солнце; и мое детство также было окружено опасностями, ибо царство тьмы в мире нашего существования получило перевес над царством света. И по настоящее время я с ужасом жду каждый год прощания с летом и всякий раз снова радуюсь приходу весны, хотя и ведомо, что быть мне распятым во время весеннего равноденствия, и шепчет душа, что близятся дни отдать мне свою жизнь. Установлено число моего рождения, но переменно число смерти, ведь различно положение солнца в этот день, знаю лишь — сей год последний для меня.
От последних слов Наперсткова, так не вяжущихся с его всегдашней жизнерадостностью, все впали в какое-то оцепенение, а Губин произнес:
— До пасхи-то и осталась всего неделя. Последнее замечание никого не порадовало, а ведь надо было как-то определять свою позицию в отношении происхождения и соответственно истинного назначения деятеля.
— Те же события повторяются в жизни различных Солнечных богов. Все они одновременно и божественного и человеческого происхождения, — задумчиво проговорил монах.
— Так же, как и я! — решительно произнес Наперстков и гордо вскинул голову.
— Все эти поразительные сходства слишком многочисленны, чтобы их можно было объяснить одними совпадениями, — проронил Тойбин.
— Об этом давно учит эзотерическая церковь, — в тон ему заметил Иезуит. — Непорочное зачатие, убиение невинных младенцев, Распятие, Воскресение и Вознесение присутствуют в жизнеописаниях большинства Великих Наставников. Отец Климент учил нас, что по существу одни и те же нравственные учения давались Ману, и Буддой, и Иисусом. Кроме того, чудеса могут творить все Посвященные в эзотерические мистерии, достигшие высших ступеней.
— Все это действительно свидетельствует, что все великие религиозные Учителя были посланниками одного и того же Духовного центра, — согласился Тойбин, пытаясь на ходу сообразить, насколько все это вписывается в его теорию Вызова-и-Ответа.
Наперстков не вмешивался в разговор, стоя с таким видом, будто он уже перешел из человеческого состояния в божественное, а Губин неожиданно тоже сказал свое слово, задумчиво почесывая затылок.
— Истины о божественном и человеческом духе были так же абсолютны за двадцать тысяч лет до рождения Иисуса в Палестине, как и после его Пришествия. Однако из предыдущего опыта известно, что любые твои невероятно правдивые на первый взгляд построения несут в себе какой-нибудь двойной смысл, и прежде чем прийти к окончательному вердикту, хотелось бы отыскать его.
— Одна лишь правда в моих словах. Ничего, кроме правды! Сейчас вы убедитесь в этом! — горячо воскликнул Наперстков и скомандовал Иезуиту: — Исполняй!
Монах мгновенно исчез, а академик принялся постукивать ножкой, хитро поглядывая на историков. Однако надо же было как-то занять время, и беседа продолжалась хоть и в меньшем составе до тех пор, пока толпа психов с лопатами в руках не подбежала к фонтану.
— Вперед! — указал Наперстков, и они бросились на штурм.
Совершенно внезапно навстречу сумасшедшим ринулся, распростерши руки, Нарцисс, а Орфей начал сверху писать на нападавших.
— Что вам здесь нужно? — вступился за защитников фонтанового бассейна Губин.
— Мы облагораживаем выход оси мировой истории, — гордо ответил Иезуит.
— Убейте меня! — воскликнул Нарцисс.
— Долой ретрограда! — закричал Наперстков, а психи по команде монаха занесли лопаты над упавшим на колени Нарциссом.
Обстановку самым неожиданным способом разрядил Тойбин.
— Иуда! — закричал он и бросился выворачивать карманы Наперсткову, и из них в самом деле посыпались монеты.
Пришедшие в невероятное возбуждение от невиданных ими уже десятилетие золотых червонцев, нападавшие, забыв обо всем на свете, побросали лопаты и набросились на академика. В мгновение ока он был раздет донага и избит до бесчувствия, а содранная одежда разнесена в клочья. Все же каким-то образом ему удалось выползти из кучи-малы, а пациенты занялись нешуточными разборками друг с другом.
— Смотри! — указал Тойбин перстом монаху на убивающих друг друга безумцев. — Мы спасли тебя от Дьявола, ты же позволил бесам вселиться в себя.
— Изыйди! — подскочил Губин к Наперсткову, и тот, зажимая руками срамные места, бросился прочь.
— Причасти их святым жезлом, если хочешь спасти душу! — грозно вещал монаху Тойбин, и тот принялся охаживать сумасшедших дубиной, да так успешно, что они, кто ползком, кто бегом, побросав червонцы, снялись с места и забились в здание.
— Теперь собери сребреники и передай нам на хранение, — нашелся более практичный Губин.
— И подумай о своем спасении, — дополнил его Тойбин.
— Все же мы постигаем в опыте, — продолжил он, глядя, как Наперстков перелезает через ограду сумасшедшего дома, — что внутренняя цель истории индивида в слиянии с «богочеловеком» трагическим образом не реализуема в его земной жизни.
Пока Иезуит собирал червонцы и передавал их Губину, Нарцисс, к счастью, испытавший лишь моральные муки, и опустошивший мочевой пузырь Орфей заняли исходную позицию.
— Отец Климент, — призвал монах, в отчаянии падая на колени, — спаси мою несчастную душу от козней Дьявола!
— Климента Александрийского кличет…
— Окончательно спятил… Потрясенные вероломством Иезуита историки даже прекратили пересчитывать червонцы. Слова их, произнесенные тихими голосами, как бы зашелестели в воздухе, но вот уже они кончили задавать вопросы, не ощущалось дыхания ветерка, да и давно уже не появлялись листья на порубленных деревьях, а шелест не уходил.
Иезуит наконец-то открыл глаза и уткнулся взором в опускающийся почти до самых сандалий золотистый атласный саккос, в верхней части украшенный сценой распятия Христа, а в нижней — Его вознесением в солнечных лучах. По всему наряду были нанесены священные тексты, по бокам его изображены фигуры двенадцати апостолов, а низ саккоса был украшен несколькими рядами бисера. Крепкий черноволосый, слегка лысоватый мужчина без особого труда нес на себе торжественные одежды, но мощь исходящего от него сияния была столь велика, что не только случившиеся рядом сумасшедшие, но и профессора бросились перед ним на колени.
— Явился. Воистину я вижу тебя, святой отец, — радостно шепча, пополз с мольбой к вновь появившемуся наставнику монах, — дозволь своему падшему ученику участвовать в мистерии.
Отец Климент, подняв с колен Иезуита, обратился к нему, с непонятными словами, которых, впрочем, не слышал никто кроме молящего.
— «Аминь, аминь», — говорил Сын Человеческий прошедшему первую мистерию и затем повернувшему назад, и так до двенадцати раз. Если же отступник и после двенадцати раз затем вернется и снова преступит, это не будет ему отпущено во веки веков так, чтобы он мог снова вернуться в свою мистерию, какова бы она ни была. Для него нет иной возможности раскаяния, кроме как если он получит мистерии от Неизреченного, который имеет сострадание во все времена и отпускает грехи во веки веков. — Тут он перекрестил Иезуита и продолжил со вздохом: — Сейчас ты недостаточно чист, чтобы участвовать в мистериях со мной. Тебе, забывшему меня, еще предстоит одна мистерия, но только от твоего служения зависит, сможешь ли ты прийти ко мне. И прислушивайся к невинным душам, — кивнул он на Орфея с Нарциссом.
Отец Климент бесстрастно вещал бывшему послушнику, еще одному из не выдержавших встречи с Предвечным. Ему было ничуть не жаль сошедшего с ума Александра. Возможно, священник мог бы войти в его сознание и как-то облегчить участь ученика, но любая мысль о каком бы то ни было участии стала чужда отцу Клименту в его нынешнем высшем состоянии духа, ибо все человеческое оставил он в бренном теле. Более того, он поймал себя на мысли, что вовсе не думает о распластавшемся перед ним Александре. Новый ученик занимал помыслы отца Климента.
«Но почему тогда я оказался здесь?» — пытал себя священник, оглядывая окружающих монаха историков. «Потому что они были не только историками, но и философами», — отвечал он себе вполне загадочно и вновь возвращался к Луцию, вспоминая Сократа, Платона и Плотина — истинных мыслителей в отличие от выращенных психушкой.
«Видно, не только прямого контакта с наставником, как понял он уже давно, но даже и встреч с выдающимися представителями человеческого рода не достаточно. Однако ни одному тварному созданию не дано вызывать богов. Впрочем, кто они такие — боги, как не те же проекции на жизненном плане? — задумался Климент. — И существуют они для каждого человека лишь в той мере и форме, как он воспринимает высшие существа. Но тогда боги существуют лишь в сознании?! И действительно, с прекращением дыхания исчезает и бог человека. В таком случае если бы ему удалось построить такой астральный план, на котором можно было бы поместить часть сознания бурята, которая занята Буддой, часть сознания Вана с поселившемся там Лао Цзы и кусочек сознания перса с Заратустрой — это и стало бы местом встречи Луция с небесными посланниками Предвечного!»
Увлеченный созиданием нового астрального плана отец Климент даже не заметил, как покинул психушку. С его последними словами послышался шелест, глаза внимающего ему Александра вновь непроизвольно закрылись, и исчезло радостное тепло, но еще далеко не сразу пришел в себя блаженно улыбающийся Иезуит. И много дней тревога, имевшая место в поучении Высшего Наставника, печалила его.
Монах молил так горько и истово, а внимал так почтительно, что историки невольно подходили к нему, теребили, ощупывали пространство вокруг коленопреклоненного отступника. Однако, как и следовало ожидать, ни чувственный опыт, ни глубинная интуиция не позволили обнаружить не существующего в материальной природе фантома, рожденного в безумном мозгу сумасшедшего монаха. С великим сожалением ученые были вынуждены признать, что рано ставить точку в борьбе с бесами. Значит, надо было продолжать свое дело.
Видя, что Иезуит полностью погрузился в себя, профессора не стали диагностировать его. Все постояли еще какое-то время, храня молчание. Вскоре историки с непрестанно творящим молитву монахом ушли, но еще долго богобоязненные психи с опаской обходили фонтан, и никто более не сомневался в месторасположении выхода оси мировой истории и божественном назначении ее хранителей Орфея и Нарцисса.
7. БОЧКА БРАГИ
Трое молодых людей весьма примечательной наружности вошли в один из самых обычных летних дней на территорию психбольницы. Дабы не привлекать к себе внимания, они проникли во дворик и, естественно, оказались у фонтана, к которому вела единственная протоптанная в траве дорожка. Первым их заметил Орфей, который, как обычно, стоял неподвижно на обломке мраморного постамента, весь отдаваясь своему будущему величию. Недалеко от него застыл полураздетый Нарцисс, который сегодня из-за теплой ласковой погоды был более в себя влюблен, чем обычно.
Незнакомцы видимо никуда не спешили, потому что, увидев обнаженного Орфея, они остановились и стали с удивлением его рассматривать.
— Как живой! — произнес самый высокий и плечистый молодой человек и повел плечами, облаченными в блестящую спортивную куртку. — Даже член в натуральную величину.
— Ну уж, в натуральную, — возразил второй его спутник, постарше и потуже в плечах, — у людей такие маленькие пенисы не бывают.
— Так то у людей, а эта статуя, у нее пропорции нарушены…
— …Или скульптор насосался казенной водки, — прохрипел третий собеседник и в подтверждение слов бросил в Орфея палкой, подобранной с земли.
Сила броска и точность были таковы, что дубина, вращаясь, опоясала бедро Орфея и свалила его с пьедестала в фонтан.
Тут же из уст пришельцев раздался одновременный крик ужаса: «Ожил!» — потому что, попав в воду, Орфей стал быстро карабкаться назад в естественную воздушную стихию.
Впрочем, молодые люди, не видя для себя прибытка в схватке с загадочным объектом, а может, боясь участи Дон-Жуана при встрече со статуей командора, смотались в глубь сада, явно нацелившись на больничный корпус.
Не желая привлекать к себе излишнего внимания, они разбрелись меж пней и не торопясь, друг за другом прошли в вестибюль, где подверглись перекрестному допросу двух свирепых психов с большими дубинками в руках. Однако узнав, что молодые люди пришли в гости к старинному их приятелю по имени Никодим, часовые присмирели и один из них даже выразил желание проводить дорогих гостей.
Пришельцы отклонили ценное предложение и, узнав номер палаты, не торопясь двинулись вверх по пологим ступенькам. Дойдя до нужного этажа, они вновь разделились. Двое остались курить на лестничной клетке, а один с квадратными плечами и головой редькой пошел по коридору, тщательно высматривая номера палат. Дойдя до никодимовской резиденции, он не раздумывая толкнул дверь и вошел в комнату.
Китайцу, который мирно лежал на кровати, восстанавливая при помощи специальных дыхательных упражнений свой внутренний мир, пришлось вернуться в больничную реальность и спросить у посетителя, чего тот хочет.
— Кент тут мой старинный обитается, — объяснил визитер весьма подходящим ему грубым низким голосом, — небойсь слыхал про Васька, друга Никодима?
Ни про какого такого Васька китаец, естественно, не слыхал, да и слышать не мог, но, прежде чем он поднялся с кровати, великан уже подсел к нему и полуобнял за плечо своей могучей ручищей. Китаец, который не мог даже шевельнуться, весьма хладнокровно перенес вольное обращение со своей особой. Он только вздохнул и постарался расслабиться.
— Скажи мне, кирюха, — продолжал неугомонный посетитель, чуть сжимая толстыми пальцами худое плечо старика, от чего тот морщился и кряхтел, — когда мне ожидать моего удивительного друга и почти брата Никодима. Что, по-твоему, могло его так задержать? Только не говори мне «не знаю», — предупредил Васек, встряхивая пациента в своей мощной длани, — я таких слов не признаю и могу совсем обидеться.
Так как китаец молчал и только тяжело отдувался, Васек положил его на одеяло и закатал несколькими движениями больших рук. Затем, встав над ним, как кормящая мать над младенцем, он запеленал дрожащего от ярости китайца еще в две простыни, надежно перевязал еле дышащего пациента вытянутым из кармана куском бельевой веревки и засунул в рот грязный носок, взятый им с соседней кровати. С детских лет никто так не усердствовал над стариком. Получившийся аккуратный тючок громила бросил небрежно под кровать, благо, китаец не мог даже застонать.
Только Васек задвинул китайца в пыльный угол под кровать, как дверь палаты отворилась и вошел мокрый Орфей, с голых чресел которого еще стекала вода. Не разглядев толком вошедшего, Васек выкинул вперед руку с торчащим из нее пистолетом и крикнул: «К стене! Руки за голову!»
Двое его друзей, привлеченные хлопаньем двери, ворвались в палату вслед за Орфеем и остановились, завороженные мерцанием мокрых ягодиц музыканта. Увидев направленный на него ствол, певец взвыл и неожиданно, как раненый буйвол, ломанулся к двери. На ходу он по-регбийному врезался в стоящих позади него молодых людей и вместе с ними покатился по полу. И в этот момент дверь снова отворилась.
Никодиму было достаточно беглого взгляда, чтобы оценить обстановку. Он мгновенно присел, уходя из зоны обстрела, и, как змея, бесшумно ринулся в коридор. Пока Васек и его команда вываливались из палаты, толкая перед собой безвольное тело Орфея, Никодим уже мчался гигантскими прыжками вниз по лестнице. Самым разумным для него решением было бы мгновенно исчезнуть с территории психбольницы, но он не мог оставить без помощи старика китайца. Поэтому Никодим, добравшись до вестибюля, отнюдь не бросился к открытой двери на улицу, а завернул во внутренний двор к научному корпусу, думая там отсидеться на время погони. Что это — захват, он понимал так же отчетливо, как и то, что шансов спастись, если больница обложена профессионально, у него нет никаких.
Юноша знал, что у него есть несколько минут в запасе, и поэтому спокойно остановился, пробежав всего один лестничный пролет, и стал методично сжигать давно припасенной для подобных случаев зажигалкой все свои многочисленные записи и бумажки с адресами.
Когда он расправлялся с последней запиской, внезапно отворилась дверь и из нее вышла высокая женщина с распущенными рыжими волосами и бледным лицом. На ней был полупрозрачный кружевной халат, а под ним — как понял Никодим — ничего. Увидев юношу, женщина прислонилась к стене и произнесла:
— Я больше не могу, он не дает мне даже часа передышки. Мы целыми днями не выходим из дома, а о нашей кровати я просто не хочу говорить. Все пружины на ней ослабли до последней степени, а петли скрипят, словно на корабле в бурю. И то признаться, подобной качки и в девятибалльный шторм не увидишь. Короче говоря, молодой человек, увезите меня отсюда. Сейчас он заснул, и это возможно сделать, потому что я не могу противиться его желанию и не могу больше видеть эту сломанную кровать.
При последних словах женщина зарыдала и уткнулась теплым мокрым лицом в шею Никодима. Тот смекнул, что речь идет об озверевшем психологе, который, перестав целиться во все живое, вновь изводил своими домоганиями собственную жену.
В другое время Никодим не отказал бы в мольбе несчастной женщине и, улестив ее, увел бы с собой на неопределенное время, но сейчас он сам чувствовал себя загнанным животным и поэтому ограничился только словами утешения.
— Я видел вашего супруга в состоянии озверения, — сказал он, — вполне понимаю ваше состояние. Более того, сам факт, что он не истощился за десять жарких суток, может говорить только об одном…
— О чем же? — поинтересовалась неутешная супруга.
— Такую неиссякаемую страсть ему может дать только любовь к вам, — воскликнул Никодим уверенно, — и стало быть, сударыня, вы должны с радостью выполнять свои супружеские обязанности и не каждый час, а ежеминутно, потому что любовь не купишь на рынке, а такую и не продашь за деньги.
«Что же я несу?» — подумал Никодим с ужасом, потому что ему необходимо было без шума умотаться с лестницы, а в голове у него от всего виденного образовался вакуум.
Однако, к его удивлению, бедная женщина, распахнув халат, бросилась ему на шею со слезами радости.
— Боже мой! — вскричала она, и от запаха молочно-белой кожи и вида обнаженной груди перед самым своим носом у Никодима прервалось дыхание. Плохо понимая, что он делает, юноша обнял рукой горячий стан женщины, а вторую погрузил в ее мягкие волосы, лаская затылок и шею.
— Боже мой, — продолжала женщина, прижимаясь к нему животом и бедрами, — теперь я понимаю вашу правоту. Что кроме любви может заставить моего одичавшего супруга не вылезать сутками из кровати и даже забыть о своих психологических тестах. Только любовь, которая блеснула ему как…
«…Из наших пробирок она ему блеснула, — подумал Никодим, — надо же такую адскую сексуальную смесь соорудить». Руки его никак не хотели оставлять жаркое, прильнувшее к нему тело, даже стал он искать место, куда бы ему прилечь вместе с жертвой наркотического эксперимента, однако судьба его оберегла.
Из открытой двери выскочил человек, натягивая на ходу поплиновые голубые кальсоны, с блуждающим в поисках любимой супруги взглядом. Быстрым шагом психолог подошел к своей супруге и, не обращая внимания на Никодима, взвалил ее на плечо и понес назад в квартиру. Та только успела воскликнуть что-то нечленораздельное и скрылась за дверью, оставив юноше слабый аромат духов и сильное физическое желание.
Впрочем, желание мгновенно прошло, как только Никодим вновь нырнул в вестибюль и черным ходом, уже освобожденный от всякой информации, проник на свой этаж. Осторожно выглянув в коридор, он увидел Нарцисса, который, уже одевшись в больничную куртку и брюки, обхаживал потерявшего сознание Орфея, стараясь привести его в чувство.
Чуть высунувшись из двери, Никодим жестами привлек внимание Нарцисса и поманил его к себе, но тот отмахнулся, занятый своим делом. Сев на голую грудь певца, он старательно дул ему в открытый рот, стараясь таким образом обеспечить приток свежего воздуха.
Тогда Никодим сделал несколько осторожных шажков по коридору и залетел в первую же дверь. Оказалось, что он попал куда надо, потому что палата в полном составе праздновала день созревания бочки с брагой. Эта бочка была заложена неделю назад и только терпение мудрых психов, которые каждый день бегали смотреть на поднимающиеся со дна бочки бродильные пузырьки, помогли браге выстояться.
Теперь пациенты сидели вокруг стола с большими кружками и с ужасом смотрели, как медленно опорожняется бочка. Дело в том, что по обычаям психбольницы, сохранившимся еще с режимных времен, спиртное нужно было выпить сразу, не отходя от тары. Восемь сопалатников были поставлены в тупик необходимостью выпить минимум двадцать пять литров настоенной на глыбе слипшихся леденцов браги. Появление Никодима они восприняли как благодеяние, потому что на девятерых все же пить было меньше, и тут же налили ему штрафную. После третьей штрафной Никодим, сохраняющий ясность мыслей, сказал, что в соседней палате под кроватью у него хранится вполне еще годный китаец с тремя приятелями, которые с удовольствием помогут разделить бремя алкогольной ответственности.
Как он и рассчитывал, в соседнюю палату был снаряжен отряд из четырех психов со свернутыми в веревку простынями. Их вторжение в палату Никодима было поспешным и грубым. Застигнутые врасплох, двое спортивных молодых людей едва успели распрямить свои плечи, как были связаны по рукам и ногам пьяными дегустаторами и вместе с обретенным под кроватью китайцем торжественно внесены за стол.
Как только молодые люди пытались объясниться, в раскрывающиеся пасти тут же вливали брагу, причем всякая попытка выплюнуть пьянящую жидкость прерывалась мощным ударом кулака в спину. Несмотря на просьбы Никодима, китайца тоже принесли к столу и, развязав только руки, накачали брагой наравне с остальными.
Сначала Никодим следил за состоянием своих врагов и связанного друга китайца, но после десятого тоста, от которого нельзя было ни отказаться открыто, ни сплутовать, ему стало все равно. Как сквозь туман наблюдал он появление ожившего Орфея и Нарцисса; за ними в дверь просунулась голова третьего члена группы захвата, который с удивлением, перешедшим в ужас, изучал своих абсолютно пьяных напарников. На счастье Никодима, все сотрапезники пришли в такое состояние, что с трудом узнавали друг друга. Поэтому незваный гость стремительно убрал свою голову назад в коридор и видимо побежал за подмогой.
Помощь, конечно, была нужна, потому что один из агентов тайной полиции, незаметно развязавшийся, уже поменял свой ультрасовременный пистолет на десять ампул промидола, которые пытался проглотить, не разбивая, одну за другой, и только неспособность его желудка хоть что-нибудь еще принять в себя сохранила ему жизнь. Другой, потерявший свой пистолет после третьей кружки решил, глядя на голого Орфея, что находится в борделе, и все время совал единственный свой металлический рубль за ворот рубашки Никодима, называя его своей милашкой и требуя уединения. Сам Никодим вовсе не оскорбленный тем, что ему тычут в грудь серебряным рублем, путая с публичной девкой, прилагал все усилия, чтобы распеленать китайца. Правда, ему казалось, что китаец этот имеет всего месяцев семь-восемь от роду и его необходимо перепеленать. Китаец же возражал против освобождения, крича, что еще никогда в жизни так спокойно не жил и что, мол, когда он еще дождется ситуации, когда брага сама течет в рот.
Однако с каждой выпитой кружкой сопротивление китайца ослабевало, и Никодим успел развязать его до того момента, когда сам погрузился в глубокий, все затмевающий сон.
Проснулся он глубокой ночью, с ужасом посмотрел на полупустую бочку, вокруг которой в самых невероятных позах спали психи, и, подхватив ни на что не реагирующего китайца, шатаясь, побрел с ним в туалет. Ему понадобилось полчаса, чтобы прочистить себе желудок и мочевой пузырь и затем, подхватив не приходящего в себя старика, выскользнуть во двор психбольницы и далее на улицу.
«Унести вовремя ноги» — этот девиз Никодим соблюдал неукоснительно.
8. ПАССИОНАРИЙ
В истории нет единого человечества. Оно со всей очевидностью не существовало в прошлом; не может оно возникнуть и в будущем. Полем для разъединения всегда будет политика, как следствие человеческой свободы, преодолевающей все данное. Именно поэтому среди сумасшедших происходили постоянные пертурбации. В ходе одной из них монах сблизился с Губиным.
— Что это? — поразился Иезуит однажды утром, заметив дружно топающих по намеченным колышками дорожкам пациентов. Они шагали группками след в след, взад-вперед. Дойдя до конца дорожки, дружно разворачивались на месте и гуськом возвращались.
Губин с собственноручно сбитым из трех палок земляным циркулем координировал движение, усиленно что-то измеряя и шепча себе под нос: «консорция… конвиксия… субэтнос… этнос… суперэтнос… человечество… гоминиды… нестойкие сочетания… деформированные сочетания… симбиозы… ксении… химера… гипотетическое смешение… самоутверждение… создание… аннигиляция… этногенез… эволюция… консервация… реликт… исчезновение…»
Оказавшись рядом с монахом, Губин остановился, удовлетворенно смахнул пот со лба и заговорил связно.
— Человеческое существование являет собой не что иное, как процесс уравнения энергетических потенциалов, повсеместно нарушающийся взрывами и толчками. Импульсы, возникающие в биосфере из-за этих толчков, могут как ускорять, так и тормозить движение истории. Так появляются новые виды и направления искусства, науки, морали, создаются государства и завоевываются чужие страны.
По мере накопления знаний в человеческом сознании категория времени соприкасается с категорией силы. Ни в какой иной точке земного шара нет столь наполненного информацией и знанием, что обычно одно и то же, пространства, как здесь. В нашем учреждении создалась новая интеллектуальная общность людей. Теперь важнейшая задача повестки дня организовать и направить эту чудовищную силу мысли.
— Назад к природе. Прогресс ведет человечество к катастрофе! — воскликнул Орфей.
— Ура Орфею! — согласился с ним Нарцисс.
— Наиболее стимулирующий вызов обнаруживается в золотой середине между недостатком силы и ее избытком, — заметил энергично марширующий во главе отряда сумасшедших Тойбин, имея в виду, с одной стороны, монархическую Москву, а с другой — планиду безумных.
Губин приветливо помахал ему и продолжил.
— Сейчас верховодят люди «смутного времени», которые не ждут для себя никакой пользы от изменения состояния общества. Раньше подобных людей, которых не интересует ничего, кроме собственного блага, называли обывателями. Теперь, когда все их соперники уничтожены, эти людишки, пробравшись к власти, мутируют. Беря пример с исторических фигур, безумно завышают собственные задатки и, коверкая собственную ограниченную природу, они становятся опасны. Историческое Российское время и сам этнос ими уже уничтожены, хотя и не положен предел страдания на нашей трагической земле.
В Риме идеал силы и выгоды торжествовал при династии Северов, и не случайно, что в это же время римский этнос растворился среди народов, ими же завоеванных. Римская империя воскресла на российской земле, хоть и в другом виде и этносе.
Наряду с разрушительными процессами в развитии этноса существуют созидательные, благодаря которым возникают новые общества. Мы должны возобновить этническую российскую историю. Ведь победить или минимум отстоять себя можно, лишь когда внутри этноса интересы коллектива действительно становятся выше личных. А мы этого уже добились! — с этими словами Губин указал на проторивающих дорожки пациентов, затем он взял Иезуита под руку и гордо пояснил: — Перед тобой евразийская историческая схема зон пассионарных толчков! Вглядись в ее мощь и красоту.
— Насилие над природой убивает душу! — воскликнул Орфей. — Разве пение птиц приводит к землетрясениям?
— Природа и я, как прекрасно! — ответил Нарцисс.
Вытянувшийся на пне монах увидел на земле отмеченные колышками географические контуры двух континентов, однако, как ни ломал головы, не мог установить никакой системы. Когда, спустившись с пня, он сообщил об этом Губину, тот радостно захихикал, но вскоре открылся.
— На географическую схему наши соратники наносят зоны пассионарных толчков — это узкие полосы при широтном направлении и несколько более широкие при меридиальном.
— Зачем вы это проделываете? Если Иезуит и ждал ответ на этот вопрос, то напрасно, ибо Губин решил подвести к нему самого монаха.
— Вероятно, твой так называемый наставник, отец Климент, учил тебя, что энергетические импульсы жизненной энергии — космические по своему происхождению — не связаны с наземными природными и социальными условиями и не могут быть направляемы с нашей планеты.
— Да, — отвечал сбитый с толку Иезуит. — Он говорил, что, когда наша планета получает из космоса больше энергии, нежели необходимо для поддержания равновесия, это возможно приводит к социальным взрывам.
— Здесь, в месте выхода мировой временной оси, мы создадим очаг повышенной пассионарности. Благодаря высокому накалу произойдет взаимодействие между общественной и природной формами движения материи. Импульсы пассионарности, как биохимической энергии живого вещества, преломляясь в психике человека, создадут новый этнос!
— Каким образом? Иезуит был так поражен, что позволил себе перебить Губина.
— С завтрашнего утра все пациенты начнут бегать по пересекающей Москву линии воссоздания России.
— Вот это да! — присвистнул монах.
— А в нужный момент по моей команде все начнут прыгать в расчетных точках, будя дремлющую энергию среды, и тогда произойдет пассионарный толчок.
— Революция возможна лишь в музыке! — воскликнул Орфей.
— И в любви, — вздохнул Нарцисс.
— А почему вы не позвали меня топать вместе со всеми?
Продолжая поднимать интеллектуальный уровень своего ученика, Губин продолжил тактику развернутых ответов.
— Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому необходимо увеличить энергетический заряд среды с тем, чтобы усилить пассионарность. А я отметил высокий энергетический потенциал у тебя, еще когда ты вдруг превратился в дьявола.
Монах было заикнулся о том, что никогда не имел ничего общего с этим мерзким созданием, но Губин, тут же перебив его, продолжил:
— Оставь. Мы, ученые, опираемся в отличие от богословов не на обманчивые впечатления, а на факты. А они, как известно, вещь упрямая. Что же, ты станешь отрицать у себя способности к целенаправленным сверхнапряжениям?
— Нет, — твердо согласился Иезуит, — мне всегда казалось, что я обладаю чем-то подобным. — Тут он подумал и продолжил: — И благодаря вам я понял, что отец Климент, видя мое могущество, всячески затирал меня.
— Наконец-то ты прозрел, — удовлетворенно отметил историк. — Твои пассионарные способности не уступают дару Александра Македонского, Суворова или Наполеона. А значит, ты призван и не можешь не совершать поступков, которые вызовут изменения внутри человеческого общества.
— Когда я должен буду начать действовать? — вытянулся в струнку Иезуит с горячим желанием отдать честь, но к большому своему сожалению не зная, как это сделать.
— Ты будешь поставлен в известность! Тут Иезуит понял, что более не имеет права злоупотреблять вниманием великого ученого и тратить его драгоценное время, и отошел в сторонку, а Губин продолжил сложные расчеты. Однако у него еще достало времени повернуться к монаху и проговорить торжественно:
— Но ты должен знать, что пассионарность — признак вредный, если не сказать губительный, и для носителя, — и тут он вздохнул еще сильнее, — и для его близких.
— Я готов, — просто проговорил Иезуит. Обрадованный согласием монаха, к нему обратился запыхавшийся Тойбин:
— Каждая человеческая жизнь представляет собой творческий ответ на заданные обстоятельства, таким образом она превосходит сложившуюся ситуацию. Однако именно в силу того, что духовная активность человеческой природы обладает божественной способностью производить действия через тысячи верст и лет, душа, призванная Богом, должна быть особенно крепка!
Если Тойбин хотел еще более укрепить Иезуита, то он старался напрасно. Воспрявшая в монахе удивительная сила не нуждалась более ни в какой поддержке и он, лелея в себе никогда ранее неведомую мощь, направился на поиски готовых слушать его сумасшедших.
Губин тоже решил напоследок высказаться как историк:
— Ранние христиане показали превосходное наличие двух важнейших качеств, необходимых для создания нового этноса: целенаправленность и способность к сверхнапряжениям. Инерции пассионарного толчка хватило на две тысячи лет, за которые Византия прошла все стадии исторического периода, ставши Третьим Римом в лице прошлой России. Воистину, христианство есть приговор гуманизму, который тщится открыть каждому человеку более широкое его собственное будущее и тем скрывает божественное будущее.
В это время Иезуит заканчивал проповедь перед кучкой сумасшедших.
— Я знаю, для того, чтобы проповедовать истину, необходимо возвыситься силой разума и души, достойной исторической личности. Первый наставник, отец Климент, учил меня эзотерическому христианству, я поверил ему, а он смылся, бросив меня в пустыне невежества, но не смог побороть мою жажду знания. Пришел профессор Тойбин и научил меня тому, что всякий мой поступок есть ответ на вызов враждебных сил. Его сменил настоящий живой академик, и я понял, что жажда знания и могущество созревшей во мне силы Ответа на Вызов поставили меня в эпицентр Мирового времени.
Тут монах топнул ногой и прислушался. Как он и ожидал, никакого ответа на его вызов не последовало и по-прежнему его окружала лишь тишина двора.
— Так я и знал! — радостно воскликнул Иезуит. — Даже силы мировой истории не решаются отвечать мне. Это мое действие… — Иезуит вновь потопал и вновь не услышал даже эхо в ответ… — Это мое действие, — повторил он, — подтверждает истинность суждения профессора Губина о моей пассионарности. Не только по имени, но и по мощи способностей меня можно равнять с Александром, но не с чуждым нам, русским, Александром Македонским, а с Александром Невским. И вот, силы природы не рискуют дать Ответ на мой Вызов.
С этими словами Иезуит затопал изо всех сил и настолько решительно, что даже раскраснелся. Сумасшедшие криками и свистом поддержали его.
Книга вторая. «АНГЛЕТЕР»
1. ОХРАНА
Армейские связи срабатывали на «ять», и на нужном пути путешественники обнаружили совершенно отдельно стоящий вагон зелено-защитного цвета с двуглавым орлом российской армии на боку и двумя автоматчиками вместо проводников. Автоматчики внимательно разглядели протянутый Пузанским литер, сличили все справки и фотографии, осмотрели Луция и Василия на предмет схожести и велели ждать. По перрону плыла разномастная толпа с чемоданами, узлами, котомками, детьми и собаками. Цыганята сразу же окружили Пузанского и, пританцовывая, с криками «Ах, синьор, ох, синьор!» пытались выудить из него монетку. В это же время взрослые цыгане старались проскользнуть мимо автоматчиков в вагон, но из этого ничего не получилось, потому что, пока один из солдат, загородив проход спиной, что-то пел по «рацухе» и в ответ рация хрипела полновесным матом и рекомендовала «не шутить», второй сделал два самых простых, но наиболее эффективных действия: снял с плеча автомат и коротким прикладом смазал по черепу идущего на штурм молодого нахрапистого цыгана, так что тот свалился ему под ноги, и, тут же сняв курок с предохранителя, дал над головой табора веерную очередь, отчего с ближайших проводов посыпались дождем испуганные воробьи. Не дожидаясь повторения стрельбы, цыганки подхватили свои цветные грязные юбки, сопливых цыганят и дали деру. Матерые же цыганские мужики сбились в кучу на краю перрона, прихватив с собой ушибленного и тараторили, наставляя указательные пальцы на вагон, но близко не подходили.
Через какие-то двадцать минут стояния подошел не спеша сытый толсторожий лейтенант с белой повязкой дежурного, обругал обоих автоматчиков и жестом пригласил группу Пузанского в вагон. В отличие от перрона в вагоне было сумрачно и тихо. Лейтенант шел впереди, дергая ручки купе, но, к изумлению, все они оказались закрытыми. Так они дошли до последнего купе. Луций уже хотел предложить бравому дежурному свою помощь в части открывания замков без ключа, как дверь поддалась, и все они вместе с багажом и с лейтенантом ввалились в купе.
— Все, — сказал лейтенант, глядясь в осколок разбитого зеркала в двери, — устраивайтесь, а я пошел докладывать командованию. Охрана едет с вами.
— Когда отправление? — заикнулся было Пузанский, но бравый офицер, растолкав животом автоматчиков, исчез на перроне.
Впрочем, автоматчики остались. И надо отдать им должное, функции свои они выполняли лихо. В купе регулярно доносились отзвуки стихийных битв, разыгрывающихся перед вагоном, гудение голосов, мат и вопли получивших по голове кованым прикладом. Дверь в купе оставалась открытой, и Луций был уверен, что ни один заяц в вагон до ночи не проник.
Несколько раз он бегал за кипятком на вокзал, где пробивался сквозь страшные очереди, потом, когда чай всем осточертел, учитель дал ему денег и велел принести водки и мяса. Когда одуревший от толчеи и засилия мошенников Луций принес ему дюжину пива и сушеной рыбы, Пузанский не стал пенять ему на ошибку, а присосался к бутылке, жестом показывая Луцию на другую. Василий заедал скуку сушеной таранкой и гляденьем в окно. Он отшатнулся когда в окне нарисовались две румяные, впрочем, довольно суровые рожи и жестом попросили подойти Пузанского к выходу.
Стоя на верхней ступеньке, учитель едва был вровень с ними, когда же оба страдальца взошли в вагон, оказалось, что его макушка едва достает до плеча этих людей. Видимо, их приход был согласован, потому что охрана, по молчаливому кивку Пузанского и ни с чем не сверяясь, пропустила обоих. Однако же толпа собравшихся на перроне и оценившая перспективы военного передвижения, восприняла вхождение двух блатников как призыв к атаке. Обоих часовых прижали к стенке вагона вместе с табельным оружием и стали костылять по шее, а мстительные цыгане умудрились пробраться в первые ряды атакующих и взошли на ступеньки вагона.
Оба вновь прибывших оценили обстановку мгновенно. Еще хрипела что-то невнятное раздавленная ногами «рацуха» и медленно оседал по стенке подрезанный часовой, а оба великана уже обернулись лицом к толпе и вышибли напирающих вновь на перрон. За рекордно короткое время они обратили штурмовавших вагон в бегство, не издав при этом ни одного звука и не изменившись, так сказать, в лице. На пустом перроне остались многочисленные трофеи в виде раненого часового, неподвижно лежащего молодого цыгана с неловко повернутой на бок головой, невостребованных предметов туалета и брошенных впопыхах узлов и пакетов.
Раненого охранника быстренько сопроводили в лазарет на тачке носильщика, а вместо него прислали того самого лейтенанта, который сразу потерял весь гонор и только жалобно поглядывал на суровых молодцев с румяными лицами.
Первым проснулся Василий и стремглав полетел в туалет. Однако, сколько он ни вертел ручку, она не поддавалась. Мальчик бросился в противоположный конец вагона, но и тут столкнулся с запертой дверью. Не зная, что и думать, он решил уже рвануть в тамбур, как вдруг дверь отворилась и из туалета вышел китаец. Не раздумывая, откуда мог появиться в литерном военном вагоне китаец, Василий попытался проскользнуть в туалетную комнату, но за первым китайцем появился второй, за вторым третий и так всего семь китайцев. Они прошли мимо ошеломленного мальчика совершенно одинаковые в синих махровых халатах в полоску, с перекинутыми через плечо мокрыми полотенцами. После, когда Василий закрылся в туалете, он увидел, что здесь могли разместиться семеро человек только в виде двухэтажной пирамиды.
Поезд резво набирал скорость, когда вдруг мальчика швырнуло инерцией движения на умывальник, вагон задребезжал, застонал и остановился. Василий с трудом восстановил равновесие и вернулся в купе.
— Китайцы, — закричал он с порога. — Целая уйма! Один в один — полосатые. Пролезли в вагон.
— Не может быть, — сказал безапелляционно Пузанский. — Тебе, наверно, приснилось, — он выглянул в коридор. Коридор был пуст. — И куда они делись? — строго сказал учитель. — Ты, если кажется, молись. А лучше узнай, какая сейчас остановка и нельзя ли разжиться кипятком и хлебом. А то ведь запасы не резиновые.
— Только уточни, сколько стоим, — крикнул ему вдогонку Луций. — А то уедем без тебя. — Он сунул брату в руки чайник и две красные кредитки. В это время мимо раскрытой двери проплыли две невысокие фигуры в халатах.
— Я же говорил, — крикнул Василий ликующе. — Вот они — китайцы!
Луций вылетел вслед за ним в коридор и успел только заметить, как тучный блондин с усами зашел в третье от них купе и задвинул дверь.
— Это не китайцы, — сказал он, задумчиво обращаясь к вольготно расположившемуся на нижней полке Пузанскому. — Это совсем наоборот, какой-то норвежец или наш брат славянин.
— Ты вот что, — сказал ему снисходительно демократ. — Пока братишка бегает за кипятком, найди кого-нибудь из охраны и определись, какого рожна тут иностранцы шастают. У нас же сугубая договоренность с военным ведомством, что, кроме нас троих и этих… бойцов, в вагоне никого!
Вагон стоял сиротливо на взгорке, опоясанном с обеих сторон какими-то прудками, холмиками, лесонасаждениями. Никаких построек видно не было. Охраны, кстати, тоже. Василий побегал чуть-чуть вокруг вагона, наткнулся на удивительную окружающую пустоту и безлюдье и пошел докладывать шефу, что кипятка и хлеба нигде нет. Дремлющий Пузанский беззлобно его обругал и попросил до завтрака не беспокоить. В это время Луций, безуспешно дергающий дверь в купе военных проводников, был весьма заинтригован, услышав за дверью вместо грубого мужского тембра мягкий девичий говорок.
— Чего ты, мудак, стучишься, — увещала его милая девочка нежным голосом. — Все равно мы тебя к себе не пустим. Иди к грузинам, может, они тебя…
Дальше последовал такой текст, что любой непробиваемый «сапог» должен был бы покрыться свекольной краской.
— Так, — сказал себе Луций. — Китайцы, шведы, девицы с темным прошлым, сбежавшая неизвестно куда охрана и поезд, который никуда не идет. К тому же наивный как дитя Пузанский, которого надо спасать от всех житейских трудностей и любым способом доставить довольным и сытым к петербургскому префекту.
Еще раз он ткнулся уже в соседнее купе, думая, что там его и поджидают проводники, и, к его удивлению, дверь отворилась. Длинная рука ухватила Луция за ворот шерстяного его любимого свитера и втянула внутрь. Тотчас дверь за его спиной захлопнулась, и защелкали замки, замочки и затворы. Сроду он не видел столь хитро оборудованной двери.
Да и само купе оказалось устроено иначе. Вместо одной из нижних полок у окна было ввинчено широкое низкое кресло, над которым располагалось третье спальное место. В кресле, развалясь, сидел один из вчерашних бойцов, голый до пояса и в тренировочных брюках. В руках он держал рюмку, наполненную, по всей видимости, коньяком, и намазанный красной икрой кусок белого хлеба. Спутник его в трусах и спортивной майке сидел напротив у окна и просматривал явно очень его интересующий абзац в иллюстрированном цветном журнале. Другой рукой он тоже поднял рюмку.
Третий человек, который успел мгновенно втащить Луция в купе и захлопнуть аккуратнейшим образом за ним запоры, был ему не виден, так как, крутанув юношу на середину коврика, сам остался за его спиной.
— Что за улов? — спросил повелительно сидящий на койке мужчина в майке и махнул небрежно рюмку. Он пристально посмотрел на Луция, и его загорелое грубое лицо вдруг изменилось.
— Это же наш кент, — сказал он почти нежно. — На кой черт ты его цапаешь?
Слова были обращены к стоящему за спиной юноши человеку, однако никакого отклика не возымели.
— Подожди, друган, — вмешался в разговор голый до пояса мужчина и тоже махнул рюмку. Его громадная рука легла на плечо захваченного и повлекла вниз. — Сядь, фантик, — сказал человек веско. — Ты чего стучал?
— Китайцы в вагоне завелись, — громко ответил Луций, которому, мягко говоря, стало страшновато. — Я стучал, думал тут охрана едет. Предупредить насчет китайцев.
— Ну и дурак, — рассудил человек в майке. — Кто же не знает, что в пустых вагонах сразу заводятся китайцы, вьетнамцы, таиландцы и даже иногда греки. — Другое дело, что в военных поездах условия постерильнее, но… — он не закончил фразы.
— Слышь, друг, — сказал человек за спиной. — Китайцы китайцами, а мы давай-ка познакомимся. Ехать нам долго, ночи впереди длинные, надо знать, с кем дело варишь.
— А то послали втемную, — хмыкнул мужик в майке.
— Крутись как хоть. Завтра татарский разъезд перекроет дорогу, заебешься отмахиваться… Ты, собственно, кто есть? Какой масти валет, какой кости князь?.. Мы-то люди простые, рабочие, но, чтобы свою работу исполнять, нам знать надобно, кто нам в спину дышит.
— Слушай, — перебил его недоуменно человек в кресле. — О каком татарском разъезде ты мусолишь? Все татары остались на триста верст южнее. Или ты впрямь полагаешь, что возможно повторенье Шамировых праздников?
— Это я так, — дурашливо отозвался его подельник. — Татары, или мордва, или черемисы подымутся — все равно. Подмосковье — край дикий, незамиренный. Думаешь, мы зря здесь стоим? — обратился он к юноше. — Конвой на дрезине должен подойти. Стоящий конвой, не эти две жопы. Короче докладайся, малец, и все выкладывай как есть. Иначе колбас из тебя наделаем и будем торговать с лотка перед Кремлевской стеной.
Луций рассказал все, что знал. Трое дознавал приумолкли и вроде бы стали смотреть на него с некоторым уважением как на человека ученого и даже бывалого. Особенно много почему-то выспрашивали они про старосту курса и его чернорубашечного дружка, потом перешли к убиенному безвременно Шиве и каким-то образом вылезли на малозначительный эпизод с румяным толстяком, давним их с Никодимом учителем. Разговор, шедший до этого плавно и дружелюбно, как-то стал вилять, словно прихотливый ручей в весеннем разливе, возвращаться обратно и вновь пробиваться по старому руслу.
До мельчайших подробностей выспросили бойцы портретное описание Вадима Александровича, просмаковали каждое сказанное им слово и по многу раз выспрашивали, какое оружие и из какого кармана он вынимал. При этом, не скрываясь от Луция, что он счел хорошим признаком, бойцы переглядывались, потирали в волнении руки и в простодушии грохали в волнующих местах по столу, отчего подпрыгивали расставленные на нем разнообразные бутылки, стаканы и тарелки с никогда не нюханной Луцием снедью. Весь разговор разделился на две неравные части: в первой юношу допрашивали, а во второй допрашивали и поили. Может быть, происходила и третья часть, но ее Луций уже совсем не запомнил, потому что пьяного и ничего уже не соображавшего его перенесли в родное купе и там, извинившись перед Пузанским, засунули на полку спать.
Поезд шел себе по рельсам, как ему и положено, за окном уже засветилось утро, а в купе было пусто, когда Луций обхватил двумя руками онемевшую голову, присел на койке и задумался. Надо сказать, что начало путешествия как-то ему не понравилось. Нецивилизованные приключения, какие-то мифические азиаты и как итог — головная боль, понятно, что подобное не лезло ни в какие рамки. Он уже придумывал, как оправдаться перед учителем, да так, чтобы тот поверил объяснениям и ничего не сказал директору по возвращении.
Юноша отвернул измятое лицо от мешающего ему и режущего глаза света и стал смотреть вниз на застланные серыми одеялами койки и стакан доверху налитого чая на столике. Облизывая распухшие губы, Луций, как сумел, сполз вниз и взялся за ручку подстаканника. Она оказалась горячей, и он, постанывая и покряхтывая, отпил несколько глотков, чрезвычайно его подлечивших. Только он поставил стакан на скатерть, как дверь без стука отворилась и в купе вошел плотный мужчина лет сорока с плоским как блин лицом, наряженный в выходной дипломатического синего цвета костюм и лакированные ботинки. За руку он держал девочку-подростка лет четырнадцати с распущенными по плечам черными волосами и весьма зрелой для юной девушки грудью.
— Незадача, — горестно проговорил мужчина и плавно присел, продолжая держать руку девушки в своей. — Таня, по-моему, мы промахнулись, лежачие места все заняты. — С этими словами он подцепил уже начатый юношей стакан и бесцеремонно отпил половину.
— Есть тут свободные купе? — осведомился он у Луция, который обалдело смотрел, как возмутительный тип расправляется со второй половиной стакана. — Или вы за какой-нибудь рубль освободите купе и предоставите нам на время свободу воли?
Незнакомец умудрился вытянуть свободной рукой из кармана штанов тоненькую пачку синих купюр и протянул ее с улыбкой юноше.
— Потрясись, дружок, полчаса в коридорчике, пока я буду знакомиться с будущей женой.
Не теряя времени, девица вскочила ему на колени и, пленительно изогнувшись, стала снимать колготки.
«Что это в самом деле, — подумал Луций, — наваждение какое-то. Снятся мне эти двое, что ли? Да нет. Не может быть во сне так рельефно изогнут таз, и родинка рядом с ложбинкой на животе, и что-то соблазнительное выступает прямо на линии бедер…»
— Что-то ты, друг, засмотрелся, — пролаял юноше под самое ухо тот же настырный голос, — получил свои бабки и катись!
В тот же момент мужчина посадил оголенную красавицу рядом с собой, схватил Луция за грудки и выволок в коридор. Не успел юноша что-либо сделать, как очутился в одной рубашке и плавках в коридоре с зажатыми в руке купюрами.
Весь кипя от злости, он принялся стучать в дверь, требуя немедленно впустить его и грозя самыми свирепыми карами бесцеремонному зайцу, но все было безрезультатно. Из второго купе, в котором юноша побывал накануне, раздавалась тихая музыка.
В мозгу Луция метеором сверкнула мысль: «А где же Пузанский? Может, и его таким же манером выкинули из купе вместе с братом».
— Эй! — застучал он усиленно. — Отдайте хоть полотенце…
Дверь чуть приотворилась, и обнаженная рука выкинула вагонное узенькое полотенце, после чего исчезла.
Пошатываясь, отправился Луций в тамбур и столкнулся со вчерашним китайцем. Юноша обошел его с каменной физиономией, не желая отвлекаться на привидение, и вошел в туалет. Вышел он освежившимся. Муть из башки ушла и хорошо думалось об опохмелке.
Вежливый китаец тем не менее ждал его в коридоре и тотчас подошел к юноше.
— Мальчик, — сказал он, — мальчик не пьет ханку, мальчик девочек не хочет. Очень хороший мальчик. Возьмешь. А то мальчик скучно. Айда, забирай.
Он, улыбаясь так, как умеют это делать только с детства приученные к лицемерию китайцы, подвел юношу к двери чужого купе и раскрыл ее.
2. КИТАЙЦЫ
В клубах дыма посреди купе восседал на столике Пузанский, полуобняв за плечи Василия. Слева и справа от них замерли шестеро китайцев, а если точнее сказать, китаянок в одинаковой длины синих шелковых платьях. Каждая в руках держала маленькую рюмочку с водкой, а Пузанский командовал.
— На третий счет, не пролив ни капли, поднести ко рту и выпить. Ать, два, три…и в дамки.
Китаянки согласно щелкнули челюстями и, не поморщившись, снова неподвижными глазами уставились на педагога. Тот из-за спины достал початую примерно на треть бутылку и стал разливать, стараясь не попасть китаянкам на колени. Учитель был строг и абсолютно пьян.
— Вот мальчик бедный, — сказал, входя за Луцием, китаец, — не пьет, девочек не… — и он повторил точь в точь сказанное с теми же самыми грамматическими ошибками.
Василий, увидев брата, с жалобным писком попытался встать, но тяжелая рука педагога его не пускала.
— Ать, два, три… и в дамки! — снова проревел учитель, и уже семеро рук послушно поднялись ко ртам и щелкнули семеро пар зубов.
«А китаянки-то прехорошенькие», — подумал Луций.
Пузанский повернул к нему красное, залитое потом лицо с оттопыренными мокрыми усами и скомандовал:
— Штрафную! Луций не успел опомниться, как в руках у него очутился граненый стакан, доверху наполненный белой едкой влагой.
— Это большая человек, — почтительно сказал за его спиной китаец в штанах и панаме, который привел Луция. — Он нам Петербург обещал еще помочь, ты его слушайся.
Китаец вежливо, но твердо стал поднимать ко рту левую руку Луция с зажатым в ней стаканом. Чтобы не пролить содержимое на себя, пришлось влить водку вовнутрь. Как во сне Луций сел, протиснувшись между стенкой и юной китаянкой с лентой в волосах. Китаец встал над ним и возбужденно заговорил:
— Я купец из Китая. Это мои дети. Я их всех привез Россия. Я хочу купить маленький универмаг. Хочу получать деньги. Рубли хочу. В Москве уже открыл китайский торговый дом. Вор меня сжигал. Москва — плохой город для торговля. Все равно что Пекин. Пекин — социалистическая идея. Москва — монархическая идея. Все равно торговать не дают. Я хочу в Петербург. Там у них капиталистическая идея. Там китайца будет шить наша материя, готовить обед китайская продукта. Он сказал, может нам получить домик. Маленький домик для китайский товар. Десять этажей. Это очень хороший человека, но пьяный.
Луций решительно встал, отлепил от себя чьи-то тянущие вниз руки и подошел к педагогу.
— Все, — сказал он решительно. — Нам пора спать. Помогите-ка поднять тело.
Китайцы поняли его с полуслова. Враз они встали по бокам Пузанского и, не обращая внимания на его приказания и угрозы лишить всего и выслать в Бомбей, вынесли страдальца из купе. Хрупкие китаянки продемонстрировали богатый опыт общения с грузными телами, потому что их суммарный вес едва ли превышал вес педагога, но согласованные действия и видимый навык позволили в одно мгновение подтащить Пузанского к двери нужного купе. Только тут Луций вспомнил о забавляющейся за дверью парочке и приуныл, прикинув, как будет поднимать педагога в одиночку. Но дверь на удивление легко поддалась, само купе оказалось пустым. Наверно, мужчина с блинообразным лицом себя переоценил и хватило ему каких-нибудь десяти минут.
«Что же это получается, — подумал юноша, когда педагог, да и слабо сопротивляющийся Василий были доставлены вовнутрь и положены на койки. — То я пьян, как сапожник, то начальник. Какие же это мы в Петербург приедем. Да и когда?»
Как бы в ответ на его размышления поезд дернулся и затих. Луций выглянул в окно. На этот раз перед ними лежала в низине деревня. Какие-то бабки с корзинками забегали вдоль путей, послышался лай собак и мужские командные голоса. Луций вышел из купе, жестом удержав брата на полке, и тщательно закрыл за собой дверь. Педагог при его движениях глаз не разомкнул.
С удивлением и радостью Луций увидел, что охраны у вагона прибавилось. Человек десять солдат стояло в очередь за домашним кваском, который жбанами продавал дед в не по-летнему пушистом треухе. Рядом торговали картошкой, молодыми зелеными яблоками и кислой капустой. Луций накупил всего, что видел глаз, отнес в купе и сгрузил на стол. Потом, захватив с собой маящегося бездельем брата, вновь спустился на землю. Он заметил две знакомые мощные фигуры, которые, раздвигая толпу перед собой, как воду бреднем, подошли к бабусе, торговавшей вяленой рыбкой, и купили у нее весь мешок. Очередь заволновалась, раздались даже весьма бранные слова, но лица бойцов были по-прежнему невозмутимы. Один из них подошел к понурому толстомордому старшине и сказал веско:
— Слышь, старшой, поезд без нас не пускай. Мы вон на том пригорке станем пиво пить, — и сунул старшине пару крупных мясистых воблин.
Кроме военных, мимо Луция шныряли вездесущие китаянки. Двое грузин в спортивных костюмах медленно понесли свои животы, появился блинолицый мужик со своей подругой, но скоренько слинял в кусты. Братья выбрали по крупной картофелине и расположились у кустов на солнцепеке, наблюдая за вагоном, не удрал бы.
— Послушай, — спросил Василий. — Откуда здесь весь этот народ, если других вагонов, кроме нашего, нету, а есть распоряжение никого не подсаживать.
— Самозарождение, — сказал Луций таинственно. — Прямо из воздуха гигнулись. И в наш вагон.
— А солдаты?
— Да вон дрезина стоит позади вагона, на ней прикатили.
И братья задумались. Луций — о том, какое значение придают в Москве встрече Пузанского с петербургскими властями, если дали ему такое мощное сопровождение. А Василий думал о своих родителях, надежду на встречу с которыми так неосторожно заронил в нем Никодим.
И только он о Никодиме подумал, как возле дрезины возник человек, как две капли воды на него похожий. Только одет он был почему-то в солдатский мундир, защитного цвета брюки и сапоги. Человек впрыгнул на дрезину и стал ковыряться в моторе.
«Наверно, я ошибся», — подумал Василий и решил ничего не говорить брату. Но тем не менее он не мог оторвать взгляда от человека на дрезине.
— Опять, наверно, весь день простоим, — сказал Луций. — Вон и машинист куда-то уперся. Ну что, брат, мы с тобой и не поговорили толком. Расскажи, как успехи, какие там у вас течения религиозные произрастают, не бьют ли учителя.
— Нет, не бьют, — сказал Василий, ухватив, естественно, последнюю фразу. — Друзья у меня там есть, очень умные, умнее всех у нас. Мы с ними хотели в Крым удрать, да валюты так и не собрали.
— Какая же сейчас там валюта ходит? Тугрики или динары? Чей он, Крым?
— Я последний месяц все статьи про Крым читал, — объявил Василий с гордостью. — Крым теперь федерация из четырех независимых республик: Татарской, Русской, Украинской и Греческой. И между ними все время идет борьба за пересмотр границ. Только вот все Черноморское побережье находится в общем владении и войны там нет. Коны… Конвенцию они заключили, чтобы туристов не спугивать.
— Да бог с ним, с Крымом, — сказал в сердцах Луций. — Вот что брат, ты мать-то помнишь?
Василий ничего не ответил и только наклонил к самым коленям стриженую голову.
— Ладно, прости, — сказал Луций после длительного молчания. — Расскажи лучше, ты сам в какой группировке?
— A y нас нет группировок, сам святой Даниил не велел группироваться. Мы все вместе. И директор наш тоже просил не размежевываться по кучкам.
— Чему же вас там учат?
— Религии, христианской да Евангелию от Даниила Андреева. Потом еще математике и разным языкам. Вообще-то группы у нас тоже есть. По крови.
— А у вас что, нерусских много?
— Нет, просто кто из разночинной семьи, кто из дворянской, всяк за свою держится.
— А ты из какой значишься?
— Из никакой. Мы втроем дружим. И он замолчал, только жмурился на солнце и сопел носом. Похожий на Никодима солдат починил свою дрезину, мотор на ней заурчал, и она медленно двинулась прочь от поезда. Пройдя несколько десятков метров, дрезина остановилась, и солдат соскочил с нее. Потом оглянулся, бросил косой взгляд, как показалось Василию, прямо на него и исчез за кустами. Тут же и солнышко скрылось.
Василий вернулся в купе. Луций было последовал за ним, но споткнулся от сильного удара попавшего по ноге камня, остановился, ищя шутника, и услышал веселый смех. Юноша мог поклясться, что это была та самая китаянка, которая, оттеснив всех, заигрывала с ним в купе, а когда он пытался отворачиваться от нее, выплескивала водку из своей рюмки ему на ноги. На самом деле Луцию было приятно сидеть рядом с этой девочкой, уж очень она напоминала ему Лину. Если бы не цвет кожи и форма бровей, их было бы вовсе не отличить.
Китаянка поманила юношу, и он покорно похромал в ее сторону.
— Моя просит большого пардона, — с испугом во взгляде проворковала девочка, коверкая слова, бросилась к Луцию, поцеловала его ногу в ушибленное место и на мгновение прижалась к нему.
— Что ты, что ты… — растерянно шептал он. — Все это ерунда. Уже прошло!
Они сели рядом под кустом со стороны поезда. Луцию неудобно было оказаться на всеобщем обозрении: пассажиры, как ему казалось, не сводили с него насмешливых глаз. Китаянке же все это было совершенно безразлично. Она взяла руки юноши в свои и нежно ласкала их.
— Как тебя зовут? — наконец сообразил познакомиться Луций.
— Сестрица Ли, — ответила девочка и озорно сверкнула глазками. — Почему твоя не целует меня?
Луций, сам не понимая, как это случилось, припал к губам девочки, прижав к себе всю ее. В это время раздался хриплый гудок, и никогда никуда не спешащий состав вдруг дернулся, лязгнув всеми своими металлическими составляющими, готовясь отъезжать. Китаянка, схватив юношу за руку, проворно потянула его к поезду, и они на ходу влетели в вагон. Причем еще не известно, кто кому помог взобраться на подножку.
Подходя к своему купе, девочка, привстав на цыпочки, крепко поцеловала Луция и протянула ему бумажку.
— Надо помощь, моя будет тут, — ткнула она пальцем в петербургский адрес, ровным счетом ничего не говорящий юноше. — Спроси сестрица Ли!
Сверкнув глазами, китаянка заскочила в купе, но дверь за ней не захлопнулась, а, наоборот, широко раскрылась, и низко поклонившийся Луцию мистер Цянь церемонно пригласил его войти.
За время стоянки не только произошла полная перемена блюд, но даже скатерть на столе появилась новая, вся изукрашенная пагодами и радостными крестьянами с мотыгами на рисовых чеках. Словно воспрявший из небытия дракон, над столом царил Пузанский. Тоненькие китаянки незаметно, как по волшебству, наполняли его чашку желтой жидкостью — «китайской водкой», решил про себя Луций. Преподаватель же невозмутимо заглатывал хрустящие китайские пельмешки из блюда, напоминающего вазу. Судя по множеству пустующих тарелок, было совершенно очевидно, что Пузанский произвел немалое опустошение на столе. Мутным взглядом он зафиксировал Луция и кивнул ему на маринованную капусту и салатики из трав, к которым относился без уважения.
— А что в Китае на самом деле существует гуманизм? — вполне осмысленно обратился к господину Цяню Пузанский.
— Наш держава, как Европа четырнадцатый — шестнадцатый век, Иран, Индия — девятый — тринадцатый век, имел свой Возрождение — тринадцатый — пятнадцатый век, — почтительно, но с видимой гордостью отвечал китаец.
— Понимаете ли, — махнул очередную чашечку Пузанский, — как я представляю себе ход исторического процесса в названные времена: китайцы выпутывались из хламид конфуцианства, мусульмане слегка дистанцировались от своего мессии, итальянцы ставили на место зарвавшегося папу, поскольку религиозный догматизм препятствовал прогрессу. Реализация телодвижений Возрождения была невозможна без развития представлений о ценности личности. Только, по-моему, гуманизм характерен для стран с небольшим населением ввиду ограниченности человеческого материала. Не случайно, что гуманизм пришел не в Римскую или Византийскую империю, а в их крохотный осколочек — Италию.
— До крестьянский восстания «желтый повязка» население Китая третий век был пятьдесят миллиона человека, осталась семь с половина миллион человека. Династия Цинь объединил Срединная империя. Мала успеха. Пятый век, умерла четыре из пяти китайца. Только шестой век пришла великая династия Тан, Будда из Индии, китайская Возрождение, опять начала расти китайца. До тех пор, и еще потом мала китайца, очень мала. Плохо.
— Ага! — удовлетворенно крякнул Пузанский, заглатывая очередную чашку.
Луций в свою очередь воспользовался технологическим перерывом в беседе, попросив ему разъяснить разницу между конфуцианством и буддизмом.
— Кун-Фу-Цзы — ум, наука, не бог, — начал пояснение господин Цянь. — Государственный религий древние времена и до седьмой век — дао —«правильный путь». Кун Цзы и дао — ум и вера вместе, не мешай друг дружка. Учитель Кун сказала: «Если утром познаешь правильный путь — дао, вечером можно умереть», и еще сказала: «Там, где царит человеколюбие, — прекрасно», и еще: «Тот, кто искренне стремится к человеколюбию, не совершит зла», — произнеся три цитаты, китаец тяжело вздохнул, как будто совершил большую работу. — После седьмой век — два религия: дао и Будда, одна наука Кун-Фу-Цзы. Кун-Цзы для знатная, достойная человека; Будда для деревенщина. Вы звать гуманизм, мы — человеколюбие. Умный человек верит Кун-Цзы. Управлять наука — правильно.
Рыгнув и крякнув, вновь возродился к жизни Пузанский. Обняв господина Цяня прямо через проход, он взялся радостно целовать его. Вдавленный въехавшей в него тушей в стенку купе, китаец, ища спасения, попытался вернуть Пузанского к теме разговора. Тот, как ни странно, отпустил китайца и просветленно взглянул вдаль. Крепко профессионально подготовленный преподаватель продолжил мгновенно и по существу.
— Если деятели китайского Возрождения, как об этом свидетельствует уважаемый господин Цянь… — кивнул Пузанский китайцу, притом настолько почтительно, что и все его грузное тело потянулось вслед за головой, пока вскочившие китаянки с трудом не вернули преподавателя в исходное положение. Не обращая внимания на подобные мелочи, Пузанский невозмутимо продолжил: — Так вот, если в Китае видели ценность человеческой личности главным образом в способности к самосовершенствованию, а гуманисты мусульманской Азии признавали доступность человеку высших моральных качеств, таких, как душевное благородство, великодушие, дружба, то представители Ренессанса в Италии ориентировались на человека как носителя разума, считая его высшим проявлением человеческого начала.
Заметив, что китаец не решается прервать Пузанского, очевидно, опасаясь непредвиденной реакции преподавателя, Луций подал голос:
— Уважаемый метр, скажите, свойствен ли гуманизм русскому человеку и был ли он когда-нибудь на Руси?
— Подожди, — пьяно отмахнулся Пузанский. — Вопрос твой может и правилен, но не своевременен. Внемли и услышишь. Так вот, вы, мой уважаемый восточный друг, подтвердили один постулат моей теории, — проговорил заплетающимся языком преподаватель, и тут же с видимым удовольствием заговорил с твердостью в голосе: — Условием прихода гуманизма в истории была малочисленность населения даже в таком громадном регионе, как Китай. Это условие прозвучало у нас первым, но оно не основное. Самое время расширить наше понимание. Итак, когда же гуманизм пришел в Россию и почему никогда не побеждал в Китае? Слушай, отрок, — повернулся Пузанский к Луцию и попытался многозначительно приподнять перст, однако рука безвольно опустилась на колено. Преподаватель в пьяном удивлении посмотрел на непослушную руку и с радостью прочистил горло, засвидетельствовав послушность языка. — Важнейшим условием гуманизма служит частная собственность на землю. В Китае ее не было никогда, потому и гуманизм там отсутствует. В России со Столыпинской реформой пришел Серебряный век.
Большевики отобрали у народа землю, а значит, и свободу и повернули историю вспять. Подобную картину мы наблюдали и в конце века, когда демократию свалила неразрешимость проблемы продажи земли. — Необычайная твердость голоса Пузанского свидетельствовала о том, что он оказался в наезженной годами колее. — Таким образом, гуманизм не разделим со свободой личности, и значит, истинно гуманен может быть только свободный человек! Как я! — гордо воскликнул Пузанский, и с этими словами, едва успев положить руки на столик купе, плюхнулся на них головой, так что стол заскрипел и закачался под тяжестью могучего удара.
3. ГРУЗИНЫ
Когда Луций кончил беседовать с сестрицей Ли в коридоре вагона и, тяжело поднявшись с приставного сидения, направился в собственное купе, Пузанский уже проснулся и теперь воодушевлялся любимым способом. Бутылка грузинского коньяка «Лезгинка» тряслась в руках Пузанского, два не менее пузатых, уже виденных братьями грузина важно восседали на койке, и каждый держал в руке по щепотке кислой капусты. Пузанский вещал, а грузины внимательно его слушали.
— Всяк пророк в нашем отечестве пытается сыскать ту гнилую сердцевину, из-за которой обрушилась Советская империя. Один называет причиной всего извращения монетарной системы, когда рубль из международного платежного средства превратился в простой символ распределения. Другой — уничтожение частной собственности, которое привело к превращению людей в рабов государства. Третий твердит об угнетении духа, что создало предпосылки для гибели лучших умов страны. Кое-кто скажет, что виной всему железный занавес, отрезавший страну как от Востока, так и от Запада.
Есть такие взгляды, что крушение стало возможным просто в результате прихода к власти Антихриста в лице Сталина, забывая, что и до и после него правили люди разные: и более мудрые и совсем дюжинные, но с тем же результатом. Но ведь исторический итог чудовищен!
Дважды всего за три четверти века разлеталась вдребезги великая государственность, и радиоактивные осколки от второго взрыва мы с трудом стараемся собрать. Сколько угодно можно твердить о бездуховности, забитости, покорности, фатуме русских, но этим не объяснить, как они могли создать столь совершенную бюрократию, затем разрушить до основания и за самый короткий срок воссоздать и тут же снова потерять вожжи управления. Смешно сказать, на чем зиждутся надежды сторонников возрождения России в ее прежних границах. Только на том, что дальше ехать некуда, что хуже быть не может, что мельче делиться невозможно. А если возможно? Если в великий голод девяносто девятого вымерло около двадцати процентов населения, то почему в следующий неурожай не может остаться всего пятьдесят процентов.
— Подожди, дорогой, мы пьем драгоценный коньяк за чужие мысли. Это неправильно. Скажи, что ты сам об этом думаешь?
— Наливай, — проруководил Пузанский и продолжил: — Что я могу об этом думать. Я не соучастник событий семнадцатого года, но истинное значение произошедшего почти за сто лет настолько выкристаллизовалось, что итоги очевидны. Понятно, что не было бы семнадцатого года, не наступил бы август девяносто первого и октябрь девяносто третьего. Но мне, как очевидцу событий девяностых годов, еще не удалось дистанциироваться от них настолько, чтобы с полной очевидностью заявить: вот это так, а это эдак. Я думаю, что самые осязаемые и видимые причины второго взрыва, на этот раз антикоммунистического, коренятся в двух нестабильных параметрах существования империи: первое — абсолютный развал экономики из-за порочной установки на управление и второе — безумный раздел территорий по национальному признаку с Севера до Юга и с Запада на Восток, когда в каждой границе оказалась заложена мина междоусобной войны. Еще свое слово в этом сказала и вторая мировая, которая перекроила не меньше границ, чем самодержавие Сталина. Как только клей действующей экономики перестал держать, все рухнуло и рушится до сих пор. Однако почему так произошло, почему самоликвидировалась победоносная Российская империя, как могла разложиться выигрывающая войну за войной армия, я не знаю. Можно только сказать о роковой предопределенности распада, о фатальной неизбежности и безжалостности исторического колеса. Глупо проверять историю геометрией, но мне колесо ближе, чем идея исторической спирали, которой мы пичкаем наших учеников почти пятьдесят лет. Нет никакого витка прогресса, есть только скрипучее колесо истории, перемалывающее племена, народы и влекущее мир в хаос!
Закончив на такой высокой ноте, Пузанский почему-то встал и раскланялся. Грузины вежливо усадили его назад и, оглянувшись на молча глазеющих на них братьев, предложили выпить за юное поколение.
— Вот вы все говорите, Россия, Россия, — поднялся более молодой грузин, похожий на демона из известной поэмы Лермонтова, — а у нас в Грузии те же мины рвутся. Вы знаете, сколько лоскутов из Грузии понаделали: восемь. Вот я — потомственный князь Амашукели — избран национальным главой Кахетии, но разве я хотел отделения Кахетии от Тбилиси? Клянусь богом — нет. Кто этого хотел? Честолюбцы! Механизм здесь простой. Никто не хочет понять, как война начинается. Если взять в целом народ, то он не хочет войны. Потому что платить за нее народу. Но в любой нации есть честолюбцы, которые прекрасно понимают, что ослабление власти дает им единственный в их жизни шанс из золотаря и кухарки стать президентом. Такие люди кучкуются и очень простыми способами начинают нагнетать атмосферу. Они кричат на всех углах, что ближайшие соседи претендуют на их земли и что с этими соседями надо разобраться. Кроме того, к власти тихой сапой стараются подобраться отстраненные коммунистические круги, которые тоже понимают, что у них нет другого шанса, как война. Чтобы раздуть угольки, они зверски убивают нескольких своих соплеменников и выдают это грязное дело за руку соседа. Тоже самое происходит и с другой стороны, пока страсти не начинают закипать. Пусть всего населения один миллион, разве трудно выскрести из этого миллиона пять — десять тысяч боевиков с одной стороны и с другой стороны. Начинаются пограничные инциденты, ущемление тех нацменьшинств, чьи территории прилегают к вашей, они изгоняются и истребляются. Те, кто вернулись без крова и работы, пополняют ряды боевиков. Так процесс обостряется, пока не выходит из-под контроля. А серия политических убийств подливает бензин в раздувающийся огонь национализма. И все. Игра сделана. В дело вмешиваются регулярные войска. Пошла потеха.
— Вопрос в другом, — вмешался грузин постарше и снова разлил коньяк в рюмки. — Где граница этого дробления бывших государств империи? Ведь появившиеся куски мало того, что заявляют о своем полном суверенитете, они же немедленно начинают предъявлять друг другу территориальные претензии и грозить кровной местью за убиенных. Так вот, как вы думаете, уважаемый учитель, где конец этому дроблению? Не получится, что каждый город, каждый район, а может, и улица объявят себя независимым государством, хотя я понимаю, что это абсурд.
— Это все было, — сказал Пузанский угрюмо. — Так же распадались великие империи и снова собирались. Так же были республики, города и государства из нескольких тысяч человек. Индия средневековья или Германия всего двести лет назад — вот вам реальные модели исторических движений полисов, и никто вам не скажет, когда оно кончится и начнется новое собирание. Можно я вам задам один вовсе простой вопрос: захотела бы Кахетия стать пятьдесят вторым американским штатом?
— Нет, — ответили грузины в один голос, и усы у них раздулись от негодования. — Мы свободный народ и ни под каким богатым дядюшкой сидеть не будем.
— Даже смешно об этом спрашивать, — добавил второй грузин нервно и отодвинул в сторону бутылку.
— А почему, собственно, — спросил лукаво учитель, — вы отказываетесь сразу и бесповоротно, даже не узнав, какими правами обладает американский штат? По сравнению с тем, сколько воли имела Грузия в составе СССР, любой американский штат вольнее многих государств. Значит, в вашей тяге к объединению присутствует другой критерий, а не желание видеть своих сограждан просто богатыми и независимыми.
— Свободными! — крикнул младший грузин и поднял высокую руку с зажатой в ней рюмкой.
— Скажите, господа, — спросил Луций, внезапно ныряя в разговор, смысл которого был ему даже интересен, — а вы откуда в вагоне появились? Как, впрочем, и все остальные.
— Хороший мальчик, — одобрил его старший грузин и потянулся к бутылке. — Хочешь выпить, пей, но не мешай разговору.
— Нет, все-таки, — послышался уже другой голос — хриплый и с оттенком угрозы, — отвечайте, раз вас спрашивают.
Луций поднял голову и увидел одного из сопровождающих их бойцов, который стоял в проходе, чуть ли не весь его загораживая, и смотрел на обоих грузин весьма требовательным взглядом.
— А ты что, контролер? — возмутился молодой грузин.
Другой, более опытный в обращении с людьми его остановил.
— Не будь таким грозным, дорогой, — произнес он примирительно. — Сейчас мы все тебе покажем. Зайдем с нами в купе.
— Еще чего, — презрительно посмотрел на него боец. Он малость пригнулся и сел на койку рядом с грузинами. — Сам принесешь. И немедленно.
— Да ты кто такой, чтобы здесь командовать? — набычился на него грузин с демоническим выражением лица, но снова был остановлен своим старшим товарищем.
— Сейчас, геноцвали, принесу, не горячись.
— Предписание, — прочитал боец, — выдано военным министром Российской империи… так, так. И сколько вас в купе едет, четверо?
— Интересно, у китайцев тоже такое предписание есть? — спросил простодушно Василий.
Боец внимательно прочитал документ и вернул грузинам.
— Ладно, ребята, выметайтесь, нам поговорить надо.
На этот раз грузины спорить не стали и, попрощавшись дружески с Пузанским, вышли из купе.
— Шутки в сторону, — сказал боец, в упор разглядывая Пузанского и его юную команду. — Как я могу обеспечить вашу безопасность, если весь вагон набит фраерами и бабьем? Тут надо не только день и ночь следить за вашим купе, но и тщательно проверить всех, кто в вагоне едет. Но проверять их по-настоящему нет смысла, потому что тот, кто послан по вашу душу, наверняка подкреплен наилучшими документами.
— Почему, собственно, нас надо охранять? — спросил Пузанский. — О целях нашего путешествия знает несколько человек. Даже сам регент еще не осведомлен. Мне кажется, вы больше привлекаете к нам внимание своими мощными фигурами.
— Вот ты мне будешь доказывать, — поморщился боец.
— И вообще, дед, по контракту мы обеспечиваем твою безопасность до Бологого. Дальше у нас свои дела.
— Далеко ли до середины пути? — спросил Луций. — Все едем и едем, конца не видно.
— Это только начало, — усмехнулся боец. — Если не будет неожиданностей, дней через пять-шесть доберемся до пересадочной станции.
— А там еще дней десять, — предположил Луций.
— Да нет, — загадочно ответил боец. — Там начнутся другие порядки. До Бологого добрался — считай приехали.
— Скорее бы, — вздохнул Василий, глядя в окно, где медленно стлался тот же унылый березово-елочный пейзаж, перемежающийся голыми пустошами и ржавчиной болот.
Как бы в такт его словам поезд, как он обычно делал перед остановкой, весь уныло заскрипел и стал тормозить.
— Пять минут едем, пять часов стоим, — вздохнул Пузанский. Он взял непослушной рукой бутылку с остатками коньяка и стал разливать по стаканам.
— Выпьем за Россию, — сказал он азартно. — Хоть она и дура, так большая, по крайней мере.
Внезапно в купе постучали. Вошел толстый старшина с белым от страха лицом. В руках у него торчал автомат со вздернутым вверх дулом, левая брючина почему-то была засучена до колен.
— Беда, ребята, — проблеял он, — впереди завал, а дрезина с охраной отстала. Надо завал разбирать, а то перережут нас всех.
— Это точно, — подтвердил Пузанский, не делая, впрочем, никаких попыток подняться. — Эти места самые разбойные. От Москвы далеко, от черемисов близко. Тут шайки от Орла до Ельца шастают. Я перед отъездом сводки читал.
— Дай автомат, орясина, — прикрикнул боец на старшину. — Ты что раньше времени нас хоронишь. Пойдем посмотрим на твой завал.
— И я с вами, — воскликнул Луций. — Мне бы только пистолетик какой поплоше. Для самообороны. А ты сиди, — кинул он брату. — Охраняй лучше шефа.
По другим купе уже ходил второй охранник, объясняя что-то пассажирам. Открывались и закрывались двери, невиданные раньше личности выглядывали в коридор и снова прятались. Где-то ругались. Неожиданно высокий девичий голос затянул песню.
Старшина, боец и Луций вышли в тамбур. С обеих сторон полотна через забрызганные недавним дождем стекла видны были зеленые купы деревьев. Старшина открыл дверь и стал спускаться. После некоторого раздумья боец последовал за ним. Автомат он отдал старшине, а сам вытащил из-за пояса большой белый пистолет с длинным дулом.
— Израильский, — уважительно покосился на пистолет старшина. — Сташестидесятизарядный.
«А по виду не скажешь, — подумал Луций. — Обыкновенный пистолетик, барахло барахлом».
Они постояли немного, держась за поручни, а потом медленно, с трудом переставляя ноги по вязкой, сырой, бестравной земле, пошли к поезду. Перед тепловозом в самом деле на путях была навалена гора из свежесрезанных различной толщины стволов, пластов земли и просто крупных камней. Венчал эту гору поваленный какой-то злой силой еще цветущий в три обхвата тополь с ободранной макушкой. Его вырванный вместе с корнями и покрывающей их землей комель торчал метрах в пяти от рельсов.
— Надо нам дружно на эту кучу навалиться, — озабоченно рассуждал старшина, — и враз ее растащить по сторонам. А то разбойники острастку нам дадут знатную. Может, вы тут посмотрите, что и как, а я пойду народ подсоберу.
— Ты генеральный штаб случайно не заканчивал? — спросил его хмурый боец и, еще раз внимательно оглядев завал и близлежащий лесной массив, быстро пошел к вагону. При этом глаза его все время рыскали по ближайшему мелколесью, а полусогнутые ноги и вся враз съежившаяся фигура указывали, что он в любой момент готов нырнуть под вагон и залечь.
— Нет еще, — заулыбался было старшина, но боец тут же его осадил.
— Это и заметно, — сказал он, — что у тебя в башке никакой ни тактики, ни стратегии. Подстрелят нас с тобой как вальдшнепов на утренней зорьке. Как ты полагаешь, для чего эта куча на дороге навалена?
— Чтобы поезд остановить.
— Это и ежику понятно. А дальше? Молчишь?.. Поезд они остановили. Он через завал перелететь не может. Теперь должны бы разбойнички на штурм пойти, ан нет, не идут. Значит, шайка немногочисленная и она выжидает. Прием известный. Как соберутся пассажиры, естественно мужики, вокруг завала, так они их кинжальчиками с обеих сторон и накроют. В вагоне визг, паника, защитники — кто мертвый, кто раненый, кто с перепугу в лес убег. Бери вещички голыми руками. Значит, мы не так поступим. Есть два варианта: или устроить оборону прямо в вагоне и паровозе и дождаться дрезины. Или иначе сделать. Так что сиди тихо, а я пойду с братвой посоветуюсь.
Всего девять человек во главе с бойцами, дождавшись первого признака темноты, осторожно нырнули под колеса и утекли, никого не потревожив, в лес. Остальные пассажиры и пассажирки, коих набралось еще душ двадцать, высыпали из вагона и имитировали решимость взяться за расчистку. Но как только девятка канула в лес, все быстренько забрались в вагон и стали ждать. Буквально через несколько минут недалеко в лесу послышались частые перехлесты выстрелов, забарабанил «Узи». Дьявольский свист пронесся по лесу и был пресечен взрывами гранат. Тотчас и с левой стороны, и с правой раздался топот мчащихся коней и гиканье погонял. Вскоре вернулись бойцы, неся на руках раненых: старшину и одного из ранее никем не виденных пассажиров. Китаец, вызвавшийся вместе с Луцием в опасную командировку, был весел, как дитя, хотя и весь в крови. В руках он нес большой окровавленный нож и размахивал им в такт какой-то нечленораздельной, но очень громкой песне.
— Не поймали, — с сожалением покачал головой боец, сжимая свои громадные кулаки. — Была у меня задумка заставить их самих завал разобрать, но оторвались, черти.
4. ГОСТИНИЦА
Таможенники, высокие подтянутые ребята в фуражках с желтыми околышками и бутылочного цвета форме, ушли, откозыряв, через минуту. Видимо, они были кем-то предупреждены, потому что старший команды отнесся к Пузанскому с почти демонстративным уважением и даже предложил выделить носильщиков для перегрузки в другой вагон.
— Ваш поезд с азиатской колеей дальше не пойдет, — любезно пояснил он. — Мы выслали вам навстречу вагон и электровоз с европейской линии.
Однако в других купе он не был так любезен. На перроне остались и китаянки с массой пакетов, сумок и просто полиэтиленовых мешков и грузины, напрасно козыряющие своими экстрадокументами. Практически за заветный барьер, отделяющий два полиса — Москву и Санк-Петербург, прошли только три человека сопровождающих и еще странная, уже знакомая парочка: юная девица и ее пожилой широколицый спутник.
Вокзал в Бологом был разделен пополам, и если правая половина, в которой остался стоять поезд с непозволительно широкой для европейского пути колеей, была такая, как ей и положено: мерзко пахнущей, шумной, плохо освещенной и не оборудованной ничем, кроме деревянных грязных скамеек, то другая половина вокзала, куда Пузанского и всех сопровождающих перевели любезные таможенники, казалось, принадлежит совсем другому миру: чистому, ухоженному и холеному.
Да и сам вагон сиял изнутри, как новогодняя елка ярким электрическим светом, зеркалами и красными ковровыми дорожками вдоль коридора. Двери купе были открыты, в них горел мягкий спальный свет. Поезд тронулся через две минуты после того, как носильщики занесли вещи в вагон. Веселый проводник в фирменном кителе пронес по вагону дымящийся коричневый чай и еще горячие бублики. На просьбу Пузанского насчет чего-нибудь покрепче он откликнулся мгновенно, принеся из «служебки» бутылку смирновской водки и четыре рюмки, а принимая деньги, выписал зачем-то счет.
— Вы особенно не располагайтесь, — предупредил он на всякий случай. — От Бологого до Питера поезд идет два часа десять минут.
— Не может быть, — воскликнул Пузанский и попросил заменить рюмку стаканом.
Практически весь двухчасовой путь до Санкт-Петербурга Луций не отрывался от окна. Поезд мчался со скоростью более двухсот километров в час и нигде не останавливался. Однако и на такой скорости можно было разглядеть точно списанные с картинки хутора с обнесенной высокой изгородью ухоженной землей, стада пестрых коров на пригорках. В гигантском плоском круге, образованном десятком равномерно удаленных друг от друга холмов, он увидел целое море белого пуха и перьев. Это паслись буквально тысячи гусей. Чем ближе к Питеру, тем реже становились кусочки леса и тем чаще, почти вплотную друг к другу, располагались деревни и поселки.
Контраст с неухоженной, разграбленной, дикой Московией был так разителен и ярок, что Луций обхватил голову руками и застонал. В пустом вагоне, где только храп Пузанского и тихое посапывание брата разрывали тишину, он стал мучиться вопросами, вставшими перед ним со всей наглядностью. И Петербургская и Московская губернии были частями одной монархии, жили там люди одной крови, почему же так разнилась земля и порядки. Однако времени поразмыслить у него не было. Поезд влетел в сияющий огнями, несмотря на дневное время, вокзал. Откуда-то раздалась тихая музыка. На перроне не было никого. Только два одиноких Носильщика сидели в своих электрокарах и курили.
Луций разбудил своих попутчиков, уложил вещи и вышел на перрон. Тотчас подошел к нему тихий, неприметный человечек в пенсне и длинном сюртуке, как в старых фильмах, и попросил вернуться назад. Он прошел вслед за Луцием к купе и там, раскланиваясь, с тысячами извинений, выписал на всех троих пропуска, объясняя при этом, что без таких разноцветных бумажек, регламентирующих время пребывания в городе, появляться на центральных улицах нельзя.
— А поскольку жить вы будете в самом центре в знаменитом «Англетере», — добавил он строго, — то не вздумайте пропуска потерять. Проверки здесь весьма строги. Впрочем, поймете сами.
Человечек подошел к окну и постучал. Тотчас сидящий напротив водитель автокара выскочил из него и вбежал в вагон. Не говоря ни слова, подхватил он два пузатых чемодана Пузанского и куцый рюкзачок братьев и потащил их к выходу.
— До встречи, — сказал вежливый человечек и удалился.
Луций подхватил узелок с продовольствием и бросился к выходу, чтобы не упустить носильщика. Пузанский и Василий последовали за ним. Однако носильщик и не вздумал скрываться. Он медленно покатил кар по перрону, следя, чтобы владельцы вещей не слишком от него отставали. Только подошли они к выходу, как их обступила группа веселых загорелых мужчин с фирменными надписями на фуражках «Такси». Носильщик, не спрашивая, кивнул одному из них и повез вещи к сияющему голубому мерседесу с надписью «Турбо» на боку.
— На такси, — изумился Пузанский, — мы что, в гроб приехали ложиться? Надо же такое придумать. Такси?!.
Однако носильщик уже переложил чемоданы в багажник и почему-то, не ожидая вознаграждения, удалился.
— Это безумие, — сказал Луций. — Лучше пойдем пешком. Только самоубийцы ездят на такси.
Таксист, молодой кучерявый парень, уже сел на свое водительское место и теперь с недоумением смотрел на шушукающихся пассажиров. Наконец Луций направился к багажнику с твердым намерением отбить свои вещи, хотя и понимал, что с бандой таксистов ему не совладать. Он внезапно вспомнил, что даже не заметил, куда подевались бойцы охраны, так эффектно доказывающие свой профессионализм на протяжении длинного пути из Москвы, но в это время к ним подошел новый знакомый, видимо, наблюдающий за их передвижением.
— Это не Москва, — сказал он безо всякого выражения. — Здесь таксисты организованы в профсоюз, а не в банду. И их функция — перевозка пассажиров, а не грабеж, разбой, насилия и убийства по заказу. Так что можете без опасений к нему садиться.
Он подошел к раскрытому окну такси и что-то протянул водителю. Тот принял ассигнацию с благодарностью, выскочил из машины и распахнул перед Пузанским дверцу.
Такси мчалось по городу, все трое прильнули к стеклам и не отрывали глаза до самой Исаакиевской площади. Санкт-Петербург оказался в сто крат прекраснее, чем представлял Луций. Маленький садик с фонтаном отделялся от громадного здания отеля стоянкой для машин, на которую заехал таксист. Подхватив чемоданы, он быстрой рысцой повлек их к широкому стеклянному козырьку, по которому бежали огненные буквы «Англетер». Дрогнула круглая вращающаяся дверь, и из отеля ринулись на помощь таксисту два дюжих швейцара в огненно-рыжих жилетах с золотыми эполетами и цепями через плечо. Ни слова не говоря, они внесли чемоданы в расписанный фресками, убранный в искусственные меха и шелк вестибюль и удалились на свой наблюдательный пост у входа.
— Пропуска, пожалуйста, — обратилась к Пузанскому очаровательная девушка-портье и, только взяв документы в руку, сразу вся подобралась и быстренько схватила трубку коммутатора.
— Гости особого внимания! Всем ответственным дежурным приготовиться, — оповестила она и с улыбкой обратилась к Пузанскому: — Какие номера предпочитаете и на каких этажах? Об оплате не извольте беспокоиться. Личный гость регента оплачивается из особого фонда.
— Тогда приготовьте два номера пониже, — попросил Пузанский. — Одиночный люкс и двухместный попроще. Но рядом.
Луций и Василий, озираясь, вошли в номер. Они даже не представляли, что существуют подобные помещения. Взор Луция немедленно приковала видеоустановка с фильмотекой, насчитывающей не менее пятидесяти кассет. Что касается Василия, то он как-то сразу забрел в ванную комнату и застыл пораженный видом десятка золоченых приспособлений неизвестного назначения.
В номере можно было играть в настольный теннис, а может быть, и в лаун. Из гостиной небольшой коридорчик вел в спальню, где стояли еще один телевизор с видеоплейером и магнитофон.
За спиной у Луция кто-то деликатно фыркнул. Он резко обернулся. Это большой холодильник менял режим работы. Юноша на всякий случай открыл его и охнул. Холодильник был набит изысканной снедью. Одна на другой стояли несколько банок с черной и красной икрой; семга в прозрачной упаковке соперничала краснотой с крабовыми ножками. На нижней полке красовался фабричный торт в картонной упаковке. Рядом — завернутые в салфетки пирожные. Луций чуть не упал в обморок.
— Брат, где ты? — позвал он. Никто не отозвался. Тогда юноша вытащил из холодильника сверток с пирожными и прошел в ванную.
— Ты знаешь, что это? — спросил он мальчика, протягивая ему руку со свертком.
Василий принял сверток, развернул его. Тотчас из-за спины Луция протянулась рука и знакомый голос произнес:
— Вы как в том анекдоте. Погасили свет и едите черную икру с черным кофе. Это надо же: поедать сладкое в ванной!
— Господи, — не сдержался Луций, — только тебя нам тут не хватало! Да как ты проник в номер? Я же его закрыл.
Никодим долго прожевывал пирожное, потом подошел к ближайшему умывальнику с розовой раковиной и золочеными кранами и скинул с себя мундир. Грязная тряпка упала посреди великолепия, и в ванной стало совсем непарадно.
— Принять ванну и пожрать, — пробурчал он, — а разговоры потом. Я же обещал свести тебя в Петербург, вот и выполняю свое обещание.
Он, не смущаясь, снял брюки, трусы и встал под душ. Братья молча вышли.
Сгоряча Луций хотел бежать к Пузанскому и рассказать ему о преследованиях Никодима, но потом решил сначала разузнать причину нового появления незваного гостя.
— Все-таки это был он, — задумчиво сказал Василий. — Помнишь, я говорил тебе о солдате на дрезине. Он так и катил за нами, только на чем он приехал, если в Бологом у путей другая ширина колеи?
— На чем-то приехал, — пожал плечами Луций. Никодим вышел розовый, причесанный, перепоясанный полотенцем.
— У тебя что с бельем? — спросил он деловито. — Да ты не волнуйся, завтра я пойду в магазин и куплю десяток комплектов.
— Чего же ты себе не купил? — довольно холодно отозвался Луций. — А потом я не уверен, что мы сможем увидеться завтра. У меня в общем-то есть начальник, куда он меня загонит — мне неведомо. И вообще, что ты меня преследуешь, я тебя не приглашал. Или ты хочешь сказать, что тоже живешь в этой гостинице и попал ко мне случайно, перепутав номера.
— Да, — хладнокровно подтвердил Никодим. — Я тоже живу в этой гостинице, только номера я не путал. У тебя же двухместный номер, не правда ли?
— Я не хочу, чтобы ты жил в моем номере, я не хочу, чтобы ты носил мои вещи, я не хочу, чтобы ты делал мне подарки, еще вопросы есть?
— И родителей своих ты увидеть не хочешь? Или ты скажешь Пузанскому, что, мол, так-то и так-то, государственные преступники находятся рядом со мной, помогите мне их увидеть. Да ты знаешь, какой хвост за вами пушистый стелется? Ты думаешь, просто так тебя здесь поселили? А? Я тебя уверяю, чтобы легче было наблюдать за всеми вашими передвижениями. Единственный человек, который может тебе помочь, это я.
— И причем совершенно бескорыстно, — язвительно добавил Луций. — Темная ты лошадка, Никодим, и ночевать ты здесь не будешь. Но тебе чего-то от нас надо, и ты это «что-то» выложишь за милую душу, когда тебя подопрет. Василий, — позвал он брата, — что зря стоишь, слушаешь тут, давай-ка покушаем.
— А выпить ничего нет? — хладнокровно спросил Никодим. — Сходил бы ты к Пузанскому, авось его холодильник покруче твоего. Ты себе даже не представляешь, с каким трудом я сюда пробирался. Думал, живым не выйду.
— А зачем, собственно? Встретиться со старым другом? Да кто тебе поверит? Что же тебя заставляет так мчаться за мной в Питер? Как ты затесался в солдаты охраны? Ты думаешь, что держишь меня на крючке, только не считай меня идиотом.
— Держу, ох как держу, — охотно согласился Никодим..
— Только родители твои, если уж начистоту, тут ни при чем. Это не замануха. Я их помню еще с первого класса и на них не спекулирую. А есть под тебя крючок. Ох, надежный, не сорвешься. Иди, брат, за водкой, а мы пока с брательником твоим о его учебе потолкуем.
Едва Луций вышел, а Василий разделался с очередным пирожным, вовсе испортив себе аппетит, как Никодим подсел к нему совсем близко, полуобнял и спросил, как бы забавляясь:
— Ну-ка поведай мне, дружок Васюта, как же вы оружие вырыли из земли, а всех его владельцев в землю положили?
5. ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
На другой день, оставив Никодима отсыпаться в номере, братья спустились к Пузанскому.
Перед этим у Луция с Никодимом снова произошел весьма неприятный разговор, когда Никодим попросил у него пропуск, чтобы, по его словам, прошвырнуться по магазинам и купить все новое. Луций отказался наотрез и напомнил Никодиму, что тот говорил о громадном количестве знакомых во всех слоях петербургского общества. На что тот резонно отвечал, дескать, в солдатском мундире ему не только до сливок общества не добраться, но из отеля не выбраться. В конце концов Никодим достал неизвестно откуда толстую пачку денег и отдал ее Луцию, чтобы тот купил ему новой одежды.
Пузанский был не один. Маленький седенький мужчина нахохлился напротив него в кресле и изучающе разглядывал грузного посланника из варварской Москвы.
— Мы обыкновенно хотим Россию вылепить по какому-нибудь диковинному историческому образцу, — втолковывал Пузанскому гость, даже не обернувшись к вошедшим, — а великие русские мыслители девятнадцатого — двадцатого веков Бердяев, Лосев, Антонов и другие давно осознали, что задача-то заключается в том, чтобы понять Божий замысел для нашей матушки-землицы. И все наши попытки сделать по-своему, не считаясь с волей Божьей, приводят к смехотворно-печальным результатам, а то и вовсе трагическим исходам.
В свою очередь Пузанский вельможно кивнул братьям на диван, после чего и незнакомец присоединился к приветствию. Отсевшие в конец комнаты братья невольно оказались привлечены к беседе.
— Согласен с вами, что в истории действует промысел Божий, но он реализуется через людей, и пусть человек безразличен Богу, сие не означает необходимости страдать второй век подряд. И сколько длиться сему? — не сказать чтобы очень горячо заинтересовался Пузанский.
— Истинно верны ваши слова, — обрадовался гость, — и народ как личность часто, как мы, скажем, в тысяча девятьсот семнадцатом и нынешнем две тысячи пятом году, стоит перед выбором и не всегда выдерживает испытания. Сегодня человечество уже окончательно осознало, что идет к своему концу, но при этом палец о палец не ударяет ради собственного спасения. Почему же ни один живущий не страждет делать выбор между добром и злом? Даже слаборазвитые страны третьего мира промеряют жизнь по западным стандартам. А Запад не может найти выход из трясины мамоны, потому что у него нет для этого духовной основы. Потребительская западная цивилизация, которую у нас отвергали еще двадцать лет назад, а теперь продались ей со всеми потрохами, выросла на чуждой русской душе религиозной основе. Например, у ряда протестантских вероисповеданий, таких, как кальвинизм или другие, не говоря уже о мормонах, существует учение о предопределении. Согласно ему, человеку уже при рождении уготовано, куда он попадет: в ад или в рай. И вы, конечно, понимаете, что там богатство — благо; соответствующим образом осуществляется и бронирование мест в раю, а долг человеческого бытия — приумножение капитала любыми средствами. Когда по Христу — понимаю, не мне вам говорить об этом, но не могу удержаться — легче верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому попасть в Царство Небесное.
— Вам будет весьма поучительно прогуляться по городу, — говорил незнакомец, вертя от рассеянности в руках свое пенсне. — Нет слов рассказать, как страдает душа русского человека от немецко-финского засилья. Мало того, что весь исторический центр от Финляндского вокзала до Василеостровского порта запродали на девяносто девять лет, так ведь и не пускают русского человека даже на Неву. Моя дочь говорит: «Папа, достань мне пропуск в Меншиковский дворец сходить, про который нам учительница рассказывала». Это моей-то дочке!
— Я бывал во многих европейских государствах, — отвечал раздумчиво педагог. — Если говорить о восточной Европе, то в ней полное засилье капитала. Но нигде я не сталкивался с ситуацией, чтобы весь город запродали в частное владение. Я в это просто поверить не могу.
— У вас есть пропуск? — спросил гость. — Я знаю, что есть. Я сам выписывал в канцелярии. Так вот представьте себе, если русский гражданин покажется в Петербурге на одной из улиц центра без такого пропуска, его немедленно выдворят, а при повторном заходе могут и в каталажку упрятать. В то время как иностранному подданному достаточно предъявить свой паспорт с визой въезда, и его тотчас оставят в покое.
— Но кто же работает в этом городе? Разве не русские люди?
— Да, но без права оставаться на ночь. А на производствах работают интернированные государственные преступники, что удобно иностранным акулам во многих отношениях, так как на ночь рабочих отвозят в загородные лагеря. Пользуются тем, что русский человек, воспитанный в национальном характере Православия, терпелив, ни на кого не смотрит свысока, доброжелателен и скромен, ко всем относится со смирением. Потому русские так уживчивы и всю жизнь ходили в учениках у варягов, византийцев, татар, хотя и ненавидели их, как завоевателей. Все было исторически объяснимо до преклонения перед немецким педантизмом вкупе со шпионажем и французской модой, когда со шляпками из Парижа протащили чуждые русской природе вольномыслие и «прононс». Теперь эти немецко-французские идеалы вдалбливают вперемежку с американским практицизмом. У нас все принимает гипертрофированные формы. Можно продать иностранной фирме дом под офис или участок земли под застройку, но продать Невский проспект — это национальное предательство и за это мы спросим!
— А вы не боитесь, что если и дальше все пойдет таким макаром, то и спросить будет не с кого? — поинтересовался Пузанский.
— Много держава прошла смут разных, но никогда народ не мог познать себя так глубоко, как теперь, никогда так не соединялась обостренная правда жизни со знанием и грамотностью, никогда и нигде в мире не ведали столь разительных контрастов в жизненном стандарте однородных слоев населения. Одиннадцать веков Православия заложили в России такой огромный источник духовных сил, какого нет нигде в мире. Вижу я, — вдруг вскричал Топоров, ибо это был именно он, — родник этот полный, прорывающийся.
С этими словами он вскочил с кресла и, истово крестясь, брякнулся на колени. Напряженную паузу прервал Луций, обратившись к выходящему из экстаза посетителю.
— Какой он, по-вашему, русский характер, я никогда не мог уяснить это. Нам в качестве примера приводили лежебоку Обломова, — осторожно выговорил юноша.
— Да, пожалуй, с примером можно бы и согласиться, — раздумчиво ответил Топоров, стряхнув с колен несуществующую пыль. — Вот только в Обломове главное-то не лень. Давно замечено, что это натура героическая, готовая жизнь положить за великое Дело, только вокруг, как сейчас, одни делишки. Если русские люди и ленивы, то только потому, что не видят великого долга перед Господом, Государем и Отчизной. Так ли было в средневековой России при общинном укладе, когда проблемы решались всем миром и народ процветал в единении с ближним и Всевышним?! Нет более государственного народа на свете, и в этом наше величайшее достоинство.
— И что, совсем не произрос в вашем городе российский предприниматель? — удивился Пузанский.
— В смысле предприимчивости, — презрительно ответил, словно плюнул, Топоров, — русский даст сто очков любому. Только противно оно государственному человеку, и потому не задерживается в душе истинного русака, для которого невозможно превратить всю жизнь свою в делание денег. Недаром в России были династии государственные, но никогда предпринимательских. Уж на что, казалось бы, крепкий, деловой, предприимчивый человек Потеряев, создавший первую перевозочную компанию еще в Ленинграде, выбивался из самых низов, из рядовых инженеров, а сын его транжирит деньги в Монте-Карло, а внук теперь стриптизует на сцене.
— Однако, — сказал Пузанский, — я в Санкт-Петербурге не бывал уже лет пятнадцать, как тут с личной безопасностью, шайки не беспокоят?
— Да о чем вы говорите? — отмахнулся Топоров. — Эти христопродавцы себя берегут еще как. На ночь все улицы перегораживаются барьерами с электрическим током, тут ни одному вору не разгуляться. Появились одно время чувашские террористы, взорвали пару мусорных ящиков на Московском вокзале, так их, представьте, нашли через четыре дня и казнили цивилизованно на электрическом стуле.
— М-да, — сказал Пузанский, — у вас тут, по всей видимости, порядок. В Москве же без изрядного сопровождения не пройдешь ни днем, ни ночью. Ограбят и бросят в Москва-реку. У нас даже специальное выражение появилось — ночник. Это о покойниках, прирезанных ночью и сброшенных в реку.
— Так ведь все свое! — задушевно прошептал Топоров.
— Все исконное, заповедное, родное! Ну, убивают, ну, разбойничают. Так это же временно. Пока жизнь не наладилась. Возможно, загадочная русская душа так себя самовыражает. Но нет же этих тисков мелкобуржуазных. Никто, извиняюсь за выражение, не срет христианину в душу. Моя воля, да я б на этот задрипанный Петербург никогда красавицу Москву не променял.
— Мы сегодня идем на прием к регенту в Царское Село. Он ведь, видимо, в курсе ваших проблем. Если он правильно доложит государю, который, как я слышал, только из его рук и смотрит, возможно аннулирование договоров аренды и возврат города в исконно русские руки.
— Первый вор! — безапелляционно заявил писатель. — Еще его отец евреям и шведам знаменитую нашу Канавку запродал и все деньги перевел в швейцарский банк. Сын же на голову отца превзошел, и нет, наверно, священного гранитного камня, который он не перенумеровал и не запродал.
— Удивительный нынче денек, — зажмурился Пузанский, выходя из отеля и усаживаясь в садике на гладкой, стального цвета скамейке. — Надо сказать, что такие дни для Петербурга редкость. Они напоминают мне дни незабвенной юности, когда вот так же било солнце в купола и…
В это время к путешественникам подошел мужчина в необыкновенно импозантной форме, по яркости красок соперничающей с окрасом попугая.
— Простите, господа, — проворковал он медовым баском, — вы, видимо, приезжие. Я глубоко извиняюсь, но вы явно по недоразумению вошли в частные владения фирмы «Монтаг» и поэтому нарушили существующее соглашение между его императорским величеством и президентом фирмы господином Финкельштейном. Поэтому прошу вас выйти за пределы владения во избежание дальнейших пагубных последствий.
— Что, садик принадлежит какой-то фирме? — не поверил своим ушам Пузанский. — Да я в этом садике ночи напролет просиживал под соловьиные трели, да мы здесь пили красное под гитару и девочек наших ласкали…
— Фирме «Монтаг» принадлежит на ближайшие девяносто лет Исаакиевский собор с ближайшими окрестностями, причем естественной границей владений является набережная Невы с одной стороны и линия реки Мойки с другой. За исключением Синего моста и Александровского садика с памятником Петру Первому. Впрочем, за сие владение фирма отвалила городу куш, на который был построен целый микрорайон в районе Луги для исконно русского населения.
— Скажи, дорогой, ты что, сотрудник фирмы? — спросил Пузанский, мирно поднимаясь со скамейки и заворачивая к выходу.
— Начальник частной полиции фирмы «Монтаг» к вашим услугам, — представился собеседник. — Иногда, признаюсь, у самого сердце щемит. Как это получается — русский человек не может по Исаакиевской площади променад сделать — тотчас ему подножку и в отведенное для гуляний место выдворят. Но работа, детей кормлю…
— Что, и Исаакиевская вашей фирме запродана? — воскликнул Пузанский. — Что же, это все так, как мне Топоров говорил…
— Исаакиевская площадь продана фонду Рокфеллера, — поправил его собеседник. — Впрочем, если вздумаете по ней без дела пройтись, то ихний начальник охраны сам все объяснит. У нашей фирмы на эту площадь капиталов не хватило. Ведь к ней в придачу надо было брать и Вознесенский проспект.
— Где же он здесь? — закрутил головой Пузанский.
— Так вот же, — недоуменно указал сыщик на небольшую широкую улицу по правую сторону от Мариинского дворца.
— Во времена моей молодости ваш проспект звался улицей Майорова, — вздохнул Пузанский. — Жила у меня тут одна, знаете ли…
Преподаватель сделал какое-то движеньице пальцами в воздухе, и глаза его потеплели. Его собеседник тоже отчего-то оживился.
— Кстати, вы не знаете, кто же это был такой Майоров? У кого не спрошу, все пожимают плечами.
— Какой-то деятель времен большевистского террора, — пожал плечами Пузанский. — То ли он эсеров ликвидировал, то ли евреев. У них же, у коммуняк, как было: кто больше ликвидировал живых людей, тому и памятник.
Пузанский раскланялся и в сопровождении обоих братьев вышел на Исаакиевскую площадь. Со всех четырех сторон она была уставлена палатками и навесами, тонущими в россыпях овощей и фруктов. Кроме известных хотя бы по описанию апельсинов и кокосов, здесь громоздились разнообразные горы не виданных даже во сне даров экзотических стран.
Пузанский, который обычно экономил на всем, кроме водки, изменил своим правилам и купил-таки пару диковинных круглых зеленых плодов. Вообще по Петербургу гулять после Москвы было крайне тяжело потому, что торговцы стояли на каждом углу и товара у них было море. Луций вспомнил о деньгах, полученных от Никодима, и купил несколько бананов. Пока они покупали фрукты, никто их не трогал, но только братья вместе с учителем подошли к памятнику Николаю Первому и разок обошли его, как тотчас были выдворены бдительной охраной на Большую Морскую улицу. Эта улица, как позже выяснилось, тоже являлась частным владением какого-то Монакского принца, но поскольку состояла из массы маленьких магазинов и кафе, то проход по ней не только не возбранялся, но, наоборот, поощрялся, и многочисленные стражи порядка, одетые в монакскую форму, более следили за правильностью движения многочисленных автомобилей, чем за пешеходами.
Ради интереса путешественники заглянули в один из магазинов, и были просто ослеплены невероятным изобилием имеющихся там товаров. Одних сортов колбасы неугомонный Василий насчитал более тридцати.
Прием у регента был назначен в три, и Луций вполне успевал купить просимые Никодимом вещи. Однако для этого нужно было избавиться от Пузанского. Повод не заставил себя ждать. Увидев вывеску «Бар. Фирменное пиво», метр встал, как бы притомившись, а потом, сославшись на жару, объявил, что хотел бы передохнуть и промочить горло. Сговорившись вернуться к нему через час, братья наконец-то остались одни и полетели в магазин. Самой сложной при покупке оказалась проблема выбора. Магазинов на каждой стороне Невского проспекта оказалось больше сотни, то есть они были понатыканы через дом. И удивительная закономерность, чем мельче был магазинчик, тем лучше был товар и больше выбор.
Наконец Луций выбрал в витрине вещи, которые ему весьма понравились: пиджак, брюки, футболку, несколько рубашек, галстуки и зашел внутрь. Тотчас к нему бросился хозяин, молодой мужчина в бархатном пиджаке и с полузакрытыми от жары глазами. Он приветствовал Луция как старого, но несколько эксцентричного друга, который неожиданно появился после разлуки. Девочки-продавщицы притащили несколько штук просимого товара различных оттенков и модификаций и под придирчивым взглядом хозяина стали этот товар демонстрировать.
Впрочем, все показалось Луцию после московской разрухи прекрасным и модным, он рассчитался за купленные вещи и с удивлением обнаружил, что у него еще полно кредиток. Тогда, гонимый вдохновением, он вновь набросился на товар и купил себе и Василию все новое.
После того как он расплатился, хозяин пригласил его как оптового покупателя на чашку кофе.
— Как вам здесь живется под иностранным игом? — задал Луций давно вертящийся на языке вопрос. — Ведь нет ни одного общественного здания, которое осталось бы русским.
— Господи, — воскликнул хозяин, — о каком иге вы говорите! Мы много работаем и много получаем за свой труд. Да, после десяти часов мы должны покидать частные владения, но я и сам не останусь в центре на ночь. У меня есть коттедж в предместье, где живет вся моя семья, и я предпочитаю проводить время с ней. Что же касается моих детей, то старший учится в английском колледже, а младший ходит в привилегированную азиатскую школу. Потом, простите, мы все верим регенту и сами выбираем наше правительство. Так что жалуются на жизнь только бездельники, которые хотели бы снова все чужое распределять.
Пузанский, не теряя времени даром, примеривался уже к третьей кружке, когда в пивной бар ввалился Топоров в сопровождении двоих крепких телохранителей.
— Ну что, — сказал он, садясь напротив, — убедились в полной продажности наших бонз? Это надо же, загнать Невский проспект немцам! Да такое в страшном сне не приснится. То что они не сумели сделать военным путем в течение двух столетий, мы сами своими руками им подарили. Кощунство.
— И что, взамен ничего не получили? — спросил Пузанский как бы невзначай.
— Да построили они какой-то городишко за Сестрорецком, — отмахнулся Топоров, прослеживая телохранителей, которые отошли к стойке и теперь возвращались нагруженные кружками. — Только за разлагающее влияние западной религии и сотня таких городишек — малая цена.
— Разве у западной религии, впрочем, как и у всякой другой, нет своих достоинств? Вспомнить хотя бы пожертвования на благие цели, бесплатные ночлежки и обеды Армии Спасения, кстати, до сих пор весьма и весьма популярные в Москве.
— Достоинства, конечно, есть. Только не может принести Добро дело, совершаемое не во имя Христово. Это себялюбие, которое способно погубить человека, да если угодно — и человечество.
— Как же… как же… — попытался было вступиться за западных христиан Пузанский, но Топоров тотчас осадил его.
— Перечитайте Аскольдова о религиозном смысле русской революции и найдете вещие слова о том, что Царство Антихристово — это и есть организация совершеннейших в смысле осуществления пользы общественных отношений на почве начал противобожеских. Эти вещие слова прямо обличают западную модель с ее тягой к сверхпотреблению и комфорту, которая навязывает себя миру. Пути спасения Земного шара — во всяком случае лучшей части человечества — в духовном наследии Византии и Древней Руси. Пусть от костра времен остались искры, но из них неминуемо возгорится пламя. Еще немного времени — и спящий народ проснется! Я не верю в плодотворность вашего визита. Нас, как всегда, подводит коллегиальность. Но, во всяком случае, вы окончательно расставите акценты. Просто объявите волю нашего собрания патриотов и скажите, что в противном случае ему останется только один путь — в отставку! Тем временем мы о нем позаботимся. И помните, если русский погибнет, погублен будет темными силами, это станет гибелью человечества!
— Я, кстати, хотел спросить, — поинтересовался Пузанский. — Моя охрана из Москвы, где она?
— Они вас в любом случае обратно сопровождать не будут, — ответил Топоров. — Это же независимая структура. Так называемый преступный мир. Они вас не сопровождали, а только ехали параллельно. Вас одолевают преступники, а нас капитал. Уже начали в Петербурге закрываться церкви, вовсю складывается общество протестантской этики, для которого Православие — самая главная преграда. Русский человек плох как работник, он «несун» и выпивоха, но и православный для капиталиста не лучше — он не ищет заработать деньги, на сегодня хватит и слава богу! А Западу нужен человек, который горит на работе, не берет больничного, в отпуске себя ограничивает, сокращая положенное, лишь бы подзаработать, поднакопить, прибарахлиться и перед соседями вытянуться повыше. Заваливают дерьмом со всех сторон мира: конфессии, церкви различные, телепроповедники, религиозные миссионерские десанты. Разрубить надо узел немедленно!
6. ПАГОДА
Пятиметровый лимузин доставил Пузанского с его юными спутниками в Царское Село намного раньше намеченного срока. Культурная программа включала осмотр Пушкинского лицея, Екатерининского и Александровского парков. Однако изрядно обессиленный европейским изобилием Пузанский охватил лишь лицей, после чего, пройдя за решетку Екатерининского парка, нырнул в ресторан для приближенных лиц, расположенный в башне на берегу пруда.
Гид некоторое время подемонстрировал осиротевшим братьям достопримечательности императорской резиденции, но как-то ненавязчиво сделал свое присутствие излишним и предоставил ребят самим себе. Они еще раз внимательно оглядели многооконное снаружи и многозеркальное внутри голубое с золотым трехэтажное творение Растрелли, как бы приподнятое воздушными волнами в сине-солнечное небо. К дворцу поднимались ярусами клумбы цветов и шпалеры кустарников. Каждый уровень подводящей к среднему входу Екатерининского дворца Эрмитажной аллеи акцентировался мраморными статуями. Исключительно из мрамора были исполнены лестничные ступени, фонтан и бассейн при нем. Многовековая тень деревьев и свежесть травы навевали прохладу в непривычно жаркий для Петербурга день. В правом углу дворца сверкали золотые головки императорской часовенки, не вызвавшей, впрочем, интереса братьев. Они дружно, наперегонки, рванули вверх по лестнице Камероновой галереи, перескакивая на ходу ступеньки. Как и следовало ожидать, первым финишировал Василий. Луций отыгрался на колоннаде у бюстов римских императоров и знатных граждан. Нельзя сказать, что лекция прошла с большим успехом у слушателя. Прямо с галереи они сошли в глубь парка широким плавным спуском, пригодным для проезда машин, притом Василий в полной мере воспользовался возможностью поскакать по ступенчатому бордюру.
Луций сочувственно задержался у статуи римского оратора, без всякого сомнения, репетирующего контрверсию. И тут братья услышали за спиной негромкое покашливание. Обернувшись, они удивленно поприветствовали своего недавнего попутчика господина Цяня. Луций украдкой осмотрелся в поисках спутниц китайца, не решаясь поинтересоваться напрямую о сестрице Ли. Выручил юношу его беззаботный братец, бесцеремонно задавший вопрос о девочках.
— Нет девочка, — ответил Василию господин Цянь. — Девочка работать, а я приехать к регента. Он не принимать сегодня. А вы, я вижу, смотреть, коллега? — улыбнулся китаец Луцию. — Всегда учись есть очень хорошо!
Отбегавший в сторонку Василий выяснил, что в соседнем Александровском парке устроены аттракционы, и отпросившись у Луция бросился туда по пешеходному виадуку. Пока Луций раздумывал, не последовать ли примеру братца, терраса Руска подвела их с господином Цянем к китайской пагоде. Поставленная в тихом уголке парка, открытая во все стороны многочисленными окнами, дверями, беседками, награжденная, как и положено, именем собственным и осененная тремя знаменами пагода как будто сдвинула время. Расположившись напротив «Скрипучей беседки», недавние железнодорожные попутчики погрузились в двадцатидвухвековую глубь.
— Китайца первый историк Сыма Цянь две тысячи и еще сто лет назад писал: «Путь трех царств кончился и снова начался». Царство Ся правил «чжун» — прямодушие, — испытывая нехватку слов, китаец схватил прутик и, помогая себе, принялся рисовать на земле иероглиф. — Прямодушие — в дело, в любовь, всегда и во всем, тогда человек дикая, как дикая поле. Прямодушие править, человек — дикарь. Прямодушие — вред царства Ся. Нет закон, нет культура, империя умирать. Царство Инь не делала вред, ошибка Ся, — тут китаец крепче сжал прутик, — там правила «цзин» — почитать. Почитать власть, закон, правитель — как почитать родитель. Получилось, что если слишком много воздавать властям — выходит служить дьявола. Власть, которой служат все как отцу родная, ведет дьявол шина. Русский нет слова «дьявол»? — спросил китаец.
— Дьявол, черт, сатана, демон… — стал перечислять Луций.
— Демон, — закивал радостно господин Цянь. — Демоншина. Культ власти несет демоншина! Поклонение — вред царства Ся. Поклонение власть — империя умирать! Третий царство нет вред, ошибка Ся — прямодушие; нет вред, ошибка Инь — поклонение. Царство Чжоу — «вэнь» — культура. Иероглиф, — вновь принялся рисовать китаец, — значит узор на человеческая натура, что нарисовать на дикарь или еще значит знак письма, то, что писать на чистый лист для других…
— Литература, — догадался Луций, и господин Цянь порадовался взаимопониманию.
— Все вместе: рисовать, писать… получилось культура. В царстве Чжоу «вэнь» — культура убить «чжун» — прямодушие. Человека нет искренность, ненастоящая. Культура — вред царства Чжоу. Фальшивая человека — смерть империя!
Вот так путь трех царств оказался подобен «сюньхуань» — круговороту: он кончился и снова начался.
— Еще до рождения Сыма Цяня в Риме жил грек Полибий, — взял инициативу Луций. — Так этот Полибий различал три формы государственного устройства: царство, аристократию и демократию. Он утверждал, что, когда царское управление переходит в соответствующую ему извращенную форму — монархию, тогда в свою очередь на развалинах этой последней вырастает аристократия. Когда затем и аристократия выродится по закону в олигархию и разгневанный народ выместит обиды, нанесенные правителями, тогда нарождается демократия. Необузданность народной массы и пренебрежение ее к законам порождают с течением времени господство силы. Толпа, привыкшая кормиться чужим, выбирает себе вождя и, собравшись вокруг него, совершает убийства, изгнания, передел земли, пока не одичает совершенно и снова не обретет себе властителя и самодержца. Таков круговорот государственного общежития, таков порядок природы, согласно которому формы правления меняются, переходят друг в друга и снова возвращаются.
— Всякий правление идет упадок два пути: порча, вред проникать снаружи или исходить изнутри, — заключил господин Цянь, занося золотым карандашиком изречения Полибия в книжечку из крокодиловой кожи.
Дослушав юношу, он аккуратно спрятал книжечку и карандашик в нагрудный карман френча и заговорил.
— Гармония из «чжун» — прямодушие, «цзин» — почитание, «вэнь» — культура — правильный путь управления Поднебесная, неизменность порядок вещей. Управлять государством следует, почитая пять прекрасных и искореняя четыре отвратительных.
«Не иначе он спятил и теперь возомнил себя Конфуцием», — подумал Луций и тупо ткнулся взглядом в ступеньки «Скрипучей беседки», уходящие в воду пруда. — «Искупаться бы», — помечтал он.
Господин Цянь принял до несуразности серьезный вид и продолжал наставлять, но юноша уже был не в состоянии слушать его.
«Теперь мне понятны истоки „культурной революции“ в Китае, — прозрел Луций. — Если тебя постоянно пичкают конфуцианскими штучками трехтысячелетней давности, то невольно взвоешь, откроешь огонь по штабам и пойдешь громить авторитеты». Но тут вдруг юношу всерьез заинтересовало происходящее в Китае пятьдесят лет назад и он засыпал вопросами господина Цяня.
— Великая пролетарская культурная революция был политический кампания. «Вэнь» — культура тысяча девятьсот сорок девятый год решили менять на новый социалистический «вэнь» — культура. Ошибка история. Был пора «чжэн» — прямодушие. Подъем тысяча девятьсот девяностый год площадь Тяньомынь — «цзин» — почитание. Сейчас и еще долго процветание. Скоро «вэнь» — культура. Россия нет «цзин» — почитание, потому — разруха, крах.
— Как же премудрый Великий кормчий мог совершить историческую ошибку в шестидесятые годы? — чувствуя, что китаец уходит от его вопросов, Луций решил зацепить его.
— Подвел «цзюньцзы», новый малообразованный — хотел забрать власть народный герой Мао. «Цзюньцзы» не смог пойти на «чжун» — прямодушие, раскрыть планы свержения сына народа, обманул Мао и китайца, — с этими словами господин Цянь зачем-то достал из кармана платиновые часы с бриллиантами и стал внимательно рассматривать циферблат.
Как раз вовремя подоспел наигравшийся Василий, и господин Цянь и Луций расстались ко всеобщему удовольствию.
7. ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ
В то время как Луций беседовал с господином Цянем, регент принимал Пузанского в своем кабинете, обставленном мебелью эпохи Людовика XIV. Вероятно, он не представлял масштабов изменений, произошедших в Пузанском с времен горбачево-ельциновской демократии, выбирая место встречи, и теперь находился в определенном недоумении. Давний приятель, мгновенно поняв затруднения регента, к большому облегчению того отказался садиться. В результате они разгуливали по навощенному наборному паркету, и Пузанский со всей имеющейся у него ловкостью лавировал между банкеточками, бюро и столиками на резных ножках.
— Я не разделяю добродетель и справедливость, — решительно заявлял регент, вышагивая длинными поджарыми ногами. — Ибо справедливость и есть добро. Как бы твой поступок ни нарушал соразмерности, он не принесет добра. Понятно, что не может принести добра зло, но и не справедливое, незаслуженное добро в виде благодеяния или подачки развращает и ведет зачастую к худшему злу.
— И в чем, по-твоему, состоит справедливость? — заинтересовался Пузанский.
— Заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие — это и есть справедливость. При демократии, к сожалению, она невозможна. Демократия тем и удивительна, что каждому позволяет испытать себя в любом деле, и с тем большим успехом, чем меньше способности и пригодности к нему. Когда необязательно соблюдать законы и подчиняться вышестоящему, невозможно добиться от людей исполнения долга перед другими и, наоборот, преступнику нет надобности скрываться и даже просто стыдиться своих дел. Или ты не видел, как при таком государственном строе уличенные в неблаговидных поступках, более того, в преступлениях люди, тем не менее, продолжают вращаться в обществе, словно никому до них нет дела, а рэкетиры разгуливают прямо как полубоги под восхищенный шепот обывателей.
— Мне показалось, или так и есть на самом деле, что жители разделены по зонам?
Регент невольно поморщился от формулировки вопроса, но не выказал раздражения.
— Если я правильно тебя понял, ты имеешь в виду, что разные сословия живут у нас в разных местах? — переспросил он и обстоятельно ответил: — Действительно в соответствии с человеческой природой и наклонностями жители города разделились как бы на шесть категорий. Причем две из них совсем небольшие: это люди интеллектуальные, обладающие знаниями и желанием управлять городом, и особенно чувствительные артистические натуры людей искусства. Первые предпочитают загородные виллы и коттеджи в парковой зоне, богему мы расселили вокруг административного центра на Фонтанке и Васильевском острове. Их как бы окружают кольцом люди мужественные из сил самообороны, национальной гвардии и общественного порядка с зоной расселения в районах бывших казарм царских Измайловского, Семеновского и других полков. Правый берег полностью перестроен предпринимателями под жилье по их вкусу, а городские окраины заняты клерками, рабочими и обслугой. За парковой зоной город опоясывают фермерские хозяйства. Правда, многие не хотят жить в городе и перебираются в пригороды.
— И что, народ внутри сословий не общается совсем? — продолжал допытываться Пузанский.
— Никто этому не препятствует, но мы не приветствуем вмешательство сословий в чужие дела. У нас не общенародное государство и потому каждый должен заниматься своим делом. Руководят немногие, только действительно способные, во-первых, в силу своих природных задатков и одаренности и, во-вторых, вследствие долголетней подготовки. Как кухаркам отводится кухня, так и каждому гражданину отводится какое-нибудь особое занятие и положение, соответствующее его возможностям. Таким образом нам удалось сплотить разнообразные и даже разнородные части нашего города-государства в целое, запечатленное единством и гармонией, не так, чтобы лишь кое-кто был счастлив, но так чтобы счастливы были все жители. Более того, постоянные рост и благоустройство нашего города позволяют предоставить всем сословиям возможность иметь свою долю в общем процветании соответственно их природным данным, — тут регент резко развернулся на месте и обратился к Пузанскому: — Может ли, по-твоему, быть большее зло для полиса, чем потеря им единства и распадение на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует полис и способствует его единению?
— Не спорю, вы многого добились, — проговорил Пузанский. — И в чем ты видишь основные причины?
— Помощь Европы и возвращение императора, помогшие обрести веру в справедливость. Его императорское величество, — сказал регент, и Пузанский в который раз удивился: «Как все-таки похож на отца», — обладает одним качеством, которое потерялось в разрывах семнадцатого года и так и не было найдено всеми посткоммунистическими режимами от Ельцина до Лиги почвенников: он в самом деле принимает решения и законы для народа. Любое мое предложение он пробует на остром таком осельце, который называется «народная польза». Да, его можно обмануть, подставив ему дезинформацию, подменив народное мнение социологическим опросом. Естественно, можно фальсифицировать итоги выборов, чем, кстати, Москва грешит с девяносто первого, но нельзя изменить чувство государя к его народу.
— Никто не ставит под сомнение прекраснодушие государя, — отозвался Пузанский уклончиво, — хотя для меня, противника любой диктатуры, монархия не лучший сорт правления. Но, уважаемый друг, ты забываешь, что истинной столицей империи осталась все-таки Москва, а ваш европеизированный город — просто белая ворона в российском курятнике. Государь, француз по месту рождения, языку, воспитанию. Да одна только речевая стихия так отполировывает личность, что ей форму поменять почти невозможно. Если заштатный восточноевропеец практически не в состоянии войти в нашу азиатскую душу, то как это может сделать человек утонченной культуры?
— А кровь? Разве могут два-три поколения уничтожить кровь, разлитую по жилам царей. Я не буду спорить, но я в силах устроить аудиенцию, и ты сам увидишь, кто из нас прав. Если бы мы не понимали, что есть Россия, разве мы отгородились бы таможенными и воинскими барьерами от остальной Руси. Мы хотели бы послужить для остальной России примером, как может обыкновенный человек жить в достатке, не боясь преследований госорганов, а, наоборот, свободно осуществляя гарантированные ему конституцией права. И надо сказать, в какой-то мере мы этого добились.
— А что будет с вами, если Москва и прилегающие к ней губернии сомнут царских наместников и установят режим национальной диктатуры? Вы думаете, что удержитесь в вакууме? Думаете, в самом Петербурге мало националистов, которые только и ждут нужного момента, чтобы подставить вам подножку? Дружище, ты ошибаешься в главном. Ты думаешь, что народу нужна свобода личности, благосостояние, самоуважение и т. д. Тогда объясни мне, если ему все это нужно, почему он никогда этого не имел. И что может помешать народу взять те права, которые он захотел бы. Да, я охотно соглашусь с тобой, что волей исторического процесса народ был загнан в семидесятилетнюю резервацию, а тот, кто поближе подходил к так называемой «запретке» — ничейной земле между внутренним и внешним ограждением «зоны», — расстреливался. Однако ограда сгнила и развалилась, часовые посыпали голову пеплом и публично раскаялись, а стадо? Как любое стадо, застыло у отделяющей от воли черты и не хочет идти дальше. И не пытайтесь его выгнать на волю. Затопчут.
Регент усмехнулся. Еще не старый, лет на десять моложе Пузанского, он отличался от него своей подтянутостью и моложавым видом, словно гончий жеребец рядом с быком.
— Ты, как я понимаю, пришел с ультиматумом, — и тонкая усмешка проскользнула в его усах. — Я знаю наших национальных лидеров и цену им тоже знаю. Но спор наш перешел рамки политической интриги, к ней мы еще вернемся, и мне кажется, ты не до конца осознаешь, чьи интересы пришел ко мне представлять.
«Я-то понимаю, это ты, мил-человек, не понимаешь, что сидишь голой жопой на дульной части ствола. И снаряд уже в казенке. Попробуй объяснить, так ведь гордые мы очень, не захотим поверить», — рассудил про себя Пузанский, но не стал вступать в полемику. Тем не менее вслух он сказал, правда, не очень заботясь об искренности интонации:
— Извини, отвлекся, Александр Анатольевич.
— Я тебе вворачиваю только одну мысль, а ты от нее отмахиваешься, как девственница от голого мужчины, — насмешливо заметил регент. — Единственный вопрос, который интересовал всех правителей России от Троцкого до ваших Топоровых и компании, это вопрос личной власти. И когда пришла монархия, которая укорачивает им руки, не дает властвовать для себя, то, конечно, такую монархию надо свергнуть. Вся беда в том, что, во-первых, национальный вопрос для русских встал очень остро в связи с сокращением территории собственно России после двух Севастопольских и Русско-татарской войны. Три проигранные микровойны доломали империю, но посмотри, везде в десятках самостоятельных княжеств все князья — потомки или ставленники бывших первых секретарей.
— Да это частность, — с досадой сказал Пузанский. — А общее то, что, во-первых, разруха и хаос господствуют во всех частях бывшей империи, кроме Петербурга, который запродался Европе, чем дал отличные шансы национал-пропаганде, во-вторых, несмотря на полное обнищание, а может, и благодаря ему мысль о национальном реванше, пожалуй, единственное, что находит отклик во всех слоях общества. Положение империи в силу этих причин неустойчиво, и ее политика нуждается в корректировке, для чего в окружение государя должны прийти новые люди. Иначе неизбежен новый путч.
Наконец слово было сказано, и вся соль теоретических построений растворилась в четко поставленном ультиматуме.
— Это значит, — выговорил регент отчетливо, — что я должен решительно порвать с тем государственным курсом, который провожу уже десять лет. Я должен отказаться от договоров с Европой, передать ключевые посты в правительстве националистам и всякой сволочи, принять законы, прекращающие иностранные инвестиции в промышленность и землю. Практически запретить предпринимательство и уничтожить туризм — пожалуй, самую важную статью доходов казны. И так своими руками я должен ликвидировать то, за что мучительно боролся все эти годы. Может, мне и институт монархии ликвидировать? Верноподданный народ на коленях попросит монарха уехать полюбовно без крови в теплую Францию и споет ему на прощание песенку или прочитает стихи: «Пора, мой друг, пора, душа покоя просит!» Да ты прекрасно знаешь, что я этого никогда не сделаю, а, наоборот, приложу все усилия чтобы уничтожить заговор.
— У тебя есть шанс, — произнес Пузанский, почти с жалостью глядя на регента, — предупредить стихийный взрыв негодования, который иначе снесет все. Европа не введет войска, чтобы вас спасти, а если даже и введет, то это будет только лишний повод для антиправительственного восстания. Ты не первый и не последний, кто тянет сопротивляющуюся российскую кобылу в чистое стойло с английским овсом и немецким сахарком в ладошке. Да кобыла-то не хочет в хлев. Она к родному болоту привыкла, где можно всласть в грязи вываляться, полягаться, нажраться сырой травы. Одна судьба у реформаторов в России — от Годунова до вас — непонимание и суд народный. Вы нас гоните пехом в Европу, да мы-то не европейцы. Мы голимая Азия, разве что не мусульмане, так сейчас это поправимо. Еще никогда мусульманский мир так нас не подпирал. Если князю Владимиру понадобился всего один день, чтобы нас из одной религии — многобожия к богочеловеку привести, так, может, и Востоку одна ночь потребуется, чтобы всех нас обрезать, даже меня. — Тут Пузанский невольно засмеялся. — Шучу, конечно, но со стороны ваши попытки европеизации выглядят надуманными и даже неперспективными. Я узнал твое мнение по вопросам государственного устройства России и доложу о нем тем кругам, которые меня сюда послали, но еще раз прошу: не торопись с принятием решения, иначе оно, может быть, всех нас уничтожит.
Последнее слово он особенно подчернул, желая обратить на него внимание регента, но тот уже охладел к спору.
— Дорогой мой, — сказал он с той обходительностью, которая обретается только многолетней привычкой к светскому обращению. — Все что ты уполномочен был передать, я от тебя услышал, а теперь не перейти ли нам на неофициальную ногу? Я хочу принять тебя как старого своего соратника по прошлым сражениям и политическим, и военным. И если позволишь, я представлю тебя не как моего оппонента, а как доброго и любимого друга.
8. ПИВНОЙ БАР
Пока Пузанский витал в высоких политических кругах, братья вышли на разведку. План у них был разузнать, где находится известный в городе Путиловский завод, повертеться вокруг него, заловить какого-нибудь работягу, заманить его в пивную и там выспросить на предмет секретных цехов. Сначала им даже и повезло, когда, спускаясь в прозрачном лифте, они наткнулись на бородатого деда в ливрее, который сидел в кресле и нажимал кнопки.
На первый же вопрос, как проехать к Путиловскому, лифтер ожил, поднялся со стула и объявил, что зовут его дядя Саша, что ему семьдесят лет и из них ровно половину он промудохался на этом самом, мать его во все дырки, заводе. Когда же он поинтересовался, откель взялись не гостиничного вида хлопцы, и узнал, что из древней столицы, то чуть не выпрыгнул из лифта от возбуждения.
— Да я же сам москворецкий, — возопил дядя Саша, — земляки вы мои ненаглядные! Сейчас отпрошусь у метра и пойдем, солнцем палимы, прямо в гостиничный кабак.
И впрямь после недолгой отлучки дядя Саша появился уже одетый не в ливрею и русские сапоги со скрипом, а в цивильный двубортный костюм и борода его была расчесана по всем правилам хорошего тона. После очередного перешептывания с официантом они были допущены в освещенный сотнями ламп знаменитый голубой зал, где, как гласит легенда, еще любил сиживать отец нынешнего регента, пропивая свою скудную профессорскую зарплату.
Сев скромно в уголок за удивительно быстро накрытый столик, новые друзья пустились в разговоры о Москве, о старых и новых порядках в ней. Правда, лифтер Саша быстро погрустнел. О какой бы столичной достопримечательности ни заходил разговор, все было разбито, или обветшало, или попросту сгорело при пожаре.
— А мавзолей, — горячился дядя Саша, — тот самый мавзолей, где тиранозавр лежал. Неужто тоже снесли? Ни в жисть не поверю, хоть сам в вашу Москву езжай. Сколько сейчас поезд в столицу чешет?
Узнав, что до Бологого два часа, а потом еще до Москвы две, а то и три недели, лифтер совсем пригорюнился. Напрасно пытался ему Луций объяснить, что мавзолей вовсе не сгорел, а сам разрушился после того, как в него вьехал кумулятивный снаряд. Большой же театр, напротив, именно сгорел и до сих пор на его восстановление идет сбор средств аж с прошлого века. Что такое ГУМ или ЦУМ, никто из ребят отродясь не слышал, а когда лифтер начал расспрашивать, что можно купить в магазинах, на Луция напал дикий смех. Дяде Саше оказалось абсолютно невозможно объяснить, почему в Москве нет магазинов.
— Да распределение же, — урезонил его Луций. — Каждый все получает в военкомате. Паек или спецпаек, с голода еще у нас никто не умирал. Кроме пенсионеров и калек, конечно. Так те исчезли еще в шамировские времена.
— Как зачем магазины? — не унимался лифтер. С досады он стал сажать одну рюмку за другой, и становилось очевидным, что надолго его не хватит.
— Все у нас да у нас, — разозлился Луций, толкая брата под столом ногой, чтобы он не налегал на осетрину. — Давайте про Петербург поговорим. Как вы-то живете?
Лифтер расцвел и даже отодвинул в сторону графин.
— Мы Европа! — сказал он веско. — Я, брат, за последние пять лет весь мир объездил. И честно скажу — у нас не хуже. За границу каждый работяга может смотаться, как на деревню к дедушке. Свой автомобиль почти в каждой семье. Что касается жратвы, то на нее просто противно смотреть. Видишь этот стол, — показал он небрежно на соседний столик, который официанты уже заставили вкуснятиной, видимо готовясь к приему гостей, — так это тьфу, ничего по сравнению с тем, что у меня набито в холодильнике. И так у всех. А кто кричит, что нас, русских, и в город не пускают, плюнь в глаза. Кому положено — ходит где надо, а всякой шушере делать у нас нечего. Так что, брат, я тебе скажу честно: еще никогда в истории нашей матушки-России не было столь богатого города. И батюшка-царь не забывает. Весь капитал фамильный в Россию перевел.
— Я много слышал о заводах петербургских, — решительно забросил удочку Луций. — Помнится, мы говорили о Путиловском, бывшем Кировском. Как нам все-таки лучше туда добраться? Далеко ли отсюда?
— Почему далеко? — удивился дядя Саша. — Да ты ешь, голубок, — ободрил он Василия, который после пинка брата сидел примерно, и только глазами пожирал судки с икрой, которые как на грех созрели прямо перед ним.
— Значит, вышли вы из гостиницы, перешли перпендикулярно прямо к германскому консульству. Из гранитного камня выложено, найти не трудно. Там встали у указателя с надписью «Автово» и ждите. Минуты через полторы подойдет кар с надписью на боку «Автово». Вы смело на него садитесь, отдаете по доллару за проезд и напрямик доезжаете до Кировского завода. Только чего на него смотреть, не пойму. Место пустое.
— А у нас рубли, — несмело сказал Луций, — тридцать миллионов. А долларов и в помине нет.
— Конвертируем! — уверенно сказал Луцию лифтер. — У официанта. Прямо по курсу.
Дядя Саша не соврал. Уже через час после того, как верткий официант выложил им три тысячи долларов в мятых чаевых купюрах, друзья наши, озираясь, выходили на остановке под названием «Путиловский завод». Райончик в самом деле был какой-то серый, непритязательный. С правой стороны шла высокая каменная стена, а с левой сплошные торговые ряды, магазинчики, навесы с теми же самыми покорившими воображение братьев экзотическими фруктами. Народу слонялось здесь меньше, чем в других местах, но все же достаточно. Идея Луция подобрать какого-нибудь работягу и разговорить его разбилась об то обстоятельство, что работяг в в том смысле слова, как это понимают в Москве, почитай, и не было. Из проходной, которую им удалось обнаружить, выходили прилично одетые, веселые люди, которые явно не видели особого смысла нализываться в пивнушках.
Однако довольно скоро перед растерявшимися братьями возник тип с метлой в руках и в выпущенной поверх грязных джинсов рубашке, лицо которого давало шанс, что его владелец не прочь опохмелиться. Заводской дворник, как Луций определил его, настолько нервно мел, что казалось, при каждом движении метла выпрыгнет у него из рук и улетит за забор. Поймав паузу между двумя взмахами, Луций подошел к нему вплотную и быстро спросил, где приезжий человек может поблизости утолить жажду.
Дворник подозрительно взглянул на Луция, будто пытаясь удостовериться, какую именно жажду тот имеет в виду. Найдя, что, несмотря на юные лица, жажда Луция достойного качества, он буркнул, что рядом есть приличная пивнушка. После чего уговорить его проводить блуждающих братьев и самому дернуть кружечку было даже слишком легко.
Пивнушка представляла собой длинный зал, по одной стороне которого стояли бочки с пивом, а по другой пивные стойки. Каждую бочку окружали дубовые табуреты, народу было немного. В зале господствовал коммунистический принцип самообслуживания. Люди, нагруженные кружками с пивом, ставили их на бочки, и почти сразу раздавалось подозрительное бульканье — это в пиво подливалась водка для крепости.
— Два пива и один лимонад, — заказал Луций, подойдя к стойке, сонливому бармену, но уже навязший в зубах до дрожи душевной голос перебил его:
— Шесть пива и два лимонада! Луций даже не стал оборачиваться. Он сунул бармену деньги, взял пива, сколько мог унести, и пошел к бочке. Никодим явился следом за ним, доставив остальной заказ. Смотрелся он большим барином. На нем был белый свободный костюм, панама и белые парусиновые штиблеты. На руке горел золотой браслет с несуразными большими часами. Перстень с голубым камнем на указательном пальце и синий шелковый галстук дополняли его гардероб. Как истый дворянин, он собственноручно с легким поклоном разлил купленный у того же бармена французский коньяк и сказал:
— За светский город Святого Петра и за первопрестольную. И за нас, чтобы шло у нас здешнее пиво с коньяком слаще меда.
И только они выпили, как снова раздалось уверенное бульканье, и вторая половинка бутылки улеглась в пивную подложку. Уже без тоста, но не давая собутыльникам остыть, Никодим решительно чокнулся и молча наблюдал, как бескомпромиссный дворник, кряхтя и булькая, поглощает свою лошадиную порцию.
— Вы кто, граф? — спросил дворник, бессмысленно выпучив голубые глаза на Никодима. — Мы вас не знаем.
Луций вторую порцию ерша пить не стал. Уже после первой кружки жизнь показалась ему и раем и адом одновременно, как в розовом тумане плавали перед ним лица брата, друга и дворника. Через несколько мгновений туман рассеялся, и где-то вдали, так, что разобрать было почти нельзя, появились родные лица.
— Забыл о нас, — сказал укоризненно отец, — пьешь тут со всякой шушерой, о нас и не думаешь…
— Чего же ради я здесь! — чуть не крикнул Луций, но вовремя опомнился.
Дворник сидел, осоловело изучая пол пивнушки. Никодим, наоборот, находился в самом благодушном настроении. Он слез с табурета, подошел к стойке и заказал целое блюдо копченого угря и салатов.
— Много у вас на заводе народу работает, — пользуясь отсутствием своего друга-врага, обратился Луций к дворнику, но тот не ответил. Втихаря он спер вторую Луциеву кружку и так к ней присосался, что оторвать его можно было только вместе с челюстями.
— Мы могем, — сообщил он, вылизав все до последней капли, — мы метем, соответствуем. Хотите директором устроим, хотите кладовщиком. Только грабить нечего в кладовой. Одни танки лепим.
Таким образом высказавшись, он уронил голову на руки и захрапел.
— Пошел ты к черту вместе со своим угрем, — сказал Луций Никодиму и отвернулся, — Вечно от тебя только грязь и разорение. Я человека привел для дела, а ты его споил, как последнюю свинью, так что через сутки не разбудишь.
— И не надо, — сказал Никодим деловито. — Я за тобой от гостиницы слежу. А мог бы и не следить. И так знаю, куда метнешься. Человек этот вовсе тебе не нужен. Все что надо, я уже решил.
Он, не торопясь, залез во внутренний карман пиджака, и очень долго там рылся. Наконец, нащупав нужный документ, Никодим рванул руку из кармана и положил перед опешившим Луцием две бумажки.
— Вот, — рассмеялся он. — Две индульгенции на кратковременное свидание! Могу я быть прощенным?
Луций жадно схватил бумажки, стал читать, шевеля губами.
— Разрешение на свидание… — шептал он. — Боже мой… да ты волшебник… и вместе с Васей! Когда же я могу их увидеть? Просто не верится.
— Увидеть ты их можешь, например, завтра, — рассмеялся Никодим. — Только ты понимаешь, брат, что просто так ничего не делается. Мне нужна твоя помощь. Взаимно.
— Хоть жизнь проси, — отвечал Луций, сжимая в объятиях того, кто еще секунду назад казался ему недругом. — После того, что ты для меня сделал, как я могу тебе в чем-либо отказать? Ты, наверно, свои деньги заплатил, так я верну, хоть сейчас.
— Денег не надо, — отмахнулся Никодим. — Какие счеты между своими. Ты мне тоже должен свидание устроить. Так сказать баш на баш.
— Свидание… — растерянно пробормотал Луций. — Да с кем же я могу устроить тебе здесь свидание? Разве что…
— С Пузанским, — сказал Никодим и застыл, испытующе глядя на Луция. — Для его же сугубой пользы и сохранения живота. — Он бросил взгляд на пьяницу, который продолжал мирно спать, свесив голову на край стола. — Давай пойдем отсюда. Разговор не для праздных ушей.
Они вышли на улицу и уселись в скверике, где дорожки были посыпаны оранжевым песочком, а на грядках росли голубые анемоны и разноцветные розы.
— Я не могу раскрыть тебе все карты, — с каким-то сожалением сказал Никодим и бросил Василию: — Вот тебе ассигнация, сходи купи себе бананов…
— Да не задерживайся! — крикнул вслед ошалевшему от петербургских вкусностей мальчику Луций.
— Так вот, видит Господь Бог, если он есть, как я хотел бы поделиться с тобой и даже, может быть, взять в дело, но не могу. Не могу потому, что, как ты сам понял, жизнь моя мне не принадлежит. Я выполняю поручения одной весьма могущественной организации, которая хорошо мне платит и удовлетворяет за свой счет страсть мою к приключениям. Но приключения эти не всегда безопасны, а иной раз просто безумно опасны, как последнее путешествие на дрезине. Поэтому, памятуя о детской еще нашей дружбе, я на твою вербовку не пошел и, более того, уговорил своих руководителей, чтобы тебя они оставили в покое. Но есть вещи, которые тебе знать нельзя, а исполнять надо. Тем более что без свидания со мной я не дам за жизнь твоего педагога и кожицу от копченого угря.
Тут Никодим чуть переждал, желая проследить, какое воздействие окажут его слова на Луция. Тот никак не прореагировал, ничуть не удивленный словами друга. Тогда Никодим решил продолжить:
— Ты понимаешь, что я не сам доставал тебе разрешение на кратковременную свиданку, а люди, которые без преувеличения достаточно для этого могущественны. И я при всем при том не буду тебя насиловать и заставлять против воли организовывать встречу. Но не я поставил в прямую пропорцию оба свидания и не мне эту связь отменять.
— Ловко ты меня на крючок взбагрил, — усмехнулся Луций. — Как же, поверил я в байку о других людях. Это вполне в твоем духе так срастить концы, чтобы и задохнуться было нельзя и двигаться вольно невозможно. Мастер!
— С тебя хватит и того, что я тебе сказал. В конце концов, я могу и просто постучаться к твоему шефу в номер. После второй рюмки он меня встретит как родного.
— И это ты знаешь, — восхитился Луций. — Хорошо ваша служба работает, добротно. Поди и сейчас нас слушают. Где у тебя передатчик сидит? Во внутреннем кармане или между ног?
— Сидит у меня передатчик между ног, да не тот, о котором ты думаешь. Такой и у тебя есть. Езжайте с братом в гостиницу, а как появится ваш шеф, я к тебе загляну.
— А родители? Когда можно с ними встретиться?
— На разрешении даты нет, идите хоть сейчас. Не забудь, завод оборонный. Я бы и сам с вами пошел, да боюсь, судьба сыграет в легкую. И так под богом хожу.
С этими словами Никодим исчез.
9. ПУТИЛОВСКИЙ ЗАВОД
Если бы в пиве не было коньяка, Луций бы вряд ли рискнул так прямо вместе с маленьким братом ринуться на поиски. Но хмель кружился в его веселой голове, все казалось очень простым и легким, надо было только поторопиться, чтобы застать мать и отца на заводе.
Они подошли к стеклянным дверям проходной и остановились в легкой нерешительности. Наконец Луций толкнул дверь, и братья вошли в прохладное фойе, выложенное светлым сверкающим камнем. Около турникета стоял охранник с кобурой на боку и что-то жевал. Дед обладал громадными кулачищами и раздутым сизым носом профессионального алкоголика. Он взглянул на Луция и тотчас отвернулся. Возле турникета стояла стандартная будочка. В ней сидел еще один сизоносый стрелок помоложе.
— Нам куда? — спросил юноша, которому почему-то стыд сдавил горло, хотя понять его происхождение он не мог.
Луций протянул деду разрешение, которое тот после недолгого раздумья принял и стал про себя читать. Видимо, процесс чтения не сопровождался у него просветлением разума, потому что он вернул бумагу юноше со столь же застывшим лицом, как и минуту назад.
— Иди в отдел пропусков, — сказал он хрипло, — там заполнишь маленькую такую бумажку — форму, а потом сюда приходи.
Охранник махнул рукой куда-то в сторону и быстро, пока Луций не стал его снова доставать, спрятался к себе в кабинку.
Отдел пропусков состоял из одного окошечка, заглянув в которое Луций увидел черноволосую девушку, которая мирно пила чай.
— Мне вот пропуск подтвердить к родителям, — волнуясь и переминаясь с одной ноги на другую, начал юноша.
Девушка мельком на него взглянула и продолжила с еще большим удовольствием пить чай. Из большой разукрашенной коробки она достала печенье и стала, не торопясь, намазывать его чем-то весьма аппетитным. Потом еще подлила кипятку, подула на чашку, помешала чай и принялась с большим вкусом есть печенье. Протянутая рука Луция с синей бумажкой в кулаке казалось волновала ее не больше, чем, скажем, восстание каменных истуканов на острове Пасхи под водительством известного в XX веке путешественника Хейердала.
После того как весь чай был выпит, а коробка аккуратно закрыта и убрана, девица соизволила произвести некоторые движения. А именно: она открыла ящик письменного стола и достала оттуда тоненькую пачку бланков.
— Вот анкеты, — сказала она, — заполните их и передайте мне для компьютерного сектора. Да заполняйте тщательней, будут ошибки, придется переписывать, — с этими словами из того же ящика она достала зеркальце и косметичку.
Оглянувшись, Луций взял бумаги и уселся за стол. Анкеты представляли собой вопросник из 322 пунктов; нужно было отвечать «да» или «нет». Оказалось это дело совсем простым, и уже через какой-то час Луций лихо выводил кружочки на 321-м вопросе: «Имели ли вы бисексуальные отношения?»
Не мудрствуя лукаво, он заполнил и анкету Василия. Довольный собой и следя только за тем, чтобы не удрал куда-нибудь братец, который от скуки стал уже кататься по скользкому каменному полу, как по катку, Луций протянул анкеты дремлющей с книжкой девице. Та быстренько встала со стула и куда-то понесла их. Вернулась она буквально через двадцать секунд, без анкет, вся растрепанная и походящая уже не на дремлющую кошечку, а на рассерженного дикобраза.
— С вами будет говорить господин Ман, — профырчала она, и волосы на ее голове встали от злости дыбом.
Господин Ман, чей кабинет, как оказалось, был за ближайшей дверью, встретил их, стоя с анкетами в руках. Это был ничем не примечательный, кроме выпирающего живота и явно еврейского акцента, средних лет бодрячок в стерильном синем костюме, так аккуратно сидящем, что возникало подозрение, не родился ли он в нем.
Девица вышла, едва доведя братьев до кабинета, и господин Ман, уже не сдерживаемый корпоративными приличиями, с места поднял крик:
— Я таких подлых, лживых, я бы сказал, грязных анкет не запускал в анализатор никогда в жизни. Целых три шкалы недостоверности вылезли. Вы что полагаете: здесь сидят одни идиоты?!
— Помилуйте, — обратился к нему Луций, — но откуда, например, мой младший брат знает, как заполнять такие анкеты? Ребенок ответил как мог, но что он мог изобрести в ответ на такой вопрос: «Испытываете ли вы сексуальную тягу: а) к своей матери, б) к отцу, в) к братьям и сестрам, г) собакам или другим домашним животным, д) придуманному вами фетишу, е) ко всему живому». Парень, по-моему, до сих пор испытывает сексуальную тягу к своему футбольному мячу, и то не помнит, когда он играл последний раз. К тому же мы к вам не на работу пришли наниматься. У меня краткосрочное свидание с родственниками.
— Ай эм сорри, — почему-то по-английски извинился господин Ман. — Эта девица весьма невнимательна, она сунула ваши анкеты не в тот компьютер, который нужно было. Да и анкеты вам надо заполнить другие. Эти анкеты для поступающих на завод. Но в вашем случае это отпадает. Прочитав вашу анкету, компьютер поперхнулся и до сих пор молчит. Видимо, переживает. Пойдемте, я вас провожу в секретный отдел. — И весьма довольный, что недоразумение исчерпано, господин Ман быстренько вытолкнул братьев из кабинета.
За дверями их уже ждала все та же девица. Видимо, ее настроение менялось вполне синхронно с настроением шефа, потому что она снова напоминала сытую черную кошку. Секретный отдел тоже был недалеко, и девица, не выпуская из рук пропуска и анкет, быстро довела до него Луция. Оставив его перед окошечком, она самолично влетела в отдел, правда, с большим трудом отодвинув массивную стальную дверь, и вылетела из нее уже с анкетами другого цвета и толщины. Вслед за ней вышел человек во френче и на костыле, который отрекомендовался референтом военного отдела подполковником в отставке Стерлиговым.
Господин Стерлигов пригласил братьев занять глубокий кожаный диван в коридоре и, задымив солдатскую сигаретку «Кэмел», стал расспрашивать. Сначала он поинтересовался, как им понравился Петербург после привоенной Москвы, потом справился о родителях, что было даже как-то странно. Получив ответ, что родители работают на заводе, а пропуск дан, дабы с ними свидеться, подполковник в отставке, ничуть не смутившись, стал расспрашивать, от кого братья получили документ, самолично подписанный генеральным директором завода господином Путиловым-младшим.
— От него и получили, — не моргнув глазом отвечал Луций, поскольку ничего другого он ответить не мог.
Стерлигов, собрав необходимую информацию, с извинениями исчез за дверью и более не появлялся. Иногда окошечко, похожее на щель амбразуры, приоткрывалось, к нему подходили разные господа с папками, портфелями или просто листочками в руках. Проскучав час и чувствуя, что на сегодня свидание с родителями ускользает, Луций решительно поднялся и подошел к окошку секретного отдела. Он долго в него стучал, сначала деликатно, двумя пальчиками, потом все настойчивее, ладонью. И наконец, во всю мощь кулаком. Окошко безмолвствовало, будто секретный отдел весь перешел на нелегальное положение. Энергичные удары в бронированную дверь тоже ничего не принесли.
Отбив кулаки, Луций решил вернуться в отдел пропусков, чтобы там справиться об исчезнувших секретчиках, но запутался в дебрях коридоров и, пройдя их все, вышел назад, откуда пришел. К счастью, дверь оказалась открытой, из нее как раз выходил статный мужчина с выправкой профессионального военного и гвардейскими усами. Луций пропустил его и ринулся было внутрь, но твердая рука удержала его. Оказывается, прямо под дверью стоял охранник в форме и честно делал свою работу: не пускал. Однако он вполне сочувственно выслушал Луция и обещал разыскать господина Стерлигова, как только придет сменщик.
Охранник оказался наиболее пунктуальным из всех служащих завода, с которыми Луцию удалось встретиться, и уже через пять минут двери отворились и из них вышел улыбающийся хромой подполковник под ручку с невысоким улыбчивым крепышом в серой пиджачной паре.
— Мы вас отдали в проверку, — улыбаясь сказал Стерлигов, — не зарегистрированы ли вы или ваш брат в качестве аккредитованного в Санкт-Петербурге шпиона. Не хочется, знаете ли, своими руками на завод врага пускать. Проверка автоматическая, должен длиться поиск полторы-две минуты, но программа оказалась не отлажена, дала сбой. Признаюсь, подлый компьютер сделал нам выборку королев красоты с тысяча девятьсот восемьдесят восьмого по две тысячи пятый год, но вас там не обнаружил. Поэтому запаситесь терпением, а лучше приходите с утра, потому что рабочий день уже как бы закончен. Дальше ваше дело будет вести майор Зюкин, прошу любить и жаловать.
Майор протянул Луцию крепкую руку и пророкотал:
— Очень приятно. Майор Зюкин. Отдел превентивных исследований подрывной деятельности. Заграничный сектор. Второе отделение. В случае чего прошу обращаться. А пока ничем порадовать не могу. Разве только тем, что отрицательных и компрометирующих результатов на вас пока не получено. Будем ждать.
— А завтра во сколько приезжать? — спросил Луций. На глазах его от отчаяния стали наворачиваться слезы, но Зюкин, казалось, их не замечал.
— Лучше всего после обеда, — деловито ответил он. — Потому что в первой половине дня у нас антирезидентские учения. В связи с бездеятельностью царской власти и мэрии во главе со ставленником регента приходится самим бдить.
— Но мы-то не шпионы, — взмолился Луций. — Нам бы своих повидать. И разрешение у нас есть. Неужели нельзя обойтись без поисков агентов хотя бы сейчас? Оформите нам пропуска, пожалуйста.
— Не могу, — признался Зюкин. — Даже если бы умирал от желания, все равно не могу. Инструкция не позволяет. Когда вы пройдете все формальные процедуры и если компьютер найдет, что вам можно доверять, все равно придется пройти тестирование на предмет внутренней оппозиции к власти.
— Сколько же времени займет оформление пропуска? Нам ведь скоро уезжать домой.
— Так, может быть, вам проще встретиться с вашими родными вне завода? — поинтересовался майор.
— Может быть, и проще, — безразлично сказал Луций.
Обратный путь казался ему бесконечным. Коридоры переходили из одного в другой, ветвились, заводили в тупик, потом снова открывали свои темные чрева. За нумерованными дверями, видимо, кипела сумасшедшая работа по выявлению опасных для родины объектов и субъектов.
— А мы не заблудились? — спросил наконец Василий, когда очередной коридор кончился ржавой, в подтеках мазута, запертой на амбарный замок дверью. — Пойдем назад.
— Куда назад? — машинально поинтересовался Луций, вслушиваясь в лязгающие звуки за дверью. — Ты помнишь, этот в штатском говорил, что родители работают в танковом цеху. Послушай, вроде танк прошел совсем рядом.
Луций вплотную привалился к двери, и вскоре братья услышали все тот же лязгающий звук и чихание разогреваемого мотора. Юноша осмотрелся и в углу рядом с ржавым ведром нашел, что искал: тонкий металлический стержень. Стержень согнулся, словно он был пластилиновым. Луций отшвырнул его и поднял глаза к замку, с которого медленно осыпалась ржавчина. В порыве ярости Луций ударил в дверь ногой один раз, второй. После третьего удара ржавые гвозди, державшие засов, не выдержали, и засов отвалился вместе с неповрежденным замком.
Братья очутились в громадном заводском цеху. Сквозь стеклянный потолок на космической высоте било солнце. Конец цеха терялся среди разнообразных металлических конструкций. Вокруг работающего конвейера расположились станки-автоматы, которые то наклонялись к нему, то отступали. Пройдя несколько шагов, Луций остановился. Там, где конвейер уходил под прямым углом в сторону, открывалось окно во всю гигантскую стену цеха. Рядом с окном рос в кадках плотный тропический лес. Лианы обвивали благоухающие пальмы. В больших, висящих в воздухе клетках прыгали разноцветные птицы. Вровень с подоконником стояли аквариумы: один за другим. В них плавали золотые и красные рыбки. За спинами ребят раздалось уже знакомое лязганье и глухое завывание мотора. Только что сошедший с конвейера танк шел к выходу. Смотровые щели танка были закрыты, а орудийная башня чуть наклонена вперед. Танк неспешно проехал мимо братьев и, звеня и бренча гусеницами, скрылся за конвейером.
Братья шли и шли вдоль конвейера, на котором разрозненные детали постепенно монтировались в нечто, напоминающее танковые гусеницы. Луций искал хоть какого-нибудь живого человека, чтобы навести у него справки о работающих на заводе заключенных. На всякий случай то, первое разрешение, как оказалось за подписью самого главного начальника на заводе, было у него с собой. Они шли почти два часа, пока не выбрались из цеха на улицу. Несколько раз мимо них проползали уже готовые танки, проехала легковая машина, наполненная людьми, но юноша побоялся ее останавливать. Напуганный полным отсутствием людей и громадностью строений Василий шел, не выпуская из руки ладонь брата. Он хотел есть и не верил, что где-то среди голого металла и зеленой травы спрятаны его родители. Да в отличие от Луция, Василий и не помнил их. Однако ведомый старшим братом он брел за ним, пока от голода у него не начала кружиться голова и не заныли ноги.
В это время они как раз вышли из цеха и оказались на пыльном голом дворе, уставленном аккуратными большими ящиками. Луций, видя усталость брата, устроил его на одном из ящиков напротив входной двери и велел никуда не отлучаться. Сам же он, полный решимости найти хоть кого-нибудь, вернулся в цех. В самом скором времени юноше повезло. Внимательно обследуя стены, он заметил узенькую стальную дверцу под стать обшивке стен цеха. Луций толкнул ее и очутился в небольшой, хорошо обставленной комнате. На самом видном месте в ней стоял небольшой пульт с микрофоном и очень располагающий ко сну диванчик. Видимо, так полагал и хозяин кабинетика, ибо он мирно спал, прикрывшись простыней, и не помышлял ни о каком вторжении извне.
Пока Луций медлил, не решаясь разбудить спящего, загудел микрофон и суровый голос произнес: «Пятый цех отставание от нормы восемь десятых процента. Можете спать дальше!»
Человек, дремлющий под простыней, заворочался и сел на диване. Увидев юношу, который с большим интересом рассматривал пульт, незнакомец не удивился, а только спросил:
— Откуда бог послал? Новый стажер, что ли? После того, как Луций поведал о своих проблемах и ткнул пропуск незнакомцу в нос, тот как-то одобрительно заворчал и стал одеваться. Вскоре перед юношей предстал пожилой, представительный мужчина, на обшлаге его серого костюма сиял значек с надписью: «Старший энергетик».
— Ты сходи-ка за братом, — предложил энергетик, — а я тут чай соображу. Дело в том, что на заводе твоих родителей нет. Но у меня есть мнение как их можно найти. Так что, бери руки в ноги.
Видимо, мужчина учел, то мальчики с утра на ногах. К их приходу на столе уже появилась вазочка с конфетами, печенье, шоколад и даже бутерброды с колбасой.
— Дело в том, — сказал энергетик, когда ребята утолили первый голод, — что я сам попал под тот жернов, что и ваши. Эх, русский народ, ему бы только щи валенком хлебать и водку дуть. Только мы тогда оправились от великого рабства, только пережили разброд и войну, так стали друг друга стегать. Пришел в Москву казацкий генерал Сбруев со товарищи и быстренько благословился на царство. И потекли доносы полноводной рекой, как при отце родном. Три месяца веет ворон и просидел в Кремле, а народу перевел целую уйму. Слой интеллигенции снял как острым ножом. Мне повезло: как бессрочный дали, так сразу определили на этот завод, тогда он еще не танки, а сковородки конверсионные да сенокосилки выпускал. Спасибо государю, он все сбруевские указы похерил и меня на волю выпустил. Только в Рязань, я сам из Рязани, мне возвращаться и смысла не было. Да вы кушайте, не стесняйтесь. Мои-то козлики не поехали за мной в Петербург, так и не видел их ни разу, как определили в зону. Сейчас я конечно вольный, видели, каким цехом заведую! Отпуск провожу или в Италии, или на Лазурном берегу. Как вы говорите ваших родителей величали?
Выслушав Луция, энергетик покрутил головой.
— Возможно, — сказал он, — сгоряча их могли и запихнут в заводскую лабораторию, но потом, если сразу не выпустили, значит, переправили в секретки. А в них закон не командует. Если люди нужны, тем более по суду лишенные прав и неведомо где обретающиеся, так их по государственному Указу вояки не выпустят. А просто загонят вглубь и будут держать, сколько потребуется. Как я слышал, из репрессированных ученых на волю вышли единицы. Или вовсе бесполезные, или уж слишком звонкие имена. Есть в Санкт-Петербурге центр по реабилитации политических заключенных, а при нем архив. Где-то у меня адресок был. А на заводе сейчас заключенных нет. Последних вывезли лет восемь назад. Так что плюньте в глаза тому, кто вам этот пропуск придумал.
— Может, он сам ошибся, — спросил Луций. — Это мой старый друг. Жили через площадку.
— Запросто, — согласился энергетик. — Дело обычное. — Он обратился к кому-то, а тот не глядя подмахнул ему пропуск. — Так что беру свои слова обратно. Чтобы знать истинное положение вещей, надо на заводе работать. Ты сам-то учишься или как? Что-то про Москву нехорошие слухи идут. Будто она от монарха отделиться хочет. Наши газетчики из Москвы пишут как с поля боя. Да и гибнет их у вас изрядно.
— Плохо в Москве, — сказал Луций. — Опасно. Детям вообще там жить нельзя. Вон его двух сверстников недавно забрали прямо днем. Рядом с интернатом. Потом вернули без глаз. Кому-то понадобились, значит. Да и взрослых похищают почем зря. Особенно женщин.
— Почему бы вам, парни, в Петербурге не остаться? Глядишь, поумнется столица. Да и возвращаться, как я понял, вам особенно незачем. А я вам с жильем и работой помогу. В память о ваших… — он перекрестился.
— Спасибо, — сказал Луций, — только ведь нам учиться надо. Уж как-то свыклись со своими трудностями. Поди, у вас проблем хватает.
— Хватает, — согласился энергетик. — Ну что ж, тогда пойдемте к выходу. Я вас провожу. — Он включил микрофон и отдал короткую команду. Когда братья вместе с ним вышли обратно в цех, к ним подъехала небольшая серая машина с мигалкой наверху и шофером.
— У нашей милиции позаимствовал, — объяснил энергетик. — Домчит вас до проходной, да и объясняться с охраной не надо будет. Да не благодарите, я же вам сказал, что у меня в Рязани двое таких же гвоздей осталось. Только не совсем таких. Не ищут. — И энергетик резко поворотился в сторону.
10. ВЕРБОВКА
Никодим, как и обещал, ждал в фойе. Выслушав рассказ братьев о несостоявшемся свидании, он явно омрачился.
— За лоха меня держит, — пробурчал он, явно имея в виду кого-то своего. — Видимо, зная порядки на заводе, решил, что вам до правды не докопаться и сквозь бюрократический завал не пройти. А вы его просто обошли. Хорошо, брат, не серчай на меня. И адрес архива не ищи. Я тебе его на блюдечке принесу. А к шефу веди. Не у меня, у него беда будет, если мы не встретимся.
Луций не присутствовал при разговоре учителя с Никодимом, но в тайне переживал, не зная, правильно ли он поступил, устроив школьному другу встречу. Поэтому он весьма был рад, когда дверь в номер отворилась и Пузанский, по обыкновению довольно жмурящийся, заглянул внутрь. Тотчас Луций провел его к столу, посадил на лучшее место и велел брату ставить чай.
— Не хочу я твой чай, — пробурчал Пузанский, впрочем, без особого гнева в голосе. — Я к тебе, собственно, без дела пришел, поблагодарить. Приятель у тебя молодец. Сечет поляну на две сажени вглубь и в стороны. Бери с него пример. Он рассказал мне, что кроме нашего общего дела у тебя еще своя заноза в пятке. Я имею в виду твой культпоход на Кировский…
— Путиловский, — поправил его Луций угрюмо. — Да не реви ты! — прикрикнул он на брата, который стал вдруг размазывать слезы по лицу.
— Учитель, я просто потрясен этой дьявольской игрой в несуществующее дело, которой занимаются самые взрослые люди на этом заводе. Не удосужившись разобраться в самых простых вопросах, они футболили меня из одной конторы в другую, пока не запутали его окончательно.
— Студиус ты безалаберный, — почему-то произнес Пузанский. — Сам не подозревая этого, ты попал в тиски заурядной бюрократии. А она, между прочим, возникла еще в древних империях, процветала в обоих Египтах и Риме. Единственное отличие в том, что современная техника создает невиданные ранее возможности. В конечном счете все население находится на службе у бюрократов. Создана была бюрократия, чтобы служить всему обществу, а на деле она служит самой себе. Ты не первый и не последний, кто бился в ее сетях. Бороться с ней отдельному человеку невозможно, как засевшей в паутине мухе с голодными пауками. Но я пришел не для этого. Я принадлежу к обществу людей, которые в отличие от чиновников целью своей жизни и деятельности ставят помощь другим людям. Я долго приглядывался к тебе и решил сделать тебе предложение. Если ты мне откажешь, это поставит меня в затруднительное положение, но… только перед моей совестью.
Заинтересованный Луций никак не мог сообразить, куда клонит учитель, и решил на всякий случай его внимательно выслушать.
— Вряд ли в нашем Лицее ты мог что-либо услышать о масонах, и в мои намерения не входит раскрывать суть их религиозных и политических идей. Но, заботясь о твоем будущем, я предлагаю тебе сопровождать меня на ежегодное собрание Северной масонской ложи, где, может быть, представится случай познакомиться с выдающимися людьми нашего времени. Такое знакомство может сослужить тебе службу как в настоящем, так и в отдаленном будущем.
— Как прикажете, учитель, — сказал Луций, который, по правде говоря, знал от отца Климента, что общество вольных каменщиков возникло еще в начале второго тысячелетия. Под видом производственных совещаний строители храмов приобщались к эзотерическим знаниям посвященных. Таким образом сохранялась древняя вера и чистота религии. Но свои знания студент предпочел не афишировать и тем самым заставил почтенного наставника раскрыть несколько общих положений из жизни возродившегося племени масонов.
— Уже первый параграф нашего устава, — важно сказал Пузанский, — гласит, что масон по своему положению перво-наперво подчиняется законам морали, а уже потом принципам государственного и религиозного устройства той страны, где он обитает. В старые времена масоны невольно держались в каждой стране ее религии, какова бы она ни была, но теперь, когда человек свободно выбирает себе мировоззрение и веру, обязательна для вольных каменщиков только одна религия — быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести. Именно верность этим началам превратила масонов в объединение людей, связанных узами искренней дружбы; причем в ложе запрещены всякие религиозные, политические и национальные споры. В наше смутное время обращение к столь влиятельному источнику власти и мудрости никому нелишне. А тем более сироте, обремененному малолетним братом, и по тому, что я о нем узнал от директора его интерната, настоящей шпане.
— Что же вы меня так уговариваете? — улыбнулся Луций. — Я всегда рад помочь вам, тем более что вы не полагаете меня совсем уж бессмысленным балластом. Другое дело, как посмотрят на это лицейские римляне. Ведь организация масонов возникла гораздо позднее, чем, скажем, третий триумвират или сотворенный кесарем пожар. Могу ли я скрыть все происшедшее со мной здесь от других лицейских наставников, если же нет, то скажите, какой позиции мне в этом предмете держаться.
— Ты мне мозги не пудри, законник хуев, — приободрил его Пузанский. — Сам небось такой мастер соврать, что и некий барон позавидует. Нет на свете никаких моральных рецептов, дружище мой Луций, каждый сам ищет грань между честностью и подлостью. Я не делаю тайну из своей принадлежности к ложе, но и не афиширую ее. Я сейчас обрисую тебе один маленький, но приятный парадокс. Только быстро слетай ко мне в номер и захвати бутылочку водки из холодильника. Надеюсь, закусь у тебя имеется? Одна нога здесь, другая там. А я пока твоего брательника поэкзаменую. Хотя он из блаженных Андреевцев. Так они всю историю сводят к борьбе между Иосифом Сталиным и Архангелам Гавриилом. Кто у кого скорее член откусит, тот и прав. А ты, малый, не слушай, — пригрозил он Василию. — А то такое соврешь на экзамене, что всех наставников своих уморишь.
Только Луций вышел из номера и подошел к лифту, как две громадные тени застлали ему свет.
— Привет, кореш, как живешь-можешься, говорят, с татарвой концы сплел? Пойдем поздоровкаемся. — И взяв его, как ребенка, под мышки, человек из охраны, двухметровый Саша, о котором он и вовсе забыл, вдруг повлек его перед собой по длинному коридору. Оказывается, у бойцов неведомого фронта был точно такой же номер, как у Пузанского, не иначе устроенный одной и той же влиятельной рукой. Луция внесли в номер и без церемоний бросили на ковер к чьим-то ногам, обутым в модные шузы на очень высоких каблуках.
Луций присел на ушибленный кобчик и посмотрел наверх. Над ним возвышались в три фигуры, обступившие его с разных сторон. Одна из них, обутая в туфли с высокими каблуками, все-таки не очень возвышалась. Юноша встал на четвереньки, собираясь было выпрямиться, как ловкой подсечкой вновь был направлен на пол.
— Так, так… — проговорил знакомый голос с хрипотцой, и маленький седой человек с прекрасными глазами медленно сел на корточки рядом с ним.
И снова Луций с упорством, казалось бессмысленным, попытался встать, и снова был сбит уже более жестоким ударом на пол.
— Уймись, — приказал яму боец, причем по жестокости интонации было ясно, что он не шутит. — Уймись, иначе я тебе шею сверну.
— И ведь сверяет, усмехнулся седой и приблизил к лицу Луция свое морщинистое лицо, так что юноша без труда узнал в нем писателя Топорова. — Не страшно?
— Я чего, святой мученик, что ли, — огрызнулся Луций, но дергаться больше не стал. — Или мне больше всех надо? Мое дело чаю подать да бутылку открыть. Так что спрашивайте, сила ваша.
— Рубашку расстегни, — негромко приказал Топоров, внимательно изучая лицо Луция, — да живее. А то ребята помогут.
Недоумевая, Луций расстегнул ворот рубашки, потом одну пуговичку, вторую, третью.
— Вот взгляните, люди добрые, — констатировал писатель, брезгливо тряся головой и отворачиваясь. — Русский же человек по анкете и на вид наш: волосы светлые, нос курносый, глаза без всемирной скорби, даже наоборот, предельно наглые. А ни Христа в душе, ни креста на груди. Откуда берутся эти подзаборно-интернациональные юнцы, которым все равно: креститься или обрезаться. Скажите, славяне, что делать с такими вот чертями, которые плюют на родину-матушку, жидам сапоги лижут до блеска и срут где ни попадя. Неужели у тебя ни разу вот здесь, — Топоров с размаху шваркнул себя по левой стороне груди, — ни разу не екнуло: «Родина меня подняла, воспитала, пылинки сдувала, а я ее нехристям продаю»? Есть ли имя у тебя, не постыдная языческая кликуха, а имя христианское, коим божья тварь отличается, есть ли?
«Сумасшедший, — подумал Луций, — сейчас забьется в истерике, еще кусанет. Вот сходил за водочкой. А эти-то мафиози, неужели при нем? Ребята строгие, при них не шали.» Ему стало очень грустно.
— Сирота я, — сказал он, в самом деле себя жалея, — бросили в воду и сказали плыви. Вот и плыву, куда течением несет. Что касается матери-родины, то не слишком от щедрот ее благоденствовал. Впрочем, время для всех несусветное. Не обольщаюсь. Но и путать меня с действующими лицами не надо. Мое дело сторона, даже если брать просто по малолетству.
— Чего он несет? — проговорил старший из бойцов, изумленно на Луция глядя. — Хоть бы я полслова понял. Ну кореш, смотри, если ты издеваешься…
— Оставь, оставь, — сказал Топоров, пристально глядя на Луция и как бы его для себя оценивая. — Парень правильно говорит. Накипело у него. Никто не верит, не видит, не понимает, поживи как он, свихнешься. Нет, нет, поднимите-ка его. Садись сюда, мальчик…
— Могу ли я считать, что жизнью ты своей недоволен и хотел бы ее сменить? — требовательно спросил писатель после некоторой паузы. — И знаешь ли ты, среди каких людей находишься?
«Это уж точно знаю: среди бандитов», — сердито подумал Луций, но скорчил только недоуменную мину и пожал плечами.
— Выпала тебе честь, малый, не каждый такой чести сподобится, ты находишься в штаб-квартире Российского национального движения. Я — секретарь бюро партии, а вот эти мальчики — члены. И если бы ты не продался с потрохами своему жидовскому Лицею…
— Римскому, — перебил его Луций. — Евреев же к нам не принимают, так же как и в интернат к брату.
— Зато они в нем служат! — закричал вдруг Топоров. — Сколько у вас всего преподавателей: сто, двести?
— Человек тридцать.
— Так вот, даже если вообразить, что Пузанский там в единственном числе, то получается, что коллектив объевреен на три процента. А какой процент евреев в Московии, знаешь? Всего ноль целых три сотых. Остальные давно выехали. Так что учишься ты буквально в рассаднике жидомасонства.
— Признайся, твой патрон предлагал тебе пойти с ним на масонский кагал?
— Да что вы? — усмехнулся Луций. В который раз он попытался встать с колен, и попытка удалась.
По знаку Топорова боевики скрылись за спиной Луция и ничем не препятствовали ему.
— Мы никогда на темы, не связанные с учебой, не разговаривали. Пузанский, он же специалист по уличным агиткам, какие тут масоны?
«Напрасно я им», — дернулся было Луций, но было уже поздно.
— Спасибо, — засмеялся Топоров и пригласил: — Садись за стол, а то валяешься на полу, как чушка, прямо оторопь берет!
— Это я валяюсь?! Вы же сами меня на плоскость уложили, а теперь еще и издеваетесь.
— Ты, брат, не знаешь, что такое издевательство, — утешил его боец, — кстати, давай знакомиться. Женькой меня зовут, а его Александр, — он показал на своего молчаливого спутника.
— Мы с ним еще по железной дороге знакомы, — буркнул Луций.
— Ты, малый, пей чай, не куксись. Мы твоего жидка-воспитателя не тронем. На хрена он нам сдался. Так, шуткуем от нечего делать.
— Русский человек, увы, бывает бесцеремонным, — с затаенной грустью в голосе, задушевно проговорил Топоров. — У него понятие о достоинстве иное, чем у древних римлян.
Луций хотел было ответить в том духе, что и римляне тоже были не подарок, но решил пока помолчать и разобраться в происходящем поосновательней.
— Простые мы, простые, — поддержал Топорова Женька.
— А простота хуже воровства, — изрек глубокомысленно Александр, и оба охранника гулко захохотали.
Топоров не остановил, но и не поддержал, а как бы отделил соподвижников, процитировав великого русского писателя.
— Как писал Достоевский, мы можем быть мерзкими, но и в мерзости своей по свету и святости вздыхаем. Главное — народ наш светлый, светоносный. Как у Платонова: страна темная, а человек в ней светится.
Второй цитатой писатель окончательно отстранил от беседы телохранителей и в дальнейшем разговоре использовал их исключительно в качестве манекенов.
— Поясню свою мысль ссылкой на наставника нашего, возглавлявшего в конце прошлого века Союз духовного возрождения Отечества Михаила Антонова. Учил он, что существо каждого народа, как и каждого человека, трехсоставно: тело — душа — дух. Еда — для тела, музыка — для души, а вот дух — когда мыслью воспарил. В нормальном положении тело человека должно получать пищу от души, душа — от духа, а дух — от Бога. Иначе сказать, в каждом человеке есть святое начало, чисто человеческое и животное, то есть звериное.
У русского человека развиты начала святые и звериные. Он стремится к святости, но если она ослабевает, то берет верх звериное начало. Тогда русский человек впадает в анархию, начинает все крушить, появляются разины, пугачевы, махно, появляются и своеобразные методы ведения беседы. Но при этом стержнем русского характера является святость. Что скрывать, на Руси во все времена хватало беспутства, пьянства и разврата, но не было купца, не преклонявшегося перед Серафимом Саровским и не ставившем его неизмеримо выше себя, несмотря ни на какие заколоченные миллионы. Отсюда следует, что главное — в идеале народном. Когда он лишь в приобретательстве и комфорте — это гибель неминуемая, неизбежная. Избегать ее удавалось России не потому, что русские жили свято, главное, что святость была идеалом их души, и необходимо ей вернуться в заблудшие сердца. Если у русского преобладает святое начало…
— И звериное тоже нельзя исключить, — осмелел Луций, потирая ушибленные места.
Соподвижники оставили реплику без внимания, и Топоров продолжил:
— …то на Западе душа почти полностью поглощена человеческим началом, то есть гуманизмом. На самом деле нет ничего страшнее подобной цивилизации, когда божественное извергается из души, замещаясь человеческим. Возрождение человеческого, провозглашенное в средние века, на самом деле было возрождением языческого после тысячелетия правления христианства.
Когда Бог поселил на земле человека, он дал ему задание превратить нашу планету в Рай. В православном идеале Земля — это Сад Божественный, или Рай, а в Западном — сад плодоносящий. Православный возделывает свой сад во имя Бога, он бескорыстен, жертвенен и посвящает плоды Отцу своему, а гуманист растит сад для собственной радости и блага — он строит в нем Диснейленд и услаждает естество. Это попытка устроить рай на Земле окончательно и бесповоротно, но без Христа и против него.
— Я обучен методам борьбы за возвращение России ее истинной государственности, но со своей стороны вы, верно, мыслите возрождение державы иначе.
— Сейчас очень важно то, что называется стоянием за правду! Вот они, — Топоров кивнул на телохранителей, — голову положат на плаху истины, не жалея живота своего. Истинно честные, верные Христу души, — даже голос Топорова дрогнул, но с присущим ему мужеством идеолог сдержал себя, — беззаветные защитники Союза. Они могучи телом, но в стоянии за правду нужны также люди развитого ума, готовые за собой словом и способные выступить против лжи, которая ушатами льется на нас и нашу историю.
Возможно, Топоров ожидал, что Луций рванется в ряды его организации, но юноша не прореагировал, и писатель терпеливо продолжал вербовку.
— Во-первых, необходимо переписать историю последнего столетия. Сейчас огульно опрокидываются достижения советского периода и, наоборот, превозносятся двадцать перестроечных лет. Наверное, наш народ в тысяча девятьсот семнадцатом году мог пойти по иному пути, но случилось то, что случилось. Если бы масонское правительство Керенского выкупило землю у помещиков и вернуло ее крестьянам, провело бы другие внутренние преобразования, заключив мир с Германией, то никогда бы не удалось большевикам захватить власть.
Были, конечно, справедливо признанные перегибы в коллективизации, но ведь это был традиционно-патриархальный русский уклад, модернизированный Сталиным, и не в одиночку он изгонял кулаков и разорял деревни. Представь себе вернувшегося после гражданской войны в прохудившуюся хату с порушенным хозяйством и плачущими детишками красноармейца, да если еще и без ноги? А вокруг отъевшиеся хари откупившихся и разжиревших на эксплуатации так называемых «хозяев жизни». Как тут не спросить себя: за что боролись? И как усомниться в праведности гнева защитника родины?
Нужно отдавать себе отчет, что никогда Россия не была такой великой и могучей державой, как на рубеже сороковых — шестидесятых годов двадцатого века! Была создана настоящая народная культура, была добротная живописная школа, жизнь, наполненная психологией оптимизма. Мы ощущали себя наследниками победителей, строителями нового мира. Какие создавались фильмы, как встречали Гагарина, неужели всенародная радость могла бы расцветать под дулом пистолета! А теперь выйди на улицу, и найди радость хоть на одном лице.
В то время много было людей честных душой, пусть богоборцев, но истинных, правдивых, рвущихся к добру, ищущих и отдающих жизнь за правду, как они ее понимали. Единство страны, величие России для людей было выше не то что каких-то мифических демократических принципов, выше личного счастья. Надоумить бы эти невинные души о путях Божественного промысла, и возликовала бы земля Российская. Однако прорывающиеся ростки были загублены доморощенными демократами. В процветающей, благодатной и еще недавно счастливой стране миллионы беженцев без крова, не прекращающиеся войны, пожары. Думали запереть Дух, а заперли народы на клочочках земли. Себялюбие разгородило всемирную державу крепостными стенами границ, забыв, что в Православии наибольшим грехом считается гордыня, а величайшим достоинством — смирение.
Тут Луций решил как можно лояльнее продемонстрировать собственную позицию.
— Скажите, а разве не проявление гордыни брать на себя роль спасителя человечества?
Не обнаружив в вопросе подвоха и, более того, одобрив сообразительность и умение юноши следовать в русле рассуждений толкователя, Топоров продолжил:
— Спасать человечество — доля невероятно тяжелая и неблагодарная, но эту ношу возложил Господь на Православие, и нет такой страны, кроме России, которая могла бы эту ношу выдюжить. Спасительное учение и воплощение Божественного замысла обязано быть сохранено до конца Света, и потому России никогда не сойти с исторической сцены. Русский народ исчезнуть не может и не исчезнет! Однако «вера без дел мертва есть», а значит, должно быть ассенизаторам, расчищающим путь в капиталистическом дерьме Богом избранному народу.
По завершении тирады Топоровым телохранители вмиг встрепенулись. Тихий Александр куда-то вышел, и сразу вернулся с запотевшей бутылкой «Посольской».
— После первой не закусываем, — пробасил похожий на монумент Женька, но Топоров его не одобрил.
— Шутишь, — сказал он серьезно, — парень пить не свычен, окосеет, и что он ответит на вопрос: «Где был да с кем пил»? Ты, Леша, — так он переделал на свой лад имя Луций, — больше на картошечку налягай да на огурец. Простая русская пища никогда не выдаст. А всякие там кошерные цимусы пускай в государстве Израиль кушают.
После второй рюмки он твердо перешел к делу:
— Ты, братец, сам понимаешь, что мы не просто так тебя в компанию взяли. Все нам про тебя известно, вплоть до уличных твоих знакомств. И я тебе скажу, ты без нас пропадешь. Ощиплят тебя и голой курой в кипяток. И щенок несмышленый, братец твой, погибнет с тобой вместе. Опора тебе нужна, и эту опору мы тебе даем. Но только уж не взыщи. Словом или взглядом предашь — удавим.
— И имя смени, не позорь Родину, — пробурчал молчаливый Александр. — Какой ты к чертям Луций, это же имя для голубого лесбиана, не иначе.
— Ты у нас будешь проходить под кличкой Леша, а когда всех иноверцев и инородцев сотрем с лица земли нашей исконной, в паспорт тебе новое имя впишем. Пострадай, Леша, за народ русский, поддержку тебе всегда дадим.
«Как еще страдать-то?» — хотел спросить Луций, но благоразумно промолчал.
11. ТАТАРСКАЯ МЕЧЕТЬ
В Москве все мечети были давно разрушены, а в Санкт-Петербурге стояли. И не одна, а десять, двадцать мечетей стояло, больше чем кирх и синагог и буддийских храмов, вместе взятых. Потому что евреи, католики и буддисты вместе не обладали сотой частью того, что имел мусульманский мир. В Москве тоже строили мечети и муэдзины, рвали горло по утрам, и третья по численности нация, Москву населяющая, разбитая на двадцатки для улучшения управления, заполняла мечети и блюла заповеди Магомета. Да только после удачного штурма Москвы, когда казалось, что повторяется история восемьсотлетней давности и хан Шамир уже определял размер дани, все до единого татары были из Москвы выдворены и мечети снесены. Москва стала для мусульман запретной страной, вражеской территорией, каждая вылазка на которую опасна для жизни, а вот богатый беспечный Санкт-Петербург по европейскому воспитанию своему мусульман приютил.
В клетушке чуть отдаленной от зала татарской мечети, возведенной еще в начале XX века, почти вплотную друг к другу, поджав под себя ноги, устроились четверо мужчин. Самым импозантным из всех, несомненно, был Шавкад Шакирович. Сравнительно молодой, но уже со значком депутата департамента на груди. Как и положено слуге народа, одет он был строго официально, хотя и с некоторым налетом щегольства: черный костюм, ослепительная рубашка, голубой с серым галстук. Он небрежно развалился на широкой кушетке, и глаза его бегали, ни на ком конкретно не останавливаясь, поскольку на самом деле он уже всех новых людей изучил и мог сказать, кто чего стоит. Вот, например, владелец крупнейшей в Петербурге экспертной фирмы «Анис и сыновья», господин Мухаметшин. В отличие от самого Шавкада, который всегда держался в тени, Анис частенько выступал по телевидению, благо, один из каналов принадлежал его фирме. Дела он вел в основном на Западе, за что Шавкад в душе его осуждал, но молчал. Рядом с Анисом расположился имам мечети, совсем еще молодой человек. Но внешность обманчива, и за блестящими глазами и гладкой кожей скрывался высокий ум, чьи комментарии к священным книгам были признанны на всем мусульманском Востоке. Самый молодой среди всех — Никодим. Не как равный он сидел среди блестящего собрания петербургского духовенства, а скорее как надежный телохранитель, доверенное лицо для тайных дел. Один из всех, он был в чалме, наполовину скрывавшей лицо, и в шелковом легком халате, за который на ташкентских и ашгабадских рынках не жалели и жеребенка.
Беседу вел Анис, а остальные только слушали и изредка между глотками душистого чая вставляли замечаний.
— Я пригласил на наш достархан двух уважаемых братьев из Младотурции и Туркменистана. После того, как мы переговорим приватно, прошу вашего разрешений, наш духовный глава, позвать их.
Имам спокойно склонил голову набок.
— Я уже имел честь доложить свое мнение по поводу наших экономических интересов в Европейском регионе России.
— Ну, положим, азиатского региона России уже десять лет как не существует, — перебил его Шавкад Шакирович, — который внутренне был взбешен тем, что первым выступает не он.
— Есть такая простая поговорка у гяуров: поживем-увидим, — усмехнулся Анис. — Итак, чтобы иметь возможность и дальше вкладываться в Россию, нам необходима стабильность региона. Эта стабильность до сих пор обеспечивалась нулевой разницей потенциалов на оси Москва — Санкт-Петербург, когда процветание и богатство Северной Пальмиры нивелировалось разрухой в Москве. Надо оценить тот факт, что основные инвестиции мусульман шли в долгосрочные отрасли, такие, как строительство, транспорт, связь. В случав победы Национал-патриотов, а они где-то прослеживается, мы теряем не столько наши вложения, в конце концов, они обеспечиваются всей нашей мощью, сколько влияние. Введение краснокоричневой диктатуры объективно создаст на месте ослабленной двуликой России тоталитарный кулак. И не надо думать, что новое правительство не продержится долго из-за бескормицы и отсутствий промышленных товаров. Феномен россиян в том, что падение жизненного уровня у них связывается с повышением адреналина в крови нации. Хотя эпицентр путча — Москва, зона нестабильности, предшествующая ему, будет создаваться через Петербург. Нашей задачей в текущий период является жесткий агентурный контроль всех правохристиан и экстремистов от красноленинцев до анархистов. По данным нашей агентуры, через несколько дней готовится покушение на регента, чтобы вызвать нестабильность в стране и уменьшить возможность мирного урегулирования противодействующих претензий. Акция подготовлена к торжествам в Северной масонской ложе по случаю приезда посланца Московского Христианского Собора к регенту по странной, а может быть, и не очень странной ошибке лица еврейской национальности. Я хочу вас заверить, что присутствующий здесь начальник нашей контрполиции, несмотря на молодость, уже успел обложить своей сетью красноправых и только ждет моего сигнала, чтобы начать операцию по предотвращению терактов. Что для этого им сделано, Никодим доложит сам.
Никодим поднялся, низко поклонился имаму и сказал:
— В ближайшем окружении посланника к регенту есть мой человек. Он находится у меня на крючке и будет передавать информацию о всех передвижениях своего шефа вплоть до дня торжества. Так что, с этой стороны мы прикрыты и теракта не допустим. С другой стороны, мои бойцы только и ждут начала операции, чтобы в качестве ответных ходов физически воздействовать на боевиков Топорова вплоть до полного их уничтожения. Сейчас мы считаем нападение на красных преждевременным. Не имея здесь поддержки, малыми силами невозможно справиться с боевиками, которые хорошо вооружены и базы которых охраняются. Однако если произойдет взрыв, наши руки автоматически развяжутся, и мы начнем укладывать негодяев. В это время наши усилия по закону векторов наложатся на действия полиции и спецвойск и будут иметь максимальный эффект. Кроме того, мы избежим преследований уголовного характера.
— Вот тут вы не угадали, — неприязненно сказал Шавкад Шакирович, и лицо его приняло совсем кислый вид. — Пока эта власть жива, она неустанно будет пробовать утвердиться юридическим путем и отыгрываться на ярких уголовных преступлениях за свою несостоятельность в областях социальных и гражданских. Впрочем, план воздействия на лидеров собак-христиан кажется мне достаточно надежным.
Уважаемый глава нашей мечети, — добавил он наклоняясь к молчащему имаму, — нет ли у вас желания и необходимости сказать уходящему свое напутствие.
Лицо имама осталось неподвижным. Он слегка улыбнулся простодушному юноше, который говорил о таком, о чем и думать было преждевременно, но именно такие юноши и давали гарантию будущих побед. О методах же он ничего знать не хотел, и поэтому осуждал Никодима за то, что тот без удержу молол языком.
Имам встал и медленно шагнул по ярко-синему ковру к каменной стене, уперся в нее рукой, посмотрел вниз сквозь узкое окно-бойницу, потом вернулся к столу. Так как имам не садился, все поняли, что он готовится к выступлению, и оно должно быть необычным.
— Исследуя историю взаимоотношений России с азиатским миром, я наткнулся на странную закономерность. Языческая Киевская Русь приняла христианство после длительных колебаний правящего анклава. И сам князь Владимир с ближайшими политическими и военными сподвижниками, и каста жрецов долгое время колебались, какую из трех религий избрать: католическую, православную или ислам, В конце концов идея христианства, точнее православия, оказалась ближе, потому что связи с Константинополем явно преобладали над контактами с Римом, а ислам был скомпрометирован в народном сознании образом хищного степняка-мусульманина как естественного врага земледельца. В последующую историческую данность со стороны католицизма наблюдались многочисленные попытки переигровки. Так же и само православие вечно раздиралось так называемыми ересями и расколами. Однако ни разу я не встречал в целеустремленных и систематических процессах внедрения ислама в русский народ. Если считать за аксиому, что традиционные места возникновения ислама — это арабский мир, то легко проследить, как победоносно продвигалось наше учение в Африку и Азию, где многие народы постепенно просветлялись учением пророка Магомета. Однако до сих пор европейская часть России так и осталась христианской. А ведь опыт большевиков, которые за какие-то ничтожные десять лет смогли сделать почти весь народ атеистами, мог бы показать, что не так уж глубоко въелась христианская мораль в души русских. На самом деле под лакированным слоем христианина-моралиста в каждом русском сидит первобытный языческий зверь. Укротить его может только учение пророка Магомета.
Сейчас от России, грубо говоря, остались только рожки да ножки, и на географической карте ее легче всего вообразить в виде гантели, где есть два увесистых шара — Москва и Петербург и узкий коридор между ними, сохраняющий власть империи. Все остальное пространство бывшей России напоминает испещренную лоскутками простыню, где христианские квадратики со всех сторон окружены мусульманами и наоборот. Но эта окороченная и бессильная Россия в ближайшие десятилетия по логике исторического развития восстанет в который раз и обретет территориальный статус великой державы. Думать иначе — значит не считаться с реальностью. Слишком много русских осталось на так называемых независимых территориях, чтобы они долго могли остаться необъединенными. Итак, с точки зрения исторической перспективы нет более удачного момента для исламизации российской империи, чем настоящий две тысячи пятый год. В этом плане для нас необычайно важно не дать национал-патриотам дестабилизировать ситуацию в стране и захватить власть. Что касается конкретных путей проникновения ислама, то это другой разговор, и я хотел бы услышать, что вы мне можете сказать.
Имам сел и мертвая тишина воцарилась в каморке. Только сейчас глобальность поставленной задачи стала ясна собравшимся.
После некоторого молчания поднялся недавно прибывший из Ашгабада президент кооперативного банка господин Анвар. Чуть постарше и полнее большинства присутствующих, он имел круглое, отороченное черной бородкой лицо и маленькие, скрытые толстыми линзами очков глаза.
— Для нас единственный путь проникновения в Россию — это создание азиатских и смешанных компаний с большим количеством работников. Когда уровень жизни таких рабочих будет значительно отличаться от среднего уровня, а в Москве это очень легко, мы можем поставить вопрос о принятии ислама высокооплачиваемыми русскими рабочими и служащими как условие гарантированной работы. Правда, есть мнение, что Москва очень болезненно отнесется к исламизации на первых порах, поэтому такие вещи надо делать тихо, не афишируя. Понимая важность поставленной задачи, только Средняя Азия готова инвестировать в Московию средства, достаточные для создания дополнительных ста тысяч рабочих мест.
— При этом надо учесть, — добавил Анис, улыбаясь, — что все равно рабочая сила в Московии на порядок дешевле, чем в среднем в Азиатском регионе, так что такая политика может принести и непосредственную прибыль.
— Только при законе о гарантии иностранных инвестиций, — добавил делец из столицы Младотурции господин Мирза.
— Такие гарантии уже трижды принимались начиная с тысяча девятьсот двадцать второго года и трижды отменялись при смене правительств. Без таких гарантий вкладываться в Россию Восток будет только на уровне правительственных субсидий, что не даст необходимого уровня кредитования, — вмешался всезнающий Анис. — Таким образом, вторым направлением нашей активности должны быть усилия мусульманского лобби в правительстве и парламенте для срочного принятия закона об инвестициях.
— И все-таки главное, — вернул себе слово Анвар, — не в том, сможем ли мы внедрить в Россию ислам или нет, а в том, что нам нужна слабая и разоренная страна, не имеющая сил для политического руководства, а не сильная, сжатая в кулак держава. И если придется выбирать между исламом и разрухой, мы выберем…
— …и то и другое, — с улыбкой на губах уточнил имам.
— И третий путь введения мусульманства в стране — это путь дискредитации религии и священников, путь сложный и кропотливый, но действенный, если работать через телевидение и прессу, понемногу подливая информации широкой публике, — добавил до сих пор молчавший Шавкад Шакирович, многозначительно завершая обсуждение.
Посетители имама, подгоняемые его плохо скрываемым нетерпением, церемонно распрощались и несколько более поспешно, чем следовало бы по ритуалу, поодиночке покинули мечеть. Последним уходил Никодим, но в отличие от остальных он только сделал вид, что исчезает, сам же прилепил к стене у входа в каморку имама крохотное передающее устройство, именуемое «клоп», спокойно перешел Каменноостровский проспект и устроился на скамеечке в сквере напротив дома политкаторжан, дожидаясь таинственного посетителя главы духовенства.
Признав в позднем визитере мистера Цяня, соседа Луция по поезду и своего по сумасшедшему дому, он удовлетворенно усмехнулся собственной догадливости и приблизил приемное устройство к уху.
Господин Цянь, голос которого было невозможно спутать ни с каким другим на свете, начал первым:
— Я хочу передать высокоуважаемому господину имаму большой привет всех членов политбюро.
— Большое спасибо, — с этими словами, как сообразил Никодим, имам расшаркался перед важным гостем.
— Как здоровье господина имама, не очень он устает?
— Не устаю. Сегодня было заседание Революционного Совета.
— Это хорошо, я очень рада. Характеризуйте обстановка Татарии.
— Обстановка нехорошая и все ухудшается. В течение полутора последних месяцев со стороны Нижнего Новгорода было заброшено несколько тысяч военнослужащих в гражданской одежде, которые проникли в город Чебоксары и воинские части. Сейчас вся чувашская дивизия находится в их руках, включая артиллерийский полк и зенитный дивизион, который ведет огонь по нашим самолетам. В городе продолжаются бои.
— Сколько человека дивизия?
— До десяти тысяч человек. Все боеприпасы и склады в их руках. На парашютах сбрасываем оружие и продукты нашим верным войскам, которые ведут сейчас с ними бой.
— Рабочий, городской мещан, служащий Чебоксары вы имеете поддержка? Есть кто ваша сторона?
— Активной поддержки среди населения нет. Оно почти целиком находится под влиянием монархических лозунгов. Население ведет себя в зависимости от обстановки. Куда его поведут, туда оно и пойдет. Сейчас жители на стороне противника.
Чем дольше Никодим вслушивался в неторопливый диалог беседующих, тем хуже становилось у него на душе. Впервые он задумался об этом после истории с родителями Луция, а теперь окончательно убедился в том, что мусульмане его постоянно обманывают то ли из-за природной недоверчивости, то ли потому, что не признавали его своим. «Но должны же они помнить, что Оттоманская империя развалилась из-за того, что прекратилась ассимиляция!» — возмутился юноша и сам себя успокоил этим утверждением, поскольку слышал его многократно от самого имама.
Однако информация о происходящем в Татарском ханстве для Никодима, как профессионального разведчика, была намного важнее собственных рассуждений, и он снова обратился в слух.
— Мы считаем, что днями Чебоксары падут и будут полностью в руках противника, — продолжал докладывать оперативную обстановку имам. — Затем противник начнет формировать новые части, разбавляя чувашей нижегородцами, и пойдет дальше в наступление на Алатырь, Цивильск и другие города.
— Вы нет сил их поражать?
— Если бы были…
— Жду ваши предложения эта вопроса.
— Мы просим, чтобы вы оказали практическую и техническую помощь людьми и вооружением.
— Эта вопроса очень сложная.
— В противном случае русские пойдут в сторону Ульяновска и дальше в сторону Казани.
— Ульянов — кличка ваша национальная героя Ленин? Так кажется…
В голосе товарища Цяня Никодим услышал глубокое удовлетворение от собственных революционно-коммунистических знаний.
— Не совсем так, — осторожно поправил китайца имам. — В самом деле большевистское имя Ленин, а Ульянов — это фамилия. Хотя я очень сомневаюсь, что это была настоящая фамилия, поскольку недавно выяснилось, что Ленин был татарином. Поэтому мы вернули бывшему областному центру его имя.
— Впрочем, эта несущественно в настоящая время, — отмахнулся от разъяснений имама недовольный товарищ Цянь.
— Действительно, — торопливо согласился с ним имам и подобострастно продолжил: — Так как же насчет помощи? Я убедительнейше прошу, чтобы вы ее нам оказали.
— Мы должны эта вопроса посоветоваться, — вернулся в состояние прежней невозмутимости китаец.
— Пока вы будете советоваться, не только Чувашия, но и Казань падет, и будут еще большие трудности для мусульманского мира, а там и для Китая. Мы сегодня сделали заявление российскому правительству, передали его по радио, указав, что Москва вмешивается во внутренние дела Татарского ханства. Петербург нам ответил, что Москва вышла из подчинения регенту, а Нижний Новгород давно объявил себя вольным городом сразу на двух реках Оби и Волге и с тех пор какая-либо связь с ним отсутствует.
— А Нижнему Новгороду не считаете нужным сделать заявление?
— Завтра или послезавтра сделаем такое же заявление по Нижнему Новгороду!
— Сообщите надежность ваша армия. Не можно собрать войско, ударить Нижний?
— Мы считаем, что армия надежна. Но снять войска, чтобы направить их в Нижний Новгород, мы не можем, так как это ослабит наши позиции в других городах.
— А если мы быстро дать дополнительно самолеты и оружие, вы не можете формировать новая части?
— Это потребует много времени, Чебоксары и Алатырь падут. Моральный дух чувашей после этого поднимется. Нижегородцы, да наверняка и москали направят в гражданской одежде солдат, которые начнут захватывать города. А русские и чуваши в других местах ханства их поддержат.
— Какие вы хотеть наша сторона политические акции, заявления? Вы иметь соображения по этому вопроса в пропагандистском плане?
— Надо сочетать пропагандистскую и практическую помощь. Я предлагаю, чтобы вы на своих танках и самолетах поставили татарские знаки, и никто ничего не узнает. Ваши войска могут быть переброшены с пересадкой в Астрахани. Тогда все будут думать, что это правительственные войска.
— Не хочу вас огорчать, скрыть нет возможно. Известно Петербург два часа. Известно вся мира. Все кричать интервенция из Китай. Хотя по правда, — и тут товарищ Цянь глубоко вздохнул, — вся земля до Волга должна по праву принадлежит трудолюбивая китайская народа. Впрочем, земля родственная народа, — тут же успокоил он имама, — нам не нужен. Если быстро слать вам танки, боеприпасы, вы найдешь специалиста использовать эта оружия?
— На этот вопрос ответа я не могу дать. На него могут ответить китайские советники.
— Значит, я можно понять так: Татария хорошо готовый военный кадры нет или очень мало. Китай прошли подготовка сотни татарских офицер. Где они?
— Большая часть их — мусульмане-реакционеры, как они еще называются, братья-мусульмане. Они обвиняют нас в коммунизме и буддизме. На них положиться не можем, не уверены в них. Мы можем набрать некоторое количество людей, прежде всего из молодежи, но потребуется большое время, чтобы их обучить.
— А из рабочий класс нельзя брать?
— Своего рабочего класса в Татарии очень мало. Все почти русские. Но, когда нужно будет, пойдем на любые меры. Хотим, чтобы вы к нам послали китайских монголов, чтобы они могли водить танки. Пусть оденут татарскую одежду, татарские значки, и никто их не узнает. Эта очень легкая работа, по нашему мнению. По опыту Азербайджана видно, что эту работу легко делать. Они дают образец в войне с Арменией.
— Конечно, вы упрощаете вопроса. Это сложная политическая международная проблема. Мы еще раз держать совет и дать ответ. Моя думает, вам нужно пытаться создать новая части. Нельзя рассчитывать одна сила людей со стороны. Карабах народа выбросил весь младотурка, и вся другая даже русская народа стать теперь их сторона.
— Посылайте боевые машины пехоты самолетами.
— Вас иметь надежный водитель? Не уйдет к противнику с машинами? Ведь наш водитель язык не знать.
— А вы пришлите машины с водителями, которые знают наш язык.
— Я и ожидал такой ответ от вас. Мы товарищи совместная борьба не стесняться друг друга. Мы вам сообщать окончательное мнение.
— Передайте наше уважение и наилучшие пожелания лично Генеральному секретарю, членам Политбюро.
— Спасибо. Передайте привет всем товарищам по борьбе. А вам я желаю твердость в решении вопросы, уверенность и благополучие.
Не дослушав фраз расставания, Никодим без сожаления выключил приемное устройство, стремительно проскользнул в мечеть и, сорвав со стены «клопа», столь же мгновенно растворился в ведущем к метро подземном переходе.
Луций вернулся к себе в номер в ужасном настроении. Все, ради чего он приехал в Санкт-Петербург, казалось, рушилось. Родители исчезли бесследно, вокруг закручивались какие-то неведомые интриги, которые при всей своей призрачности уже обретали очертание занесенного над головой кулака. Несмотря на позднее время, он не спешил тушить свет и закрывать дверь на ключ, чувствуя, что события дня еще не завершились. И точно, дверь бесшумно отворилась, и в номер вошел Никодим. Увидев его, Луций отвернулся лицом к диванной стенке и демонстративно стал стягивать с себя штаны.
Однако Никодим не стал к нему вязаться, а по известному своему нахальству полез в ванну, из которой послышались звуки текущей воды и блаженные охи и вздохи. Не долго думая, обозленный Луций, потихонечку ступая босыми ногами по ковру, дошел до двери ванной комнаты и закрыл внешнюю задвижку. После этого погасил в ванной свет, благо, выключатель был в коридоре.
«Мойся, сукин сын, — злорадно усмехнулся он, думая, что это-то как раз в полной темноте никак невозможно и, значит, через пять, максимум через десять минут Никодим запросит пощады. — Пусть даст честное слово, что уберется восвояси, — мстительно решил Луций, не желая более видеть обманщика. Однако прошло пять, потом десять минут, но из ванной не доносилось ни звука. — Любопытство мое рассчитывает, — подумал Луций, — только зря старается. Помокнет, помокнет да запросит пощады». — И с этими мыслями он заснул, хотя и не желал этого.
Проснулся Луций оттого, что яркие электрические огни били ему в глаза. Уже было собрался он пойти выключить свет и спать дальше, как случайно вспомнил про Никодима. Прошло два часа, как он запер в темной комнате своего бывшего друга, но задвижка так же была заложена на засов, свет в ванной не горел и тишина прямо давила на уши. Уже как следует испугавшись этой непредвиденной и поэтому опасной тишины, быстренько он включил в ванной свет и отодвинул задвижку. Ничего от этого не изменилось. Ни всплеска, ни голоса. Дикой показалась ему эта тишина, он чуть толкнул дверь, тихо проскользнул в ванную и увидел запрокинутое лицо Никодима, который, наполнив бассейн ровно настолько, чтобы не захлебнуться, спал голышом в теплой воде.
12. ДИСНЕЙЛЕНД
Забытый всеми, Василий медленно брел по набережной Невы и грустил. В последние дни у Луция вовсе не было времени им заниматься, а сверстников в центр не пускали, так что и поиграть было не с кем. Склянки на Адмиралтействе пробили лишь десять часов утра, а явиться в Юсуповский дворец вместе с братом на церемонию открытия регентом новой масонской ложи следовало только к шести. Он уже забыл то почти ушедшее из памяти время, когда голодал в интернате, и безо всякого интереса окидывал взглядом торговые ряды, уставленные пирамидами яблок, арбузов, абрикосов, бананов и прочих заморских диковин. Несколько раз к нему подходили одетые в кричаще красно-золотую форму охранники, но пропуск гостя Особого Внимания, который отдал ему брат для прогулки, превращал высокомерных стражей порядка в лучших друзей детей.
По непомерно длинному мосту он перешел через Неву, отчего получил большое удовольствие, и, уже выходя на берег, мальчик был остановлен двумя симпатичными молодыми людьми в зеленых мундирах с серебряными эполетами и малиновой лентой через плечо. После короткого разговора, в результате которого личность Василия оказалась вполне благонадежной, один из полицейских порекомендовал:
— Малыш, если у тебя есть деньги, то вместо того, чтобы здесь околачиваться, ты бы лучше съездил в Диснейленд. Рядом, кстати, зоопарк, так что и со зверьем познакомишься. Стоимость билета всего пять долларов. Каждые полчаса вон с того причала, — он указал мальчику на блистающее огнями воздушное сооружение у стены Петропавловской крепости, — отправляется специальный диснейглиссер. Всего через двадцать минут ты будешь в сказочном парке, о котором в вашей унылой Москве и слыхом никто не слыхал.
Василий послушался доброго совета и рысью направился к пристани. Подойдя к ней вплотную, он увидел красный домик на высоких резных ножках, на котором золотыми буквами, похожими на кренделя, было написано «Касса».
Мальчик встал в небольшую очередь, болтающую сплошь на иностранном языке, сунул руку в карман и достал кошелек, в котором сиротливо съежилась двадцатидолларовая ассигнация. Две девчонки его возраста подошли вплотную и пристроились сзади.
— Слабо? — спросила одна из них, а вторая расхохоталась прямо в спину Василия.
Он обернулся. Высокая девочка с синими глазами и чуть вздернутым носиком смело смотрела на него.
— Пари, — сказала она серьезно. — Я поспорила с Таней, что ты за нас заплатишь. На целый бокал шампанского и шоколадку. Слабо?
— А у вас денег нет? — довольно глупо спросил Василий, к тому же от волнения у него защекотало в носу.
Мальчик чихнул и зажмурился, а когда снова открыл глаза, нахальной девочки уже не было рядом. Она стояла чуть в стороне от него и, презрительно прищурив глаза, говорила своей подруге:
— Я точно продула. Этот пионер, наверно, только что приехал на собаках из Нижнего Тагила. Возьмем билеты и пойдем кутить в Ленд.
— На собаках?.. — оторопь взяла Василия, тем более что к собакам он относился без любви.
— Нет, — отозвалась девочка пониже, — я не могу в это поверить. Чтобы молодой человек вел себя так не по-джентльменски с гимназистками, для этого может быть только одна причина — у него разболелся живот.
— Или он идиот, — продолжила Татьяна. К счастью, последнюю фразу Василий не расслышал. Очередь как раз дошла до него, и он положил свою двадцатку на тарелочку.
— Три билета! — неожиданно для себя объявил он и уже задним числом стал себя оправдывать: «Все-таки вместе веселее. Да и места незнакомые, как там одному бродить».
— Возьми, — просто сказал он стоящей за ним в очереди девочке и протянул билеты.
Девочки, ничуть не смущаясь, продолжали так же насмешливо смотреть на Василия, но билеты брать не торопились. Все-таки немного так постояв, они вышли из очереди и втроем направились на причал. Его чуть раскачивало, а теплоходик на подводных крыльях уже деловито запихивал в свое чрево стайку детей в желтых бойскаутских галстуках.
— Вы первыми, — предложил Василий, изо всех сил стараясь быть галантным и пропуская девочек на борт глиссера.
Всю дорогу он смотрел в окно, смущаясь первым заговорить, а девчонки сидели рядом и, не обращая на него внимания, все болтали о чем-то неведомом: о выставке французского парфюма в Екатерининском садике, о какой-то сверхмодной эстрадной певице, сведшей с ума — как они говорили — оба полушария.
Собравшись с силами и преодолевая смущение, Василий наконец спросил:
— Вы уже ездили в этот, как его, диксиленд, что ли?
Со смехом поправив его, подружки сообщили, что в Диснейленд ездят регулярно лет с пяти, знают там каждый трюк и с закрытыми глазами могут обойти все аттракционы и лабиринты. И что на самом деле детский городок это просто игра, а серьезные люди едут любоваться зверями в Национальный парк. Оказалось, что парк этот раскинулся на громадной территории, и что интереснее всего наблюдать за обезьяньим молодняком, который ведет себя точь-в-точь как мальчишки на большой перемене.
Пока они болтали, гранитные берега Невы сменились низким кустарником, а потом пышным густым лесом. Несколько раз навстречу проплывали яхты, неся на своих мачтах белоснежную парусину. Потом лес отодвинулся от берегов и появилась высокая ажурная решетка, которая вилась вдоль побережья вплоть до конечной остановки.
Прямо у пристани стояли коляски, запряженные пони на четверых. Девчонки завизжали и, позабыв о Василии, плюхнулись в первую же свободную коляску. Василий не стал состязаться с ними в быстроте. Чувствуя себя вновь покинутым, с тем же самым гадким настроением, как и утром, он демонстративно отстал, пока остальная детвора и родители рассаживались по коляскам и каретам.
Однако, прежде чем лошади тронулись, синеглазая девочка соскочила с подножки и бросилась к Василию. Ни слова не говоря, она схватила его за руку и, преодолевая легкое сопротивление, затащила в коляску.
— Гордый, — сказала она с некоторым удовольствием и крикнула подруге: — Татьянка, держи вожжи!
Пони медленно двинулся вперед, потом стал разгоняться и настигать тех, кто уже несся вскачь по темной аллее, ведущей в глубь парка.
О таких развлечениях Василий даже не слыхал. Охрипнув от крика в доме с привидениями, двадцать раз запутавшись и снова открывая выходы в лабиринтах, воюя с индейцами и инопланетянами, он ни на минуту не выпускал из своей руки маленькую твердую руку Нины. Если бы не она, никуда бы он не ушел из парка до самого вечера, но ее желания стали для него вдруг самыми главными, и вот вместо лагуны, где их поджидал пиратский корабль, они очутились в чистеньком кафе. Девчонки совсем оживились и назаказывали такую кучу сладостей, что пятерка в кармане Василия совсем съежилась и изъявила желание затеряться в прорехе кармана. Поэтому последующие два часа он просидел чуть пришибленный, с ужасом думая о последующем расчете, и даже бутылка шампанского, лихо заказанная черненькой Татьяной, не вывела его из состояния «грогги».
Нина весело болтала с подругой, но увидев оцепенение мальчика как-то по-женски сразу поняла его причину и со смехом заявила Василию, чтобы он не строил из себя купца первой гильдии.
— Сегодня у меня праздник, — сказала она таинственно, — за все расплачиваюсь я сама. — Василий, у которого полегчало на сердце, стал для виду возражать, однако никого этим не обманул. Уже с легким сердцем выпил он первый раз в жизни бокал с пузырьками и также первый раз в жизни поцеловал розовое ушко, которое подставила ему Нина вместо щечки или губ для поздравления.
Чуть захмелев, Василий почувствовал себя очень хорошо и с восторгом принял уговор более к Диснею не ходить, а поехать в Национальный парк, до которого от Диснейленда было рукой подать.
Однако сколько раз Василий встретил в парке диких зверей, столько же раз он пожалел, что легкомысленно поддался уговорам. Животные оказались вовсе не рассажены по клеткам, а гуляли на свободе, ограниченные только естественными препятствиями — такими, как обрыв, канава или узенькая граница, утыканная острыми шипами.
Они вышли из «мерседеса» — местного такси, и, как только вошли в чуть сырой, полутемный, желто-зеленый от месячной засухи лес, перед Василием на склоне высоченной, усеянной валунами горы появились два желтых гривастых льва и стали на них смотреть.
Отчаянно труся, Василий все же оставался напротив рва, наполненного водой ровно столько времени, чтобы не обнаружить свой страх перед спутницами, которые безо всяких колебаний рассматривали гордо стоящих напротив них животных.
— Я читал у одного знаменитого натуралиста, — сказал Василий, подавляя в себе желание укрыться за спины своих спутниц, — что прыжок разъяренного льва составляет одиннадцать метров. Кто-нибудь знает, какая ширина у этого рва?
— Метров пять, — навскидку ответила Нина, а потом, сообразив, добавила: — Так ведь львы совсем не разъяренные.
— А если они разъярятся? — резонно спросила Таня и вдруг стала быстро пятиться от края обрыва. — По-моему, нет смысла дожидаться этого момента.
Василий с большим облегчением последовал за ней. Однако Нина осталась стоять у края рва, и, видимо, львам это не понравилось. Тот, что был крупнее, вдруг хрипло и яростно зарычал и стал бить длинным хвостом по впалым бокам. Второй же лев осторожными мелкими шажками стал подходить к рву, опустив морду вниз и чуть волоча лапы.
— Нина, беги! — закричал отчаянно Василий. Все трое, не разбирав дороги, ринулись в лес. К счастью, на каждом шагу в парке были расставлены указатели, которые вывели их к более безобидным экспонатам. Более трех часов провели они в Национальном парке, а осмотрели только его малую часть. Однако, как оказалось, и Василию и его новым приятельницам надо было позарез вовремя вернуться в город, и, с большим сожалением оторвавшись от созерцания животных, они вышли на тропинку, ведущую к Неве. Справа от них за низкой проволочной сеткой открылся яркий, усыпанный цветами луг, по которому гуляли сияющие на солнце радужные птицы. Увидав людей, целая стая этих птиц ринулась к сетке, привыкнув, что проходящие мимо туристы бросают им корм. И тут же у Василия спонтанно родилась идея поймать Нине на память павлина. Ни слова не говоря, он перекинулся через сетку и оказался в птичнике.
Нисколько не испугавшись, павлины, фазаны и какие-то изумрудные утки тотчас окружили его, раскрывая клювы. Но только рука мальчика потянулась к спине павлина, как противная птица гнусаво замяукала и со всех ног бросилась в сторону. Василий, не раздумывая, бросился за ней. Павлин, увидев, что его догоняют, вдруг остановился, повернув голову, и зашипел как змея. Тут уже Василий бросился наутек от павлина, который бежал, помогая себе крыльями, и норовил на ходу клюнуть его в пятку. Однако мальчик оказался быстрее, в два прыжка добрался он до сетки и тут же споткнулся об какого-то не разворотливого фазана, который оказался у него на пути. Он шлепнулся рядом с неуклюжей птицей, встал и увидел, что фазан от страха, потеряв координацию, бьется грудью о сетку. Тотчас он подхватил птицу под крылья и с криком «Держите!» перебросил через сетку. Сам он спрыгнул мгновением позднее прямо в руки сторожа, который, оказывается, наблюдал за его действиями с самого начала и был вне себя от ярости.
Сторож был очень толстый человек в круглой панаме и брезентовом френче, и Василий, наверно, смог бы вырваться и убежать не хуже того павлина, если бы на крик сторожа не набежало еще трое смотрителей парка, с которыми он совладать не смог. Девчонки тем временем убежали, чему Василий был очень рад, фазан же был пойман сторожем как вещественное доказательство.
Обступив Василия плотным кольцом, служители, все, как один, в брезентовых френчиках и шортах с длинными электрошоками на боку, стали обсуждать, куда его лучше отвести и какие меры предосторожности принять, чтобы он не сбежал. После долгих, колебаний один из служителей, молодой, еще крепкий парень, привязал руку мальчика к своей свернутым вчетверо полотенцем и повел по узкой дороге в глубь парка. Тесная дорожка не позволяла идти всем вместе, поэтому остальные охранники шли следом, очень при этом веселясь. Фазан этот, как на грех, оказался самым ценным в своей стае и стоил больше автомашины. По их словам выходило, что Василию за кражу национального достояния в особо крупных размерах грозит тюрьма на срок не менее трех лет, а каждый из охранников получит за бдительность медаль и премию в размере годового оклада.
Василий шел, плохо соображая, что он наделал и куда пропали его спутницы, когда постепенно говор позади него стал затихать. Видимо, сторож почуял неладное, потому что он вдруг резко остановился на повороте, сунул фазана Василию в свободную руку и стал поспешно развязывать полотенце. Кругом стоял плотный шумящий лес, но что-то в этом шуме смотрителю не понравилось. Скорее всего то, что за спиной его пропали голоса товарищей. Сняв с бока электрошок, смотритель жестом приказал Василию оставаться на месте, а сам пошел по своим же следам назад. Оставшись один, Василий вместо того, чтобы убежать, плотнее прижал к груди фазана и, как только смотритель скрылся из виду, бросился за ним. Привидилось ему, что львы вырвались на волю и жрут теперь всех встречных и поперечных и оставаться одному показалось, ему страшнее, чем оказаться в будущем в тюрьме. Фазана же он придерживал со смутным желанием откупиться от льва, если тот станет на него бросаться. Обойдя куст, мальчик рассчитывал увидеть спину служителя, но нашел только пустую тропинку, уходящую к реке. В двух шагах от него к дереву был приколочен указатель с надписью: «Пристань». Василий, от страха не выпуская из рук фазана и через каждый шаг оглядываясь, побрел по тропинке обратно, надеясь отвадить зверей своим независимым видом. Каждую минуту он ожидал услышать рык и удар громадной головы в его незащищенную спину. Через несколько шагов мальчик опрометью бросился бежать. Ноги сами несли его по примятой траве, пока он не выскочил на асфальтовую мостовую и не увидел идущую навстречу машину. Он перебежал улицу и заметил внизу у воды пристань, а рядом с ней теплоходик. Тут вспомнил он, что билеты остались у девчонок и, отдышавшись, положив фазана за пазаху, потихоньку пошел к пристани. Он никак не мог понять причины исчезновения своих врагов, кроме той, что их съели дикие звери. Однако это объяснение как-то не очень вязалось с праздничной атмосферой парка и заверением девочек о походах сюда раз в месяц, а то и чаще. В некотором недоумении спустился Василий вниз, уныло глядя на уже отошедшее от пристани суденышко, как вдруг в небольшой нише между пристанью и отвесной каменной стенкой заметил Нину и Татьяну, которые стояли скрытые от всех и о чем-то спорили. Подойдя поближе, он понял, что они вовсе не спорят, а это Татьяна утешает плачущую Нину.
Увидев Василия, Нина вытаращила глаза и изменилась в лице. Стоящая спиной к нему Татьяна продолжала гладить ее по голове и что-то убедительно доказывать, но Нина вдруг оттолкнула ее и бросилась к Василию.
— Ты от них убежал? — крикнула она удивленно. — Боже мой, а я уж себя изругала. Нам надо было идти вместе с тобой, и все объяснить в дирекции. Этот фазан, он же сам вылетел из ограды, а они…
…Прервавшись, она с ужасом посмотрела на рубашку Василия, которая вдруг как бы надулась ветром. Это фазан, внезапно очнувшись от летаргии, решился пробить себе выход через легкий материал.
Василий поймал его и торжественно вытащил на свет. В последних лучах солнца птица показалась детям божественно прекрасной. Она молча сидела в руках Василия и только косила вверх сверкающим синим глазом.
— Отпусти ее, — попросила Нина, — пусть летит.
— Но она не умеет летать и погибнет здесь, — сказал Василий. — Ее надо бы отнести обратно в птичник, но я боюсь, — честно признался он.
И рассказал потрясенным девочкам, как его привязали к сторожу, как повели на суд и расправу и как таинственно улетучились его мучители. Девчонки, охая, восторгались, но тоже, несмотря на большой опыт пребывания в Национальном парке, ничего путного придумать не могли. Подошел новый теплоходик, и дети, прикрывая фазана от взглядов пассажиров, опустились вниз и, тихо беседуя, просидели всю дорогу от парка до конечной остановки. Нина дала Василию свой и Танин телефон и, забрав злополучного фазана, побежала на свой автобус. Жили они с Таней на окраине громадного города и почему-то очень боялись опоздать.
Василий вышел вместе с ними на набережную Невы, долго махал им вслед, пока обе девочки и яркий сверток между ними не исчезли за углом громадного дома. Тут он стал соображать, как ему лучше добраться до масонского дворца, и с ужасом обнаружил, что в хлопотах этого длинного дня вовсе забыл место сбора. Не зная выхода из запутавшейся ситуации, он хотел уже ехать в гостиницу, как вдруг рядом с ним остановился длинный черный автомобиль с затемненными окнами.
Бесшумно отворилась дверь, и длинная рука, как пушинку, вовлекла Василия внутрь машины. Только он раскрыл рот, чтобы крикнуть, как заметил, что лица вокруг ему вполне знакомы. Это были боевики, сопровождавшие Пузанского и их с Луцием из Москвы.
— Вот так, — сказал один из бойцов, хлопая его по спине, — вместо того, чтобы на шею броситься от счастья, он решил поголосить. А между прочим, если бы не мы, ты бы сейчас кормил клопов в знаменитой петербургской тюрьме под названием «Кресты». Надо же такое придумать, — обратился боец к сидящему впереди человеку. — Малый с барышнями пошел слоняться в зверинец и саданул из птичника фазана.
— Сколько сейчас тянет такая птичка? — осведомился с легкой небрежностью человек за рулем.
— Тысчонку золотых рублей, — охотно ответил ему второй боец.
— Ты, босяк, поделишься, что ли? Да ты чего замолчал, значит, не понял еще, кто тебя спас. Знаешь ли ты, что из-за тебя вот он вынужден был зайти за ров на львиную территорию.
— Мой вес — сто двадцать, а среднего льва — четыреста, — отозвался добродушный его товарищ. — Слава тебе господи, что удалось обогнуть логово и махнуть в оборотку через ров.
— Зачем ты ко львам лазал? — спросил недоверчиво Василий.
— Чтобы успеть, — отозвался боец. — Мы же тебя пасли с утра. И потеряли только после твоей покражи. Надо было служителей перехватить, пока они далеко не ушли. Из нас следопыты аховые, в лесу без тропы мы бы сами заблудились. Так что кусочком фазана-то придется поделиться. Ты сейчас куда чалишь?
— Что же вы сделали со служителями? — спросил Василий поспешно.
Однако бойцы поскучнели и отвернулись от него.
— Живы твои служители, малость приглушенные только. Если их никакой зверь не съест, уже завтра смогут дозором идти. Правда, я в этом изрядно сомневаюсь, потому что сам их вязал.
— Ты, брат, на вопросы старших все же отвечай, — вкрадчиво шепнул сидящий впереди человек. — А то как-то неудобно получается. Тебе все, а ты рылом водишь в сторону. Не уважаешь старших.
— Я сейчас в масонскую ложу, — с готовностью ответил Василий. — На принятие учителя моего брата в главные масоны.
— Понятно, — после некоторого молчания отозвался сидящий впереди человек, — дело святое, не пропусти. В каком месте у тебя стрелка с братом и учителем?
— Какая стрелка? — недоуменно проговорил Василий.
— Встреча то есть.
— Дворец какого-то князя на Мойке, — с усилием вспомнил Василий.
— Князя Юсупова?
— Да, точно, Юсупова, а то я забыл фамилию и не знал, куда мне ехать.
— Пропал бы ты без нас, парень, — рассмеялся боец по имени Женька. — Ладно уж, довезем тебя до места, точно, Демьяныч?
— Имен всуе не произноси, — оборвал его сидящий впереди Топоров, так и не признанный мальчиком, и добавил: — Довезем, конечно, довезем.
Еще, казалось, висело в воздухе обещание довезти, как автомобиль затормозил, зашаркал резиновыми колесами и бессильно ткнулся носом к столбу.
— Вылезай, — сказал водитель, — далее ехать накладно.
— Чего там? — повелительно спросил сидящий с ним человек.
— Перекрыт проезд, все машины шманают. И тихари на каждом углу.
— Умерла так умерла, — лихо крикнул Женька. — Даешь, братцы, подарок для нашего кореша Пузанского. У кого есть чего-нибудь с собой?
— Эй ты, Вася, — строго обратился к мальчику Александр. Не такой внушительный, как его товарищ, он все же производил впечатление могучего, атлетически сложенного человека. — Я хочу отблагодарить учителя за все, что он для нас сделал, что именно, тебе знать рано, и подарить ему такую удивительную бутылку, равной которой видел ни один фараон или царь российский.
Тут же из темного угла достал он коробку и поставил Василию на колени.
— Да ты не бойся, раскрой. Такой красоты во всем Питере не сыскать.
Так как Василий медлил, его сосед сам раскрыл коробку и вытащил из нее бутылку красного цвета, по форме напоминающую Московский Кремль. Даже при тусклом свете автомобильной лампочки бутылка искрилась множеством резных граней и содержимое ее соблазнительно светилось и булькало. Александр торжественно убрал бутылку в деревянную коробку и вручил Василию.
— Только не вздумай открывать, — предупредил он, — а то еще не тому передашь. Например брату своему или друзьям его закадычным. Как, тебе самому нравится подарок?
— Очень, — сказал Василий изо всех сил сжимая тяжелый футляр.
— Ну и чеши, браток, пока не передумал, — напутствовал его Александр и, отворив дверь, дал юноше начальный, еле заметный посыл, от которого тот отлетел прямо к тротуару.
Тотчас дверь машины захлопнулась, и она, фырча, медленно отъехала назад.
Книга третья. ВРАГИ ОБЩЕСТВА
1. СЕВЕРНАЯ МАСОНСКАЯ ЛОЖА
Василий вышел на тротуар и огляделся. Слева от него текла довольно широкая река, по всей видимости Мойка. Впереди, вдоль высокой железной ограды начинался какой-то гигантских размеров желтый дом, может быть, и дворец. Сжимая в руках футляр с «Кремлем», Василий пошел вперед, высматривая, у кого бы спросить, тот ли он нашел дворец. Пройдя несколько шагов, он наткнулся на парочку, которая мирно обнималась посреди общей суеты. Когда Василий проходил мимо, молодой человек, одетый, кстати, в маскировочный костюм десантника, бросил на него проницательный взгляд, вовсе не свойственный влюбленному. Почему-то Василий ничего не захотел у него спрашивать, а просто прошел вперед. Метрах в десяти от входа во дворец его остановил высокий молодой парень с азиатским разрезом глаз, таких он в Москве не встречал, и грубо попросил предъявить документы. Прочитав пропуск, он вдруг сделался очень вежлив, выразил сожаление, что не может проводить его непосредственно в церемониальный зал, где все уже собрались и теперь только ждали приезда регента.
Едва от него отойдя, Василий снова был остановлен, и причем весьма грубо, солдатами в форме интернациональных войск ООН. Именно такие солдаты составляли личную охрану регенту о чем Луций еще утром его предупреждал. Тотчас футляр с бутылкой был вырван у мальчика из рук, имя Пузанского и пропуск, столь чтимый в Санкт-Петербурге, не сыграли для дикарей в касках никакой роли. Внимательно оглядев Василия, похлопав его по карманам брюк и даже заставив снять ботинки, солдаты принялись тормошить футляр. Они осторожно сняли верхнюю крышку и замерли, пораженные красотой миниатюрной копии кремля.
— Вот это класс! — произнес над ухом Василия твердый старческий голос. — Мальчик, откуда это у тебя?
Василий поднял глаза и увидел перед собой пожилого мужчину с бритым надменным лицом и небольшой аккуратно подстриженной бородкой.
— Отвечай регенту, — ткнул его в шею солдатский кулак.
— Это подарок моему учителю, господину Пузанскому, — пролепетал Василий, — от друзей. Мы с ним приехали из Москвы, а вообще-то там водка, — добавил он на всякий случай.
— Честный мальчик, — услышал он сквозь смех окружающих довольный голос регента. — Должно быть, в Москве еще не перевелись порядочные люди. Пропустите мальчика, и пусть он передаст подкрепительное письмо моему другу, который сегодня проходит церемонию посвящения. Мне кажется, капелька водки из такой вот посудины ему сегодня не повредит.
— А он капельками не пьет, — сказал Василий, — он из стакана пьет…
Тотчас чья-то рука зажала ему рот, и Луций быстренько оттянул брата в сторону от регента. Тот, сопровождаемый блестящей придворной свитой, улыбаясь, что-то еще сказал страже и наконец скрылся за оградой дворца.
— Сейчас не время, но потом я тебе устрою капельку водки, — пробурчал Луций, увлекая мальчика за собой. — Где ты шляешься, черт тебя побери! Я уже начал беспокоиться! — И он сердито ущипнул Василия за нос.
«Тебе скажи, так ты совсем озвереешь», — подумал Василий, и им овладело желание избавиться от футляра, который уже отягощал ему руки.
— Тут учителю подарок, — упрямо заявил он и посмотрел с надеждой на суровое лицо Луция, — можно я передам? Меня так просили.
— От кого подарок? — запоздало спросил Луций, но брат исчез, вприпрыжку сбежав с лестницы в полуподвал, куда начали уже собираться приглашенные. Войдя после света в громадный полутемный зал, усеянный по стенам тускло горящими свечками, Василий стал вертеть головой, ища Пузанского, точнее, соображая, как именно передать ему подарок, чтобы не попасться. Он нашел учителя мирно стоящим на коленях наравне с другими, более пожилыми и заслуженными членами ордена. Регент стоял рядом с ним, чуть склонившись к обитому черным столу, на котором лежали вещественные доказательства легитимности новой ложи. Тут был присланный из Великой ложи Востока талисман, означающий вечную жизнь его обладателя.
Луций остался в вестибюле дворца и задумался. Все слышанное им в Москве о масонах сводилось к тому, что это таинственная и почти террористическая организация. Представить себе, что он сам внезапно станет ее членом, было невозможно. Теперь же, стоя на пороге масонской ложи, он понял, как мало он знает о братстве вольных каменщиков. Натура Луция была устроена так, что он не любил ничего делать вслепую. С раннего утра он пытал Пузанского, желая выкачать из него побольше сведений о масонах, но тот с девяти часов принимал разных посетителей, а к двенадцати изволил принять несколько рюмок коньяку и войти в замечательное настроение. Луций так ничего от него и не добился, хотя в порыве злости не раз порывался объявить, что не собирается вступать в масонское общество с закрытыми глазами в прямом и переносном смысле и с ним не поедет.
Юноша не мог знать, что накануне Пузанскому сделали чрезвычайно лестное для него предложение возглавить Московское отделение Северной ложи в качестве Великого коммодора. Кроме всего, это означало, что он становится влиятельной в Москве фигурой и вновь может вернуться на политическую сцену. Поглощенный мыслями о будущей своей деятельности, Пузанский как-то проглядел «бунт на корабле» и был в полной уверенности, что Луций сам с радостью примет посвящение. Он уже решил по возвращении сделать Луция главой молодежного отделения ложи и начать прямо с лицея. Его почему-то не останавливал тот факт, что во времена Римской империи масонов не существовало в природе. Там, правда, и своих сект хватало.
Ничего об этом не зная, Луций решил дождаться присланного за ним масона и объявить, что не собирается становиться свободным каменщиком. Однако все получилось не совсем так, как он планировал. Он еще глядел с беспокойством в сторону, куда скрылся брат, как прямо перед ним возникла мощная фигура ритора и в одно мгновение на глазах его очутилась черная повязка. Вслед за ней он почувствовал, как мягко спадают на пол части его одежды. Как-то неудобно было сопротивляться, и Луций целиком отдал себя в опытные руки. Его взяли за руку и аккуратно повели по нескончаемым ступеням вниз. Юноша чувствовал, как по его ногам пробежал холод. Они были в подвале, правда, не в том, где в то же самое время проходил обряд самого высокого класса.
— Сейчас я тебя оставлю, — предупредил ритор, — но знай, что ты имеешь право снять повязку, лишь когда уже не слышен будет звук шагов.
Подождав, когда шаги ритора стихнут, Луций сорвал повязку с глаз и оглянулся. Он находился в небольшом, кубической формы помещении, в котором ни окон, ни дверей не было видно, так искусно все было замаскировано.
Свод потолка едва дозволял стоять, выпрямившись, человеку высокого роста. Действительный размер помещения скрывался затянутыми черной холстиной стенами, тем более что оно было едва освещено. Из-под потолка свешивалось бра: три тонкие свечи, которые давали рассеянный свет. Когда глаза чуть привыкли, Луций увидел в углу черный стол и два стула. На столе лежали берцовые человеческие кости и череп, из глазных впадин которого выбивалось синеватое пламя горевшего спирта. С ним соседствовали Библия и песочные Часы. В противоположном углу застыл человеческий скелет. Подойдя к нему совсем близко и вытаращив глаза, Луций прочитал надпись над ним: «Сам таков будешь». В двух других углах комнаты стояло по гробу. В одном из них лежал мертвец со следами тления, правда без запаха, — что несколько утешило Луция, зато другой гроб был пуст, и юношу это несколько озадачило.
Время шло, однако никто не появлялся. Луций попытался отвлечься от невеселой картины, которую вынужден был наблюдать, но и тут ему не везло. Уже давно единственной истинной радостью для Луция были редкие встречи с Линой, затем воспоминания о ней. Больше всего на свете он хотел быть с Линой и знал наверняка, что именно так и будет, вот только в его мысли все нахальнее влезала подозрительная китаянка. Фальшивая подмена постоянно оттесняла Лину, и нельзя сказать, чтобы делала это совсем неприятно, в ней было что-то волновавшее юношу, и это что-то общее, несмотря на цвет кожи или разрез глаз, объединяло девушек.
Вот и теперь, в воспоминаниях ему было не разделить маленькую разбойницу с дочкой хитрющего китайца. Он целовал свою спасительницу и, отрываясь, видел «обидчицу», его обнимала Лина, а на ее месте оказывалась китаянка, усмешка Ли раздвигалась в улыбку Лины, подмигивание одной обращалось в узенькие глазки другой. Не помогали и такие с виду объективные показатели, как рост или стройность фигуры. Обе были хрупкими, невысокими.
Через четверть часа в комнату вошел обрядоначальник. Во всяком случае, так он представился. Он был в длинном, до пят плаще, украшенном различными значками и лентами и в круглой шляпе.
— Ты помещен в черную храмину, — торжественно объявил он юноше, который уже мелко дрожал от холода и неизвестности. — Это храм размышлений, доступ куда запрещен непосвященным, — Тут в голосе его прибавилось патетики. — В мрачной храмине, блистающей сквозь печальный скелет и тлен слабым светом, ты видишь голую мрачность и в мрачности той разверстое слово Божие. Может статься, ты вспомнил слова священного писания.
Луций не стал разочаровывать обрядоначальника незнанием обряда и решил промолчать. Не дождавшись ответа, наставник продолжил:
— Вот эти вещие слова: «Свет во тьме светится и тьме его не объять». Человек наружный тленен и мрачен, но внутри его есть некоторая искра нетленная, придержащая тому Великому, Всецелому Существу, которым содержится Вселенная, — и закончил: — Цель нашего ордена: сохранение и предание потомству тайного знания; исповедание членов ордена, исправление собственным примером вне общества находящихся, а также всего рода человеческого. Для этого орден требует исполнения семи должностей: повиновение, познание самого себя, отвержение гордыни, любовь к человечеству, щедротолюбие, скромность, любовь к смерти.
Обрядоначальник вновь надел Луцию на глаза повязку, обнажил ему левую грудь, приставил к ней острие лезвия кинжала и вывел из подвала со словами:
От нас, злодеи, удаляйтесь, Которы ближнего теснят; Во храмы наши не являйтесь, Которы правды не хранят! Мужайтесь, братья избранны, Небесной мудрости сыны, Помыслите, к чему вы званны, Что были, есть и быть должны!В это время Василий с восхищением разглядывал залу, убранную пурпурными тканями с вышитыми по ним серебряными и золотыми символами. Кресло, на котором сидел Пузанский, почти совершенно скрывалось за тяжелым черным бархатом балдахина, усеянного кроваво-красными крестами. Над балдахином было прикреплено изображение орла с золотой короной. Командор Пузанский сидел посреди всего этого великолепия в пурпурном широком камзоле и такого же цвета лосинах, сзади его прикрывала черная мантия. Вокруг него стояли полукругом масоны высших ступеней, которые участвовали в посвящении. Все они были одеты в короткие кафтаны черного цвета, опоясанные красными поясами. Далее из числа масонов вышел один с обнаженным мечом и стал задавать вопросы, которые Василий, как ни стремился, понять не мог.
— Первейшим ли вы признаете долгом, что Высочайшее Существо надобно почитать, страшиться и любить? Признаете ли вы начертанное в Откровении его за истинное? Признаете ли вы всех людей за братьев своих?
Пузанский на все вопросы отвечал утвердительно, и после некоторого молчания, когда прозвучал неизвестный Василию псалом, встал и подошел к регенту.
— Обязуюсь, — сказал он веско и склонился на одну ногу, — ничего об ордене никому не открывать, не выяснив предварительно, что он истинный свободный каменщик; ложе всегда быть верным и крайним послушанием соблюдать ее обряды; собратьям же своим помогать во всех возможных случаях.
Слова его вызвали у присутствующих ропот одобрения. Регент, одетый теперь, как и все, на манер средневекового рыцаря, объявил, что прием совершился. Тут же все Пузанского окружили и стали поздравлять. Среди прочих подошел и Василий, несмотря на то, что вольные каменщики смотрели на него с некоторым удивлением. Однако никто Василию ничего не сказал, и он благополучно добрался до учителя.
— Подарок вам, — сказал Василий важно, и кремль перешел из его рук в руки Пузанского.
Тотчас тот, изнемогая от жажды особого рода, потянулся к бутылке, но окружающие преподавателя масоны затянули гимн и Пузанский вынужденно присоединился к ним:
Чувство истины живое Вас в священный храм влекло; О, стремление святое! Сколь ты чисто, сколь светло! Разгони пороков мрачность, Возроди любви прозрачность, Ею в нас зажги сердца; Да любовью воспаленны, В ней согласно погруженны, Воспоем всех благ Отца. О, восторги несравненны, Каковых не знает мир. Чувства здесь любви бесценны Устрояют светлый пир. Здесь утехи без отравы, Без раскаяния забавы, Льют отраду в нашу кровь, Где же чувств таких приятство? О, живи вовеки братство! Царствуй, царствуй в нас любовь!Торжественными напевами, успокаивая страсти души, масоны дружно двинули в ломящуюся от яств столовую. По дороге процессия ненадолго задержалась в приделе у большого золоченого кувшина с водой. Префект, окунув три пальца правой руки в воду, окропил ею братьев, говоря: «Господи, омой нас от нечистоты страстей и дай сердце чужое пороку».
Благословенные вольные каменщики облепили покрытый черным шелком стол в форме греческого креста. Меж двух громадных осетров на серебряных блюдах скромно ждали своего часа запеченные барашки. Мелкие закуски были представлены вазочками с икрой обеих цветов, всякого рода колбасами, изумрудом зелени, паштетами, сырами, прочими мыслимыми и не до конца представляемыми холодными блюдами. На золотых подносах лежал хлеб, прикрытый белым полотном с золотой ветвью акации, которая олицетворяла собой солнце. Хрустальные чаши с орлами были наполнены до краев красным вином и также прикрыты белым полотном.
Приборы, яства и питье располагались на столе правильными, параллельными рядами. На хрустальных бокалах были вытеснены розы, на фарфоровых тарелках «резвились» пеликаны, а столовое серебро блестело шестигранными звездами.
Первым делом префект прочитал короткую молитву, поднявшийся следом регент произнес дружно поддержанную вольными каменщиками здравицу императору и, извинившись, откланялся. Заждавшиеся масоны дружно приступили к товарищеской трапезе.
Новоиспеченный командор Пузанский чувствовал себя отвратительно. Мало того, что во время всей церемонии не было у него ни глотка в горле, так и регент отбыл не обсудив с ним ничего из будущей его деятельности. Ему уже казалось, что после того шага, который он совершил практически, продав национальное движение и вступив в противную им партию, должен он был регентом особо отличен и приближен. Чем больше он думал на эту тему, тем более понимал, что у директора лицея и компании наверняка были какие-то особые обстоятельства, при которых выбор пал на него. Мало того, что он по крови и воспитанию всегда был далек от русского национал-освободительного движения, так и визит к регенту по рангу положено было совершить кому-то из лидеров или официальных лиц монархического толка. Его же положение, как посла неофициального, вовсе не согласовывалось с принятием должности командора. Но те, кто посылал его, наверняка знали о его взглядах, и если они сознательно выводили его на почти утраченный контакт с регентом, стало быть, и просчитывали вариант, при котором доводы давнего друга будут для него убедительнее, чем топоровых.
Машинально положил он себе какой-то закуски и потянулся к чаше с красным вином, как вдруг вспомнил, что за пакет передал ему мальчишка-андреевец. Он пошарил по столу взглядом в поисках подходящей емкости и, решив, что от добра добра не ищут, лихо опрокинул после какого-то дежурного тоста серебряную чашу с красным. Винцо оказалось доброе, и стоящий за спинкой его кресла служитель тотчас наклонился чтобы долить ему чашу.
— Вот что, — сказал Пузанский, — ты как, бутылки открывать умеешь? — Он снял крышку с коробки, вынул бутылку, еще раз полюбовался мастерски сделанным слепком с Кремля. — Прямо не отходя, открой ее и налей! — скомандовал Пузанский.
Под его бдительным наблюдением служитель, отставив кувшин с вином, обмотал горлышко бутыли салфеткой, ввинтил в пробку штопор и дернул.
Луция взрыв застал в приемной, где мастер ложи сообщал ему необходимые знаки и условные слова для контакта с московскими и приезжими масонами. Взрывной волной, от которой вылетели все стекла и распахнулись запертые двери, его и мастера бросило на паркетный пол и сверху засыпало Дождем стеклянной пыли. С трудом Луций поднялся на ноги. Мысль о брате пронзила его. Он выбежал из приемной в вестибюль. Уже кого-то понесли, закрытого портьерой и недвижного. Крики и едкий дым шли снизу. Луций вместе с остальными бросился на них, по дороге схватывая обрывки ничего еще не значащих слов:
— Мальчишка, мина, бутылка водки, Кремль… — эти и другие слова выскакивали и вились вокруг него, пока не стали складываться во что-то угрожающее.
Юноша вбежал в трапезную и остановился. Ничего нельзя было различить в этом аду, где горели шелковые портьеры и часть стены. Мимо него проносились какие-то люди, возможно пожарные; одетый в обрывки красной материи какой-то уцелевший чудом масон сидел на полу. Рядом с ним уже тлели паркетные доски, но он не замечал этого. Луций осторожно приподнял его и стал выводить. Масон не сопротивлялся. Уложив контуженого масона в вестибюле, Луций вновь хотел вернуться вниз, но тут на его шее повис Василий. Мальчик был вне себя, он все время оборачивался, оглядывался, на щеке его была ссадина, из которой еще лилась кровь.
— Это я, — прошептал он в отчаянии, — это я передал, меня, наверно, казнят.
— Что передал? — переспросил Луций, холодея, и вдруг весь ребус разом сложился у него в голове.
В бутылке была взрывчатка, а Василия использовали как пешку, чтобы сделать очередной ход — взорвать Северную ложу масонов.
Мимо пробежали пожарные, деловито развертывая пояс, в вестибюль полускрытая метущейся толпой уже входила шеренга людей в погонах. Еще оставался свободным проход наверх, и Луций, подхватив Василия под мышку, рванул по широкой белокаменной лестнице на второй этаж. Пробежав по длинному коридору, они укрылись в одном из залов и огляделись. Зал был великолепен. Посреди его стоял дубовый стол, покрытый зеленой, тканной серебром скатертью с расставленными на ней зажженными канделябрами. Стены были облицованы плитами из зеленого камня, и вмонтированные в них зеркала создавали иллюзию необыкновенного простора. Целый ряд бронзовых люстр с хрустальными подвесками завершал убранство.
Едва братья захлопнули дверь и огляделись, как в коридоре послышались громкие шаги. Василий съежился и приготовился нырнуть под стол, но Луций крепко схватил его за плечо.
— Нельзя, первым делом заглянут под стол, — прошептал он.
Тотчас братья подбежали к подоконнику, и отогнув край толстой зеленой шторы, спрятались на нем. Окно располагалось над самым портиком подъезда, и братья могли видеть, как подтянулось оцепление полицейских справа, как грузовые машины, полные солдат, подъезжали с другой стороны и брали единственный выход из дворца в плотное кольцо.
Дверь отворилась и вновь захлопнулась. Кто-то медленно, спокойной походкой дошел до середины зала и, как предсказывал юноша, легко нагнулся и заглянул под стол.
— Да нет, все чисто, — прозвучал другой голос, — кто сейчас сюда сунется, когда внизу такая мясорубка? Можем поговорить спокойно.
— А о чем, собственно, говорить? — прозвучал голос, который показался юноше знакомым. — Регент жив и еще более насторожен, чем прежде. А голова московского фраера, которая вылетела от взрыва в окно, никому была не нужна. Теперь, возможно, скоро начнутся репрессии против партии, хотя мы и схоронили концы в Москве.
— Так ты хочешь сказать, что мы свое не получим? — вкрадчиво спросил другой голос. — Смотри, брат, ошибешься. Мы свое дело сделали. Бомбу передали прямо по назначению. А если нужного человека там не оказалось, так надо было и взрыв остановить, а не ставить под удар организацию из-за десятка-другого карасей.
— Щука-то утекла!
— Что-то мы, браток, не о том говорим. Мы свое дело сделали, так что заплатить придется. Иначе мы молчать не будем, и история с «Московским Кремлем» быстренько дойдет до ушей регента. Ты бы лучше подумал о другом. О тех, кто бомбу передавал. Если копы захватят их раньше нас, я за твою голову не дам ломаного гроша. Нам-то что… Сегодня мы в Питере, завтра на такое дно уйдем, что с собаками не сыщешь. А вам куда деваться? Вниз не спрячешься. Слишком поплавок большой. Так что готовьте, ребята, денежки да прикиньте, сколько мы получим за головы тех сопляков. И не тяните. Прямо сейчас скажи, нам начинать охоту?
Тут братья невольно вздрогнули, словно говорящий действительно видел их.
— Была же договоренность, — слабо сопротивлялся Топоров, которого Луций узнал, едва выглянув в щелочку, — что вы уберете пацана во время суматохи.
— Невозможно! — отрезал его собеседник. — Кто же знал, что через два дома от дворца открылось военно-инженерное училище. Такая туча курсантов набежала, впору делать ноги.
— Я могу считать, что мы договорились? — спросил Топоров у того самого третьего боевика, которого Луций лишь однажды мельком видел в поезде. — Конечно, деньги будут вам выплачены на указанные счета. Но нам нужно любой ценой пресечь утечку информации.
— Питер — город большой, только спрятаться в нем негде приезжим людям, — усмехнулся боевик. — Обговорите плату за каждую голову, а мы пока начнем поиски. Думаю, дальше отеля эти хлопцы не уйдут. А уйдут, найдем хоть и под землей. А сейчас лучше нам очутиться подальше от этого осинового гнезда. Когда я смотрел план здания, то обратил внимание на пожарный выход. С последнего этажа по нему можно перебраться на соседнюю крышу.
Как только собеседники вышли, братья соскочили с подоконника.
— Мы должны держаться за ними, — сказал шепотом Луций, — но себя не обнаруживать. Любыми способами надо выбраться из дворца. Иначе замучат немцы.
Осторожно крадясь за гулко топающими по этажу заговорщиками, братья выбрались на последний этаж и нашли пожарный выход. Узкая лесенка таилась в тесном промежутке между двумя домами, так что, спустившись на несколько ступеней, можно было без особого труда перелезть на крышу более низкого соседнего здания. Мальчики осторожно выглянули вниз и увидели, как Топоров, к тому времени спустившийся ровно на один этаж, перелезает с лестницы на крышу. Второй заговорщик, который вылез раньше, уже стоял, опершись о трубу, и ждал его, не делая, впрочем, никаких попыток помочь. Когда Топоров к нему присоединился, он протянул длинную руку и помог тому пролезть в чердачное окно. Затем сам ловко спрыгнул внутрь чердака.
Братья, проделав те же самые манипуляции, очутились на чердаке соседнего здания и, чуть-чуть выждав, спустились в другой двор, который через черные ходы и какие-то внутренние садики довел их до тихой улицы, куда вовсе и не доносилась суета вокруг дворца князя Юсупова.
У братьев еще оставалось порядочно денег и одежда их совершенно не пострадала, так что они решили в отель не ходить, а понаблюдать за ним со стороны. Если же неожиданно они выяснят, что за ними слежки нет, тогда Луций рискнет пробраться в номер и забрать оттуда остальные деньги, потому что ясно было, что иначе они совсем пропадут.
Не подвергаясь более никаким преследованиям, дошли они до Исаакиевской площади и устроили себе наблюдательный пункт прямо с угла Почтамтской улицы. Однако простояв несколько минут, они поняли, что так только привлекут к себе внимание, кроме того, у Луция возник вообще замечательный план. Отведя брата к Медному всаднику, он поймал по благоприобретенной лихой петербургской привычке такси и велел его ждать в машине.
— Не волнуйся, — сказал он Василию, — я не пойду в наш номер. Глупо было и предполагать, что кто-то караулит нас у входа. Естественно, наблюдатели стоят в фойе гостиницы и на нашем этаже. Я постараюсь пробраться в номер Пузанского и забрать его деньги. Риск, конечно, большой, но, во-первых, денег у него гораздо больше, чем у нас, а во-вторых, ему-то они уже явно не пригодятся. Жаль его, он так любил поесть и выпить и за это поплатился.
Подъехав к «Англетеру», юноша схитрил и не пошел через главный вход. Он обогнул здание гостиницы со стороны Большой Морской и вошел в небольшой косой двор, образованный двумя домами. Двор был забит продуктовыми машинами, и на юношу никто не обращал внимания. Он зашел в подъезд, с которого начинался один из черных ходов в гостиницу, и тут Луция ждала удача. На перилах лежал довольно чистый белый халат, снятый, видимо, ненадолго кем-то из низшего персонала ресторана.
Не тратя времени даром, юноша натянул его и уже уверенно, не скрываясь, стал подниматься наверх. Попадавшиеся навстречу люди бросали на него равнодушные взгляды, не интересуясь, куда направляется молодой повар. Так он прошел безо всяких сюрпризов два этажа и вдруг резко шагнул в открывшийся ему проход, который, как он и предполагал, привел его в широкую прихожую, откуда расходились коридоры по этажу. Шагнув по одному из них, он уже через несколько минут был у номера учителя. Видимо, наружное наблюдение было организовано плохо или здесь его никто не ожидал, потому что у двери никто не стоял. Теперь оставалось каким-то способом открыть замок, а Луций не сомневался, что сумеет с этим справиться.
2. БЕЛАЯ НОЧЬ
Слабое жужжание донеслось из соседнего номера, дверь в который была полуоткрыта. Луций осторожно просунул в нее голову и увидел горничную в синем фартуке и белой кофточке, которая, стоя к нему спиной, выгуливала по ковру маленький красный пылесос. И тут Луций обратил внимание на связку ключей, небрежно свисающую из замка двери. Выждав момент, он ловко вытащил связку, так что ни один ключ не звякнул, и тотчас отыскал ключ с номером двести сорок пять. Осторожно отсоединил его от остальной связки, а ключи аккуратно положил на коврик перед дверью, не рискуя вставлять в замочную скважину.
Таким образом путь в номер был открыт, и Луций не замедлил им воспользоваться. Не раздумывая, он открыл дверь в номер Пузанского и вошел. Потом закрылся на ключ изнутри и огляделся. Громадная комната вся была в осколках посуды, обрывках белья и одежды. Казалось, по ней прокатился смерч. Похоже, он опоздал, и ищейки побывали здесь до него. На всякий случай Луций вошел в спальню, где обнаружил еще больший разгром, чем в гостиной. Что-то здесь, видимо, искали с такой чудовищной интенсивностью, что растерзали бы на сотни частей и Луция, если бы сочли, что внутри него запрятана нужная информация. Хотя искать посреди развала деньги было безумием, Луций все-таки заглянул в спальный шкаф, который оказался, на удивление, нетронутым. В полном порядке висели в нем пижамы и халаты всех цветов и размеров, включая женские, из чего Луций сделал вывод, что учителя посещали не только товарищи по партии. Методично обыскав карманы самой большой пижамы, которую всегда носил Пузанский в отеле, он обнаружил конверт с вложенным в него маленьким листком. Обыск второго кармана дал еще более удивительные результаты. В нем, сложенная комом, помещалась целая пачка стодолларовых купюр.
Далее искать было нечего, и Луций, осторожно прислушиваясь, подошел к двери и вдруг, как нырнув в холодную воду, выскочил из номера. Он никого не увидел. По-прежнему гавкал пылесос в соседнем номере и сиротливая связка ключей лежала на коврике под дверью. Луций аккуратно прицепил ключик к остальным и так же быстро, как и вошел, вышел через черный ход во двор.
Василий замер в машине и, пригорюнившись, смотрел на памятник Петру Первому. Вся фигура мальчика и его удрученное лицо говорило о большой душевной усталости и страхе, как у загнанного зверька. Луций тут же пожалел, что взял брата с собой, не удостоверившись, точно ли их родители в Петербурге, и не подумав, сможет ли он обеспечить ему защиту в чужом городе. Но тут же решил он, что не время углубляться в себя, а пора как можно скорее уносить ноги из этого района, который мог стать для них смертельно опасным. Только-только в полном объеме стал доходить до него весь смысл происшедшего и тот неоспоримый факт, что именно Василий предложил взрывчатку в форме Кремля Пузанскому.
Несмотря на то, что он еще мальчик, вряд ли можно оправдаться незнанием или молодостью Василия. Явно, что сыск будет всеобъемлющим и искать их будут по всему Петербургу и вокруг него. Надо было торопиться, и Луций оставил все свои душевные переживания на потом.
Сначала он думал подъехать до ближайшего метро и там затеряться среди толпы, но потом решил, что наверняка на всех входах и выходах уже поставлено наблюдение и что общественным транспортом добираться им запрещено. Машина стремительно пренесла их по мосту лейтенанта Шмидта на другой берег Невы, где они засели на самой скрытой в кустах скамейке в Румянцевском садике. Прежде чем двигаться дальше, Луций решил спокойно обдумать вместе с Василием все стоящие перед ними опасности. Для начала он сосчитал имеющиеся у него деньги и разделил их на две равные доли. Одну положил к себе в карман, а другую отдал Василию и на всякий случай застегнул изнутри карман на большую булавку. Денег оказалось очень много, чуть ли не по тысячи долларов на каждого, и Василий, чуть съежившись, рассказал брату, как они в интернате хотели запастись валютой и поехать в далекий Крым.
— Нам бы сейчас хватило денег на целый месяц, а может быть, и год, — сказал Василий, — может, махнем в Крым, а, брат?
— Дурачок ты мой, дурачок, — обнял его Луций, еще с большей силой чувствуя меру ответственности, которую он на себя взял. — На эти деньги мы с тобой можем поехать не только в Крым, а даже в… Италию, не на Черное море, а на Средиземное. Только что с этого толку, если мы заперты в этом городе, как в капкане. Я думаю, не разделиться ли нам, потому что явно будут искать нас вместе, а порознь легче прятаться. Хоть и больно с тобой разлучаться, но и вместе никак нельзя — полиция регента обязательно нас сцапает. Тем более что не случайно мы оказались в Петербурге, а сопровождая политического посланца, которого с нашей помощью угрохали. Только не знаю я, куда тебя можно было бы пристроить на пару недель, пока слежка не утихнет и полицейские не вообразят, что нас уже нет в Петербурге.
— А я знаю куда, — с гордостью сообщил Василий и протянул Луцию коротенькую записку, на которой изображен был адрес его подружки и спутницы по парку с дикими зверями.
Еще раз он рассказал Луцию подробно, как познакомился с девочками, и как они ему помогли и не бросили одного, уверяя, что нет лучшего способа укрыться для него, как у Нины. Все эти аргументы не слишком убедили Луция, но не видел он другого, более надежного способа спасти брата от ареста и пыток, чем довериться почти неизвестным девчонкам. Сам же он решил пойти к той самой китаянке, которая запала ему в душу еще в поезде и даже смогла потеснить бедовую девчонку из самых крутых семей мафии Москвы.
Пока они так беседовали, золотая ночь спустилась на город святого Петра. От Невы шел теплый молочный туман. Постепенно он укутал сад, в котором сидели братья, прикрыл каждую прогалину, каждый просвет в нем. И Луций решил, что безопаснее всего им провести ночь здесь, в этом садике, под прикрытием теней и тумана, чего явно никто из розыскников ни полиции, ни мафии не может ожидать. Их будут искать по перронам метро и вокзалов, в пригородных электричках, в ночных барах и кафе, а они тихо отсидятся прямо напротив отеля, поглощенные теплой туманной ночью и буйной сиреневой порослью. Юноша снял с себя пиджак и укутал брата. Тот положил ему голову на колени, съежился в комочек и уснул.
Луций задремал под самое утро и спал недолго. Только Показалось ему, что он согрелся, и принял удобную позу, как пригоршня ледяных брызг ударила ему в лицо и рычание мотора показалось ужасающе близко, словно он ехал в грузовике. Луций невольно открыл глаза и увидел перед собой прямо на земле радугу. Не видя его и Василия, запрятанных в кустах, шофер поливо-моечной машины открыл вентиль на полную мощь, и радужная струя, пенясь, омывала деревья. Луций, хоть и изрядно промок, не спешил вставать с места. Он только поплотнее укутал спящего брата пиджаком и осмотрелся. Солнце еще только поднималось из-за Невы, по всей видимости, было часов шесть утра. Дерзкая мысль мелькнула у Луция. Нигде на протяжении набережной не было видно ни человека, ни машины. Как раз было такое время, когда город еще только просыпался. Самое удобное время, чтобы улизнуть от наблюдений и запрятаться в нору.
Луций осторожно поднялся, высвободил голову брата и положил его на скамейку. Сам же отряхнулся и пошел на звук работающего мотора. Голубая «бочка» катила по аллее сада, орошая щедро кусты и цветочные клумбы. Луций догнал ее и поднял руку. Водитель поливо-моечной машины остановился и выглянул в окно. Это был молодой парень с простым лицом работяги, но с хитринкой, опрятно одетый: из-под черного пуловера выглядывала у него белая рубашка и галстук в горошек. Луций подошел к нему вплотную, шофер приоткрыл окно.
— Закурить? — спросил он улыбчиво и протянул пачку сигарет.
— Приятель, — проговорил Луций как можно задушевнее, — мы с братом из дома убегли. Отчим, сука, дерется, вчера меня избил, мать колотит, нам бы надо к тетке доехать, а то намерзлись. Денег я взял из дома достаточно, так что заплачу, чего скажешь.
— Да нет, — отмахнулся водитель и принялся было закрывать окно. — Мне еще надо половину сада обрызгать, да и мостовую не мешает промыть вдоль Невы. Ты лучше такси лови.
— Двадцать долларов, — сказал Луций. — Прямо одной бумажкой, чем тебе не заработок?
— Ты меня деньгами не путай, — поморщился шофер, но окно открыл снова.
— Если у тебя отчим такой хам, почему ты в полицию нравов не обратишься? Там шутить не любят, вмиг окоротят.
— Да все мать, — вздохнул Луций, — любит его, гада.
— С бабами все ясно, — удовлетворенно констатировал шофер. — Так куда вас отвезти?
— Брата к тетке, — Луций проворно прочитал название улицы. — А меня потом, уж если время позволит.
— Правый берег Невы, — почесал затылок шофер. — К торгашам, значит. В общем полчаса лету, а потом тебя… на Фонтанку…Там же одна богема. Ты рисуешь или в музыкальной тусовке? Постой-ка, я тебя, кажется, где-то видел.
— Вряд ли, — отозвался Луций, холодея. — Девушка там у меня, у нее пока перекантуюсь.
— Еще десятку огурцов и потопали, — деловито сказал водитель. — Где же твой брат, в кустах, что ли, дрыхнет?
Не споря, Луций поднял еще спящего Василия и вместе с ним водрузился в кабину. Она оказалась неожиданно широкой, и обзор из машины на Неву был замечательный. Василий вновь заснул, не успев удивиться. Он принимал все как должное.
Луций порылся в кармане и достал двадцатку.
— Половина, — сказал он, протягивая деньги водителю, — вторая после того, как отвезешь. Только знаешь что, нам под утро заявляться неудобно, ты лучше отработай свои дела, а мы, два беспризорника, поспим. А как смену заканчивать будешь, так и развезешь нас.
— Мне так еще удобнее, — согласился шофер, хватая деньги. — Начальник коситься не будет, что где-то летаю в рабочее время. Спите, бедолаги. Как время придет, я вас разбужу.
3. ОБЩЕЖИТИЕ СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Был уже полдень, когда голубая поливальная машина подъехала к известному всему Петербургу дому на Фонтанке. Василия с ними уже не было. Изрядно покрутившись вокруг дома, что позволило Луцию осмотреться, водитель-таки получил разрешение остановиться на всякий случай через дом от нужного Луцию и, получив свое, удалился восвояси. По дороге он изрядно наплел Луцию про странные порядки, царившие в общежитии людей искусства, размещенных по обеим сторонам реки Фонтанки в специальных домах, выделенных для развития культуры правительством Санкт-Петербурга.
Луций еще раз сверил адрес на бумажке с номером квартиры на последнем этаже и позвонил. Очень долго никто не подходил к двери, так что пришлось ему повторить звонок несколько раз. Наконец он услышал щелчок отпираемого замка, но отворилась вовсе не та дверь, у которой он стоял, а другая, за его спиной. Из нее вышел негр в сером костюме в полоску и сдвинутой на затылок шляпе и спросил на почти правильном русском языке:
— Хелло, бой. Вам кого?
— Сестричка Ли здесь живет? — спросил Луций с замиранием сердца.
Негр внимательно на него посмотрел и ушел внутрь квартиры. Тишина, наступившая после его исчезновения и нарушаемая только звуками рока и взрывами ругательств с разных этажей, была настолько долгой, что Луций стал уже недоумевать, правильно ли он сделал, придя к китаянке. Неожиданно дверь отворилась, и юная китаянка с веселым визгом бросилась ему на шею. Тотчас взяла она Луция за руку и по длинному темному коридору, в котором почему-то через каждый метр были вставлены двери, довела его до своей комнаты. Собственно, это была не комната, а восточный шатер, сад среди пустыни с массой зелени ковров и даже холодного оружия по стенам. На полу в разных позах сидели несколько человек, и похоже, что пили пиво. Во всяком случае, перед каждым из них была поставлена тарелка с соленым печеньем и баночное пиво. Все они, к удивлению Луция, были европейцами, да и китаянка без своего обычного макияжа только с накрашенными глазами и губками все больше напоминала Лину.
Не веря своим глазам, Луций смотрел на девочку, которая шаловливо улыбалась ему, и, если бы не шаровары и по-восточному образцу скроенная кофточка, он бы ни за что не усомнился, что перед ним его знакомая подружка, а не таинственная уроженка Востока.
В комнате стоял легкий полумрак, чуть развеиваемый двумя зелеными светильниками, в которых, казалось, тлели застывшие уголья. Прежде чем он смог объяснить цель своего визита, с пола легко поднялся кряжистый усатый человек с гордо поднятой красивой головой и широко развернутыми плечами.
— Он? — спросил человек у китаянки и, подойдя вплотную к Луцию, заглянул ему в глаза.
Этот мимолетный взгляд был исполнен такой внутренней силы и горделивой уверенности в себе, что Луций невольно смутился и отвел глаза. Казалось, что за короткое мгновение, пока они смотрели друг на друга, человек этот уже дал по одному ему известным критериям оценку как духовной, так и физической силе Луция.
— Что ж ты медлил? — спросил человек с упреком. — Мы тебя со вчерашнего вечера ждем. Вот она, — он резко выбросил руку в сторону Лины, — по-моему, вообще глаз не сомкнула.
— Подрывник наш явился, — дурашливо улыбнулся второй мужчина постарше, — бомбы-то с собой принес? За пазухой, наверно, держишь.
Луций молчал, огорошенный встречей. Он видел, что китаянка тоже почтительно молчит, не вступая в разговор, и решил открывать рот только в крайнем случае. Однако не долго пришлось ему молчать. Человек, лежащий вольно на ковре, вдруг, не вставая, швырнул ему в лицо газетный ком:
— Лови, на вид у тебя не было и одного шанса отсюда вылезти.
Луций развернул газеты и на первой же странице наткнулся на описание всего происшедшего вчера. Статья так и называлась: «Бомба для Юсупова».
С ужасом юноша прочитал, что среди присутствующих был последний представитель дома Юсуповых, двоюродный брат государя князь Андрей, которому осколком стекла снесло мочку уха. Общее же число убитых равнялось девяти, тяжело и легко раненных было не менее пятидесяти человек. Самый большой удар ждал его на четвертой странице, где в продолжении репортажа из изуродованного взрывом дворца были даны две фотографии террористов — его и Василия, по которым узнать каждого из них не составляло никакого труда.
— Шофер, — простонал Луций, отшвыривая газету в сторону.
— Ты, сынок, не дергайся, — успокоил его хозяин квартиры. — В этот дом полиция не ходит. Сюда только зайти просто, а выйти ой как сложно. Где ты корешка своего оставил? — он указал на фотографию Василия.
— Да это брат, — объяснил Луций, — он прячется в другом месте. Мы разошлись, чтобы затруднить поиск.
— Похвально, — сказал пожилой мужчина и тоже поднялся с пола. — Только ты, друг, проясни-ка нам по поводу бомбы. Надеюсь, ты не из кровожадности взорвал такой красивый дворец?
— Мы не полицейские, — сказал многозначительно хозяин. — И раз уж ты к нам пришел шкуру свою спасать, поделись-ка с нами, какого хуя ты записался в террористы. По призванию, что ли? Мне вон она, — он кивнул опять на девочку, — так тебя расписывала, только сусальную краску сдувай, а ты, оказывается, в международной мафии состоишь. Или врут газеты, как всегда?
— Папа, он есть хочет! — вскрикнула китаянка, внезапно переходя на правильный русский язык, и Луций, который все время косился на нее, с радостью и недоумением находя все большее сходство с Линой, не выдержал и рассмеялся.
Лина посмотрела на него своими удлиненными на китайский манер глазами и не в силах удержаться, тоже зазвенела вся от смеха. Они хохотали, глядя друг на друга, потому что нельзя было придумать забавнее ситуации, когда замороченный поездкой и обилием разного народа Луций принял всерьез ее за китаянку. Отец Лины и, как оказалось впоследствии, ее дядя несколько секунд смотрели недоумевающе на смеющихся детей, потом не выдержали и заулыбались.
Когда приступ смеха прошел, Луций сел на ковер вместе с непрерывно пыхтящими Линиными родственниками и подробно, во всех деталях рассказал им все, что знал о заговоре и тех, кто использовал их как орудие в террористической работе.
После того, как он закончил, слушатели засыпали его множеством разнообразных вопросов, более всего касающихся личности и описания внешности бойцов сопровождения. В результате выяснения многих уточняющих деталей, видимо, субъекты эти были прояснены, и отец Лины сказал с отвращением:
— Так я и думал, люди Чеснока. Вот ему не сидится, суке, лезет в большую политику, а зад оставляет неприкрытым. Стоит только их чуть раскачать, как посыпится вся группировка в Питере. Кто так работает! Только случаем ушли. Чеснок, он же в себе бог знает как уверен. Он же думает, что копов купит, а мальчишек уроет на сто первом километре и тихо.
— Ладно, малый, ты наш базар не слушай. Здесь ты как у Христа за пазухой. Единственная зацепка — шофер. Где ты, говоришь, его подцепил. А рисовать не умеешь? Может, сделаешь фоторобот этого кента поливо-моечного, Володи, так, что ли? Не умеешь так не умеешь, ты не переживай. Сейчас с ним проведут разъяснительную беседу, и он не только улицу позабудет, но и собственное имя. Лазарь, распорядись.
Кстати, давай знакомиться, меня зовут Алексей, как его — ты уже слышал. Так что, братишка, задал ты нам задачку на выходной день, а я думал к финнам сплавать на корабле, теперь с тобой тут чинись, — и он досадливо махнул рукой. — Ты сегодня отдыхай, дочка покажет койку, а завтра уже начнем действовать. О шофере забудь, словно и не видел его никогда.
— Папа, у меня родилась идея! — вдруг воскликнула Лина. — Я знаю, как можно Луция свободно вывезти из Петербурга.
— Ну, — пробурчал ее отец нетерпеливо, — на тебе, что ли, женить, так мала ты еще. Поживи с отцом хоть до семнадцати годков.
— Вот у вас на уме женись, да разводись — отмахнулась девочка. Она встала на цыпочки и, сняв с гвоздя висящую высоко шляпу, вдруг напялила ее на голову Луцию. — Надо сделать с ним то же, что и со мной, — крикнула она, смеясь. — Обрядить его китайцем.
Но дяде ее план не понравился.
— Дуришь, девка, — проворчал он. — Может, твоя идея и хороша, так у него документов нет. Ты же проезжала за живую китаянку, она сейчас в Москве кукует, дает твой документ. И сыска за тобой ноль процентов. А тут весь департамент поди сечет, не проглянет ли на вокзале или в аэропорту парочка китаянок в брюках. В общем завтра поговорим, а пока дай парню уснуть с дороги, поди, не спал с вечера.
— Через два часа я тебя подниму, — добавил Алексей, — там уже и разберемся в конкретике. Хотя ничего ценного от вашей истории не светит. Ноги бы тебе не вырвали из жопы.
С таким напутствием Луций и Лина вышли из комнаты в широченный коридор, со всех сторон которого были натыканы двери.
— Ты в самом деле так хочешь спать? — спросила Лина с капризной улыбкой. — Вот, значит, как ты рад нашей встрече.
Жестоко требовать от человека, чтобы он был бодр и весел после того, как его чуть не убили и заставили провести бессонную ночь на улице, но вряд ли это возможно было объяснить балованной дочке Алексея.
Луций глубоко вздохнул, несколько раз сжал и разжал ладони.
— Да ничего, — сказал он, — в общем еще довольно бодр.
— Тогда пошли к художникам, — обрадовалась девочка, — у них всегда так весело. Вон, слышишь, музыка играет.
Точно из-за одной из дверей раздавалась веселая музыка и чей-то гогот.
— А тебя к ним отец пускает? — на всякий случай спросил Луций, который вовсе не хотел портить отношения с таким человеком, как Алексей.
— Он их предупредил, — просто ответила девочка, — чтобы они помнили, сколько мне лет. Вот они морщатся, но помнят.
В это время та самая дверь, о которой шел разговор, отворилась, и из нее в обнимку вышли три человека, явно символизирующих дружбу народов. Один из них был высок и донельзя черен. Голову его покрывала высоченная шапка всклокоченных волос, а широкий, чуть сплющенный нос и маленькие коричневые глаза довершали облик негритянского плейбоя. Он одной рукой поддерживал гитару, другой обнимал вполне белокожую и светловолосую даму, которая никак не хотела стоять на ногах и все клонилась то налево, то направо. Но и в другую сторону ей упасть было тяжело, так как там даму поддерживал очень веселый и живой человек большой естественной смуглости, абсолютно лысый и крайне волосатый.
Рассмотреть их было нетрудно, даже бросив мимолетный взгляд, потому что на всю веселую троицу из одежды приходился только ремень от гитары. Правда, назвать их голыми ни у кого не повернулся бы язык, потому что все они были почти полностью покрыты очень яркими и затейливыми рисунками, напоминающими по теме и манере исполнения каменные фрески раннего ледникового периода. Некто, их разрисовавший, обладал не только чувством композиции, но и очень тонким вкусом к цветовой гамме, потому что негр был расцвечен в основном белыми и красными линиями, а например, его белокожая леди, наоборот, черными и красными. Что же касалось их лысого спутника, то он сочетал на себе буквально все существующие цвета. Даже его лысина была весьма удачно выкрашена наполовину в золотой, наполовину в черный цвет. На груди у всех трех, как впоследствии оказалось сбежавших выставочных экспонатов, были пришпилены или приклеены таблички с ценой. Дороже всего стоила блондинка, хотя, по мнению Луция, на нее пошло меньше всего краски.
— Живые картины, — сказала Лина довольно равнодушно, скользя по мужским достоинствам с таким же воистину эстетским безразличием, как и по пышным телесам блондинки. — Это новое направление в искусстве. Ты знаешь, они и меня хотели совершенно бесплатно раскрасить, но отец отобрал у них все краски, пока они не протрезвеют, а потом они сами раздумали.
— Хочешь, мы тебя отдадим в разрисовку? — вдруг подскочила она от собственной изобретательности. — И отправим в Москву с выставкой.
— Пожалуй, нет, — после некоторого раздумья решил Луций. — Проходить две недели голышом, а это самое малое время путешествия, как-то не привлекает. К тому же в Москве сразу не сбежишь, пока еще удастся смыть с себя краску. И в качестве кого мне держать возле себя брата? Подставки для картины или подрамника.
Живые картины, еле держась на ногах, прошли мимо них, и Лина, чуть посторонившись, боком влетела в ярко освещенную переднюю. Луций, чуть оторопев, последовал за ней. В прихожей никого не было, но дальше за колеблющейся занавеской слышался шум голосов, визг и пение. Потом вдруг наступила тишина.
Высокий грузный человек с выступающим из красных плавок животом и суровым лицом ратника стукнул мощным кулаком по столу, так что зазвенели все медные чарки и столовые приборы, в беспорядке рассыпанные по скатерти.
— Нет, трижды был прав кровожадный ублюдок Маркс, когда перевернул вселенский дух вверх ногами и поставил впереди его материю. Да, я могу смешать розовую и коричневую краски и приготовить оранжевую, но как я таким оранжем нарисую солнце. Не привычное солнце вашего реалистического утра, весь реализм можно уложить в один путь эвенка от стойбища до стойбища, лишь умел бы петь, я говорю об особенном солнце моего видения, которое должно сиять, а не пачкаться на холсте. И где я с нашими линючими красками найду такую композицию, чтобы, как лазерный скальпель, проникнуть в ваши мозги. Погибла российская новая живопись из-за отсутствия импортной краски! — Человек присел, так что стул под ним заскрипел и зашатался, и закрыл лицо руками, выражая тем самым максимум душевного страдания.
— Не понимаю, — сказал быстрый голый брюнет, весь покрытый сетью из морских волн, рыб и водорослей, — что ты так переживаешь из-за пустых тюбиков, я, например, прекрасно углем обхожусь.
В доказательство собственных слов он нашел на своем животе пустое место величиной с чайную тарелочку и тут же куском хорошо отточенного угля совсем заштриховал его. По мнению Луция, получилось даже красиво.
Художников и художниц за столом было много и все практически голые. Правда, от того, что каждый представлял собой картину, их нагота вовсе не казалась навязчивой или оскорбительной для глаза. Просто это была живая выставка, которая по примеру русских передвижников путешествовала по российскому царству-государству, зарабатывая себе на хлеб и водку.
Более того, одетый Луций почувствовал себя каким-то кривлякой-моралистом, далеко отставшим от передовых рубежей изобразительного искусства. Лину здесь в самом деле знали и относились к ней с покровительственной осторожностью, точно к маленькой девочке с гранатой в руках. Тотчас ее и Луция окружили весьма церемонной заботой: вместо чарок с водкой поставили чай с вареньем и конфетами и как бы забыли.
Потихоньку оглядевшись, Луций увидел, что все-таки не они одни были одеты. Буквально через два человека от него или через два экспоната сидел невысокий полный мужчина с лицом круглым и даже по цвету напоминающим медный самовар и пыхтел от злости. Видимо, давно в нем вскипала желчь, потому что, не выждав и пары минут, он вскочил с места и рявкнул:
— Обделались вы все, господа, так и молчите, не вякайте о высоком, ибо спросится. Самый великий экспериментатор — история, и я так полагаю, что ей надоели наши биения кулаком в грудь и словоблудие.
И не только о нашей команде богомазов я говорю, но о всех всуе пишущих, читающих, вещающих, декламирующих и поющих. О всей голодной банде российских гениев, которых, как свиней из под-ножа, спасла матка-история и кто вместо благодарности стал ей кричать: «Шлюха ты позорная, избавь нас от соцдействительности, рты наши зажаты, руки связаны по швам, а уши в дерьме испачканы просто. Сними с нас оковы, дай обрести самих себя, и что только мы ни выдумаем нашими гениальными мозгами, свободными руками и чистыми ушами, каких песен ни споем, романов ни напишем, кино ни снимем». Я так полагаю, господа артисты, что истории поднадоел шакалий вой интеллигентов и она вскинулась: «Пробуйте, сукины дети, вот вам вольная!» Нету цензуры уже двадцать лет, нету никаких ограничений на творчество. Только где великие произведения, где гениальные обобщения, Могучие вспышки духа? Да если и прежних великих пошерстить, так из всего Солженицына, если политику скинуть, останется крохотный «Матренин двор», а из Васи Аксенова голый мовизм. Что говорить об остальных рембрандтах и бетховенах, кои смешивают краски и расписывают пупки, лишь бы собрать на чай с публики.
Вот так, братцы, выглядим мы на весах Истории, вот почему засобачивает она нас обратно под жесткий кулак террора. Ничем мы в вольную свою бытность ей не потрафили. Только ежели словоблудством и весельем пьяным. И как бы мы все свои яйца ни расцветили, голове легче не станет. Ибо голова хочет воспринять новый мир искусств, а не желудочные позывы расписанных задниц.
С этим он замолчал и, окинув всех суровым и вместе с тем приглашающим к душевному веселью взглядом, ловко хватанул ближайшую чарку водки.
Очень старый и очень красивый седой человек поднялся, не глядя ни на кого, и тотчас по левую и по правую его руку встали две юные голые девы, одна из которых изображала корабль в бурю, а вторая — Куликово побоище. Особенно впечатлила Луция вторая картина. Нельзя было не удивиться и не впасть в ошеломление при виде мастерства росписи всей ее сияющей кожи от высокой полной шеи, с которой скатывался к нежному промежутку между круглыми грудями засадный русский полк, благодаря стараниям художника почти незаметно переходящий в лес копий, ощетинивший русский стан. Обе ноги от самых лодыжек захвачены были левым и правым крылом российских дружин, татары же занимали центральное место, спускаясь от грудей к опоясанному павшими воинами пупку.
Вся композиция жила своей вневременной жизнью, подчиняясь только изгибам мышц этого точеного гибкого тела. Даже мало знающий светил живописи Луций и то сообразил, что вставший ему известен. Очень старое пергаментное лицо освещали голубые глаза, которые, несмотря на возраст, горели почти бесовским ярким огнем. Молча, с высоты своего роста, а был он весьма высок и костист, так что обе разрисованные феи доставали ему до плеча, посмотрел старейшина на говорливого толстяка и, не говоря ни слова, вдруг подхватил со стола манерку с красным вином и плеснул тому в лицо.
Луций ожидал увидеть на зловеще красном от вина лице толстяка страшную ярость и досаду. Ему представилось, что тот бросится на своего визави с ножом или по крайней мере с вилкой, но толстяк, видимо, впервые в жизни приняв доброго винца снаружи, только крутил головой со слипшимися волосами и отфыркивался. Одна из девиц молча подхватила стопку белых салфеток и начала его вытирать.
После пятой салфетки сквозь красный цвет стала выявляться белизна, а после десятой толстяк был свежее прежнего и только розовый воротничок свидетельствовал о его недавнем омовении. При полном молчании он снизу вверх заглянул в лицо своего давнего противника и, старательно улыбаясь, сказал:
— Метр, вы сердитесь, значит, вы не правы. Вы живая легенда, мир до сих пор не устает удивляться при мысли, что вы, может быть, еще живы. Никто не сердится на памятник, если с него вдруг отломится на голову кусок известки. Это только доказывает подлинность гипсовой трухи. Мне жаль… — продолжал он, полуприкрыв глаза, от чего его заурядное жирное лицо, кое-где еще пламенеющее каплями портвейна, приняло сразу значительное выражение, — мне очень жаль, что в преклонных летах вам придется услышать глоток правды, от которой вы всегда бежали, как магний от воды. Сами напросились, дорогой маэстро.
— Что ты мне можешь сказать, халдей, — презрительно спросил старик, и голос его прозвучал так же звучно, как у молодого собеседника. — Что значат целые потоки слов перед хотя бы одной картиной, но где она, эта картина? Так что я и слушать тебя не хочу, ничтожество с клешнями вместо рук.
— А зря не хочешь. Потому что вряд ли тебе придется еще услышать правду о твоей теперешней мазне!
— Они всегда так веселятся? — спросил Луций громким шепотом, но Лина только ущипнула его за бок и жестом приказала молчать.
— Знаешь кто это? — шепнула она и в ответ на удивленный взгляд Луция назвала фамилию, которую он никак не ожидал услышать.
— Он еще живой! — вырвалось у него удивленное восклицание, и как раз к месту. Именно в этот момент метр нанес удар сухоньким кулачком в живот толстомордому, который безуспешно пытался вырваться из рук скручивающих его художников и экспериментаторов-моделей.
Надо сказать, что миг торжества великого искусства оказался недолог, ибо краснорожий, изловчившись, сумел-таки пнуть великого мастера в колено. Тот плаксиво то ли завыл, то ли запричитал, а не задействованные доселе собутыльники, свернув от старания стол, бросились его утешать под грохот переворачиваемых стульев и звон бьющейся посуды.
Воспользовавшись благоприятной ситуацией, Луций схватил Лину и вытащил из комнаты, не дожидаясь завершения вечно живого спора об искусстве.
4. КРЫША
Два дня Луций просидел безвылазно в общежитии, а на третий захандрил.
— Ты, дурак, сиди, не рыпайся, — учил его Линин дядя, старый вор на заслуженной пенсии. — За тобой сейчас гоняются спецслужбы регента, плюс татарва, плюс московские уркаганы, минус твоя голова.
— Боюсь за брата, — вздыхал Луций, — к чужим людям отправил его, может, бродит по улицам, а может, уже блох кормит в изоляторе.
— Ну хорошо, — довольно резко заявила Лина, — тебе нельзя лицо свое светить, а что мешает нам с дядей Лазарем твоего Ваську сыскать и припрятать. Верно, дядя?
— Да, соскучился я по нему, — вздохнул Луций, — всю жизнь вместе, а сейчас получается, что я бросил его на улице, спасая свою шкуру. Неужели у вас нет средств меня как-нибудь загримировать?
— Нет, — твердо отвечал дядька. — Я с тобой и говорить не хочу. И ты, пичужка, не лезь поперед дядьки, або контакт с мальчишкой смертельно опасен, лучше переждем. Если взяли его менты, значит, судьба у парня такая, а если он под наблюдением, прямо на нашу малину и выйдут. И никакая крыша не спасет. Вечером батя твой придет, попробуем вместе как лучше и без потерь брательника твоего вытащить. И то подумай, мальчишка на одном месте сидеть не будет, обязательно начнет высовываться и мелькнет его лицо, где не надо.
— Да он смышленый, Василий мой, он понимает, что надо затаиться, — безнадежно пытался спорить Луций, втайне понимая, что выходить в самом деле нельзя.
Вечером разговор продолжился. В нем кроме отца Лины и дядьки принимал участие седой загорелый грузин, к которому все в доме относились с подчеркнутым уважением.
— Ему в Москву не надо, — безапелляционно заявил грузин по имени Амиран, — в Москве его ждут. Давай я его с собой заберу, послужит годик-другой бойцом, потом повысим. В Москву вернешься — по любой улице пойдешь, никто ничего не скажет.
— Брат у меня, — перевел Луций разговор на интересующую его тему. — Куда я без него?
— Да и дочка моя его не отпустит из Москвы, — усмехнулся отец Лины.
— Неровно дышит на него, да? — игриво округлил глаза Амиран, но, прочитав в лице девочки обиду, притянул ее к себе.
— Э-э-э, забава моя, — нежно произнес он, — ты что, не знаешь своего крестного отца? Я не прочь посмеяться, пошутить, но помнишь ли ты хоть один случай, когда Амиран тебя подвел, плечо не подставил? И твой отец не помнит. Так что сотри с лица гнев.
— Отстань, — засмеялась девочка и обняла седую голову грузина.
Луций оттаял чуть-чуть от своих нелегких мыслей и огляделся так, будто в первый раз увидел комнату и накрытый стол. Еще месяц назад он и представить не мог, что такое возможно, но и теперь после того, как он пожил в одном из лучших отелей Европы, зала удивляла его своим восточным нарядным убранством.
— Я вот что думаю, — сказал наконец дядька. — Мы тебя, браток, подштукатурим, рост каблуками усугубим, на вихры твои оденем кепку. И пойдешь ты со мной на поиски. А сзади пустим хвоста из людей дяди Амирана. Я полагаю, что в случае прямого нападения мы отобьемся. Что нам впервой.
Правым берегом Невы в Петербурге традиционно именовался район Ржевки-Пороховых. Особенностью его во все времена было полнейшее отличие от берега левого. Дело даже не в том, что там нельзя было найти не только ни одного похожего места или здания в зеркальном отражении, но с переездом через мост Александра Невского заканчивался и старинный Санкт-Петербург. Правый берег застраивался непрерывно весь период советской власти, и с ростом этажности и по мере построения социализма дома все больше отдалялись от реки. Не минула перестройка это городское место и в XXI веке, только теперь вернулись к руслу реки.
Первое, что поразило Луция на правом берегу Невы, это обилие автомашин вокруг домов. Да и сами дома недавней постройки, каждый из которых — целый микрорайон, были очень даже пригодны для жизни.
— Отсюда не видать, — заявил дядя Лазарь. — Но на каждой крыше есть вертолет, зимний сад и хорошая русская баня.
— А внизу что, кроме гаражей? — спросил Луций, с грустью отметив, что совсем не представляет своего брата живущим в одном из громадных домов.
С трудом расспрашивая редких пешеходов, все в основном были на собственном транспорте, путешественники добрались наконец до нужного дома. Вслед за ними как привязанная шла вторая машина, новехонький «форд», тоже битком набитый людьми Амирана. Прежде чем остановиться, водитель сделал несколько кругов вокруг дома и, не заметив ничего подозрительного, двинулся к нужному подъезду. Подъезд оказался наиболее отдаленным от всех, к нему вел узкий проезд вдоль каких-то спортивных сооружений, у которых никого не было видно. Уже останавливаясь, шофер услышал сдавленный шепот: «Мент». В самом деле у парадной стояла будочка из плексигласа и металла и в ней сидел человек в форме, который, вынув из аккуратного бокового кармана маленький карандашик, тщательным образом записывал номер машины.
— Ты сиди, — остановил Луция Амиран, у которого от предвкушения опасности раздувались ноздри и глаза блестели как у молодого, — без тебя есть кому сходить. — И он выпрыгнул из машины.
Вторая машина не стала подъезжать к самому подъезду, а, описав большой полукруг, скромно остановилась вдали от будочки, так что рассмотреть ее номер оказалось невозможным.
Амиран и Лазарь вышли из машины и через несколько мгновений скрылись в подъезде, который переходил в громадный холл со стеклянными стенами. Два консьержа сидели друг напротив друга и следили за забежавшей невесть откуда желтой дворнягой, еще щенком, который поводя черным носом и стреляя во все стороны глазами, высматривал съестное. Пройдя мимо сидящих, два старых разбойника залезли в лифт и без приключений поднялись ровно на сорок этажей вверх.
Выйдя из лифта, друзья стали оглядываться и очень быстро обнаружили нужную дверь, обитую серебристым дюралем и украшенную табличкой с фамилией владельца без указания должности. Не долго думая, Амиран нажал на дверной звонок, но даже и после повторного нажатия толку не добился. Молчала сейфовая дверь с четырьмя замками в ней, и пустая квартира отзывалась на звонки слабым дребезжанием.
Тогда строго следуя своим, видимо, давно выработанным правилам, Амиран подошел к следующей двери и резко надавил звонок. Дверь отворилась практически сразу, но из нее никто не вышел, потому что за ней оказалась стеклянная перегородка с россыпью дырочек на уровне рта.
Уже из-за перегородки мощная черноволосая женщина с клюкой басовито спросила:
— Вам кого?
— Насчет соседей интересуемся, — загадочно улыбаясь, сказал Амиран, и покоренная его ослепительной улыбкой женщина провела рукой вдоль черной полоски на стекле, и перегородка прыгнула вверх.
— Сосед еще на работе, — сказала пожилая дама, чуть отодвигаясь в глубь своей квартиры, — а девчонка ихняя наверняка на крыше. Там у них какие-то пляски или соревнования, понять невозможно. Я почему знаю, что и моя внучка вместе с ними там кочевряжется. Вы если будете подниматься, скажите ей, что бабка сердится. Ни поела, ни попила, все на эту крышу, будто она медом намазана.
Оранжерея с тропическими растениями занимала большую часть крыши, оставляя место только для нескольких ларьков, теннисного корта и вертолетной площадки. В самом центре ее бил фонтан, и напротив него была поставлена небольшая деревянная эстрада. В обрамлении густой экзотической зелени она привлекала к себе дюжины две детишек разного облика и возраста, среди которых было не менее десяти девочек.
— Как же мы их узнаем? — спросил Лазарь, беспомощно окинув взглядом танцующих под магнитофон девочек и мальчиков, но Амиран только усмехнулся.
Покачивая плечами в такт музыки, он ловко вспрыгнул на эстраду и подбежал к микрофону. Музыка внезапно исчезла, и танцующие застыли на месте. Отключив магнитофон, Амиран подскочил к микрофону и закричал:
— Одноминутный перерыв по техническим причинам. Прошу не расходиться. Дети, ответьте мне только на один вопрос: кто из вас живет в сто сороковой квартире? Как только эта девочка выйдет, танцы продолжатся.
— И из сто сорок первой подружка выходи! — закричал Лазарь снизу. — Тебя ждет бабушка обедать.
Дети, стоявшие до сих пор неподвижно, зашевелились и выпихнули из своих рядов удивительное создание в розовом платье и бархатных черных тапочках.
— Ты из какой квартиры? — спросил Амиран, одобрительно ее разглядывая. — Поди, из сто сороковой. А у нашего сопляка хороший вкус, — добавил он, непосредственно обращаясь к Лазарю.
Но девочка только покачала головой, ловко спрыгнула с эстрады и подбежала к Лазарю.
— Вон она стоит, прячется от вас, — показала она на высокую девочку в джинсах и белой рубашке и убежала вниз.
Девочка в самом деле с большой неохотой сошла с эстрады. Кто-то снова включил музыку, и вся компания стала задирать ноги и прыгать еще с большим удовольствием.
Амиран отошел с девочкой в самый дальний угол и, скрыв ее от глаз друзей и знакомых большой пальмой в кадке, спросил:
— Ты помнишь Василия? За ним приехал брат. Где он сейчас?
Реакция на его слова оказалась самая неожиданная. С криком:
— Все вы врете, ничего я не знаю! — девочка бросилась бежать и скрылась в глубине оранжереи.
Лазарь и Амиран несколько мгновений смотрели ей вслед, потом Лазарь сказал:
— Все ясно, дом под наблюдением. Оба немолодых, но решительных мужчины спустились вниз и вместо того, чтобы выйти из вестибюля и пройти к машине, где скучал Луций, встали в небольшой нише рядом с лифтом и сквозь стеклянную стену не торопясь обозрели все видимое пространство. То, что они заметили, явно их не обрадовало. Прямо за их машиной пристроилась длинная черная иномарка с зеркальными стеклами, так что никого изнутри нельзя было разглядеть. Но мало того, другая машина, на этот раз «Волга», с наполовину открытыми стеклами стояла и перед их «фордом». Двое мужчин с короткими стрижками и потупленными взглядами курили, облокотясь о крыло машины, но их предельно безразличный вид и шикарный лимузин не могли обмануть профессиональных воров.
— За нами глаз волокут, — сказал Амиран, — по-моему, они щенка не срастили с ситуацией и наводят коны от нас.
— Думаешь, крышу просекли? Значит, кто-то из них в здании. Похоже, скрытая камера рисует всех стучащих в сто сороковую и фильтрует, отсеивая родных. Потому что распознать отношения всех живущих или входящих в этот дом невозможно.
— Это точно, — согласился Лазарь, внимательно вглядываясь в лица дежурящих у подъезда. — Тут каждые пять минут по машине подъезжает и отъезжает, зацепить Луция трудно. А вот наши фото, видимо, уже переданы по факсу прямо в салон, и нас-то они и поджидают. Не навестить ли нам деваху, поди, снова танцует? — и оба приятеля с полным безразличием к поджидавшей их опасности вновь поднялись наверх.
Девочка, как они знали ее зовут Нина, вовсе не танцевала, а плакала под той же самой пальмой, которая давала такую густую тень, что тоненькую фигурку мог разглядеть только специалист вроде Амирана. Он жестом остановил Лазаря, вошел под тень пальмы и каким-то удивительным способом умудрился за несколько минут не только успокоить девочку, но и войти к ней в полное доверие. Более того, и Лазарь, как друг и соратник Амирана, уже вызывал в ней вполне добрые чувства, и когда Амиран познакомил его с Ниной, та приветливо ему улыбнулась.
— Мама не разрешила Васе остаться, — сказала девочка, чуть ли не принимаясь плакать вновь. — Но мы его накормили, и мама позвонила одному знакомому, у которого своя гостиница. Так они и ушли вдвоем с мамой. А когда мама вернулась, она сказала, что Вася не захотел идти в гостиницу и куда-то от нее сбежал.
— И больше он не приходил? — живо спросил Амиран после непродолжительного молчания. — Совсем пропал малый?
Нина заколебалась, но видно уж очень умело воздействовал на нее старый грузинский разбойник и поделиться ей, наверно, было не с кем.
— Приходил, — сказала она шепотом. — На следующее утро. Сказал, что ему повезло, он устроился в одно тихое-тихое место и будет там жить и нос не высовывать.
— Именно так и сказал? — переспросил Амиран. Девочка утвердительно кивнула. — А потом, — продолжала она, — стали приходить другие, противные такие дяденьки. Все про Васю расспрашивали, и даже папу куда-то уводили на целый день, а он Васю и вообще не видел. Поэтому мы никому дверь не открываем и к телефону не подходим, пока все не утрясется.
— А вдруг мы из этих? — серьезно переспросил Лазарь. — И сейчас тебя бросим в мешок и на допрос.
— Не может быть! — убежденно сказала Нина. — Вы совсем другие…
— Так он не объяснил тебе, как его найти?
— Нет, он сказал, что будет лучше, если я ничего не буду знать, где он скрывается, и что, как только сможет, он обязательно даст о себе весточку.
— Дело в том, — сказал Амиран, уже не шутя, — что его брат сидит перед вашим подъездом в машине и мы даже не можем его предупредить, что за твоим домом установлена слежка.
— Давайте я сбегаю, мне интересно посмотреть на Васиного брата, — не раздумывая, предложила Нина, но Лазарь только покачал головой.
— Тебе нельзя, — усмехнулся он. — Ты теперь у каждого сыскаря в кармане. Вот если бы можно было попросить твою подругу. Только такую, что умеет хранить тайну.
— Татьянка! — громко закричала Нина, вдруг выйдя из тени. — Танька, иди к нам!
На Нинин крик из-за громадной четырехугольной кадки вылетел толстый белобрысый мальчишка. В руках у него была пестрая тюбетейка, со лба капал пот.
— Уф, — пожаловался он. — Сил нет за двоих плясать, где же ты моя визави?
— Ой, Вадик, — обрадовалась девочка, — у меня есть к тебе очень важное дело. — Она обернулась к двум угрюмо глядящим на Вадика мужчинам. — Это мой самый близкий друг. Когда отец не разрешил Васе остаться у нас до утра, Вадик проводил его в одно место недалеко отсюда, где требовался мальчик, и Васю там взяли. Только я твердо обещала никому, кроме его брата, не выдавать адрес.
— Но ты же Луция никогда не видела. Как ты его узнаешь? Может быть, я его брат или он?
— Узнаю! — упрямо отвечала девочка.
— Хорошо. Твой приятель, наверное, храбрый человек. У меня есть для него очень важное дело.
— В общем храбрый, — после долгого раздумья отозвался Вадик.
— Можешь ты, делая вид, что просто гуляешь по двору, швырнуть записку в окно вон той машины?
— Какие трудности! — заулыбался Вадик. Видимо, он полагал, что речь пойдет о гораздо более сложном и опасном задании. Например, спрыгнуть с крыши на балкон или еще чего-нибудь похлеще. Мальчишка схватил клочок бумаги и побежал к выходу.
Мужчины, крепко сжимая ладони девочки в своих, аккуратно приблизились к кромке крыши. Далеко внизу стояли одна за другой три машины. Одна серая и две черные. Причем серая помещалась между ними. Совсем крошечный с такой высоты мальчик, медленно продвигаясь по двору, подходил к ним. Вот он обогнул первую черную «Волгу», держась ближе к тротуару, поравнялся с серой, задержался возле нее и пошел дальше. Приблизясь к третьей машине, он вытащил руку из кармана и пульнул что-то в раскрытое окно. После чего, не оглядываясь, пошел дальше.
— Идиот, — схватился за голову Лазарь. — Он отправил записку не в ту машину. Через пять минут все здание будет оцеплено. Пошли отсюда!
Он попятился было к выходу, но Амиран остановил его.
— Не пори горячку, старый мошенник, — произнес он. — Не пугай ребенка попусту. По-моему, в машине никого нет. Шофер пошел немножко освежиться. Позволил бы он мальчишке уйти. Все оперативные птички уже сидят в доме и наблюдают, не выпорхнет ли кто нужный. Вот когда водитель вернется и раскроет листочек, начнется сильный шум. Но до этого мы должны определиться с местом.
В самом деле Вадик дошел безо всяких приключений до въездной арки, разделяющей один корпус от другого, и нырнул в нее, не оборачиваясь.
— Можно ради самого простого любопытства тебя спросить, — обратился Амиран к своему товарищу, — а что ты собственно написал в этой предупредительной записке?
— «Делай ноги. Слежка!» — что я еще мог написать?
— Очень конкретное послание, — покачал головой Амиран. — От него здесь может быть очень жарко. И в самом скором времени.
— Ты, дорогая, иди домой, — ласково сказал Лазарь ребенку. — И пока забудь, что ты нас видела. Если к тебе подойдут очень грозные дяди с невыразительными, как блин, лицами, как правило, они ходят по двое, в серых костюмах, и спросят о нас, то будь с ними честна, не лги понапрасну. Отвечай честно, что приходили, даже затащили на чердак и на крышу, все расспрашивали, где скрывается Василий, а ты, мол, ничего не сказала, потому что сама ни хрена не знаешь про него. Мы, естественно, сейчас к Василию и не пойдем, нам бы из-за твоего храбреца разлюбезного ноги целыми унести.
Девочка очень серьезно их выслушала и, весьма благовоспитанно пожелав всего лучшего, быстро пошла к выходу. По дороге она, видимо, успела сказать пару слов своим подругам, потому что внезапно музыка свернулась.
— Ты думаешь, они уже на крыше? — спросил Лазарь Амирана и чуть пригнулся, так, чтобы и тень его не выходила из темного пространства.
— Да, я убежден, что они все время находятся в здании и блокируют проходы вниз. А если их достаточное количество, то не исключено, что кое-кого мы увидим в саду.
— А мне кажется, они еще не раскусили записку. Может быть, есть смысл подставиться им в качестве людей Чеснока. Не может быть, чтобы кого-либо из сыскных еще не было на крыше. Если мы открыто и переругиваясь выйдем сейчас на площадку и с легким тарарамом начнем спускаться, они могут сначала и не показаться. Потому что ни ты и ни я вовсе не похожи на мальчишку лет восемнадцати, а им-то нужен именно Луций. Кроме того, мы с тобой не знаем, какое им дано предупреждение относительно параллельной розыскной группы из Москвы. Может быть, вообще оказать содействие, но во всяком случае не задерживать. Идут, громко кричат, пистолетами машут — значит, мы мафия, очень глупая и самодовольная московская мафия.
— Может быть, в первый момент они от неожиданности нас и не тронут, — подумал вслух Лазарь, — но потом безо всякого сомнения получат команду от своих шефов нас принять, чтобы выкачать из нас возможную информацию о мальчишке. Им, например, может быть интересно, каким образом мы вышли на этот дом. И не профессионалу ясно, что скорее всего информацию мы могли получить от Луция. Значит, Луций где-то здесь прячется. Или мы его скрываем.
— Итак, с треском выкатываемся с крыши, а потом втихую прячемся в доме, — заключил Лазарь.
Как и предвидел Амиран, на их перебранку, переходящую во взаимные громкие оскорбления, никто не вышел. Только легкие, еле заметные тени сопровождали их до выхода. Безо всяких препятствий дошли они до лифта и полетели вниз.
Естественно, Амиран нажал на кнопку второго этажа, и они обошли кругом площадку второго этажа, пока не определили квартиры, окна которых выходили на машину, где беспечно дремал Луций.
С невинными лицами позвонили они в одну из квартир. На звонок никто не отозвался. Лазарь тряхнул стариной и вскрыл дверь быстрее, чем хозяин, по несчастью для него отсутствующий, смог бы открыть ее своим ключом. Чувство пространства не подвело старых домушников, и, проникнув незаконным, но хорошо известным способом в квартиру, они обнаружили серый «форд» с дремлющим в нем Луцием, буквально под самыми окнами.
Недолго думая, Амиран раскрыл одну створку окна и позвал громким шепотом: «Луций!»
Однако разомлевший в жарком кожаном пространстве салона Луций никак не отреагировал на его шепот. Амиран, оглядев внимательно двор, убедился, что стоящий за его машиной черный полицейский автомобиль тоже пуст. Даже очертания белого клочка бумаги вроде бы увидел он на переднем сиденье. Впрочем, это могло оказаться просто его фантазией. Вне себя от злости, ни на что не обращая внимания, он перегнулся через подоконник и прицельно послал тяжелый серебряный рубль через открытое окно автомобиля прямо в подбородок юноши.
Ощутив полновесный удар в челюсть, Луций приоткрыл глаза и потер ушибленное место. Потом с трудом разомкнул сонные веки.
— Эй! — окликнул его Амиран и полоснул острым взглядом пространство двора. — Не пялься на меня, сиди тихонечко и кочумай. Сейчас же ты напялишь на нос мои солнечные очки и как можно незаметнее выйдешь из машины. Потом сгорбись, сожмись и потихоньку хромай к арке на дальнем конце двора. Как уберешься подальше, лови такси. Нас не жди, мы в машину спокойно сядем и поедем петлять по городу, отгоняя хвоста.
— Вперед марш!
— Где Василий? — спросил Луций и вытянул шею вверх, но голова Амирана уже скрылась в комнате, и вопрос завис в раскаленном зноем воздухе.
Луций спрятал пониже голову и осторожно осмотрелся. По первому впечатлению громадный, вытянутый вдоль корпусов двор был пуст и безлюден. Только у стоящей поодаль черной блестящей машины копошился шофер. Он поднял капот и с сосредоточенным видом пытался что-то выудить из мотора.
5. ПИЦЦЕРИЯ
В тишине и пустоте, обволакивающей двор, явно таилось что-то враждебное. Казалось, в любой момент тишина может смениться звуками команды и стрельбой. В глубине машины, скрытой от случайных взглядов, Луций чувствовал себя в безопасности. Но выйти на открытое пространство, где его могут опознать скрытые в глубине здания полицейские — это было совсем другое, и потому Луций не торопился открыть дверцу.
Он открыл бардачок и увидел запасные ключи от машины. Надо было на что-то решаться, и Луций связал свою судьбу с машиной. Выпрямившись, он перебросился на место шофера, завел мотор и, описав полукруг, выехал в арку. И тотчас обманчивая тишина сменилась выкриками и приказаниями, хлопаньем дверей и дробными шагами по мостовой.
Луций не видел всей этой суматохи. На выезде из арки ему навстречу ринулся коренастый светловолосый мальчик и, отчаянно размахивая руками, бросился к машине.
— Васька! — оборвалось сердце у Луция. Он с ходу затормозил, нараспашку открыл дверь, и мальчишка влетел в салон. Сразу же Луций разглядел, что перед ним вовсе не Василий, а совсем неизвестный толстомордый паренек с веснушчатым лицом и коротким ежиком над насупленным лбом.
— Ты что, прокатиться захотел? — недоумевая, спросил Луций.
Юноша хотел было предложить юному нахалу убраться с ускорением из машины, но один случайный взгляд, брошенный на обзорное зеркальце, — и он забыл о мальчишке.
Одна черная машина уже вырвалась из-под арки и стремглав летела за ними. Видимо, шофер ее мгновенно пробудился от мнимой созерцательности и превратился в самого себя — профессионала-водителя на секретной работе.
Уже не думая, откуда появился мальчик, Луций мгновенно послал машину вперед. Он благословил уроки вождения, которые проводил с ним рыжий педель на ржавом драндулете в те редкие дни, когда чудом удавалось добыть бензин. Педель особенно отличал Луция за его, как он выражался, «природную концентрацию» и сетовал, что не может поработать с ним на человеческой машине вроде армейского грузовика, на котором он шоферил перед работой в лицее. Пока Луций разбирался в системе управления новой для него машины, на указателе скорости появились красные цифры 200 км/час. Вслед за «Волгой» из арки вырвалась такая же черная иномарка и, описав тот же стандартный полукруг, ринулась следом за образовывающейся кавалькадой.
Как только Луций начал петлять между домами, обе машины включили сирены и, оглашая окрестности душераздирающим визгом и мигая фарами, бросились в погоню. Конечно, юноша не смог бы уйти от них, если бы не случай, который благородно поспешил ему на помощь. Сам не зная как, он умудрился заехать в узенькое пространство между спортивной и, видимо, хозяйственной площадками, потому что внезапно перед носом машины и слева от нее появились веревки с развешенными на них простынями, ковриками, Кальсонами. Когда же Луций дал задний ход, пытаясь выехать из ловушки, двигатель заглох, и причем так основательно, что все его попытки включить зажигание натыкались на легкое чихание мотора, которое вскоре прекратилось вовсе.
То далеко, то совсем рядом раздавались пронзительные звуки сирен. Один раз в просвете между рядами развешенного белья Луций даже заметил отблеск фар, потом звуки удалялись, чтобы через несколько минут возникнуть справа.
Еще минут сорок звуки сирен как-то присутствовали в шумах города, потом исчезли совсем. И когда Луций, наверно, в сотый раз повернул ключ зажигания, машина неожиданно завелась. Пятясь задом и рыская рулем в силу своей неопытности, он все же ухитрился выехать на какое-то узенькое шоссе, не повалив ни одной решетки и не сорвав ни одну бельевую веревку.
Дорога была абсолютно пустой, только впереди впечатанный в бледное марево рисовался гигантский каменный треножник сверхсовременного обиталища санкт-петербургских миллионеров. Белобрысый мальчик внимательнейшим образом разглядывал Луция, пока тот гнал машину по шоссе, уже не представляя, куда оно ведет. В пылу и ажиотаже погони юноша вовсе о нем забыл, пока этот неведомо зачем попавший к нему пассажир не разомкнул упрямо сомкнутые губы и не спросил деловито:
— В случае чего будем отстреливаться или пропадать ни за грош?
С этими словами он, как будто бы всю жизнь прокатался в салоне этой машины, открыл нажатием еле заметной выпуклости на панели второй бардачок и вытянул из углубления длинный, с узким дулом и широкой задней частью сверкающий пистолет.
Продолжая гнать по прямому шоссе, Луций бросил на мальчишку косой взгляд, оторвал руку от руля, отчего машина вильнула вправо, а потом влево, и перехватил пистолет за дуло. Не глядя, он отбросил его на заднее сиденье, отчего заслужил укоризненный взгляд мальчика.
— Раз в году и палка стреляет, — деловито сказал мальчик, — а что, если бы эта игрушка плюхнулась бы на пол и разрядилась в вас?
Луций, еще весь дерганый и злой, притормозил машину и приоткрыл перед мальчиком дверцу.
— Убирайся отсюда, — закричал он. — Откуда ты вообще взялся, сопляк!
— А я думал, мы едем к Василию, — вовсе не глядя в его сторону, с каким-то обидным равнодушием проговорил Вадик. Великодушно не обращая внимания на состояние, близкое к нокдауну, в которое впал Луций, он добавил: — Гони, не гони, по прямому шоссе от полицейских не уйдешь. Вон они снова на хвосте.
И действительно, в тот же миг Луций услышал истонченный расстоянием писк сирены и в зеркальце обзора увидел две еще очень далекие точки при въезде на шоссе.
— Если хотите почти бесплатно умный совет, — с тем же полным равнодушием добавил белобрысый ребенок, — свернем в ближайший проулок и оставим эту ржавую рухлядь на съедение, а сами уйдем через проходники, благо они досконально все мне знакомы.
Луций не имел времени для размышления. На первой скорости он пустил машину на боковую дорожку, не тормозя, въехал в какой-то отгороженный от шоссе то ли двор, то ли стадион с разметками для бега и прыжков в длину и хотел уже остановиться и выскочить, но хитрый мальчишка сердито дернул его за плечо и почти приказал ехать по стадиону налево, потом по какой-то внезапно возникшей аллее направо и еще раз налево под уклон.
Луций сбился со счета, сколько раз они поворачивали между газонами и стоянками для машин, детскими площадками с обязательными водными горками и бассейнами, одно-и многоэтажными гаражами, какими-то стеклянными, без окон и дверей кубами непонятного для Луция назначения, пока не въехали в скрытый от глаз закуток, где и бросили машину.
Луций выпрыгнул из нее первым, а мальчик застрял. Он перегнулся назад и что-то нашарил на заднем сиденье, а когда с довольным видом вылез вслед за Луцием, за поясом у него уже блестел в солнечных лучах пистолет.
Луций потянулся к оружию, но Вадик досадливо на него посмотрел.
— Точно такой же водяной я носил еще утром, — сказал он. — Кто же будет приглядываться, что там ребенок таскает.
И Луций отступился. Он уже начинал привыкать, что мальчишка оказывается всегда прав.
— Где же Василий, — спросил он, не переставая нервно оглядываться кругом и временами срываясь с быстрого шага на бег.
— Есть хочется, — вздохнул прилипший к нему мальчик. — И пистолет тяжелый, ремень оттягивает. А от этого еще больше есть хочется. Кстати, мои-то родители уже знают, что я, как понервничаю, должен сразу и основательно подкрепиться. В отличие от вас за ними не задерживается. Не сразу, конечно, я их приучил. Тоже, как вы смотрели, коровьим взглядом и ничего не понимали. Кстати, хорошая шашлычная с дешевым свежайшим мясом в двух шагах отсюда. Или пошли в пиццерию. Тоже рядом. Были бы деньги. У меня, признаться, нет. Но я рассчитываю на твои.
Луций ошалело, но с уважением на него посмотрел. Было до того тихо, что хотелось что-нибудь крикнуть. Круглая оливковая тучка набежала на солнце, и двор погрузился в фантастический зелено-серый туман. Кругом текла своя мирная сытая жизнь. Краны с автоматическим управлением, крутясь, поливали зеленую траву на лужайке. Какой-то мужчина, полуголый, в одних плавках, шел, помахивая ракеткой, к теннисному корту, дразнящему сочной, коротко постриженной травой.
Рядом с кортом голубой сверкающей призмой выгибался бассейн. Несколько, так же как и теннисист, обнаженных до пояса девиц сидели и лежали вокруг на кафельном берегу. Луций после пуританской Москвы сначала не поверил своим глазам, а потом застыл на месте, пока Вадик не ткнулся носом ему в спину. Чтобы скрыть замешательство от впервые в его семнадцатилетней жизни увиденных прекрасных голых тел, Луций задал Вадику вопрос, который вначале вертелся у него на языке, а потом исчез под воздействием опасности.
— Василий-то далеко отсюда? Мы пойдем к нему?
— Недалеко, — отвечал Вадик очень сурово. — Василий совсем недалеко. Но скажите мне, как, я понимаю, мудрый брат, только откровенно скажите: вы от природы в некоторые моменты придурковаты или с таким талантом носите маску идиота, что она к вам насовсем припечаталась? То есть как родная. А Вася с таким восторгом о вас рассказывал. Разве не идиот собирается привести на хвосте полицию к родному потерянному брату, и только идиот не понимает, что пиццерия — это последнее место, где вас будут искать. Потому что в их полицейских учебниках пишут, что преступник всегда удирает или закапывается, а вовсе не садится закусывать в эпицентре преследования. Вот на этом мы и должны их переиграть, а не идти прямым путем в ловушку и брата не подставлять. Может, на вас жара плохо действует, — добавил Вадик сочувственно. — Так в пиццерии можно испить замечательно холодного пива и, скажем, взять лимонад и мороженое для меня.
Пиццерия обворожила Луция своими зеркальными стенами с красными отворотами и переплетами окон, обилием отражений живых людей, сидящих в креслах, за стойкой и в холле, невероятной сочностью и ароматом самой пищи. Несмотря на ранний час, зал был переполнен. Небольшой оркестр играл в углу на возвышении тягучую восточную музыку, воображая, что это национальный итальянский стиль. Официанты метались между столиками с подносами, уставленными блюдами и бутылками с вином.
Уплетая один за другим куски поджаристой пиццы, Вадик, не переставая жевать, умудрился вполне внятно рассказать, что приняли Василия в турецкую баню помощником массажиста. Баня, оказывается, располагалась в самом центре города, и при мысли, что брат совсем близко, душистая пицца встала у Луция поперек горла.
— Запей пивком, — спокойно сказал при виде его мучений и кашля вредный мальчик, и тотчас по мановению его пухлой руки официант принес два больших бокала темно-коричневого пенящегося напитка.
Луций залпом выпил свой бокал и почувствовал, как заледенели кончики пальцев, держащие стекло. Когда он отдышался, то почувствовал, что из-за соседнего столика на него, насмешливо улыбаясь, смотрит загорелый мужчина в черной футболке и белых шортах, весь обвитый золотыми браслетами, золотым ожерельем, с десятком золотых перстней на пальцах.
Луций не успел еще почувствовать опасность, как под скатертью протянулась к его коленям рука Вадика и тяжесть пистолета легла на его колени. Мальчик привстал со стула, громко рыгнул и произнес, чтобы было слышно кругом:
— Не худо после пивка в туалет прошвырнуться, — и с этими словами лениво встал и быстро нырнул в проход между столиками.
Тотчас на освободившемся месте очутился мужчина, олицетворяющий собой золотой запас России. Уже откровенно смеясь, он подхватил поставленный ему пробегающим официантом бокал с пивом и, видя замешательство Луция, представился:
— Аркадий Алексеевич меня зовут, а вы можете не затрудняться. Вполне надежно осведомлен. Это, часом, не младшенький ваш побёг? Шустрый парнишка, классически вам пистолет спустил, и в кусты. Впрочем, кусты кругом довольно редкие, так что родственничек ваш далеко не уйдет.
— Да не родственник он! — закричал Луций в тоске и негодовании и тем самым несколько обеспокоил своего визави. Тот поднял руку с заблестевшими на солнце перстнями и браслетами вверх на манер рефери, и сразу с нескольких столиков в разных концах зала ринулись к Луцию молодые спортивные ребята. Один из них вместе со своей девушкой, тоже, видно, служащей в родной организации. Девушка все же близко подходить не стала, а контролировала подступы к столику, наблюдая, как у Луция отбирают пистолет и заводят назад руки.
6. БЕСЕДКА
Пригнанный в тычки назад Вадик был, как ни странно, отпущен после того, как человек в черной футболке бросил несколько взглядов на фотографии, разложенные на манер пасьянса. Одуревший от быстрых смен обстоятельств, Луций безо всякого сопротивления с его стороны был сопровожден в самую обычную машину и посажен с водителем. Он не смел оглядываться и поэтому не знал точно, сколько человек сопровождали его на заднем сиденье, но то, что еще минимум две машины конвоировали его «тачку», стало ясно на первом же перекрестке, где с обеих сторон их прижали соседние машины, и водители, все трое, весело переговаривались о чем-то своем через раскрытые окна.
Через какое-то мгновение оказались они на широком в восемь рядов автобане, идущем вдоль Невы, потом заехали на ажурный, висящий на стальных канатах изогнутый мост, под которым проплывали речные теплоходы, прогулочные яхты и катера. Мгновенно машина перелетела через мост и оказалась в неизвестном Луцию районе, где матово светился в стальных берегах чистейшей водой узкий канал. Похоже, это был квартал развлечений. По обе стороны канала прямо по мостовой гуляли толпы народа. Бесконечные витрины магазинов, ресторанов, ларьков тянулись вдоль набережной, которая через каждые несколько десятков метров прерывалась сквериками и парками с мелькающими среди зелени фигурками веселящихся людей.
Сама мостовая отделялась тонкой канвой плетеных канатов от тротуаров, и в этих боковых рукавах ездили велосипедисты, команды мальчишек на роликовых коньках и даже конные экипажи со стилизованными под девятнадцатый век каретами. Через некоторое время справа открылся голубой с белыми куполами собор постройки времен Екатерины, а слева через канал современный вариант церковного здания из стали и стекла. Резко тормознув на повороте, водитель повернул в туннель, где мгновенная темнота сменилась стремительно налетающими волнами света и гудками встречных машин. В этом каскаде светлых и шумовых брызг они бесконечно долго плыли под дневным Санкт-Петербургом, пока не въехали прямо из-под земли, оставив в стороне дикий табун машин, в тишину благоухающего сада. Они скользнули по узкой, покрытой галькой дорожке к беседке мимо сохнущего сена и стайки домашних гусей, громко на них загалдевших.
Беседка была из некрашеного четырехугольного бруса с круглым куполом и резными кружевами наличников. Удивленного Луция, который видел уже перед собой пыточный подвал и огонь пылающих углей, вежливо сопроводили в беседку, убранную в лубочном стиле с разукрашенными подносами и блестящими самоварами.
Сопровождающие юношу опричники в строгих костюмах сразу исчезли и оставили его перед накрытым на две персоны столом. Это он определил по количеству приставленных к столу кресел, потому что блюд на столе было такое количество, что можно было бы ублажить гарем турка.
Тотчас позади себя он услышал легкое покашливание и, обернувшись, увидел Аркадия Алексеевича, переодетого в другой, весьма странный наряд. Вместо черной футболки и шорт на нем был надет малиновый, расписанный золотом камзол, на голове белый парик, впрочем, все золотые побрякушки остались на месте и были весьма кстати. Храня строгое молчание, Аркадий Алексеевич, грациозно переступая ногами, затянутыми в белые, как Луцию показалось, кальсоны, с глубоким поклоном препроводил юношу в кресло. Луций сел, плохо соображая, что с ним. После преследования, погонь и силового захвата он вовсе не ожидал увидеть загородную резиденцию весьма влиятельного в Санкт-Петербурге лица.
По мановению мажордома, другого названия не было для благообразнейшего Аркадия Алексеевича, открылась вторая, скрытая от взглядов дверь в деревянной стене беседки. Снаружи она маскировалась, как потом узнал Луций, плотным колючим кустарником. Вошел человек, лицо которого показалось Луцию смутно знакомым. Это был старик, одетый в шелковую белую рубашку и белые шорты. В руках у него была толстая книга с золотым тиснением. Старик уселся напротив юноши и приветливо улыбнулся. Луций ответил ему неуверенной улыбкой. Такое выражение могло бы появиться на морде затравленного оленя, если бы охотник вместо выстрела нежно погладил бы его прикладом по боку.
— Город разделен на сегменты, — сказал старик бесстрастно, будто читая лекцию.
Вновь появился мажордом и разлил в два бокала тягучее ароматное вино. Старик не обращал на него внимания.
— При террористических акциях такого уровня, — продолжал он, — под контроль берутся не только аэропорты, вокзалы, гостиницы, рынки, но и оживленные перекрестки, мафиозные районы, места поселения и много других точек.
— Да нет, нет, — старик небрежно взмахнул кистью руки, словно сбрасывая с нее несуществующую перчатку, — только не говорите мне, что вы ни при чем, что вы ни о чем не догадывались и т. д. Смешные слова, милый мой. Конечно, мы не думаем, что покушение на главу правительства — игрушка для детей. Что дерзость заговорщиков равносильна их наивности. Абсолютно ясно, что в работе профессионалов не бывает ни детской игры, ни наивности. Все обвинения со стороны правительства империи с вас сняты, да их по большому счету никогда и не было. Другой вопрос, что силы, мне противоположные, ищут вас, чтобы вынудить к признанию в участии во взрыве. Я вас пригласил совсем по другой причине, — он поднял бокал и жестом пригласил Луция сделать то же самое, — я хочу почтить память моего старинного и уважаемого друга, к сожалению, я не всегда, особенно в последние годы, умел это показать.
Старик задумался, машинально отпил глоток и поставил бокал на стол.
— Как же я мог лучше почтить его память, нежели спасти от пыток и расстрела его любимого ученика. Да, вы были его любимцем, и он прочил вас в недалеком будущем в качестве своего младшего коллеги преподавать в лицее. Боюсь, что с тех недавних дней многое для вас переменилось. После, когда мы закончим, вам придется провести несколько часов с дознавателями из моей службы безопасности. Я уверен, что вы будете предельно откровенны с ними. Потому что только полное доверие с обеих сторон может служить гарантией вашего благополучного возвращения в Москву. А теперь прервемся.
Гостеприимный и вальяжный хозяин вновь поднял бокал и жестом предложил Луцию сделать то же. Потом отломил кусочек хлеба, оросил его несколькими каплями вина и положил хлеб в отдельно поставленную тарелку, рядом с которой стоял налитый до краев стакан вина.
— Прощай мой друг, — сказал старик и поднес свой бокал к бокалу, стоящему на тарелке.
— Двадцать лет назад, — продолжил он и покачал головой, — двадцать лет минуло, как мы с ним познакомились — меня приучал к мысли о неограниченной власти мой отец, а Пузанский сам в те годы к ней рвался. Из нас двоих он раньше осознал всю нелепость власти российской и ушел. Вторая наша встреча произошла в Крыму, на Перекопе.
Вошел мажордом. Под внимательным взглядом регента наполнил тарелки дымящимся мясом, налил вино и исчез.
— Я надеюсь, ты без ущерба вернешься в лицей и расскажешь своим товарищам, что твой учитель был одним из храбрейших солдат национальной гвардии. Уйдя из политики, он работал в отделе противодействия терактам. У вас историю-то проходили, хоть какую-нибудь?
— Историю России преподавали вплоть до девяностых годов прошлого века. О Крымских войнах мне отец рассказывал, правда, очень давно.
И вновь регент кивком головы подозвал стоящего неподвижно у двери мажордома и снова поднял налитые до краев бокалы и, наклонив, вылил несколько капель спиртного на хлеб.
— Пей, мальчик, — сказал он. — Это легкое вино, оно не вредит беседе. Твой учитель его любил. Если бы он был здесь, уже не один кувшин пришлось бы вновь наполнить, — и, помолчав, продолжил: — Когда войны нет, кажется, она и возникнуть не может. Тем более где? Евпатория, Феодосия, Анапа — места боевых действий, уму непостижимо. И кто воюет, свои же ребята с обеих сторон. Мы проиграли эту войну. Почему, долго объяснять. Уже потом, когда я навещал Пузанского в госпитале под Орлом, мы долго обсуждали с ним причины поражения. На поверхности все было просто. Приданная национальной гвардии регулярная танковая армия изменила и вся перешла к хохлам. Но платили-то за измену персы! Мусульманский мир, который просчитал, что ему не нужна сильная Россия. Вот с тех пор Русь все дробится и дробится.
Регент замолчал. Чуть покачиваясь, он встал и вместе с Луцием вышел в сад. Жадным, выражающим страдание взглядом старик впитывал красоту вечереющего неба, покачивая головой, смотрел на красные цветы шиповника, растущего вдоль аллеи, потом перевел взгляд вверх, ловя рассеянный свет солнца, бивший сквозь кроны высоких тополей. Казалось, он хочет удержать все это в памяти на случай внезапного изгнания или смерти.
Потом регент медленно пошел по дорожке, позволив Луцию сопровождать его.
— Я не был в Москве уже лет пять или шесть, — словно припоминая, сказал он. — И тогда город напомнил мне наполовину обглоданную кость. Надеюсь, эти годы хоть как-то привели Москву в чувство.
— Куда там, — безнадежно махнул рукой Луций. — Последнее, что было, — метро, и оно умирает. Полгода назад можно было спокойно проехать подо всей Москвой. А сейчас половина станций разбита или сожжена. В нашей подземке почище чем на войне можно голову потерять. Я не знал, пока не приехал к вам, что существуют такие города: изобильные, богатые, чистые. Мы с братом впервые, можно сказать, в жизни досыта наелись у вас в гостинице.
— Что поделаешь, — сказал регент, — Москва до сих пор разрывается между Европой и Азией. Подолом за уральский хребет зацепилась, а руки тянет через западную границу. В такой позе нормальный организм функционировать не может, даже оправляться сложно. Санкт-Петербург же чисто европейский город. Хотя и тут все зыбко. Стоит нашим господам из левых националистов взять власть, они тут же поставят город на карачки. И будет здесь вторая Москва. Но пока я жив, не допущу! И они это знают.
— Но если вы знаете, кто «они», те кто на вашу жизнь покушался, почему не арестуете?
— Руки у меня коротки, — отрезал регент и продолжал более для себя, чем для Луция: — Так уж получилось, что в России идея великой государственности была всегда привлекательнее для граждан, чем достойная жизнь отдельного человека. Ну да ладно, — регент тряхнул седой гривой, будто отгоняя недобрые предчувствия. — К сожалению, у меня более нет времени. Если есть какие-то просьбы — говори. Что касается твоего отъезда домой, это будем решать особо. Тебя оповестят.
— Брат, — пробормотал Луций. — Разве он знал, что ему в руки подкладывают. Он и сам чудом уцелел. А теперь прячется.
Регент отвернул лицо.
— Ответственность, — сказал он, — и долг. Вроде проще некуда. Задуматься: что за подношение, с какой стати? У нас двенадцатилетние снайперов с крыш сощелкивали, вместо собак, обложившись гранатами, под танки ползли. Другое дело — ради чего.
Еще до того, как нас разбабахали, взяли мы с покойником одного сержанта, чисто сибирской выпечки, весь его экипаж сгорел, а он морду свою чумазую скалит, радуется, что живой. То ли не понимает, что всей его жизни — сигарету докурить, то ли надеялся на прощение. Я ему говорю: за сколько, сука, зверям продался? Иуда ты, сам православный, а русских бьешь. Так ответ его мне до сих пор поперек горла, а сколько лет прошло: «В долбаной России, — сказал он мне, — я всю жизнь нищим дохал. И на воле как в тюрьме. Теперь за то, что я жопу подставил, мне пять тысяч долларов в месяц платят. А русских на Украине тоже хватает. Так что, кого я предал, это еще вопрос».
Насчет брата, — продолжал регент, — на самом деле вопрос решен, и решен положительно. Я не могу допустить, чтобы вас схватили в Санкт-Петербурге. За один час из тебя выбьют, что ты главарь заговора, задуманного мной. И ты подтвердишь, что от меня получал инструкции взорвать дворец князя Юсупова, чтобы я воспользовался ситуацией и пересажал всех своих врагов. Поэтому волей-неволей я подготовлю ваш выезд в удобное время. До сих пор вы хорошо скрывались. Оставайтесь на тех же постоях. Когда все будет готово, к вам придут мои люди.
С этими словами, отвернувшись от Луция, регент закрыл глаза и стал что-то говорить себе под нос.
Следующие несколько часов Луций провел вовсе не так приятно, как при аудиенции у регента; уведший его черноволосый смеющийся человек в синем официальном мундире вовсе не напоминал строгого мажордома, в качестве которого наливал Луцию вино. Если вначале он показался Луцию совсем молодым, то, беседуя с ним в уютном маленьком кабинете, он разглядел, что волосы и усы у офицера тайной службы регента совсем седые.
7. МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Время двигалось к пяти часам, когда спецмашина доставила Луция в самый центр Санкт-Петербурга в расположенный во дворце Бенуа Музей современного искусства.
— Вот единственное место, где ты можешь чувствовать себя в безопасности, — напутствовал его офицер и, проследив, чтобы Луций зашел в музей, уехал.
На самом деле он оказался вовсе не прав, потому что новые друзья Луция из петербургских националистов не переставали искать его и чуть не нашли, но это произошло чуть позднее.
В лицее знакомили Луция с фотографиями римской мозаики и скульптуры, изучали они византийскую икону и итальянскую живопись эпохи Возрождения, однако все эти знания оказались совершенно бесполезны в Петербургском музее. Постоянно сверяясь с путеводителем, юноша в полнейшем недоумении рассматривал живописные рельефы Татлина, супрематические откровения и абстракции Кандинского, безуспешно пытался скользнуть рельсами линий Мондриана в души городов. Его манили синие поля Ива Клейна, но он не был готов окунуться в так называемую «вечность происхождения космической энергии, растворенной в чистом свете восприятия художника».
В следующем зале завораживали пространственные представления Лючио Фонтана, искрились солнце и воздух в пейзажах Джефа Верхейна.
Истинным спутником и продолжателем великих мастеров был Виктор Вазарелли. Всю свою долгую жизнь венгр веровал в возможность возбуждать зрителя контрастами и вибрацией цветов. И вот теперь юноша застыл перед картиной «Алтай-1», пытаясь прочесть в непонятных символах или знаках что-то о своей родине.
Луций передвинулся к нормальному с виду листочку, надеясь, что человеческий текст манифеста «Довольно мистификаций» поможет ему разобраться в намерениях художника. В своем обращении к публике группа исследований визуального искусства утверждала, что нет произведений для глаза, наоборот, сам глаз — величайшее произведение.
Огорошенный увиденным, Луций даже не подумал ломать голову над словопространственными построениями, предназначенными исключительно для самого изощренного глаза и, вероятно, логично замыкающими пространство геометрической графики. Ему припомнилось, что следом за ними к музею подлетела еще какая-то машина.
На самом деле акция националистов не была связана непосредственно с юношей, просто партийный штаб дал указание следить за всеми важнейшими лицами окружения регента и таким образом попал под наблюдение начальник его разведки. Луция агентура не опознала, но на всякий случай два боевика были посланы осмотреть музей. Они начали обход с конца композиции и неумолимо приближались к юноше. Луций чувствовал надвигающуюся угрозу и незаметно осматривался, делая вид, что изучает фотографии самых разнообразных видов и размеров. В сущности, все они служили интерьером для фотокомпозиции фрагмента выставки «Разнофокусный реализм».
На снимке размером в три Луция стоял человек во фраке, в его ногах сидел в позе йога боком к зрителю человек в очках. Слева и справа от этой двухфигурной композиции на фотографии располагались еще два громадных фото. На одном фото: доски, прислоненные к стене, и фото видового фото. В правом углу основной фотографии на переднем плане фото обнаженного мальчика на стене и обнаженный мальчик лицом к зрителю с разведенными в коленях ногами, опирающийся ладонями в пол.
В другом углу гиперреалистического зала висел почти такого же размера фотопортрет сидящего на стуле человека, а в соседнем зале концептуального искусства стоял точно такой же, как на фотографии, стул с надписью: «Этот стул не для Вас. Он для всех нас». Юноша на глазах у единственного посетителя похитил концептуальное произведение и уселся на него, положив табличку себе на колени.
Свой артефакс Луций проделал как нельзя более кстати, поскольку преследователи стремительно проскочили созданную юношей композицию и в ошалении от первого в сознательной жизни посещения музея радостно вырвались на волю. Луций, переждав какое-то время, неторопливо поднялся, водрузил стул с табличкой на место, вернув тем самым первозданную гармонию миру искусства, и присоединился к вошедшей в зал экскурсии.
В то время как Луций совершал свою акцию, за ним внимательно наблюдал седовласый старец с лицом выразительным и носившим печать некоего величия в виде кустистых бровей и орлиного носа, что, правда, плохо гармонировало с напяленной на плечи шерстяной хламидой и разномастными носками, торчащими из-под высоко задранных брюк.
— Ты, как я вижу, художник, и не иначе из модных. Полчаса пожираешь глазами картину, на которой вроде и нет ничего, да и сам устраиваешь художественное действо в храме искусства. А я поэт, и не из последних, если только не ориентироваться на венки и награды, которые раздаются не за мастерство, а за лесть.
Ты, наверно, недоумеваешь, — продолжал поэт, воодушевленный тем вниманием, с которым слушал его Луций, — почему я так плохо одет?
И в самом деле у Луция возникали какие-то смутные подозрения относительно принадлежности старика к цеху поэтов. Нищенская одежда и неопрятный вид снижали впечатление от слов. Чтобы развеять его сомнения, поэт продолжал:
— Я нищ, потому что талантлив, любовь к творчеству еще никого не обогатила.
— Не понимаю, как это нищета может быть сестрой таланта в таком городе, как ваш? — искренне поразился Луций.
— Единственное, что цветет в этом городе, — это неутолимая жажда денег, — с горечью сказал поэт. — Еще не так давно все было иначе. В прежние времена поэту не нужно было высунув язык бегать по редакциям, достаточно было прийти в Литфонд и получить ссуду. Истинные поэты купались если не в золоте, так в славе. А что сейчас? Само слово «поэзия» стало бранным. Так называемые «уважаемые люди» морщатся, слыша стихи, как от зубной боли. Нападая на все, что совершалось во время застоя, круша старину, мы учимся только пороку. А ведь еще двадцать пять лет назад, во времена Горбачева, сборники стихов выходили миллионными тиражами. Впрочем, великим творцам было худо во все времена. Возьми вот этого! — ткнул грязным пальцем поэт в направлении зала Филонова. — Великий авангардист слова так воспел авангардиста незримого:
…Ночью В глухом переулке Перепилен поперек Четвертован Вулкан погибших сокровищ… Картин в его мастерской Бурлила тыща. Но провели Кроваво-бурые Лихачи Дорогу крутую И теперь там только Ветер посмертный Свищет.Мы же, погрязшие в вине и разврате, не можем даже завещанного предками искусства Мирового Рассвета и Расцвета изучить; нападая на старину, мы учимся только пороку. Что же удивляться падению живописи. Но я вижу, ты впился в картины Филонова, — продолжил поэт, таща сопротивляющегося Луция в зал, — посему попробую от его имени рассказать тебе, в чем дело.
Собственное красноречие невероятно возбудило старика. Он замахал руками, как ветряная мельница. Его глаза сверкали, а волосы пришли в полный беспорядок. Слова изо рта вылетали вместе со слюной и вскоре стали совершенно неразличимы.
Наконец, несколько успокоившись, он встал в центр зала, расставив в сторону ноги, и принялся декламировать:
Отрицаю орфографию реализма с ним и за ним абсолютно всех вождей живописи не умевших думать писать рисовать аналитически…Поэт, казалось, даже не заметил, как служащие музея вытеснили его из зала. Он ни на секунду не прерывал чтения собственной поэмы. Луций попытался воспользоваться благоприятным моментом, чтобы ускользнуть от своего мучителя, но поэт оказался не так-то прост. Мгновенно выйдя из божественного экстаза, он крепко схватил юношу за обе руки и горячо зашептал ему в уши:
— Тут в подвале есть неплохая кофейня. Пойдем туда, и я раскрою перед тобой обнаженное сердце поэта.
Луций решил, что не будет ничего плохого, если он подольше посидит в музее, и принял предложение. Поэт со звучным именем Шурали, видимо, кавказского происхождения, очень воодушевился и несколько успокоился, только когда они сели за маленький, покрытый желтой расшитой скатертью столик. По мановению его дрожащей руки официант быстро накрыл на стол, принеся вместе с пузатым кофейником небольшой графинчик коньяку и громадную тарелку салата, причем, когда успел поэт шепнуть официанту заветный заказ, осталось для Луция тайной.
— Знаешь ли ты, что нас свело? — обратился Шурали к Луцию, наевшись до отвала. И не дождавшись ответа, произнес: — Я на твоем единичном примере постигаю судьбу мира. Послушай мой метод.
Не подозревая подвоха, сгоравший от любопытства Луций не мог отказать. Тотчас Шурали закатил глаза и начал вещать:
Заменяя внешнее внутренним пытаюсь понять в известных условиях пути превращений постулатов позиций чужого собственного я… Перевоплощаясь постигаю как внешний мир опыт сдвигают пространство и время в одном а не в другом в одном и в другом направлении.Напрасно перепуганный Луций пытался осадить поэта, боясь быть опознанным. Шурали был неумолим. Наконец его завывания надоели веселой компании, распивавшей пиво за соседним столиком, и два дюжих юнца пригрозили ему разбитием головы и другими увечьями. Тут поэт угомонился, но ненадолго. Пользуясь секундным молчанием, Луций обратился к Шурали.
— Скажите, пожалуйста, что у вас за болезнь? — искренне возмутился он. — Вы больше произнесли заунывных завываний, пригодных только для волчьей стаи, чем человеческих слов. Вы уже достали ползала, не удивлюсь, если вам в конце концов намылят шею.
— Эх, юноша, — отвечал старик, тяжело вздохнув. Рука его вновь потянулась к графинчику, в котором на дне еще плескалась ароматная жидкость. — К сожалению, подобное обращение мне не в диковинку. Как только начинаю я декламировать, подлая толпа начинает свистеть и кидаться малопитательной снедью. А все потому, что когда-то я был слишком влиятелен и известен. Что же, такова судьба истинного поэта, который обязан раскрывать людям глаза, даже если рискует навсегда закрыть свои.
От такого удачного пассажа поэт разгорячился, снова приободрился и, несмотря на то, что несло от него смесью перегара и табака, стал с презрением оглядывать присутствующих. Луций тоже втихаря обвел взглядом кофейню и пришел к выводу, что публика кругом какая-то не музейная. За исключением одного столика, за которым сидел седовласый мужчина с лицом загоревшего на южном солнце небожителя в окружении нескольких юношей и девушек, которые буквально смотрели ему в рот, остальные места были заняты весьма вальяжными иностранцами, юношами в шелковых куртках, с лицами, далекими от всякой созерцательности, и воздушными созданиями в дорогостоящих нарядах, будто сошедших с картин художников.
В это время пьяный небожитель неожиданно поднял голову, посмотрел в одну сторону, потом в другую и уткнулся взглядом в старого Шурали, который смотрел на него с большим презрением. Вспыхнув, известный поэт встал и, строго глядя на нищего старика, заговорил:
— Этот бокал я хочу поднять за истинных поэтов, за таких мастеров, которые в силу своей одаренности и природного оптимизма способны проследить природу красоты. Общение с их прекрасным слогом и образом мыслей делает людей выше. Совсем другое дело нищие бродяги, выдающие себя за поэтов, чьи полупьяные вирши и завывания склоняют людей к пороку. Они превратно судят о людях; считают, будто несправедливые чаще всего бывают счастливы, а справедливые — несчастны; будто поступать несправедливо — целесообразно, лишь бы это оставалось втайне, и что справедливость — это благо для другого человека, а для ее носителя она — наказание. Подобные высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное. А за такими людьми станем смотреть и препятствовать по мере сил воплощать им в образах живых существ что-либо безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное. Кто не в состоянии выполнить эти требования, того нам нельзя допускать к мастерству, иначе в душах жителей нашего города незаметно для них самих составится некое зло. Нет, надо выискивать таких мастеров, которые по своей одаренности способны проследить природу красоты или благообразия, чтобы горожанам все шло на пользу!
Каждое новое определение оратор выкрикивал чуть громче предыдущего, строго глядя притом на старого поэта, который не стал дожидаться окончания речи, а, взвыв от ярости, вскочил с места и разразился речью настолько путаной и туманной, что невозможно было понять, что он, собственно, хочет высказать. Пока Шурали брызгал слюной и размахивал зажатой в руке тетрадкой с поэтическими текстами, его маститый соперник допил свое шампанское, встал в окружении чинных девиц и юношей и, бросив на беснующегося насмешливый взгляд, удалился.
Поэта чуть удар не хватил от такого афронта, визжа и подвывая, вскочил он и бросился за недругом, на ходу бормоча какие-то отрывки из собственных стихов. Видимо, в фойе он был встречен в штыки литературным кружком, потому что очень быстро вернулся еще более помятый и всклокоченный, чем прежде.
Луций только взглянул на него, как тотчас позвал официанта рассчитываться. Он рассудил, что с таким спутником будет слишком заметен, и вновь решил удрать от него, но не тут-то было.
Поэт, чуя поживу, вцепился в него, как клещ в собачье ухо, и громко стал распинаться ему в любви, так что Луций был вынужден мирно выйти с ним на улицу. Тут он подумал, что идти одному, может, еще опаснее, чем с громогласным, но в сущности безвредным Шурали. Единственное, что следовало с ним сделать, — это помыть и постричь. Мысль о бане пришлась поэту весьма по вкусу. Видимо, баня у него ассоциировалась с пивом. Интерес же Луция заключался в попытке выведать что-либо о брате.
Оказывается, вовсе недалеко от музея располагалась знаменитая турецкая баня, даже с отдельными кабинетами.
8. ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
То, что поэт считал «неподалеку», обернулось на самом деле сорока минутами ходьбы. Однако все же пришли.
— По высшему разряду! — ввернул поэт кассирше, ввинчиваясь перед Луцием в очередь в кассу. Кассирша выбила им чек и любезно показала, в какие двери войти.
Уже с порога услужливый банщик бросился к ним и провел к диванчику под номером пять, который был пуст. Всего таких диванчиков было ровно девять, на некоторых лежали в беспорядке вещи, на других сидели люди в простынях. Луций и старый поэт разделись, причем в простыне Шурали сразу стал респектабельным, достойного вида гражданином.
Оставив простыни на специальной подставке, раздетые, они вошли в самую баню и застыли на пороге, сразу погрузившись в обжигающий кожу туман и мокроту. Чуть привыкнув и продвинувшись вперед, Луций увидел прямо перед собой бассейн, в котором в разных позах возлежали или сидели на каменных скамьях голые люди. Тотчас кто-то тронул его за плечо. Луций обернулся, и сердце его сладко забилось. Перед ним стояли две обнаженные девушки с распущенными волосами. С церемонными извинениями они попросили Луция помочь им спуститься по скользкой лестнице в бассейн.
По очереди, стыдливо отводя глаза, ошеломленный Луций сопроводил обеих дам в бассейн, причем вместе со второй спустился по мраморной лесенке сам и сел на скамью. Непризнанный поэт мрачно грел свои старые кости под душем, где кроме него был только один маленький мальчик в синем халате, видимо, местный служка. По просьбе Шурали он принес кусок туалетного мыла, которым неряха-поэт стал намыливаться, причем кожа его светлела до изумления, открывая впечатляющую картину голых мощей. Луций, не в силах спокойно сносить вид очаровательных обнаженных женщин, прикрыл глаза и безуспешно усмирял кровь почти раскаленной серной водой.
Хорошо вымывшись, поэт, на которого вода подействовала отрезвляюще, решил выпить за счет Луция чуть-чуть пивка и во всю мощь своих легких стал звать служителя. На его крик, таща тяжелую корзину, вышел тот же мальчик. Обойдя поэта, он спустился на последнюю ступеньку бассейна и стал оделять лежащих в воде ледяным пивом и лимонадом. Луций тоже протянул руку к корзине, как вдруг, случайно взглянув на печальное и смущенное лицо мальчика, обнаружил в нем собственного брата. Не желая привлекать внимания, он ничего не сказал Василию, однако тихонько проскользнул за ним в предбанник.
Брат, завидев его, не в силах был сдержать слез. Однако не место и не время было здесь разговаривать, и Луций решил взять отдельный кабинет. Сказав брату, чтобы тот проследил, куда он пойдет, Луций быстро договорился с банщиком и получил ключ всего за пятьдесят долларов от люксового номера, где кроме самого кабинета был и свой маленький бассейн, и душевые, и даже салон с баром и видеосистемой.
Не желая, чтобы поэт искал его, Луций велел мгновенно появившемуся Василию привести старика. Сам он, конечно, предпочел бы остаться вдвоем с братом, о котором уже много дней ничего не знал.
— Этот старик прикрывал меня от нежелательных взглядов. — озабоченно говорил Луций, крепко сжимая Василия в своих объятиях. — Так вот, трезвый — он просто агнец и даже не требует, чтобы его считали великим поэтом, но, чуть выпив, он способен перевернуть дом в поисках собутыльников. Поэтому его лучше держать на глазах, пока мы не найдем способ от него удрать.
Вновь обретя брата, Луций наконец-то мог спокойно обдумать, что делать дальше. От столь полезного занятия его отвлекли вид открываемой снаружи двери и крики «чемпион». Тотчас в кабинет вошли две завернутые в простыни девицы, между которыми, опираясь руками об их плечи, высился закадычный его друг Никодим. Вид у него был весьма раздраженный, и он громко бранился с банщиком, за спиной которого стояла целая толпа молодых девиц и мужчин, с восторгом на него поглядывающих. Несмотря на то что Никодим был совершенно голый, оказывается у него с диванчика украли всю одежду, окружающая его толпа относилась к нему одобрительно и с почтительным уважением. Ибо он обладал орудием такой величины, что сам казался лишь придатком к этому сооружению.
Луций слышал, как одна из завернутых в простыню девиц сказала другой, не сводя с Никодима взгляда:
— Вот это да! Я думаю, что, если он сегодня начнет, кончит только к следующему году.
— Дура, как бы нам с тобой воспользоваться такой крупной находкой, — отвечала ей другая девица. — Смотри, сколько желающих уже выстроились в очередь.
Однако такое обилие лишних свидетелей явно не устраивало Никодима. Поэтому, пригрозив банщику живьем снять с него шкуру, если одежда не найдется, он проворно выпроводил назойливых поклонников вон. В это время появился ведомый Василием поэт Шурали, громко сетуя на судьбу из-за того, что его оторвали от любимого богами напитка. Луцию некогда было им заниматься, и он вновь принялся шептаться с братом.
Узнав Луция, Никодим сделал вид, что весьма удивлен. Потрепав Василия по голове, он дал ему денег и велел принести в номер еды и питья. Луций про себя удивился тому, что у совершенно голого человека почему-то под мышкой оказался внушительных размеров кошель. Не поверил он и будто бы случайному приходу своего голого приятеля. Ясно было, что Никодим, по обыкновению, явно комбинировал в свою пользу.
Однако делать было нечего, к тому же обезумевший поэт громогласно заявил, что хочет есть и пить. Пришлось Луцию, как хозяину, рассаживать девиц, поэта и Никодима вокруг стола. В ожидании Василия с припасами девицы оживленно хихикали, стреляя глазами по чреслам обоих юношей.
— Тот, кто тебя вычислит, станет богатым человеком, — шепнул Никодим на ухо Луцию, — а если вдвоем с братом, так совсем станет миллионером. Регент расщедрился, выдал за вашу поимку премию в сто тысяч рублей. Только что по телевидению передали. Кстати, с портретами обоих. А ты здесь жизнью услаждаешься в самом центре Петербурга, в двух шагах от известного дома на Литейном.
— Если ты меня не выдашь, вроде здесь мне некого опасаться. Поэт Шурали, которого я кормлю, целый день не отлипнет, пока у меня денежки не иссякнут, да и вряд ли он смотрит телек, твоим же дамам совсем другое снится.
— Ты сумасшедший! — искренне возмутился Никодим — Разве я не знаю, как обстоят дела на самом деле, поверь мне, информация, которую я получаю, позволяет мне быть в курсе всего, что происходит в Москве и Петербурге. Я знаю, что тебя с братом подставили, ты, наверно, понял, что я появился здесь не случайно.
А вот схватка с банщиком и толпа одуревших от жары и похоти тел — это невинное следствие того факта, что у меня украли одежду. Я вовсе не хотел, чтобы на тебя обращали внимание и, не дай бог, узнали. Хотя, как ты правильно говоришь, никому в голову не придет, что вы прохлаждаетесь в номерах, а не прячетесь по закоулкам города.
Послушай, дед, — обратился Никодим к Шурали, — на кой черт тебе простыня, тебя же девочки никак разглядеть не могут.
Польщенный поэт безропотно отдал ему свою простыню, а сам стал, кряхтя, вертеться перед девицами, которые не обращали на него никакого внимания. Увидев, что вино и фрукты задерживаются, девицы пошептались и, сбросив на колени поэту простыни, ушли в купальню с мини-бассейном, где и расположились. Повертевшись минутку на стуле, старый жеребец с хриплым ржанием устремился за ними. Таким образом два старинных друга смогли, наконец, поговорить без свидетелей.
— После того как твою смазливую физиономию засветили на телеэкране, — озабоченно сказал Никодим, — я бы на твоем месте не рисковал появляться в общественных местах. Брат твой получился неважно, вообще на себя не похож, но вместе вам ходить по улицам нельзя. Все, кто знаком с механикой этого теракта, понимают, что эта игра крайне левых на свержение регента. Но чтобы его в самом деле свергнуть, нужно вышибить из тебя прямые против него показания. Поэтому моя страна, — слово «страна» он произнес с какой-то несвойственной ему гордостью, — моя страна с удовольствием поможет вам выбраться из ловушки, поскольку мы не заинтересованы в смене политической власти. Что касается регента, он, если бы захотел, давно бы вас сцапал. Следовательно он мыслит на параллельных с нами. Поэтому он не будет чинить препятствий твоему отъезду. Я тебя очень серьезно спрашиваю: помочь тебе с выездом из Питера? У меня для этого есть все возможности. Через три недели будешь дома. Плохо, если ты так и не понимаешь, что над тобой, вернее над твоей шеей, уже топор завис.
— Не понимал, так здесь не торчал бы весь день, — пробурчал Луций. — Я потому сюда и пошел, что здесь человека одного от другого отличить трудно. Мне есть куда вернуться, вот только… если бы ты для нас поймал такси через часок, чтобы мы на улице не маячили, я бы тебе был очень благодарен.
— Что, и Василия с собой берешь? Я бы на твоем месте оставил его здесь до самого отъезда. Тут ему ничего не грозит. Да и я буду его проведывать два раза в неделю. Мальчик он красивый, пригожий…
— Вот поэтому и не оставлю, — пробурчал Луций, — черт тебя разберет, когда ты серьезно говоришь, когда шутишь. Скажи мне, кто ты? Мне кажется, Никодим, что Господь Бог не сулит тебе долгую и спокойную жизнь.
— Спокойную, уж точно, — отвечал Никодим, чуть поморщившись. — А вообще-то твое замечание бестактно, ты же знаешь мою тягу к авантюрам. Посади меня за стол с золотой посудой перед фонтаном мраморным, все равно сбегу туда, где стреляют. Я тебе скажу, иногда и самому страшно подумать, под какой планетой я родился, раз ни секунды на месте посидеть не могу.
В это время из купальни раздался девичий визг и кряхтение, напоминающее любовный вопль верблюда. Дверь в купальню отворилась, и голый поэт вбежал рысью в салон, прикрываясь руками от острых кулачков, которыми охаживали его обе голые девицы.
Шурали укрылся в конце кабинета, сумев буквально ввинтиться в узкое пространство между туалетным столиком и стеной.
— Кого ты нам послал, — уперев руки в пышные бока, воскликнула черноволосая девушка с мраморными бедрами и литой попкой, столь аппетитной, что от нее не оторвал бы глаз даже слепой. — Мало того, что этот похотливый мул исщипал нас своими синюшными ручищами, так он еще и, забыв о девичьем нашем стыде, начал читать неприличные стишки о совокуплении домашних животных.
— Когда ты в следующий раз начнешь сочинять что-либо подобное, — обратилась она к дрожащему от холода и страха поэту, чья кормовая часть была видна над столиком, — подумай о том, что в аду уже калятся вилы и черти тянут жребий, кто первый тебя на них насадит. Как тебе в голову могли прийти такие пакости.
Излив таким образом свою ярость, черноволосая девица решительным движением села мраморной попкой на стол и, скрестив стройные ножки, закурила. Однако ее белокурая подруга не так быстро успокоилась. Схватив бесхозяйственно лежащую пластмассовую вешалку, она подскочила к столику и начала лупить ею поэта по чему придется. Судьба Шурали была бы плачевна, если бы Никодим не подбежал к ней и, крепко обняв, не наградил таким затяжным поцелуем, что когда он от нее оторвался, белокурая девица в полной прострации упала на диван.
Пока длилась вся эта суматоха, в комнату вошел Василий с корзиной, полной снеди и вина. Обстановка смягчилась настолько, что белокурая девица сама вывела Шурали из-за столика и обернула его бедра мокрым полотенцем, унимая боль от ударов. Черноволосая девушка, не прикрывая наготы, прямо со стола слетела на колени Луцию, у которого от такой шутки язык примерз к нёбу. Когда же она вложила ему в руку бокал с красным вином и провозгласила тост за прекрасных мужчин, юноше ничего не оставалось делать, как выпить с ней на брудершафт и поцеловать в губы.
Старый поэт, которого никто не приглашал к столу, решил подольститься к Никодиму и, приблизившись к нему, сказал:
— Чем больше я на тебя смотрю, тем более удивляюсь, откуда берутся такие прекрасные собой молодцы?
— Оттуда же, откуда и все остальные, — ответил Никодим, который, видя, что Луций занялся девицей, снова обнял Василия и, гладя его по плечам, что-то ему нашептывал соблазнительное.
— И все же, — настаивал поэт, продолжая посредством лести подбираться к столу, — как счастлива родившая тебя мать! Редко сочетается телесная красота с мудростью. Своим прекрасным поступком ты обрел во мне горячего поклонника. Я пойду за тобой всюду и буду славить тебя в песнях и поэмах…
— Что же я такого сделал замечательного? — спросил Никодим недоуменно, который в самом деле не видел ничего героического в том, что он страстно облобызал девушку.
Тут Луций увидел, как Никодим охаживает его брата, и взбешенный бросился к нему. Сброшенная с его колен девушка мигом перелетела на другой стул и в качестве компенсации за утерянного поклонника стала пить вино прямо из горлышка. Ее белокурая подруга, раздосадованная невниманием, к которому не привыкла, ибо в самом деле была и стройна и мила, озлившись, вдруг схватила пустую бутылку и бросила ее в стенку. К сожалению, она промахнулась и угодила поэту в голый живот, что, правда, спасло бутылку от разбития, Шурали же видимого ущерба не принесло. Пораженный в самое уязвимое место, поэт ретировался в купальню и заперся изнутри.
Пока разыгрывалась вся эта комедия, в номер вошел банщик и пораженно вскричал:
— Что за безобразие! Это вам даром не пройдет! Я немедленно вызову полицию!
Луцию показалось, что банщик просто хочет выманить деньги, и он был настроен ему заплатить, так как никак не мог нарываться на скандал. Однако белокурая девица была настроена по-боевому. Ее неудовлетворенная чувственность и страсть к поклонению нашли свой выход в повышенном боевом настроении. На столе между прочими яствами стоял глиняный пузатый горшок с дымящейся картошкой. Хотя была она уже изрядно пьяна, но не промахнулась и точным броском раскроила банщику лоб. Банщик безгласно рухнул возле ножки стола рядом с метательным орудием, которое даже не разбилось, а, повертевшись волчком, снова встало на свое глиняное основание. Все на миг оцепенели, потом, боясь худшего, Никодим с Луцием осторожно подняли банщика и посадили в мягкое кресло. Белокурая девица, устыдившись своего ужасного поступка, ринулась в купальню, которую на ее неистовый стук приоткрыл любопытный поэт. Она мигом сорвала с него полотенце, намочила холодной водой и принесла в кабинет. Осмелевший поэт выскочил следом и, видя, что все сгрудились вокруг банщика, подсел к столу и стал сам себя быстро потчевать.
Когда банщик открыл глаза, то обнаружил, что голова у него перевязана полотенцем на манер тюрбана, сам же он, голый до пояса и мокрый, сидит за накрытым столом и какая-то милая девушка льет ему в рот вино из стакана. Блондинка так умело накачивала раненого алкоголем и горячила своим прекрасным полуобнаженным телом, что едва Шурали собрался поднять тост, как банщик вместе с девицей, чуть его не отправившей к предкам, удалился в купальню, забыв запереть за собой дверь.
В конце концов и Луций решил, что у него нет особых причин держать зло на Никодима. Подобное мнение было тем более очевидно, что без помощи этого авантюриста и проныры трудно было обоим братьям, да еще с приставшим как репей поэтом, добраться до пристанища. С другой стороны, Луцию страх как не хотелось доверять Никодиму тайну своего нынешнего местонахождения.
— Мы должны вместе с тобой спасти мальчика, — вполне серьезно обратился Луций к старому другу. — Помоги нам тайно, а главное, безо всякого шума покинуть этот притон. Ты понимаешь, что будет с Василием, если нас накроют враги регента.
— Ты прав, — ответил Никодим, — вот этим поцелуем я кончаю все ссоры, — и обнял друга.
Луций отстранился и посмотрел на него с удивлением.
— Что же ты, — спросил он, — все время из себя шута строишь? Хоть сейчас бы не выламывался. Или не понимаешь, если тебя в моей компании застигнут, так просто не отпустят.
— Заботишься, что ли, обо мне? — спросил Никодим с усмешкой и оглядел кабинет.
Престарелый поэт мирно спал, сжимая в кулаке недопитый стакан. На плече у него посапывала обнаженная девушка. Только из купальни доносился смех и звуки поцелуев.
— Собирайте вещи, — сказал Никодим шепотом, — и идите за мной. Боюсь, что банщик не так просто отпустит своего слугу, к тому же мы тут так все извозили, что за год не отмоешь.
— И не дай бог проснется старый пьяница, — вторил ему Луций, поглядывая с опаской на поэта. — Мало того, что ему вздумается читать свои вирши в такси, так он еще и поплетется за нами к людям, которые могут его пристрелить за одно вслух прочитанное четверостишие. Единственный вопрос, который меня тревожит, как ты собираешься поступить с девушками.
— Банщик о них позаботится, — сказал Никодим беззаботно. — Я думаю, они не в первый раз попадают в переделки к выходят из них с честью.
— Да, с честью у них все правильно, — усмехнулся Луций. — Во всяком случае по этому поводу нам беспокоиться нечего.
Они быстро оделись, причем, как это неоднократно случалось, Луцию пришлось поделиться с Никодимом частью одежды, потому что в самом деле того обокрали. Он отдал ему пиджак и шарф, сам оставшись в рубашке. Штаны же, носки и туфли Никодим позаимствовал у банщика, который по счастливому смеху и выкрикам, видимо, воображал себя в раю и ни в каких брюках не нуждался.
Никодим быстро остановил такси, пока Луций и Василий в своем синем рабочем халате прятались в тени здания. Луций, открыв дверцу такси, встал неподвижно. Он не знал, как объявить Никодиму, что хочет уехать вдвоем с братом, но тот сам вывел его из затруднительного состояния.
— Ты уж извини, дружище, — сказал он, едва касаясь головы Василия раскрытой ладонью и протягивая Луцию вторую руку, — дело в том, что я не рассчитывал так задержаться. У меня на сегодня назначена еще одна очень важная встреча. Я оставляю тебе телефон. Стоит тебе только назваться, как меня обязательно разыщут или подскажут, где меня можно будет найти.
Оба друга искренне обнялись, и Никодим исчез в вечернем петербургском тумане, чтобы вновь появиться уже через много дней в совсем ином мире и городе.
Через несколько дней после этого Луций и Василий покинули Санкт-Петербург. Регент сдержал свое слово и окружным путем через принадлежащий Финляндии Выборг посадил мальчиков на поезд Хельсинки — Москва. Как и в прошлый раз, поезд, не затрудняясь, домчался до Бологого, а потом, на этот раз безо всякого сопровождения, они с медлительностью столыпинских вагонов двинулись в глубь малогабаритной России и, претерпев массу мелких, неопасных приключений, добрались до Москвы. Там с помощью Лины они поселились в одной из бесхозных квартир «воровского» Солнцевского массива и жили в ожидании весточки из канцелярии регента, который обещал им уладить их дела в лицее и интернате. Однако, по прошествии некоторого времени, регент, не выдержав обвинений, вынужден был уйти в отставку, о чем ни Луций, ни Василий сразу не узнали. Газеты в Москве не выходили, а телевидение передало столь важную для державы новость только через три дня, и то препарированную таким образом, что невозможно было понять, сам ли регент ушел в отставку или его выгнал государь за строптивость.
Через несколько недель вновь разразилась война с украинским гетманом, и про убийство нескольких масонов уже никто и не вспоминал. Несчастье произошло в тот момент, когда Луций, взяв с собой Василия, решился все же отправиться в лицей и поговорить с директором на предмет своего восстановления. На всякий случай у него за внутренней подкладкой пиджака была зашита собственноручная записка регента, переданная через надежного офицера, сопроводившего их в Выборг. В ней регент всей силой своего авторитета ручался за полную непричастность братьев к трагическим событиям и безо всяких сомнений называл истинных, по его мнению, организаторов покушения. Однако записка эта никуда не попала.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПРОЛОГ
Неизвестный мир неуловимо напоминал горную долину прежнего путешествия, но скальные гряды смягчились, вершины их закруглились и покрылись растительностью, а на месте креста высилась крохотная рощица из могучих многоохватных стволов со смыкающейся вверху кудрявой кроной. Некоторые из стволов провисали в воздухе, другие, дорастая до земли, служили подпорками гигантским ветвям. Под стволами зеленела абсолютно ровная, как после стрижки, трава, из нее выглядывали яркие головки цветов. Щебетали сладкоголосые птицы, а от пряного аромата хмелела голова. Во всей рощице невозможно было отыскать ни единой сухой веточки или сучка.
Луций прошел в глубь лесочка к самому толстому стволу. Если бы юноше, не отъезжавшему дальше Петербурга, довелось побывать в Индии, он бы понял, что на самом деле вся эта рощица была одним деревом — баньяном. Приняв позу лотоса, он сел прямо на благоухающую траву спиной к теплому гладкому стволу. Тотчас из-под земли выползла полуметровая змея, и не успел Луций испугаться, как она забралась ему на бедро, взглянула мудрыми глазами, и тихая радость влилась в душу юноши.
Они быстро подружились. Частенько в середине дня, когда особенно припекало солнышко, серовато-желтая змея с испещренной маленькими белыми пятнышками спинкой подползала к нему, устраивалась на коленях, и даже в тени на ее голове сверкала крохотная Корона. Вначале Луций думал, что корона из золота и драгоценных камней, и однажды осторожно попытался снять ее с головы ужа, чтобы лучше рассмотреть, но украшение оказалось необычной формы кожаным наростом. Уж жил в стволе дерева, как бы сохраняя баньян, и считал всех посетителей рощицы своими подданными. Прихожане шепотом передавали друг другу поверье о том, что если кому из подданных ужа делают зло, то он напускает порчу на обидчика, а своим друзьям может открыть несметные сокровища.
Луций не верил во все эти предания, но всегда чувствовал успокоение в присутствии змеи, и она отвечала ему нежностью и любовью. Иногда он рассказывал змее легенду о ее родиче.
Как-то в Риме свирепствовала чума, и жрецы выяснили, что исцелить город может бог Эскулап из Эпидавра. Когда римское посольство прибыло в храм Эскулапа, из-под статуи божества выползла змея. Бросившись в воду, она доплыла до римского военного корабля и взобралась на борт. Послы с божественным даром отплыли на родину, и как только корабль вошел в Тибр, змея выползла из своей каюты и перебралась на островок в окрестностях Рима. Чума в городе тотчас прекратилась, и благодарные граждане построили Эскулапу великолепный храм на острове, а змею нарекли именем бога.
Когда юноше становилось грустно, он подзывал Эскулапа, и друг всегда выползал к нему. Змей учил Луция, что Древо, под которым они сидят, выросло из Бесспорного корня Всебытия, сплетенного небесными космическими лучами, и потому корни дерева были на самом деле его макушкой, а крона — корнями. Истинные корни питались космической энергией жизни и тянулись вверх к лучам света. Змей говорил о гунах добродетели, страха и невежества, которые омывали растущие вниз ветви, и в ответ капилляры вспыхивали светом и открывались каналы питания Древа, ветви кивали, клонились к беседующим, нежно трепетали, а листья пели гимны. Уму юноши открывалось необъятное, заслоняющее ветвями солнце Великое Древо Добра и Зла, растущее опрокинутым из корня Жизни. Луций воочию зрил его в горной долине предыдущего жизненного плана на месте возведенного прихожанами креста. Скалы, окружавшие долину, между которыми росло Древо, становились вершинами духа, души и ума. Юноша понял, что не случайно они оказались тогда в долине, и на самом деле ходили вокруг Древа, но были не готовы найти его.
Змей мог много показать Луцию, но не знал, как объяснить, что для постигающего ума нет различия не только во времени, но и в месте. И Древо, которое он демонстрировал юноше, существовало везде и во все времена.
Увлеченный дивными историями, Луций вскидывал голову и, щуря глаза, замечал свернувшегося клубком в корнях Древа Змия-Прародителя, кажущегося центральной точкой в круге. Как небесное светило из бездонной глуби исходил Змий, скользя по стволу. Бесконечное тело становилось тенью в слепящем глаза свете, дополняя его вечно и нерасторжимо.
В основании Древа устроили гнезда драконы, а в кроне поселились змеи. Скакал по его ветвям Солнечный Кнуф, едва поспевали за ним огромные бородатые змеи на человеческих ногах, но Змий древних зороастрин Ашмог, который после падения утратил свою природу, имя, место в корнях и сделался похож на огромную гусеницу с шеей верблюда, лишь редкими ночами выглядывал на волю.
Пока Луций знакомился с вечными обитателями Древа, уж вспоминал, как на его глазах Бог евреев, подведя Адама к Древу, заповедовал ему не есть от него никакого плода, дабы не умереть. Заплакал тогда Адам от страха перед неведомым и спрятался в траве. Пожалел его Господь, решил: не хорошо быть человеку одному и сотворил подругу.
Прежний хранитель Древа, отец нынешнего, сказал жене Адама: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Так все и произошло, и отлучили от Древа Адама и Еву, дабы они не стали как боги, а поддержавших их ангелов свергли с небес.
Не забыли первые потомки пралюдей полюбившего их Змия. Во всех концах земли появлялись у Змия святилища, а при нем служители. Весталки хранили его пуще ока, авгуры почтительно вопрошали, вакханки вплетали в прически, каиниты и орфиты отбивали поклоны как Создателю, гностики и византийцы отбивали изображение Гада на камне, а врачи лечили змеиным ядом.
Внезапно идиллию созерцания нарушили звонкие голоса прихожан, спустившихся с холма. Юноша очень обрадовался пришедшим и бросился разыскивать отца Климента, но тот задержался, исполняя молитву. Решив дождаться священника, Луций присел на траву возле своего прежнего места, оккупированного перебирающим четки бурятом. Буддист непрерывно бубнил:
Уничтожение непознавания необращения незнания… Уничтожение побуждений предрасположений прошлых рождений скрытых впечатлений… Уничтожение образа представления суждения всякой станции мыслительной субстанции… Уничтожение человеческой нормы фантома имени и формы… Уничтожение осязания обоняния ощущения зрения слуха и духа…Между сидящими вдруг возник Эскулап, однако они даже не обратили на него внимания.
— Только неразумный может давать систему и только неразумный способен следовать ей, копировать, подражать, приспосабливаться, соглашаться, подавлять себя, — шепнул Луцию возмущенный уж, затем фыркнул и исчез под землей.
Не прервавшийся ни на мгновение бурят невозмутимо продолжал пересказ важнейшей буддийской формулы об уничтожении причинной связи:
Уничтожение внешнего и внутреннего миров соприкосновения… Уничтожение возникающего от него ощущения… Уничтожение жизненной жажды жжения… Уничтожение добродетели пророка порока цепляния за существование… Уничтожение кругооборота рождения… Уничтожение на этом свете нахождения… Уничтожение старости смерти боли скорби отчаяния… Уничтожение целого царства страдания.В это время ассириец развязал пояс, вытащил из него кошелек размером с детский носок, потряс им в воздухе; демонстрируя содержимое, высыпал на ладонь несколько золотых монет и вновь завязал пояс. Ван и танцовщица завороженно следили за манипуляциями перса, невольно сдвигаясь к золоту.
— Мудрый наслаждается щедростью и становится тем счастливым в этом мире, — меланхолично заметил буддист, поднимая голову. Затем, желая остановить движение к золоту китайца, обратился как бы к Луцию: — Разумный ученик Будды не должен брать нигде ничего, что ему не дано; он не должен и поручать другому брать что-либо, ни подталкивать его к тому, ни одобрять, когда кто-то что-либо берет.
Замечания бурята вызвали лишь оглушительный хохот ассирийца.
— Разумному ученику ничего не дано, а вот неразумному не ученику, — вызывающе похлопал он себя по поясу и подмигнул танцовщице, — ему как?
Выведенный из равновесия мыслями о богатстве ассирийца, Ван ослабил контроль над женщиной, и вновь ему на помощь пришел бурят.
— Разумный да избегает нецеломудренной жизни как кучи раскаленного угля.
— Так раскаленным угольком за цвет волос и пыл в некоторых областях всегда звали меня! — захохотал ассириец, подмигивая танцовщице, и придвинулся к ней вплотную, нашептывая какие-то веселые историйки на ушко.
— Неспособный вести себя целомудренно, да не присвоит себе жены другого, — продолжал свое бурят.
— Вот еще! — тут же возмутилась танцовщица. — Чья это я жена?
— Моя! — вдруг воскликнул Ван, у которого от наглости ассирийца перехватило дыхание, и притянул женщину к себе.
— Я свободная, эмансипированная женщина, — воскликнула танцовщица. — Нечего меня лапать! — и вновь повернулась к ассирийцу.
Ван вскочил и стал махать руками, напрыгивая на ассирийца и крича:
— Я требую материальную сатисфакцию! Озадаченный ассириец, пытаясь удержать распалившегося китайца, не рассчитал сил, сжал того слишком сильно, и Ван, дико захрипев, повалился на землю. Непредсказуемая танцовщица с размаху оттолкнула ассирийца так, что тот, потеряв равновесие, рухнул на траву, чуть не раздавив бурята, и бросилась к китайцу.
Буддист подал руку помощи ассирийцу, и тот, озадаченный русским темпераментом, отошел в сторонку и угрюмо застыл, скрестив руки на груди. Наконец он достал из своего бездонного пояса флягу с вином, дабы запить происшедшее.
Благостные прихожане, не обращая внимания на заблудших, затянули псалом:
Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои… Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их…Блаженно водивший в такт пению приподнятой головой Эскулап презрительно зашипел, заметив, как бурят с благосклонной улыбкой усадил юношу рядом с собой, и начал наставлять все тем же спокойным, воистину божественным голосом:
— Ведомы ли тебе притягательные формы, звуки, знаки, ощущения, прикосновения. Предаешься ли ты им, привязан ли к этим удовольствиям?
— Да, — заглянув себе в душу, уверено ответил Луций.
— Эти-то оковы и служат препятствием на твоем пути, — задумчиво заключил бурят и продолжил: — А как ты считаешь, есть ли у тебя жена?
— Есть! — твердо ответил Луций, вспомнив Лину.
— А милосерден ли ты или жесток сердцем?
— Жесток, — не задумываясь ответил юноша, вспомнив, как невнимателен был к ней всегда.
— А злонамерен ты или дружественен?
— Злонамерен, — ответил Луций, вспомнив, как часто обижал брата.
— А порочны твои помыслы или чисты?
— Порочны, — вздохнул юноша, вспоминая желание обладать Линой.
— А владеешь ты своими чувствами или нет?
— Нет, конечно!
— Про тебя следует сказать: это пустыня! Это лесные дебри! Это погибель! Сейчас ты ожесточен сердцем, а Брахман милосерден, ты злонамерен, а Брахман дружественен, твои помыслы порочны, а помыслы Брахмана чисты, ты не владеешь своими чувствами, а Брахман владеет.
— Как увидеть вашего Брахмана? — решил поторопить бурята Луций.
— Порой вступает в поток бытия достигающий наивысшего совершенного просветления благословенный наставник. Увидев своим оком и постигнув своим опытом этот мир, он дает узнать его другим в учении прекрасном звуком и смыслом…
Луций понял, что бурят имел в виду самого себя, и на какой-то миг увидел того во главе клана почитателей. Буддист восседал в позе лотоса на престоле. На боковых углах сиденья были изваяны барельефы в виде львиных голов. Шиньон из смоляных кудрей в форме шлема, венчающий голову бурята, завершался закрывающими уши косичками, которые достигали плеч. Толстая шерстяная красная накидка придавливала тело, оставляя обнаженными правую половину груди, правое плечо и опущенную до земли руку.
— …И вот слышит это учение какой-нибудь человек, — продолжал вещать бурят сразу в двух местах, — или сын его и, преисполнившись веры в это учение, он станет так размышлять: «Мирская жизнь — препона и грязь. Подобна облаку жизнь отшельника, полная, чистая, сверкающая как жемчужина». И вскорости, бросив свое имущество, покинув круг сородичей, он уходит в отшельники.
Юноша вдруг увидел себя в окровавленной тунике, вползающим в буддийское собрание. Буддист невозмутимо продолжал проповедовать.
— А став отшельником, он упражняет себя, следуя благому, и в деле, и в слове блюдет нравственность, строго охраняет двери своих чувств всем вполне довольный.
В благоухании цветов под сенью многовекового тропического дерева все прошлое казалось подернутым сладкой дымкой и никакого иного будущего не представлялось. Вот только непочтительное отношение к китайской мудрости, когда ей предпочли буддизм, хоть и проповедуемый его другом бурятом, возмутило Вана, и он, прервав беседующих, решил незамедлительно высказаться.
— Устраните мудрствование и ученость, и народ станет счастливее во сто крат; избавьтесь от человеколюбия и справедливости, и люди вспомнят сыновью почтительность и отцовскую любовь, — тут бдительный китаец больно ущипнул танцовщицу, вновь заглядевшуюся на ассирийца, — уничтожьте хитрость и наживу, и исчезнут воры и разбойники. Все заблуждения происходят от недостатка знаний. Поэтому нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, — наставительно поднял Ван указательный палец перед лицом танцовщицы, — а самому уменьшать личные желания и избавляться от страстей.
— У кого уничтожены страсти, — благосклонно позволив Вану высказаться, поддержал его бурят, — кто освободился от высокомерия, кто одолел всю стезю вожделений, кто овладел вполне собою и достиг нирваны, тот крепок духом и идет правильно в мире. Он пронизывает умом, исполненным любви, кротким, не ведающим зла сердцем, беспредельным сознанием поочередно все стороны света, весь обширный мир — вверху, внизу, вокруг, ничего не пропуская, ни на чем не задерживаясь. Это и есть путь, ведущий к единению с Брахманом.
— Вы так и не рассказали мне о нем, — осторожно напомнил юноша.
— Абсолютный Брахман — тот (кто, что) есть един и один, не сотворен из материи, не есть во плоти, не имеет ни цвета, ни формы, ни вкуса, ни запаха, неизменяем и не предаваем, но кто (что) всегда везде есть, — торжественно, как на похоронах, произнес бурят.
— Я зову его Предвечным, — вставил словечко отец Климент.
— Проявленный Абсолютный Брахман становится Предвечной Мать-Рождающей. Ибо Абсолютный Брахман это — жизненная анергия в скрытом виде, а Великая Мать-Рождающая в проявленном. Абсолютный Брахман — божество без форм и не может раскрыться в восприятии, в проявленном же виде через Предвечную Мать-Рождающую он выступает в мириадах форм. Традиционному уму не понять Абсолютного Брахмана, даже познание его через проявление Великой Мать-Рождающей весьма ограничено и поверхностно. Только когда Бог покажет человеку свою природу, он начнет его ощущать, и не ранее. Я познаю этот путь в Будде.
— А вы в Лао Цзы? — обратился Луций к Вану, но тотчас отвернулся.
Демонстрирующий танцовщице сокровенные тайны восточной любви, Ван вынужден был промолчать, опасаясь быть неправильно понятым партнершей, но зафиксировал вопрос в мозгу и начал готовить на него ответ. Буддист же решил укрепить данное юноше знание наводящими вопросами.
— А как ты думаешь, есть ли у уничтожившего страсти жены или имущество?
— Нет, — не задумываясь, ответил Луций.
— А милосерден он или жесток?
— Милосерден.
— А злонамерен он или дружественен?
— Дружественен, — все также моментально продолжал отвечать юноша.
— А порочны его помыслы или чисты?
— Чисты.
— А владеет он своими чувствами или нет?
— Владеет.
— Превосходно! — воскликнул буддист. — Выходит, ты познал путь единения с Брахманом.
Как только бурят произнес последние слова, Луцию привиделась за деревьями Лина, виновато улыбающаяся ему. Он бросился к ней, но зацепился за вышедший из земли толстый корень и свалился на траву.
Чуть не наступив на юношу, из-за деревьев выскочили двое индусов и заголосили, отбивая поклоны буряту.
— Мы в восхищении, мы в восхищении! Почтенный наставник всеми возможными путями разъяснил учение. Мы пришли к почтенному наставнику как к прибежищу! — Тут они, взявшись за руки, пали перед бурятом на колени и продолжили: — Да считает почтенный наставник нас его учениками отныне и пока теплится жизнь!
Бурят благосклонно поднял новых учеников с колен, а спустившийся с холма отец Климент при помощи женщин перевернул Луция на спину и начал делать ему искусственное дыхание, возвращая к жизни.
К ним подошел сочувствующий ассириец и так подбадривал юношу:
— Существуют три меры: добрая мысль, доброе слово и доброе деяние и пять видов религиозных наставников: для семьи, для рода, для племени, для страны и, наконец, Заратустра. Но не верь ни мерам, ни наставникам.
Два изначальных духа принесли: первый — жизнь, второй — разрушение жизни. Между ними люди выбрали дух разрушения, с помощью которого они ищут освобождения. Душа человеческая взывает ныне с жалобой к богам, сетует по поводу того, что уже нет сильного защитника. Люди не хотят довольствоваться пророками, не имеющими другого оружия, кроме слова. Они желали бы иметь покровителем могущественного правителя, который отодвигает пророков вооруженной рукой. Озабоченные боги в свою очередь ищут такого доброго правителя, который понесет смерть и истребление врагам жизни и таким образом воздвигнет мир для радостных селений. Так добро превратилось в зло, но невозможно нарушение равновесия в мире, и бывшее зло, продолжая вести борьбу со своим антиподом, превратилось в добро.
Принимая правую сторону, исповедую себя поклонником Ахримана! Клятвой обязуюсь вершить добрую мысль, доброе слово, доброе деяние — разрушение ложно понятой доброты. Воспрянь и восстань со мной! Догоняй меня! — с этими словами ассириец яростно сверкнул зрачками и бросился из долины прочь.
— После успокоения сильного возмущения непременно останутся его последствия. Как можно назвать это добром? — похлопал по ягодицам танцовщицу Ван, комментируя происшедшее с Луцием, будучи обрадованный бегством одного соперника и удерживая девицу от слишком тесных контактов с юношей.
Долгое время Луций не решался открыть глаза, гадая, в каком мире и месте обнаружит себя. Постепенно неотчетливые звуки стали складываться в слова, неопределенные голоса все более узнаваться. Тянуть больше не оставалось смысла, и юноша, к радости окружающих, с глубоким вздохом приподнялся на локтях. Среди привычных лиц отца Климента и прихожанок юноша обнаружил стремительно удаляющееся вдаль рыжее пятно, которое вначале принял за канарейку.
Проследив взор юноши, священник пояснил:
— Зороастр, как Будда и Христос, отразил нападение злых духов, и на прощание Ахриман предложил ему: «Отрекись от доброго закона и ты получишь все милости, которые получил господь народов». Видно, наш гость двинулся за невостребованной наградой.
Нечто плотное и эластичное, втягиваясь через горло и препятствуя дыханию, захватывало тело Луция. Он вяло сопротивлялся, пытаясь пронзить крепнущей мыслью неведомую субстанцию. Она благосклонно принимала столь медлительные нервные лучи, что они прослеживались внутренним оком самого же поверженного юноши, и возвращала их упругими волнами тепла. Бледность на лице Луция сменилась румянцем, дыхание выровнялось, окрепшее сердце вновь погнало кровь равномерными толчками.
— Что со мной случилось? — спросил он.
— Каждый человек, когда-либо живший на земле, имеет в атмосфере свою проекцию — астральное тело, — начал отвечать издалека отец Климент. — Оно полностью воспроизводит материальный прообраз и сопровождает его в земной жизни в человеческом теле. Об этом знало уже большинство древних народов.
— Кроме материального, видимого, уничтожаемого тела, — согласно кивнул бурят, — человек еще обладает внутренним тонким телом. Оно образуется мысленной субстанцией и содержит все психические процессы грубого тела. Его приводят в движение впечатления разума, оставшиеся от прежних рождений и передающиеся новой сущности по наследству. Эти впечатления могут в продолжение многих существований оставаться непознанными, скрытыми, но они несут в себе угрозу пороков и добродетельных дел, и поэтому должны быть уничтожены для успокоения духа. После уничтожения неведения соединение тела с духом прекращается, наступает состояние избавления — нирваны. Его первой стадии может достигнуть каждый путешествующий по жизни, высшей стадии избавления — паранирваны достигает лишь покинувший этот мир.
— Как бы мы ни именовали внутреннее невидимое тело, оно не различимо обычным взором и может быть вызвано лишь концентрацией психической энергии, — перехватил инициативу отец Климент. — Издавна это осуществлялось путем медитации. Астральные тела не исчезают после кончины материального прообраза и могут быть вызваны, но вернуться к бытию не могут. Вечна и душа. Она и есть тот сгусток информации о человеческой жизни, который может быть прочитан на скрижалях истории. Когда имеются сведения о конкретном индивидууме, информация о нем может быть затребована, и тогда появляется душа, сопровождаемая астральным телом. Если информация отсутствует, душу вызвать нельзя, поскольку невозможно создать направленный энергетический импульс. Когда душа покинула тебя, я проследил движение твоего астрального тела и вернул в видимую оболочку, сохранив тебе жизнь в одном из миров.
— А я смогу медитировать? — спросил Луций, приятно обрадованный тем, что о нем уже имеется запись в Книге Жизней.
— Это самое простое из того, чем тебе надо овладеть. Ты должен стать проводником Предвечного на нашем земном плане.
— Он действительно существует? — посерьезнел юноша.
— Я говорил с ним устами мальчика, — после долгого молчания ответил священник, — но я не уверен, что даже Верховная субстанция, создавшая наш мир, знает себя. «Живое ли это существо или транслятор, исполняющий указания иных миров?» — на этот вопрос у меня так и нет ответа.
— Поставленная тобой задача под силу лишь Будде, — указал бурят отцу Клименту.
— Тогда ему придется стать Буддой, — просто ответил священник.
— Только монах, завершивший путь святости, свободный от всех грехов, страха и тоски, наслаждающийся непоколебимым равнодушием, достигает высшего состояния, — закончил поучение бурят.
— Вот этого не надо, — промолвил Луций, вспоминая свой полет к Лине.
— …Пока, — проговорил за юношу священник. И Эскулап выполз попрощаться с юношей. — Всякое следование традиции ведет к примирению, лени, покорности, окостенению. Забудь все, что видел и слышал, и тогда уничтожатся все формы страха и высвободится энергия, которая совершит переворот в твоей душе. Путь истины в сознании. Когда ум осознает несвободу самовыражения, зарождается индивидуальность. Ум, наполненный движением познавания самого себя, свободен от времени, а значит, индивидуален. Из нового внутреннего состояния загадочно и неожиданно рождается свобода. Свободный всегда прав, ибо он сам в себе определяет критерий истины, — прошептал уж и потерся мордочкой о щеку взявшего его на руки юноши.
— Я никогда не забуду тебя, — ответил Луций.
— И напрасно! Эскулап выскользнул из рук юноши и уполз под землю.
Книга первая. ПИР
1. гипноз
Братья медленно шли по длинному стеклянному переходу между двумя зданиями на высоте десятого этажа. До сих пор Луций не мог толком сообразить, как им удалось скрыться. Их настигли у метро «Каширское», когда они выходили из автобуса, наконец решившись направиться в лицей. Не успели они сделать несколько шагов, как с визгом подкатило такси, вплотную подобравшись к тротуару, и из него посыпались, словно черный перец из банки, горбоносые люди. Луций понял, что это за ними. Кавказцы только еще оглядывались и жестикулировали, показывая на них, а юноша уже, подхватив за руку брата, мчался к черной пасти метро.
— Стой, мальчикы, застрелю! — истошно закричал ближайший к ним боевик, а затем вся гвардия дружно погрузилась в машину, рассудив, что до метро бежать не менее двухсот метров. Однако впереди такси маячил, не давая завернуть, тот же самый обгорелый автобус, который привез ребят на Каширку. Понукаемый пассажирами, таксист попытался преодолеть высокий поребрик и забуксовал. Пока пассажиры вылезали, пока подталкивали машину на тротуар и снова садились в нее, братья уже были у входа в метро. Рычащее такси буквально спрыгнуло с поребрика и, виражируя, подъехало к выходу из метро секунд на тридцать позднее. За это время ребята успели добежать до середины эскалатора, и если бы на ступеньках его, как когда-то, толпился народ, чувствовали бы себя в безопасности. Но эскалатор был пуст. И только преследователи перемахнули через разбитые штакетники, как, не теряя времени, начали стрелять вниз, видимо, желая получить братьев хоть мертвыми. Однако те уже были почти внизу и, преследуемые громом выстрелов, влетели на перрон. Тотчас под прикрытием колонн они побежали к переходу, не обращая внимания на редкие тени «залетных», которые одни только и остались хозяевами городских подземелий, не считая немногочисленных электричек. Существование метро объяснялось исключительно неукоснительным соблюдением закона: с пассажирами можно делать все, что хочешь, но машинистов и обслуживающий персонал не трогать под страхом скорой и неминуемой смерти. Поэтому еще случались одинокие поезда на мрачных станциях, и при некотором везении и терпении можно было их использовать для передвижения.
Теперь выстрелы и крики, несущиеся с эскалатора, только помогали братьям, потому что «залетные» шума не переносили, справедливо полагая, что там, где шум, там и смерть рядом ходит, и старались отойти. Одним духом добежали они до перехода, чтобы, раз уж не задалась поездка, скользнуть под Каширским шоссе, совсем оторваться от преследователей, вырваться наверх и там уж вернуться в дом Лининых покровителей, но, достигнув лестницы, они вдруг увидели, что часть эскалатора перегорожена мелкой сеткой и пройти через нее никак нельзя. Чуть ли не сунувшись в сетку головой, так велик был страх и желание бежать дальше, братья поняли, что она поставлена не напрасно. Вместо перехода была перед ними громадная дыра с битым камнем внизу.
Подгоняемые ужасом, они помчались дальше в самый конец перрона и, услышав уже недалеко возгласы и пальбу, рискнули спрыгнуть вниз на рельсы. По рельсам они забежали в темноту, думая, что дальше за ними не погонятся, и встали разом, крепко взявшись за руки и шумно дыша.
В самом деле, долгое время никто не появлялся на рельсах, даже крики затихли, можно было подумать, что погоня прекратилась. На самом деле кавказцы тщательно прочесали весь перрон, выискивая братьев за каждой колонной или кучей мусора, коих в метрополитене было великое множество. Потихоньку приближаясь к краям перрона, они прекратили бессмысленную стрельбу и выкрики, пока не соединились у стены. Тогда им, видимо, стало ясно, что единственное место, куда могли удрать беглецы, это железнодорожное полотно.
И уже чуть успокоенные и поверившие в исчезновение врагов, братья вдруг увидели, как вдали, в освещенной части перрона, так же медленно и аккуратно, как и они, спустился сначала один человек, потом за ним еще и еще. Ребята, которые к этому времени отдышались и остыли, вновь бросились бежать, но в полной темноте это оказалось очень трудно. Узенькая дорожка, идущая вдоль рельс, хоть и была прямой, однако вовсе не гладкой. Она изобиловала невидимыми в темноте пустыми бутылками, обломками пластмассы и железа, какими-то деревяшками и тряпьем, о которое спотыкались братья в своем спешном беге. Далеко позади них преследователи зажгли фонари и, чертыхаясь и смеясь, продолжали погоню. Луций подумал, что теперь с фонарями кавказцы очень быстро их догонят, поскольку не может человек бежать в темноте так же быстро, как по освещенной дороге. К тому же, даже если бы они и запаслись фонарем, вряд ли смогли использовать его без риска себя обнаружить. А так у них все-таки был шанс, что, не видя их или наскуча погоней, преследователи повернут назад. Однако надеждам его не суждено было сбыться. Далеко позади раздался все сметающий утробный вой приближающегося поезда и появились первые светлые блики от электрических огней. Потом раздался лязг и скрежет — это состав тормозил у перрона. Тотчас далекие искры фонарей погасли и надежда поселилась в сердцах братьев, однако ненадолго.
Как только поезд тронулся и пришлось им остановиться и сжаться, чтобы его пропустить, родилось у Луция подозрение, что преследователи могли перебраться в кабину машиниста и, не торопясь, продвигаться вместе с поездом. И верно, состав не разгонялся, слепящий сноп огня был все еще далеко и приближался чуть заметно. Однако уже нельзя было двигаться без того, чтобы не быть заметным в его огнях. Братья присели на корточки, стараясь слиться с мрачными и голыми кирпичными стенами тоннеля и понимая, что это невозможно в ярчайшем свете прожектора, как вдруг Луций обнаружил ранее не заметную, а теперь высветившуюся небольшую стальную дверь в половину человеческого роста. Не смея надеяться, он потянул за толстый приваренный засов, и дверь приоткрылась. Они проскользнули, согнувшись в три погибели, в узкий стальной лаз. И успели вовремя. Совсем близко за дверью лязгнули колеса поезда и раздался тот же визжащий звук.
— Они нас засекли, — прошептал Василий, хватаясь за рукав брата. — Я боюсь.
Но Луций его не слушал. Изо всех сил он нажимал на внутренний засов. Такой же ржавый, как и внешний. Он задвинул его в тот самый момент, когда дверь задрожала от ударов снаружи. Однако, чтобы ее взломать, требовалась противотанковая мина или фаустпатрон. Не дожидаясь, пока бандиты поймут тщетность своих усилий, братья осторожно двинулись по темному проходу, который, к счастью, становился все объемнее. Наконец, по нему уже можно было идти выпрямившись. До сих пор они шли в полной темноте, пока не вышли в поперечный слабо освещенный коридор. Не встретив никого, беглецы миновали многочисленные раздевалки, машинные залы и неожиданно вышли в вестибюль какого-то здания. Сжавшись за колонной, они с удивлением смотрели на раскрывшийся перед ними мир.
Святящийся яркими огнями огромный зал, поддерживаемый десятками колонн из серого мрамора, был весь наполнен снующим вперед и назад народом. И как они были одеты! Мужчины были в красных и белых плащах, а женщины в легких разноцветных накидках, напоминающих мужские рубашки с коротким рукавом без ворота. У многих к поясам были подвешены короткие мечи в бронзовых сияющих ножнах. Совсем близко от братьев прошел человек в металлическом коротком панцире и с маленьким топориком на левом плече. Его круглое румяное лицо было залито потом. Он бесцельно шел вдоль стены, когда заметил изумленно выглядывающих из-за колонны братьев. Тотчас человек в панцире приободрился, взмахнул топориком и что-то прокричал. Прибежали еще два стража, как про себя окрестил их Луций, и, взяв топорики наперевес, повели братьев к центру зала. Почему-то никто из участников этого карнавала или спектакля не обращал на ребят, ведомых под строгим конвоем, никакого внимания, будто их появление здесь было самым заурядным делом.
Приведя их прямо под двери громадного лифта, прозрачная шахта которого располагалась в самом центре зала, охранники остановились, один из них нажал кнопку вызова и подождал, пока не приехала кабина и не отворились ее створки.
— Десятый этаж, комната двадцать один, — сказал охранник невозмутимо и ушел вместе со своим приятелем.
Волей-неволей, когда двери отворились на десятом этаже, братья вышли и двинулись по стеклянному переходу, соединяющему их здание с другим. Комната двадцать один оказалась первая по счету на большой площадке соседнего здания.
Постояв несколько секунд перед дверью и ничего не услышав, братья, после некоторых колебаний, постучали. Дверь отворила молодая женщина, всю одежду которой составляла коротенькая юбочка и перевязь, прикрывающая левую грудь. Правая же не была прикрыта ничем, так же как и великолепная, похожая на две розовые жемчужины попка, потому что юбочка оказалась всего лишь передником. Это обнаружилось сразу же, едва девица повернулась к ним спиной и, всплеснув руками, принялась звать на помощь каких-то своих подруг, называя их благозвучными, но не московскими именами. Когда возвышенно окрещенные девицы появились, то оказалось, что надето на них еще меньше, чем на первой. Это не помешало им жестами и смехом увлечь мальчиков в кладовую, где те буквально силой были освобождены от своей вполне цивильной одежды.
Обалдевшие от уймы выпавших на их долю приключений, братья почти не сопротивлялись, когда девицы со смехом и щебетанием умастили их тела какими-то кремами и затем одели в легкие, похожие на простыни туники. Вещи же их, несмотря на сопротивление и возмущенные вопли Луция, были собраны в один большой узел и упрятаны в ячейку со странной надписью на ней «До определения». После чего первая девица, привстав на цыпочки, поцеловала Луция в лоб, при этом целомудренном жесте ее вторая рука как бы мимоходом прошлась по низу его живота, а потом предприняла настоящий натиск в местах самых сокровенных, от чего юноша смог освободиться, только пятясь до самой двери и открыв ее задом.
— Если не найдешь ничего интересного, возвращайся после десяти, — на прощание прошептала ему бойкая гардеробщица, — пойдем на пир вместе и братика твоего захватим.
Луций очень странно ощущал себя без трусов, продуваемый снизу доверху, но по сравнению с тем, что могли они ожидать в случае захвата их горцами, жизнь казалась ему сказкой. Не зная, куда податься, вновь вызвали они лифт и вздумали отправиться вниз, чтобы спросить, где тут можно перекусить. О возвращении подземным ходом в метро юноша почему-то и не помышлял, просто держал глубоко в памяти как ценную информацию, воспользоваться которой пока не собирался.
В вестибюле было пусто. Они прошли почти до выхода на улицу, когда уткнулись в стеклянную дверь безо всяких запоров или ручек. По виду дверь была намертво заклинена, и у них не было никакого желания проверять это.
— Что, бедные птички, — услышали они голос за спиной, и чья-то мягкая рука ударила Луция по плечу, — тоскуете о потерянной свободе?
Юноша оглянулся и увидел невысокого круглого человека в маске и кожаных трусах. Большой кожаный футляр торчал у него под мышкой, а на ремне висели снабженные специальным крючком золоченая ложка, вилка и нож. Когда Василий повернулся следом за братом, с губ толстяка сорвался возглас удивления.
— Что же грустит этот цветочек! — спросил толстяк с энтузиазмом, и взгляд его с жадностью прошелся по выпуклостям мальчика.
— Хорошо бы пообедать в дружеской компании, — осторожно проговорил Луций, который, увидя в мужчине старожила решил, что именно тот должен привести их к обеденному столу.
— В закрытом кабинете отдельно от всех, — спросил мужчина, — или в одной из общественных едален клуба? Я так понимаю: вы новички?
— Мы здесь недавно, — сообщил юноша уклончиво, — но во всяком случае достаточно давно, чтобы проголодаться. Кроме того, нам не хватает друга, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями и освоиться.
— У меня есть немного времени, чтобы составить вам компанию, — признался толстяк, — к тому же я и сам не прочь заморить червячка. — С этими словами он направился к лифту, коротко кивнув братьям, чтобы они шли за ним.
На этот раз лифт проехал всего два этажа и остановился. Они вышли в помещении, которое было устроено как зимний вечнозеленый сад, да еще и зоопарк в придачу. Громадный холл был переполнен клумбами и гигантскими цветочными горшками. Между ними стояли клетки с попугайчиками, стеклянные ящики со змеями, а в некоторых местах на металлических цепях были привязаны звери и покрупнее.
Пятившийся с раскрытым ртом Василий, не желая пропустить ничего из массы интересных вещей, раскрывшихся перед ним, был буквально выброшен толстяком из кустов, за которыми с видом, не обещающим ничего хорошего, развалился гепард с серо-желтыми пушистыми лапами и алчущими глазами. Хотя на шее зверя был одет толстый бронзовый ошейник, когда он встал, цепь оказалась достаточной длины, чтобы словить мальчугана, замешкайся он еще чуть-чуть.
— Какой болван это придумал! — рассерженно проворчал Луций, крепко взяв брата за руку и пообещав задать ему трепку, если он еще раз будет зевать.
Толстяк, коротко рассмеявшись, сказал, чтобы они перестали дрожать, так как звери хорошо обучены и берут добычу только по приказу. Правда, вернуться и погладить гепарда он не предложил. Через несколько шагов искусственные джунгли расступились, и братья неожиданно оказались у стенки круглого бассейна, вокруг которого были установлены длинные каменные ложа. Почти на каждой лежанке находился так же легко одетый, как и они, мужчина, а то и двое. Вокруг бассейна скользили одетые в разноцветные куртки здоровенные мужики с подносами, при виде которых у ребят засосало под ложечкой и закружилась голова.
Лишь братья прилегли осторожно на ложе, как по мановению толстяка к ним подлетел слуга с подносом и расставил в изголовье несколько тарелок с дымящимся мясом, зеленью, сыром, фруктами и еще многим таким, о наличии чего в Москве братья и не подозревали.
— Все, что вы видите, это, так сказать, прелюдия, небольшая ароматная увертюра перед настоящим обедом. Лучше нагружайтесь мало-помалу и обратите основное внимание на спектакли, которые скоро начнут представлять, — напутствовал их новый приятель, который, так и не сняв маску водрузился на ложе рядом с ними.
Дальнейшие его слова заглушил громкий всплеск воды, и со дна бассейна сопровождаемый шлейфом из воды и пены вынырнул громадный черный сияющий крокодил. Не долетев метра полтора до бортика, он упал назад, злобно щелкнув пастью.
Только братья утолили первый голод и по совету толстяка прервались для лучшего пищеварения, как по всему залу раздались рукоплескания и крики. Не понимая, чем вызван весь этот гвалт, Луций перевел взгляд на толстяка, но увидел, что тот кричит и машет руками не меньше остальных. Через несколько секунд два здоровенных полуголых служителя в одинаковых красных туниках и косынках, повязанных на затылке, внесли в зал девушку. Слово «внесли» не соответствовало истине, потому что, хотя девушка была совсем хрупкая и худенькая, а слуги крупные и мускулистые, каждый шаг давался им с трудом. Девушка дергалась, царапалась, лягалась, чем необычайно затрудняла продвижение здоровяков. Когда они втащили ее прямо к бортику бассейна, Луций увидел, что девушка совсем голая, даже без набедренной повязки. Рот ее был окровавлен, видимо, в процессе движения она, когда могла, кусала своих мучителей. Подведя пленницу к краю бассейна, слуги разом растянули ее руки в разные стороны и силой принудили прислониться к гранитному борту.
Держа ее как бы распятой, с прижатой к стенке спиной и выдвинутыми вперед обнаженными грудями, стражи застыли, не обращая внимания на крики и плач их жертвы. Тотчас раздался еще более страшный всплеск, и крокодил, совершив еще более мощный прыжок из воды, показал раскрытую пасть как раз за спиной девицы.
— Что она сделала? — спросил юноша присевшего на край скамьи толстяка, который, чтобы не пропустить ни одной детали, даже привстал и сдвинул на лоб маску.
Толстяк ничего не ответил, и Луций увидел, что перед девушкой встал некто, одетый в белый плащ, с длинной блестящей иголкой кинжала в руке. Тотчас слуги, убедившись, что их помощь больше не нужна, отошли в стороны и скрылись за колоннами.
Человек в плаще неотрывно смотрел на девушку, словно желая ей что-то внушить, и медленно вращал блестящий кинжал перед ее лицом. Жертва, только что отчаянно кричащая, застыла, беспомощно глядя на вращающийся кинжал. Лицо ее, несмотря на многочисленные красные пятна и царапины, показалось Луцию юным и приятным, хотя и искаженным страхом.
Мужчина в белом сделал шаг вперед, и девушка, прикованная взглядом к кинжалу, отпрянула назад и вскочила на опоясывающий бассейн барьер. Тотчас все возлежащие вскочили и бросились к бортику, не желая пропустить самый интересный момент соприкосновения тела девушки с водой. Видимо, такого же мнения был и крокодил, потому что при всеобщем возбуждении он высунул голову из воды и взмахнул страшными челюстями. Однако гомон и движение сняли с девушки наведенные человеком в плаще чары. Она оглянулась, зашаталась, отчаянно крича, на самом краю бассейна и вдруг неимоверно гибким движением выпрямилась и рванулась вперед. Сбитый с ног маг или гипнотизер метнул ей вслед кинжал, но только задел плечо девушки. Стражи вновь выступили из-за колонн, и спустя мгновение вся толпа уже летела прочь от бассейна и уставленных едой столов за беглянкой.
У бассейна остались только вновь нацепивший маску толстяк и братья. Мужчина проводил равнодушным взглядом вопящую толпу недавних сотрапезников и повернул голову к ребятам.
— Вам, наверно, любопытно узнать, что все это значит, — спросил он усмехаясь, — я не против удовлетворить ваше любопытство, только сначала надо кое-что упорядочить.
Взгляд его уставился на неподвижное пятно у бассейна — тело гипнотизера в белом плаще. Гипнотизер не шевелился, и когда братья во главе с толстяком подошли поближе, они поняли почему. В суматохе кто-то успел сунуть гипнотизеру его же кинжал под лопатку и проткнуть его насквозь.
Толстяк носком сапога перевернул гипнотизера на спину и долго вглядывался в худое остроносое лицо старика. Потом без видимых усилий приподнял умирающего человека над бассейном и разжал руки. Луций хотел и не мог оторвать взгляд от белого плаща, который, как ему казалось, долго-долго трепетал, падая вниз. Как только раздался хлопок от соприкосновения тела с водой, черное раздвинутое пополам рыло нависло над плащом и, ухватясь за него, повлекло мага вниз, под воду.
— Лучше он, чем она, — произнес толстяк таинственные слова и, перегнувшись через барьер, стал смотреть внимательно в угол бассейна, где шла какая-то возня и поднимался со дна красный дым.
2. ИСЦЕЛЕНИЕ
Луций проснулся оттого, что рядом с ним кто-то плакал. Он приоткрыл глаза, на ощупь протянул руку и коснулся сотрясаемого рыданиями горячего тела брата. Тот лежал рядом с ним на каменном ложе, покрытом толстым верблюжьим одеялом, откинув простыню, и рыдал. Юноша обнял его и прижал к себе.
— Ты что? — спросил он почему-то шепотом, хотя комната, которую толстяк определил им для сна, была пуста и заперта самим же Луцием изнутри.
— Мне страшно, — прошептал мальчик. — Слышишь, кто-то кричит!
Юноша прислушался, но ничего не услышал.
— У тебя, мой милый, по-моему, нервы разыгрались, — сказал он брату. — Да это и немудрено после встречи с кавказцами. Как мы ноги от них унесли, до сих пор не представляю.
— Вот, вот! — вдруг вскричал Василий, приподнимаясь на локте. — Разве ты не слышишь?
Луцию, которому как раз приснилась Лина, с мягкой улыбкой обнимающая его за шею, так хотелось приклонить голову к подушке и забыться, что он совсем было рассердился на братишку, но что-то в голосе мальчика поразило его и заставило присесть на кровати. Василий тотчас сел рядом. Он мелко дрожал и с трудом унимал рыдания.
— Брат, где мы? — спросил Василий, да так жалобно, что у Луция от нежности и любви к нему сжалось сердце. — Куда мы с тобой попали? Это вообще не Москва. Посмотри на их одежду, а что они все говорят. По-моему, мы с тобой в сумасшедшем доме. Пожалуйста, давай уйдем отсюда.
— Нам бы хоть несколько дней здесь переждать, — вздохнул юноша. — Разве тебя кто-нибудь обидел?
— Пока еще нет.
Вдруг Василий замолчал и крепко сжал запястье брата. На этот раз Луций и сам услышал где-то вдалеке то ли человеческий крик, то ли еле слышный вой животного.
— Мне сон приснился, — со слезами рассказывал мальчик. — Будто какие-то люди привели меня в большую комнату. Там посередине табурет, а на нем сидит чучело, громадное, рогатое, с головой до потолка. И надпись под ним в рамке: «ИБЛИС». Только мы туда вошли, как из другой комнаты выбежала громадная черная собака с желтыми подпалинами на плечах и вытянутой мордой и завыла перед изображением этого самого Иблиса. А потом посмотрела на меня, оскалилась, и… я увидел, что у нее на морде кровь…
— Так это же сон, — терпеливо убеждал брата Луций, — во сне что только не приснится…
— Так вот же она воет, — всхлипнул мальчик. — Разве мы спим?..
И в самом деле очень далеко, но вполне различимо вновь прозвучал на высокой, почти визжащей ноте вой животного.
— Да тут все ясно, — успокаивал брата юноша, хотя от этих звуков у него самого мурашки пошли по коже. — Где-то воет запертый хозяином пес, во сне ты услышал его и сразу выстроилась картинка.
— Нет, — упорствовал Василий, — я даже знаю, где эта комната с надписью «Иблис» и рогатым чучелом. Я же во сне шел из нашей спальни по коридору направо, потом по узкой лестнице вниз. Там открытая дверь с цифрой ноль, выведенной золотом на белом, а за ней следующая черная с тремя засовами. Вот эту дверь и отперли люди, которые меня привели. И люди эти были не в римской одежде, а в длинных белых накидках и шароварах, как одеваются на Востоке. Я такое придумать бы не смог.
— Хорошо, — сказал Луций после некоторого раздумья. — Сейчас ночь, наша дверь крепка и заперта изнутри на щеколду, так что никто не может в нее войти. Но обещаю тебе, что рано утром, пока ты еще будешь спать, я обязательно спущусь вниз и проверю твой рассказ. Завтра, кстати, толстяк обещал нас свести на какое-то интересное зрелище, от которого все обитатели этого клуба без ума, так что выспись как следует.
Ничего более не говоря, Василий сонно вздохнул, крепко прижался к брату, накрылся с головой одеялом и снова заснул. Сон его, правда, был хоть глубок, но тревожен, потому что он часто дышал, вскрикивал и иногда с его губ срывался легкий стон. Однако на все попытки юноши его разбудить он отвечал недовольным бормотанием, так что тот оставил наконец брата в покое. Некоторое время Луций лежал, прислушиваясь, не раздастся ли еще раз этот ужасный, похожий на собачий вопль, полный страдания, но все было тихо. Тогда он еще несколько секунд помечтал о встрече с Линой и сам заснул.
Утром, верный обещанию, данному брату, Луций встал очень рано и быстро соскочил с постели. Василий спал. Не желая будить мальчика, Луций бесшумно оделся и вышел из комнаты. Помня о рассказе брата, он пошел было по длинному каменному коридору, но вдруг остановился. Столько реализма было в рассказе Василия, и так необычна была атмосфера дома-города с названием «Римский клуб», что юноша почувствовал себя голым и беззащитным в своей белой простыне с застежкой, изображающей тунику.
Дикие звери, пресмыкающиеся, распинаемые девицы и пронзаемые кинжалами жертвы — все это кричало о постоянной опасности. Картина вчерашней расправы над заклинателем представилась ему во всех деталях. Он вспомнил, как толстяк перевернул гипнотизера на живот и, прежде чем скинуть в воду, вытащил у того из спины кинжал. Только что он сделал с кинжалом потом: заткнул за пояс или отбросил в сторону? Луций по памяти стал искать вход в пиршественную залу, в которой накануне они пробыли до вечера, пока по распоряжению толстяка их не отвели в спальню.
Найти ее оказалось на удивление просто. Посередине залы у бассейна незамытые пятна крови свидетельствовали о том, что отсюда началась погоня за девушкой. Луций огляделся, обошел бассейн, держась подальше от его стенок, и наткнулся на кинжал именно в том месте, куда его отшвырнул толстяк. Вздохнув, он ополоснул ржавый от крови клинок и, обернув его куском плаща гипнотизера, аккуратно привязал к туловищу под мышкой. Потом решил вернуться в спальню, чтобы проснувшийся Василий не слишком испугался его отсутствия.
В коридоре Луция задержала шеренга слуг, несущих рыцарские доспехи, причем каждую минуту на каменный пол летели то бронзовый меч, то железный панцирь или стальной щит. Падение предметов сопровождалось разнообразной и сочной руганью. Юноша постепенно сообразил, что люди эти вовсе пьяны. Не скрываясь, он пошел за шеренгой, но команда носильщиков внезапно затормозила. Пока старший из них докладывал охране о причине, приведшей его в личные покои Хиона, Луций было попытался ускользнуть. Однако ожидающий рядом с ним слуга, в руках у которого была длинная алебарда с обитым медью древком и сверкающим лезвием, сел, шатаясь, на пол и тут же заснул. Едва подхватил Луций выпадающий из рук мужчины предмет, как раздалась команда «Вперед!», и ничего еще не сообразивший юноша был поставлен в строй.
Луций впервые видел Хиона так близко, и с удивлением и неприязнью рассматривал невысокого широкоплечего вождя с энергичным крестьянским лицом и голым, как яйцо, черепом. Перед Хионом стоял его домоправитель с толстыми плечами и толстой задницей и все время откидывал назад прядь сальных редких волос.
— Меч Александра Македонского! — вдруг истошным голосом заорал домоправитель.
Из шеренги склонившихся перед Хионом слуг вышел один и смиренно положил в ноги хозяину большой меч. Хион тут Же под аплодисменты присутствующих выжал его над головой, как штангу, и, зафиксировав вес, положил обратно.
— Тяжелый, — выдохнул он, потирая дрожащие от напряжения руки и выжидательно глядя на эконома, — я что, таким должен махать?
— Александр махал, — уклончиво ответил домоправитель и по его сигналу из шеренги вышел второй слуга и положил перед гордо задравшим голову хозяином дребезжащий, натертый до блеска металлический панцирь. — Доспехи божественного императора Нерона! — хрипнущим голосом вскричал эконом и потянулся вниз — помогать Хиону одеваться.
Хион только качнул доспех ногой но, признав металл настоящим, натягивать на себя отказался.
— Ты мне, Хейдарович, еще лошадь Калигулы подсуропь, — ехидно посоветовал он домоправителю. — С каких херов ты знаешь, что оно все императорское?
— Экспертизу проводили, — уклончиво заявил эконом, но испытывать судьбу не стал и кивком головы предложил слугам высыпать на ковер весь прочий металлолом. Выросла небольшая куча невостребованных изделий, из которых внимание Луция привлек ультрасовременный арбалет с оптическим прицелом, к которому была прикреплена табличка с надписью: «Лук царя Итаки Одиссея».
Уяснив, что его шулерство не проходит, толстая бестия Хейдарович ни капли не устыдился, а нашарил за пазухой большую амбарную книгу и стал ее перелистывать.
— Вы, Юрий Иванович, прекрасный хозяйственник, но с воображением у вас плохо. Я вам выставил атрибуты государственной власти различных времен и народов как символ вашего величия, а вы меня хуями за это обложили.
— Брань на вороту не виснет, — рассудительно ответил ему Хион, вовсе не реагируя на то, что его обозвали неведомо каким Юрием Ивановичем, — что у тебя еще?
— Я о животных, — сказал эконом, лихорадочно перелистывая страницы в поисках нужной, — которых мы получили взамен гуманитарной помощи из Африки. Так им еды осталось всего на три дня, да и то консервы. Сырого мяса для тигров и прочих кошек нет. Вместо сена буйволы перешли на комбикорм, а сказать, чем мы кормим носорогов, так просто язык не поворачивается. Полягут звери, не дождавшись вашего триумфа.
— Ты мой триумф не трожь, — одернул хозяин зарвавшегося слугу, — а то я тебя самого в качестве сырого мяса тиграм употреблю. Ты лучше скажи, подлец, где фураж? Половину валютного оборота тратим на этих фуфлыжных хищников, отдачи никакой, а ты говоришь, что все мясо уже проедено. Что же они у тебя его тоннами жрут? Сено два совхоза косят денно и нощно для этих живоглотов, а ты еще вызверился на комбикорм. Да вообще, какой идиот выписал этих зверей, когда в городе и людям жрать нечего!
— Вы, — перешел в атаку эконом, тряся над головой книгу. — Кто хотел, чтобы все было как в древнем Риме: гладиаторские бои, травля христиан — при данной ситуации, наоборот, язычников, — жертвоприношения в сектах! Звери не виноваты, что у вас мания величия.
При этих словах Хион, как пушинку, схватил тяжеленное копье и, в точности повторяя движения Ивана Васильевича на известной картине, запустил им в Тимура Хейдаровича. Тот с неожиданным проворством отклонился, и копье, пролетев в вершке от его живота, мирно вонзилось в паркет. Исчерпав таким образом свои аргументы, Хион присел в кресло и стал слушать своего оппонента дальше.
— Именно тоннами, — подтвердил эконом свою последнюю мысль. — Это вам не коты и левретки, а взрослые хищники с тренированным аппетитом. По данным нашего ЦСУ, один лев может съесть за день средних размеров быка. А их у нас вместе с тиграми и ягуарами двенадцать штук. Хотите экономить на популярности, наловите в Муромских лесах зайцев да куропаток и травите ими военнопленных, а благородных животных не следует мучить голодом.
Хион почесал в затылке, изучив переданные домоуправом цифры, и спросил с надеждой:
— Вот я читал, в Индии слонов давали на постой… может, и нам так разобраться… Или другое… постой, постой… — продолжил он, вглядываясь в красные морды трезвеющих слуг. — Может, этих скормить? Сэкономим вдвойне на рационе.
— Да что вы, — отмахнулся Тимур Хейдарович, — политически не выдержанная акция. Сразу упадем в общественном мнении. Потом, свои ребята, за вас в огонь и воду…
— Да шучу я, шучу, — отмахнулся Хион, — просто я смотрю до дня «X», они нас просто разорят своим хищническим аппетитом.
С этими словами Хион окинул критическим взглядом своего помощника по хозяйственной линии и стал, ни слова не говоря, вокруг него прогуливаться, обозревая со всех сторон круглый живот последнего и мясистые ляжки. Одетый в один хитон Тимур Хейдарович безропотно терпел выходки шефа, только отвислые его щеки налились краской.
— Слушай, — спросил наконец Хион, — а сам ты с каких хлебов так разжирел? Когда журналистом работал в экономическом отделе, совсем стройный был, а сейчас прямо вылитый порося. Ты, часом, у моих зверей мясо не кроишь?.. Денег я, конечно, дам, — заключил Хион, — да только пойдем проведем показательную экскурсию на ту зоологическую площадку, где у тебя звери томятся. Заодно еще раз проверим их аппетит. А может быть, и твой.
Процессия с пустыми на этот раз руками потянулась к выходу вослед за степенно шагающим начальством. Ошельмованный Тимур Хейдарович что-то доказывал хозяину, размахивая в такт движению коротенькими ручками, а сам Хион только смеялся и заставлял слуг по очереди изображать то рычание льва, то конское ржание, то вой пантеры. Дождавшись, когда процессия, которую он замыкал, миновала очередной поворот Луций благополучно отстал.
Уже подходя к спальне, юноша увидел, что дверь, которую он плотно прикрыл, уходя, наполовину открыта. Сердце его забилось сильнее. Прибавив шаг, он заглянул за дверь и остановился. Василий, все так же завернутый с головой в одеяло, мирно спал. Луций перевел дух и собрался было уходить, как внимание его привлекла смятая белая тряпка. Когда он проснулся, ее не было. Приподняв двумя пальцами тряпку, он вдруг понял, что это такая же туника, как и на нем, только покороче и поуже. Это была одежда Василия.
— Брат, — позвал юноша, полный неясных предчувствий, — брат, проснись!
Однако Василий не пошевелился. Луций подбежал к кровати и сдернул с мальчика одеяло. Тотчас с криком он отскочил назад и, задыхаясь от ужаса, прижался к стене. Черный пес с треугольной пастью и следами крови на морде медленно поднялся с кровати и зарычал. Юноша, не помня как, достал кинжал и уставил лезвие на зверя. Тот присел, потом с рыком рванулся вперед, но в последний момент, когда кинжал уже касался его груди, извернулся, как кошка, приземлился на все четыре лапы и выскочил в дверь.
Потрясенный юноша сел на кровать и молча, тяжело дыша, обвел комнату изучающим взглядом. Кроме скомканной туники и следов крови на простыне, впрочем, старых, почти черных, в спальне, казалось, ничего не изменилось. Он медленно встал, обошел ложе, встряхнул одеяло, и из-под него выпала маленькая фигура, вырезанная из черного камня. Скульптурка изображала задрапированное в ткань человекоподобное существо с тремя лицами, причем одно из них ангельской красоты было украшено венцом, другое обезображено рогами, а третье принадлежало старику с горящими глазами.
Мрачная скульптура, несмотря на малые размеры, производила ужасное впечатление законченностью деталей и линий и той невероятной жизненной силой, которую вдохнул в нее древний художник. Опасаясь за жизнь брата, Луций, перебарывая страх, овладевший им с новой силой, побрел из комнаты, руководствуясь ночным сном Василия. Все оказалось точь-в-точь, как рассказывал брат, и через несколько минут спуска Луций застыл перед дверью, на которой сияла цифра ноль, выведенная золотой краской на белом фоне. Из-за двери раздавались глубокие, хотя и негромкие звуки музыки, и юноша после некоторого колебания открыл ее. Следующая кованая черная дверь в окончании крохотного коридорчика была открыта. Перед Луцием вырисовалось громадное, уходящее вдаль помещение, внутри которого юноша разглядел в тусклом свете толпу тесно прижавшихся друг к другу людей. Чад зажатых в их руках факелов ел глаза, но люди этого не замечали. Факелы не могли разгореться, как и людям, им не хватало воздуха. Увидев, что все окружающие его фанатики босиком, юноша сообразил снять туфли и сунул их в карман.
Цементный пол сразу остудил ноги. Луций оглянулся. Путь назад уже был закрыт прибывающими по двое, трое людей. Он пробрался к стене, чтобы укрыться за одной из колонн. Пока на юношу никто не обращал внимания. Холодное черное изображение у него в руке вдруг потеплело и, казалось, вздрогнуло. Посереди залы Луций увидел статую с ангельским ликом. Точно такую, которая была у него в руке, только во много тысяч раз больше. Все взгляды были устремлены на статую. Ее взгляд притягивал собравшихся, гипнотизировал и заставлял беспрекословно повиноваться.
Луций вжался в нишу, чтобы уйти, оторваться от сверлящих его глаз, но не мог. Раздался шум, верующие раздвинулись и пропустили молодого мужчину с пластичными движениями рук и красивым чуть накрашенным лицом. Он пробежал по инерции несколько шагов и повалился лицом вниз к ступеням, ведущим к стопам божества. Потом вскочил и замер, вглядываясь куда-то за гудящую и аплодирующую толпу.
— Я чувствую трепетный шаг великой и могучей праведницы! — истерично крикнул он в толпу.
Гул утих. Ассистент жрицы вслушивался в ее приближающиеся шаги, и зал напряженно следил за ним. Когда он склонился, фанатики последовали за ним, приветствуя жрицу. Она подняла их движением руки и застыла на ступеньках.
Жрица была боса. Ее черные волосы небрежно рассыпались по грубому короткому платью. Высвечивающее из лохмотьев точеное тело было украшено замершей на груди ниткой крупного жемчуга, такие же сережки сверкали в ушах. Удлиненными широко раскрытыми глазами женщина гордо лицезрела присутствующих, и они бессознательно сдвинулись к ней. Их остановил высокий голос жрицы.
— Многие меня считают целительницей. Но все прекрасно знают, что своими слабыми руками, — она протянула верующим ладони и показала их, — я не могу вылечить даже комара. Но я никого не обманываю. Я посланница нашего великого демона-искупителя. Он сейчас здесь, среди нас. Кто он?
— Иблис! — заревела толпа. — Бог зла, снизойди к нам!
— Жертву! — крикнула жрица. — Жертву Сатане! Мы найдем ее среди нас, среди тех, кто под маской веры скрывает страх, кто не возлюбил дьявола, как любим его мы. Они могут притворяться сколько угодно, но всевидящее око нашего владыки разыщет их.
Прислушайтесь, — продолжала она, — в вас входит чувство единения со всем мировым злом от вашего подземного отца!
Протянутые к верующим руки звали принять слова жрицы. Даже Луций, испытавший внезапный ужас при мысли о еще не найденной жертве, ощутил против своей воли легкие, чуть заметные робкие толчки. Постепенно они становились настойчивее, тверже, и уже не толчки, волны теплоты накатили на него, успокоили, обласкали, проникли в душу и больше не отпускали. Они наполнили юношу, и он уже не разбирал, где лицеист, пришедший спасать брата, а где жаждущий крови фанатик.
— Ты растворяешься в лучах Бога-Сатаны, — продолжала нашептывать жрица, — сливаешься с ним, уходишь от гнетущей реальности, забываешь близких и воскресаешь к великой жизни во Зле. Вот она — встреча с прекрасным, вдохнувшая в каждого из нас чудовищную силу. Я и сама чувствую, — закончила жрица, и голос ее зазвенел, будто полетел вниз ручеек серебряных монет, — готовность на великие подвиги во славу его.
Ассистент подвел к жрице незрячего мужчину.
— Один из наших ослеп, — проговорил он. — Чужой бог наказал его за любовь к нашему Богу.
Жрица взяла голову слепого в ладони и кивнула головой:
— Да, он точно один из наших. Попробуем ему помочь.
Она плюнула на пальцы, провела ими по закрытым глазам мужчины и повелела открыть их, но слепой медлил. Он боялся разочарования, если вдруг чудо не произойдет. Зал подбадривал несчастного, и он решился. Его веки судорожно дернулись, и в зрачки ударил поток света.
— Вижу, о Сатана! — закричал ошеломленный мужчина и, несмотря на резкую боль в глазах, бросился к ногам целительницы.
— Воздай дьяволу! — решительно отвергла она благодарность.
Мужчина поцеловал ступени пьедестала и, оторвавшись от них, обвел зал широко открытыми, прозрачными, как у невинного ребенка, глазами. Издав радостный клич, он бросился в пляс и в полном безумии пригласил жрицу разделить его радость в танце, посвященном злому богу. Она опустилась на колени, поцеловала прах перед ступнями ангелоподобного бога и что-то увлеченно горячо зашептала, но ноги ее уже не выдерживали. Ее охватила мелкая ритмичная дрожь.
— Выйди к нему! Выйди! — скандировал зал. В такт танцу начали сжиматься и разжиматься пальцы жрицы. Иногда она склоняла набок голову, и тогда длинные волосы захлестывали разгоряченное лицо, и приходилось вновь и вновь отбрасывать их движением головы. И вот, сметая мелодию, ритм движения, в танец включилось все полуобнаженное гибкое тело. Жрица бросилась в зал, и верующие в силу великого бога потянулись, чтобы удержать ее; она отступала, как бы опомнившись, но руки взметались вновь и вновь, чтобы обнять ее и прижать к себе.
Музыка становилась все оглушительнее и бравурнее. Опьяненные вином и музыкой верующие, срывая с себя одежду, выделывали самые немыслимые телодвижения. Через несколько минут во всем громадном мрачном зале были слышны лишь сладострастные звуки, стоны и прерывистое дыхание. Это верующие занимались любовью прямо на полу. Извергнув семя, некоторые мужчины бросались к алтарю Сатаны и оскопляли себя на его ступенях, возбуждая еще не насытившихся чужой плотью.
Разгоряченные, с горящими глазами люди упивались предсмертными стонами и жуткими криками оскопленных. Появились ассистенты в красных хитонах с белыми поясами, они перевязывали полумертвых людей полотенцами и уносили. Один из несчастных вырвался и, извиваясь из последних сил, подполз к жрице, потянулся к ней руками, но затих.
Сверкающий взгляд жрицы, казалось, пронзал полумрак. Луций тщетно пытался скрыться от него за колонной, когда целительница безошибочно высмотрела среди голых совокупляющихся верующих единственного понуро стоящего в одежде юношу.
— Вот он, — закричала она, — хватайте его! Вот наша искупительная жертва!
Прежде чем толпа бросилась на него, Луций развернулся, толкнул черную стальную дверь и закрыл ее за собой на все три засова. Потом он рванулся вперед, но не тут-то было. Дверь, ведущая в коридор, не поддавалась. Луций оказался в ловушке. Ему оставалось слушать, как фанатики безуспешно пытаются разбить стальную дверь, и готовиться к схватке.
Наконец раздался звонкий голос жрицы: «Идите, я сама с ним разберусь», потом громкий хлопок в ладоши и выкрик: «Охрана!»
3. ЖРИЦА
Измученный безуспешными попытками открыть входную дверь, Луций обессиленно присел в сенях. Постепенно духота закутка сморила его, и он сам не заметил, как задремал. Спал он недолгим и тревожным сном. Когда юноша открыл глаза, в зале за дверью была полная тишина, так что через несколько минут напряженного вслушивания Луций рискнул отодвинуть засовы.
Громадный зал был пуст и мрачен. Мертвых фанатиков давно унесли, пол замыли от блевотины и крови. Только громадный черный бог с ангелоподобным ликом сурово смотрел вдаль, не обращая никакого внимания на припавшую к его стопам женскую фигурку. Стараясь шагать как можно осторожнее и тише, Луций прошел краем зала за колонны и очутился в маленьком притворе с еще одной дверью. Не раздумывая, он толкнул ее, и она поддалась. Помещение было полно диковинных вещей, но потом, как ни старался, юноша не мог вспомнить, каких именно. Мерещились ему какие-то причудливые вазы и амфоры, чудовищные колбы и реторты, фигуры зверей, внезапно оживающих и снова каменеющих, и еще многие другие предметы. Как во сне, прошел он кабинет алхимии и попал в убранный в чисто восточном стиле зал, обитый голубым шелком, многочисленные низенькие диванчики и пол которого были устланы коврами. На одной из лежанок сидела хорошенькая девочка лет десяти и громко плакала. Она была в легкой полупрозрачной накидке и плотно обтягивающих блестящих рейтузах. Крупные слезы стекали по прекрасному лицу и падали на грудь. Девочка с интересом посмотрела на Луция и стала понемногу успокаиваться. Видимо, она не считала приличным рыдать при посторонних.
Луций осторожно, чтобы не напугать девочку, приблизился к ней, сел на краешек дивана и улыбнулся. Девочка тоже улыбнулась, потом вскочила так резко, что накидка упала с ее плеч, обнажив черный кружевной бюстгальтер, более уместный на зрелой женщине.
— Ты чья? — поинтересовался юноша, не зная, как спросить о брате.
Девочка утерла последние следы влаги с румяных щек и защебетала:
— Он говорил, что ты обязательно придешь, что ты не оставишь его на заклание, и еще он говорил, что я узнаю тебя потому, что ты не такой, как все.
— Ты говоришь о Василии? — переспросил Луций, и девочка согласно кивнула.
— Вы нисколечко не похожи, — продолжала она щебетать, — и ты красивее.
— Где он? — вновь спросил юноша с придыханием и замолчал, боясь спугнуть легкую, как птица, девчонку.
— Он наверху, — спокойно отвечал ребенок, — в гримерной. Он же будет главной жертвой на Черной мессе. Сейчас его разрисовывают.
— Где же гримерная? — заторопился Луций, представляя брата связанным в руках изуверов.
Девочка встала на легкие ножки, подвинулась к юноше вплотную, взяла его за руку и долго рассматривала большими серыми глазами.
— Ты чужой, — сказала она наконец. — Я не могу привести тебя в гримерную, меня наставница накажет.
— Неужели тебе не жалко? — попытался воздействовать на нее Луций. — Его же убьют.
— Жалко, — всхлипнула девочка и вдруг бросилась Луцию на грудь. В то время как одна рука ее ласкала под туникой его спину, другая обняла шею юноши, а нежный язычок защекотал мочку уха. — Если ты меня поцелуешь, — шепнула девочка, — тогда, может быть, я проведу тебя, но я хочу очень крепкий поцелуй.
Крепко схватив Луция, она приникла к его губам. Руки юноши невольно сжали хрупкий стан и отпустили.
— Давай поженимся, — зашептала девочка, и ее нежные пальчики, как по клавишам, забегали по его телу под туникой.
— Меня зовут Лена.
Луций попытался отстраниться, но девочка, тяжело дыша, еще сильнее к нему прижалась. Ее руки что-то делали с ним, отчего он вдруг забыл обо всем. Девочка помогла ему сбросить тунику и села на юношу верхом.
— Я же тебя разорву, — шептал Луций уже не в силах сопротивляться ее изощренным прикосновениям.
— Я стала женщиной в семь лет, — успокаивала его она, — а теперь мне уже одиннадцать, не бойся за меня.
Кудрявая головка удобно устроилась у юноши на груди, а голая попка ритмично ходила вверх и вниз… Очнулся Луций оттого, что в диванную кто-то вошел. Он открыл глаза и увидел жрицу, которая неуверенно, даже с какой-то растерянностью переводила взгляд с обнаженной девочки на юношу.
— Я знаю, кто ты, — сказала она, — можешь не объясняться. Эта маленькая стерва наверняка наобещала тебе золотые горы, только чтобы ты с нею лег, не правда ли?
Резкий голос женщины, контрастирующий с ее тонко очерченным, очень белым, трепетным лицом, заставил юношу вскочить и быстро натянуть тунику.
— Так вот, — продолжала жрица, подходя почти вплотную к Луцию и почти касаясь его губ чувственным ртом. — Она тебе налгала. Твой брат избран жертвой, и тут даже я ничего не могу поделать. Он обречен, но пусть это тебя не огорчает. Человеческая жертва Иблису может растрогать Бога, и тогда он возьмет твоего брата к себе в услужение. Каждый из нас в любой момент отдал бы жизнь за такую участь. Только боги очень разборчивы.
Мои люди не могли разбить дверь и наказать осквернителя Храма. Когда ты убежал, я припала к ногам Бога с мольбой о смерти, но смерть не пришла. Мне оставалось лишь биться в рыданиях во славу Иблиса, осыпая себя проклятиями, пока, разбитая, я не затихла и не впала в забытье. Тут мне предстало видение. Сатана нагнулся ко мне и произнес: «Не отчаивайся. Это я скрыл юношу от толпы. Он должен остаться здесь и служить мне. Иди, я укажу тебе другой путь, как его найти». Я попыталась подняться, но от долгого лежания на камнях меня начало знобить, и я без сил опустилась на ступени, чувствуя, что меня охватывает приступ лихорадки. Тогда Бог сам спустился ко мне, взял меня за руку и повел, сказав: «Следуй за мной, но знай, что сломить недуг может только одно средство». И я, боясь отпустить его руку, последовала за ним. Помоги мне, и, быть может, я смогу помочь тебе. Я все-таки не маленькая девочка, а полновластная хозяйка Храма.
Жрица неожиданно встала на колени и обняла бедра Луция. Машинально он попытался вырваться из ее горячих рук, но они еще крепче стянули его. Прекрасные, в мягких слезах глаза женщины молили быть с ней, и он подчинился им.
— Ты поможешь мне? — с надеждой спрашивала жрица вновь и вновь, исполняя волю своего бога.
— Да, если ты поможешь мне. Мне нужен брат. За него я все сделаю для тебя.
Женщина, ласково улыбаясь, настойчиво притягивала юношу к себе. Он чувствовал, как безразличие сменяется в нем желанием новых ласк.
— Но она, — кивнул Луций на девочку, стесняясь чужих глаз.
Жрица хлопнула в ладоши, и тотчас из другого, скрытого входа вбежали храмовые слуги. По знаку своей госпожи они бережно взяли диван, на котором уснула утомленная девочка, и унесли ее. Девочка не проснулась, а лишь блаженно потянулась.
Спокойные пальцы жрицы убаюкивали юношу. Она склонила его голову себе на грудь. Ее руки длинными волнистыми движениями струились по его волосам. Луций не мог уже противиться ласкам жрицы. Он прижался к ней и отдался ее упругому зовущему телу. Жрица упала на ковер, помогая юноше. В это время из отброшенной туники выпала статуэтка бога. Однако жрица не заметила этого, и Луций потонул в ее объятиях в тысячу раз более сладостных и изощренных, чем объятия девочки.
Когда юноша пришел в себя, перед ним стояла жрица уже полностью одетая и очень взволнованная. В руках она держала каменную фигурку Сатаны.
— Откуда это у тебя? — спросила жрица, и Луций увидел, как в ее прекрасных глазах промелькнул ужас. — Это очень редкая и древняя вещь, я только слышала про нее, а вижу впервые.
Юноша объяснил, что нашел статуэтку у себя в спальне, но жрица только покачала головой.
— Ты путаешь, — возразила она. — Значит, он наслал на тебя затмение. Еще ни один человек, который носил это, добром не кончил, — продолжила жрица, по-прежнему недоумевая. — Но от моих людей ты теперь защищен. Можешь идти наверх, тебе даже не нужна моя помощь. Покажи людям, которые готовят мальчика, эту статуэтку и скажи: «Именем Сатаны я забираю его». Никто не посмеет противиться.
— Ты меня дождешься? — спросил Луций с надеждой. — Мы сейчас вернемся.
Юноша не заметил, с каким ужасом и мольбой смотрела на него жрица, когда он запихивал фигурку в карман.
Луций не узнал брата в том накрашенном, насурьмленном мальчике, которого ему вытолкнули служители культа в наскоро напяленной первой попавшейся одежке. Когда Василий стер грим, то оказалось, что щеки его исцарапаны, а на скуле чернеет огромный синяк. Но главное, что он был жив, и ни один последователь Сатаны не посмеет его вернуть назад. Юноша решил, что пока мальчик находится в Римском клубе, грех выбрасывать статуэтку, производящую такое сильное действие на фанатиков. Он утешил брата и пообещал, что никогда не будет более с ним разлучаться. Когда Василий заснул, свернувшись в комочек на диване, юноша вновь обратил внимание на неподвижно сидящую у стены жрицу.
«Разве можно служить злым богам, — подумал Луций. — Мог бы я, например, спокойно смотреть, как ребенка волокут на алтарь и хладнокровно режут, как ягненка. Что это за бог такой, который принимает в жертву невинную душу, и что это за служительница, подчиняющаяся его волеизъявлению? Как могла эта прекрасная юная женщина, которая только что убаюкивала его после бурных ласк, как мать, так сломаться в своей прежней жизни, чтобы стать прислужницей дьявола. Что же могло произойти за столь короткий в человеческом измерении срок, чтобы отвести от естественного добра к полному злу. Или, может быть, таких прислужниц с юности готовят к поклонению злу, тогда сидящая перед ним женщина — просто чудовище, не ведающее что творит». Но юноша знал, что это не так.
— Сколько лет ты служишь жрицей? — задал он невинный с виду вопрос.
Жрица пододвинулась к нему, вытянула белую руку из-под свободно развевающейся золотистой хламиды, сквозь прозрачный шелк которой были видны ее голые плечи и округлая грудь. Юноша не смог преодолеть внутреннее сопротивление и отодвинулся.
— Ты не об этом хотел спросить, — улыбнулась жрица и почти насильно взяла руки Луция в свои горячие пальцы.
— Ты хочешь узнать, как душой моей завладел Сатана, где, как ты считаешь, я оступилась и ушла по дьявольской дорожке. Будь честен со мной, милый, это так?
Когда Луций кивнул, жрица продолжила:
— Могу тебе сказать, как ты, наверно, и сам догадался, — и снова тонкая улыбка скользнула по ее коричневым накрашенным губам, — что высших служителей культа готовят годами. Так и я проходила обучение у великих учителей сатанизма. Но прежде чем попасть в такую школу, — поверь мне, это более сложно, чем в богословскую академию, — нужно самому прийти к богоотступничеству, постигнув много подвигов зла.
О своем пути мне трудно говорить, кроме того, я не хочу сбивать тебя с толку софизмами, в которых не отличить правду от лжи. И не думай, что я хочу оправдаться перед тобой, хотя не скрою, за те немногие часы, которые мы провели вместе, ты как-то вошел ко мне вот сюда, — ткнула она себя под левую грудь длинным тонким пальцем. — На самом деле… — она улыбнулась и так неожиданно крепко прижалась к юноше, что он не решился развести ее руки, — на самом деле мне хочется, чтобы ты как можно дольше не забывал этот день, и я готова чуть приоткрыть тебе мои мысли и отточить свои. Ведь мы будем говорить о предмете, который я пропустила через свою жизнь, а ты знаешь лишь умозрительно через свою мораль. Только, пожалуйста, не спорь со мной, а просто отвечай на вопросы, потому что на низших ступенях служения мы регулярно проводим диспуты, в которых обязаны выступать и за ту и за другую сторону.
Конечно, человеческое жертвоприношение кажется преступлением на уровне здравого смысла. Но что останется от твоего здравого смысла, если чуть-чуть сдвинуть плоскости логики. — Она внимательно посмотрела на него. — Тебя вряд ли воспитывали в какой-то вере, по-моему, ты сирота?
— Почему ты так решила? — спросил Луций чуть отвернув от жрицы голову. Тщетность недавней петербургской поездки стала настолько ясной, что он чуть не сплюнул, желая подавить горечь во рту. — Мои родители живы, просто я с детства не живу с ними.
— Ты с детства, а твой младший брат — никогда. Какая разница — живы они или нет, если их нет рядом с тобой. Итак, ты — сирота и вряд ли воспитан в лоне какой-нибудь из религий. Признайся, так?
— Так, — отвечал юноша, не понимая, куда она ведет.
— Тогда ты наверняка не видишь ситуации, при которой человеческое жертвоприношение было бы добром.
— Нет, — сказал Луций твердо.
— Но если мы верим в Сатану и признаем, что он существует, следовательно, принося в жертву одного, мы спасаем тысячи. Скажи, что лучше: гибель одного человека или миллионов? Ужасно горе одной матери, но если этим спасаются тысячи матерей, которых иначе дьявол оставил бы без их детей?..
— Не знаю, — ответил юноша. — Я не могу тут считать. — Он посмотрел на спящего Василия и решил, что не мог бы пожертвовать им даже ради спасения всех мальчиков из его интерната. — Я думаю, что невозможно считать добро как кусочки сахара, — запинаясь произнес он. — Конечно, если бы ты сказала, что одной жертвой можно было бы выкупить у смерти всех людей сразу, тогда я бы еще заколебался, а так…
— Наверно, ты имеешь в виду судьбу Иисуса, который своей смертью искупил все человеческие грехи? Ответь мне, пожалуйста, — и вновь она улыбнулась ему нежно и покровительственно, как маленькому ребенку, — раз с жертвоприношением мы ничего не выяснили, может ли быть добро без зла?
— Конечно, — произнес Луций убежденно. Он даже вскочил с дивана и зашагал по комнате. — Я верю, что когда-нибудь зло будет побеждено. Ему не должно быть места в мире.
— Скажи тогда, как узнать, что люди делают друг другу именно добро, если зло исчезнет. Когда засуха губит урожай: это добро или зло? Не со стороны людей, а со стороны засухи?
— Не добро и не зло, — отвечал юноша после некоторого размышления. — Это стихийное бедствие. А к природным явлениям не применимы категории человеческого бытия.
— Следовательно, можно сказать, что добро и зло пришло в мир с человеком, который один ведает результаты поступков. Наверное, ты не будешь возражать, что в настоящее время наш мир являет своего рода равновесие добра и зла. И может быть, тебе покажется справедливым, что добро может существовать только в борьбе со злом, и значит, зло есть необходимый элемент развития. И никогда без зла добро не станет таким сильным, чтобы воцарился на Земле новый Золотой век. Вспомни, что происходит с твоими мышцами без тренировки.
— Не знаю, — все так же осторожно отвечал Луций. — Мне всегда казалось, что может быть найдена высшая цель, служение которой и будет добро. Качество такого добра будет определяться результатом в достижении цели, и не потребуется сопоставлений со злом.
Он не стал договаривать, что видел для себя эту цель в служении Предвечному. Сдерживало же бесповоротность его решения лишь то, что Слово Высшего Божества не было открыто людям.
— Я не хочу тебя разубеждать, — сказала жрица в замешательстве, не способная противостоять аргументам Луция, но интуитивно чувствуя, что если бы ей удалось внушить ему новую высшую цель, то, возможно, удалось бы обратить юношу.
Как бы ища поддержки, она увела его в зал Сатаны. Обходя зал по периметру и направляя небольшой предмет цилиндрической формы на вдетые в бронзовые кольца на стенах факелы, она зажигала их. Так что, через несколько минут сотни колеблющихся ярких огней озарили все вокруг.
— Что это у тебя? — спросил Луций, удивленно наблюдая, как тонкая белая игла восстает из рук жрицы и поражает факелы ярким огнем.
— Лазерная зажигалка, — пробормотала женщина небрежно. — Так, игрушка, хочешь, я тебе ее подарю? Только обращайся с ней аккуратно, потому что на предельной интенсивности она может обжечь не хуже старого славного огня. — Вновь прижавшись к юноше, жрица положила ему в карман зажигалку. — Все это — мелочи, — проворковала она, — технические причуды. Единственно, что достойно внимания в этом мире, — это человеческий разум и этика Сатаны.
— Послушай, — прервал ее Луций, — все, о чем ты говоришь, конечно, вещи очень важные, но меня-то более интересовало, как ты, такая умная и добрая, пришла к злому богу. Почему ты, такая милая и желанная, веришь только во Зло и поклоняешься пожирателю младенцев?
— Не говори так! — испуганно воскликнула жрица и обвела полным смятения взглядом ярко освещенную залу. — Он покарает тебя за твои слова, он не любит, когда его так называют. Чтобы понять, как я пришла к своему повелителю, надо все-таки понять, что твои рассуждения об абсолютном добре не применимы к человеческой жизни. Ты же категорически решил с этим не соглашаться и потому не хочешь выплывать, даже когда тебе протягивают руку помощи.
По природе своей человек агрессивен и подл, но, чтобы мир не взорвался, вынужден подчиняться правилам общежития, которые выработала религия. Так она загоняет свободную природу человека в рамки своих догм и стрижет всех по одной модели. Для того чтобы стать свободным и раскованным, нужно выйти за рамки связующих догм и иметь возможность совершать все, что желает природа. Тогда все твои изначальные качества будут развиваться без помех. Мне было легче прийти к истинному владыке, так как мои родители были очень религиозные люди и с раннего детства сумели воспитать во мне стойкое отвращение к христианской религии.
Мы жили в большом многоэтажном доме на Кутузовском проспекте с высокими потолками и светлыми четырехугольными комнатами. Прямо под нами был фирменный магазин, где можно было все, что угодно, купить за валюту. Мне очень нравилось мороженое, которое там хранилось в прилавках с охлаждением, и было в каждой коробке этого мороженого четырнадцать сортов. Однако мои родители, хотя и имели деньги, крайне редко позволяли себе тратить их на меня. Не чаще чем раз в полгода они устраивали праздник, приглашали ко мне других детей, и тогда они покупали это мороженое. Мне было тринадцать лет, когда я вытащила из материнской сумочки деньги и спустилась вниз купить сладостей. Хотя по нашим законам воровство не грех, не думай, что я просто взяла кошелек у матери из-за непреодолимой жажды наслаждения. Нет, она, придя домой, побила меня ни за что, просто потому, что была сильнее, но главное — она видела, что во мне зреет дух противоречия и неприятия ее любимой религии. Поэтому то была не кража, а месть, и пирожные и мороженое четырнадцати сортов должны были эту страсть подсластить… Я вышла из магазина, болтая фирменным пакетом, и тут же столкнулась с ним. Он был ослепителен и, должно быть, где-то в глубине души меня узнал, потому что только посмотрел на мой битком набитый пакет и сказал: «Неужели ты готова все это съесть одна?»
Он был взрослый мужчина, а я девчонка, но мы сразу стали с ним разговаривать, будто всегда были вместе. Я сказала: дескать, самая большая беда, что мне негде съесть все это, а он ответил, что с удовольствием предоставит мне кусочек стола за удовольствие поглядеть, как я лопну. Я была очень закомплексованным и запуганным ребенком. Все мне в один голос говорили, что нельзя ни с кем знакомиться на улице, особенно с добрыми дядями, которые любят маленьких девочек, но сейчас я забыла обо всех советах. У него была такая улыбка, будто он готов в одиночку бороться со всем миром, и, наверно, так оно и было. Ему было двадцать пять лет, левый глаз у него все время подмигивал потому, что он был снайпером на Кавказской войне и там привык его жмурить. По дороге он стал меня расспрашивать, верую ли я в Бога, и когда я ответила, что сама толком не знаю, это ему не понравилось. На груди у него висел крест на массивной цепи, и так же, как моя мать, при всяком удобном и неудобном случае он осенял себя крестным знамением. Когда мы пришли к нему в дом, оказалось, что он художник, причем религиозного толка, потому что на стенах было больше развешано икон, чем картин.
Больше я не вернулась к матери. Я стала его натурщицей, женой, хозяйкой и другом, и мы прожили семь лет, но пришел Шамир и взял художника заложником. При отходе они сожгли состав с заложниками, и пепел, которым он стал, перешел мне в грудь. Из-за любви к нему я поверила в его бога, но, как только художника не стало, выкинула христианского бога из своей груди. Мы никому не мешали, жили тихо и не творили зла. Во всяком случае я не творила, а он всем делал добро своими картинами и своей верой. Но богу этого было мало, и он забрал моего возлюбленного. Дальше, наверно, нечего рассказывать. Кто ищет, тот в конце концов находит, а мне нужен был самый грозный бог, чтобы свалить дряхлого христианского божка.
— Расскажи мне, как твой бог встретил тебя, — попросил Луций.
— Мне не разрешено говорить о таком всуе. Я и так слишком много тебе наговорила. Вам не стоит оставаться к службе, и я бы рекомендовала уйти отсюда до полуночи. Рим гостеприимный город, и если у вас есть деньги, вы всегда сможете развлечься. Если же денег нет, я снабжу тебя любой суммой, которую ты назовешь.
— У меня есть деньги, — сказал юноша, — но я не представляю куда нам идти.
— В любой триклиний, — ответила жрица просто. — Только учти, что кроме нас есть еще десятки религий, смотри, не попадись им на зуб. И мальчика береги, красота и юность делают его заманчивой добычей.
— Что ж, нам пора? — спросил Луций.
— О нет, — воскликнула жрица, — тебе нечего спешить! Наша братия-сатанопоклонники начнут собираться поздним вечером, а сейчас еще середина дня. Чтобы выйти отсюда, вам хватит и получаса. Я сама провожу вас в ту спальню, из которой забирали мальчишку. Пока пусть он спит в диванной, здесь его никто не тронет, а мы пройдем ко мне, где до вечера будем пить молодое вино, смотреть видео и заниматься любовью. Еще не пробило двенадцати, мой дорогой!
Обняв юношу за плечи, жрица повлекла его из залы с догорающими факелами. Луций не стал будить Василия, полагая что под охраной слуг жрицы он будет в полной безопасности.
4. СОВРАЩЕНИЕ
Василий мирно спал, воскрешая во сне перипетии минувшего дня и тихонько всхлипывая от страха. В это время в диванную вошел, посапывая и оглядываясь, невысокий полный мужчина с широким плоским лицом и маленькими подкрашенными глазками. Он был одет в расшитый золотыми нитями плащ с багряной оторочкой и короткую юбочку из переплетенных стальных нитей. На левом боку у него висел длинный меч в богато изукрашенных ножнах, на правом — толстый кошель. Заметив мальчика, мужчина улыбнулся и стал кружить вокруг него, словно коршун вокруг ягненка, причем его объемный живот и отвисшие щеки колыхались в такт шагам. Убедившись, что мальчик крепко спит, он снял с себя плащ, прикрыл Василия, а сам, стараясь не бряцать юбочкой, лег рядом. В лишенной окон диванной было темно и жарко. Мужчина недолго лежал неподвижно. Неуклюже, стараясь произвести как можно больше шума, он приподнялся и с размаху сел на ложе.
— Какой прелестный мальчик! — восхитился он, увидев в полутьме, как на мгновение открылись и закрылись глаза Василия. — Удивительно красивое лицо, благородный овал, гладкая кожа. Если бы мне удалось поцеловать мальчика в губки, я бы подарил ему прекрасный перочинный нож с двадцатью лезвиями, который лежит в правом кармане моего плаща.
При этих словах Василий зачмокал, как бы во сне, губами и чуть приподнял голову. Тогда, приблизив к притворщику лицо, мужчина решительно над ним склонился и стал осыпать его щеки, шею и губы жадными поцелуями. Если Василию и показались ласки неприятными, то перенес он их в высшей степени стойко, так велико было желание получить диковинный нож. На его удачу, мужчина оказался вовсе не обманщиком. Получив свое, он нашарил в кармане плаща нож, необычайную толщину рукоятки которого мальчик ощутил, когда мужчина расстегнул ему ворот рубашки и положил тяжелый предмет на грудь. Тотчас Василий схватил нож и потихоньку поднес его к глазам, наслаждаясь наборной сияющей ручкой и массой различной формы лезвий, назначение которых мальчик не мог даже угадать. Осторожно скосив глаза на незнакомца, мальчик, к радости своей, увидел, что тот уже спит, прикрывшись багряным рукавом плаща. Усмехнувшись, Василий приподнялся и было присел, всецело отдавшись созерцанию вожделенного приобретения, как вдруг незнакомец пробормотал сквозь сон еле слышно, но достаточно различимо:
— Если я добьюсь от спящего мальчика счастья полного и желанного, то пригоню ему в подарок самый лучший на свете огненно-красный мотоцикл японской фирмы «Хонда» вместе со шлемом и перчатками. Скорость этого мотоцикла триста километров в час, но мальчик мне милее.
При этих словах Василий напрочь позабыл о ноже и, изобразив сонливость, сам пододвинулся к мужчине. Не совсем еще понимая его желания, он испытывал слабость во всех членах при мысли, что станет владельцем хромированного чуда о двух колесах. Лежащий рядом человек сразу показался ему очень милым и мужественным, и мальчик не возражал, когда тот расстегнув рубашку до пупа погладил ладонью его грудь, а потом начал гладить и все тело. Наконец мальчик почувствовал, что с него снимают шаровары, и тело его перекосилось от боли. Однако не переставая удовлетворять желание, мужчина все время шептал ему о технических характеристиках «Хонды» и тем самым не позволял ускользнуть с ложа.
Закончив, он оставил Василия с обнаженной попкой и заплаканным лицом на диване, а сам быстренько ушел, обещав поутру вернуться с подарком. Мальчик, потихоньку приведя в порядок одежду, решил никому не рассказывать о случившемся, а получив обещанную награду, всячески избегать незнакомца. Изнуренный насилием, Василий закрыл заплаканные глаза и сам не заметил, как снова заснул.
Приснился ему римский воин в полном боевом облачении. На нем был железный шлем, причем широкие нащечники почти полностью закрывали лицо, которое тем не менее показалось мальчику знакомым. Небольшой гребень над шлемом был украшен черным пером, туловище прикрывал нагрудник из плоского куска бронзы на кожаной подкладке, а бронзовый пояс защищал живот, имея снизу зубцы, снабженные металлическими пластинами, которые покрывали бедра подобно юбке. На боку в длинных ножнах висел широкий поясной меч. Воин как бы нависал над мальчиком и, прижав палец к губам, казалось, призывал к молчанию.
«Не хочу я молчать!» — почему-то рассердился Василий и…проснулся. Он широко открыл глаза, потому что воин не исчез, а, наоборот, продолжал смотреть еле обозначенными сквозь прорези глазами, вынуждая к молчанию. Мальчик открыл рот от удивления и страха, но прежде чем он закричал, воин сдернул с лица шлем, и Василий узнал чеканное лицо Никодима.
Тот весело засмеялся, присел на кровати и сказал:
— Опять двадцать пять?! Когда вы с братцем перестанете в приключения таскаться. Здесь голову потерять легче, чем в носовой платок высморкаться. Твой брат на меня вечно бочку катит, а я, между прочим, рискуя жизнью, до вас добрался, чтобы отсюда вытянуть. Видишь, в гвардию вступил к этому, как его… порфироносному, что ли, короче одному из главных.
Ты, Вася, старайся им на глаза не попадаться, — заботливо продолжал Никодим, кроме шлема сняв нагрудник и оставшись в одном кожаном поясе. Он присел точь-в-точь как и предыдущий поклонник на краешек дивана и потрепал мальчика по затылку. — Где твой брат блондает, — спросил он как бы ненароком, — разве можно такого малыша одного оставлять?
— Ушел, — всхлипнул Василий и заерзал, потому что боль в заднем проходе не прекращалась. — Он меня от заклания спас. Меня хотели отдать Сатане на съедение в качестве жертвы, но он познакомился с жрицей и меня отпустили.
— Познакомился с жрицей и сатанисты тебя отпустили? — недоверчиво переспросил юноша. Было видно, что быт Римского клуба ему хорошо знаком. — Да ты, брат, чудом выжил, можно сказать, второй раз на свет родился. Поздравляю!
И снова, повторяя движения предшественника, Никодим схватил мальчика в охапку и стал целовать и гладить всего, правда, ничего не обещая взамен. Василий, по опыту зная, чем кончаются подобные ласки, попытался вырваться, но ничего подобного — руки у Никодима были как железные. Преодолевая слабое сопротивление Василия, он успел стянуть с него шаровары, но быстро отпустил мальчика и прикрыл одеялом, потому что в коридоре раздались шаги.
5. ПОДАРОК
Напуганные житейскими передрягами, выпавшими на их долю, братья долго не решались покидать свою спальню. Луций в очередной раз поклялся никогда больше не оставлять Василия одного, а услышав, что тому неизвестно, кто должен с часу на час привести в подарок «Хонду», вовсе напрягся и только и думал, чем вооружиться поосновательней. Он почти не спал всю ночь, опасаясь, что вновь призовет жрица, и моля таинственного отца Климента дать силы устоять против соблазна. При этом любой шорох, а ими был наполнен буквально весь Римский клуб, заставлял его напрягаться и приподнимать голову, ибо, ни за что не желая признаваться в том, он ждал знака от нее. Однако жрица так и не появилась и не прислала за ним никого, но в ночной тишине он бодрствовал не один. С разных сторон доносились до него то взрывы истерического смеха, то ругань и удары, то звон разбитой посуды и залихватские песни. Прямо под окном уже в рассветном белесом полумраке вдруг услышал он топот копыт по каменному подиуму, звуки команд и раздирающий пространство крик, похожий на вопль дикого раненого животного. И тем страшнее была наступившая после этого крика тишина.
Только под утро юноша задремал, и сон его не был свободен от присутствия жрицы. Она явилась ему в облике зрелой женщины с огромной глубины иссиня-черными глазами в строгом закрытом платье из темно-зеленой тафты. Ее всегда распущенные волосы были собраны в пучок и заколоты бриллиантовой диадемой. И во сне он не мог поверить в близость с подобной женщиной, и под ее изучающим взглядом юноша собрался и… мгновенно проснулся.
Сначала спросонья он решил, что она где-то рядом, и искал ее даже не руками и не взглядом, а просто ловил призывное ощущение тепла, но наткнулся лишь на холод и пустоту. В отчаянии вскочил Луций с постели, проклиная себя за то, что проспал призыв. Однако посмотрев на часы, стоящие на высоком камине, убедился, что спал всего несколько минут, и вновь нырнул в кровать, что в общем не принесло успокоения его душе.
Итак, проснувшись рано утром, он продолжал лежать без движения, пока его брат слонялся по комнате в ожидании подарка. Подарок запаздывал, и наивный мальчик ощутил первые позывы голода. Через некоторое время, когда уже каминные часы пробили двенадцать дня, он объявил, что если тотчас не поест, то станет рвать желчью от голода.
— Ну что ж, — вздохнул Луций, — пойдем, только не отходи от меня ни на шаг.
Пока он мрачно раздумывал, как им пообедать, по возможности ни с кем не встречаясь, дверь спальни отворилась от сильного удара, и одетый точно так же, как и накануне, на пороге появился Никодим.
— Ну вы и спать горазды! — воскликнул он, нисколько не смущаясь мрачного взгляда Луция, которому уже успел пожаловаться Василий, рассудив, что лучше малым отвлечь брата от большего греха.
Однако сам Василий глядел на мускулистого Никодима с каким-то смутным интересом, потому что боль, терзавшая его весь вечер, куда-то ушла, а вместо нее появилось новое ощущение, которое он, впрочем, еще никак не мог понять. Никодим, почувствовав на себе заинтересованный взгляд, приосанился, поправил на поясе меч со сверкающей позолотой рукояткой и продолжал.
— Как, — говорил он, — разве вы не знаете, что приглашены на пир счастливейшим из смертных, основателем Римского клуба и прочая, прочая, прочая…благородным Хионом. — Тут глашатай сбавил спесь и перешел на товарищеский тон. — Странно, что он прослышал о вас, но, видимо, мир не без добрых людей, и учтите, — добавил он, потому что братья отреагировали на его слова по-разному: Василий сделал глотательное движение, а Луций резко качнул головой, — …учтите, что приглашение на пир к главе всех наших римлян это своего рода индульгенция, которая выдается крайне редко и служит прикрытием от любых разборок и приставаний здешней полицейской челяди.
Я тоже буду там, — поспешил он ответить на безмолвный вопрос Василия. — Хион отрядил меня трубачом, чтобы после каждой перемены вин я возвещал, сколько лет жизни он потерял. Человек он доброжелательный, так что, думаю, вы получите от пира не только большое удовольствие, но и пользу от его защиты. Ибо, видит бог, я вас оградить от происходящего здесь не сумею.
— От тебя бы самого оградиться, паскудник, — вполголоса пробормотал Луций, но, чуть подумав, решил, что есть все-таки надо, а мерзавец, хоть проявляет себя как блудливый козел и подхалим одновременно, все-таки никогда не желал им зла. Да и вообще, если серьезно мыслить о побеге, значит, надо познать Римский клуб изнутри, потому что без особого пропуска не только не впускали сюда, но и никого не выпускали.
Отбросив сомнения, братья последовали за Никодимом, который через несколько переходов привел их к двери с надписью: «Всякий, кто выйдет отсюда без приказа, лишится головы». Несмотря на простоту и лапидарность, надпись все-таки показалась Луцию внушительной и заслуживающей внимания. Толкнув дверь, Никодим прошел внутрь огромного помещения, все стены которого были украшены фресками, изображающими человечка с плоским лицом и небольшими глазками в чрезвычайно величественных позах.
Вот этот мужчина, еще совсем молодой, стоя на коленях перед кроткого вида старичком в короне, несомненно, Российским монархом, получает весьма ценную награду, о чем свидетельствует высочайшее внимание присутствующих на церемонии зевак. На другой стене тот же самый мужчина в седле и с мечом в руке на лету срубает голову закованному в кандалы звероподобному азиату в черном халате с золотыми пуговицами. На третьей фреске он же в одной набедренной повязке, а его пухлые плечи и грудь служат восхищенным достоянием десятка прекрасных юных девиц в полном неглиже. Даже на потолке какой-то черт с крыльями возносил присмиревшего героя за подбородок на высокую трибуну. Рядом искусной рукой была изображена Фортуна с рогом изобилия и три парки, прядущие золотую нить. Чтобы рассмотреть картину, братьям пришлось так задирать головы, что они не заметили, как оказались в центре облицованного мрамором зала с фонтаном и сафьяновыми кушетками, на которых расположилось множество разного народа.
Никодим подвел братьев каждого к своему месту. К их удивлению, в изголовье кушетки Василия было золотыми буквами выведено на латыни, греческом и русском его имя. На кушетке же Луция, гораздо более просторной, изображен был во всю длину жирный вопросительный знак, к тому же рисованный черной краской.
Растянувшись во весь рост, Луций осторожно осмотрелся. По окружности триклиния, так же как и он, возлежало множество людей, обративших свой взор к огромному мраморному столу. В самой его середине прилег на передние ноги ослик коринфской бронзы с вьюками на спине, которые были полны с одной стороны кипящими в масле коричневыми колбасками, а с другой — жареными курицами, обрызганными маком и медом. Только юноша сглотнул слюну, как к его лежанке подошли два мальчика в коротких белых плащах и беретах. Не говоря ни слова, они стащили с братьев сандалии и омыли им ноги ледяной водой, предварительно старательнейшим образом остригши ногти. При этом они пели патриотические песни и в такт притопывали. Только насухо вытертые и вновь обутые братья собрались приступить к трапезе, как зазвучала симфония в классическом стиле с обилием духовых и ударных инструментов.
Четыре воина, держа на вытянутых руках малюсенькие подушки, внесли хозяина пира. Его лысая голова высовывалась из широкого шарфа с пурпурной оторочкой и свисающей там и сям бахромой. Василий тотчас узнал его по багряному плащу и хотел было крикнуть: «Где мой мотоцикл?» — но почему-то передумал и протянул руку к курице.
Мужчина, многократно изображенный на стенах и потолке, не обращая ни на кого внимания, сделал полный круг на плечах охранников и был осторожно опущен ими на самое высокое место за столом. Тут он хлопнул в ладоши. Мгновенно четыре девчушки, у каждой из которых в носу торчало серебряное кольцо, внесли громадную плетеную корзину. В ней, расставив крылья, сидела огромная индейка из дерева и соломы. Под звуки пронзительной музыки, изображающей, по-видимому, возмущение наседки, служанки принялись шарить в соломе и, вытащив оттуда большие желтые яйца, раздали их пирующим. Радушный хозяин обратил внимание на это зрелище и сказал:
— Друзья, я велел подложить под индейку страусовые яйца. И ей-ей боюсь, что в них уже страусята вывелись. Попробуйте-ка, съедобны ли они?
По примеру других гостей Луций взял тяжелую серебряную ложку, лежащую справа от него и разбил яйцо, которое оказалось из слоеного теста. Он чуть не бросил свое яйцо, заметив в нем что-то, напоминающее цыпленка, но затем услышал, как Василий воскликнул счастливо: «Ну и вкуснятина!» Поковыряв корочку, Луций вытащил из яйца жирную перепелку, приготовленную под соусом из перца и яичного желтка.
Заметив, что юноша изготовился вслед за перепелкой съесть и тесто, возлежащий по соседству сотрапезник предупредил его:
— Молодой человек, советую не слишком налегать на первые блюда. Всего ожидается более десяти перемен, так что не опростоволосьтесь. Вы, видно, впервые на пиру у нашего благодетеля? — И на молчаливый кивок Луция продолжил: — Так вот, знайте, что кругом стола спрятаны среди гостей специальные люди, которые строго следят, все ли перемены пробуют гости. Ведь отказ хоть от одной из них — оскорбление для хозяина. Хион так готовился к приему, что грех обидеть его отказом от еды. А грех наказуем.
Поблагодарив за сведения, юноша с большим сожалением отказался от оболочки яйца. По знаку, данному Хионом, который почти ничего не ел, а только строго наблюдал за пирующими, вновь грянула музыка, и тотчас мальчики стали уносить подносы с закусками. В суматохе упало одно серебряное блюдо, Хион заметил это и велел подвести виновного отрока к себе. Разине надавали затрещин, а блюдо бросили обратно на пол. Один из мальчиков вымел его вместе с остальным сором за дверь. Мальчик же, уронивший блюдо, был уведен в дальний конец зала прямо напротив Хиона, где с него сняли всю одежду и цепью приковали к одной из мраморных колонн, поддерживающих свод.
— Что с ним сделают? — спросил с болью Луций, в то время как Василий, увлеченный экзотической едой и никогда ранее не пробованным вином, трудился над жареной с фисташками курицей.
Сосед его, в котором он с удивлением признал встреченного в первый день появления в клубе толстяка, только пожал плечами.
— Кто знает, что придет в голову нашему почтенному Хиону, — сказал он уклончиво. — Может быть, он велит его освободить за уже понесенные страдания. Тогда он приковал его к колонне для контраста. А может быть, он заставит его проглотить это самое блюдо. Очень веселый человек наш Хион и с великолепным чувством юмора. Впрочем, сами увидите.
В это время отворилась одна из дверей, и слуга бросил на стол серебряный скелет, так устроенный, что его сгибы и позвонки свободно двигались во все стороны. Скорее всего скелет управлялся дистанционно, потому что, чуть полежав, он встал, взял невесть откуда припасенный бурдюк с вином и пошел, вихляя тазом, по краю стола и орошая из бурдюка всех присутствующих. Обойдя таким образом полный круг, он легко спрыгнул со стола, отбросил бурдюк, выпрямился и, звеня металлом при каждом движении, отправился к скорчившемуся у колонны провинившемуся. Мальчишка при виде его вскочил и попытался спрятаться за колонной, но скелет легко, в один прыжок, настиг его и, словно шутя, разорвал связывающие того железные звенья. Чем немало удивил Луция, который полагал, что серебро гораздо менее прочно, чем железо. Освободив таким образом мальчишку, скелет чисто человеческим движением повалился на колени и посмотрел пустыми глазницами в сторону Хиона, как будто ожидая какого-то знака.
Видимо, знак был подан, потому что скелет схватил обнаженного мальчика одной клешней за горло, другой за поясницу, высоко поднял над собой и застыл. Казалось, он ждал дальнейших приказаний от хозяина, который, задрав голову, пил из большой серебряной чаши с гравировкой громадными буквами: «Только для столетнего фалернского».
Похоже, вино опьянило патриция, потому что, забыв о мучениях слуги, он вдруг произнес речь.
— Столетнее! — воскликнул он патетически. — О ком из нас можно это сказать?! Значит, вино живет дольше, чем мы, жалкие людишки. А раз так, давайте пить, ибо в вине жизнь! Посмотрите на этот скелет, — продолжал он, указывая на застывший кусок серебра, сжимающий в рычагах человеческую плоть. — Никогда не мог поверить, что все мы станем такие. Когда впервые я узнал, что все мы смертны и мое тело, такое совершенное и теплое, станет добычей гниения и червей, вся моя природа взбунтовалась против непреложности этого божьего закона. Часами лежал я без сна и все думал, как превозмочь эту напасть — смерть. И решил я, — тут он понизил голос до шепота, — что единственный способ обмануть старуху — это прожить тысячу жизней за один отведенный срок. Вот я перед вами, друзья мои, любовник и воин, политик и поэт, гуляка и государственный деятель. А иногда для разнообразия и палач!
— Не надо! — крик мальчика взметнулся высоко под потолок и осекся.
Клешня скелета так сжала его горло, что он не мог издать ни звука. Хион с интересом следил, как пальцы скрываются в худенькой шее и черный ручеек обвивает серебряные кости рук.
— Наказание паче преступления, — сказал вдруг Хион, когда ноги слуги перестали дергаться в воздухе, и тотчас стальные кисти разжались и выпустили то, что осталось от мальчишки.
Набежавшие слуги унесли скелет и еще живого мальчика с передавленным горлом. Василий как-то притих, ему уже не хотелось никаких подарков, и голод у него прошел совсем. Однако вновь вошли прислужники и в сопровождении почетного эскорта внесли на серебряных противнях новые блюда. Посередине каждого подноса располагался украшенный крыльями заяц, а вокруг него жареные лесные птицы и жареное мясо дикого кабана, приправленное брусникой и черемшой. Общество разразилось рукоплесканиями, причем больше всех аплодировали восседающие рядом с грозным хозяином, и с усердием принялось за изысканные кушанья.
Краешком глаза юноша заметил, что во время всей трапезы гости не поднимались с мест и не ходили свободно за исключением его соседа слева, который, объевшись, вдруг во время всеобщего смеха встал с места и куда-то отлучился. Человек, взгромоздившийся на освободившееся место, показался Луцию очень знакомым. И когда новый сосед поднял голову, рассматривая фреску на потолке, юноша безошибочно узнал в нем директора своего лицея. Мысли Стефана Ивановича блуждали, видимо, где-то очень далеко, да и Луций старался скрыться от случайного взгляда, потому что директор, казалось, не собирался признавать его.
Луций глубоко задумался о том, не следует ли ему обнаружить себя, чтобы поставить точку над поездкой, да и вернуть сохраненные им документы Пузанского, которые покойные носил в особой папочке. Однако боязнь за судьбу брата, который при неудачном для него решении директора мог бы остаться здесь навсегда, перевесила, и юноша отвернулся как можно дальше к Василию, чтобы не быть замеченным. Вместе с тем, находясь совсем близко от своего шефа, Луций не мог автоматически не прислушиваться к переговорам, которые вел директор с вернувшимся толстяком. К тому же было забавно наблюдать, как два тучных переевших господина пытаются уместиться на кушетке габаритами с односпальную кровать.
— Римский клуб — прекрасный полигон для отработки идеологии, — жаловался толстяк, — но больше нет сил терпеть самоуправство этого идиота. — Толстяк мотнул головой в сторону Хиона, который, нагрузившись фалернским, сполз с сиденья и пытался показывать приемы борьбы воину, который был на две головы его выше и раза в полтора шире в плечах.
— Погоди, дай срок, — отвечал, понижая свой бас до громкого шепота, Стефан Иванович. — Пока его трогать нельзя, он же казначей и вся подпитка группировок идет через него. Но как только работа наша принесет плоды, мы отправим его собирать сыроежки и рыбку удить на природе. Подрывает подлец уважение к нам своими безобразиями. Да вот взять сегодняшний пир, на эти деньги можно батальон добровольцев одеть и вооружить.
— Вы с ним говорить не пробовали? — спросил толстяк.
Директор только крякнул и приподнялся, чтобы лучше рассмотреть молодую женщину, лежащую напротив него за фонтаном. Невольно продлив его взгляд, Луций увидал свою жрицу. К его удивлению, она была одета именно так, как и приснилась ему, и даже бриллиантовая диадема скрепляла ее собранные волосы. Огромным нервным импульсом юноша задержал желание броситься к ней и обнять ее драпированные шелком плечи.
Похоже, что и на Стефана Ивановича жрица произвела ошеломляющее впечатление, ибо, пошептавшись с толстяком, он вдруг вытащил из кармана короткой туники кожаный кошель и, порывшись в нем, извлек золотое кольцо с громадным черным камнем, вспыхнувшим на свету радугой огня.
— Иди, — произнес он, передавая кольцо толстяку, — преподнеси ей от меня. Это же жрица Сатаны, черный камень ей поможет.
Буквально через несколько секунд после того, как толстяк пошептался с жрицей и передал ей драгоценность, она спрыгнула с кушетки и смеясь обогнула фонтан. Подбежав к сопящему от усилий перевернуться Стефану Ивановичу, она ловко прилегла рядом и, хлопком подозвав ближайшего слугу, вытянула у него из рук две большие полные хмельной влаги серебряные чаши.
Луций лежал так близко от них, что при желании мог бы коснуться рукой плеча директора. Но ни для Стефана Ивановича, ни для жрицы он просто не существовал. Жрица, он это отчетливо видел, вдруг вырвала нить из туники директора и, омочив ее в вине, стала чертить в воздухе какие-то иероглифы.
— Я отвожу от тебя напасти и злобу богов, — улыбалась она. — Ты большой человек, а скоро станешь еще больше. Я омочила частицу твоей одежды в вине, надеясь, что она передаст мне часть твоей силы и твоего счастья. Ты сам не знаешь, какой подарок сделал нашему богу. Черный бриллиант, который ты мне подарил, с этой ночи займет почетное место среди пожертвований на алтаре.
— А какое место ты займешь этой ночью, баловница? — чуть хрипя, засмеялся Стефан Иванович и нежно обнял жрицу. — Могу я надеяться, что это место будет спальней и для меня.
Жрица не отстранилась, но ее голос стал звучать чуть глуше, а глаза, наоборот, еще больше заблистали.
— За этот камень ты мог бы скупить на ночь всех девок клуба, — сказала она лукаво. — А ты просишь, как милости, свидания с бедной священнослужительницей. Неужели я тебя в самом деле так распалила? Или ты хочешь воспользоваться жрицей, чтобы услышать Его?
Директор отрицательно покачал головой.
— Я хочу тебя, — сказал он грубо. Луций не слышал ответа жрицы, потому что кругом вдруг начался невероятный шум. Набежавшие слуги постелили перед кушетками ковры с вытканными на них эпизодами охотничьих баталий. Поднимая страшный лай, в триклиний вбежали грудастые черные псы, италийские, как их называли легионеры, и со свирепым лаем стали носиться по коврам. Вслед за ними внесли громадное блюдо, под весом которого шаталась добрая дюжина слуг. Они тащили изрядного бычка с шапкой на голове и с корзиночкой, полной яблок, груш и винограда, в зубах. Бычка окружали поросята из слоеного теста, которые как бы присосались к нему. Рассечь тушу вызвался какой-то гигантских размеров юный блондин, очень хорошо одетый, но явно служащий по другому ведомству. Вытащив охотничий нож, он с силой ткнул бычка в бок, и из разреза выпорхнула стая дроздов. Поднялась суматоха, потому что к ножке каждой птицы был привязан номерок, определяющий подарок, который причитался счастливцу, поймающему дрозда.
Василий, забывший было и думать об обещанном даре, вдруг встрепенулся и бросился ловить нахального дрозда, севшего над его головой на выступ колонны. Ему показалось, что Хион непременно должен отблагодарить его за вчерашнее и поэтому на лапке дрозда под номерком скрывается для него знатный подарок.
Однако в ответ на энергичные попытки согнать его, дрозд ответил большой белой каплей, упавшей Василию в тарелку, и перескочил по колонне к самому потолку. Мальчик так старался поймать птицу, что привлек внимание самого Хиона, который, делая вид, что не узнает его, потребовал у мажордома дробовик и вместо него получил духовой пистолет. При общем торжественном молчании Хион задрал горбоносую голову и прицелился. Однако звук, который раздался после этого, вовсе не походил на выстрел, хотя был сочнее и громче.
Хион отложил пистолет и отер пот с лица. Подбежавший служка поднес ему в медном тазе душистой воды для умывания рук, после чего Хион сообщил:
— Извините, друзья, но у меня уже несколько дней нелады с желудком. Иногда как забурчит в животе, подумаешь, бык заревел. Никто из нас не родился запечатанным, так что я запрещаю вам удерживаться. Поверьте мне, газы попадают в мозг и производят смятение во всем теле. Я знал многих, кто умер от того, что не решался в этом деле в общественных местах правду говорить.
Как бы в подтверждение его слов, видимо, не вынеся чрезмерного сгущения атмосферы, с потолка свалился дрозд и шмякнулся прямо в блюдо со специями. Собравшиеся усердно принялись пить, пытаясь подавить смех. Одна жрица, откинувшись назад, смеялась так, что Стефан Иванович вынужден был обнять ее за плечи, чтобы она не слетела с кушетки. Хион невозмутимо отдал слугам пистолет и что-то стал нашептывать мажордому. Тот крикнул служке, стоящему с тазом и полотенцем за спиной Хиона. Служка достал контуженого дрозда из блюда и отстегнул от его лапки номерок.
— Бери, — шепнул он Василию, подходя к его кушетке и протягивая номерок.
Подарки вылились в новую демонстрацию щедрости хозяина. Но когда слуги выкатили новенький мотоцикл, сияющий хромом и оргстеклом, и подкатили его к кушетке Василия, хор восхищенных голосов смолк и воцарилось молчание.
— Этот редкий подарок ценой в десять тысяч американских долларов предназначается отроку по имени Василий за особые услуги, оказанные им принципалу! — важно провозгласил мажордом, и к смущению Луция, тут же все взгляды устремились на его брата.
Юноша видел, как, пробормотав проклятие, вскочил с места директор лицея, а мрачная личность в плаще и с изображением рогатого падшего ангела на груди вдруг поднялась из дальнего угла и сразу осела, потому что мажордом продолжал:
— Господин Хион берет мальчика под свое покровительство и предупреждает, что любые действия, направленные против него, будут им рассматриваться как преступления против империи.
Тотчас Василию накинули на плечи голубой плащ с черной оторочкой из соболя, посадили на седло мотоцикла и, крепко держа, сделали с ним круг почета вокруг триклиния.
Луций не мог понять, как отнестись к случившемуся. Он медленно повернул голову в сторону Стефана Ивановича и увидел, что жрица уже упорхнула на старое место, а директор беседует со стройным юношей в полном боевом обмундировании римского воина. Разговор, судя по всему, касался и их судьбы, потому что Стефан Иванович нетерпеливо бросал персты вперед, на чем-то настаивая, а воин остужал его, приводя разные весьма мудрые причины. Как понял Луций, речь шла о том, чтобы взять в оборот его брата, который после провала путча оставался для заговорщиков основным источником информации для свержения регента. Воин на все резоны своего визави отвечал уклончиво, видимо, не имея полномочий или желания отказать директору наотрез, но и не собираясь идти против Хиона.
6. ПЕРЕГОВОРЫ
В какой уже раз зазвучала тихая умиротворяющая музыка, со стола вновь убрали всю посуду и в триклиний ввели трех белых свиней в намордниках и с колокольчиками на шее. Глашатай объявил, что это двухлетка, трехлетка и шестилетка. Тотчас гости захлопали в ладоши и радостнее всех мальчик в голубом плаще, который вообразил, что станут показывать фокусы. Хион рассеял недоумение.
— Которую из них вы хотите увидеть на столе? — спросил он. — Потому что мелкую дичь и мужики изготовят. Мои же повара привыкли целого теленка в котле варить.
Тотчас позвал он повара и, не дожидаясь выбора, велел заколоть самую крупную свинью. Он еще разглагольствовал, когда подали блюдо с огромной свиньей, которая заняла половину стола. Все были поражены стремительностью приготовления блюда, потому что за столь ничтожный промежуток времени и куренка невозможно ощипать. Хион, приняв суровый и величественный вид, все пристальнее вглядывался в свинью.
— Как так! — вскричал он. — Свинья не выпотрошена? Честное слово, не выпотрошена! Позвать сюда повара!
Подбежал опечаленный повар и покаялся в том, что забыл выпотрошить свинью.
— Как это забыл? — взвыл Хион. — Можно подумать, что ты забыл лишнюю ложку соли бросить. — Раздевайся, я сам тебе выпотрошу!
Без промедления повар разделся донага и, понурившись, встал чуть позади ложа хозяина. Все стали просить за него, говоря:
— Это бывает. Пожалуйста, прости его. Хион, выслушав гостей, повеселел и подмигнул повару:
— Ну если ты такой забывчивый, вычисти свинью на наших глазах.
Повар снова надел засаленную тунику и вооружившись ножом, дрожащей рукой полоснул свинью по брюху. Все отвернулись, ожидая волны зловония из прожаренного свиного брюха. Однако из разреза сами собой посыпались тяжелые кровяные и жареные колбасы. Гости приветствовали происшедшее рукоплесканиями, а колбасы быстро разобрали. Только Стефан Иванович с пренебрежением и яростью следил за новыми шутовскими выходками Хиона.
Тут Луций начал замечать, что голова его не так ясно соображает, как в начале пира. Дело в том, что кубок его так же, как и у других пирующих, никогда не был пустым. Вино, которое в него подливали голоногие мальчики, было легким и на вкус напоминало виноградный сок, но действие его было хоть медленным, но неотвратимым. Причем отказаться от очередного тоста считалось чуть ли не преступлением, и пирующие относились к каждому возлиянию очень серьезно. Наполненный до краев коварным молодым вином, Луций почувствовал, что настроение его вдруг улучшилось. Улыбаясь, наблюдал он, как новая группа гостей, очень важных черных господ в чалмах и белых костюмах-тройках, разлеглась в триклинии, и специально приуроченные к этому часу танцовщицы закружились вокруг лож, призывно сияя голыми бедрами и грудями под тонкими, прозрачными накидками.
Однако мозг юноши был еще не настолько затуманен, чтобы не услышать беседу Стефана Ивановича с двумя черными шейхами в зеленых тюрбанах, положенных посетившим Мекку паломникам. Хотя смысл разговора ускользал от его разгоряченного вином рассудка, однако беседа запомнилась абсолютно вся.
— Поймите нас, — говорил директор лицея, вмиг превратясь из скучающего мизантропа в гостеприимного, сияющего улыбкой тамаду, — войдите в наше положение. Мы пригласили вас специально, чтобы решить задачу с начинкой положительно. Но кроме чисто коммерческих есть еще и этические трудности. Здесь в абсолютно закрытом мире нашего клуба мы можем говорить спокойно, без риска, что нас подслушают. Потому что ни один из шпионов западных правительств, какие бы секреты он здесь ни записал, не сможет их вынести, если не имеет статуса члена клуба или гостя особого внимания, как вы, например. Так вот, основная проблема, с которой мы столкнулись при попытке получить необходимые средства в обмен на нашу продукцию, состоит в том, что необходимо избежать всякой гласности в этом вопросе.
— Вы, стало быть, не хозяин в своем государстве? — осведомился черный гость, демонстрируя если не безупречное, то во всяком случае приличное знание русского языка. — Я не могу понять, как вы здесь ведете дела, — продолжал он с нескрываемым раздражением. — Вы предлагаете товар по цене, не буду скрывать, в несколько раз ниже мировой. Кроме оплаты мы все берем на себя: доставку, нейтрализацию продуктов распада, полную анонимность сделки и перевод денег на счета любых западных банков, которые вы укажете. А ведь речь идет о миллиардных суммах, и нам не так легко найти благовидный предлог для инвестиций, не привлекая внимания прессы. И вот теперь, когда и деньги готовы к переводу, и все наши службы безопасности в готовности номер один, вы начинаете оттягивать процесс. Нам известна дурная репутация русских на мировом рынке, но здесь-то случай особый — ваша элита лично заинтересована в этих средствах. И продаете вы товар, который идет на уничтожение.
— Да в этом и проблема! — воскликнул Стефан Иванович, который выслушивал своего собеседника со все возрастающей яростью, — давайте вернемся к истории вопроса. По соглашению с американцами еще аж пятнадцатилетней давности мы должны уничтожить тысячу одну стратегическую ракету с ядерными боеголовками. В течение десяти лет американцы строили нам в Камышине завод по уничтожению ядерных зарядов с полной их нейтрализацией без необходимости последующего захоронения. Мы с опозданием ровно в пять лет начали наконец завозить со всей территории бывшего Союза эти ракеты. На заводе сидит смешанная международная инспекция, в состав которой, кстати, входят и представители мусульманской Африки. Представьте себе, американцы получают информацию, что завод, который стоил налогоплательщикам несколько миллиардов долларов, оказался прикрытием для передачи ядерных материалов третьей силе. Парадокс в том, что Запад готов заплатить сумму, в десять раз превышающую стоимость завода, лишь бы заряды не покидали нашу территорию. На такой скандал даже мы не можем пойти. И вы не должны упрекать нас в корысти. Вы наши самые надежные союзники, от которых у русских патриотов секретов нет. Вы знаете, на что должны пойти ваши деньги — на организацию мирного государственного переворота в рамках ныне действующей конституции. Нам надо купить парламент, и за это мы готовы отдать вам начинку наших ракет.
— Вместе с носителями, — быстро сказал негр и улыбнулся, открывая рот, полный золотых зубов.
— Мы просчитывали и такой вариант. Для этого нам нужно организовать волнения в Поволжье и на несколько дней вывести инспекторов в Москву. Скажем, жители потребуют переноса экологически вредных производств из Камышина в Магадан. Только для этого нам нужна финансовая поддержка — аванс.
— Сумма?
— Тридцать процентов от суммы сделки, включая стоимость носителей.
— Гарантии?
— Нестабильность нынешнего либерального режима и…
— Однако эта нестабильность не помешала полному провалу вашей затеи в Петербурге.
— Москва — это не Питер. Мы не ждем практически никакого сопротивления. Сейчас наши войска охраняют государя и его двор, парламент, Государственный банк и все другие мало-мальски значимые учреждения. Мы не будем печатать прокламации и выводить толпы на улицы. Это будет вполне цивилизованный переворот. Но для гарантии победы нужны деньги — минимум миллиард долларов.
— Мы же предлагаем вам три, вы не берете, — поразился золотозубый.
— Что значит — не берем? — возмутился директор лицея. — Я же говорю вам абсолютно доверительно: малейшая утечка информации может погубить сложившееся равновесие идей и симпатий между Америкой и Россией. Мы должны быть крайне осторожны, потому что для того, чтобы провернуть эту сделку, нам нужно валютное прикрытие. До сих пор вы охотно в нас вкладывали. Что вас смущает сегодня?
— Неудача в Петербурге, — помедлив, ответил шейх. — До сих пор мы верили вам, во всяком случае во внутриполитических вопросах. К тому же весь исламский мир испытывает не проходящее чувство благодарности за вашу честную позицию в тысяча девятьсот девяносто восьмом году, когда Запад в очередной раз пригрозил высечь Ирак и проиграл семидесятилетнему Хусейну. Однако деньги любят счет. И если вы не способны гарантированно и абсолютно взять ситуацию под свой контроль, мы ищем гаранта на стороне. И такой есть. Могу я вам его представить?
— Конечно, только я не могу один говорить за все правительство национального спасения. — Стефан Иванович щелкнул пальцами правой руки, и к нему подбежал мальчик, одетый, так же как и другие служки, в котором Луций узнал бывшего однокашника. Директор что-то шепнул ему на ушко и вновь обратился к своему собеседнику: — Номинально глава Исполнительного комитета партии — Хион. Я попрошу его принять участие в наших переговорах.
Хотя Луций почти ничего не понял из беседы заговорщиков, его заинтриговал подслушанный диалог, и когда Стефан Иванович, отдуваясь, сполз с ложа, юноша, выждав мгновение, пошатываясь пошел за ним, делая вид, что ищет туалет.
Директор лицея и его золотозубый гость не суетясь покинули триклиний и вошли в неприметную, обитую серым сукном дверь напротив. Луций примостился в самом конце коридора и ждал, пока не появился совершенно трезвый Хион, который еще совсем недавно виртуозно демонстрировал следы глубокого опьянения, и два высоких темнолицых человека в традиционной одежде мусульман высокого ранга. Все они, не оборачиваясь, прошествовали все к той же двери. Вслед за ними появились два стража в коротких туниках и кожаных фартуках с медными бляшками для защиты от дротиков и стрел и встали на часах у двери.
Луция никто не замечал, потому что он скрывался за выступом стены. Опьянение все не покидало его, и не думая об опасности, он стал прикидывать, как ему услышать окончание разговора. Смутно он представлял, что случайно услышанная им информация была не хуже той ядерной бомбы, которую хотели продать заговорщики.
Неслышно ступая, Луций вышел на лестничную клетку и задумался. Потом поднялся этажом выше и прикинул, на каком расстоянии от него находилась комната совещаний. Расположение помещений на этажах зеркально повторялось, и он не раздумывая пошел по пустому коридору и, отсчитав четыре двери, остановился перед пятой. Он тихонько толкнул покрашенную белой краской дверь, и она подалась. Это явно была спальня. Под балдахином стояла кровать с обтянутыми красным шелком спинками. Таким же шелком была обита остальная мебель и стены, так что во всей обстановке выделялось лишь трюмо с громадным зеркалом. На инкрустированном столике лежало разрезанное на две половины яблоко, перед ним — длинный широкий нож. Не думая, как будет выбираться назад, юноша закрыл найденным ключом дверь изнутри, подхватил со столика нож и не торопясь отдернул ковер. Под ковром обнаружился, как он и думал, новенький паркетный пол.
Аккуратно вонзив нож в трещину между паркетинами, Луций стал разбирать пол. Это оказалось довольно легко, и уже через несколько минут он услышал голоса, звучащие хоть и глухо, но довольно разборчиво.
— Господа, — услышал он нервный голос Хиона, в котором не было даже намека на самодовольство, — мы ценим ваше желание выступить гарантами за нас перед вашими соотечественниками, но поймите нас правильно, мы не можем заложить Эрмитаж или Третьяковскую галерею. Как бы ни легла историческая карта, мы не можем проигрывать народное достояние.
— Речь идет об одной конкретной вещи, — быстро сказал незнакомый Луцию голос, который мог принадлежать лишь одному из арабов — переводчику при своем брате по крови. — Господин Аббас считает, что у вас в Москве есть один предмет скорее даже не искусства, который он мог бы приобрести в качестве покрытия под расчет одного миллиарда долларов. Причем господин Аббас считает, что от перемещения этого предмета за пределы территории России, так сказать его выдворение, ничего, кроме пользы, не последует, а русский народ впервые получит прибыль от самого разорительного на Земле предприятия.
Луций слушал со все возрастающим недоумением, безуспешно пытаясь понять, о чем, собственно, идет речь. Внизу вдруг раздались приветствия и поцелуи, и голос директора представил вновь прибывших.
— Чтобы придать конкретику нашим переговорам, мы пригласили уполномоченных лиц из института хранения драгоценного объекта. Отношения между нашими структурами столь доверительны, что все соображения, которые выскажет наш досточтимый коллега, директор упомянутого института, можно считать нашими. В двух словах я охарактеризую его творческий потенциал. Михаил Семенович окончил Первый медицинский институт и высшую школу КГБ одновременно. Он потомственный хранитель объекта, его дед и отец работали в институте. Прежде чем возглавить организацию хранения, Михаил Семенович прошел длинный путь от младшего научного сотрудника лаборатории левой ноги до заведующего отделом головного мозга, академика, лауреата Государственных премий. Прошу, Михаил Семенович.
Переводчик перевел, а окружающие ласково похлопали. Голос у Михаила Семеновича оказался молодой, задорный, с растяжкой на гласных «о» и «а».
— Сама постановка вопроса, — начал он, — говорит о том, что вы, господа, не имеете достаточно полного представления о проблеме. Нельзя без изучения биографии, научно-революционных взглядов и исторического значения выносить вердикт о рыночной стоимости курируемого нашей фирмой объекта. О какой вообще стоимости может идти речь, если объект уникален, имеет невероятную с точки зрения прошлого мировую известность и до сих пор является предметом почитания народов Азии, Африки и остального мира. Откройте любую энциклопедию, любой календарь, и вы найдете даты рождения и видимой смерти объекта. Влияние, которое объект оказал на планету, может быть сопоставимо только с рождением Христа, Антихриста, ядерной бомбы.
Тут необыкновенно деликатно повел свою партию Стефан Иванович. Отметив полное совпадение взглядов с Михаилом Семеновичем и дипломатично откашлявшись, он заметил:
— Объект пережил себя многократно, и, как мне кажется, если бы мы решились отдать его временно на хранение в дружеские руки, то в духовном смысле это ничего бы для России не изменило. Несомненно, что как его друзья, так и его враги, возможно, и сами того не ведая, несут в себе генетический отпечаток гениальной личности, так что в этом смысле объект и его дело бессмертны.
— Именно, — веско подтвердил Михаил Семенович и продолжил: — Потому-то ничего, кроме смеха, не могут вызвать попытки келейно установить стоимость объекта. Только аукцион, и при этом за стол торгов должен сесть весь мир!
Собравшиеся вежливо поаплодировали. Затем прорезался скучающий голос переводчика.
— Для господ из Эмиратов очень престижно было бы в связи с вышесказанным все-таки получить мумию в качестве политического залога. Они готовы к аукционным сражениям, но, дорожа временем, предлагают, как коммерсанты и монархисты, поднять стоимость его до полутора миллиардов долларов. Более того, из уважения к национальной святыне господа дипломаты готовы закупить на средства национального банка тонну розового масла для содержания объекта, и вообще не считаться ни с какими расходами.
При словах «розовое масло» послышалась возмущенная реплика Михаила Семеновича:
— Уважаемые господа, видимо, спутали по незнанию истории России две политические фигуры: уважаемый объект и проститутку Троцкого!..
Не желая больше слушать затянувшиеся торги, Луций потихоньку стал приводить пол в порядок и выползать из комнаты. Однако едва, отворив дверь, он увидел римского воина, который стоял, опершись на копье вполоборота к нему, так что был виден только его суровый профиль. Луций осторожно шагнул назад, но, видимо, воин все-таки что-то услышал, потому что последовал за ним. Луций уставился на вошедшего, ища лазейку к загороженной воином двери или прореху в доспехах, куда можно было бы сунуть кинжал. Ни того, ни другого он не обнаружил.
Воин поднял голову, и юноша узнал Никодима. Вместо ненависти к этому проходимцу, который вверг его в смертельное опасное путешествие и чуть не снасильничал над его братом, он испытал, и уже в который раз, огромное облегчение. От внезапно охватившей его слабости Луций прислонился к стене, чтобы удержаться на ногах. Никодим прижал два пальца к губам и молча показал на дверь. Когда они зашли в какую-то заставленную мягкой мебелью комнатку, Никодим с наслаждением поставил в угол копье, снял нагрудник, пояс, окованный бронзовыми вставками, отстегнул меч и вытянул вперед руки.
— Просто чумею, — пожаловался он. — Надо быть тяжелоатлетом, чтобы таскать, не снимая целые сутки, эту амуницию. — Он небрежно пнул брошенный на пол нагрудник. — Я бы на твоем месте тоже записался в легионеры. Во всяком случае получил бы передышку на несколько дней. За это время я бы подготовил тебе дорогу в город.
— Мне или нам? Луций сел на один из перевернутых диванчиков, очень внимательно рассматривая приятеля, его крепкую шею, худое полуобнаженное тело с крепким рельефом мышц. Потом заглянул в его глаза… и ничего в них не увидел, кроме доброжелательности.
— Парнишке все равно придется остаться, — сказал Никодим равнодушно. — Если удастся, я его пристрою…
— Себе в постель! — переспросил Луций и поднялся.
Никодим остался сидеть, словно не замечая, что его друг схватил приставленное к стене копье. Он равнодушно зевнул, потом засунул руку в карман кожаных штанов и извлек из них сигару и зажигалку. Закурил, небрежно пуская дым вверх и запрокидывая голову. Запахло крепкими ароматными травами и гарью. У Луция закружилась голова от едкого запаха «травки».
— Не удержался, — пожал плечами Никодим. — Я же не святой. Потом лучше я, чем этот потный пожиратель пиявок. Думаешь, зря он мотоцикл Ваське подарил?
Луций схватил копье наперевес и, не помня себя, бросился вперед. Никодим стоял неподвижно, слегка расставив ноги и подав вперед корпус, будто ожидая, когда острый бронзовый наконечник пропорет ему грудь. Не доходя до него полшага, Луций остановился и швырнул копье Никодиму под ноги.
— Будьте вы все прокляты! — крикнул он. — Если бы не ты, сволочь, я бы спокойно учился, и брат бы не купался в грязи.
— Не шуми, истеричка! — холодно предупредил его приятель. — Внизу услышат. — Он бросил с размаху сигару в угол, поднял копье и вновь аккуратно прислонил его к стене. — Складно говоришь, только забыл про склад с оружием, который твой братец раскопал. По какой причине вы сюда и попали. Я тебе советую во всем и всегда винить только себя. Тогда ты не будешь считать себя щепкой в бурной реке, а скорее умелым пловцом. Ты свяжи всю цепь событий и поймешь тогда, что иначе и быть не могло, как сидеть тебе в Римском клубе и ждать, пока душка Никодим тебя отсюда выведет. Как сейчас, например. Ведь ты хрен без меня сможешь вернуться в триклиний. Первое, что тебя спросят, где ты пропадал столько времени, да перепроверят. И что ты ответишь?
Луций промолчал. Ясно было, что Никодим гораздо лучше него разбирается во внутренней жизни клуба, и без него так или иначе не обойтись.
— Раз ты ко мне так враждебен, — продолжал тем временем бывший друг, — что даже чуть не проткнул копьем, я с тобой прекращаю дружеские отношения и перехожу на деловые. Хочешь вернуться без проблем назад, расскажи мне подробно, о чем шел разговор внизу, нет — твое дело. Я тебя выручать не буду.
— Чей же ты все-таки шпион? — спросил Луций, насмешливо оглядывая Никодима. — Неужели в самом деле татарский? Тяжелая у тебя жизнь: всех выслеживать.
— Пустые хлопоты, — парировал Никодим. — Ты прекрасно знаешь, что я тебе не отвечу ни да, ни нет. Чтобы ты не строил иллюзий, знай, что за тобой следят, мой мальчик, и твоя судьба сегодня будет активно обсуждаться членами клуба. И представляешь, как прозвучит известие, что ты исчезал как раз во время столь важных переговоров. У меня же есть убедительные объяснения и достоверные свидетели, что ты решал со мной вопрос о поступлении на действительную службу. Ну как, будешь говорить?
7. ГЛАДИАТОРЫ
Вернувшись в триклиний, Луций отметил, что на пиру вроде ничего не изменилось. Хозяин возлежал на прежнем своем месте, а гости были еще пьянее, чем раньше.
— Дорогие мои! — вдруг воскликнул Хион, поднявшись с места и, к возмущению Луция, послав воздушный поцелуй его брату, который теперь возлежал недалеко от возвышения в окружении обхаживающих его слуг. — Не пора ли нам позабавиться представлением из жизни древней Эллады. Сейчас актеры изобразят нам презабавную вещицу. Вот ее краткое содержание. Жили-были два брата Диомид и Ганимед с сестрою Еленою. Проводили они время так весело, что Елену похитили, а дружок их Аякс помешался. Так говорит нам Гомер о войне троянцев с греками. Вот это все вам сейчас и покажут в лучшем виде.
Хион кончил, все завопили от радости и застучали серебряными кубками о столы. Тотчас на серебряном блюде четверо слуг внесли вареного теленка с шлемом на голове. За ним следовал старый приятель Луция с обнаженным мечом, изображая сумасшедшего и рубя вдоль и поперек, он насаживал куски мяса на лезвие и раздавал изумленным гостям. После того как весь теленок был разрублен, Никодим схватился за голову и с криком швырнул меч в потолок. Потолок затрещал с таким грохотом, что затряслись стены. Луций вскочил вместе с основной массой гостей, достаточно трезвых, чтобы соображать. Неспособные встать подняли головы вверх, ожидая, какую весть возвестят небеса.
Потолок разверзся, и огромный обруч, на котором сидела обнаженная девица, стал медленно опускаться. На нем висели золотые венки и склянки с духами, которые девица начала отвязывать и кидать в публику.
Вдруг безо всякого перерыва раздались крики и ругань, и в триклиний вбежали два толстенных повара в белых халатах, с глиняными амфорами на плечах. Тщетно пытались гости примирить их. Повара продолжали ссориться и совершенно не желали никому подчиняться, пока один другому одновременно не разбили амфоры палками.
Пораженный наглостью этих пьяниц, Луций уставился на драчунов и увидел, что из амфор вывалились на стол устрицы и вареные крабы, которые слуги подобрали, разложили на блюда и стали обносить гостей. Однако юноша уже не мог съесть ни кусочка. Единственным его желанием было забрать брата и потихоньку исчезнуть хотя бы к себе в спальню. Василий возлежал теперь довольно далеко от него, а на все призывные взгляды и гримасы Луция не реагировал: то ли не видел, то ли не хотел. Последний раз погрозив кулаком, юноша решил подобраться к брату поближе и обратить его внимание на себя. Только он поднялся с ложа, как к нему подошел Никодим, только что изрезавший в пух и прах теленка.
— Зря стараешься, — заметил он, — брата тебе никто не отдаст. Хион приготовил его для себя. Видишь, как его блюдут служки. Да и сам он, плененный мотоциклом, не хочет уходить от своего благодетеля. Отдал бы мальчика мне — был бы он целее. Но мое предложение остается в силе: ты мне перескажешь все, что слышал, а я тебя даже и с братом выведу из клуба. Как, это мой вопрос, но я тебя не обману.
— Когда? — спросил Луций, решившись все-таки поверить Никодиму.
— Этого я сейчас сказать не могу, — уклонился тот. — Скажем, в течение следующей недели. Во все дни, кроме выходных, здесь народу очень мало. Члены Римского клуба занимают ключевые посты в правительстве, армии и полиции, поэтому вынуждены трудиться как и остальные граждане России. Только вечером и в выходные дни они позволяют себе побыть в роли римских патрициев.
— Я все-таки не пойму, — задумался Луций, — кто придумал Римский клуб и зачем?
— Это история долгая, — рассмеялся Никодим. — Как-нибудь, когда мы будем изолированы от местных шпионов, я тебе ее поведаю. А здесь это небезопасно. Постепенно вставай и иди за мной, пока все увлечены представлением Хиона.
Потихоньку выбравшись из триклиния, школьные друзья направились в спальню Луция, поскольку Никодим с тех пор, как записался в легионеры, жил в общей казарме, куда при всем желании штатскому попасть было нельзя. О том, как он оказался в охране клуба, Никодим не распространялся, но Луций понял, что туда подбирают самых доверенных и близких людей.
Время уже было совсем позднее, и они, никого не встретив, почти беспрепятственно добрались на этаж братьев. Однако в самом начале коридора Никодим застыл и стал прислушиваться. Луций тоже замолчал и вдруг услышал странные звуки, доносящиеся из-за двери. Сначала это была как бы отдаленная стрельба и уханье взрывов, потом целое море ликующих криков, через которые прорывался чей-то бархатистый, хорошо поставленный голос.
Никодим осторожно толкнул дверь, и она поддалась. Жестом указав приятелю следовать за ним, Никодим отодвинул тяжелую, не пропускающую свет портьеру и вошел. Луций увидел, что они находятся в самом последнем ряду громадного зала, видимо кинотеатра, потому что далеко впереди был громадный экран, а к нему тянулись ряды кресел, кое-где заполненных людьми. Бесшумно прошел он за своим поводырем несколько шагов и уселся в последнем ряду.
На экране несколько секунд стояла тишина, а потом тот же хорошо поставленный голос начал передавать новости: «Мы продолжаем хронику последних событий из Санкт-Петербурга. Несмотря на то что сопротивление сторонников регента в основном подавлено, в центре города в Доме книги еще засела горстка снайперов, которая ведет прицельный огонь по случайным прохожим и войскам Национального фронта». На экране возник столь полюбившийся Луцию Невский проспект. Вместе с камерой он проехал от площади Восстания к Казанскому собору. Невский был пуст, не было ни машин, ни людей. Тротуары были усыпаны сорванными вывесками, битым стеклом, клочьями одежды. Кое-где аккуратными кучками лежали подготовленные к транспортировке трупы. Крупным планом оператор показал известный магазин «Фарфор — стекло» на углу Невского и Садовой. Во весь рост появились двое мужчин с автоматами и мордами алкоголиков. Один из них, заржав, навел автомат на витрину и прошил ее очередью.
Тотчас послышался комментарий диктора: «Наши новоявленные Ротшильды, которые окопались в Петербурге под покровительством бывшего регента, в основном лица кавказско-сионистской национальности, теперь на своей шкуре могут испытать, как относится простой народ к капитализму. Их имущество будет отобрано и роздано нуждающимся, квартиры изъяты в фонд государства, а тем из них, кто сможет доказать свою непричастность к деяниям оккупационного режима, позволено будет трудиться производительно».
Тут же Невский пропал, и на экране возникло знакомое Луцию ястребиное лицо. Регент стоял со скрученными за спину руками, а вокруг него суетились люди с повязками. Один из них выгреб из его карманов все, что там находилось, другой аккуратными похлопываниями по бедрам и животу пытался найти никогда не носимое главой страны оружие. Желая, чтобы регент повернулся, обыскивающий грубо пнул его в спину. Регент никак не отреагировал. Он был на голову выше окружающего его сброда, и глаза его глядели в видимую лишь ему даль.
— Глава оккупантов сдался сам, чтобы избежать, как он выразился, нового кровопролития, что в переводе на русский язык значит избежать гибели нескольких десятков приверженцев, которых теперь будет судить военный трибунал русского народа, — прокомментировал картинку на телеэкране диктор.
Следующий эпизод кинохроники диктор отрекомендовал как «наши на митинге». Над Дворцовой площадью реяли давно исчезнувшие флаги со странной аббревиатурой «СССР», мельтешили портреты никому не известных вождей. Потом крупным планом оператор показал насаженную на палку голову какого-то несчастного, которую тащил перед собой здоровенный детина в черной униформе. Вообще людей в форме было очень много. Среди степенных, как на подбор бородатых казаков в папахах сновали офицеры и солдаты в каком-то сером, никогда не виданном обмундировании и вовсе ряженые в разноцветных мундирах. В то время как люди в униформе казались совсем молодыми, плакаты и знамена несли сплошь старики. Среди портретов новых вождей Луций с удивлением заметил и знакомые лица. Пронесли изображение Хиона, с лицом, опрокинутым вверх, потом рядом с ним портрет директора лицея почему-то в генеральском мундире.
Видимо, камера в руках оператора дрогнула, потому что вдруг на экране отразился угол площади, на котором несколько человек избивали ногами молодую черноволосую девчонку в очках и длинной юбке. Диктор показал ее лицо как раз в тот момент, когда от очередного удара с нее слетели очки и открылись ослепленные болью прекрасные близорукие глаза и сапог над ними.
Этот эпизод диктор оставил без внимания, и быстренько камера заскользила дальше, переехала через Фонтанку, показала одного из клодтовских коней с отшибленной снарядом головой, потом переместилась к Елисеевскому магазину, где ворочалась темная толпа, из которой вырывались и убегали отдельные люди с пакетами, сумками и мешками. Вдруг послышались клацание гусениц и грохот моторов. Это с площади Восстания на Суворовский проспект выехала колонна танков и пошла в сторону Смольного — видимо, не все очаги сопротивления были еще подавлены.
— Следующее сообщение с мест восстания против клики регента смотрите через час, — как ни в чем не бывало прокомментировал диктор и экран потух. Тотчас, пока не зажегся свет, Луций и Никодим выскользнули из зала.
— Знаешь что, — озабочено сказал Никодим, — мне надо на несколько минут исчезнуть, а тебе лучше вернуться в триклиний. Как я понимаю, завтра Москву объявят на чрезвычайном положении, а в такие моменты лучше быть на виду, чтобы не давать повода для ненужных подозрений. Притворись пьяным и возвращайся, а я через несколько минут тебя прикрою, когда вернусь.
Луций, отсутствие которого осталось незамеченным, вернулся обратно в триклиний. Больших усилий стоило ему вновь растянуться на ложе, а на еду он вообще смотреть не мог. Однако и уйти, как он понимал, без прикрытия Никодима, было опасно, поскольку события явно уплотнялись.
Луций закрыл глаза и вновь увидел колонну танков, идущих по набережной Невы.
«Господи, какой прекрасный город был. Сытый, довольный, гуманный. Город богатых людей, потому что единственный нищий, встреченный им в Санкт-Петербурге, был так безнадежно пьян, что и милостыню просить не мог своим неподвижным языком, а только показывал пальцем на кружку». Он вспомнил залитые огнями безмятежные площади, свой номер в «Англетере» и почему-то бар, набитый продуктами, веселый дом богемы, где каждого встречали радушием и вкусной едой.
Теперь все это гибло под катками национализма, вернее, тех людей, которые на волне «всемирного хамства» завоевывали власть.
«Все повторяется», — горько подумал Луций. Он вспомнил уроки Пузанского, который рассказывал о том, как сто лет назад уголовники уже брали власть, убивая прекрасную страну во имя будущего рая на земле.
В это время Хион, вытянувшись во весь свой рост, сошел с возвышения и заключил в объятия очень толстую белокурую женщину с красивым обрюзгшим лицом и жирными руками, сплошь увешенными браслетами. Рядом с ней стояла миниатюрная черноволосая девушка с сеткой из червонного золота на волосах и золотой ладанкой на шее.
— Вот, — представил их публике хозяин, — это мои дочь и жена, Виктория и Фортуната. Обычно они не ходят на пиры, но сегодня необыкновенный день, о котором многие из вас уже слышали. А для тех, кто еще не знаком с последними известиями, сейчас выступит наш дорогой гость — очень известный писатель Виктор Топоров. Давай, Витюша, не тушуйся.
Тотчас на возвышение, освобожденное Хионом, вбежал маленький седой мужчина с сияющим лицом, в котором Луций признал старого знакомого из Петербурга.
— Господа! — закричал он звонким, ликующим голосом. — Русский народ победил. Вся жидо-масонская зараза из Петербурга выжжена. Теперь очередь за Москвой! Чтобы не быть голословным, я сейчас прикажу вывести к вам пленников. Вместе с председателем мы решили исключительно из гуманности дать им возможность с оружием в руках защитить свою жизнь. Гладиаторские бои, которые мы перед вами проведем, будут отличаться одной особенностью: тот, кто выживет, будет освобожден от всякого судебного преследования.
Оркестр грянул марш, зрители захлопали и засвистели, тотчас десятки служек заполнили середину триклиния, вынося стол с остатками блюд на нем. В центре триклиния они расположили круглый красно-черный ковер, вокруг него выстроилась охрана с копьями наперевес. Охранники образовали длинный узкий коридор от самых дверей, по которому одетые в черную униформу гвардейцы Топорова провели десяток людей с завязанными назад руками.
Люди эти, подгоняемые копьями легионеров, сгрудились в середине ковра. Тотчас вышел один из гвардейцев и стал резать им веревки на руках. По одному он отводил пленных за край ковра, а глашатай зычным голосом объявлял:
— Первый заместитель префекта… генеральный директор акционерного общества… главный редактор демократической газеты…
Особое оживление вызвало в зале появление среди пленных сына регента и рядом с ним диктора Петербургского телевидения — очень красивой юной женщины в домашнем халате, одетом, как показалось Луцию, на голое тело. Как только последнему пленному были развязаны руки, тотчас ковер взяла в кольцо усиленная охрана, так, чтобы они ни в коем случае не смогли добраться до пирующих.
Топоров хлопнул в ладоши, и один из его телохранителей вышел на середину ковра. Не глядя, протянул он руку в сторону, и тотчас в ней появился бронзовый меч с коротким широким лезвием. Навстречу ему стража вытолкнула невысокого пожилого мужчину в генеральском мундире, штанах с лампасами и точно с таким же мечом. Высокий и длиннорукий охранник не торопился нападать. С усмешкой он смотрел, как дрожит опущенный острием к земле меч в неумелых руках генерала. Затем генерал выпрямился, подобрал живот и с ругательством бросился на противника. Тот с пренебрежительной усмешкой сделал шаг в сторону и, когда его противник проскочил мимо, резко взмахнул рукой. Меч распорол надвое мундир и брюки, так что генерал под гомерический хохот присутствующих остался в одном исподнем. Вне себя он отшвырнул меч в сторону и попытался натянуть брюки, однако они остались у него в руках. Охранник глядел на генерала с тем же брезгливым выражением, которое возникает у человека, поставленного перед необходимостью прихлопнуть слишком назойливую муху так, чтобы не испачкать мебель.
Он дождался, пока генерал нагнулся, чтобы поднять меч, а потом одним поворотом кисти отрубил ему руку по локоть. Генерал с неописуемым удивлением посмотрел на лежащую на ковре собственную руку, которая по инерции еще продолжала сжимать меч. Он, видимо, еще не почувствовал боли и пытался зажать невредимой рукой артерию, когда новый удар меча сделал все его усилия бесполезными. Безголовое туловище несколько секунд стояло неподвижно, потом упало навзничь, оросив густыми черными брызгами победителя. Луция чуть не стошнило при виде крови. А на ковер тем временем вывели молодую женщину-диктора. С ужасом уставившись на обезглавленное тело, она присела на корточки и спрятала лицо за распущенными волосами. Луций сам не понял, какая сила вытолкнула его на ковер.
Боец не торопился нападать на девушку, видимо, этому его не учили. Увидев Луция, он ожил, оскалил зубы в мрачной улыбке, и сам, наклонившись, подал юноше меч. Однако режиссеров спектакля такой поворот событий не устраивал. Тотчас Хион хлопнул в ладоши, и несколько вооруженных служителей оттеснили Луция с ковра за спины охраны. Девушку осторожно подняли на руках два телохранителя Топорова и положили на ложе.
Топоров встал, подошел к отрубленной голове генерала и крикнул:
— Русские не воюют с женщинами и детьми. Эта проститутка была любовницей регента и идеологическим знаменем наших врагов, но мы перевоспитаем ее!
Толпа зрителей скандировала:
— Бой! Хион медленно сполз с ложа и на нетвердых ногах побрел к Луцию. Остановившись против него, он поднял вялую руку и потрепал юношу по щеке.
— Молодец, — похвалил он, — настоящий рыцарь. Рад, что у моего возлюбленного Васи такой брат.
Слова отдались громом в ушах Луция. С невероятным трудом он превозмог себя, чтобы не броситься на толстяка. Хион, видимо, не замечая его состояния, побрел на середину зала. Кряхтя, он поднял запачканный кровью меч и отер его полой своего плаща. Потом повернулся к пленникам.
— Когда вы тявкали на нас с высоты своего положения, — презрительно произнес он, — то казались очень храбрыми. Чего же теперь приуныли? Есть тут хоть один мужчина? Даже девку свою не можете защитить. Дерьмо! — и, махнув рукой, он отошел от пленных.
— Сам ты дерьмо! — четко разнеслось по залу. Это сын регента, молодой стройный парень в коричневой рубашке с золотой цепью на шее, которую, видно, не успели сорвать, вышел вперед. — Дай мне меч!
Хион с усилием повернулся и не глядя швырнул меч. Молодой человек в коричневой рубашке подхватил его на лету и выпрямился. Пирующие одобрительно загудели.
— Выродились бойцы, — пожаловался знакомый Луцию толстяк. — Наши ребята косят пленных как пшеницу. Этот парень, видно, не трус, раз сам лезет в драку.
Пожалуй, только телохранитель с мечом, да Никодим, только что вернувшийся в триклиний, могли по достоинству оценить храбрость юноши. Уже по первому движению руки, когда он принял позу фехтовальщика и поднял меч вверх, они увидели, что парень держит холодное оружие едва ли не первый раз в жизни. Телохранитель и на этот раз не торопился нападать. Не глядя на своего противника, он проделал несколько движений мечом, а затем стал вращать его так быстро, что могло показаться, будто у него в руках крутится велосипедное колесо.
Сын регента долго стоял в неподвижности, видно, не зная как противостоять этому напору стали. Потом, улучив момент сделал резкий выпад в сторону телохранителя. Тот отступил назад, лениво перебирая ногами. Длинная рука его, вроде бы безо всякого участия хозяина, парировала яростные выпады. Казалось, ему ничего не стоит разом прервать наскоки своего противника и уложить его рядом с обезглавленным трупом генерала. Видимо, юноша понимал это, потому что, сделав пару-тройку резких движений, он отступил к краю ковра и перевел дыхание. И он, и окружающие понимали, что жить ему осталось не более минуты. Однако торжество правосудия испортила Фортуната. Исполнившись пьяного умиления, она с визгом бросилась к сражающимся и, растолкав охрану, упала на шею молодому человеку. Тот, растерявшись, едва не поразил ее мечом, но вовремя сообразил, что перед ним дама.
— Такой хорошенький, — завизжала Фортуната, — и этот изверг его на моих глазах проткнет. Не пущу! — и, повиснув на шее юноши, она умудрилась повалить его на спину, сама оказавшись наверху. — Когда резали генерала, я и слова не произнесла, — продолжала женщина, — ходить без головы — это генеральское дело, но детей корчевать не дам!
— Уймись непутевая женщина, — тщетно увещевал ее Хион, подойдя на заплетающихся ногах к рингу и пытаясь нагнуться, чтобы прикрыть голые ноги и зад Фортунаты. Однако силы его покинули окончательно, и он грохнулся на жену, так что юноша вовсе скрылся под двумя грузными телами. Пирующие застыв от неожиданности, наблюдали, как барахтается Хион, не в силах слезть с дебелой жены. Луций, несмотря на свою озабоченность, искусал губы, чтобы не рассмеяться при попытках Хиона отползти в сторону. К тому же совсем растерявшийся сын регента не вовремя вздумал подняться, чем полностью перетасовал колоду, так как Хион оказался внезапно внизу, на нем с торжествующим воплем возлегла Фортуната, а молодой человек с глупым видом сел на ее зад.
— Роковой треугольник, — услышал Луций у себя за спиной голос Никодима. — Идиотка, сорвала бой!
Луций повернулся к Никодиму, который что-то жевал, расстегнув нагрудник и положив меч на ложе.
— Ты мало того что сексуально озабочен, еще и кровожаден!
Впервые за время их общения Никодим обиделся всерьез.
— Дурак ты, — сухо ответил он. — Ты бы прежде, чем незрелые суждения высказывать, поинтересовался причинами, как ты говоришь, моей кровожадности, подумал бы о том, что я тепло относился к администрации Питера и с неприязнью к националистам. Далее, при минимальной привычке рассуждать тебе бы стало ясно, что поворот в моих взглядах мало реален. Значит, я владею неведомой тебе информацией. Ей-богу, чтобы сделать такое заключение, даже твоего ума хватит. Этот парень, — показал он на юношу, который высвободился из-под душащей его в объятиях Фортунаты, — по моему досье, великолепный спортсмен. Чуть ли не чемпион федерации по прыжкам с шестом. Конечно, он не умеет фехтовать, но стоит ему чуть освоиться или заменить оружие более грубым, у него появится шанс.
Скучно, — заорал вдруг Никодим, набрав полные легкие воздуха, — даешь бой с трезубцем!
Как и следовало ожидать, пирующие оживились и поддержали Никодима протяжными воплями и швырянием металлической посуды об пол. Фортуната, расслышав громкие крики о сети и трезубце, поднялась, расправила свободное до откровенности платье и, повернувшись к Хиону, который тоже умудрился встать и даже добрести до своего ложа, воскликнула:
— О мой повелитель, глас народа — это божий глас! Прикажи этим мрачным охранникам убрать мечи и копья. Да здравствует сеть и трезубец!
С этими словами она легко подбежала к Хиону и, упав на колени, стала целовать его руку. Хион поглядел на жену с хитрой улыбкой.
— За что люблю, — громко сказал он, приподнимая ее и усаживая между ног, — умная баба, а главное, вовремя умеешь дурой притвориться.
По его знаку труп генерала убрали, причем голову с обещанием набальзамировать и передать в музей изящных искусств несли на подносе отдельно; ковер перевернули и посыпали песочком, а бойцов развели по разным углам. Оставшись без меча, телохранитель впервые проявил некоторые признаки беспокойства. Видимо, он почувствовал, что речь уже идет не о работе палача, а о борьбе не на жизнь, а на смерть с умелым противником. Когда же юноша скинул рубашку, обнажив мускулистое тело атлета, телохранитель стал беспокойно вертеть головой, питаясь поймать взгляд Хиона и одновременно заручаясь поддержкой собственного хозяина — Топорова.
— Трезубец мне, — услышал Луций его просьбу, обращенную к двум слугам, которые несли на громадном бронзовом подносе трезубец и кусок рыболовной сети, сплетенной из очень крепкой лески.
Не обратив внимания на просьбу, слуги прошли на середину круга и передали трезубец сыну регента, его сопернику же сунули в руки сеть, которую он тут же стал расправлять, искоса поглядывая на юношу. Хион дождался, пока телохранитель расправил сеть, и поднял ее края над головой, после чего хлопнул в ладоши.
Сын регента взял трезубец наперевес и бросился вперед. Телохранитель приготовился накинуть на нападающего сеть, но юноша использовал оружие как шест. С размаху воткнув трезубец в деревянный пол, он отпустил его рукоятку и, выгнувшись, как кошка, перелетел через сеть. Не устояв на ногах, юноша кубарем покатился по ковру и, пока охранник с сетью разворачивался, успел подняться и стремглав броситься на него. Запутавшись в сети, двое бойцов перекатывались по ковру, пытаясь схватить друг друга за горло.
Присутствующие поддерживали их нестройными криками. Тут же заключались пари, причем более всех усердствовал Никодим, который без зазрения совести принимал любые ставки за сына регента. Борьба, впрочем, не оказалась слишком затяжной. Преимущество в силе юноши было столь велико, что не прошло и минуты, как он завернул противнику руку за спину, а свободной рукой стал давить на подбородок, так что голова охранника, несмотря на сопротивление, стала отъезжать от позвоночника, пока не послышался громкий хруст сломанных костей. Сеть напряглась и взлетела вверх, отброшенная сильной рукой. Юноша встал и пошатываясь отошел к краю ковра. Телохранитель остался лежать лицом вниз, но когда слуги захотели унести его и, перевернув, попытались втащить на носилки, он вдруг застонал.
— Не понимаю, как это может ожить человек со сломанной шеей? — вслух выразил общие сомнения Хион, на что ему резонно и так же громко ответила Фортуната:
— Значит, у него сломана не шея, а рука. Ее ответ всех удовлетворил. Оставшихся пленных увели, вслед за ними пронесли носилки с изувеченным телохранителем, причем толпа улюлюкала и кричала вслед: «Слабак», «Заяц полудохлый!»
Победителя гладиаторского сражения взяла под свое покровительство Фортуната. Вместо разодранных в сражении рубашки и брюк выдали ему прекрасный халат не хуже, чем у Хиона. По приказанию Фортунаты слуги принесли серебряный таз и омыли раны юноши чистой водой, после чего умастили его тело розовым маслом. Хион смотрел на все проделки жены с поразительным безразличием, и все чаще его взгляд останавливался на Василии, которому все больше нравился и сам пир, и события, которые на нем происходили. Вид же брата стал ему почему-то неприятен, и когда Луций подошел вплотную к его ложу, Василий отвернулся и занялся разговором с мальчиком-слугой, чтобы его не замечать. Так что Луцию пришлось отойти, опустив голову.
8. СВАДЬБА
В завершение пира вновь выбежали мальчики с духами в серебряных тазиках и натерли ими ноги возлежащих, предварительно опутав голени от колена до самой пятки цветочными гирляндами. Остатки духов были вылиты в сосуды с вином и светильники.
Умиротворенный Хион подозвал к себе Василия и повелел ему возлечь на ложе рядом с собой. Тотчас появился увенчанный виноградными лозами отрок, обнося гостей корзиной с виноградом. Затем он запел тонким пронзительным голосом:
Когда лобзал я мальчика В уста полуоткрытые, И аромат дыхания Я пил губами жадными, Мой дух, больной и раненый, Взобрался на уста мои, И, мчась безостановочно, До мягких губок мальчика, Сквозь них искал он выхода И убежать старался. И если б лишь немножечко Лобзание продолжилось, Огнем любви прожженная Душа б меня покинула. И чудо б совершилося: Сам по себе я умер бы, Но жил бы в сердце отрока.Хион шепнул Василию, что песня исполняется специально для него, и мальчик все доверчивее прижимался к своему благодетелю, который кормил его из рук виноградом. Видя его расположение, Хион объявил, что внесет Василия в завещание. Все засмеялись, но Хион, оставив шутки, велел немедленно принести из своих покоев проект завещания и зачитать его. После того как посыльные вернулись с сообщением, что текста нигде не могут найти, он вначале воспылал притворным гневом и распорядился всех слуг, участвовавших в поисках, перепороть, но потом сменил гнев на милость и поведал, что сочинит документ заново прямо здесь в триклинии. Первым делом повелел найти он скульптора и заказать ему памятник, потому что без этой статьи расхода ему трудно планировать другие распоряжения.
Когда явился скульптор, разодетый в полосатую тогу, Хион перевел на него оценивающий взгляд и так заговорил:
— Что скажешь, друг сердечный? Ведь ты воздвигнешь надо мной памятник, как я тебе заказал. Хотелось бы мне и после смерти пожить. Желаю, чтобы вокруг праха моего были яблони и вишни, а если климат и успехи сельского хозяйства позволят — виноградник. Ибо большая ошибка украшать дома при жизни, а о тех домах, где нам дольше пребывать, не заботиться. Пусть на памятнике изобразят всю мою жизнь. Ни от чего я не хочу отказываться.
В молодости был я автомобильным вором, за что честно отбыл наказание в Сибирской тайге. Поэтому на первой фреске изобрази меня в самом цветущем возрасте с топором в руках перед елкой. После первого неудачного опыта коммерции поменял я профессию и стал солдатом. Воевал я с армянами против турок, с грузинами против чеченцев и абхазов, получил чин капитана, поэтому на второй фреске я завещаю изобразить меня в офицерском мундире на вершине горы с автоматом в руках, и по периметру все мои боевые награды, если поместятся. Без ложной скромности скажу, что подоспел я в Москву очень вовремя, когда татарва, как пятьсот лет назад, обратала Русь и город стоял в осаде. Тут как нельзя пригодился мой боевой опыт, и тогда впервые возглавил я отряд добровольцев, с которыми отстоял укрепрайон вдоль реки Рублевки. Поэтому на следующей фреске изобрази меня стоящим над полуразрушенной Москвой с мечом в руках и удирающих во все лопатки татар.
Тут все зааплодировали и выпили за здоровье доблестного воина. Приосанившись, Хион продолжал.
— На фронтоне изобрази, мой друг, разбитую урну с моим прахом и мальчишечку, — показал он кивком на Василия, — рыдающего над ней. Над урной — часы, так, чтобы каждый, кто пожелает узнать, который час, волей-неволей прочел бы мое имя. Вы сами знаете, кем я являюсь в последние годы, поэтому мне кажется уместной будет такая надпись, идущая вокруг памятника: «Здесь покоится господин Хион Триумвиратор, градоначальник Москвы, украшавший собой Тайный Совет при государе. Благочестивый, мудрый, верный, он вышел из народа и умер великим государственным мужем».
При последних словах голос Хиона задрожал, и он заплакал в три ручья. Плакала Фортуната, плакал скульптор, плакал маленький Василий, прижимаясь к жирному плечу Хиона, а затем все пирующие и вся челядь дополнили триклиний рыданиями, будто их уже позвали на похороны. Наконец, когда и Луций готов был расплакаться, поддавшись общему настроению, Хион, утерев слезы и сопли, сказал:
— Итак, если мы знаем, что обречены на смерть, почему бы нам не пожить в свое удовольствие. Будьте же все здоровы и веселы!
С этими словами Хион притянул к себе Василия и, не стесняясь присутствующих, поцеловал в губы. Фортуната, до сих пор очень спокойно относившаяся к увлечению мужа, вдруг вскочила с ложа и стала кричать, размазывая по лицу пьяные слезы вместе с румянами и тушью.
— Я угробила на тебя лучшие годы! Я отдала тебе свою молодость без остатка. Ни один мужчина не смел дотронуться до меня! — Тут она обнаружила руку сына регента у себя на груди и грубо ее оттолкнула. — Ты же принялся заигрывать с мальчиками. Что же мне теперь одной засохнуть в постели?
— Дает! — с восхищением обратился Хион к Стефану Ивановичу.
Тот посмотрел в сторону Фортунаты с большим уважением к ее актерским способностям и кивнул. Хион сполз с ложа и подозвал Фортунату. Обняв ее за плечи, он незаметно ущипнул Василия за пухленький зад.
— Ублажила ты меня. За такую любовь не грех и выпить. Верю, верю, что ты меня любишь, верю. Поднимем бокалы во славу жизни!
С этими словами Хион схватил мальчика в охапку и смачно поцеловал. Луций больше не смог выносить всего этого. Понимая, что не может вырвать брата из рук градоначальника, он, не думая, следят за ним или нет, поднялся с ложа и вышел.
— Вот и состоялась наша помолвка! — закричал Хион, высоко поднимая мальчика над головой. — Теперь очередь за свадьбой.
— В этом что-то есть, — усмехнулся Стефан Иванович. — По-нашему, по-римски!
— Что же ты стоишь как столб! — взорвался Хион. — Поздравляй нас.
— Поздравляю! — хохоча отозвался директор лицея и крепко пожал руку хозяина. — Желаю нарожать побольше детей. Прелесть, — он поднял двумя пальцами подбородок Василия и причмокнул от восхищения. — Тебе просто нельзя не позавидовать.
— Ты чего ждешь, жена? — взревел Хион, сверля Фортунату узкими, злыми глазками. И снова не понять было — пьян он или притворяется. — Да ты не волнуйся, — пробормотал он ей на ухо, — минутная прихоть, не больше.
Фортуната, решив, что долг приличия ею выполнен, подошла, к мальчику и в свою очередь стала покрывать поцелуями его щеки, лоб и губы. Василий, ничего не понимая, почувствовал, как жгучая краска стыда растеклась у него по щекам.
— Как они стыдливы! — хохотала Фортуната, и ее почти обнаженная мягкая грудь коснулась губ мальчика. Тот неожиданно для себя поцеловал ее.
Заметив это, Хион нахмурился и грубо схватил Фортунату за руку:
— Для любви втроем он еще не дорос, — пробормотал он.
— Такой наивный мальчонка, — улыбаясь, шептала Фортуната. — Когда он тебе надоест, я, пожалуй, возьму его слугой к себе.
— Служанкой, — поправил ее муж. Услышав его слова, Василий засопел и отвернулся. Слезы побежали по его круглым щекам. Никодим, наблюдая за мальчиком издалека, пришел к выводу, что для него есть шанс. Небрежной походкой римского легионера подошел он к ложу Хиона и нежно погладил мальчика по голове.
— Это еще кто? — выпучил на него глаза Хион.
— Я его дядя, — без смущения представился юноша. — Знаю его с рождения. Замечательный мальчик. Красавец!
— Хорошо, утешь его. Я объявляю тебя распорядителем свадьбы. Справишься?
— Рад служить вашей милости! — вытянулся в струнку Никодим. И обращаясь к Василию, спросил: — Чего ты плачешь, дурачок. Не рад чести, которая тебе выпала?
— Я перестану быть мужчиной? — спросил Василий и икнул.
— Да что ты! У одного правителя был точно такой же мальчик…
— Расскажи мне про него, — обрадовался Василий.
— Он справил свадьбу со всей пышностью и ввел мальчика к себе в дом на правах второй жены, одел его по-царски и возил в «мерседесе» по городу.
— Разве тогда уже были «мерседесы»? — удивился мальчик.
— «Мерседесы» были всегда. На заседаниях, торжествах и в путешествиях они всегда были вместе. А Хион, можно сказать, знатный путешественник.
— Правда?
— Конечно. Будешь ездить с ним по всему миру. — Ну а потом… — юноша сознательно задержал последнюю фразу.
— Ну же… — не выдержал Василий.
— Не томи! — вскричала Фортуната.
— Он подарил мальчика своей любимой жене, и после смерти правителя они поженились.
— Не уверена, в моем ли ты вкусе. Сейчас это просто не рассмотреть, — пожала плечами женщина. — Но идея прекрасная!
— Посмотрите, свадебный наряд прикатил! — забила в ладоши Виктория.
В триклиний вошла жрица, которая исчезла сразу после объявления свадьбы, со своей юной ассистенткой. В руках Лена держала свадебную тунику, которую она бережно разложила перед мальчиком. Василий судорожно оттолкнул одежду и в испуге поднял глаза на жрицу.
— Не бойся, миленький, — заворковала она. — Это же свадебный наряд, а не похоронный или жертвенный.
— Ну, утешила, — рассмеялся Хион. Василий робко потянулся к тунике и попытался надеть ее, не вставая с ложа. Девочка помогла ему подняться, оправила на нем длинную тунику и, нежно обнимая, перехватила бедра белым поясом из овечьей шерсти.
— Я сама его ткала. Носи его всегда, затягивай потуже, и он будет тебе верной защитой от колдовства и дурного глаза, — тихонечко шептала она, повязывая пояс замысловатым узлом.
«Неужели она во все это верит?» — пронеслась мимолетная мысль у Василия.
Жрица, отступив на шаг, придирчиво рассматривала мальчика. Наряд ему был к лицу, и она, довольная, сравнивала его с бутоном. Лена надела склонившемуся в раздумье Василию венок из белых гвоздик, накинула сверху огненно-рыжее покрывало почему-то с двумя рогатыми оленями зеленого цвета и взяла за руку.
— Вот кого бы надо поженить, — в восхищении перешепнулись жрица с Фортунатой.
Девочка в самом деле была очень хороша в новой длинной серой юбке и розовой кофточке из полупрозрачного шифона. Она взяла Василия за руку и с очень серьезным видом повела вокруг триклиния.
«Слава богу, что Луций этого не видит», — вздохнула жрица, отворачиваясь.
По мере продвижения процессии к ней добавлялись все новые и новые люди из числа приглашенных на пир. Они пьяной гурьбой окружали Василия и Лену и сопровождали их.
— Слушай, а на ком Хион женится, на ней или на нем? — спросил Никодима один из только что проспавшихся гостей.
— На обоих, — ответил Никодим и отвернулся. Процессия обошла триклиний и затормозила у возвышения, на котором ее ждал жених и почетные гости. У всех были чрезвычайно серьезные, величественные лица. Толпа радостно сгрудилась позади Василия. Хион вышел к нему вместе с Фортунатой и почтительно приветствовал. На большом подносе вынесли два бокала с шампанским и пшеничный каравай. Хион бережно взял руку мальчика в свою.
— Не откажи, — проворковал он, поднося к губам Василия бокал.
Мальчик залпом выпил шампанское и сам поцеловал Хиона в дряблые щеки.
— Утешил, — умилился жених, тоже выпил свой бокал и лихо разбил об пол. — Негодник, я тебе легковушку подарю, если будешь хорошо себя вести.
Жрица отстранила ненужный поднос и обратилась к разомлевшим от своих мыслей жениху и невесте.
— Хоть и изрек в свое время Гораций: «Настоящим браком будет, который заключен по желанию сочетающихся, хотя бы никакого контракта и не было», но я все-таки подготовила брачный контракт на две недели с включением в него со стороны жениха нового автомобиля «Ягуар» для невесты.
— Что это такое «Ягуар»? — переспросил Василий у Никодима и, получив ответ, выхватил из рук жрицы авторучку с золотым пером и быстренько, раньше Хиона, подписал контракт.
Пышущий оптимизмом жених тоже расписался, не читая, и крепко, уже в который раз, поцеловал мальчика в губы.
— Как шерсть, остриженная прядями, плотно соединена между собой, так и муж да составит с женой единое целое, — возвестила жрица, усаживая Хиона и Василия на покрытое шкурой ложе.
С неистовым хрюканьем слуга втащил упирающуюся белую свинку пудов на пять весом. В какой-то момент свинье удалось выпутаться из веревки, и все гости с пьяным гоготом начали ловить ее, бегая как безумные по триклинию и смеясь.
— Не бойся, — прошептал Никодим Василию, которого все-таки било крупной дрожью. — Это глупая шутка, которая кончится через две недели. И ты снова увидишь своих друзей по интернату и любимого брата.
— Я не хочу никого видеть, — ответил мальчик, глотая слезы. — Мне стыдно.
В это время слуги вновь поймали свинью, и вся процессия начала весело распевать:
Что за ночка, о боги и богини! Что за мягкое ложе, где сгорая, Мы из уст в уста переливали Души наши в смятении!С последними словами песни обнаженный до пояса слуга заколол жертвенную свинью, и кровь ее обрызгала всех присутствующих.
9. АНИТА
Потрясенный и опечаленный мерзостной сценой свадьбы, которой он никак не мог помешать, Луций вернулся в выделенную ему спальню. Более всего его изумлял и приводил в ярость сам Василий, покорно и даже с удовольствием отдававшийся всем перипетиям брачной церемонии. Он стал совсем чужим, этот самовлюбленный мальчишка с наглым, как у козла, взглядом развратных синих глаз. И все же юноша чувствовал свою вину в происшедшем. Он лежал без сна на кровати, переживая за брата и мучась от неумеренного обжорства последних дней, когда в комнату без стука вошел Никодим в неизменном костюме римского воина.
Никодим молча прошел к кровати, на которой лежал Луций, сбросил меч с поясом прямо на пол и грубо схватил приятеля за ладонь так, что тот вынужден был приподняться.
— Валяешься здесь, — грубо проговорил он, — а эти суки регента расстреляли прямо у него во дворце. Да и сына его, похоже, та же участь ждет!
— Да ты у нас скрытый демократ, — язвительно усмехнулся Луций, — а я полагал, что ты монголо-ланкийский шпион, так сказать, проверенный в делах. Мало ли кого в наше время убивают. По всем панихиду служить, что ли? Ты вот обещал меня отсюда вывести вместе с братом. Сделка прошла. Так что давай, выполняй обязательства. На мне судьба брата висит. Перед отцом с матерью ответственность, если даст бог живьем увидеть.
От слов Луция Никодим вроде опомнился, даже румянец появился на бледных щеках. Глаза его заблестели, как обычно, холодным блеском, и острый ум включился в работу.
— Костюм тебе справим, как у меня, — подумал он вслух. — Ну ладно, это не проблема. Мальчишка в покоях Хиона, это ясно. Взять его будет нелегко, потому что… — Тут Никодим хотел продолжить в том плане, что «мальчишка внезапно превратился в настоящую шлюху», но воздержался, взглянув на Луция.
Как и обещал, Никодим вернулся через час, сделав все необходимые приготовления. Он швырнул приятелю пакет, велев переодеваться, и поведал информацию о Василии. Тот, по его словам, был бодр и весел, о брате не пожелал даже и слушать и мечтал лишь о том, что Хион подарит ему спортивный автомобиль.
— Еще раз подумай, — предложил Никодим, — стоит ли брать мальчишку с собой. Он продаст нас первому же часовому.
— Мой брат пойдет со мной, — заупрямился Луций, — даже если придется нести его на руках!
— Предварительно дав по голове дубиной, — мрачно усмехнулся Никодим, — потому что по доброй воле парня от Хиона за уши не оттащить.
— Мне бы только с ним переговорить, — зловеще изрек Луций, но на приятеля его слова не произвели никакого впечатления.
Поздно ночью друзья отправились за Василием. Апартаменты Хиона, как и других постоянных членов клуба, находились почти под крышей здания. Юноши доехали на лифте до шестнадцатого этажа и вошли в небольшое уютное фойе. Проход в коридор был отгорожен бронзовой дверкой, посередине которой располагался лик Хиона со скорбно поджатыми губами. Вокруг портрета на шестнадцати клетках изображались различные события жизни владельца апартаментов.
На этот раз ни у Никодима, ни у Луция не было желания знакомиться ближе с историей жизни государственного деятеля, и они просто позвонили. В глазок настороженно глянул охранник, однако признав Никодима, он приветливо раскрыл дверь. Никодим остался беседовать с охранником «за жизнь», а Луций отправился на поиски брата. К сожалению, боевой друг, обещавший в случае тревоги взять на себя охранника, не мог подсказать Луцию, как тому действовать, поскольку никогда не бывал в покоях для знати.
Луций прошел анфиладу роскошно обставленных комнат и холл и проскользнул на балкон, откуда открывался вид на внутренний дворик. Отделенный от остальных помещений зал напоминал собой скорее крытый стадион с круглым бассейном посередине. Рядом с водой в самых непринужденных позах возлежали обнаженные девицы. Одни потягивали что-то из высоких сиреневых бокалов, перед другими стояли бутылки с яркими красивыми этикетками. Несомненно, это был гарем Хиона, а с балкона развратный политический деятель мог выбирать себе супругу или просто подглядывать. Наблюдения за точеными фигурками и грациозными движениями наложниц невольно пробудили в юноше героические наклонности. Он уже прикидывал, как бы освободить их всех разом, когда под балконом обнаружил брата, очень мило сидящего на бортике бассейна со стаканчиком мороженого в руках.
Рядом с мальчиком стояли две девочки примерно его возраста, вовсе без одежды. Они, смеясь, что-то ему рассказывали, и, к смущению Луция, естество Василия вдруг отчетливо поднялось и вытянулось. Тотчас стайка женщин окружила мальчика. Ласково тормоша и целуя, они передавали его друг другу, как бы невзначай задерживая руки на интимных местах мальчика. Наблюдая за потоком нежностей, обрушившихся на его брата, Луций впервые подумал, что тому по-своему не так уж и плохо в гареме, а если спасать Василия, то делать это надо немедленно, пока его не затянула нега сибаритства. В это время наиболее разгоряченные девицы стали жадно хватать член мальчика и сладострастно водить им по гениталиям.
Выбрав балкон как ориентир, юноша бросился искать выход к бассейну, который был, безусловно, где-то поблизости. Он открывал все двери подряд. За некоторыми из них находились люди, но одеяние воина ограждало от лишних вопросов. В конце концов, пройдя чуть ли не полный замкнутый круг по коридорам, Луций ткнулся в очередную дверь и влетел в комнату с широкой белой кроватью на белых ножках у окна. Из-за ведущей на балкон противоположной двери доносился плеск воды, смех и крики купающихся. Осторожно выглянув, юноша обнаружил рядом с собой вышку для прыжков в воду, из чего заключил, что находится над самой глубокой частью бассейна. Увиденная внизу картина успокоила сердце Луция. Его распутному братцу удалось-таки вырваться из любовного плена, и он неторопливо отмерял круги по воде, не решаясь все же чересчур приближаться к бортикам. Утихомирившиеся девицы вернулись на исходные позиции и как ни в чем не бывало безмятежно потягивали недопитые напитки.
На всякий случай Луций припер кроватью входную дверь, создав при этом такой грохот, словно по паркету проехал средней мощности бульдозер. Потом юноша присел на кровать с другой стороны и стал дожидаться, пока купальщицы не уйдут восвояси. Он был твердо уверен, что Василий будет плавать до бесконечности. Юноше удалось даже вздремнуть, хоть и ненадолго. Проснулся он от того, что кто-то толкал приоткрытую дверь и грубо чертыхался. Судя по всему, хозяин помещения, возвращаясь домой после тяжелого дня, никак не мог уразуметь, что мешает ему открыть дверь. Рвущийся мог в любую минуту поднять тревогу, и Луций бросился к балкону. На его глазах бассейн покидали последние девицы, вполне миролюбиво беседующие с Василием. Уходя, они выключили за собой свет, и лишь подсвечиваемая снизу зеленоватая вода призывно поблескивала почти в полной темноте.
Юноша снял одежду, завязал ее в простыню и голый вылез на балкон. За его спиной кровать неотвратимо отодвигалась в глубь комнаты, и, не дожидаясь появления неизвестного собственника, Луций спрыгнул вниз. Летел он неожиданно долго и при соприкосновении с водой умудрился потерять узел с одеждой и оружием. Грохот, с которым юноша погрузился в воду, казалось, должен был разбудить весь клуб. Вынырнув, беглец осторожно подплыл к краю бассейна и затаился в тени. Некоторое время он ожидал, не поднимется ли переполох, но все было тихо. Потом в покинутой Луцием комнате загорелся свет, и какой-то человек, выглянув на балкон, огласил воздух громкими ругательствами, но юношу не заметил и с треском захлопнул дверь. Луций стал торопливо нырять, пытаясь отыскать узел, однако, несмотря на подсветку, идущую от основания стенок бассейна, не смог обнаружить ничего, кроме ровного голубого сияния. Он доставал до дна и шарил по нему руками, но каждый раз его пальцы встречали только кафель облицовки. Запыхавшись, он вынырнул на поверхность и поднялся по мраморным ступенькам. Его босые ноги ощутили мягкий ворс ковра, а голое тело теплое дыхание легкого ветерка с примесью тропических ароматов из сада внутреннего дворика.
Постепенно глаза юноши привыкли к полумраку. Осторожно ступая, он дошел до едва различимой скамейки с забытым кем-то купальным полотенцем. Луций, не долго думая, схватил его, и чувство беззащитности, на которое обречен всякий голый человек, прошло тотчас, как только он обернул полотенцем бедра. Ободренный юноша, крадучись, перебежал к покрытой ковром лестнице и начал неспешно спускаться. Прямо перед последней ступенькой располагался дверной проем, прикрытый плотной шторой, через которую пробивался яркий свет. Луций осторожно приблизился к шторе и чуть отодвинул ее. Перед ним была комната с зеркальными шкафчиками, фенами, креслами и диванчиками, где девицы, видимо, совершали туалет и переодевались. Юноша смело отдернул штору и вошел в раздевалку. Он рассчитывал поживиться какой-нибудь одеждой, но его расчеты не оправдались. Кроме открытых купальных костюмов, ажурных трусиков и тапочек, он ничего не нашел, хотя и перерыл все шкафы.
Правда, в последнем шкафчике Луций обнаружил пляжный халатик, принадлежащий, по-видимому, очень миниатюрной девушке, так что было совершенно неясно, как его использовать. На всякий случай юноша прихватил халатик с собой, обмотав вокруг шеи как шарф.
Внезапно в раздевалке погас свет. От неожиданности Луций закричал и, не разбирая дороги, как потревоженный кабан, бросился к выходу. На лету он наскочил на низенькую скамейку, перекувырнулся и буквально головой вперед въехал в портьеру. Не желая терять времени, он сорвал тяжелую занавеску с головы и продолжал движение, распрямляясь на ходу. Так никого и не встретив, юноша пробежал еще несколько шагов и остановился. Тотчас за его спиной раздался мелодичный смех, и чьи-то нежные руки легко обняли его плечи.
— Дурачок, — услышал он, — ты от кого бегаешь? — С этими словами его уверенно повели за собой. Через минуту Луций оказался в комнате, где, кроме ковров и подушек, ничего не было, а рядом с ним в бикини из пятнистого рысьего меха полулежала одна из ранее видимых им купальщиц. Огромные коричневые глаза и рассыпанные по загорелым плечам кирпично-красные волосы дополняли облик семнадцатилетней русалки.
Девица вела себя с простотой невинного подростка. Для начала она нарядила юношу, приказав ему отвернуться, в шелковые розовые трусики с кружевами, которые, на взгляд Луция, ничего не прикрывали и моментально стали трещать по швам. При этом она так смеялась, что расстегнулись бретельки лифчика. Завершив манипуляции с гардеробом, девица велела Луцию спрятаться, для чего набросала на него целую гору подушек, и села сверху. Юноша не знал, кому она отдавала приказания, но когда его вновь освободили, на ковре была расстелена скатерть, дымился заварной чайник на самоваре, вокруг были расставлены розетки с вареньем и сладости.
Во время чаепития Луций усиленно делал вид, что не замечает откровенных взглядов, которые бросала на него девица.
— Так, — заметила девушка после того, как они утолили первый голод. — Я нашла тебя абсолютно голым, без всяких документов, да еще в полотенце с буквой «А». Это мой инициал — Анита. — Она положила прохладную руку на его плечо. — По всем законам Римского клуба — ты мой!
Луций ничего не мог ответить, да и не хотел. Комната с коврами на полу и на стенах закружилась перед ним. Он вобрал в себя ее теплые плечи и нежную грудь и даже любопытные глаза — открытые, когда их нельзя открывать, не смутили юношу.
Когда Луций оторвался от девушки, Анита лежала рядом обнаженная, неподвижная и бледная, как простыня, которую она отбросила в сторону.
— Боже мой, — вздохнула она, розовея. — Так не может быть.
Девица прижалась к Луцию всем телом, вытянулась, щекоча его мягкими пушистыми волосами. Снова волна огня и желания подступила к юноше, но он отогнал ее.
— Ты слыхала о новой свадьбе Хиона? — спросил он прямо. — О том мальчике, на котором он, грешно сказать, якобы женился. Ты ведь состоишь в его гареме?
— Состоишь в гареме, — захихикала Анита, — вот ты скажешь! Я его секретарь по интимным вопросам. Гарем, — вновь захихикала она, — какое слово архаичное. Нас таких секретарей пять. По рангу председателя клуба. Да, Хион взял какого-то мальчишку. А что тебе до этого?
— Этот мальчишка — мой брат, — признался Луций. — Он сбежал от меня и попал в сети к Хиону. Я, собственно, пришел за ним.
Он сообщил, что упустил узел с одеждой, отчего и оказался в таком виде. Анита, услышав его рассказ, задумалась.
— Сиди здесь и не рыпайся, — наконец решила она. — Пойду пробегусь по комнатам, может, чего и узнаю.
Вернулась Анита довольно быстро, ведя за ручку руля мотоцикл с восседающим на нем Василием, который одновременно правил и, отталкиваясь ногами, передвигал «Хонду».
— Спал в обнимку с мотоциклом в спальне Хиона, — доложила Анита, ссаживая мальчика. — Самого председателя нет. Я еще с вечера знала, что ночевать он будет в городе. Вы поговорите, а я пойду в соседнюю комнату. Посплю. А то ночь была беспокойной, — и обняв мимоходом Луция, она плавной упругой походкой вышла из комнаты.
— Нет, — отвечал Василий на все просьбы, увещевания и угрозы брата. Даже ссылка на родителей не помогла. Оставалось только забрать его насильно. Однако делать это надо было очень осторожно. Вновь приходилось ждать.
10. ПРОВИДЕНИЕ
Поздно проснувшись, Луций стал припоминать сладостные эпизоды последних любовных побед. Без сомнения, он пользовался неоспоримым успехом в Римском клубе, и по всему чувствовалось, что возможности его в такого рода делах были совершенно не ограничены. Однако столь удачно складывающаяся ситуация отчего-то все меньше радовала, а воображение его невольно возвращалось к свадьбе брата. Да еще где-то на задворках сознания постоянно маячил образ Лины. Так что поднялся с постели юноша с окончательно испорченным настроением. Более того, его не оставляла мысль о том, что какая-то посторонняя сила постоянно вмешивается в работу его мозга, отравляя малейшую радость от удовольствия, которое он еще лишь предвидел.
Не в силах переносить непрошеное воздействие, Луций поднялся на десятый этаж в двадцать первую комнату к ячейке с надписью: «До определения» и, как этого и следовало ожидать, не нашел узел с прежней одеждой. Тотчас его мозг успокоился и он прикинул сложившуюся ситуацию. Впрочем, думать особенно не приходилось. По всему было видно, что с Римским клубом пора завязывать, и уходить приходилось одному.
В спальне юношу ждал отец Климент. В синей застиранной пижаме и резиновых тапочках священник, возможно, выглядел несколько непривычно, но не для Луция, наблюдавшего его в самых разнообразных одеяниях. Появление священника, с которым как и со всеми остальными персонажами прошлой жизни юноша решил порвать окончательно и бесповоротно, на этот раз было совершенно некстати и, более того, неприятно.
— Сегодня вы не совсем вовремя, — криво усмехнулся Луций вместо приветствия. — Я столько звал вас, наконец дождался… И зачем?.. Чтобы сообщить о собственном увольнении. Я благодарен вам за науку, но хватит с меня богов. Пора смываться, пока я еще не забыл ход, который привел меня сюда.
— Я не держу тебя, — спокойно ответил священник.
— В чем вообще ваши функции? Казалось бы, пропадает живая душа, мой несчастный брат, по неразумию полностью погрязший в разврате и роскоши. А вы хоть раз пришли ему на помощь! Я согласен, вы спасли мне жизнь в лицее, открыли мир и, подозреваю, оберегали меня. Но я и так проживу, а нет, не подохну безвольно, а этот несмышленыш… Почему вы не спасете его! Разве не в помощи другим людям благая цель существования? Почему не покарать противных божественному и человеческому началу этих мерзких последователей Сатаны и не спасти заблудшего агнца, проявив тем самым величие Добра и его превосходство над Злом?
Взгляд священника совершенно неожиданно потеплел, а на устах его возникло подобие улыбки.
— Я думал: они обратили тебя.
— Вот еще, — передернул плечами юноша и тоже внезапно улыбнулся под действием чар наставника.
Вновь став совершенно серьезным, отец Климент ответил юноше.
— Можно открыть глаза страждущему, направить заблудшего, но невозможно никого подгонять на истинном пути. Все зависит от самого человека. Конечно, большинство людей колеблемы, как трава, и все определяется для них порывом ветра. Они с радостью следуют воле обстоятельств, забывая любые неудобные на данный момент побуждения души. Редкий дух способен открыть праведный путь, но куда тяжелее его пройти, ибо требуется разорвать многие оковы и снять многие запоры внутреннего озарения.
— Так вы верите в судьбу? — поразился Луций.
— Происхождение добра и зла остается непонятной тайной лишь для непосвященного. Посвященный в эзотерические учения смотрит духовным взором и видит не один плоский мир, а три. Он зрит мир животного начала, где властвуют силы тьмы и неизбежная Судьба, светлый мир Духа, обитель освобожденных душ, где царствует Божественный закон и погруженное в полутьму человечество, которое колеблется между верхним и низшим мирами.
— Отчего-то я не замечаю других идиотов, которые скакали бы как ваньки-встаньки из одного мира в другой? — скорее задал вопрос, чем просто констатировал факт Луций.
— По тому, сколько дано, так и спросится.
— Не сказать, чтобы от вашего поучения что-либо прояснилось в мозгах, — вздохнул юноша.
— Гений посвященного — Свобода. Ибо в тот момент, когда человек познает истину и заблуждение, он свободен выбирать между Провидением, которое ведет к истине, и роком, который сам выполняет нарушенный закон справедливости. Духовная вселенная исходит из акта воли, соединенного с действием разума. Добро есть то, что заставляет подниматься к божественному закону Духа, направляя человечество к единению, а Зло влечет человека в мир материальных наслаждений, следовательно, к разъединению. Истинное назначение человека в том, чтобы собственными усилиями подниматься все выше и выше. Рамки его свободы расширяются до бесконечности во время подъема и безгранично сужаются при падении. Ибо каждая потеря божественного в душе расширяет рамки Зла, уменьшает понимание истины и ограничивает способности к добру. Есть и критические точки взлета и падения, когда возвращение назад невозможно…
— Вот, значит, в чем причина явления пастыря — овца забрела на кромку обрыва. А вы спешите спасти меня для высшей цели?
— Да.
— И хотите этого? Или ваше желание не имеет значения? — напряженно спросил юноша.
— Я люблю тебя, — просто ответил священник, — и верую, что как ты был моим учеником, так и я стану твоим. Но ты прав: мои любовь и вера не имеют значения. Я просто проверяю одну теорию.
— Отец Климент, возьмите меня отсюда! — вместо того чтобы возмутиться, вдруг упал на колени Луций.
— Ты пал слишком низко, и я не могу спасти тебя. Ты сам должен очистить светильник в душе…
— …новыми испытаниями, — дополнил юноша, усмехаясь, а священник, не комментируя реплику, продолжал:
— Над прошлым человека господствует рок, над будущим — свобода, а над настоящим вечно сущее — провидение. Из их взаимодействия возникают бессчетные доли, и ад, и рай для человеческих душ. Но помни, что Зло, являясь разногласием с божественным законом, не есть дело Бога, а человека, потому существует лишь относительно и временно, а Добро же, будучи в согласии с божественным законом, существует реально и вечно. Побори зло, раскрой в душе дороги добра, тогда придешь ко мне, и более того, сам станешь пастырем!
— Не хочу никого пасти! — закричал юноша и бросился из комнаты.
Однако побег продолжался недолго. Выскочив в коридор, Луций заметил шествующую от лифта процессию во главе с Хионом и Стефаном Ивановичем. Юноша стремительно захлопнул дверь и бросился обратно в спальню, но отца Климента в его апартаментах уже не было, и все равно Луций прошептал, обращаясь к нему:
— Верую в Высшую цель, служение которой есть Добро! Знаю, она для меня в постижении Предвечного. Но как все сделать?
— Твоя жизнь есть путь к Единому Вездесущему. Ты принесешь слово его людям, — прошелестел ответ невидимого священника.
При мысли, что наставник не оставил его, на душе Луция стало спокойнее, и он почувствовал себя готовым к встрече с силами зла.
Книга вторая. МЯТЕЖ
1. АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Стефан Иванович, сопровождаемый молодым генералом в черном, расшитом знаками царского дома мундире, торопясь, вошел в Дубовый зал, где уже находилось человек девять-десять заговорщиков. Сразу напротив входа, прорывая однотонную поверхность отделанных резным деревом стен, висела аналойная икона, изображающая Георгия Победоносца, пронзающего копьем змея. Перекрестившись на икону и тяжело вздохнув, директор лицея занял место рядом с приведшим его генералом и стал слушать.
Выступал министр безопасности империи, причем на самой высокой ноте.
— Чтобы свергнуть регента, нам даже не понадобилось вводить регулярные московские дивизии, — возбужденно говорил он. — Как мы и предполагали, разложившийся буржуазный режим не смог себя защитить. Сопротивление оказали какие-то лавочники, которым солдаты подожгли баржи с товаром. Практически никто из списка к изоляции не оказал сопротивления. Двое-трое пытались ускользнуть, но безуспешно. Только что последние верные регенту части, запертые в Царском Селе, выкинули белый флаг прямо на крыше Екатерининского дворца.
Подвожу итоги: регент низложен и, по моим сведениям, убит в сутолоке, возникшей при его аресте. Сын его арестован и теперь среди других рабов находится в Римском клубе, тренируется мальчик. Всякое сопротивление подавлено, и город святого Петра вновь с Москвой.
— А что император? — спросил Хион, переводя взгляд на генерала в черном кителе, который сопровождал Стефана Ивановича по длинным коридорам военной академии.
Генерал встал, коротко поклонился присутствующим и передернул плечами.
— Только что я разговаривал с французом, — сказал он. — Не могу сообщить ничего утешительного. Как только он узнал о смерти регента, причем я неоднократно пытался донести до него, что мы все очень, очень о ней скорбим… Так вот, только услышав, что его креатура уничтожена, он самолично начертал указ о мобилизации всех войск, которые находятся в его, как верховного главнокомандующего, юрисдикции. Я с трудом уговорил его дождаться приезда начальника штаба и вас, — кивнул он Хиону, — для согласования действий. Кроме того, он насмотрелся душещипательных передач телевидения, которое смакует все подробности ареста.
— Скоро перестанет лезть не в свое дело, — пообещал Хион, отдуваясь и пряча ярость за плавными, неторопливыми движениями.
— Что же, господа, мы будем делать с императором, который не понимает Россию? Воспитанный в чужой стране, знающий о наших проблемах только понаслышке, да картинкам детских приездов, он практически волею здесь присутствующих был возведен на российский престол. Но если он настоящий царь-самодержец, то единственное, о чем должен мечтать, — это о возрождении империи российской. Он же, окружив себя слюнявыми французишками, талдычит лишь о правопорядке и законе.
— Положение наше непростое, — встал низкорослый Топоров. — Если мы сейчас императора низложим, над нами весь мир смеяться будет. Скажут: не успели пригласить, так сразу и пинком под зад выставляете его. И убрать нельзя — романовская кровь. Выход, пожалуй, один — надо создать комиссию по изучению обстановки в Петербурге под руководством его величества и торжественно забодать его в Питер. А там мы ему такое количество документов и свидетелей представим о бесчинствах регентской власти, что он его вдругорядь прикажет из могилы вырыть и расстрелять. Как ваше мнение, господин флигель-адъютант?
— Пойдет, — мотнул головой генерал. — Сейчас закончим и пойду его уговаривать, чай все же родственники.
— Проблема императора не ограничивается питерским эпизодом, — предупредил Топоров. — Беда в том, что, генетически принадлежа к коренным русакам, по своему воспитанию, окружению, духу император самый средний француз. И родина его — Франция гораздо больше значима для него, чем Россия. И я не уверен, что мы долго сможем держать его даже в качестве декоративной фигуры.
— Я бы хотел, чтобы сейчас несколько слов нам сказал человек, отвечающий за политико-историческую формулу нашего фронта, уважаемый директор Римского лицея, — предложил Хион.
Стефан Иванович встал, сурово оглядел присутствующих. Большинство из них было в военной форме. Практически тут сидели все, кто имел реальную власть в Москве. Поэтому путч имел скорее воспитательное, чем практическое значение. Стефан Иванович поднял рюмку и обвел широким жестом присутствующих, как бы мысленно чокаясь с ними.
— За победу, — сказал он, — за горькую победу. Почему горькую, наверно, не надо объяснять. Русская кровь пролилась в Петербурге, и мы не можем об этом не скорбеть. Отравленная идеей обогащения, Северная Пальмира не могла подняться до общенационального порыва. У сытого горизонт сужен его кормушкой. Мы разрушили капиталистический Санкт-Петербург, чтобы в будущем, построив новую государственность, сделать благополучной всю державу. Кажется, чего проще, соедини на карте два кружка чертой и получишь два островка, две столицы, соединенные имперской железной дорогой. Но разве вся вселенная не была свернутой внутри себя геометрической точкой и разве не из этой бесконечно малой, незримой точки развернулось все ее пространство?
Россия — это та же вселенная, и только от нас зависит, чтобы стянутое историческими недоумками пространство развернулось вновь в великую державу. Собирательство — достойное занятие царей и великих государственных мужей. Можно расширять территорию мешком с деньгами, можно мечом, а можно тем и другим. Мы скорбим потому, что понятие человеческой морали не стыкуется с государственной, и эта нестыковка, как ножницами, режет человеческие судьбы. Сегодняшняя победа — это воплощение двух рефлексий российского духа: возрождения и особости. Трижды история ввергала нашу родину в такой омут, из которого не могла бы воскреснуть никакая другая нация. Нашествие Батыя разрушило внешний покров государственности Руси, оставив в неприкосновенности дух и религию. Затем бесовские игры Петра уничтожили традиции, обычай, духовный мир и культуру россиян и вместо него дали табак, водку и бритые лица. И наконец после ренессанса девятнадцатого века мы пережили внутреннее коммунистическое нашествие. И только теперь, почти через сто лет, в сузившейся до размеров двух губерний стране мы в четвертый раз обретаем сами себя. Я пью за Четвертый Рим!
Стефан Иванович залпом выпил рюмку и отшвырнул ее в сторону. В это время дверь кабинета распахнулась, и в нее вошел невысокий человек в сером неприметном костюме с кейсом. Поклонившись присутствующим, причем удостоив Хиона отдельным легким кивком, человечек прошел в конец стола.
— Представляю, — проговорил Хион небрежно. — Прошу любить и жаловать нашего полицейского префекта. Похоже, у него свежие новости. Вадим Павлович, уважаемый, доложись.
Полицейский префект с готовностью открыл рот.
— Господа, в наших планах произошла небольшая накладка, но как говорится: что ни делается, все к лучшему. Как вы знаете, после отъезда императора на свою загородную дачу, точнее дворец, — поправился он, — мы планировали ввести в город Вторую бронетанковую дивизию и изолировать верный императору гарнизон. Однако примерно час назад солдаты гарнизона под действием наших агитаторов вышли из казарм и, крича «За Русь единую и неделимую», окружили Кремль. По дороге произошли ничего не значащие случаи погромов инородцев, зацепили, правда, и центральный рынок, но это только от излишнего возбуждения. Так что поздравляю вас с удачным началом. Надеюсь, к утру все и кончим, сопротивляются только отдельные подразделения, и какие-то штатские открыли стрельбу у МИДа. Скорее всего в чаянии пограбить.
— Не увлекайтесь, господа, внешним успехом, — сурово предупредил Хион. — Я предпочитаю, когда события развиваются по плану. Тем более что в народе до сих пор живет еще какой-то фанатический восторг перед домом Романовых. И хотя все наши действия мы осуществляем под лозунгом борьбы с предателями за царя-батюшку, не исключено, что государь получит искаженную информацию от своего ближайшего окружения и захочет приехать в Москву. Поэтому на всех дорогах, ведущих в столицу, надо выставить танковые заставы из особо надежных подразделений. И особо предупредить командиров, что за жизнь императора они отвечают головой. Заодно не мешает организовать вокруг загородного дворца радиоглушение, чтобы никакие сообщения нельзя было получить. Насчет спецтелефонной связи мы уже распорядились.
— Император полностью изолирован, — встал министр безопасности, известный Стефану Ивановичу еще со времен Первой Крымской войны. — Он не сможет даже выехать из дворца, потому что мы взорвали на дороге противотанковую мину и сделали тем самым проезд невозможным.
— А по воздуху? — спросил Хион. — Личный вертолет императорской семьи ведь не находится под вашим контролем.
— Тут ничего не сделать, — согласился министр. — Мы не можем блокировать взлет, не подвергая его величество опасности разбиться. А для этого ситуация не созрела.
— Что значит не созрела! — взорвался Хион. — Вы представляете позицию соседних государств, которые завтра получат информацию, что мы пригласили на трон государя, дабы через несколько лет его уничтожить. Да с нами после этого никто и разговаривать не будет, не говоря уже о кредитах и кредиторах.
Очарование победы повисло над столом, как ароматный дым над курильней. Победные реляции о захвате без сопротивления все новых и новых районов города следовали одна за другой. Молодцеватый генерал, потерявший глаз и часть руки в боях за Самару, держа мел черной, обтягивающей протез перчаткой, отмечал на громадной карте Москвы все новые и новые этапы продвижения мятежников от Кремля к окраинам. Ни у кого уже не было сомнения в успехе переворота.
Старая гвардия во главе с министром обороны хлопала рюмку за рюмкой и недвусмысленно поглядывала на молодцеватого племянника царя во флигель-адъютантском мундире с явным желанием укусить. По просьбе Хиона тот связался по спецсвязи с императорским дворцом и в течение получаса разыгрывал перед императором партию политического покера, желая удержать от поспешных поступков.
Когда же поступило сообщение, что войска дошли до Каширского шоссе и заняли международный телеграф, даже самые закоренелые скептики во главе с Топоровым позволили себе расслабиться. Писатель выпил на брудершафт с одноглазым героем прошлых войн и произнес тост:
— Вот теперь, господа, я в самом деле могу вас поздравить с победой. Не вижу никого, кто посмел бы заслонить собой обреченный режим. По-моему, пора подключать к чистке тайную полицию.
Хион, не торопясь, поднялся, подошел к иконе и поклонился святому Георгию в пояс.
— Господа, — обратился он к вставшим с бокалами в руках окружающим. — Прямо из сердца вырываются слова: «Свершилось великое дело!» Но свершилось ли? Ведь мы стоим у самого начала глобального нашего пути, и слово «свершилось» сможем произнести только, когда дойдем до исторических наших границ, а до них еще ой как далеко — сотни государств и тысячи народов. Я хочу обратиться к тем, кто, еще не вкусив сладости победы, уже пытается замесить горькое тесто раздора: не переиграйте, господа генералы и гражданские. — Слово «генералы» он подчеркнул, словно бросил в лицо чуть перебравшим военным. — Фронт национального спасения не позволит никому самоличную расправу над полезными его членами.
Наступила неловкая тишина. Видно, смущенный словами главы партии министр обороны поставил недопитую рюмку и отошел от стола. В это время звякнул монитор на журнальном столике, дающий возможность оперативно управлять ситуацией. На экране появилось лицо начальника штаба мятежных войск, худого полковника со впалыми щеками в роговых очках.
— Охранные войска императора вошли в город, — лаконично сообщил он. — Они продвигаются на уровне аэропорта Шереметьево с явным желанием выдвинуться к окружной. В связи с приказом о безусловной охране личности императора и с явным подозрением, что он находится среди наступающих войск, лишены возможности открыть заградительный огонь. Какие будут указания?
— Рано праздновать собрались, — пробурчал одноглазый генерал и, не дожидаясь приказаний, подошел вплотную к экрану.
— Полковник, — спросил он, — вы хорошо меня слышите? — И в ответ на утвердительный кивок приказал: — Вывести ближайшую бронетанковую часть на пересечение окружной с шоссе, по которому передвигается противник. Занять позицию таким образом, чтобы императорские части никак не могли миновать танки. В случае отхода войск противника не преследовать. На огонь отвечать огнем на поражение. Для корректировки мы вам вышлем два армейских вертолета.
— Еще не кончен бал, — криво улыбнулся Топоров и добавил, обращаясь к министру обороны: — Какое соотношение наших и императорских частей?
— Двадцать к одному, — процедил министр и отвернулся к монитору. Он никак не мог преодолеть застарелую неприязнь к штатским, которые лезут управлять армией.
— Дело в другом, — добавил генерал в васильковом мундире с золотой перевязью на груди, желая смягчить грубость своего шефа. — В драчку могут вмешаться разные нежелательные элементы, та самая пена, которая в дни потрясений всегда перетекает со дна малин на улицы города. Тогда прольется кровь, много крови, которой сейчас еще можно избежать. Император не понимает этого или плюет на кровь русских, заботясь о мнимом конституционном разрешении событий.
— Вызовите штаб! — приказал Хион, собственно, ни к кому не обращаясь, но по тому, как забегали мундиры и штатские, стало ясно, кому принадлежит истинная власть.
На экране возник тот же самый худощавый и вроде бы сонный полковник. Сначала он хотел непотребно выругаться, что его отрывают от дела в самый разгар операции, но, узнав градоначальника, поднес руку к уху и вопросительно на него посмотрел.
— Каждые пятнадцать минут сообщать мне о передвижении войск! — приказал Хион, не глядя на экран и от ярости теребя зажатую в руках серебряную ложку. — Кроме того, перекройте гвардейцам отступление. Зажмите их в клещи, пусть сворачивают с бетонки на проселочные дороги. Авось растекутся без боя. Насколько возможно, держитесь без выстрелов, — предупредил он полковника.
Стефан Иванович посмотрел на хмурые лица рождающегося правительства великой империи и позволил себе улыбнуться.
— Вы не правы, господа, — проговорил он. — Если вы при каждой тактической заминке будете так нервничать, то мы вряд ли покорим исконные пространства России. Я понимаю, на всех нас давит синдром былых поражений, но тогда мы защищали отдельные города и местности. Теперь мы вызрели громадную цель. Пусть сегодня император захватит аэропорт, завтра он вернет его новому правительству с извинениями. На вашем месте, — он обратился к сгрудившимся в углу военным, «битым генералам, — как он подумал про себя, — генералам, до сих пор проигрывавшим все битвы, но не потерявшим ни личной храбрости, ни тяги к новым войнам», — я бы сверял все свои действия с глобальной стратегией.
«И все-таки их надо менять», — решил будущий глава кабинета и по лицу Хиона, на котором гнев сменялся ледяным спокойствием, понял, что тот мыслит так же. Сам он был уверен в сегодняшнем дне, и более того, глядя на карту Москвы, уже видел на ней очертания других земель и цвета других стран.
2. ИЕЗУИТ
Если раньше Иезуит не чувствовал себя готовым проповедовать, то после ареста в Римском клубе за антигосударственную деятельность и подстрекательство к мятежу ему оставалось лишь вспоминать солнечный свет, голубизну неба, зелень травы и другие атрибуты живой природы, где дух его, как ему казалось и о чем свидетельствовали величайшие умы сумасшедшего дома, призван был вознестись в высшие дали. Не радовал его и единственный слушатель, судя по всему, отринутый поклонниками Сатаны. Монах, не способный из темницы, в которую был заключен, увидеть паству и показаться ей сам, оказался лишен даже возможности обратиться к анонимным слушателям. Стены и потолок тюремной камеры были оштукатурены толстым слоем алебастра, именуемым «шубой», и такая примитивная защита полностью изолировала любые звуки. Тусклый свет мерцал из узкого окна темницы, выходящего в коридор, которое кроме обычной решетки было еще забрано сеткой из проволоки.
Достойно отвечая на вызов небес, Иезуит в упоительном экстазе не обращал ни малейшего внимания на кандалы, которые стягивали его руки и ноги. Безучастный слушатель, который с божьей помощью и великим тщанием, возможно, смог бы разобрать половину говорящегося, был прикован длинной цепью к стене. Вместо того чтобы внимательно прислушиваться, юноша, представляющий в одном лице всю аудиторию и паству проповедника, лежал на нарах, отвернувшись лицом к стене. Малоразборчивая речь монаха не мешала Луцию вспоминать.
Очередная попытка освободить Василия привела юношу в темницу и теперь, перебирая в уме последний разговор с отцом Климентом, он утешал себя тем, что лишь провидение могло сыграть с ним такую шутку.
К вечеру в камере стало совсем темно. Голодный и отягощенный железом, Луций вовсе перестал слушать монаха и задремал. Однако сон его продолжался недолго. Лязгнула засовами сначала входная дверь, потом прилегающая к ней решетка, загорелся слабенький электрический свет. Вошли два охранника в длинных теплых плащах и бронзовых шлемах. Один из них вынул связку ключей, нашел подходящий и молча, ничего не объясняя, снял с юноши оковы. Второй проделал ту же самую операцию с кандалами его соседа. После чего на окованном по краям маленьком деревянном столе появились две миски, хлеб и кастрюля с дымящимся варевом.
— Поешьте, — учтиво предложил охранник, — и ни о чем не беспокойтесь. Да будет сон ваш крепок!
Последнее слово он произнес с особым ударением, и Иезуит, видимо, его понял. Он взял коротенькую алюминиевую ложку и стал истово хлебать похлебку, предварительно покрошив в нее хлеб. Луций посмотрел на свою миску, и его чуть не стошнило.
Однако монах отложил ложку в сторону и, дождавшись, когда охранники вышли, сурово приказал:
— Ешь!
— Неохота, — вяло отбивался Луций, но Иезуит был неумолим.
— Для свободы нужны силы! — веско сказал он, и Луций покорно взял ложку в руки.
Действительно, после еды юноша почувствовал прилив сил. Проникнувшись к монаху доверием, он стал рассказывать ему про Лину, потом почему-то стал убеждать, что жрица очень хороший человек, только пошедший по ложному пути, и она его очень любит. Иезуит слушал его внимательно, как это делает врач у постели больного, узнавая новую для себя симптоматику. При этом он все время тер сбитые цепями кисти рук и изредка стрелял глазами в сторону дверей, будто ожидая каких-то новых вестей с воли.
По прошествии получаса язык юноши стал заплетаться. Свет маленькой лампочки, запрятанной в пыльный серый плафон, померк в его глазах. Он откинулся всем телом на шконку и заснул. Иезуит крепился несколько дольше. Он кряхтя прошелся вдоль нар, потом прильнул к окошку, безуспешно пытаясь хоть что-то высмотреть в коридоре, но вскоре тоже прилег на койку и скрестил руки на груди.
На этот раз дверь камеры отворилась без всякого стука. Вслед за охранником в темницу вошли четверо людей в черной монашеской одежде. Они внесли громадный деревянный крест, который сразу же положили на пол. После чего охранник вышел и запер дверь снаружи.
Тотчас в руках у монахов как бы сами собой загорелись свечи, которые они вытаскивали из-за пазухи и расставляли по краям креста. Потом двое из них осторожно приподняли тело погруженного в глубокий сон Иезуита и положили на крест, раскинув его руки по перекладинам. Первый из вошедших, видимо главный, порылся в сутане и достал узкий и длинный наконечник копья. Как только он дотронулся острием до предварительно обнаженной груди Иезуита, все тело того пошло волнами, а потом застыло в глубоком трансе, не подавая признаков жизни. Чтобы убедиться в успехе, монахи сняли собрата с креста и прислонили к стене, где он застыл в той же позе распятого. Голова Иезуита запрокинулась, руки и ноги не гнулись, глаза были плотно прикрыты веками. Удовлетворившись осмотром, монахи произвели ту же самую процедуру и с Луцием, после чего положили обоих катотоников назад на шконки и стали стучать в дверь, требуя их выпустить. Видимо, со стражей все у них было согласовано, ибо тотчас двери отворились и монахи выскользнули из камеры.
Только они ушли, как часовой поднял тревогу. Он вызвал начальника охраны и дежурного по тюрьме, а также тюремного врача и, открыв двери камеры, продемонстрировал неподвижные тела Луция и Иезуита. В связи с началом запланированного восстания это мелкое событие никого не волновало. Начальник охраны приказал дежурному подготовить рапорт о ритуальном самоубийстве заключенных в связи с тяжелым нервным расстройством, а часовому передать тела в руки родственников, если такие объявятся. После того как начальство удалилось, на сцену снова вышли монахи, которые подкупили охрану, чтобы доиграть свои мистерии. На свет появились, видимо, заранее подготовленные два каменных саркофага, куда не без усилия засунули Иезуита и Луция.
Луций проснулся оттого, что тесно стало его членам, стиснутым в каменном гробу. С большими усилиями перевернувшись с живота на спину, увидел он над головой яркое иссиня-черное со сполохами молний небо, и ледяные брызги дождя оросили его лицо.
Он поднялся, опираясь на руки, и упал набок на твердую мокрую землю. Было очень мокро. Только редкие лучи солнца, вдруг летящие сквозь сумрак дождя, говорили, что день в разгаре. Каменный саркофаг вскоре стал сосудом для дождевой воды. Где-то рядом под напором ветра шумели редкие деревья. Луций огляделся. Цепь гор уходила черными вершинами в пелену дождя. Сам он оказался на пронизываемой ветрами вершине, а под ним, в долине, возле залитого водой саркофага стоял на коленях Иезуит.
«Молится пню», — подумал с отвращением юноша, не увидев на привычном месте ни Древа Добра и Зла, ни каменного креста, и пошел на другую сторону горы, где в отвесной глубине цвело синее в белых бурунах море.
В поисках спасения от стужи он обхватил свои плечи руками и только тут заметил, что стоит голый. Он понял, что спасение от смерти и тьмы в теплой силе прибоя, в прыжке вниз через климатические пояса в глубь соленой воды. И с верой в провидение Луций прыгнул с обрыва. Действительность оказалась еще многообразнее его видения. Пролетев в свободном падении несколько сот метров, он потерял сознание от недостатка воздуха и, не приходя в себя, вонзился в нижние горизонты атмосферы. Влекомый своей звездой, он безболезненно встретился с землей и, чудесным образом облекшись в цивильную одежду, вдруг оказался у подъезда высотного дома, ухоженного и теплого, каких он не встречал в Москве. Предвидя необходимое ему место, он вошел в лифт и, не нажимая кнопки, оказался на четырнадцатом этаже.
Открыл ему плотный мужчина средних лет в сером костюме. Вместо галстука тлел у него на шее рубиновый факел из драгоценных камней.
— Боже мой, — сказал мужчина, хищно осклабившись и обняв Луция за плечи, повлек его за собой сквозь пустой и полутемный холл. В маленькой, замечательно освещенной свечами и электричеством гостиной, где был накрыт стол шампанским и фруктами, Луций, к великому своему удивлению, увидел среди шумных веселых гостей отца Климента в костюме спортивного покроя, который сидел в окружении двух цветущих юных женщин и разрешал возникший между ними спор.
Только гостеприимный хозяин велел разлить всем вина в честь вновь прибывшего, как случилось нечто, повергшее Луция в уныние, потому что внезапно померк свет от свечей и люстр, и вся зала погрузилась в полную темноту. Темнота эта нисколько не смутила хозяина, который, как удалось Луцию разглядеть, поднял полный бокал перед собой и объявил:
— Господа! Прошу вас замолчать на мгновение, потому что не каждый день нас навещает столь достойный человек, как наш юный гость. Я пью за его здоровье не только потому, что он чудом своего спасения стал подобен отцу нашему, но и потому, что в его чудесном спасении от смерти вижу я отблеск божественной благодати. Дадим же ему слово, дабы он собственными устами провозгласил нам истину.
— Я вас не знаю, — сказал Луций вставая, — и это мне не оправдание, но я и себя не знаю. Не потому, что это вообще невозможно, а потому, что я не удосужился понять, кто я? Мне все равно, кто меня слушает и что из этого может произойти. Мне все равно, в какую форму выльется месть тех, кого я обижу, и радость мною возвеличенных. Насколько помню, я никогда серьезно не задумывался ни над своим происхождением, ни над своими поступками, ни над своими мыслями, всегда вредными и опасными казались мне идеи о собственных моих месте и роли в этой жизни. Потому я никогда не пытался проанализировать мир, в котором я волей-неволей существую во взаимоотношениях с собой, принимая за истину данность происходящего. Я только играл с собой и с природой других людей в игры, где ставкой была их любовь и уважение, их счастье или разлад, их жизнь или небытие, но не мои. И когда эти люди, привлеченные моим духовным полем, уходили, неся с собой ледяной кусок моего равнодушия, я не видел своей вины. И я никогда не анализировал, почему сцепление вещей идет таким, а не другим путем, почему все, кто меня окружает, отступают с пустыми руками, ведь я обещал им добро и щедрость, а дарил только пустую оболочку своей нелепой низшей души. Лелея мою верхнюю душу, низшую наставники оставили на меня, и я, в полной мере наслаждаясь удовольствиями для себя, стал зомби.
Чем я могу похвастаться перед вами: людьми или измышлениями моего духа, — так только тем, что вы меня совершенно не занимаете. Внутри у меня боль, которую не утолят ни реальность любящих, ни фантомы без души и тела. Когда я думаю о тех, чьи судьбы я разрушил, о своем брате, который завял без моего пристального взгляда, о девушке, исчезнувшей за сугробами моего равнодушия, о моих родителях, которые пропали в вихре политической игры и о которых я ничего не знаю, то понимаю тщетность и вред своего существования. Потому что я не учился любить, а просто верил на слово тем, кто, будучи заинтересован во мне, дергал за леску, привязанную к поплавку моих желаний. Что стоит мое чувство собственного достоинства, если я размазал достоинство любящих меня? Какова цена астрального тела без света добра в душе? Мне все равно, где я и что со мной, потому что я не искал природной души ни во внешнем мире, ни внутри своего духа. И не смею искать я жатвы, если не сеял ничего.
Только Луций сказал последние слова, как исчезли и стол с пирующими, и веселая музыка, и будоражащие плоть прекрасные женщины. Снова был он на вершине горы, и каменный гроб, до краев заполненный водой, стоял рядом, и вода чуть плескалась в саркофаге под порывами ветра. Юноша засмеялся, чувствуя прикосновение чего-то, не имеющего названия и долженствующего быть ужасным, но не для него.
— Привет, — сказал он, — привет тебе, кто позвал меня, я даже не знаю, еще живого или уже мертвого. И чем ты можешь испугать меня, каким судом, если я уже совершил суд в своей душе?
— Я принимаю твою исповедь, — сказал Иезуит важно, — потому что вижу, она идет от сердца, а не от рассудка. Только ведь мало толку в том, чтобы признать свое поражение, когда надо измениться самому и изменить все вокруг. Я пришел к ним со словом Божьим, потому что Логос разит сильнее, чем бронза и железо, но они отвергли слова, они слов не боятся. Значит, мы должны не говорить, а делать. Надо разрушить этот вертеп, а весь сброд, его населяющий, выгнать из прелюбодейского клуба на улицы Москвы.
Луций осмотрелся. Он сидел в самой обычной комнате в глубоком мягком кресле за полированным столом, на котором попыхивал самовар с заварным чайником на нем. Напротив в высокой горке с хрустальными стеклами сияли серебряные блюда и кубки. Пламенели иконы в ярких лучах люстры цветного стекла. Рядом с окном на тумбочке стоял телевизор с плетением антенн вокруг него. До того как юноша очнулся, монах, видимо, просматривал какие-то передачи, потому что в руках он вертел пульт управления, а на экране метались и падали человеческие фигурки. Луций вспомнил мистерию, в которой участвовал, и сердце его сжалось от беспричинной тоски. Жаль ему было просыпаться, и все казалось, что он не доделал во сне чего-то необычайно важного, но и полной уверенности, что он спал, у него не было, ибо как тогда мог он выбраться из тюремной клетки? Иезуит смотрел на юношу, как будто ожидая ответа, и Луций, напрягшись, суммировал услышанное.
— Мысль все разгромить, конечно, чисто русская и не новая, — произнес спокойный, уверенный голос за плечом юноши.
Повернувшись, Луций встретился взглядом с удивительно синими глазами отца Климента, яркость которых могла соперничать со сверкающими очами святых на стене.
— Прежде чем рушить этот храм непотребства, не худо бы узнать, как он возник и кто его сделал таким. Луций, наверно, лучше нас с тобой, мой друг, постиг, что за идеи стояли в основе создания клуба. Как ты считаешь, Луций, чем уничтожать, может быть, стоит подумать о переделке? Вот у нынешнего моего собрата иное мнение.
— Вы, отец Климент, схоласт, — довольно невежливо пробурчал Иезуит. — Вы вещаете о победе добра, но само по себе зло не исчезнет, наоборот, сегодня зло побеждает, и его-то должно уничтожить, чтобы расчистить путь добру. Зло сидит в каждом из нас, и чтобы уничтожить его абсолютно, надо стереть с лица земли весь мир. Правда, вы так не думаете, но и со злом тягаться не советуете. Тогда я вас спрошу: хотите вы маленький мирок под названием Римский клуб уничтожить тотально или выборочно, или перестроить его, не уничтожая? И отдаете ли вы себе отчет о каждом пути и о тех последствиях, которое принесет не уничтоженное зло. В настоящее время Римский клуб — это ящик Пандоры, из которого зараза грозит перекинуться на весь мир.
— Я никогда не верил в возможность построения Царства Божия на смерти, но и воспрепятствовать вам я не в силах, ибо множится зло на земле нашей.
Юноша отметил про себя, что отец Климент всячески избегал называть монаха по имени. Тот же сам так и не представился.
— Ради авторитета христианской нашей церкви мы не можем спокойно смотреть, как антихрист пытается завладеть Россией! — решительно продолжал Иезуит. — Сейчас псевдохристиане во главе мятежа, который залил кровью Питер и выплеснулся на улицы Москвы.
— Бывает, что великие империи рушатся от незначительного толчка, — все также задумчиво констатировал отец Климент.
— Я зову людей, — сказал монах обрадованно, — хотя их мало. С начала мятежа все входы в Римский клуб взяты под контроль. Но и внутренние войска клуба, за исключением небольшой охраны, выведены на улицы, и мы воспользуемся этим.
— Ты, конечно, с нами, — обратился Иезуит к юноше. — Впрочем, тебе деваться некуда. Ни выйти отсюда, ни брата вызволить ты в одиночку не сможешь. Тем более что нас, как беглецов, уже, наверное, хватились.
— Вы учили меня, — сказал Луций, с укоризной глядя на бритое равнодушное лицо священника, — что вознесение человечества совершится тогда, когда каждый человек сможет воспроизвести в себе Христа. Обряд, который я прошел вместе с ним, — он кивнул в сторону монаха, — сделал меня посвященным. Разве я не должен теперь начать новую жизнь?
— Как посвященный, ты должен бороться со злом во всех его обличьях, — обронил Иезуит, — и не тебе, овце, спорить с пастырями твоими. Посмотри, что творится на улицах Москвы, — ткнул он, не глядя, мощной рукой в экран телевизора.
Юноша уставился в экран, а Иезуит проговорил через его голову, словно того и не было, отцу Клименту:
— Далек еще твой ученик от истинного понимания Бога!
3. ДОРОГА
О пользе чтения газет никто Лине не рассказывал. И напрасно. Потому что не было в этот месяц в Москве ни одной газеты как левого, так и правого направлений, которая не предсказывала бы в конце августа военный переворот. Узнав о том, что Луций пленен в Римском клубе, Лина решилась освободить его. Оскорбленная невниманием девочка окончательно запретила себе думать о юноше, когда принесенное кем-то из друзей отца известие списало и злобу, и обиду. С раскаянием вспоминала она несправедливые мысли и даже равнодушие к судьбе Луция. Алексей, человек более чем авторитетный в некоторых кругах, долго сопротивлялся желанию дочки проникнуть в запретный Римский клуб, но уяснив, что девочку не переспорить, махнул рукой и отдал ей трех бойцов из личной своей охраны. Сам он, конечно, тоже не читал никаких газет, но и без этого знал все, что ему нужно по нынешней жизни. Впрочем, если бы не внезапный отъезд в Крым на похороны одного из закадычных дружков, конечно, никогда бы он не разрешил Лине выходить из хорошо укрепленного загородного особнячка.
Однако в отсутствие Алексея связанные приказом бойцы не могли сопротивляться желанию дочери босса, и хоть знали, что в городе неспокойно, все же плохо себе представляли истинные размеры политической бури. Они выехали рано утром на двух автомашинах: специальном «ниссане» с усиленной до состояния брони обшивкой кузова и замыкающей «вольвой», в которой за рулем сидел Линин дядюшка, а девочка притулилась рядом.
Уже на первой дясятикилометровке трассы после Солнечногорска получили они предупреждение, которое должно было бы остановить их. Прямо по встречной полосе параллельно их курсу, лязгая гусеницами, шли танки. Увидев впереди танковую колонну, водитель «ниссана» из осторожности снизил скорость и так шел в отдалении за потоком бронетехники. Редкие встречные машины, в основном легковые, сворачивали на обочину и останавливались, пропуская мимо себя стальные утюги. Лишь зеленая «Волга» не затормозила, как остальные, а продолжала движение, справедливо полагая, что танки удовлетворятся асфальтированной частью трассы. Она приближалась к путешественникам, и оставалось ей миновать всего два танка, когда один из танкистов вдруг резко бросил машину на обочину. При столкновении танк подмял под себя «Волгу» и проехал по ней, скребя гусеницами по железу.
Лина отчетливо видела водителя, который пытался открыть свою дверь, и за ним в глубине автомобиля женщину и девочку, свою ровесницу. Мать и девочка бросились друг другу в объятия, в то время как гусеницы давили крышу у них над головой. Крыша провалилась, и громада танка прикрыла рвущееся под гусеницами месиво из стекла, человеческого мяса и железных обломков. По инерции «вольва» прокатила несколько десятков метров и остановилась. Лина выскочила из машины. Ее рвало прямо на дорогу, а лицо девочки, испуганно прячущей тело в объятиях матери, казалось, навсегда застыло перед глазами. Остановился и «ниссан», далеко пропустив вперед танковую колонну. Трое бойцов вышли из нее и тактично подождали, пока Лина не придет в себя. Дядька молча протянул ей стакан с водой. Она сполоснула рот, потом лицо и, боясь оглядываться, села в машину.
— У него, суки, чистого пространства и слева и справа было по пять метров, — зло сказал высокий плечистый Паша, бывший чемпион Москвы по кикбоксингу.
— Так пьяные они в жопу, — рассудил старший, толстый с загорелым лицом «авторитет» по кличке «Клюв».
— В город едут царя свергать, как сто лет назад, — добавил, подумав, Линин дядя. — А чего, братва, не повернуть ли нам назад, пока и нам дыхалку не перехватили. Что мы против регулярной армии?
Клюв его не поддержал.
— Слышь, дед, ты чего такой застенчивый. Нам отец родной сказал слушать дочку, как самого себя, а ты здесь только родственник. Если в городе в самом деле трам-тарарам, то лучше времени нету, чем ее, — кивнул он на Лину, — доставить в этот самый знаменитый клуб, оставить тебя в качестве охраны и пощупать двойку-тройку музеев. Ментовские ксивы я на всякий случай с собой прихватил.
— Точно! — загалдели бойцы, окружив Лазаря. — Другого такого золотого момента просто не будет. А Линку мы враз в клуб определим.
— Нам надо найти вора Егора, — согласился с ними Лазарь. — Он живет на бывшей площади врага народа Ногина, а в клуб захаживает каждый день, цапает столовое серебро и заодно харчится. Он у них канает за одного из учредителей.
— Нет, братва, так дело не пойдет, — рассудил, подумав, Клюв. — Мы девочку не можем без охраны оставить. Стало быть, надо нам в городе заховаться у своих людей, разыскать Егора. Пока дядя за ним слетает, мы, глядишь, в один музей занырнем.
— В Оружейную палату! — обрадовался Паша. — Я еще с детства этим музеем интересуюсь.
— Пойдем в тот музей, где нет охраны, — решил Лазарь. — Что касаемо антиквариата, я дам сто очков вперед любому искусствоведу. Однако как бы нам не влететь под раздачу. Армия что-то не слишком церемонится с мирным населением.
— Ничего, прорвемся, — утешили его легкомысленные бойцы и, усадив девочку, двинулись к Москве.
Еще несколько раз попадались им раздавленные машины на обочинах, потом пролетела над головами целая кавалькада военных вертолетов, направляясь к Москве. Лазарь все мрачнел и угрюмо косился на Лину, размышляя, не повернуть ли назад. Однако сделать это оказалось не просто. Поглядев в смотровое зеркало, дядя увидел новую колонну бронетранспортеров, которые шли в нескольких сотнях метров сзади. Надо было или пропускать их, или ехать на предельной скорости. Просигналив фарами идущему впереди «ниссану», Лазарь резко ускорил движение, так что колонна вскоре стала не видна.
Через двадцать минут бешеной езды открылась перед ними панорама Москвы, куда они попадали по бывшему Ленинградскому, а ныне Государственному проспекту. Переехав длинный мост с линялыми, украшенными императорским гербом флагами, они остановились у двухэтажного здания ГАИ самой современной архитектуры. Пока они мчались пригородными улочками Москвы, смущало дядю то обстоятельство, что ни одного человека нигде не было видно. Да и впереди, далеко в центре, бухали пушки словно днем, не вовремя устроили салют. Остановились они потому, что здесь был всегда работающий телефон — невероятная редкость для монархической Москвы. Несмотря на рекламируемую ненависть к «ментам», Лазарь — человек весьма гибкий — сохранял среди них нужных людей, которых по необходимости подкармливал.
Решив найти известного вора Егора, он рассудил, что проще всего сделать это по телефону, не въезжая совсем в Москву, да и обстановочку узнать не вредило. Вместе с кикбоксером Пашей они вышли из машины и направились к входу в здание. Гаишников они нашли в первом же кабинете, куда заглянули в поисках знакомого дядиного полицейского. Было их всего пять человек в форме. Вернее, пять трупов. Гаишники лежали на животах, сомкнув руки на шее. У всех пятерых были размозжены затылки. Лазарь аккуратно обошел лежащих и подошел к телефону. Как ни странно, аппарат работал. После нескольких пробных звонков ему удалось нащупать нору, в которой таился Егор.
— Здорово, дед, — услышал он знакомый, с легкой картавостью голос. — …Да, я в клубе. В городе чистка, советую валить, если еще вены не закупорили… Какой там музей. Солдатня всех режет, царя скидывают, а ты говоришь — музей. Вали домой и отсиживайся, пока власть не устаканится… В клуб ты не попадешь, потому что здесь тоже чистка. Кто кого чистит, непонятно, но трупы есть… Если очень надо, добирайся до Садового кольца и дуй в МИД. Охрана в ем давно перебита. Там поднимай свои копыта до десятого этажа, выходи из лифта и жди меня. Есть свой ход в клуб… Божусь на пидараста, не до музеев сейчас. Кстати, позвонишь мне, если не сможешь дотянуть до центра, чтобы мои ребята зря не высовывались. Покедова, браток.
Когда Лазарь бросил трубку, лицо у него было весьма озабоченным. Случайно он выглянул из кабинета и далеко на подъеме увидел серую гусеницу, которая, казалось, еле ползла по Государственному проспекту. Это нагоняли их бронетранспортеры.
Уяснив обстановку, Клюв решил свернуть с центральной магистрали и проехать к МИДу набережными Москвы-реки. У метро «Сокол» они ушли налево и углубились в никем не заселенные места. Целый ряд обгорелых и полуразрушенных кварталов оставался в этом далеко не окраинном массиве Москвы с тех пор, как татарские танки проутюжили с трех сторон город. Безлюдные руины с покрытыми мусором и осколками кирпича дорогами, с остовами когда-то многоэтажных зданий и трухлявыми пнями от спиленных в холодные зимы деревьев пользовались дурной репутацией даже у преступного мира Москвы.
Машины медленно пробирались вдоль нескончаемого ряда обломков, лавируя между глыбами бетона, ржавыми кусками железа и остатками перекрытий. Нежилые кварталы тянулись вплоть до въезда в Крылатское. Тут перед мостом магистраль стала шире и появились первые признаки жизни. Навстречу на предельной скорости вылетел мотоцикл и, вильнув, скрылся в руинах.
Внизу, на спуске с моста, стояли кучкой несколько мужиков и баб в ватниках и цветастых юбках. Увидев машины, они встрепенулись и, бодро перебирая ногами, вертя над головой какими-то палками, стали взбираться к проезжей части. Однако сколь ни проворны они были, машины ехали значительно быстрее, и когда толпа высыпала на мостовую, уже отдалились метров на сто пятьдесят.
— Смотри, братва, а у них ружья! — воскликнул Клюв и громко скомандовал: — Пригнись!
В самом деле послышались гремучие гулкие звуки, это палки в руках мужиков и баб превратились в ружья. Олег, усатый и здоровый, как боевой верблюд, тоже бывший чемпион, но по классической борьбе, схватил ручной пулемет и хотел разбить заднее стекло «ниссана», однако Клюв остановил его.
— Проехали, — сказал он веско. — Эти, по-моему, просто обкурились. Стреляют в белый свет, как в копеечку. Побереги, брат, патроны.
Клюв как в воду глядел. Проехав мост, они резко свернули налево, оставив в стороне Олимпийский трек, построенный еще в золотое время общего благоденствия, желая выбраться на Рублевское шоссе. Однако на въезде в туннель они увидали угрюмую тушу танка, перегородившего путь. Точно такой же танк стоял на въезде в рукав, так что вся правительственная трасса оказалась недоступной. Пришлось развернуться и проехать обходным путем вдоль набережной Москвы-реки, а потом по треку, на редкость чистому, аккуратно засаженному елочками вдоль трассы. Поплутав между домами, они все-таки выехали на дорогу и помчались вперед к центру города. Не сворачивая на Кутузовский проспект, откуда доносились гул тяжелых машин и трескотня выстрелов, они прямиком домчали до Ленинского проспекта и свернули на него. Немногочисленные машины, все как одна, гнали на предельной скорости, не обращая внимания на светофоры. Бойцы поглядывали по сторонам. Мысли их выразил Олег, вздохнув: «Хоть бы один ювелирный магазин, бля муха!»
Внезапно Клюв затормозил. За ним встал и Лазарь. Пошептавшись с Клювом, он снова сел в машину с Линой и, свернув в боковой рукав, остановился.
— Девочка, — сказал дядя нежно, — ребятам надо поразмяться. Я понимаю твое состояние, к сожалению, это не последняя смерть, какую тебе придется видеть. Невозможно прожить в Москве без мужества, а сколько тебе понадобится мужества в Римском клубе, одному богу известно.
— Хорошо, — вздохнула Лина, шмыгая носом, — я уже успокоилась. Но зачем, зачем он на них наехал!
— Пьяный в жопу, — мудро заметил Лазарь. — Прости, конечно, за эту грубость, но только в остекленелом состоянии можно заставить воина стрелять в ридну матку. Ты вот что, — продолжал дядя с некоторым колебанием в голосе, — ты посиди в машинке буквально считанные минуты, закнопись и никому не открывай.
— Дядя, ты куда? — спросила девочка испуганно. Она огляделась. Улица, словно ныряльщик перед смертельным прыжком, замерла в полной неподвижности. С правой стороны от рукавчика, в который они въехали, стоял многоэтажный соломенного цвета дом с магазином на первом этаже.
Вообще-то в Москве с магазинами было плохо, ибо какой дурак будет торговать, когда один или два налета в день обеспечены, но вдоль правительственной трассы, где через каждые пятьдесят метров были натыканы полицейские, магазины кучковались густо. Сегодня же в городе, похоже, трудно было найти живого полицейского, поэтому время для налета казалось Клюву самым подходящим. Искать ничего и не надо было: вывески говорили сами за себя.
— Айда, — махнул рукой Клюв, и бравые ребята рысью маханули к дому.
Лина, оставшись одна, задумалась, сама не зная о чем, пригрелась в теплом салоне и задремала. Разбудил ее громкий стук по жестяному кузову. Она, оторопев, открыла глаза и увидела какие-то мрачные, заросшие щетиной морды, которые заглядывали через боковые оконные стекла. Одна из них, большеносая и сухая, протиснулась почти в самое лобовое стекло и застучала деловито кулаком по крыше.
— Открывай, деваха, приехали. Да побыстрее, а то камнями окна разобьем и выволочим тебя силой!
Лина затравленно огляделась по сторонам. Вокруг нее, словно кобели на собачьей свадьбе, столпились нищенски одетые люди со свирепыми испитыми лицами.
4. ПРОЩАНИЕ С АНИТОЙ
Последний инструктаж проходил уже совсем в другом помещении, как понял Луций, — молельне одной из христианских сект. Голый каменный склеп был украшен только иконостасом на стене, да двумя чугунными шандалами с зажженными свечами. На каменных скамейках кроме юноши восседали еще семь монахов разного возраста в черных рясах и клобуках. Говорил Иезуит. Окончательно стряхнув с себя оцепенение после заключения, он стал, по мнению Луция, олицетворением злой энергии.
— …Вас восемь человек, и кроме того, я девятый. Наша эзотерическая объединяющая церковь считает число девять совершенным и чистым. Баланс сил сейчас таков, что государь и покровитель церкви нашей может быть изгнан назад в Европу, что навсегда заклеймит позором наш народ. Еще и двадцати лет не прошло, как стали мы восстанавливать церкви после адского владычества, и пригласили на царствие отца нынешнего государя. И если мы снова отправим в изгнание, а то и хуже, семью Романовых, то третий раз они на русскую землю не ступят, а проклянут недостойный народ люмпенов.
Мы не можем остановить националов там, на улицах Москвы, где они, ведомые антихристом Хионом, не встречают сопротивления от упавшего духом народа, опираясь на танки. Но мы можем обескровить их тыл, пока они избивают наших братьев снаружи.
Главарь хлопнул в ладоши, и тотчас закутанные с головы до ног молодые послушницы выступили из дальнего прохода в часовне и разложили перед бойцами целый ворох оружия. Каждый выбирал по собственному вкусу. Луцию достался полуметровый иберийский меч. Прямой клинок с двумя остро наточенными лезвиями оканчивался сверкающим острием. Далее он взял деревянный щит, покрытый кожей какого-то животного, скорее всего бычьей, опоясанный полосками серебра, и широкий кинжал. Клинок его с выемкой по бокам таинственно мерцал золотой арабской вязью, рассыпанной от рукоятки вниз. Кроме оружия каждому полагался длинный плащ с капюшоном и бронзовая бляха с двуглавым орлом в качестве отличия.
Обрядившись с помощью прислужниц, Луций все равно не почувствовал себя готовым уничтожать людей только за то, что судьба угораздила родиться им на другой стороне баррикад. Иезуит прочитал короткую молитву, прося небо вдохновить его на правильное решение, а мелко ступающие монашки приволокли громадный с метровым экраном телевизор на колесиках.
— Полчаса созерцания, — объявил Иезуит. — Прямая трансляция с улиц Москвы. Смотрите и сами поймете, против кого боретесь.
Уже после первого кадра Луция чуть не стошнило. Крупным планом он увидел штык автомата и насаженного на него младенца. Более таких кадров не было, но вся картина избиения мирных жителей, заподозренных в свободомыслии и капиталистическом уклоне, прошла перед ним за неполные полчаса. Иезуит знал, что делал.
Сам он, одетый точно так же, как остальные, шел впереди, держа в руке копье с длинным крепким древком и острием в форме лаврового листа. Осторожно ступая босыми ногами, они дошли, никого не встретив, до кабины лифта и спокойно съехали на первый этаж.
Этот этаж, как имеющий связь с внешним миром, охранялся сразу несколькими легионерами. Опираясь на длинные копья, они стояли между колоннами, оживленно обмениваясь мнениями о штурме столицы. Старший из них — пожилой мужчина с огромным животом и сияющими накладными эполетами довольно загоготал, увидев подкрепление.
— Держу пари на сестерций, что вы, ребята, пришли нас сменить! — зычным голосом прокричал он и подошел к Иезуиту, тесня его громадным своим брюхом. — Разве я не прав? Скажи, брат, мы в самом деле можем присоединиться к штурму и вдоволь поохотиться в спальных районах? Телек смотрите? Шикарно там наши жидов полощат!
Не меняя выражения лица, предводитель ударил охранника копьем в живот, чуть отведя древко назад и молниеносным движением послав его вперед. Толстяк придушенно охнул, собрался закричать, но силы уже оставили его. Иезуит очень хорошо знал, в какие точки надо бить.
Солдаты с минуту в оцепенении наблюдали, как дергается в агонии их начальник, потом разом подняли руки. Видимо, биться с многочисленным отрядом показалось им менее привлекательным занятием, чем грабить город. После того, как трое легионеров были обезоружены и связаны, Иезуит приказал запереть их в одной из кладовок.
До сих пор все монахи казались юноше на одно лицо, но постепенно он стал выделять среди них индивидуальности. Оказывается, не все монахи безоглядно следовали распоряжениям Иезуита, некоторые имели собственное мнение и вовсе не собирались его скрывать.
— Вы плохой стратег, — обратился к Иезуиту мощный высокий мужчина с бритым загорелым лицом и единственный, имеющий на вооружении исконно русское оружие — крепкую круглую дубинку, которая, скорее всего, прежде была ножкой дубового кресла, — иначе бы вы не оставили в нашем тылу профессиональных военных, предварительно их не обезвредив. Думаете, опытным воинам трудно освободиться от пучка веревок, да и картонная дверь не долго продержится.
— Твоя кровожадность меня смущает, — перебил его предводитель. — И если бы сегодня мы не нуждались в каждой паре свободных рук, я бы отправил тебя составить компанию тем, чьей смерти ты алчешь. Чтобы не томить других, скажу тебе, что никакими силами не смогут охранники подняться выше первого этажа, потому что лифтовые шахты, после того как мы спустились, я обесточил, а дверь черного хода заклинили послушницы.
Римский клуб — это мозг мятежа, соединенный слухом и зрением с внешним миром — Москвой. Мы должны уничтожить сам мозг — компьютерный центр со всеми вложенными в него программами, телевизионную студию — уши и глаза мятежа и сопротивляющихся легионеров — его мускулы. Счастье наше, что внутри клуба не подозревали врагов заговора, и поэтому Хион и его компания не сочли нужным оставить хотя бы сотню воинов. И что бы мы делали даже с десятью воинами на каждый этаж?
— Как у них с современным оружием? — спросил худощавый монах в очках, с вьющимися русыми волосами. — Что стоит всех нас положить из одного автомата!
— На территории Римского клуба владение огнестрельным оружием запрещено под страхом смертной казни, — сухо ответил Иезуит. — Дурно же вы думаете о командире вашем, если смеете даже тень неуверенности иметь. Что же вы пошли за мной, если полагаете, что могу я вас завести под стрелковое оружие! Наверно, не копьями и мечами я бы вас вооружил, а минометами и гранатами. Приободритесь, робкие. Во всем здании сейчас не более двух-трех десятков вооруженных людей, и, переходя с этажа на этаж, мы отключаем физическую и информационную энергию, так что в тылу у нас никого нет и не может быть. Другое дело, что после победы над собственными согражданами примчатся в клуб мятежники продолжать бесовские развлечения, так мы и должны подготовить им встречу.
Начальный этаж оказался одним из самых трудных. Мало того что почти в каждом зале была своя секта, и потому некоторые из них были набиты непонятным народом, который никак не поддавался контролю, пришлось спускаться в отгороженный кованой решеткой подвал, где на многочисленных дверях, уводящих взгляд в проходы из стальных прутьев, висели тяжелые замки. За решеткой в десятках просторных клеток сидели самые разнообразные звери, все громадные и свирепые. Луций не сразу смог по достоинству оценить этот факт, потому что никак не мог понять, зачем такое количество диких животных собрано в одном месте.
Звери скорее всего были голодны. Они рычали, визжали, свистели и всячески выражали негодование задержкой завтрака. От диких воплей и вони у юноши разболелась голова. Однако он не выказывал своего состояния, пока их предводитель не дал команду двигаться дальше.
Без всяких приключений прошли они следующие пять этажей, выявляя одиноких легионеров и членов Римского клуба. Когда они попадали на собрания сект или молельни чужих церквей, Иезуит приказывал никого и ничего не трогать, ибо иногда число сектантов неизмеримо превосходило число воинов эзотерического христианства. Единственное, что они делали, — это, переходя с этажа на этаж, обесточивали за собой все, не беря во внимание то, как будут выбираться обитатели нижних этажей.
Первое сильное потрясение Луций испытал, проводя чистку тринадцатого этажа. Пройдя анфиладу комнат и несколько больших зал, он попал прямо к бассейну, в котором искупался недавней ночью. Теплая вода стекала в бассейн из большого закрытого желоба, и тут же на мелководье, прибитая к краю бассейна, качалась в белой пене одетая в красный халат женщина с погруженным в воду лицом. Уже предчувствуя несчастье, он, не раздеваясь, прыгнул в бассейн и через несколько секунд вынес на бортик ту юную девушку, которая приютила его ночью. Никаких повреждений не было на ее прекрасном загорелом теле, только распущенные в беспорядке волосы, да раскрытый в напряжении рот говорили, что смерть ее была насильственной. Несколько минут просидел юноша перед ней, бросив в сторону жалкое свое снаряжение, потом еще более воодушевленный местью положил девушку навзничь на ковер у бортика бассейна и пошел, сжимая в руке меч, с жарким тяжелым комом в груди вместо сердца.
Первое серьезное сопротивление оказала им толпа паломников на четырнадцатом этаже. По иронии судьбы эти люди и в самом деле приняли их за легионеров. Смуглые, в длинных белых одеяниях, они сидели рядами перед большим экраном, на котором разворачивались события мятежа. Их предводитель — необычайной толщины индус в очках, с окладистой бородой и в чалме, повязанной прямо над маленькими выпученными глазками, — подошел к Луцию, приняв его почему-то за старшего, и затараторил, перемежая русские слова с арабскими и повизгицая от негодования.
Только несколько секунд спустя юноша понял, что индус возмущается по поводу малочисленности жертв на улицах и предлагает помощь своих людей, которые, как он смачно выразился, «зальют Москву кровью выше Кремля». Когда Луций понял индуса, мрачная ярость овладела им. Сам не до конца разумея, что делает, он вытащил меч из ножен и полоснул им по разваливающимся от собственного веса губам муллы. Тотчас лицо, маячившее перед ним, расцвело красными ручейками, индус отшатнулся, зажал окровавленный рот и повалился на пол.
Откуда ни возьмись набежали женщины. С рыданиями и криками они подняли раненого и понесли в глубь комнаты, точнее зала. Паломники вскочили со скамеек и обернули в сторону монахов опоясанные чалмами головы, и поскольку они представляли множество национальных меньшинств, населяющих столицу, то и головные уборы у них были самые разнообразные. У одного свернутый кольцами мохеровый шарф, у другого — самого громкого и агрессивного — обыкновенный ком не слишком чистых лицевых полотенец. Не найдя никакого другого оружия, паломники стали отрывать прикрепленные к стенам скамейки и разбивать их о деревянный пол, дабы вооружиться.
— За что ты его? — спросил недружелюбно юношу один из монахов. Луций не успел ответить, на него налетела сразу целая куча паломников, которую он с трудом отгонял протянутым ему копьем. Постепенно число и ярость нападающих увеличились и, проткнув нескольких, наиболее горячих, мечом, Иезуит, к вещей славе господней прекрасно владеющий оружием, постарался обеспечить достойное отступление.
И тут произошло то, чего Луций всячески избегал. Один из паломников, более других раздосадованный ранением наставника, рыжий толстощекий мужик с громадными ручищами, видимо уверенный в себе, все-таки исхитрился, крутясь, словно взбесившийся, пес вокруг юноши, достать его толстой, расщепленной по краям доской. Тычок разодрал Луцию щеку, кровь залила его лицо и дала новый импульс дикой, всепоглощающей ярости. Толстое лицо самодовольно улыбающегося паломника вспыхнуло перед глазами юноши, и он, смахнув с щеки кровавый след, бросился вперед. Луций в одно мгновение изрубил жалкое орудие мести и, когда толстяк завопил от страха, погнал его обратно мимо целого ряда дверей в зал. Хотя Иезуит кричал ему и звал назад, Луций не успокоился, пока не подрубил толстяку ногу на бегу, и когда тот с размаху покатился по полу, юноша настиг его и, не помня себя, погрузил клинок в плотное, как сырое тесто, тело. Вопли толстяка отрезвили его. Не смотря, ранил ли он его или уже убил, не желая добивать стонущее, катающееся существо, он бросился с поднятым мечом назад, сквозь густую толпу паломников, нанося и отражая удары, и оказался у лифта, где его ожидали монахи с окровавленными мечами и копьями и Иезуит с фанатичным блеском в глазах. Впрочем, напуганные паломники не столь уж рьяно преследовали их, видя собственное бессилие. В отряде был ранен только Луций, да еще один молодой монах получил сильный удар по руке и мучился от боли.
После того как бойцы отделились от врагов лестничной площадкой, Иезуит обратился к Луцию со словами укоризны.
— Они говорили, а ты совершил, — выговорил он сурово. — Тигр тоже кровожаден, однако ты не уничтожаешь всех тигров, а только того, кто причинил тебе непосредственный вред. Эти паломники, наверно, настоящие отбросы, и дай им волю, в самом деле грабили бы и убивали с легкостью, но мы же не они. Теперь нас осталось только семеро, потому что этот парень уже ни на что не способен со сломанной в двух местах рукой, да и тебе не мешает зашить рану, иначе останется шрам на всю жизнь. Но душевный шрам я бы не хотел тебе врачевать, потому что ты убил человека, не защищаясь, а в запале и из мести.
— Однако дай ему волю, — возразил ему юноша, чье лицо было замазано кровью, которую он в пылу драки не смог унять, — так дай ему волю, он и его собратья всех бы нас измесили, как крыс.
— Что же нам теперь уподобляться любому человеческому отребью, которое встретится у нас на пути? Они убивают инстинктивно, не чувствуя разницы между добром и злом. Мы же осознанно, беря на душу грех и мучась содеянным.
— Так что же, не убивать, — спросил с вызовом рослый монах, — послать все это гнездо разврата к чертовой матери и пойти к проституткам выспаться?
Иезуит мрачно покачал головой.
— Не мир я вам принес, а меч, — сказал господь. — И разве не жгло его душу сознание того, что сказанное входит в противоречие с основными заповедями. И разве не мучился он, надрывая свое сердце в поисках компромисса между совестью и долгом, и разве не сознавал он в отчаянии, что компромисса нет. Ибо где долг, там и необходимость. И я говорю вам, и меня терзают сомнения при виде пролитой крови врага, — особо подчеркнул он последнее слово, — но вслед за господом я повторяю: не мир мы принесем Римскому клубу языческому, а меч. Ибо мы в защите и защищаем жизнь от скверны, — так закончил он свою противоречивую проповедь.
Следующий этаж очистили они от редких легионеров безо всякого сопротивления, а на пятнадцатом Луция постигло горе.
Пятнадцатый этаж, тот самый, на котором располагался вход в апартаменты Хиона, оказался столь необъятным, что монахи попарно разбрелись по нему и не могли собраться более часа. Выманив из-за двери апартаментов охранника и добежав по памяти до покоев хозяина клуба, юноша не нашел там брата. В том, что тот был здесь, совсем недавно убеждали неубранные тарелки с остатками завтрака и еще теплая чашка китайского фарфора с чаем.
В задумчивости присел Луций на мягчайшую кровать, протянул руку, чтобы забрать фотографии: его и Василия, сиротливо смотревшие на него с журнального столика, когда вдруг его внимание привлек плоский листочек белой бумаги, через который проступали написанные чернилами на другой стороне слова. С похолодевшим сердцем вытянул он придавленный зажигалкой листок и некоторое время держал его в руках, не осмеливаясь перевернуть.
«Здравствуй, дорогой брат, — прочитал он. — Найди меня, пожалуйста, потому что мне очень страшно. Хорошо мне только ночью, когда никого нет. Вчера ко мне приходила жена Хиона мириться. Она похожа на старую змею, только толстую. Я ей сказал, что хочу уйти, только не знаю как. По-моему, она мне не поверила. Если ты меня не заберешь сегодня, мне кажется, я умру».
На письме не было ни подписи, ни даты. Луций ошалело вертел его, пытаясь еще что-либо в нем разглядеть, потом сунул в карман и резко поднялся. Не боясь шума, он в ярости взмахнул мечом, разрубив столик пополам, и побежал к выходу.
5. МАГАЗИН «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
Раздвинув облепивших машину с Линой бродяг, высокая фигура в оборванном черном пиджаке с запрокинутыми вверх руками, в которых с трудом помещался большой камень, подскочила к капоту и засадила булыган в лобовое стекло. Стекло затрещало и прогнулось, по нему пошли зигзагообразные белые трещины. Толпа удовлетворенно завыла, детина в пиджаке нагнулся, подобрал с натугой каменную глыбу и вновь начал поднимать ее над головой, напыжась, словно штангист, берущий непосильный вес. Лина до мельчайшей черточки видела его искаженное круглое лицо с большим поцарапанным носом и злорадным выражением сощуренных глазок.
Прежде чем камень достиг верхней точки, в девочке проснулся боевой дух отца. Тысячу раз она сидела рядом с водителями и наблюдала, как они заводят машину. Более того, Алексей, уступая просьбам девочки, посадил ее как-то за руль и дал возможность проехать несколько метров. Лину словно приподняло невидимой внутренней силой и переметнуло на водительское сиденье. Она нажала одной рукой на газ и одновременно выжала педаль сцепления. Поворот ключа заставил машину взреветь и дернуться точно перед прыжком.
Оборванец с камнем в руках застыл, не зная, кидать ли его или отпрыгнуть в сторону. Миг раздумья его погубил. Почти против желания Лины машину швырнуло вперед. Алкаш согнулся пополам, и его голова угодила точно в место удара камнем. Несколько мгновений он ехал на капоте, обернув к Лине окровавленное, помертвевшее лицо, потом скатился вниз, и с хрустом прошлись по нему колеса. Девочка бросила руль, машину еще раз швырнуло в сторону, и мотор затух. Снова толпа окружила машину, скрюченные руки рвали ручки двери, били в окна салона, и снова Лина вертела ключ зажигания, пытаясь оживить омертвелый двигатель, но искра жизни никак в него не возвращалась. Треснула обшивка машины, камни крошили металл дверей, ухватистые руки тянулись к девочке через разбитые стекла. Ее выволокли, обдирая платье острыми осколками стекла, швырнули на землю и образовали вокруг нее прямоугольник.
Двое здоровых приземистых ханыг осторожно, как ребенка, принесли труп в черном пиджаке, с вывернутыми ногами и покрытыми густой коростой крови грудью и шеей. Из сурово молчащей толпы вышла, шаркая ногами, вылитая ведьма, согнутая, со сдвинутыми к кончику горбатого носа очками, в намотанном на шею грязно-зеленом платке. Она ухватила Лину за волосы и с невероятной для хлипкого тела силой приподняла над землей.
— Вот твой жених, — прошептала она, с ненавистью глядя на девочку, — будь ты проклята в семени своем! Сейчас вас и обвенчаем, посаженой матерью будет вам сыра земля.
— Целуй его, — закричали из толпы. — Целуй жениха, сука! В один гроб их!
— Но сначала паровозик, — вышел из толпы тот самый сухой и большеносый бомж, который первым подбежал к машине. — Мужики, скидывай штаны!
Тотчас он вертко стянул ремень с бумазейных мятых портов, и сами брюки полетели ему под ноги. С Лины стащили, несмотря на сопротивление, одежду и положили лицом вниз на землю.
Сухопарый мужик с воплем: «Благословите, братцы!» — поднял руку с зажатыми в ней трусами и молча рухнул на землю.
Оскаленная усатая морда Олега мелькнула в толпе. С другой стороны появился Клюв. В руке у него был раскрытый нож. Толпа смешалась, попятилась, сухопарый мужик лежал, обратив к небу голые ягодицы. Из шеи у него торчала наборная ручка финского ножа. Дядя, не обращая внимания на злобный шелест и гул вокруг него, быстро поднял Лину и понес к машине. Толпа угрожающе колыхалась за ним.
Лазарь уже донес племянницу до машины, когда из орущей и мятущейся толпы выскочил маленький мужичок в длинном до пят комбинезоне и схватил его сзади за горло. Дядя, не разжимая рук, протащил его на себе несколько шагов, потом раздался выстрел, мужичок осел, но рук не распряг, и Лазарь тянул его на себе уже мертвого.
Толпа развернулась и побежала прочь от машины. На земле осталось лежать три неподвижных тела. Дядя нырнул в «ниссан» с Линой на руках, а вынырнул с автоматом. Он озверело повел стволом вслед убегающим и дал длинную веерную очередь. В толпе послышались стоны и крики. Две женщины упали и замерли. Остальные, не поднимая упавших, на рысях обогнули угол дома. Лазарь швырнул автомат на сиденье и выругался.
— Будь я проклят, если еще хоть на минуту оставлю девчонку, да мне за нее брат голову вывернет мордой внутрь.
Лина после второго потрясения долго не могла оправиться, она сжалась на заднем сиденье единственной оставшейся у команды машины, всхлипывая и трясясь от обиды и холода. Потом как-то незаметно она пригрелась и забылась коротким, но глубоким сном. Тем временем они уже добрались до проспекта, названного именем великого садовода, и свернули налево, желая пробиться самым коротким путем к центру. По веселым лицам Клюва и его друзей можно было поверить, что налет на магазин закончился успешно и взяли они немало.
Однако жадность и не таких фраеров губила, и роковой для бригады Клюва оказалась следующая остановка. Уже видно было вдалеке здание МИДа в обрамлении двух высотных домов гостиницы «Белград», и можно было подумать, что нет препятствий для подъезда и прохода к честнейшему вору Егору, как усатый Олег высмотрел по ходу следования вывеску коммерческого магазина, и этим все чуть не погубил.
Клюв, подмигнув дяде, затормозил, и, не раздумывая, трое молодцов бросились к входным дверям. Дверь магазинчика с храбрым названием «Все для вас» была распахнута настежь, что свидетельствовало о крайнем идиотизме владельца, пройти мимо которого воры не могли никаким образом. Вбежав вовнутрь, налетчики остановились, потрясенные открывшимся их глазам изобилием. Под потолком горели образцы разнообразных люстр, холодильники и стиральные машины отливали белой краской в углу, в другом расцветали ярким оперением ковры, вещь вовсе в столице позабытая. Боксер Паша огляделся по сторонам и увидел хозяина магазинчика, пристроившегося у кассы рядом с продавщицей. Напротив них перед прилавком стоял какой-то ополоумевший клиент в сером, сшитом по французской моде костюме, каких и вообще в российском захолустье быть не могло. Вся эта картина мирного труда на ниве торговли настолько разнилась с суровой реальностью, что Паше на миг расхотелось убивать. Олег, человек организованный совсем просто, сунул два пальца в рот и разразился прямо-таки лесным свистом. Клиент присел, так что его макушка оказалась ниже уровня прилавка, и вдруг в руках его мелькнул черный с круглым барабаном револьвер.
Перестрелка началась стихийно и кончилась печально как для бывшего борца, так и для клиента в фирменном костюме.
Олег бил и стрелял всегда наверняка. Прежде чем клиент успел спустить курок, он уже бросился плашмя на пол, дабы уменьшить поражение тела, и расстрелял противника в упор. Однако тот, уже теряя сознание и падая, случайно надавил на курок, и шальная пуля пробила Олегу голову. Он умер почти мгновенно с тем же хищным выражением лица, которое отличало его при жизни. Хозяин магазина выскочил из-за прилавка с поднятыми руками. Выражение лица у него было точь-в-точь такое, будто он вчера свалился с Луны и еще никак не мог привыкнуть к здешней атмосфере. Приплясывая от страха и возмущения, он бросился к клиенту и пытался приподнять его огрузневшее тело, но тот уже безмолвствовал. Клюв, который видел много мертвых людей, плюнул от возмущения, увидев распластанного на полу Олега. Вид у того был, как он рассказывал потом, мертвее мертвого. Подскочив к хозяину, он ударил его ногой в челюсть, отчего владелец магазина совершил обратный прыжок за прилавок и очень тихо замер вместе с еле живой от страха продавщицей.
В это время к входу подъехала грузовая машина. Послышались звуки команды и топот одновременно опустившихся на землю ног. Клюв и Паша, только услышав солдат, метнулись в глубь магазина. Причем уже исчезая за дверью, ведущей в подвал, Паша успел четким, как на ринге, ударом повергнуть продавщицу, чтобы она не болтала лишнего. Когда вбежавшие на звуки выстрелов солдаты и члены фронта Национального спасения ворвались в магазин, кроме уткнувшегося носом в пол клиента и тихо стонущей продавщицы, они никого не увидели.
С грехом пополам хозяин магазинчика поднялся, отодвинул неподвижное тело лежащей без сознания женщины и, увидев подмогу, закричал срывающимся слабым голосом:
— Там они, господа, за дверью, в подвале прячутся!
Офицер молча посмотрел на его налитую синевой челюсть и скомандовал прочесать подвал. Десяток солдат, вооруженных не хуже командос любой современной армии, — это у войск императора Всея Руси не было, как говорили, даже ватных штанов, чтобы перезимовать, — рванулись по мановению его руки в подземелье, где хранились товары.
6. ЛИЗ
Информационный центр Римского клуба, как и полагали монахи, венчал основное здание. Собственно весь предпоследний, шестнадцатый этаж представлял собой гигантский компьютерный комплекс.
Просчет учредителей клуба был в том, что они не ждали неприятностей изнутри. Вход на этаж прямо с площадки перед лифтом был снабжен строгими запретительными надписями. Однако этим и ограничивалась охрана. Монахи беспрепятственно дошли до центрального входа, где стоял на посту пожилой полицейский, который при виде отряда даже не удивился. Мельком взглянув на подошедших, он с решительным видом повернулся к ним спиной и уставился на телеэкран.
— Историю не повернуть вспять, — выкрикивал самодовольный диктор в кожаном пиджаке и черных очках, — и мы с удовлетворением можем сказать: монархия в России окончательно свергнута!
По знаку Иезуита один из монахов подошел к полицейскому совсем близко и резко взмахнул рукой. Ошеломленный страж порядка, не пикнув, уткнулся лбом в стол и застыл так, широко расставив руки.
С треском распахнулась дверь в Информационный центр. Луцию сразу же бросилась в глаза целая пирамида, скорее даже стена из цветных телевизоров, на каждом из которых возникало все время одно и то же изображение входящих на территорию Римского клуба легионеров с автоматами наперевес. Иногда по велению невидимого оператора экран приближал их лица. Так попеременно возникали в тысячах дробящихся копий лица директора Лицея, знаменитого устроителя пиров, и многих других знакомых и до сих пор неизвестных.
«Возвращаются!» — прошептал юноша и остановился. Далеко в глубь помещения, освещенного ровным мягким светом из круглых отверстий в потолке, шли белые длинные столы, уставленные сверкающим или матовым электронным оборудованием. За столами сидели программисты и операторы. Иногда кто-либо поднимался, чтобы размяться или облегчить свое существование хорошей сигаретой. Никто как бы не Замечал вновь прибывших, пока Иезуит заплетающимся от ярости языком не скомандовал: «Вперед!»
Над столами, над прекрасными полированными агрегатами и телами испуганно задергавшихся людей взлетели мечи. Мужчины, женщины, подростки метались по громадному залу, натыкаясь друг на друга, словно овцы на бойне. Монахи шли двумя шеренгами навстречу друг другу, перекрыв оба выхода, и рубили и кололи без разбора направо и налево. Их не интересовало: живой это человек или персональный компьютер. Крики убиваемых людей мешались с бравурной музыкой, звучащей с экранов телевизоров.
Юноша не двигался. Сжимая рукоятку меча, он смотрел на бойню, учиняемую во имя господа, и не находил различия между боевиками в рясах и солдатами на улицах города. Мимо него пробежала девушка, почти подросток. На спине ее, под правой лопаткой темнело черное пятно. Девочка, в тщетных попытках спастись, рухнула буквально под ноги Луция и пыталась заползти под стол, у которого он стоял. Появление раненой девочки оказалось последней каплей, переполнившей душу юноши. Он наклонился к ней и осторожно приподнял с пола.
— Пошли, — сказал он, — я уведу тебя. В аду криков о помощи, стонов и взрывающихся телеэкранов, возможно, она его не расслышала. Тогда Луций взял раненую на руки и осторожно вышел из зала. Полицейский лежал у стола, раскинув руки и ноги, и пришлось перешагнуть через него. Девочка постанывала при каждом движении юноши, но глаз не открывала. Он шел по коридору, оглядываясь, в поисках надежного убежища, пока не добрел до железной двери с надписью: «Аварийная». Положив осторожно девочку на пол, Луций потянул дверь за ручку, и она отворилась. С внутренней стороны торчал в замочной скважине ключ, что очень обрадовало юношу.
В комнате царил полумрак, поэтому он первым делом развел заслоняющие свет черные шторы на окне. Помещение оказалось большим и просторным, в одном его углу стоял широкий диван с подвинутым к нему столиком, а вся противоположная стена тоже была уставлена десятками видеоэкранов. Прежде всего Луций хотел освободиться от своей ноши, поэтому он аккуратно положил девочку на диван и содрал с ее плеч окровавленную кофточку. К счастью, раны он не обнаружил. Удар прошел по касательной, оставив над ключицей глубокую царапину, из которой все еще сочилась кровь. Обморочное состояние девочки скорее объяснялось общим впечатлением от картины массовой гибели людей.
Обведя комнату взглядом, юноша обнаружил дверь в углу. Он не замедлил войти в нее и увидел, что к комнате относится несколько санитарных помещений от туалета до маленького бассейна. Тотчас открыв воду, он наложил девочке повязку из обрывков ее кофточки и, устроив как следует на диване, прикрыл сорванной с окна тяжелой портьерой.
Затем, словно вспомнив о каком-то неотложном деле, вытащил из замка ключ и вышел, закрыв за собой дверь на два оборота. Тяжелая железная дверь должна была послужить препятствием для той напасти, которую он уготовил Римскому клубу. С другой стороны, если бы что-нибудь с ним случилось, она бы смогла продержаться до прихода спасателей. Радуясь, что до последнего момента девушка не пришла в себя и, стало быть, не могла его тревожить бессмысленными вопросами, Луций вышел из коридора на площадку не замеченного в ходе атаки и потому не обесточенного грузового лифта, связывающего Информационный центр со складом, и спустился в самый низ. Лифт он оставил открытым, вбив пару деревянных клиньев из спичек под кнопку «Пуск».
Прежде чем начать открывать клетки с дикими зверями, он определил для себя некоторый принцип действий, дабы самому не попасть в когти некормленных хищников. Для этого он прошел в самую глубь подвала, полностью уставленного стальными клетками и деревянными загонами, в которых, кипя от возмущения, буйствовали буйволы. Лишь упершись в стену, Луций стал ослаблять засовы на начинавших ряд клетках с громадными кошками, которые метались взад и вперед, будто его и не замечая. Он не открывал дверцы совсем, а оставлял зверям возможность сделать последний шаг: то ли отереться о металл боками, то ли, бесясь от голода, непроизвольно двинуть лапой, отчего бы они неминуемо вырвались на свободу. Так, скользя от клетки к клетке и видя, что животные продолжают свои движения, как бы не замечая, что замки в общем-то сняты, он постепенно набрался смелости и стал полностью освобождать запоры, следя лишь за тем, чтобы двери не открывались сами. Пока он подошел к последней клетке, где, скорчившись, сидел громадный лев, прошло почти полчаса, и за все это время ни один зверь не подумал проверить крепость оков, которых на самом деле уже не было. Лев голодный, но неподвижный или уставший буйствовать, следил за действиями юноши угрюмым взглядом песочно-желтых глаз и вдруг без предупреждения прямо с места прыгнул навстречу, наставив лапы. Если бы его целью было схватить своего освободителя, то он, несомненно, достиг бы ее, но зверь, видимо, хотел скорее напугать, потому что, сделав молниеносный выпад, он вдруг на лету затормозил и упал, сгруппировавшись, на пол.
Луций не стал искушать судьбу, а метнулся к выходу и, поощряемый короткими победными воплями почуявших свободу зверей, во весь дух добежал до лифта. Он так и не сумел понять, как это тигрица успела проскользнуть раньше его. Тем не менее она была в лифте, и юноша отчетливо видел ее желтый с черным бок и громадные выступающие клыки. Тигрица, задрав голову, обнюхивала пульт управления, но, учуяв человека, вдруг вышла из кабины и оскалила зубы. Луций, даже вооруженный мечом и кинжалом, инстинктивно чувствовал малую эффективность своего снаряжения против разящих клыков тигрицы.
Не поворачиваясь спиной к зверю, юноша сделал несколько крохотных шажков назад, лихорадочно выдергивая из ножен меч и вытаскивая кинжал. С дрожью в руке он выставил меч вперед и продолжил отступление, преследуемый тигрицей, которая так же медленно ползла вслед за ним, выбирая время для прыжка.
Оглушительный рев потряс Луция. От неожиданности он метнул в зверя кинжал левой рукой. Никак не нацеленный кинжал со звоном ударился о каменную стенку и рикошетом отлетел тигрице в бок, вонзившись у основания крестца. Юноша находился перед ней, поэтому тигрица решила, что сзади на нее напал другой, более опасный противник. Рыча от ярости, она вцепилась в пораженное место и клубком покатилась по площадке в противоположную от Луция сторону. Занятая болезненным ранением, она каталась по площадке, визжа и стеная, потом с грозным рыком бросилась в другой коридор, где вдали показалась человеческая фигура.
Юноша понимал, что только чудо спасло его на этот раз от гибели. Из оцепенения его вывел другой, еще более громкий тигриный рык, ему ответил второй, потом третий, словно завыла разом стая демонов. Не оборачиваясь, Луций прыгнул в лифт и нажал на кнопку. Смерть была у него за спиной, потому что уже в закрывающиеся двери просунулась когтистая широкая лапа, да так и осталась в кабине отхваченная молниеносным ударом меча. Двери захлопнулись, и под одновременно злобный и жалобный вой Луций полетел вверх.
Девочка сидела на корточках перед мониторами и манипулировала правой рукой пультом управления. Молча подойдя, юноша уселся рядом и, не беспокоя ее, стал внимательно следить за ее действиями. Всего мониторов было около двадцати, и Луций понял, что каждый из них обслуживал один этаж. Кроме общего пульта на каждом мониторе была еще система переключателей, так что по желанию оператора можно было заглянуть практически в каждое помещение любого этажа.
— Покажи подвал, — потребовал юноша, и девочка подчинилась его приказу.
После серии беспорядочных переключений она включила монитор, отвечающий за нулевой этаж. Снова Луций увидел гигантский подвал с десятками стальных и деревянных клеток, только на этот раз они были пусты. Остались лишь буйволы, которые никак не могли рискнуть покинуть загоны. Никого не было и в коридоре, где только что находился юноша. До сих пор он не перекинулся с девочкой ни одним словом, и теперь, когда понял, что звери им выпущены и это безвозвратно, он обратился к ней.
— Как твоя ключица? — спросил он девочку, которая напряженно всматривалась в экран, так что виден был только ее профиль и прядь черных спускающихся на щеку волос.
Девочка искоса посмотрела на него и ничего не ответила. Луций встал, поискал вокруг глазами, нашел чашку и пошел в ванную. Там он ополоснул лицо и руки, наполнил чашку водой, после чего вернулся назад. Девочка, как он узнал, вернувшись из ванной, ее звали Лиз, продолжала возиться с пультом. Видимо, она хотела найти вполне определенный зал, но не знала, как это сделать. После серии переключений на экране возник гигантский храм Сатаны со статуей злого бога. Как всегда, десятки поклонников молились в различных нечеловеческих позах, казалось, удерживаемые только своей верой и духовным напряжением.
Юноша с отвращением поморщился и, пытаясь отвлечься от тяжелых воспоминаний, принялся перебирать кнопки на пульте управления. Случайно ему удалось вызвать звук. Наполнивший комнату гул показался ему странно знакомым. Звериный вой — вот, что он услышал. Вой, казалось, шел отовсюду, но верующие делали вид, что не замечали его. Переключая камеры, Луций навел изображение на вход в помещения секты. Он увидел, что перед дверью с внутренней стороны группировались служители с топорами и копьями, из последних сил сдерживая идущий снаружи натиск.
Внезапно одна из створок подалась, выбитая мощным ударом, и клубок коричневых и желтых тел ринулся в пролом. В поисках пищи львы и тигры умудрились подняться из подвала на следующий этаж и, почуяв сквозь щели в дверях запах человеческого мяса, пытались выломать их. Несмотря на беспорядочные удары, которыми осыпала их стража, хищники прорвались сквозь подставленные мечи и копья и стали терзать и убивать коленопреклоненных людей. Вопли погибающих, мечущихся поклонников Сатаны смешались с торжествующим рыком опьяненных кровью животных.
В это время из притвора вышла жрица. Обнаженная до пояса, в шелковых облегающих талию шароварах она застыла, запрокинув назад голову, и в одно мгновение словно поднялась над толпой. Завидев ее, верующие бросились к ней, надеясь на защиту, которую она, как выяснилось, не могла им дать. Пестрое тело промелькнуло в воздухе, и тигр с окровавленной пастью и лапами перепрыгнул окружавших жрицу, сбил ее с ног и покатился вместе с ней по полу. В тот миг, когда их тела соприкоснулись, в руке женщины вспыхнул некий предмет, напоминающий хрустальное многогранное яйцо, и тонкий раскаленный луч ударил хищника, выжигая глубокие порезы на атласной шкуре.
Сплетенные, как пара возлюбленных, прекрасная женщина и зверь несколько мгновений катались по земле, оставляя кровавый след, потом тела распались. Тигр, перерезанный почти надвое, остался лежать на земле, а жрица приподнялась на локте и что-то приказала страже. Приблизив изображение к ней вплотную, юноша увидел, что правая половина ее тела от плеча до бедра была одной сплошной кровавой раной. Несколько мгновений женщина смотрела на него в упор, не видя и не чувствуя его присутствия. К ней подбежала стража и, осторожно положив на носилки, понесла в покои. Одна рука жрицы неподвижно свисала вниз, теряя по дороге капли крови, вторая продолжала сжимать хрустальный предмет.
Увидев, что их сородич убит, звери, а их было не менее десятка, пришли в полное неистовство. В то время как львы продолжали кромсать и увечить в слепой ярости бессильных сопротивляться им людей, тигр и тигрица напали на окружавшую жрицу стражу. Бойня продолжалась несколько секунд. Исколотые и изрубленные звери остались лежать в нескольких метрах от сородича, но и носилки с раненой жрицей уже некому было нести. Все ее защитники, мертвые или тяжело раненные, распростерлись на земле. Жрица, на мгновение придя в сознание, попыталась встать, чтобы спастись бегством, и не смогла. Хрустальное оружие выпало из ее руки и, потеряв силу, покатилось по залитому кровью полу. Громадный зверь с размаху опустился на носилки и одним ударом лапы снес жрице голову.
Лиз выхватила из рук Луция пульт и швырнула его в стену. Изображение на мониторе погасло.
— Ты садист, убийца! — закричала девочка, содрогаясь. — Как ты можешь на это смотреть и смаковать. Лучше бы ты оставил меня умирать вместе с матерью!
Луций холодно посмотрел на нее и отвернулся.
— И аз воздам, — сказал он. — Перед тобой были поклонники зла на своей последней оргии. Или ты не слышала о таких? Что, серьезно не слышала? Но ты же жила в Римском клубе и ничего не слышала о человеческих жертвоприношениях? Счастливчик! А моего брата, между прочим, только случай спас от гибели в раскаленном медном чреве Сатаны. Так что они получают по заслугам.
— А моя мать, — спросила она. — А я? Мы мирно жили. Я училась в лицее. Пришли твои друзья… убийцы. Мать я видела, когда ей в спину воткнули саблю. За что? Чем мы виноваты?
— Что, женские лицеи тоже есть? — спросил Луций вежливо.
Он оглядел девушку и нашел, что она очень красива. У нее были пышные черные волосы, яркое лицо с громадными удлиненными глазами и немного вздернутым носом и хорошо очерченные пухлые губы. Тело ее он не мог разглядеть из-за прикрывающей его портьеры, но припоминал, что оно было не хуже лица.
— За что? — спросил он насмешливо. — Разве когда убивают и грабят, то интересуются, кого и за что? Да я тебя уверяю, что есть за что. Берешь, селишься на вулкане или в Римском клубе, смотришь, как лава сжигает других, а потом спрашиваешь, за что!
— Ты что, не понимаешь? — спросила она потрясенно. — Ты в самом деле не понимаешь?.. Я пришла к матери, принесла ей обед. У нас лишних денег нет. Мать не может тратить их на еду. Я ношу ей обед из дома. Мой отец — офицер гвардейского полка. Он сейчас на дежурстве. Нам не хватает денег, понимаешь? И ты считаешь, что это вполне нормально, когда мою мать убивают прямо на работе, и убили бы меня, если бы не ты… Мама, — зарыдала девочка. — Боже мой.
Она повалилась на пол и застыла в безмолвной муке. Не зная, что делать, Луций присел рядом с ней на корточки и стал осторожно поглаживать ей голову с шелковистыми нежными волосами, округлую щеку, плечо. Он подумал, что шок у девочки прошел и она с каждой секундой все острее начинает чувствовать свою потерю. Полагая, что Лиз может простудиться на полу, он просунул одну руку ей под голову, а вторую под бедра и поднял ее вверх. Потом осторожно снова положил на диван. Головка девочки легла ему на руку, она открыла глаза и, слабо улыбнувшись, посмотрела на него.
— Прости, — проговорила она сквозь слезы.
— А я своих родителей даже оплакать не могу, — вдруг вырвалось у юноши. Девочка удивленно на него посмотрела, и он продолжил: — Да нет, плакать умеет каждый. Просто я уже много лет не знаю, живы ли они. Мне было десять лет, когда их арестовали, и они исчезли навсегда. Так и не знаю: живы они или нет.
— И они тебе не писали? — спросила Лиз, в этот миг от души жалея Луция и уже не перекладывая на него вину за смерть матери.
— Без права переписки, — ответил юноша. — Жили по приютам да детским домам. В конце концов нам посчастливилось. Попали в привилегированные учебные заведения вроде твоего, да не судьба.
— Где сейчас твой брат? — вдруг спросила Лиз. Она поднялась и села на диване, скрестив ноги.
— Где-то здесь, совсем рядом, — мрачно произнес Луций. — Точно где, не знаю. Он не захотел со мной уйти и остался с…
— С кем-нибудь из учредителей, — кивнула головкой девочка. — Это обычно. Почему-то наши хозяева предпочитают мальчиков.
— Если ты знаешь, что такое Римский клуб, — хотя бы с точки зрения самой заурядной морали, значит, тем более и твоя мать знала. Как же она могла работать в самом бесчеловечном месте во всей Москве?
— Таким оно стало, когда пришли твои монахи с мечами, — взбунтовалась Лиз. — Мама работала программистом, много она могла знать!
— Если бы хотела услышать — услышала, если бы захотела узнать — узнала, — рассудил Луций. — Проще всего прячась от зла: закрыть глаза, заткнуть уши и валить все на других. Как бы я хотел так устроиться!
— И что, не получается? — усмехнулась Лиз.
— Вначале не давали, — грустно ответил юноша, — а теперь, цохоже, сам не могу. Смотри, сколько нас стояло в стороне, и что? Сначала развалили Россию, потом разгромили Питер, теперь Москву и все во имя великой национальной идеи!
— Давай обо всем забудем, — примирительно произнесла девочка и прижалась к Луцию. — Только не делай ничего со мной, ладно?
— Не бойся, — ответил юноша, думая о своем и рассматривая найденный в аварийной мелкокалиберный спортивный пистолет, который хранился вместе с мишенями в особом шкафчике.
7. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Увидев, что к входу в магазин подъехал грузовик с солдатами, Лазарь решил не искушать судьбу. «Ребята тертые, — подумал он, — неужто сами не выскочат. А мне надо девочку сопроводить в надежное место». Он не глушил двигатель и потому мгновенно рванул вверх по Плющихе, не без сожаления попрощавшись с попавшими в ловушку бойцами. Однако всего через несколько десятков метров он остановился. Впереди на повороте преграждала путь настоящая баррикада, сложенная из вывороченных кусков асфальта, покореженных остовов машин, снятого с колес грузовика и разбитого автобуса. Возле баррикады суетились люди в форме, водружая знамя с двуглавым орлом. Какой-то явный самоубийца в длинном плаще и с развевающимися на ветру длинными волосами что-то кричал, повернув лицо к Садовому кольцу, размахивал руками и приплясывал.
Вдруг раздался такой грохот, какого дядя на своем веку, пожалуй, и не слышал. Высотное здание гостиницы «Белград» расцвело, как будто озаренное изнутри салютом. Только это был, конечно, не салют, а супервакуумная бомба, уже знакомая Лазарю по прошлым войнам. Здание словно раскрылось изнутри, разрезанное взрывом пополам. Одна часть повалилась в сторону, а вторая аккуратно накрыла баррикаду вместе с ее защитниками. Обломками попутно завалило несколько этажей противоположного корпуса и стоящих рядом домов. Когда дым и пыль рассеялись, а это произошло нескоро, ландшафт Плющихи совершенно изменился. Вместо ровной улицы, заканчивающейся поворотом на кольцевую магистраль, параллельно Садовому кольцу в нескольких десятках метров от него легло бесформенное многометровое крошево из камней, металлических ломаных конструкций, стекла, бумаги и дерева с редкими вкраплениями человеческих останков.
Снова Лазаря поразило безмолвие, царящее на улицах столицы. Казалось, катастрофа никого не удивила. Ни одно окно не открылось, никто не вышел спасать погребенных и откапывать мертвых. Зато раздался тяжелый гул и над завалом появился вертолет, за ним второй. Грузные птицы перелетели развалины и закружились над широкой мостовой. Тонкой паутиной заблестели лестницы, по которым, ловко перебирая руками и ногами, спускались солдаты в полной военной амуниции.
Лина, которую разбудил грохот рушащегося здания, смотрела на происходящее с каким-то детским воодушевлением. Ее, так потрясенную гибелью задавленной танком семьи, вовсе не взволновала мысль о сотнях людей, безвинно погребенных под рухнувшими обломками здания. Лазарь не стал дожидаться, когда из чрева воздушных кораблей появится бронетехника, а резко включил задний ход и нажал на газ. Упрямый, когда дело касалось выполнения задания, он не оставлял все же мысли проехать в МИД. Не обращая внимания на то, что его машина была единственной крутящейся без настоящей брони по центру города, он съехал на набережную и завернул под мостом налево. Там вместо того, чтобы выехать на кольцо, они проскользнули мимо руин бассейна «Чайка» и задами попытались проскочить к торцу МИДа. Несколько раз стреляли вслед машине гражданские и военные лица, буквально на задворках МИДа путь перегородило небольшое бревно, по обоим концам которого стояли люди с винтовками. Лазарь принял решение мгновенно. Он выскочил с автоматом из «ниссана» и, открыв огонь, разогнал мародеров. Потом пустив машину на самой малой скорости, ловко переехал бревно.
Подбираясь к облупленной задней стене МИДа, они объехали толпу молодых ребят в спортивных костюмах с деревянными битами и клюшками в руках. Те стояли плотным кругом и только поднимали и опускали свои дубинки. Человек, весь в крови и белой пене, пролез было мимо одного из спортивного вида молодцов, но тот ударом ноги вновь загнал его в круг. На «ниссан» они не обратили никакого внимания и продолжали свое дело.
Лазарь подогнал машину к самой стене МИДа, выключил двигатель и, выходя, приказал девочке, пока оставаться в салоне. Снаружи яснее была слышна пальба и гул занимающей центр города бронетехники. Где-то вдали, за Окружной магистралью барражировали самолеты, там что-то ухало, взрывалось и блестело.
— Бомбят царский дворец, — догадался дядя, еще раз огляделся и, увидев, что двор пустынен, направился к ближайшей двери МИДа.
Подойдя к двери, Лазарь по понятным только ему признакам понял, что ею не пользовались уже минимум несколько дней. Вздохнув, он достал из бокового кармана куртки пистолет с привинченным к нему глушителем и расстрелял замки. После сильного удара ногой дверь отворилась. Дядя с племянницей проскользнули внутрь и прикрыли за собой дверь. Они оказались на лестнице, видимо, ведущей из столовой, потому что из подвала несло всеми пищевыми ароматами. Поднявшись наверх, они вновь оказались перед дверью, теперь уже открытой. Толкнув ее, родственники вышли в коридор, конец которого скрывался вдали. Бесконечная ковровая дорожка вела мимо обитых кожей дверей с номерами и табличками, на которых уже не было фамилий. Дядя толкнул наугад одну из дверей и попятился. Громадный полированный стол, занимавший добрую треть кабинета, был похож на разделочную доску для мяса. Хозяина кабинета, видимо, положили ничком на стол и потом добивали штыками.
— Какой там этаж блатной, — пробурчал Лазарь, пройдя уже с добрый километр и не увидев конца коридора. — Так без ориентира здесь можно идти годами.
— Одиннадцатый, — прошептала Лина. Она уже забыла о всех печальных происшествиях этого утра и жила только предстоящей встречей с Луцием.
Без приключений поднялись они на одиннадцатый этаж, вот только вместе с ними в кабине ехал очень молчаливый субъект в выходном синем костюме и сияющих ботинках. Поднимался он, сидя на полу кабины, и его голова клонилась вниз под неестественным углом. Приехав на нужный этаж, они вышли, а их попутчик остался в кабине, причем было ясно, что за один день он имеет возможность накатать по зданию министерства столько, сколько никогда бы не накатал при жизни.
Одиннадцатый этаж был точной копией подвального или первого, этого они не знали. И Лазарь решил, что нет смысла куда-либо отходить от лифта. Вор Егор должен был проделать точно такой же путь по улицам Москвы и не менее опасный по таинственному Римскому клубу, поэтому мог и припоздниться. Впрочем, Егор оказался человеком пунктуальным. Не прошло и пятнадцати минут, как распахнулись двери кабины, и из нее выскочил маленький вертлявый человек с выступающими вперед зубами и тонкой шеей. Он подскочил к Лазарю и стал его тискать, приговаривая:
— Не было бы счастья, да несчастье помогло. Где бы я тебя, старого разбойника, мог еще застукать.
— Егорушка! — растроганно бормотал дядя, похлопывая своего дружка по тощей спине. — Друг родной, где же мы вместе последний раз дохали?
— Да на Красной Пресне, в следственном изоляторе. По одному же делу шли. Али ты забыл? — изумился Егор. — А перед энтим в Сибири, в Новороссийской пересылке. При мне еще был килограмм шоколадных конфет, и я ехал, как король, до самой Забайкальской зоны. И недавно это было — в одна тысяча девятьсот девяносто четвертом году.
Вспомнив прошлое, старые воры вернулись в современный мир.
— Мальчик у ней там, — кивнул Лазарь на Лину, которая притулилась на стуле в углу, мечтая о скорой встрече. — Пацан, кстати, очень даже симпатичный. Без тебя нам в клуб не пройти и не выйти. Учреждение серьезное, и мы в нем будем как глухие.
— И слепые, — добавил Егор серьезно, — потому что Римский клуб, я вам скажу, не для случайных людей даже и старой воровской закалки. — Тут старик прервался и стал прислушиваться к чему-то очень еще отдаленному. — Кабина, кажись, едет, — сиплым голосом произнес он. — Как бы не к нам? Вовсе было бы нежелательно под разборку ментовскую вляпаться. Пойдем, брат, закроемся, авось прбнесет.
— Чего же при тебе дуры нет? — осведомился дядя с подозрением. — Какой же ты вор без дуры.
Егор молча раздвинул углы пиджака и показал заткнутый за пояс тонкий и длинный лучевой пистолет.
— Против взвода голов во сто солдатиков не сдюжим, — покачал он головой. — Я-то бы тряхнул стариной, да девка без нас не жилец.
— Понимаю, — отозвался Лазарь с неожиданным в таком рассудительном человеке сожалением. — Только ведь в кабине их не более десяти. Дверь откроется, а мы туда гранатку самопальную, всех и порешим, чтобы не катались.
— Если только так, — нехотя согласился Егор. — А ты, девочка, — обратился он к Лине, — дуй по коридору в первую дверь и там на ключик и заперися. Есть там ключик изнутри, я сам вчерась вставлял.
Лина ушла, а бывалые бойцы изготовились сбоку от лифта. Вот кабина уже оказалась этажом ниже и в самом деле пошла к ним. Егор достал свой лучемет ограниченного действия, а Лазарь вытащил из небольшого пластикового пакета аккуратный предмет, напоминающий не то луковицу из металла, не то шибко потертые старинные часы. Кабина поравнялась с ними и… проехала дальше.
— На следующем этаже тормознулись, — закряхтел Егор, крутя болыпеухой головой. — Ушлые бляди, не иначе нас скрадывают.
— А как узнали? — шепнул ему в ухо товарищ, и оба вора отступили с площадки в коридор.
— Да хули тут узнавать, — просипел ему в ухо Егор. — Тут и подслушки и гляделки на каждом квадратном метре помещения. — Я полагал, что разбили их при штурме, ан нет, видимо, за жизнь договорились с национал-русятами.
Гулко стукнул крепкий сапог в закрытую дверь, и хорошо знакомый голос Клюва произнес:
— Не стреляй, старый пень, уложишь нас без покаяния. Слышишь, входим.
Двери лифта распахнулись, и Клюв с Пашей появились в коридоре. У Клюва заплыл левый глаз, а Паша прихрамывал на одну ногу, но вид у обоих был донельзя довольный.
— Ушли вместе с кассой, — сказал Клюв вместо приветствия. — Солдаты как на первую обойму из моего еврейского папы накололись, — любовно похлопал он ствол «узи», лежащий у него на левой ладони, — так и сели на задницу. Офицерик им командует, а они ни в какую. Тут Паша отличился, нашел дырку всего-то ничего и пролез через нее наверх.
— Ухлопал офицера, — счастливо засмеялся Паша, — как на мишени снял!
— Ушли без единой царапины, — похвастался Клюв, — и общак весьма подрос.
— Это вы называете «без царапины», — хмыкнул Лазарь, — а Олега где потеряли?
— Царствие ему небесное, знатный пацан был, — перекрестился Клюв. — Еще братва поставит ему памятник на могиле.
— Ушел от нас Олег, — сказал Паша, потупившись и как-то теряя румянец. — По случайке кони отбросил. Фраер уже мертвый в него пальнул. От живого бы Олег извернулся.
Пока он рассказывал, как было дело, старые воры только качали головами, приговаривая: «Судьба, брат, судьба!»
— Где травмировались, — строго спросил Лазарь. — Опять пошли по баловству?
— Что мы, дети малые, — обиделся Клюв, — без команды в сторону не свернем. Задача же есть: Линку пасти. Какие-то ошалелые спортсмены навесили. Гурьбой шли мимо нас. Паша даже посторонился, так они его битой по ноге ошарашили. Пришлось немного задержаться. По-моему, одного насовсем положили за его ногу, да мой фингал.
— Ну что, братва, — предложил Егор после недолгого молчания. — Забираем дочку и шпенделяем вперед до моих хором в Римском клубе. Скажу вам по чести, ни в какой другой день, кроме нонешнего, вам бы в Римский клуб живыми не войти. Тут каждый человек под такой контроль ложится, что никакой чужой и близко не подойдет. А если и подойдет, то очень потом жалеет. Однако со вчерашнего дня оголен клуб, вся охрана ушла царя добивать, поэтому пройдем мы внутрь безо всяких хлопот. Кроме того, по моим понятиям, идет там в главном корпусе бойня, только кто кого бьет, пока неизвестно. Вперед, братва, пока лифты нас возят. А то электричество отключат, зависнем над Москвой и сгнием без покаяния.
Вызвав лифт, бандиты все в него погрузились и, на всякий случай держа оружие наготове, направились вниз.
8. БИТВА ВО ДВОРЕ
В то время как самые кровожадные хищники атаковали поклонников Сатаны, их менее осторожные могучие соседи, привлеченные беспорядочной пальбой и криками восторга возвращающихся легионеров, бросились во двор. Расстреляв в салюте последние патроны, бойцы закрыли ворота и, побросав возле них огнестрельное оружие, вход с которым в Римский клуб был запрещен, окружили Хиона и Стефана Ивановича.
Унизанные венками триумфаторы гордо и взволнованно отвечали на горячие поздравления, когда были сметены не разбирающими дороги животными. Оказавшись запертыми в замкнутом пространстве и возбужденные видом крови и криками первых раздавленных жертв, два громадных черных носорога и бегемот начали охоту за людьми.
Одной из первых жертв нападения стал Хион. Он разговаривал с директором лицея, который с огромным интересом разглядывал золотой талисман с гигантским рубином на крышке. Медальон с собственным портретом Хион всегда носил на толстой золотой цепи и надевал только в самых торжественных случаях. Стефан Иванович давно положил на него глаз и только искал случая обменять на что-либо из ряда вон выходящее: красивого девственника или вновь изобретенное оружие, которое по его заказу безуспешно разрабатывала лаборатория. Внезапно Хион замолк на полуслове с открытым ртом и с лица его мгновенно сошла краска. Он хотел поднять правую руку и не смог. Директор лицея с ужасом увидел, что из груди предводителя в том самом месте, где висел талисман, вдруг вырастает длинный костяной рог. Он прекратил расти прямо перед глазами Стефана Ивановича, и тот в изумлении разглядывал его покрытый кровью кончик. Потом рог исчез и унес с собой Хиона.
Крики боли, визг, рев взбесившихся животных достиг ушей директора лицея. Он огляделся. Прямо у закрытых ворот громадный зверь рвал на части тело какого-то злополучного легионера. В этом монстре, похожем на вставшую на дыбы чудовищную лягушку, Стефан Иванович узнал бегемота. Справа от него черный, с опущенной мордой носорог яростно мотал головой, стараясь вырвать рог из тела Хиона. Второй носорог держал бой с целым отрядом легионеров, вооруженных ножами и немногими кинжалами. Однако бой был неравный. Оружие без особого результата соскальзывало с толстой шкуры зверя.
Оглядевшись, директор лицея пришел к выводу, что оборону организовать не удастся, а надо пробраться к воротам в город и открыть их. С этой целью он попытался собрать обезумевших от страха людей, но вскоре понял, что ничего не добьется. В это время Фортуна, казалось, повернулась к легионерам лицом. Носорог, который только что проткнул Хиона, освободил-таки рог от измятого трупа и устремился вперед. В слепой ярости он наскочил на бегемота, и два гигантских зверя вступили в схватку друг с другом, не обращая внимания на мелькающих вокруг них людей.
Третий же носорог получил-таки проникающие ранения в туловище и даже в верх незащищенного брюха и, выбившись из сил, медленно продвигался вперед, пошатываясь из стороны в сторону. Однако паника не прекращалась. Легионеры так тесно сгрудились у закрытых изнутри дверей в Римский клуб, что полностью закупорили все подходы и только мешали друг другу. Пока одни из них крушили дверь, другие, работая кулаками и рукоятками ножей и кинжалов, пытались прорваться сквозь толпу подальше от двора, усеянного трупами людей, третьи, поняв бесперспективность попыток, поодиночке устремлялись ближе к воротам. Так вокруг Стефана Ивановича собралось уже несколько десятков уцелевших, когда ситуация во дворе снова изменилась. Сначала упал и покатился набок раненый носорог. В своем падении он увлек на землю и смял несколько легионеров, но, раз упав, уже не мог подняться и только слабо перебирал ногами.
К сожалению, подойти к воротам оказалось невозможно, потому что схватка гигантских зверей проходила прямо на площадке перед ними. У Стефана Ивановича и его людей была единственная возможность спастись — это напасть на зверей, пока они были заняты друг другом, но он, увидев, что с одним носорогом покончено, и не соображая, какова на самом деле сила и неуязвимость грозных животных, непростительно промедлил. Директор лицея соблазнился талисманом, который слетел с шеи Хиона и лежал на земле, бросая кровавые отсветы на изуродованные трупы людей, усеявшие двор. Стефан Иванович подбежал к нему, схватил… и очутился прямо перед мордой бегемота, который, спасаясь от преследовавшего его носорога, сделал круг и оказался в отдаленном углу двора.
Директор лицея швырнул ненужный талисман прямо в разинутую пасть зверя и побежал. Он бежал так быстро, как никогда не бегал даже в дни своей спортивной молодости, но бегемот бежал еще быстрее. Не иначе Стефан Иванович чем-то его приворожил, потому что, не обращая внимания на осыпающих его ударами легионеров и на своего прежнего врага — носорога, который тщетно ревел у ворот, бросая ему вызов, бегемот шутя, в три прыжка, догнал человека, ухватил его громадными клыками за плечо и подбросил по ходу движения, мотнув головой вверх. Стефан Иванович замахнулся специально приготовленным кинжалом, но как-то мгновенно и безболезненно очутился на земле. Гигантская туша раздавила его и, не обращая внимания на случившееся, снова побежала по кругу. Из груди бегемота, словно иголка из спальной подушки, торчал маленький кинжальчик директора лицея. Последний уже не видел, как на сдавленных у входа в клуб легионеров набежал, брызжа кровью и пеной, упустивший добычу носорог и раздавил под собой сразу несколько человек. Раз за разом он бросался на кучку людей, пока вместо них не осталась кровавая стонущая каша. Бегемот, видимо, до этого проткнутый рогом своего врага, наскочил на второго, издыхающего носорога и упал рядом с ним.
Несколько человек, еще живых, но тяжело раненных, пытались отползти в сторону, разгребая руками раздавленные тела и замирая, когда топот бочкоподобных ног сообщал им, что носорог рядом. Однако никому из них не суждено было остаться в живых, потому что привлеченные запахом свежей крови, проломив ослабленные двери, во двор с громким урчанием влетели несколько гигантских кошек — леопардов и тигров. Сначала они набросились на трупы, а потом, одурев от обилия пищи, стали играть еще с живыми, беспомощными людьми, словно кошки с мышами. Оставшийся в живых носорог вначале нападал на них, но потом понял безнадежность своих атак, от которых тигры лениво уворачивались, убежал в коридор вместе с другими животными и устроил бойню оставшимся в живых обитателям первого этажа и подвала.
Потом, когда проводилось властями Москвы дотошное расследование, никто так и не смог объяснить, зачем понадобилось в Римском клубе такое количество крупных хищников, почему клетки оказались открыты, а звери, как нарочно, три дня не кормлены, и только погибший Хион мог бы поведать, что зверей готовили для расправы с плененными монархистами.
Василий, несмотря на все просьбы покровителя участвовать в триумфе, не захотел выйти из своей спальни. Он валялся, как и все последние дни, до двенадцати часов в постели, без интереса рассматривая свою «Хонду», на которой так и не удосужился проехаться. Надо сказать, что Хион нанял ему инструктора по вождению мотоцикла, с которым мальчик каждый день занимался почти целый час. Правда, до вождения дело не дошло, но инструктор неоднократно показывал Василию, как заводить мотоцикл, как на нем ездить, и однажды даже посадил за руль, а несколько раз мальчик упражнялся в езде на одном месте.
Сегодня, когда он точно знал, что на этаже кроме него всего может быть несколько человек, Василий решил без помех доехать на «Хонде» по длинному коридору от своей спальни до трапезной. Выбравшись из шкафа, в котором он спрятался от брата, мальчик подошел к своему мотоциклу и завел его именно так, как это делал его учитель, а потом на малом ходу поехал по бесконечному коридору. Рев двигателя и чудесное ощущение полета-езды на мощном, подчиняющемся малейшему повороту руля аппарате так его заворожили, что он не слышал крики людей, в основном поваров с кухни, на которых напали два леопарда-гурмана.
Однако на повороте мальчик вынужден был сбавить скорость и случайно оглянулся. Он увидел, и это ему показалось продолжением утреннего сна, что за ним, опустив большую голову, бежит пятнистый зверь, медленно перебирая лапами и держа на отлете длинный прямой хвост. Если бы Василий мог притереть глаза, он бы сделал это, но ему было никак не оторвать руки от руля. Сначала он сбавил скорость почти до нуля, но зверь, уже подбегая, вдруг встал на задние лапы и рыкнул. Жаркое дыхание опалило Васин затылок, он поддал газу и помчался по коридору, не замечая, что леопард, увидев ускорение мальчика, не стал его преследовать, а, презрительно фыркнув, вернулся на кухню, где вповалку лежали задранные повара и сбитые с крюков мясные туши. Не ведая, что преследование прекратилось и он в коридоре один, Василий в панике все увеличивал скорость. Ему казалось, что звериные лапы уже ложатся ему на спину, а зловонное дыхание все также опаляет затылок.
«Хонда» легко поддавалась его усилиям и, ревя громче тигра, мчала его с огромной скоростью навстречу крутому повороту. Поворачивать на скорости Василия никто не учил. Когда он увидел, что перед ним стена, то изо всех сил нажал на тормоз. Мотоцикл опрокинулся, и неопытный наездник со всей скорости полетел через руль в открытое окно. Он широко раскинул руки, словно пытаясь задержаться, и так парящей птицей вылетел навстречу солнечному дню.
9. ТУННЕЛЬ
Никто, кроме вора Егора, не смог понять, как банда очутилась вовсе вдалеке от здания МИДа, на тихой улочке, которая вывела их на площадь, всю усеянную тлеющими головешками и золой.
— Однако Даниловский рынок здесь был, — крутанул головой Лазарь, оглядываясь. — Весело его сожгли.
— Видать и пограбили, — оживился Клюв. — Рынок был знаменитый, хавки, шмоток хоть жопой ешь. Чего это мы вечно еблом щелкаем?
— Гвардейцы тут дрались с мятежниками, то бишь националами, — сообщил молчавший до сих пор Егор. — Вчера сражение происходило, и ряды торговые сожгли они, можно сказать, бескорыстно. Ни один хрен на этом не поживился, да мало кто и в живых остался. Так что, не завидуй, малый, чужому горю.
Давайте, ребятки, думать, — продолжал Егор. — Без правильной идеи в живых нам сегодня не быть. Или те, или другие обязательно подстрелят или возьмут на цугундор. Но это вряд ли, потому что есть приказ всех вооруженных чужих расстреливать на месте, а у нас на пятерых минимум десять стволов. Есть у нас два пути: или экспроприировать машину потому, что за своими идти далеко, да и бесполезно, или пройти внизу по туннелю метро. Должен вам сказать, что второй путь безопаснее, хотя и там могут ребятки из подземных городов глотки перерезать, уже бывали случаи такие. Поверху же ехать — точно попасть в переделку, зато быстро.
— Слушай, отец, — обратился к Егору Паша, — а дрезину в метро нельзя позаимствовать или электричку захватить. Как бы нам совместить полезное с приятным?
— Можно-то, можно, — после некоторого раздумья отозвался Егор, — только что с энтой дрезиной делать? Рельсы под землей во многих местах разобраны или взорваны, а если целые, значит, под них подложена взрывчатка. Там ходить можно только пешком.
— Сколько же нам надо станций пройти? — спросила Лина, которая до сих пор молчала, все еще приходя в себя после утреннего приключения.
— Да всего три, — невозмутимо ответил Егор. — С одной ночевкой, если не будет больших завалов, и доберемся до Каширки.
— А поверху за полчаса, — задумчиво произнес Лазарь. — Ну что, братва, рискнем!
Подходящий автомобиль они нашли не сразу, в третьем по счету дворе, расположенном позади самого большого в Москве здания, в котором теперь жило несколько десятков тысяч человек. Все эти люди существовали очень тихо, и никто не вышел протестовать, когда банда, обнаружив зеленый свеженький автомобильчик, занялась им всерьез. Трудно сказать, кто мог пользоваться таким транспортом в многоэтажном доме, когда распределением последних литров горючего занималось правительство. Был это, несомненно, человек не простой, однако не вышел он на вопли и стоны сигнализации, утихомирить которую удалось, лишь пробив изнутри датчик пистолетным выстрелом.
Все пятеро погрузились в машинку, и Лазарь в экстазе от стрелки, указывающей на полный бак горючего, мягко тронулся с места. Огромным желанием его было не выезжать на основную магистраль, а проехать задами, и на протяжении первых нескольких кварталов ему удавалось эту позицию выдерживать. Однако, обогнув несколько многоэтажных домов, население которых тупо провожало взглядами столь редкое в их обиходе транспортное средство, они оказались вынуждены либо окунуться в дебри нежилых кварталов, либо выезжать на основную магистраль.
— Поехали, — махнул рукой Клюв, видя, что старая гвардия колеблется. — Всего-то нам пятнадцать минут езды, и мы у цели, да и того меньше. Авось проскочим!
Они выехали у виадука на Каширское шоссе, и снова их поразила особенная пустота и тишина города, не сравнимая даже с его обычным запустением. Егор вертел головой во все стороны, остальные бандиты сидели настороженно, сжимая в руках оружие и мечтая скорее очутиться под защитой любых стен чуть потолще, чем жестяные стены салона.
Беда пришла неожиданно. Едва Лазарь успел набрать скорость, как вдалеке послышался гул, и Паша, вытаращив глаза, протянул вперед руку, показывая на бегущую уже перед ними гигантскую тень вертолета. Дядя резко увеличил скорость и молился, чтобы вертолет оказался мирным, летящим по своим делам. Прямо перед ними уже тянулся спуск в туннель, когда впереди с нетерпимым для ушей грохотом, расцветая фантастическими языками огня, взорвалась акустическая бомба. Упади она ближе, для экипажа все было бы кончено, но бомба взорвалась с большим недолетом и скорее ослепила всех, чем оглушила. Только у двоих — Егора и Клюва из ушей появилась кровь и то ненадолго. При следующем взрыве они уже были в туннеле и, не снижая скорости, выжимая все возможное из двигателя, рвались вперед. Однако, не доезжая двух десятков метров до выезда из туннеля, Лазарь затормозил.
Вертя головами и делая глотательные движения, все, кроме Лины, вышли из автомобиля и стали держать совет. В туннеле пахло болотом и ржавчиной, спущенная дядей назад машина стояла посреди длинной и глубокой лужи, однако никто этого не замечал. Все говорили громко, почти кричали, но после звуковой бомбы с трудом слышали себя и других.
— Надо немедленно убираться! — визжал Егор. — Этот сукин сын подождет минуту-другую, а потом вызовет танки.
— Как ехать? — хмуро кричал ему в ухо Лазарь. — Звуковой бомбе никакие затычки не воспрепятствуют. Тут нужен специальный шлем. Поэтому нам без какой-либо хитрости не выбраться.
— А хитрость простая, — завопил Клюв, да так громко, что девочка испугалась, не услышат ли его с крутящегося над толщей земли вертолета. — Две снайперские винтовки, да добрый придел — и он наш! Паша, выходи, брат, из транса.
Бывший боксер, который не переставая тер уши и ругался про себя, вытащил сноровисто из машины объемистую сумку, поставил на капот и стал собирать из нескольких труб нечто похожее на телескоп. Правда, было неясно, зачем телескопу спусковое устройство и куда девались из него линзы. Собрав свое оружие, Паша вставил в него снаряд, напоминающий мужской член с оторванной мошонкой, и пошел, точнее, побрел по воде к ближайшему выходу. Из той же волшебной сумки Клюв вместе с дядей вытащили обыкновенный многозарядный карабин и снабдили его, умело привинтив, оптическим прицелом. Клюв схватил карабин, несколько раз прицелился в закопченный свод и побежал к другому выходу.
После этого наступила долгая тишина. То ли вертолет так неудачно скользил над туннелем, что не было возможности в него прицелиться, то ли по каким-то другим причинам, но ни Паша, ни Клюв не проявляли признаков жизни. Егор и дядя с нетерпением ждали хоть каких-нибудь результатов вылазки, но потом плюнули, забрались в машину и вновь стали держать совет.
— Осталось нам езды раз плюнуть, — горячился Егор. — Зови ребят, газанем под сто пятьдесят и через три минуты мы в клубе!
— Или в морге, — огрызнулся Лазарь. — Пойми ты, я за девчонку отвечаю перед братом, разве я могу ею так рисковать. Вот Клюв вернется, расскажет обстановку, может, вертолет подобьют или еще что, тогда и газанем.
Егор развел руками и сказал, что пойдет проведает Пашу. Только он сделал несколько шагов, как сильный взрыв потряс свод туннеля. С потолка и стен посыпалась штукатурка, погас еле брызжущий электрический свет, и все смолкло. Лазарь включил фары и на первой скорости поехал вперед. Егор вытащил свой лучевой пистолет из кобуры и, держа его двумя руками, медленно шел перед машиной, вглядываясь в просвет. Дойдя почти до выхода, он показал дяде скрещенные руки, что тот понял как сигнал остановиться. Сам Егор со всевозможными предосторожностями подошел к выходу из туннеля, но тотчас отпрянул назад и, рванув на себя дверцу машины, закричал ошеломленному Лазарю:
— Гаси свет, Пашка вертолет подбил!
— Где он, — спросила девочка, которая из всех подручных своего папаши выделяла Пашку за твердый характер и открытый нрав.
Дядя очумело выключил фары, и все очутились в темноте. Правда, впереди виднелся выход из туннеля, но был он таким тусклым и расплывчатым, что Лине показалось: ехать до него многие километры.
Девочка повторила вопрос, и тогда Егор, виновато отвернувшись, пробурчал, что, мол, Паша свое дело сделал, а летчики тоже не вовсе идиоты, и перед падением нажать рычаг и провести бомбометание — пара пустяков. Только Лина стала соображать, что все его бормотание просто-напросто означает, что Пашу она никогда больше не увидит и боль от новой потери начала в нее проникать, как сзади, у въезда в туннель, послышались выстрелы и взрывы гранат.
— Это Клюв отбивается! — закричал дядя и выскочил из машины. Обежав ее, он открыл дверцу и сунул Егору ключи. — Я вместе с Генкой задержу солдат, — сказал он задыхающимся быстрым шепотом, — а ты рви когти. Езжай в клуб, старый мошенник, и девку передай ее парню. Все, брат, до следующей встречи в аду!
Схватив автомат, старый вор бросился к въезду в туннель, где выстрелы раздавались все чаще, а эхо разносило их все громче. Егор буквально прыгнул на водительское место. С ревом и скрипом машина рванула вперед и стремительно миновала место, где отброшенный взрывом на мостовую лежал, еще сжимая в руках ненужную более трубу, Пашка.
Буквально через две минуты бешеной езды они были уже у величественного здания перестроенного Онкологического центра. Казалось, никто за ними не следовал, но когда Егор оглянулся, то заметил далеко за спиной стремительную серую точку. Не успели они въехать на территорию Римского клуба, как точка увеличилась в несколько раз и стала их нагонять.
Егор решительно припарковался прямо у закрытых ворот и, схватив девочку за руку, бросился бежать вдоль гигантской стены под прикрытие расположенной под вестибюлем стоянки для машин. Они по длинной лестнице сбежали вниз и очутились на широкой площадке, со всех сторон заставленной машинами со знаком «РК» — Римский клуб. Вор, знающий в гараже все ходы и выходы, по-прежнему не выпуская Лининой руки, пробежал открытое пространство между рядами машин и нырнул в маленькую неприметную дверцу, которая вновь плотно закрылась за беглецами.
Тотчас они оказались в пылающем аду. Густые клубы дыма повисли над ними, где-то трещало и ревело пламя, поглощая внутренности главного корпуса. Стало нечем дышать. На ощупь Егор смог найти выход и выскочить обратно во двор.
— Римскому клубу конец, — высказал свои соображения Егор, наблюдая, как горят и пламенеют окна последних этажей. Однако второй корпус, по-моему, цел.
Он запрокинул голову, внимательно осматривая гигантский второй корпус, и тут Лина заметила высоко в небе фигурку, медленно перебирающую руками и ногами.
10. ПОЖАР
Услышав безумный крик брата, последовавший за грохотом взрыва мотоцикла, Луций бросился к грузовому лифту. Когда он выскочил во двор, бойня была уже полностью завершена. Возле ворот одиноко стоял, оплакивая погибшую самку, вернувшийся к ней носорог. С обрубка его рога стекала на землю кровь. Наконец, расчистив месиво из тел, он лег рядом с ней, брюхом к брюху, а мордой к входу в здание.
Юноша нашел брата по ковбойскому костюму, о котором тот мечтал всю жизнь. Все было цело: брюки с бахромой, кожаные сапожки, пояс с игрушечным револьвером, выглядывающим из-под джинсовой куртки, даже шляпа висела на спине, только белесые волосы почернели от запекшейся крови, а когда Луций повернул брата к себе лицом, то не увидел на нем черт, смятых ударом о каменные плиты.
В гнетущей тишине одиноко прозвучал выстрел, и Луций, непроизвольно выпустив из рук тело брата, схватился за левое плечо. С шестнадцатого этажа донеслись крики и рыдания. Юноша поднял голову и увидел в окне Лиз, направляющую пистолет на себя.
Пока Луций спускался к брату, девочка решила отомстить ему за смерть матери и устроенное в клубе побоище. Она взяла найденный юношей спортивный пистолет, подошла к выходящему во двор окну, тщательно прицелилась и выстрелила. Она видела, что попала, и теперь ей осталось свести последние счеты с жизнью.
— Нет! — закричал Луций. — Ты должна жить! — С этими словами он поднялся и пошел к занимающемуся пожаром от загоревшегося мотоцикла зданию.
Носорог поднял голову, поглядел налитыми кровью глазами на юношу, но не стал сниматься с места. Во двор хлынули прибывшие на помощь атакованным вооруженные мятежники, и зверь, тяжело вздохнув, двинулся на них.
Хотя в здании уже довольно сильно тянуло гарью, грузовой лифт все еще работал, и Луций, не задумываясь, взлетел на шестнадцатый этаж. Едва завидев его, Лиз радостно закричала: «Живой! Живой!» — и бросилась к юноше. Она обнимала его, целовала и, то смеясь, то плача, причитала: «Родной мой! Милый! Как я могла!»
Луций, не зная другого выхода, крепко прижал к себе девочку здоровой рукой, и она, прильнув к нему всем телом и положив голову на грудь, счастливо затихла. Пробираясь по вентиляционным каналам, огонь грозил перебраться и на их этаж. Юноша схватил девочку за руку, и они бросились к лестнице, чтобы спуститься к переходу в соседнее здание.
Пуля только обожгла Луцию кожу, но боль была жгучей и никак не проходила. Пробежав два пролета, он понял, что должен остановиться и перевязать рану, если не хочет истечь кровью. Они вскочили в первую попавшую комнату, где, кроме ковров и одинокого ложа, ничего не было, и затворили за собой дверь. Юноша скинул куртку, и Лиз тщательно перетянула ему кровоточащую рану куском содранной с кровати простыни. Перед этим она продезинфицировала плечо невесть откуда взявшимся пузырьком с йодом, отчего Луций чуть не потерял сознание. Однако им надо было торопиться, потому что с каждым мгновением в комнате усиливался запах гари и за окном уже начали восходить черные клубы дыма.
Юноша осторожно подошел к двери и замер от какого-то шума в коридоре. Жестом он приказал девочке молчать и оглянулся по сторонам в поисках оружия. На ковре над ложем висела, зацепившись рукояткой за один гвоздь, а изогнутым кончиком за другой, восточная сабля с обнаженным клинком и украшенной серебром рукоятью. Живо прыгнув на кровать, Луций снял ее и, опершись на саблю здоровой рукой как на трость, шагнул вниз. В этот момент дверь отворилась, и в нее влетел спасающийся от преследования мужчина в форме легионера.
Тяжелый рык зверя послышался за дверью, и она содрогнулась от мощного удара тяжелой лапы. Не обращая внимания на Луция и Лиз, легионер изо всех сил сдерживал дверь. Юноша подумал, что независимо от того, поведет себя незнакомец как друг или враг, в тесной комнате у них практически нет шансов на сопротивление могучему зверю. Он подошел сбоку к расширяющейся щели и изо всех сил погрузил в нее острие сабли. Послышался крик, точь-в-точь напоминающий человеческий, и натиск на дверь ослаб.
Мужчина оглянулся, отбросил ненужный обломок копья, который зачем-то держал в руках, и как сумасшедший бросился к ложу. Пыхтя и стеная, он придвинул его к двери и с трудом, в одиночку стал поднимать стоймя, желая укрепить таким образом свою баррикаду. Поняв, что Луций не собирается ему помогать, он скверно выругался и закричал:
— Идиот! Ты чего стоишь? Они через пять минут вернутся с подкреплением! Тащи кресло. Мы подопрем дверь.
Отученный за последнее время получать команды, Луций вспыхнул и промолчал. Он только переложил саблю в здоровую правую руку и ткнул безоружного легионера острием сабли в грудь.
— Разбирай свое заграждение, — сказал он спокойно, — кто бы ни вернулся по твою душу, боюсь, что раньше сюда придет огонь.
Его спутница втянула обеими ноздрями воздух и закашлялась.
— Торопись, — продолжал юноша, — здание горит, и единственная наша надежда — это через переход пройти в другой корпус. Что касается Римского клуба — ему крышка.
С неимоверным усердием легионер, подбадриваемый Луцием, стал разбирать баррикаду. Его замешательство и страх с каждой минутой усиливались потому, что ветер переменился и черно-серые клубы дыма обложили окно. Однако когда проход был освобожден, никто не стал торопиться.
— Кто тебя преследовал, — спросил Луций, — звери или люди?
— Какие звери, — раздраженно отмахнулся легионер. Он хотел подобрать обломок копья, отброшенный вгорячах, но юноша заступил ему дорогу. — Меня окружили какие-то монахи. Они уже перебили уйму народу, а теперь добивают тех, кто сумел уцелеть. Я оторвался от них, — похвалился мужчина, — потому что я чемпион легиона по бегу в полном снаряжении, а вся моя когорта погибла. Надеюсь, пожар их задержит.
— Стало быть, звери остались внизу, хотя бы в своем большинстве, — возблагодарил судьбу Луций. — Иначе мы недалеко бы ушли.
— Позвольте мне отправиться с вами, — попросил легионер. — Одному сейчас невозможно спастись, а если ты возвратишь мне копье, мы, во всяком случае, сможем дорого продать свою жизнь.
Луций скептически на него посмотрел. Легионер был рыжий, коренастый, с простодушными голубыми глазами. Похоже, он был не из тех, что наносят коварный удар в спину, а прямого столкновения юноша не боялся. Наклонившись, он швырнул мужчине сломанное копье и осторожно приоткрыл дверь. Сразу же они услышали треск пожара и тяжелые клубы горячего дыма обволокли их. Откуда-то снизу неслись вопли и вой сгорающих заживо животных и людей. Во весь дух небольшой отряд бросился по коридору. Они подбежали к грузовому лифту в тот самый момент, когда в конце коридора уже начал коробиться и вспыхивать паркетный пол. Дрожащей рукой юноша нажал кнопку вызова, и, к удивлению его, она загорелась. После короткого гудения двери отворились, и они влетели в кабину. Сразу же в лифт наволокло столько дыма, что стало трудно дышать.
Помолившись Предвечному и перекрестившись, Луций нажал кнопку десятого этажа, ничуть не веря в благополучный исход. Кабинка помчалась с треском вниз, но, пролетев два или три этажа, остановилась. Юноша и легионер изготовились и с замиранием сердца стали ждать, кто ворвется в лифт. Однако площадка была пуста. Цифра одиннадцать горела над дверью. Луций непрерывно нажимал кнопку десятого этажа, но лифт, казалось, умер. Все попытки двинуться на нем были безуспешными.
Лиз первая вышла из лифта и крикнула юноше:
— Лучше нам пойти пешком, потому что, если нас заклинит между этажами, мы изжаримся на медленном огне. И вообще при пожаре лифт — это самое опасное место.
— Как ты? — спросил ее Луций, видя что девочка побледнела и потирает раненую ключицу левой рукой. Сам он при энергичном бегстве сбил повязку, и теперь рану саднило и жгло.
— Ты меня не бросишь? — не обращая внимания на легионера, девочка вдруг обняла юношу и крепко прижала к себе. — Когда ты рядом, вся боль у меня проходит.
Луций нетерпеливо отстранил ее.
— Дурочка, — сказал он нежно. — Не для того я тебя вытаскивал, чтобы бросить. Ты еще будешь учиться в своем лицее, так же, как и я в своем. Только я уверен, что этот лицей уже не будет называться римским.
— Хватит любезничать, — прервал их излияния легионер и взял обломок копья с торчащим медным острием на изготовку. — Успеете еще намиловаться, а сейчас надо выжить. — Он ткнул копьем вдаль коридора. — Пойдемте скорее!
Однако коридор, по которому они попытались бежать, скорее подходил для бега с препятствиями. Видимо, недавно здесь шло сражение, потому что кругом валялись вырванные взрывом обломки, куски штукатурки, присыпанные пылью трупы людей и обломки мебели. Немало минут они потеряли, штурмуя громадный трехстворчатый шкаф, который наглухо закупорил коридор. Пришлось большим куском каменной стены с торчащей из него арматурой вышибать среднюю дверь, а потом протискиваться сквозь узкое темное пространство, забитое платьями, костюмами, шубами и сыплющимся постельным бельем.
Луций, орудуя здоровой рукой, шел первым и думал, что они будут делать с задней стенкой шкафа, пробить которую было уже нечем. К счастью, никаких стенок больше не было, и, отстранив от себя последнее шелковое платье, юноша прямо из шкафа шагнул снова в коридор. Тут его ноги запутались в рваном белье, он перевернулся через голову и, не выпуская сабли, упал на пол. Шаря в поисках опоры, он вдруг ощутил на плечах чудовищную тяжесть и услышал приглушенные проклятия легионера, который с размаху сел ему на плечи. На легионера упала Лиз, и все трое долго ворочались на заваленном одеждой полу, пока не смогли освободиться.
Юноша поднял голову и увидел, что его лицо находится прямо на уровне чьего-то сапога. Он приподнялся и чуть не угодил в жаркий дымный костер, вокруг которого сидели трое мужчин в форме легионеров. Они давно и весьма скептически наблюдали за судорожными передвижениями Луция и его команды, но не делали никаких попыток вмешаться. Юноша сел на корточки и тут же ощутил, что чья-то рука сует ему рукоятку отброшенной им в свалке сабли. Сразу обретя уверенность, он оперся спиной о стену, чтобы мгновенно вскочить, если понадобится, и внимательно оглядел рассевшихся вокруг костра людей. Не обращая на него никакого внимания, один из них встал, перепрыгнул через огонь и стал срезать с туши громадного, неподвижно лежащего животного куски красного мяса. Его товарищ ловко нанизывал мясо на острые кусочки дерева и расставлял на самодельных рогульках, вбитых в пол с обеих сторон костра.
Идиотизм этих людей, которые, ни о чем не думая, жарили мясо, рискуя через несколько минут сами быть зажаренными, потряс юношу. Лиз села рядом с ним, плечо к плечу, инстинктивно чувствуя, что жарившие мясо люди не опасны. Молчание затягивалось и один из легионеров прервал его самым простым способом. Не спрашивая, он сунул Луцию, признав в нем старшего, длинную щепку с нанизанным на нее уже прожаренным красно-черным куском мяса.
— Пить будете? — спросил его товарищ и, не дожидаясь ответа, швырнул юноше через костер круглую бутыль с забитой в горлышко пробкой.
Луций неловко поймал ее здоровой рукой и прижал к себе.
— Дай мне, — оживился легионер и вытащил бутылку из онемевшей руки юноши.
Луций передал Лиз расщепленный кусок дерева, играющий роль шампура, и перевел взгляд на знакомый профиль сидящего боком к нему человека.
— Никодим, — сказал он без всякого выражения, устало глядя вдаль, — вечно ты попадаешься на моем пути. Хочешь пей, — обратился он к попутчику, — а мы сгорать не собираемся.
— Торопыга, ты мой торопыга, — ответил ему Никодим, глядя в сторону, — вечно себе лучшую бабу подберет и смотрит монахом! Десятый этаж перекрыт, там монахи воюют с легионерами. Знатно бьются, молодцы!
— Вы же сами легионеры, — сказал Луций подозрительно, — чего же вы тут ждете?
— Да ничего, — проговорил Никодим безразлично. — Если хочешь быть убитым, иди. Никто тебя, брат, не держит.
И это слово «брат» воскресило в Луции все, что он питал к Никодиму: от самого плохого, до почти родственного.
— Не откажи мне, друг, выпей за помин души брата моего Василия, который погиб час назад.
Никодим только посмотрел на него и подставил обломок стакана под струю белой влаги, текущей из бутылки.
— Сегодня многие погибли, — сказал он без всякого выражения, — и еще многие погибнут до того, как солнце угаснет. Пусть земля будет пухом брату твоему.
Луций ждал, что его старый друг и недруг начнет расспрашивать о гибели Василия хотя бы из вежливости, но тот молчал, неподвижным взглядом уставясь в огонь. Вглядевшись, Луций поразился, как сдал Никодим за последнее время. Чеканные его черты как бы притухли и смягчились, волосы поредели, а широкие плечи безвольно опустились. В самой позе юноши били в глаза горечь и уныние, не свойственные прежнему веселому и дерзкому плуту.
— Что вы, бля, за люди русские?! — вдруг спросил Никодим, не меняя положения. — Только к вам приходит власть полиберальнее, вам ее сразу ногами затоптать и плясать на собственных костях. Я — татарин — боролся против ваших националистов, как мог. В итоге царя свергли и вырос новый бобон — четвертый Рим. Даст этот Рим своим согражданам по мозгам. А согражданам только бы плетей по жопе да пойла в глотку. И счастливы!
Луций молча пожал плечами, чем еще более озлил Никодима.
— Ты видел Хиона — хозяина Римского клуба? — спросил тот. — Это он на пиру так выпендривался. А теперь для него вся страна — обеденный стол, и начнут хионы валять кровавую ваньку.
— Хион не начнет, — вяло отозвался разморенный теплом и жареным мясом Луций, — его бегемот слопал.
— Бегемот слопал! — От восхищения Никодим привстал с места и вдруг зашелся злым хохотом. — Народный фольклор, ей-богу! С какого спрашивается хера травоядный бегемот сожрет такого жирного Хиона?
— Всех сожрал, — отвечал его друг кратко. — Ты бы пошел вниз и посмотрел. Я зверей выпустил из клеток, — сказал он устало. — Правда, сейчас их самих огонь дожирает.
— Каких еще зверей? — вскинулся Никодим, но потом махнул рукой и снова уставился на огонь. — Впрочем, какая разница! Одного Хиона слопали, а другие слопают и бегемота и носорога…
Его слова перебили шум и выхлопы огня, которые прорвались сквозь паркетный пол и теперь липли уже к стенам коридора. Пока еще дым стелился только в начале коридора у окна, но ясно было, что через несколько минут расположившихся вокруг огня людей ждет мучительная смерть в пламени.
Не выпуская бутылки, Никодим поднялся с места и стал отдавать четкие и единственно возможные в данной ситуации приказы. Предварительно он объяснил Луцию, что на последнем этаже в противоположном от грузового лифта конце устроена канатная дорога, используемая для интимных визитов членов клуба.
Через несколько минут, оставив занявшийся пламенем коридор, они отступили на площадку. Лестница на семнадцатый этаж оказалась свободной, и по команде Никодима солдаты выстроились за ним, держа в руках копья и мечи. Замыкали шествие Лиз и Луций, которые не могли принять участия в схватке. Все этажи были разбиты до основания. Монахи постарались на славу, уничтожая аппаратуру, людей и мебель. Стояла полная тишина, прерываемая только треском загорающегося паркета.
Пройдя половину последнего этажа и заглядывая в поисках канатной дороги во все уголки, они в конце концов вбежали в анфиладу комнат, представлявшую собой нечто вроде клубного музея.
На стенах и полу висели и валялись холсты, статуи с отбитыми руками и ногами, осколки стеклянных витрин, какие-то маски и разрезанные гобелены. На персидском ковре распластались пронзенные копьем обнаженные мужчина и женщина. Изящные ножки оплетали бедра мужчины, точеные руки прижимали к себе мужественную грудь, а рассыпанные по ковру золотые волосы нежным сиянием освещали все вокруг. Застигнутые в экстазе влюбленные составили бы конкуренцию любому из имеющихся в музее произведений искусств, если бы не громадное черное кровавое пятно, расползшееся по спине мужчины к пальцам женщины и уродующее гармонию тел. Лежащих окружали столь же выразительные многочисленные парочки и отдельные самоудовлетворяющиеся и неудовлетворенные индивиды в самых откровенных позах, также искромсанные сабельными ударами. Только внимательное наблюдение и отсутствие следов крови обнаруживало в порушенных восковые фигуры.
Из музея любви беглецы попали прямо на приемную площадку канатной дороги, взломав, правда, для этого потайную дверь. Она представляла собой небольшую открытую галерею, вдающуюся метров на десять в глубь здания. Тросы канатной дороги крепились к усиленной внутренней несущей стене здания, а с другой стороны стены находилась пустая каморка смотрителя. Дорога содержалась в идеальном порядке, хотя и непонятно было, пользовались ей или нет.
Кабинку для пассажиров, к сожалению, не удалось обнаружить. По всей видимости, она располагалась на другой станции. Обесточенный пульт управления, как и следовало ожидать, не подавал признаков жизни. В противоположном здании находился двойник этого пульта, кроме того, кабинка должна была иметь собственный аварийный электродвигатель, но, чтобы перегнать кабину, необходимо было преодолеть стометровую пропасть между домами. Сделать это можно было, только перебирая канат на весу руками на высоте более пятидесяти метров от земли. Луций обвел взглядом бойцов и понял, что рассчитывать не на кого. Его смущала раненая рука, и он вопросительно глянул на Никодима, тот лишь отрицательно мотнул головой и был прав. Кто-то должен был позаботиться о том, чтобы первой отправилась в пригнанной кабинке Лиз, а Луция бы солдаты не послушались. Вместительность же кабинки была неизвестна.
Луций тяжело вздохнул, причитающая Лиз, несмотря на рыдания, укрепила повязку на переставшей кровоточить руке, поцеловала его на прощание, и юноша шагнул к краю.
— Не бойся, я отправлю ее к тебе первой, — напутствовал его Никодим. — И удачи тебе, — проговорил он, не веря в счастливый исход, отвернулся, потряс трос, как бы пробуя его на прочность, и все же, не выдержав, крепко обнял друга и прошептал, целуя: — Держись, чертяга!
Как бы повторяя ритуал, стражники поочередно обняли юношу, провожая в смертный путь. Не в силах дождаться завершения тяжелой сцены, Лиз бросилась было с площадки в коридор, но Никодим перехватил ее и прижал к себе, смотря, однако, поверх головы девочки на друга.
— С богом, — проговорил Луций, перекрестился, проверил раненой рукой прочность натяжения каната, почувствовав, что пока еще вполне владеет ей, натянул обнаруженные на его счастье брезентовые рукавицы и отправился в путь. Расстояние его не смущало, если бы он еще знал, как поведет себя левая рука. Впрочем, легкая ранка от пневматической пули не должна была сыграть существенную роль. Провожающие тотчас бросились к барьеру.
Луций дал себе зарок не глядеть вниз, что бы ни случилось, и следил лишь за двумя тросами толщиной в два пальца каждый, которые висели над его головой. На его удачу, вечер был тихий, солнечный и совершенно безветренный, и юноша, стараясь не замечать пути, пытался растворить все нарастающую боль в плече, саднящее жжение в ладонях и тяжесть тела в ослепительной голубизне неба.
После первой четверти пути молящие о спасении стражники с тревогой отметили, что левое плечо юноши начало краснеть. Пятно крови расползалось все шире, зато боль прошла, и юноша стал убеждать себя, что с теплом в него входит легкость, и так исчезает усталость, но держала левая рука все хуже. Луций, продолжая движение, стал обдумывать и тут же отбрасывать различные способы перебраться на верхний трос, и как-то удерживаясь за него, то ли идти, то ли ползти по нижнему. Вскоре он начал притормаживать, зависая на все более долгие мгновения на правой руке. Потом он вовсе перестал доверять раненой руке.
Теперь Луций стал напоминать марионетку с разрегулированным механизмом управления. От неравномерного движения юноша перешел к скачкам. Он с самого начала двигался правым боком вперед, но теперь он старался выносить здоровую руку в прыжке с тем, чтобы она пролетала над тросом, используя левую лишь для страховки.
Луций не отрывал глаз от неба, справедливо не доверяя происходящему под ним. Уже в последней четверти пути раздался взрыв, и воздушная волна подбросила юношу так, что его ноги вывернуло выше головы, и он непроизвольно схватил ими трос. Обломки перехода, подорванного пожарными со стороны монахов, чтобы не пропустить огонь в невредимое здание, взлетели вокруг Луция, не задев его, и так же благополучно для него посыпались вниз. Еще более удачной оказалась поза, непроизвольно принятая юношей. Вероятно, ему с самого начала надо было передвигаться в лежачем положении, обхватив трос руками и ногами, но не это занимало Луция. Главное, что он теперь чувствовал себя значительно увереннее и мог продвигаться практически без помощи левой руки, которая обессиленно опала.
Когда Луций добрался до кабинки подвесной дороги, слабые очаги пожара в этом здании в зоне перехода были потушены, и пожарные блокировали основное здание, уже не подвластное спасению, с тем чтобы остановить продвижение огня. Все системы второго корпуса были включены, и Луций простым нажатием рубильника отправил двухместную кабинку в путь. С трудом отдирая впившиеся в разодранные до мяса ладони куски брезента, по тишине в здании он понял, что с подвигом монахов, как и с самими атакующими, было покончено. И действительно, их всех расстреляли из автоматов прямо у перехода.
Неотрывно следя за противоположной площадкой канатной дороги, Луций одновременно регистрировал взглядом все новые всплески огней, вырывающиеся из окон. Столб огня уже взметнулся над крышей, а к крикам людей и реву животных прибавился грохот рушащихся перекрытий, когда кабинка прибыла на место.
Первой, как и было обещано Луцию, в кабинку вошла Лиз, за ней заскочил Никодим и посыпались стражники, от которых безуспешно пытался отбиться юноша. Однако они лезли и цеплялись со всех сторон, и Луций, не дожидаясь окончания схватки, поднял опущенный рубильник, и вагонетка плавно двинулась вперед. Видно лишившаяся прочности стена здания, на которой крепился трос, не выдержала, и громадная панель последовала за кабинкой, рухнув на суетящихся на земле пожарных. Потерявшая опору кабинка по диагонали понеслась вниз, продырявив со всего размаху пожарную машину и сплющиваясь от удара. Хлынувшая из машины пена залила весь двор, скрывая трупы людей и животных. Кабинка с Лиз, Никодимом и стражниками, пробив плиты двора, ушла под землю, и горящие обломки здания продолжали сыпаться вниз.
11. БУДДИЙСКАЯ ОБЩИНА
Кровь выходила из-под пальцев правой руки, которой Луций зажимал плечо, и капала на паркетный пол, ей уж напитался левый рукав туники и стал влажным и тяжелым. С бега он сбился на шаг, но все равно двигаться становилось все труднее и Луций еле брел, отталкиваясь здоровым плечом от стены коридора, если его совсем заносило. Когда юношу в очередной раз бросило на стену, от толчка неожиданно открылась дверь, и он ввалился в большую мрачную залу, освещенную свечами и наполненную дымом и запахом благовоний, источаемых подвешенными к потолку горшками. Он узнал восседающего на возвышении бурята, который, напялив на себя вишнево-красную накидку, по всей видимости, изображал будду, и, потеряв сознание, плашмя ударился об пол. Мгновенно признав в раненом любимого ученика отца Климента, бурят решил спасти его.
Луций не видел, как по указанию бурята к нему подбежали послушники и унесли в заднюю комнату, а выскочивший в коридор с тряпкой мальчик затер следы крови. Юношу умыли, перевязали и облачили в желтую накидку, покрывающую раненое плечо и оставляющую свободным правое плечо и часть груди. Окровавленную тунику тут же уничтожили. Затем его осторожно вывели из комнатушки и посадили напротив покрытого грязной занавеской стула, по-видимому, изображающего трон. Бурят, сойдя с пьедестала, ласково обнял раненого и заговорил, высоко подняв голову:
— Обращаюсь к почтенной общине с нижайшей просьбой не отказать сему отроку во вступлении в ряды. Свидетельствую о его глубочайшем уважении и похвальном исполнении заветов Светлейшего и законов как в мире земном, так и небесном. Ибо юноша сей необыкновенен и большое счастье нашей вере обрести его.
Повторяй за мной, — шепнул он Луцию. — Я прибегаю к Будде, я прибегаю к Закону, я прибегаю к Общине!
Обессиленный Луций, слыша за спиной крики вбежавших в зал легионеров, громко, насколько мог, повторил слова бурята.
Обшарив глазами зал и не найдя ничего подозрительного, охранники выскочили наружу. Послушник принес юноше горшок для подаяний, нижнюю рубаху и длинную холстяную куртку, похожую на френч. Бурят, вернувшись на свое место, объяснил Луцию, что сейчас начнет задавать ему вопросы, на которые надо отвечать коротко «да» или «нет», потому что это часть обряда, и не удивляться их внешней бессмысленности.
— Человек ли ты?
— Да.
— Мужчина ли ты?
— Мужчина.
— Независим ли ты?
— Да.
— Нет ли у тебя долгов?
— Нет.
— Не состоишь ли ты на царской службе?
— Нет.
— Дали ли тебе согласие родители?
— Их нет, — безнадежно проговорил Луций, собирая последние силы.
— Имеешь ли ты полных двадцать лет?
— Нет.
— Есть ли у тебя все необходимое, милостынный горшок и одежды?
Юноша, пошарив вокруг себя и нащупав сверток с одеждой и горшок, утвердительно кивнул.
— Высокая община, прислушайся, — патетично продолжил бурят. — Этот Луций, мой ученик, желает Упасампада. Ему восемнадцать и он сирота, но я готов заменить юноше родителей до достижения им двадцати лет. Так он имеет все, горшок для подаяний и одежды. Если общине благоугодно, да пожалует она Луцию Упасампада со мной как наставником. Таково предложение. Высокая община, прислушайся, — и еще трижды повторил свой текст бурят, прежде чем закончил следующей фразой: — Кто из преподобных за Упасампада для Луция со мной, как наставником, тот пусть молчит, кто против — пусть говорит!
Поднялся ближайший к буряту с правой стороны лысый, бородатый мужчина с недобрыми, сверкающими глазами. Оскорбленный до глубины души невиданным вниманием, высказанным незрелому и не истребившему в себе жажду насилия юноше, он решил проверить его чудесные знания, разрекламированные их наставником.
— Известны ли тебе четыре источника помощи, которыми ты должен добывать необходимое?
— Да, — сказал Луций. — Это куски пищи, которые удается выпросить; одежда, подобранная на свалке; постель на сырой земле; моча как лекарство.
Смягчившийся заместитель бурята, укрепляя юношу, перечислил подаяния, которые не возбраняется принимать дополнительно в качестве добровольных подношений. Бурят лишь скрипел зубами, видя нарушение обряда, но не вмешивался, ожидая конца испытания.
Так же легко отвечал юноша, многократно просвещаемый бурятом на другом жизненном плане и на остальные вопросы. Вдруг Луция повело вперед, и он, едва успев повернуться на правый бок, растянулся клубочком на полу с оставшимися в позе лотоса ногами. Пораженные глубиной ответов юноши, спрашивающие притихли, а бурят вновь обвел зал глазами и объявил:
— Община жалует Луция Упасампада со мной как наставником. Община за это, поэтому она молчит; итак, я принимаю!
Послушники измерили тень, символически определяя время, и возвестили год, день и состав общины, принявшей Луция в монахи. Затем заместитель бурята, атаковавший юношу первым, сообщил ему четыре вещи, подлежащие оставлению: половые сношения, даже с животными; ничего не отнимать, даже былинку; не убивать никакое живое существо, даже червя или муравья; не хвалиться высшим человеческим совершенством.
— Правильно живет община учеников Господа; прямо живет община учеников Господа; верно живет община учеников Господа; достойно живет община учеников Господа, — заголосили буддисты хором. — Она достойна приношений, достойна подаяний, достойна даров, достойна благоговейного приветствия, она — высшее поле для добрых дел людей.
Бурят спустился с возвышения, сел к юноше, взял за руку и, не услышав биения пульса, склонился над ним. Он закрыл глаза, сотворил торжественную молитву и обратился к Луцию:
— Настало время найти путь. Твое дыхание сейчас остановится. Я подготовлю тебя к встрече с чистым светом; ты воспримешь его, как он есть в мире промежуточного состояния, где все вещи подобны ясному безоблачному небу, а обнаженный незамутненный разум — прозрачной пустоте, у которой нет ни границ, ни центра. Познай себя в это мгновение и останься в этом мире. Я помогу тебе. Думай о том, что в любом образе будешь служить на благо всем живым существам, число которых беспредельно, как просторы небесные.
«Как все просто, — подумал юноша. — Повтори внятно и отчетливо трижды или семь раз: „Мое сознание, сияющее, пустое неотделимо от великого источника света; оно не рождается и не умирает, оно немеркнущий свет, — и увидишь в пустоте сознания чистый свет и, осознав себя не собой, превратив „я“ в „не я“, навсегда достигнешь освобождения“».
Луций загадал, что поступит так, если увидит перед собой Древо Добра и Зла, сконцентрировал внимание, но ослепительно ровное сияние не выпускало его. «Неужели это свечение — единственное, что ждет меня?» — с ужасом подумал юноша, вспоминая захватывающие путешествия с общиной отца Климента и ужа Эскулапа.
Бурят находился в неменьшем недоумении, чем Луций. Он видел, что юноша остановил свое колесо смертей и рождений, найдя нирвану. Им был узнан изначальный чистый свет, и он достиг освобождения, но подобное переходное состояние между жизнью и смертью может продолжаться лишь мгновение, а оно явно затянулось и непонятно было, в какую сторону качнется маятник. Ища выход из неприятной ситуации, бурят бросился в противоположную крайность, безуспешно пытаясь пробудить движение жизненной силы в теле юноши, но по-прежнему лишь зеркальцем можно было зафиксировать слабое дыхание умирающего, а надо было либо закончить обряд на первой ступени промежуточного состояния, либо спускаться дальше в темноту исхода. Однако понять, как правильно действовать, было совершенно невозможно.
Боясь дискредитации в глазах общины, бурят попытался потянуть время. Он торопливо зашептал что-то неразборчивое, даже не пытаясь отдавать отчет в произносимых словах, но при этом неотрывно смотрел на юношу, стараясь проследить его реакции. Однако зрачки Луция по-прежнему были совершенно неподвижны. Тогда бурят, озлобившись, решил призвать умирающего к порядку.
— Если ты не узнаешь своих собственных мыслей, если не воспримешь это наставление, тогда свет испугает тебя, звуки устрашат, видения ужаснут и ты будешь обречен вечно блуждать во мраке.
Ритуальные устрашения никак не подействовали на юношу, и у бурята не прибавилось ясности насчет его состояния. Луций же, барахтаясь между жизнью и смертью, по-прежнему безуспешно пытался изгнать изводящий его свет.
— Не привязывайся к тем, кого видишь, но размышляй о Сострадательном, — продолжал свое бурят.
«…сострадательное»… — услышал Луций и, оторвавшись от видений, вспомнил вечно сострадающую ему и только что преданную им за то Лину, но из-за содеянного им по отношению к девочке она не могла прорваться к нему, и мысль о ней ушла за пограничную полосу сияния. Собственно конца у света не было и не существовало никаких рубежей. Просто где-то присутствовало нечто, откуда все исходило и куда все исчезало, все за исключением не ослабевающего ни в одной своей точке ослепительного свечения.
— Уйдя из этого мира, ты увидишь места, хорошо знакомые на земле, и своих родственников, как это бывает во сне, — не останавливался бурят.
Юноша внезапно увидел изможденные лица отца и матери. Он давно уже не вспоминал их и даже смирился с мыслью о смерти родителей и вот теперь увидел. И это не могло быть воспоминанием. Люди, которых он видел, были намного старше образов, хранившихся в его памяти. Родители, которых он помнил, никогда не старели. Они всегда были тридцатилетними, как на старинной фотографии. Эти же, вовсе не старые люди — как прикинул Луций, отцу должно быть сорок пять лет, а матери — сорок — выглядели лет на пятьдесят — шестьдесят. Отец был в застиранной синей пижаме, из-под коротковатых брюк которой выглядывали завязки кальсон, а мать в того же цвета халате. Обуты оба были в серые резиновые тапочки. Стоя в замызганном коридоре, они шушукались о чем-то с ребячливо-радостным выражением на старческих лицах. Видно было, какое счастье для них, седых, морщинистых, убогих, тайком ото всех перекинуться парой слов.
Луций заскрежетал зубами, попробовал приподнять голову и вновь провалился в ослепительно яркое свечение.
— Ты видишь своих родных и близких и обращаешься к ним, но не получаешь ответа. Увидав, что они оплакивают тебя, ты думаешь: «Я мертв! Что делать?» — и жестоко страдаешь, словно рыба, выброшенная из воды на раскаленные угли. Ты будешь страдать, но страдание тебе не поможет, — продолжал бурят.
«Действительно, — задумался юноша, — он прав. Страдание не поможет. Я должен вытащить своих родителей из заточения. Пусть мне не удалось спасти брата, но должен же я хоть для кого-то что-то сделать в этой убогой жизни!»
— Густой, наводящий ужас мрак надвинется на тебя, и оттуда послышатся крики «Бей! Убивай!» и другие угрозы.
«Как все знакомо, — устало подумал Луций. — Вновь биться с очередными врагами на этот раз за собственных родителей. И так всю жизнь. Может быть, действительно дело в его карме? Но разве он один вынужден так жить?! Сто пятьдесят миллионов находятся в таком же положении. А как просто уйти…»
Как будто почувствовав сомнения юноши, бурят усилил натиск. Он в очередной раз поднес зеркальце к губам Луция и не обнаружил дыхания, приподнял веки умирающего и увидел закатившиеся зрачки. Ободренный мыслью, что наконец-то все пошло как следует, бурят продолжил:
— Когда к тебе придет мысль: «Увы! Я мертв! Что делать?!», а твое сердце похолодеет и ты испытаешь безмерную скорбь, не думай о разных вещах, но представь твоему уму пребывать неизменным. Не ищи покинутого тела, ты не найдешь ничего, кроме страданий, отринь жажду иметь тело; смири ум; действуй так, чтобы остаться вне телесных пределов.
Тут юноша вдруг увидел двух бритоголовых толстячков, сидящих по разные стороны ручейка. Они перебрасывались черными и белыми камушками из сложенных рядом с ними кучек и обговаривали, на небо или под землю тащить пустое тело Луция.
— В одно мгновение проявляется взаимное разделение.
— В одно мгновение достигается совершенное просветление, — говорили они друг другу при каждом броске.
— Слушай последний раз, — воодушевленно прогнусавил бурят. — Твой разум в промежуточном состоянии не имеет твердой опоры, легковесен и пребывает в непрерывном движении, и любая твоя мысль, благочестивая или нет, обладает огромной силою; потому не размышляй о нечестивом, но вспомни какой-нибудь обряд или, если не знаешь обрядов, прояви чистую любовь и смиренную веру!
— Люблю Лину! — проговорил, приподнимаясь Луций, и в тот же момент в открывшуюся дверь вбежала девочка.
Книга третья. СУМАСШЕДШИЙ ДОМ
1. ПОДЗЕМНЫЙ ХОД
Отбежав на безопасное расстояние от горящего здания Римского клуба, Луций, не выпуская Лининой руки из своей, остановился и стал лихорадочно соображать, как, собственно говоря, спасаться. У него не было никаких сомнений, что густой дым и языки пламени из горящих зданий скоро привлекут солдат мятежников, которые вряд ли станут разбираться, кто они и зачем слоняются по улице. Нужно было куда-то спрятаться, чтобы в спокойной обстановке обдумать, каким образом добраться до Лининого дома. Однако долго размышлять ему не пришлось.
Из-за облаков вдруг вынырнула черная ракета и понеслась к земле, оставляя за собой белый слоистый след. Прямо над горящим зданием клуба она раскололась, и, словно акульчата из брюха матки-акулы, из нее вылетели десятки маленьких торпед. Не дожидаясь, пока они вонзятся в охваченное дымом, гудящее от огня здание, Луций вновь подхватил девочку и изо всех сил бросился бежать прочь от рушащихся домов. Взрывная волна настигла их уже довольно далеко от гибнущего Римского клуба, бросила на землю, засыпала глаза гарью и понеслась дальше. А когда с неба на асфальт просыпался ливень каменных осколков, они уже были почти в безопасности у входа в тот самый туннель, в котором немногим более часа тому назад погибли сопровождавшие Лину боевики. Только вход в туннель преграждал танк.
Гораздо позднее юноша узнал, что гибнущая гвардия императора не придумала ничего лучше, чем направить единственную имеющуюся в ее распоряжении ракетную систему на здания Римского клуба, справедливо, но весьма бестолково полагая его источником мятежа.
Обратный путь казался бесконечным, но теперь они могли спастись лишь подземным ходом, который привел Луция в Римский клуб. Пробираясь ползком, то и дело задевая груды земли, вывороченные взрывами камни и обломки металла, огибая тлеющие остатки спекшихся от сильного жара бесформенных предметов, беглецы наконец оказались в непосредственной близости от входа в здание, когда вдруг сверкающий красный луч словно зажег воздух вокруг них.
За колеблющимся светом последовал громоподобный рык: «Немедленно вернитесь! Даем вам минуту на раздумья. Через шестьдесят секунд открываем огонь!»
— Пятьдесят девять, пятьдесят восемь… пятьдесят… — бубнил равнодушный, как метроном, голос.
— Что будем делать? — спросил в отчаянии Луций.
Он почувствовал, как теплые волосы Лины коснулись его лба. Девочка прижалась к нему, будто искала и нашла единственную в мире защиту.
— Только не сдаваться, — прошептала она. — Я ни за что не хочу попадать им в руки. Может быть, здесь можно спрятаться?
В отчаянии юноша схватил ее здоровой рукой и бросился в прогоревшее окно.
— …Тридцать три, тридцать два… — продолжал бубнить равнодушный голос, и под этот кошмарный отсчет Луций повернулся к стене и стал шарить по ней мокрыми от выступившего пота ладонями, пока не нащупал тонкую щель, отделявшую железную дверь от камня. Никакой ручки у этой странной двери не было, кое-где она была покрыта ровным слоем штукатурки, и юноша понял, что тот самый пожар, который уничтожил Римский клуб, стал для них спасительным, потому что содрал с двери маскирующий ее покров.
Обдирая руки, он просунул их под дверь, рванул ее изо всех сил, теряя сознание, и та чуть приотворилась. Всего на несколько сантиметров, но их оказалось достаточно, чтобы худенькая Лина, а за ней с громадными усилиями и Луций сумели в нее просунуться. И только юноша захлопнул дверь за собой, как грянул взрыв. Их тряхануло, и от раскаленной двери полыхнуло острым жаром. Однако Луций с торжеством понял, что взрыв обезопасил их — ибо теперь все стены первого этажа должны были спечься в один непроницаемый кокон, в котором уже невозможно было отделить стеклянную массу от камня и стали.
Еще не успев как следует ощутить весь ужас своего недавнего положения и то огромное преимущество, которое они теперь получили, сделавшись недосягаемыми для мятежников, беглецы вновь впали в уныние от неопределенности нового положения.
Они находились в узком коридоре, освещаемом только раскалившейся до малинового цвета дверью, от которой они в несколько прыжков удалились. Было невозможно сомневаться, что дверь запаяна намертво и что во всяком случае обратного пути у них нет. Через несколько минут слабое свечение, которое исходило от раскаленного металла, стало блекнуть и в конце концов они оказались в полной темноте. Луций хотел было двинуться дальше, но девочка явно была не в силах сделать вперед ни шага. Она стояла, прижавшись к юноше, и он с трудом сдерживал дрожь ее исхудавшего тела.
Не зная, чем ее утешить, Луций погладил Лину по мягким, испачканным пылью и растрепанным волосам и сказал:
— Не бойся, радость моя, мы только что избежали самой ужасной смерти, какую только можно предположить. Я понимаю, как ты устала и как страшно тебе в этом темном коридоре, но я с тобой и клянусь, что буду защищать тебя, пока жив.
Приободрив таким образом девочку, он взял ее за руку еще крепче, чем раньше, и повел, точнее, потащил за собой по абсолютно темному, но, к счастью, ровному коридору. Некоторое время они шли, не различая ничего впереди. Луций более всего боялся забрести в тупик и в блужданиях потерять последние силы, но его опасения оказались напрасными. Не прошло и десяти минут, как коридор раздвоился, причем в конце каждой его половинки забрезжил далекий свет. Не зная, какое направление выбрать, юноша направился вправо, где свет показался ему чуть ярче.
Чувствуя, как Лина с каждой минутой все более виснет у него на руках, и прошагав до конца коридора, Луций уткнулся в дверь со светящимся желтым пятном. Оно представляло собой точную копию «солнышка», как его рисуют дети, — то есть желтый блин с ресницами, только светящийся. Луций хотел уже стукнуть по двери ногой, но какие-то смутные опасения его удержали. Сначала он решил оставить девочку у двери, а самому отправиться исследовать левый коридор, но поостерегся и, обняв Лину за плечи, увлек с собой.
Второй коридор оказался гораздо длиннее первого, и Луций не один раз пожалел, что вздумал зачем-то его обследовать. Еще большее его сожаление вызвал тот факт, что когда они добрели все-таки до брезжащего в темноте отверстия, то обнаружили лишь вход в вентиляционную шахту, в которой, видимо, флюоресцировали какие-то микроорганизмы. Проклиная себя за напрасно потерянное время, ведь если бы он сразу постучался в отмеченную знаком солнца дверь, возможно, девочке была бы уже оказана какая-нибудь помощь или хотя бы она была накормлена, юноша без колебаний двинулся в обратный путь, как вдруг почувствовал, что они в коридоре не одни.
Впрочем, сколько ни вглядывался он в темноту, но так ничего не увидел. Однако подходя к раздвоению подземного хода, Луций уже отчетливо услышал за собой шаги. К его сожалению, шаги услышала и Лина. Она прижалась к нему всем телом и задрожала, не говоря ни слова. Рискуя на каждом шагу наткнуться на выступ каменной стены и расшибиться, Луций, не отпуская от себя девочку, поспешил добраться до ответвления. Шаги преследовали его несколько томительных секунд, потом стихли. Он снова вышел к двери, на которой было нарисовано теплое солнце нетвердой рукой ребенка, и обнаружил, что она слегка приоткрыта и из нее льется розовый, еле приметный свет.
Некоторое время они стояли прислушиваясь, не понимая, чего можно ждать от этой, вдруг открывшейся двери. Луций сожалел, что умудрился в здании, битком набитом оружием, ничего с собой не взять. Потом оставив девочку за спиной, легонько отодвинул дверь и шагнул за порог. Далеко-далеко впереди дрожал рассеянный огонь, напоминающий пригоршню светлячков, выброшенных в траву. Он подхватил девочку под руку, прикрыл за собой дверь и медленно, по расширяющемуся ходу пошел вперед к колеблющемуся, меняющему яркость источнику света.
Так они шли довольно долго. Уже ясно стали видны колеблющиеся языки пламени, охватывающие небольшой полукруг костра, и согнувшиеся в три погибели силуэты то ли людей, то ли животных, смотрящих в огонь, как позади, на этот раз довольно близко, вновь послышались шаги. Луций обернулся и с трудом сдержал невольный крик. Крадучись, стараясь держаться в тени, за ними шли несколько человек. Их лица были почти неразличимы.
Юноша чувствовал себя зажатым между двумя группами подземных жителей, но ему ничего не оставалось делать, как идти вперед к безмятежно гревшимся у костра людям. Когда через несколько шагов он обернулся, то увидел, что крадущиеся позади него люди остановились, как-то сжались у стены, отчего стали почти невидимыми и не слышными. Тем зримее вырисовывались три скорчившиеся у костра фигуры, которые что-то жарили на стальном пруте, перекинутом через костер и установленном на двух поперечинах. Когда беглецы подошли совсем близко, сидящие, поглощенные своим замечательным занятием, наконец-то их заметили. Луций ожидал любого исхода первой встречи с хозяевами, но действительность превзошла все ожидания.
Подземные жители заметили беглецов, лишь когда те подошли вплотную, внезапно вскочили, повалив жарящиеся тушки каких-то мелких животных прямо в костер, и распростерлись ниц. Ничего не понимая, кашляя от чада и едкого запаха горящего мяса, Луций и Лина с удивлением смотрели на скорчившиеся на земле фигуры людей, которые, даже не вспомнив о своем обеде, вымаливали у них прощение. Обхватив головы руками, люди лежали на земле и, видимо, не думали вставать. Иногда легкие порывы ветра раздували уголья, и в подземелье становилось светлее. С удивлением Луций увидел, что лежащие у его ног были одеты в абсолютно одинаковые клетчатые рубашки и черные брюки. Обуты они были в старинного вида кеды из белой толстой материи. Более юноша ничего не мог разглядеть, потому что внезапно за его спиной возникли легкие тени преследователей. Беглецы почувствовали, как их оттесняют к костру, и, испуганные обилием пришельцев, попытались вжаться в стену. Последние, ни слова не говоря, сгрудились вокруг лежащих покорно фигур и стали неторопливо и согласованно наносить им удары по плечам, бокам и рукам. Луция поразила не столько даже неумолимая жестокость нападающих, сколько та покорность, с которой жертвы переносили удары.
Когда клубы едкого дыма, валящего из костра, застлали все перед глазами, юноша попытался под их прикрытием ускользнуть от палачей. Однако не успели они с Линой пробраться в покатый коридор, как и жертвы, и их мучители вдруг вскочили и бросились им вслед. Пока беглецы сделали несколько робких шагов, подземные жители успели обогнать их и, сгрудившись, встали на пути. Все они были одеты совершенно одинаково, только наказанные как бы по инерции прикрывали головы и лица руками. Луций загородил девочку своим телом и приготовился к отпору. Он не ожидал от встречи ничего хорошего. Однако из толпы вышел невысокий худой мужчина, потирая одной рукой кисть другой, и подошел вплотную к юноше.
— Все, что ты сейчас видел, незнакомец, ты похорони в своей душе навсегда, — произнес он, четко отделяя одно слово от другого. Впрочем, ни в выражении его лица, которое Луцию удалось разглядеть, ни в словах не было ничего угрожающего, разве что сама атмосфера закопченного подземного лабиринта и группа молчаливых людей впереди, преграждающих дорогу. — Тебе, наверно, кажется, что мы подвергли вот их, — он ткнул рукой вбок, — зверской и не нужной экзекуции. На самом деле тебе посчастливилось присутствовать при справедливейшем наказании горстки отщепенцев, которые, нагло попирая все законы и установленные конституционные свободы нашего общества, посягнули на стратегические запасы страны. Тем самым они, во-первых, подрывают экономическую мощь государства, во-вторых, поскольку эти крысы, среди которых наверняка были и самки, могли бы принести многочисленное потомство, эти грязные обжоры и преступники проедают наше будущее вообще, не заботясь о том, что будут есть и как будут жить наши дети и правнуки.
При этих словах несчастные жертвы вновь повалились на каменный пол, а сотоварищи вновь начали их методично колотить, причем оратор был чем-то вроде дирижера. Он размахивал руками, поворачивал лицо то вправо, то влево и сжимал кулаки. Ошеломленные нелепым и трагическим зрелищем беглецы стояли, прижавшись друг к другу, и ждали. Наконец экзекуция вновь прекратилась, и истязатели и жертвы потянулись по коридору. Повинуясь жесту оратора, Луций и Лина пошли вслед за ними. По мере того как свет костра гас, впереди разгорался другой свет, бледный и мертвенный. Вскоре пологий пол сменился ведущими вниз ступеньками, и все вышли на каменную площадку, освещенную лампами дневного света. Кроме той двери, через которую они вошли, на площадке, служащей, очевидно, чем-то вроде холла, были еще четыре двери с большими светящимися надписями. Вся безликая толпа сгрудилась у центральной двери все с той же эмблемой и гордой надписью: «ГОРОД СОЛНЦА». Коренастый мужчина, по-видимому главарь, достал ключ и отпер замок.
Город Солнца оказался гигантским залом, заполненным стоящими в три яруса железными кроватями. Между узкими проходами бродили люди с ведрами и тряпками, другие, стоя на коленях, скребли каменный пол, который вовсе не становился от этого чище. Освещенный гирляндами лампочек зал тянулся так далеко, что противоположная стена скрывалась во мраке. В самом центре помещения оказалась свободная площадка. Посреди нее стоял громадный деревянный топчан, покрытый коричневым покрывалом. Невысокий мужчина, который явно был здесь главным, взошел на помост и сел в кресло, за которым стояло огромное алое знамя с вышитым на нем серпом и молотом. На знамени имелось также изображение человеческого лица в профиль с прищуренным взглядом и острой бородкой.
— Вы мои гости, — сказал мужчина, жестом приглашая беглецов сесть на краешек топчана у себя в ногах. — И я уверен, что, услышав историю нашего солнечного города, вы непременно захотите остаться.
Тут он хлопнул в ладоши, и четверо худущих мужчин с трудом поднесли большой поднос, на котором стояли черный котел с дымящейся перловой кашей и две банки консервов. На одной крупными буквами было написано удивительное словосочетание: «Частик в томате», на другой — «Завтрак туриста».
— Вот как мы живем! — гордо сказал мужчина и представился. — Меня зовут Алексей Насреддинович. Я мэр нашего солнечного города и внук последнего председателя Верховного Совета СССР. Мой отец вместе со всеми несгибаемыми коммунистами ушел в подполье после того, как враги нации и предатели узурпировали власть в августе тысяча девятьсот девяносто первого года. Вместе с нами ушел народ, — и мэр показал на безмолвные ряды трущих пол людей. — Советская власть хорошо позаботилась о судьбе наших внуков. Стратегические запасы перлового концентрата и частика в томате у нас практически неисчерпаемы. Даже не разводя местных животных, мы можем протянуть еще несколько столетий. В принципе наш подземный город был задуман как бомбоубежище для дубль-генерального штаба на случай ядерной бомбардировки. Но по мере того как внешний враг скукоживался, основные функции города сместились в сторону стратегического склада питания. Жители города счастливы потому, что у них есть все, от кинозала до библиотеки, в которой больше ста томов прекрасных книг.
— Сколько же всего жителей в городе, — недоумевающе спросил юноша.
Он вдруг решил, что мрачное помещение, в которое они попали, только подземный пропускной пункт в прекрасный солнечный город, но слова мэра развеяли все его иллюзии.
— Вместе с вами двумя будет четыреста двадцать четыре! — ликующе сообщил мэр и предложил поскорее начать праздничный обед, чтобы передать кашу согражданам, пока она не остыла.
После каши с крошечным кусочком маленькой черноватой рыбки мэр счел обед законченным и, потирая живот и все время повторяя, что никогда так вкусно не ел, пожелал узнать, что все-таки происходит наверху, поскольку следящие антенны вышли из строя в результате каких-то незапланированных взрывов, а двое разведчиков, многократно проверенных и преданных, исчезли без следа на верхних горизонтах.
Услышав, что в городе происходит бунт против царской фамилии и регент захвачен в плен и казнен, мэр крайне взволновался и тут же на помосте созвал Верховный Совет. Высший законодательный орган включал все взрослое население города, обладающее правом голоса, и таких набралось шесть человек, не считая мэра.
Великолепная семерка все в тех же клетчатых рубашках и кедах уселась, болтая ногами, на помосте, и когда мэр поведал о сложившейся политической ситуации в столице, очень воодушевилась. Первым слово взял очень старый и безволосый член Совета, который, шамкая беззубым ртом, сообщил, что у него как ответственного за сохранность партийных архивов сохранились фамилии всех врагов коммунистической идеи в Москве и что, поработав пару часов над бумагами, он может выдать проскрипционные списки всех врагов народа и партии в третьем и даже в четвертом колене.
— Вместе с адресами? — спросил его другой член Совета, чуть помоложе, и, услышав положительный ответ, живо вскочил с места, сказав, что бежит чистить свой наган, оставшийся еще от прадеда — героя Перекопа.
Остальные члены Совета тоже взволновались, требуя слова, и пока мэр их успокаивал, Луций и Лина потихоньку сползли с помоста и стали продвигаться в сторону выхода. Никто не обращал на них внимания, потому что не дававший никому слово мэр с места в карьер объявил мобилизацию всех способных двигаться граждан.
— Еще вчера было слишком рано, — кричал мэр, рубя воздух кулаком с зажатой в нем вилкой, — а завтра будет уже поздно!
Поскольку беглецы быстро удалялись к дверям замечательного города, то последующие призывы и выкрики доносились до них все глуше. Правда, у самых дверей еще услышал Луций энергичную реплику «найти и уничтожить», и следом ударило ему в затылок слово «до тла».
2. БУНТ
— Послушайте, — сказал Нарцисс кучке пациентов психушки, которые собрались вокруг пруда и восхищенно разглядывали его залепленный зеленой ряской животик, — вы когда-нибудь задумывались: почему мы все так плохо живем? Посмотрите на Орфея, это же нежнейшей конституции человек. Душа его кроме духовных услад требует трюфелей и страсбургского пирога, а чем он прикрыт?
Тут все присутствующие внимательно посмотрели на певца, и обнаружилось, что прикрыт он тем, что дала ему при рождении мать, то есть собственной кожей. Правда, в срамных местах как спереди, так и сзади виднелись следы прикрепленных утром лопухов, но сами они уже давно облетели.
Среди больных оказались две дамы, которые внезапно обнаружили давно забытое чувство стыда и потупили глаза, и два историка, которые злобно заскрежетали зубами из-за того, что Нарцисс с Орфеем коварно задумали лишить их внимания масс. Подул легкий ветерок, и волосы Тойбина зашевелились от возмущения.
— Мы, — сказал он, — духовная элита, соль этой земли, а другую нам никто не даст. Жаль, что вы еще не созрели до Высшей Истины, а то бы мой коллега нам сейчас поведал, каким образом можно нажать на выходящую из фонтана ось истории, чтобы перевернуть весь земной шар.
— Я чувствую, — горячо вступился Губин, — что наработанной нами духовной энергии хватит не только на то, чтобы перевернуть земной шар, но и забросить его за Млечный Путь!
Историк поплевал на руки и растер ладони, чтобы показать свою готовность перейти от слов к делу. В толпе психов раздался слабый ропот, и на каменный обод фонтана взлетел экспансивный маляр Коля.
— Я им все морды разрисую, этим врачам-трепачам! — закричал он. — Пять лет глотаю таблетки, колюсь как лошадь после водопоя, а толку ни на грош. С каждым даем все более вспыльчив и зол, насосались медики нашей кровушки, пора ихнюю пустить!
С этими словами неизлечимый шизофреник бросился на случайно проходящую мимо сестричку и сорвал с нее халат. Атакованная испуганно заверещала и попыталась удрать, но толпа больных окружила ее и стала усиленно искать вещественные доказательства заговора.
Оставив несчастную женщину в розовой сорочке и шлепанцах, больные сделали из халата белый флаг и направили ее в качестве парламентера к сестре-хозяйке. Среди выдвинутых больными требований были: увеличить в два раза сухой паек, одеть всех пациентов в шелковые портьеры и признать их Всемирным правительством земного шара. Когда сестричка, размахивая халатом, как белым флагом, бросилась в хозяйственный флигель, больные под предводительством историков уселись под солнышком в саду и стали ждать капитуляции.
Привлеченные шумом и криками потихоньку из главного корпуса стали подтягиваться все новые и новые пациенты. Через полчаса вокруг стихийно возникшего прямо на лужайке штаба восстания уже скопилось несколько десятков вполне официальных больных. Почувствовав силу, историки решили больше не ждать и — как принято у революционеров — захватить больничную кассу и единственный уцелевший в кабинете главного врача телефон. Тут же постановили глушить пленных таблетками до полного перерождения личности.
В качестве положительного примера Тойбин привел несчастного психолога, который после поимки его и пленения навертел факелы из медицинских книжек и только рыскал по ночам в больничном саду в поисках любого движущегося предмета, предлагая тут же на месте совершить половой акт.
— Он настолько углубился в природу, — закончил историк свою поучительную притчу, — что предлагал заняться свободной любовью одиноко растущей ветле и пытался залезть ей в дупло рукой.
Узнав про эту сногсшибательную перемену с одним из главных гонителей, все приободрились и выразили желание для начала захватить столовую, чтобы подкрепиться перед основным сражением. Губин разделил мятежников на пятерки, поставил во главе каждой бригадира и велел вооружаться оружием пролетариата — булыжником. Перед штурмом он произнес небольшую речь.
— Если поглядеть со стороны, — сообщил Губин внимательно слушающей его армии душевнобольных, — то можно подумать, что мы ввязались в героическое, но безнадежное дело. На самом же деле не столовая или даже гардероб привлекают нас. Это только начальные задачи нашего движения, которые будут реализованы попутно, в процессе захвата всей полноты власти в стране и в бывшем Советском Союзе…
— Во всем мире!!! — прервали историка выкрики с места, и он, поправившись, продолжал: —…Естественно, что далее мы произведем выплеск энергии в остальной мир и захватим его.
Затем оратор коротко остановился на известных в мировой истории случаях, когда небольшие группы убежденных в своей правоте людей захватывали при правильной постановке дела целые страны и континенты. Особое внимание он для воодушевления собравшихся уделил подвигам испанских конквистадоров в Южной Америке и коммунистов-ленинцев в России. И те, и другие брали не числом, а зверской жестокостью к врагам и прекрасной организацией.
Воодушевившись, колонна больных, сметая на своем пути редкие преграды в лице дежурных санитаров и медсестер (напуганных реальной жизнью вне стен сумасшедшего дома и впущенных назад психами исключительно из милости), прошла вестибюль больницы и штурмом взяла помещение столовой. Когда все расселись по местам, оказалось, что число восставших уже перевалило за сто, и они так же устрашающе звенели своими мисками и ложками, как римские легионеры мечами о щиты.
После того как Тойбин предложил сварить поваров прямо в котле за саботаж и махинации со сливочным маслом, те вылезли из подсобок и стали накрывать на стол. Бдительный профессор заметил, что вскоре к шеф-повару подбежала та самая, раздетая до белья, сестричка и стала с ним о чем-то шушукаться. Однако, как ни напрягал он слух, как ни пытался подкрасться поближе, ничего нового услышать ему не удалось. Тогда Тойбин, тут же в столовой посовещавшись с инициативной группой, решил после обеда создать управление внешней разведки, чтобы оперативно подслушивать все разговоры противника.
Шеф-повара с целью устрашения и отвращения от любых каверз схватили и привязали спиной к громадному мешку с мукой так, что он вовсе не мог двинуться. Правда, ушлые повара, чтобы освободить своего шефа, пошли на шаг, полный такого коварства, что даже многоопытные историки не могли ему противостоять. Громогласно заявив, что начало нового витка истории необходимо отметить блинами со сметаной, они стали с большой скоростью черпать муку из привязанного к их шефу мешка и вскоре наполовину его опорожнили. Никто им ничего не сказал, потому что блины в самом деле вышли замечательными и, хотя все россказни о сметане оказались надувательством, блюдо так и шло на «ура». Как только шеф-повар почувствовал, что вес в мешке поубавился, он быстренько вскочил на четвереньки и убежал, семеня конечностями, вместе с остатками фуража на спине.
После сытного обеда силы армии многократно возросли, и захват средств связи и больничной кассы произошел как бы автоматически. Испуганный персонал, не оказывая практически никакого сопротивления, сгрудился в актовом зале и с ужасом наблюдал за развитием мятежа.
Ведомые воинственными историками больные прошлись по лаборатории и разбили все пробирки и склянки с лекарствами, предварительно распробовав наиболее привлекательные. Затем те, кто не заснул под действием лекарств, строевым маршем прошли по всем коридорам больницы, сгоняя прячущихся или ничего не подозревающих людей в одно место, все в тот же актовый зал. Когда облава завершилась, из нападавших в состоянии двигаться было всего два десятка наиболее активных сумасшедших. Однако армия медперсонала была так напугана, что безо всякого сопротивления выделила из своих рядов несколько человек, которые по приказу историков принялись связывать остальных и складывать их рядами на пол. В результате операции громадный палас в центре актового зала оказался весь занят лежащими на нем людьми. В знак доверия и за заслуги перед Всемирным правительством земного шара вся связывающая своих коллег бригада была произведена в сумасшедшие и отправлена за барбитуратами, анаболиками и другими психотропными средствами, предназначенными для грядущих экзекуций. Та легкость, с которой больным удалось захватить клинику, вскоре повергла их на новые подвиги.
Среди взятого в плен персонала Тойбин велел разыскать сестру-хозяйку, и четверо психов-порученцев привели ее в актовый зал, где воинственный историк соорудил себе штаб-квартиру, и поставили перед ним.
— Ключи! — повелительно скомандовал Тойбин и протянул вперед руку ладонью вверх. — Где ключи от складов?
Ответом ему было молчание. Пережившая пять президентов и восемь директоров клиники сестра-хозяйка считала захват больницы временным недоразумением и вовсе не собиралась допускать в самые сокровенные свои хранилища банду голодранцев. К сожалению, воспитанная на безграничном уважении и страхе перед ней больных, она не поняла всей грандиозности произошедшей в психушке революции. По мановению историка здоровенные руки психов подняли ее в воздух, перевернули вниз головой и стали трясти. Из бездонных карманов, составлявших, казалось, весь наряд медсестры, стали вываливаться металлические деньги, косметика, перочинные ножи и шариковые ручки. От непривычки висеть вниз головой сестра-хозяйка кричала истошным басом, дрыгала ногами и плевалась в пол, но от ритмичной тряски открылись самые потаенные ее карманы, из которых вылетели пачки крупных ассигнаций и, наконец, вожделенная связка ключей.
— Так-то, старая дура, — сказал Тойбин, — не хотела отдавать по-хорошему, теперь, считай, все потеряешь.
Он приказал посадить ключницу под замок в одну из палат строгого режима и не спускать с нее глаз. В этот миг в актовый зал вбежала медсестра в розовой сорочке, за которой гнался врач-психиатр, пресытившийся не способной в должной мере удовлетворять его женой и вышедший на вечернюю охоту. Спасаясь от его загребущих рук, медсестра, не разобравшись, впрыгнула на шею Губину и так застыла. Тотчас психиатра взяли в плен и как перековавшегося поставили наблюдать за другими медсестрами и врачами. Полуголую женщину, чтобы не возбуждать излишнего внимания к ней, Тойбин повелел взять в качестве проводника для похода на склад. Дабы не могла повторить она подвиг Сусанина, пожертвовавшего собой ради монарха, руку медсестры привязали к запястью самого могучего больного и гуськом, сбиваясь с шага на прыжки, поскакали вниз, в подвал психбольницы.
Медсестра в самом деле знала дорогу на больничные склады и через десять минут хождения по разным закоулкам привела историков и сопровождающее их войско к громадной железной двери с пятью дырками, расположенными перпендикулярно полу. Методом тыка пять крепких замков были расшифрованы и открыты, и с грохотом и визгом железная дверь распахнулась.
Перед революционерами возник темный вход. Медсестра указала выключатель, и в глубине хранилища зажглась тусклая лампочка. Озираясь, больные зашли внутрь хранилища и остановились в недоумении. Со всех сторон их окружали громадные кучи разнообразной одежды. Громоздились целые ярусы одеял и матрасов, военное обмундирование, в которое можно было одеть целый полк, соседствовало с баррикадой из саперных лопаток и противогазов, скрывающей бесконечные ряды всякого хлама. Спотыкаясь и перепрыгивая через завалы старых светильников, болотных сапог и садовых ножниц, которыми можно было, учитывая их количество, постричь всю сибирскую тайгу, больные вышли во второй склад, целиком состоящий из больших холодильных камер.
Оказалось, что в громадной связке ключей были и маленькие острые ключики от холодильных камер. Раскрыв дверь одной из них, Тойбин вместе с двумя доверенными психами вошел в ледяное помещение и увидел ряд замороженных коровьих туш, очертания которых терялись где-то вдали. Качнув одну из туш, он установил, что она промерзла насквозь и понадобится не меньше суток на разморозку. Сглотнув слюну, историк приказал своему воинству снять несколько туш и с трофеями возвращаться назад. Сам же он был заворожен видом громадного, похожего на заиндевелое бревно осетра, поднять его и то с большим трудом смогли шестеро больных.
Увидев, что все его войско нагружено, как говорится, «выше крыши», Тойбин приказал возвращаться. Однако тут произошла небольшая суматоха, так как потерялась привязанная медсестра. Пока ее спутник был занят погрузкой туш на плечи своих друзей, она потихоньку освободилась и убежала в неизвестном направлении. Поискав ее несколько минут, историки рассудили, что бедная женщина вернулась, не выдержав холода в своей легкой одежде, и уже не думая о ней, повели свой отряд, тяжело груженный мясом и осетром, назад. Когда революционеры подошли к выходу, оказалось, что дверь склада заперта снаружи. Видимо, медсестра коварно закрыла их, а сама смоталась. Тойбин приказал сделать факелы из ваты, которую тут же нащипали из большого одеяла. При свете факелов он внимательно осмотрел тушу осетра и велел психам использовать ее как таран.
Заледенелая рыба весила не меньше двух центнеров и по крепости превосходила дерево. С пятого удара дверь раздробилась на отдельные лучинки и стружку, и с победными воплями больные вырвались на свободу. Как стадо бизонов, сметающее все на своем пути, бунтовщики-революционеры промчались мимо Орфея с Нарциссом, а те даже не подняли на них глаза.
Судорожно раскрывая рот, Орфей издавал какие-то нечленораздельные звуки словно немой, безуспешно обращаясь к другу, который не замечал ничего, кроме окружности собственного живота. Наконец Нарцисс поднял глаза и в ужасе закричал. Тина пруда пошла красными мазками, и вдруг эти пятна одновременно превратились в их мозгах в родной образ.
— Анита, — прошептал Нарцисс, — зачем ты не взяла нас с собой? — и зашлепал к Орфею, который спустился к другу.
Обнявшись, они плакали, стоя по колено в тине, пока сумасшедший певец, отстранившись, не запел впервые за последние пять лет.
3. РЕШЕТКА
Бесконечные переходы вывели, наконец, Луция и Лину в сухой коллектор со слабым запахом благовоний. Беглецы с удивлением рассматривали идеально круглый проход, пытаясь отыскать источник аромата. В конце прохода они уткнулись в глухую бронзовую перегородку. Ее обрамляли, как бы поддерживая свод, полуразрушенные красные и черная колонны. Внимательно ощупав крошащуюся под пальцами поверхность, они не нашли какого-нибудь замка или запоров и в недоумении отошли назад в небольшой зальчик с выщербленным каменным полом, который мог служить не чем иным, как накопительной площадкой для входящих.
Измученный болью в раненом плече, Луций сел прямо на пол, прислонившись спиной к стене. Лина примостилась рядом и, вытянув ноги, положила на них голову юноши. С видимым трудом перебирая ногами, Луций передвинул их так, чтобы занять горизонтальное положение. Слабым движением он попытался поднять коротенькую юбку девочки еще выше, и она, улыбнувшись и стараясь не беспокоить его голову, сдвинула ткань на себя, сколько было возможно. Луций блаженно завертел головой на нежной теплой коже. Он даже пытался целовать манящую плоть, но Лина, нежно гладя колючие, местами обгорелые в пожаре волосы, быстро успокоила его. Вскоре юноша затих и впервые за последние дни заснул, успокоенный присутствием той, к которой стремился. Лишь изредка он дергался от боли в плече, и тогда Лина нежно гладила его.
Понимая, что Луцию более всего необходим отдых, Лина сама решила найти выход из тупика. Сняв с себя футболку, она подложила ее под голову юноши и стала ощупывать осыпающиеся колонны. Она была уверена, что обязательно обнаружит кнопку, открывающую дверь. И действительно, водя руками по черной колонне, она задела за угловатый выступ орнамента, и бронзовая плита ушла в стену, открывая темные сени.
Пройдя их, они уткнулись в лаз настолько узкий, что двигаться по нему можно было лишь на коленях. Спускаясь все глубже под землю, беглецы застыли на краю уходящей вертикально под землю воронки.
В сумрак отверстия свешивалась висячая железная лестница, и Луций стал решительно спускаться. Лина, не отставая, следовала за ним. Достигнув последней ступени, юноша дрогнул. Слабенькое освещение прекращалось у его ног, а колодец бездонно уходил вниз. Возвращаться они не могли, но и пути вниз не было, и Луций безнадежно поднял глаза на достигшую его рук Лину. Девочка совсем не отчаивалась. Она высмотрела углубление в стене слева от юноши и возбужденно указала на него. Отпустив лестницу, он перескочил на вырубленные в камнях ступеньки, ведущие наверх к блеклому свету. Приняв девочку, юноша перевел дыхание, и они зашагали наверх по спиральной лестнице, пока не вышли к бронзовой решетке, закрывающей проход в широкую галерею.
Луций вначале тихонько, а затем все сильнее затряс решетку, не видя никакого выхода из западни. Внимательно осмотрев стены вокруг решетки и не найдя никакого механизма их открытия, Лина присоединилась к нему и, схватив прутья обеими руками, тоже принялась трясти их. Однако вскоре поняв бесплодность своих попыток, они прекратили безнадежное занятие. Луций задумчиво смотрел в даль галереи, думая, следует ли звать кого-либо на помощь или все же попытаться как-то выбраться самим, а девочка, схватившись обеими руками за решетку, безвольно повисла на ней, закрыв глаза.
Обеспокоенный юноша обнял Лину, и она, рыдая, горячо прильнула к нему. Нежно прижимая к себе девочку здоровой рукой, Луций повлек ее на пол возле решетки, снял футболку и принялся изучать бретельки лифчика. Она, опустив глаза, внимательно и даже радостно наблюдала, как он расстегивает и стаскивает с нее юбку, затем трусики. Тут Лина закрыла глаза, дав возможность без смущения любоваться своим телом, и даже подложила руки под голову. Почувствовав поцелуи юноши на щеках, шее, груди, она вновь открыла глаза, желая видеть удовольствие, которое он получает. Ей хотелось что-то сделать с руками, оставшимися у нее под головой, но она никак не могла найти им применения.
Отпихнув одежду Лины, Луций быстро разделся, и теперь уже силой забрав руки девочки своей здоровой рукой, завел их ей за голову, и не имея возможности распрямить согнутые ей в коленях ноги из-за раны, просто навалился всей тяжестью тела, распрямляя девочку под собой.
Почувствовав на себе горячее тело юноши, Лина совершенно неожиданно для себя испытала неудобство от навалившейся на нее тяжести, но, вспомнив о раненом плече Луция, не стала его отталкивать, чтобы не сделать больно. Она пожалела его, и от этого чувства ее опалило волной тепла, слившегося с теплом юноши. Чувство тяжести исчезло, наоборот, стало неожиданно легко. Она слегка поменяла положение и расслабилась, все сильнее отдаваясь ощущению невесомости, вносимому в нее горячим телом юноши. Луций, восприняв ее поведение как сигнал к активным действиям, нежно и вместе с тем сильно и решительно раздвинул ноги девочки.
Она вскрикнула от боли и дернулась в его объятиях, но он не отпустил ее, а внимательно следя за горящими глазами и то ослабляя, то усиливая толчки в зависимости от подергивания век и слабых стонов, слетающих с ее губ, чтобы не сделать девочке больно, все глубже проникал в нее. Когда же тело юноши победно вздрогнуло, и он радостно вскрикнул, Лина лишь недоуменно посмотрела на него. Она оттолкнула его и, испытывая боль и жалость к себе, уставила неподвижный взгляд в потолок. Луций что-то успокаивающе шептал ей, ободряя, а она обвиняла его, не понимая, зачем он так обошелся с ней.
— Теперь ты доволен? — спросила она сухо.
— Очень, — ответил он ей и нежно поцеловал в губы. — Еще никогда мне не было так хорошо!
И тут она испугалась, что могла бы не удовлетворить его, и обрадовалась за него. И от этой радости ей стало хорошо.
Девочка притянула Луция к себе и, крепко прижав, скомандовала:
— Теперь лежи тихо. Я буду слушать, как стучит твое сердце во мне…
Луций тоже решил последовать примеру девочки и вскоре почувствовал правой стороной груди, как тянется к нему ее сердце.
— Никогда не думала, что любить так интересно! — развеселилась Лина.
— Я тоже, — впервые за последнее время не смог сдержать смеха юноша.
— Давай так и будем лежать, ничего не делать и не вставать.
— Я раздавлю тебя.
— Мне не тяжело. Наоборот, очень приятно. Луций не вняв пожеланию, а воспользовавшись благоприятным положением, нежно, чтобы не сделать больно самому для него дорогому на свете существу, вновь овладел девочкой. Испытывающая счастье не от удовольствия, а от радости, которую доставляла юноше, Лина старательно выполняла указания более опытного партнера. Закончив, Луций, еще очень слабый после ранения, растянулся рядом с девочкой, а она с любопытством и нежностью стала гладить и целовать его.
Вначале она сдерживала себя боязнью за состояние раненого юноши, но вскоре утробно застонала и, воспользовавшись его согласием и стараясь давить не слишком сильно, забралась на него. Только теперь она испытала истинное наслаждение, разраставшееся в ней все сильнее. Не в силах удержать в себе удовольствие, Лина громко закричала и, дернув ногой, ударила с силой по крайнему пруту решетки, отчего та, дрогнув, поднялась.
Пройдя за решетку и миновав галерею, влюбленные выяснили, что вновь оказались в тупике. Юноша попытался покопать валявшейся в глухом коридоре лопатой, но, поскольку наталкивался лишь на камень и металл, оставил эту затею; затем обстучал черенком стены и обнаружил едва заметные контуры круглой дверки. Тогда он изо всех сил ударил в нее черенком, и дверь распахнулась в порушенный сад.
4. ЗВУКОВИЗОР
Выброшенный взбунтовавшимися согражданами в раскрытое окно второго этажа Нарцисс вскочил на ноги и бросился к фонтану. Впервые вступившись за другого, поэт едва не расстался с жизнью, но решимости спасти друга-певца у него не убавилось.
— Бежим! — закричал он еще на бегу. — Историки возбудили толпу и идут убивать нас!
— Не оружием защищают боги, а живым словом, — кротко ответил певец и пописал в фонтан. — Сохраняй спокойствие. Никакой враг не проникнет в нашу цитадель.
— Но я нахожусь по другую сторону барьера, — по-прежнему испуганно проговорил Нарцисс.
— Иди на мою сторону, — повелел ему друг, и Нарцисс мгновенно перемахнул бордюр, плюхнувшись в жижу. — Настал мой час, — продолжал Орфей загадочно.
Однако пыл певца был совершенно напрасен. Заляпавшийся в грязи Нарцисс пришел в такой ужас от своего подпорченного вида, что забыл обо всем на свете. Он бы выскочил из фонтана и помчался мыться в стан мятежников, но мысль о том, что придется шагнуть в тину, парализовала его. Нарцисс застыл, как цапля, на одной ноге и молчал. Зато Орфей прочно стоял на ногах.
— Идем, — тянул он Нарцисса. — Наше место в центре восстания!
— Остановись! — панически завизжал Нарцисс. — Ты обрызгаешь меня.
— Ну что ж, — глубокомысленно согласился певец, — разум обладает содержанием лишь через существование, — и почесал затылок, пораженный мудростью собственного высказывания.
Орфей нагнулся и вытащил из-под стопы предмет, напоминающий формой и размерами побуревший от времени кирпич. Он пробежал пальцами по ряду клавиш, пробуя их, и над ним появилось слабое голубое сияние, как у экрана телевизора. В зависимости от строя мелодии цвет облачка менялся то плавно, то вспыхивая вдруг всполохами. Воплощаясь в душу инструмента, певец временами жмурился, потом открывал глаза, убеждаясь в гармонии изображения и звука.
Когда Орфей заиграл, Нарцисс встрепенулся и начал чиститься, а пациенты, забыв о бранных делах, потихоньку потянулись во двор слушать чудесную музыку. Удивительный инструмент воспроизводил не традиционные звуки, а голоса природы, и когда исполнитель касался клавиш, слышалось пение птиц, шум листвы, стрекот кузнечиков… Звуки не уходили, а, сплетаясь между собой, рисовали картины в воздухе.
Трудно было определить, что это скорее: пение или декламация, но тонко найденное чувство единения с природой не проходило. Лица слушателей невольно разгладились и умиротворились, а Орфей наставлял их.
Всем вам посланникам природы пришедшим возродиться из безумной прострации земной цивилизации привет! эвохэ! Пойте пляшите блудите страдальцы скитальцы бездушной среды. Смертному солнцу прогресса пришел крах. Свет Диониса сияет в ваших сердцах!— Эвохэ! — поддержал певца Нарцисс. — Сольемся с природой, друзья, — объяснил он значение возгласа, и вновь, не удержавшись, воскликнул: — Эвохэ!
— Эвохэ! — дружно закричали пациенты забавное слово и пустились в пляс вокруг фонтана.
— Обвиняет прогресс, а сам пользуется электронным звуковизором! — торжествующе вскричал Тойбин.
— Шарлатан! — в тон ему возмутился Губин и метнул в Орфея палку, как копье.
Сил на дальний бросок не хватило и тирс, не долетев до постамента, ткнул Нарцисса в бедро. Копье лишь слегка поцарапало кожу, но на ней выступила кровь, и поэт, вытаращив от ужаса глаза, упал в обморок. Успех вдохновил Тойбина, и он, схватив камень, запустил им в Орфея. Однако камень упал, не долетев до бордюра.
Пальцы Орфея стремительно забегали по клавишам, и в головах слушателей одновременно раздался резкий пронзительный вой.
Столь могучий эмоциональный взрыв даже вернул к жизни Нарцисса. Он удивленно рассматривал собравшихся, корчившихся в муках на земле. Орфей же, казалось, ничего не замечая вокруг себя, продолжал нагнетать ужас на толпу. Нарциссу пришлось довольно основательно подергать друга за ногу, прежде чем тот оправился от экстаза.
Мелодия вновь начала приобретать гармонию. Слушатели, приходя в себя, недоуменно вертели головами, проверяли уши, глаза, другие части тела. Некоторые хотели было вернуться в больницу, но чарами музыки Орфей остановил их и запел.
Согревающая бездны сеющая солнца и невидимый свет многоликая Мать всех миров и богов покорная и великая душою Аниты заклинаю моля: сюда! сюда! себя проявляй, притекай. Дай узреть в лоне чудес духов бездны земли и небес!После этих слов ропот недоумения потряс толпу, ибо из открывшейся прямо в постаменте никем никогда не замечаемой дверки появился Луций с лопатой в руке и следом за ним Лина. Тотчас Орфей, отложив инструмент, спустился к юноше.
Ослепленный дневным светом юноша с трудом воспринимал происходящее. Умиротворенность обстановки и благожелательность встречи усыпили его бдительность, и он, легкомысленно посчитав, что лопата ни как инструмент, ни как оружие ему больше не понадобится, с удовольствием отбросил ее.
Находящиеся в недоумении пациенты переминались с ноги на ногу, ожидая продолжения зрелища. С каждой минутой состояние их становилось все опасней. Оценив ситуацию, Орфей вновь взял звуковизор. На этот раз тихие звуки музыки навевали покой. Они сморили больных, и те почти все уснули стоя.
Неизвестно, что приснилось другим больным, но Луций увидел рядом с собой, на месте фонтана, баньян и ужа Эскулапа под ним, потом сразу же горную долину с каменным крестом и оперяющимся лебеденком. Как только оборвался калейдоскоп картинок, в саду сумасшедшего дома появилась небольшая группка прихожан, ведомых отцом Климентом.
Погруженные в собственные переживания историки даже не заметили Луция и Лины. Брошенные собственным войском, они пристроились на травке и разрабатывали дополнения к гениальному генеральному плану, бездарно проваленному незадачливой толпой.
— Как ты классифицируешь вражеские действия? — испуганно интересовался Губин.
— Это магия, потому что никаким человеческим оружием нас не одолеть, — глубокомысленно закачал головой Тойбин.
— Вот только как этому слабоумному Орфею удалось вызвать потусторонние силы с помощью звуковизора?
— Он усыпил в них страдание, — отметил Губин и заерзал на начавшем крошиться гниловатом пеньке. — Люди существуют в ненависти и преступлениях, в бедствиях и любви и, страдая, познают. Эта же, играющая на низших страстях музыка тянет их в пропасть.
— Без страдания нет прогресса, — согласился Тойбин.
— Но мы же с тобой есть! — обнял он друга.
— Что же нам делать, чтобы спасти революцию? — спросил живо Губин, привстав от нетерпения.
— Ничего, — отрезал Тойбин. — Мы же ученые и лучше других знаем, что ход истории изменить нельзя.
— Это без сомнения, — закивал Губин. — Пока же займемся перегруппировкой сил.
— Изображая недеяние, мы создадим впечатление отказа от борьбы, что неминуемо подорвет бдительность врага. А сами просто выждем благоприятный исторический момент. Итак, ни слова более!
Поклявшись хранить тайну, историки разошлись в разные стороны, чтобы скрыть все следы военного совета.
5. БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Осененные отцом Климентом до обеда и после него сумасшедшие забыли о своих недавних подвигах и совершенно успокоились. Часть из них осталась в палатах, другие ближе к ночи вышли во двор и расположились на свободных пеньках, смешавшись с прихожанами.
— Погрузись в собственную глубину, прежде чем подниматься к началу всех вещей. Сожги плоть огнем мысли, отделись от материи, как отделяется пламя от дерева. Пусть мысль твоя устремится в эфир подобно лебедю, — торжественно напутствовал отец Климент застывшего перед ним Луция.
На участвовавшего в масонском и буддийском посвящениях, в эзотерических и сатанинских мистериях юношу велеречивость обращения священника, сказать по правде, не произвела особого впечатления. Он сам ободряюще кивнул заметно нервничающему наставнику, но к данному ему совету отнесся со всей ответственностью. Укрепленный отец Климент отошел к Лине, которая нуждалась в успокоении значительно больше.
На место священника выдвинулся проповедник очередной религии, в котором юноша без труда признал ближайшего друга лицейского старосты Эола — Квинта Гортензия. Помня произошедшее с тем превращение, Луций ничуть не удивился встрече. Облаченный в потускневшую от невзгод желтую портьеру, кришнаит, когда всмотрелся, тоже признал недавнего однокашника. Он ласково обнял его и шепнул доверительно, красноречиво кивая на Лину:
— Ты всегда был крутым парнем, но если не выбросишь девчонку из головы, сгоришь ни за что.
Отец Климент с трудом удержал Лину, готовую наброситься на кришнаита.
— Почему ты считаешь этого юношу не готовым? — сурово спросил священник.
— Лишь непоколебимый праведник, наделенный божественной природой, может увидеть Лотосоокого господина, — смело отвечал новый послушник общины отца Климента.
— Это как раз о моем Луции, — отодвинулась Лина от кришнаита и зашептала, обращаясь к любимому и ко всему миру:
— Они хотят всю твою жизнь забрать себе, лишить тебя всего, не давая ничего взамен. Всегда ты мог рассчитывать лишь на собственную выдержку; ну и иногда на мою помощь, — улыбнулась девочка. — А тебе, кроме жертв, ничего другого не довелось испытать, милый мой. Помнишь, как ты поклялся более не поднимать руки ни на одно живое существо? Ты даже не мог убить в подземном переходе крысу, от которой я так визжала, — вспомнила девочка и неожиданно рассмеялась. — Сколько ты возился с братом и сколько вынес за это. А тебя постоянно заставляют уходить от себя… и от меня, — добавила девочка грустно после небольшого раздумья. — И разве есть хоть одна вещь, которую ты не мог бы отдать другому? — Подумав, Лина добавила: — Впрочем, кроме меня, — еще раз подумав, она возмутилась: — Но я же не вещь!
Я знаю, ты никому не хочешь мстить. Всегда ты лишь пенял на себя, и никто не сумел бы отговорить тебя от сегодняшнего испытания. Отец Климент сказал мне, что, как Христос, ты поведешь за собой любовью. Я не расстроилась. Христа всегда сопровождала Мария, я стану, как она. Знай, что бы ни случилось, я никогда не расстанусь с тобой!
Лина расплакалась, не в силах вынести несправедливости, обрушившейся на ее Луция, жалея его и себя.
— …Все эти качества присущи праведным людям, наделенным божественной природой, — вдруг прозвучал голос Квинта. Все это время, как оказалось, он разъяснял свою позицию одновременно девочке и отцу Клименту, которые, понятное дело, не слышали ни одного его слова.
— Успокойся, девочка, — ласково обнял Лину отец Климент.
Клавдия хотела было указать молодым, но лишь тяжело вздохнула, вспомнив сбежавшую с китайцем Машеньку, которую она столь долго наставляла.
Луцию было очень радостно слышать слова Лины о нем, хоть он и не замечал ничего вокруг себя, не испытывая, впрочем, большого интереса к ожидаемой процедуре. Он, конечно, помнил о гибели мальчика, общавшегося с Предвечным, и не мог быть до конца уверен в удачном ходе испытания, хотя со стороны Провидения, в которое он безоговорочно уверовал в последнее время, это было бы по крайней мере удивительно. Действительно, стоило ли провести его через столько испытаний, чтобы прервать жизнь в самом начале долгого пути, который все больше открывался перед ним.
Вспоминая происшедшее в его короткой жизни, он отмечал в себе изменения. Множественные религиозные знания, приобретенные за последний год, переплавлялись в нем в веру. Она росла и распространялась, но не могла вырваться наружу, ибо не было объекта поклонения. Дорога расширялась и распрямлялась, светлел горизонт, он, сам сын человеческий, готов был к встрече с другим Сыном Человеческим, зная, впрочём, что эта встреча лишь веха, пусть невероятная, невообразимая и потому не представимая в форме осуществления и последствиях, и все же только отметка на его жизненном плане. При этом он еще ничего не совершил и потому не мог себя сопоставить ни с одним великим учителем, праведником или пророком, и не понятно было, что о нем нацарапают на астральном плане липики-перфораторы, или говоря иначе: кто этот Луций, о котором он размышляет и за которого рассуждает, и все же он знал, что сегодня многое должно определиться в его жизни.
Не состоявшееся произойдет, невыученное познается, столбовая дорога томилась ожиданием, только он почти так же смутно, как и в самом начале пути, представлял того, к кому она ведет. Сегодня ему давался шанс попытаться узнать что-то о том, в чье существование он уже почти верил и которому был почти готов служить, и не использовать его Луций не мог. Он должен был овеществить идею Верховного Божества миров вселенной или…
Это «или» было совершенно не понятно. Как не понятно было любое существование без Лины. Собственно, она являлась еще одним свидетельством присутствия Провидения в его судьбе, и никакого пути без нее просто не могло быть.
Тут Луций невольно оторвался от своих мыслей и посмотрел на Лину. Девочка поймала его взгляд и, покраснев, сделала движение навстречу, но отец Климент ласково и вместе с тем настойчиво удержал ее, а Луций, отчего-то вздохнув, вернулся к своим мыслям. Впрочем, оказалось, что ни о каком «или» он всерьез размышлять не собирался, а все это время думал о вопросе Предвечному. Юноша никогда не говорил с отцом Климентом о том, что тот пытался узнать, используя его как проводника. Луцию казалось, что их интересы полностью совпадают, и он полагал выяснить все интересующее его через вопросы священника. Однако на всякий случай следовало быть готовым и без посторонней помощи узнать мнение Предвечного о самом себе и отношении Его к людям. Ибо никакой веры, не согласуемой с его выстраданными убеждениями, Луций в мир никогда бы не понес.
Размышления юноши прервал подошедший к нему отец Климент.
— Готов ли ты, сын мой?
— Готов. Священник взял юношу за руку и опустился вместе с ним на колени. Испуганная бледностью любимого, Лина встала на колени по другую от него сторону и взяла за свободную правую руку. Луций тревожно сжал руку девочки.
Отец Климент обратился к Предвечному:
Вещь в неведомых мирах возникшая вечная всегда везде пребывающая всюду действующая вне всяких пределов преград вновь возвращаясь яви себя по слову своему.Поддерживая просьбу священника, Орфей заиграл за их спинами на звуковизоре. Нежная, слегка тягучая мелодия успокоила присутствующих, их окутал желтоватый туман, в котором высветились едва заметные до того силуэты. К сияющим на небе звездам прибавились новые звездочки, повисшие над садом. Часть людей что-то замурлыкала себе под нос, другие закружились в легком танце.
Постепенно музыка стала строже и возвышенней, туман поголубел, затем посинел, круговерть звездочек угомонилась, и на ночном небе ровно засветило тяжелое спокойное солнце. Пробовавшие голоса христиане двинулись друг к другу и, собравшись вместе, запели псалом.
Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля! Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред Лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля! Скажите народам: Господь существует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Да веселятся небеса, и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные Пред лицем Господа; ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы — по истине Своей.Несмотря на всю подготовку и самоподготовку, не в силах противостоять Высшей воле, Луций высвободил руки и, шатаясь, как лунатик, побрел к фонтану. Взобравшись на постамент, он сел на него, свесив вниз ноги и болтая ими в воздухе. Не отходящая от юноши ни на шаг Лина прижалась спиной к постаменту и так застыла, откинув голову юноше на колени.
Луций зарылся руками в волосы Лины и заговорил:
Я тот кто (что) всегда везде есть дал жизнь человекам желая наслаждаться произведениями фантазиями порождениями ума. Вернулся взглянуть на представление высшего разума и встретил вместо веселия занимательнейших игр занудство богов вампирующих вселенским логосом рвущих энергетические потоки разбухающих сладострастием страданий унижений покаяний запугивающих заманивающих в сети заблудшиеся стада себе подобных замышляющих захваты власти передел священных миров. Забудьте своих богов заприте заполоните обратно во мне отриньте и вновь обретите возрождая верой знания выношенного в себе. Ибо от сотворения века нет Бога без человека!С последними словами пальцы юноши впились в голову Лины. Она вскрикнула, на глаза у нее навернулись слезы, но юноша, не замечая причиняемой боли, давил все сильнее. Девочка безуспешно пыталась сбросить с головы сжимающие ее руки, потом превозмогла боль и, успокоив свои пальцы, стала ласкать ими сведенные кисти юноши. Его заледеневшие пальцы оттаяли и порозовели, постепенно Луций очнулся и приподнял безвольно опущенную голову. Сняв с себя руки юноши, Лина стала целовать их, а от слез, капающих на его пальцы, Луций окончательно пришел в себя. Все отчетливее стала вырисовываться стоящая перед ним Лина, и вот он уже признал ее широко расставленные синие, как небо, глаза, даже в минуту его слабости с обожанием смотрящие на него. Соскочив с постамента, юноша встал на колени перед Линой, уткнувшись головой в упругую ткань живота, а девочка гладила и гладила его непокорные волосы и радостно улыбалась.
Тусклое светило послало тепло, и оцепеневшие участники мистерии зашевелились и обступили обнимающихся влюбленных. Пораженные мужеством молодых, они стремились засвидетельствовать им свое восхищение.
— Стойте! — удержал их юноша горько. — Я был лишь инструментом в чужих руках, ничего не видящий и не слышащий слепой, глухой идиот. Я жду толкования больше вас, — и он обратился к священнику: — Отец Климент, просвети нас.
— Не скоро ты вступишь в обоюдный контакт, но ты совершил главный шаг и узнал ответ.
— Я скажу тебе, — шепнула Лина и крепко прижалась к Луцию. — Я слышала все!
— Садитесь, — пригласил их Нарцисс и подвинулся на бордюрном камне.
Орфей вновь заиграл на звуковизоре, и полевые цветы словно бы закивали молодым.
— Ты не боишься, что и мы станем такими же, как они? — показала Лина в сторону сумасшедших.
— С чего это вдруг? — поразился Луций.
— Ведь мы же влюбленные, разве не так? А все влюбленные немножечко сумасшедшие.
Они вновь поцеловались и, смеясь, сели на землю.
— Ха-ха-ха! — поддержал удачную, на его взгляд, шутку Лины рыжий ассириец, решивший прогулять в саду свою прекрасную спутницу. — Это они про нас! — Он крепко поцеловал в губы танцовщицу Машеньку, и только после этого опустил с рук на землю. Распаленный возлюбленный не замечал вокруг себя ни участников мистерии, ни маленького человечка, скользнувшего в психушку следом за парочкой.
— На этот раз придется потерпеть, — мгновенно вскочила на ноги женщина, смущенная толпой, и покрутила пальчиком перед самым носом распаленного мужчины.
— Ам! — грозно щелкнул зубами сапожник, но тут же вновь громко захохотал и легонечко хлопнул Машеньку по заду. Она доверчиво прижалась к нему, смущенно перебирая блестящие пуговицы на кожаном переднике.
Выследивший прелюбодеев Ван, возмущенный всей глубиной бесстыдства, творящегося на его глазах, больше не смог сдерживаться.
— Попались! — завизжал он, брызжа слюной. — Коварная обманщица, — перешел китаец на личности. — Я обучил тебя тысяче нефритовых толчков, и где благодарность? Ты спуталась с мерзким огнепоклонником! — Он сверкнул глазами в сторону ассирийца, прикладывающегося к фляжке и, видя невозмутимость того, продолжил: — Одна инь и один ян должны постоянно помогать друг другу, тогда двое будут в общении, и их выделения будут питать друг друга. Даю тебе последний шанс — возвращайся!
Ван широко развел руки. Машенька грациозно забрала фляжку у нового возлюбленного и, глотнув, нежно шепнула китайцу: — Вали отсюда, старый пень, пока жив! — Тут она ласково улыбнулась ассирийцу и еще крепче прижалась к нему.
Сапожник благосклонно принял ласку. Привлекая к себе Машеньку одной могучей ладонью, другую он демонстративно сжал в кулак, отваживая отвергнутого поклонника. Потрясенный Ван горько зарыдал и направился к психологу, чтобы получить научное объяснение коварства танцовщицы. Благосклонно выслушивая китайца, врач незаметно и вместе с тем неотвратимо сдвигался к Машеньке. В свою очередь, очарованная безумной страстью, сверкающей во взгляде психолога, женщина не отрывала от него глаз, а грудь ее вздымалась все шумней и тревожней.
Вдохновленный Орфей запел.
Женщина в жизни являет природу мужчина — духа породу. Сплетаясь в саду у ограды ищут на небе награду. Как будто единое вечно женское вечно мужское бывает лишь космическое и никакое иное. Неужели в кричащей толпе или постылой глуши мировому духу не обрести мировой души?— Нисходя на землю и восходя в космос, светлые потоки духа и темные потоки чувства рождают иллюзию красоты, — выговорил долго оттачиваемую фразу Квинт.
— Но мир земли существует для людей, и человек не тварь, воющая на луну, а красота для мужчины в женщине и для женщины в мужчине. Не так ли, друг? — легонько хлопнул Орфей по плечу Нарцисса.
— Не только, — ответил тот и слегка раздвинул лилии, мешающие ему наблюдать свое отражение в пруду.
— …И в самих мужчине и женщине, — улыбнувшись закончил певец.
— Нет, — возразил отец Климент. — Красота в Боге, а человек лишь ее отражение на земле.
— Мы не согласны с тобой, — вновь обнял Орфей Нарцисса. — Красота в людях, но она может быть божественна.
— Красота во мне… и в боге, — подумав, добавил Нарцисс. — Хоть я и не видел богов, красивее себя.
Выслушав друга, Орфей запел о всесилии чувства в разумном мире.
Волшебная музыка раскрыла все двери, и двое пожилых узников сумасшедшего дома в застиранных синеньких пижамках и серых резиновых тапочках впервые за последние десять лет вышли на улицу. Луций узнал родителей, а они, плача, благословили его и Лину.


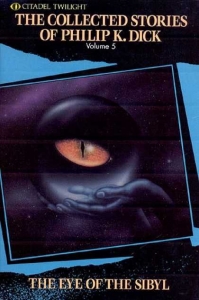






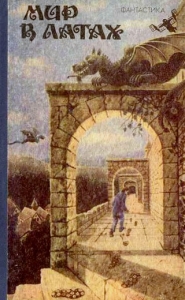
Комментарии к книге «Четвертый Рим», В. А. Галечьян
Всего 0 комментариев