Если бы между прошлым и будущим, не было настоящего, все плохое было бы уже позади, а впереди было б только хорошее…
Упрагор, или сказание о Калашникове
Часть первая
1
Опережая Суворова на две тысячи лет, Ганнибал совершал свой исторический переход через Альпы.
Была осень. Шла Вторая Пуническая война.
И до чего же она прожорлива, победа, сколько она сжирает людей! А поражение? Разве оно не сжирает людей? Когда они пируют за одним столом (а они всегда за одним столом), поди разберись, кто больше сожрал — победа или поражение.
Об этом не думает Ганнибал. Он продолжает свой исторический переход через Альпы.
Это не Ганнибал. Это Калашников. И не через Альпы он идет, а просто по улице, хотя мысленно повторяет высокий путь Ганнибала.
Исаак Ньютон не может скрыть удивления: почему это человека тянет вверх? Ведь, согласно открытому им закону, человека должно тянуть вниз, к земле.
Ньютон ошибается. Это реки текут сверху вниз, а люди текут снизу вверх, поднимаясь к вершинам знаний, чинов, житейского опыта. Может быть, закон всемирного притяжения к земле имеет оборотную сторону — притяжение к небу?
Ньютон в раздумье продолжает путь.
Это не Ньютон, это Калашников.
На складе истории столько замечательных биографий. Всего только раз использованные, они навсегда похоронены, а ведь могли бы еще служить. А мы с чем живем? С какими мы живем биографиями?
Хорошую биографию можно носить и носить, а плохую и раз надеть стыдно. В таком-то году пошел в школу… В таком-то году поступил в университет… Нет! В таком-то году взошел на костер, как Джордано Бруно!
Это не Джордано Бруно. Это опять Калашников.
Я хочу рассказать о Калашникове, но не знаю, как лучше начать. Самое трудное о Калашникове начать, потому что начало — самое неясное место в его биографии.
Помнилось ему, что был он когда-то эхом в горах, родился от того, что какой-то звук обо что-то ударился. Но от какого звука, в точности он не знал. Хотелось, чтоб от победного крика «ура!», когда наши солдаты шли в наступление. Но, может, и не от крика. Может, от звериного рыка. Или от грома — это уже небесное происхождение, в него Калашников не верил, потому что был убежденный материалист.
Он вполне допускал и даже надеялся, что его далекие предки имели внешность, но по своей скромности старались поменьше показываться на глаза, вот внешность и атрофировалась у них за ненадобностью. Им-то, покойным предкам, она, может, и не нужна, а как Калашникову без внешности ей показаться?
Да, была у него она, его единственная, — такая же голь перекатная, как и он: ничего не имела, даже внешности. Калашникову она нравилась тем, что всегда его повторяла. Так бывает, когда перекатывается эхо в горах: одна голь перекатная повторяет другую.
Иногда такое приходилось повторять, такие попадались компании… Вроде приличные люди, а как раскроют рты… Калашников прямо шарахнется в сторону, сделает вид, что не слышит. Потом — куда денешься? — повторит, но потихоньку, чтоб она не услышала.
Стеснялся. А им стесняться нечего, еще шире раскроют рты. Приходилось повторять громче. И она повторяла. Верила: не может он плохого сказать.
Потеряли они друг друга, когда обзавелись внешностью. Они ведь не знали друг друга в лицо, никогда не видели, как же они могли друг друга узнать?
С внешностью у Калашникова живее пошли дела, взяли его в Упрагор, в главное горное управление. Обнаружилась его способность не просто повторять чужие слова, а повторять еще раньше, чем было сказано. Предугадывал то, что требовалось повторить. Те, которых повторяют, любят, чтоб их предугадывали: так им бывает легче высказать свои мысли.
Но предупредили Калашникова, чтоб не воображал. Хоть его слово и первое, но оно все равно повторяет второе. А главное — чтоб не повторял отсебятины, чтоб ни слова против того, что следует повторить. Одно слово против — его нет, он сгорел, как до него сгорели многие.
Так ему сказали в Упупе — Управлении Управлениями. И подтвердили в Упупупе — Управлении Управлений Управлениями. Потому что кто же, кроме них, может сделать человека из ничего? Просто взять и назначить человеком?
Кто-то из великих сказал, что следовать за мыслями умного человека есть занятие увлекательнейшее. Так то «за мыслями. А каково следовать «перед мыслями, причем не такого уж умного, не хватающего с неба звезд? Как говорил еще кто-то из великих, у умной мысли много родителей, а глупая живет сиротой. Одно утешение, что у нее большое потомство.
Тот, чьи мысли Калашникову предстояло отражать, ни в каком отношении не был выдающимся человеком. Следовать впереди его мыслей было занятие скучнейшее — все равно что следовать впереди похоронной процессии, да еще вдобавок лежа в гробу.
2
«Не то время, которое тратим мы, а то время, которое тратит нас», говорил Михайлюк, которого время сильно потратило. Этот старый интеллигент никогда не успевал к пирогу: когда все уже хватали и заглатывали куски, он еще только шел мыть руки, а потом, уже с помытыми руками, начинал искать вилку и нож, которых никогда поблизости не оказывалось. Если же, преодолев себя, он решался взять кусок немытыми руками, тут же со всех сторон раздавалось: «А вилку? А нож? А помыть руки?» И он опять не успевал.
Начинал он с полуфизики. Есть немало явлений, которые физика на современном этапе не может объяснить, хотя на прошлом могла, а на позапрошлом знала их досконально. Взять хотя бы эти нимбы вокруг голов. С ними все было ясно, пока не стали их называть биологическим полем. Незнание развивается параллельно со знанием, и только в союзе со знанием незнание достигает вершин.
Именно этот постулат лег в основу великой науки полуфизики. Но для всех великих наступают трудные времена. Полуфизику назвали служанкой метафизики, а как назвали метафизику, неприлично даже вспоминать.
Ошибка полуфизики заключалась в том, что, не ограничиваясь действительностью, данной нам в ощущениях, она вышла за пределы наших ощущений, в мир других ощущений, нам неведомых. Таких ощущений множество, но в науке не принято с ними считаться. Хирург оперирует при помощи инструментов, которые у него под рукой, а не при помощи тех, которые в какой-то неизвестной больнице.
Если кто-то в природе воспринимает мир при помощи электрического тока, то он мало что знает о предметах, не пропускающих ток.
А кто-нибудь другой, воспринимающий мир делением атомов, может называть ядерную реакцию ядерным прогрессом, хотя мы-то знаем, что прогресс и реакция несовместимы.
Или совместимы? Много было споров по этому поводу. Да и разве можно в науке без споров?
Сверху сказали: можно. Без споров можно, со спорами нельзя. И спор прекратился.
Да, упустили мы приоритет полуфизики. Теперь гоняемся за ним по всему свету, собираем по крупицам то, что возникло у нас, доказываем, что оно здесь, а не там возникло.
Когда полуфизику объявили служанкой метафизики, Михайлюк ушел из нее в физику, которой в ближайшие тысячу лет ничего не грозило. Чтобы заниматься действительностью, данной нам в ощущениях, изучать реальную действительность как действительную реальность.
Реальность все больше брала власть над действительностью, и из физики тоже пришлось уходить. Увел из нее Михайлюка ученик, который был не очень силен в науке, но прекрасно разбирался в действительности.
Звали его Федя, уважительно — Федор Устинович, сокращенно — Федусь. Он увел Михайлюка сначала в биофизику, затем, когда в биофизике стало страшно, в геофизику, а оттуда в институт физической географии (фигинститут). От фигинститута впоследствии отпочковался Упрагор, возвысившись над ним и приняв на себя руководство.
Пока они кочевали из института в институт, Федусь постепенно становился из ученика учителем, а Михайлюк из учителя учеником. Правда, талантливым учеником. В любой физической науке Михайлюк легко достигал вершин и всякий раз испытывал страх, поскольку любая вершина соседствует с пропастью. С годами он стал себя сдерживать, чтоб не очень открывать. Привыкал держать в узде свой талант, свое гениальное провидение. Когда открытие чересчур уж распахивалось, он его слегка прикрывал. Так делали многие, даже те, кто вообще ничего не открывал, причем получали за это награды — не за открытия, а именно за прикрытия.
К сожалению, в науке не бывает вершин, которые не были бы окружены безднами. Природа так устроена: вершины неотделимы от бездн. И с вершины некуда — только в бездну.
Федусь обладал обостренным чутьем бездны. Когда разражался гром над его наукой, он над ней гремел громче всех и одним из первых ударял в нее молнией. Но, устроив пожар в собственном доме, он тут же начинал выносить из огня своих самых верных друзей и сподвижников.
Рассказывали о физике, к которому в трудное для него время Федусь пришел сам, но первым делом поинтересовался: «Надеюсь, у тебя не политика?» — «У меня национальность», — ответил пострадавший.
Национальность — это не так страшно, и Федусь пошел по инстанциям, всюду доказывая, что у его протеже не политика, а национальность, и даже напоминал о государственной национальной политике.
Все-таки политике. Хотя и национальной.
Так же он вынес из пожара Михайлюка, в прошлом своего талантливого учителя, а ныне талантливого ученика, объяснив ему, что истина не рождается в споре, она рождается в мире, согласии, в умении договориться, найти общий язык. Гора с горою не сходится, но человек с человеком всегда сойдется. Если бы мы не помогали друг другу, говорил Федор Устинович, нас бы давно порубили, пожгли. Как нам было трудно! Ведь у нас были средние века! А с тринадцатого по двадцатый век у нас был малый ледниковый период. И все самые выдающиеся открытия сделаны нами в условиях ледникового периода. Вы знаете, какой у нас был первый по-настоящему теплый год — за весь ледниковый период, за многие его столетия? Ни за что не догадаетесь! Одна тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Это доказано наукой климатологией. Вероятно, он должен был быть раньше, еще в средние века, но задержался из-за ледникового периода. Зато он был таким теплым, что многие вынуждены были отправиться на Север, а некоторые даже провели его на Северном полюсе.
Федусь в науке был авторитет. В свое время он открыл объективный закон, по которому вершины имеют конусообразную форму. При такой форме их поверхность лучше освещается солнцем, к чему стремится любая поверхность.
Не каждый откроет объективный закон. Желающих много, а законов мало. После такого выдающегося открытия Федусь и сам стал максимально освещаться солнцем, и больше ничего открывать ему не требовалось. Но оно как-то само открывалось. И это тоже объективный закон. Закон авторитета, который удочеряет истину (являющуюся, по Бэкону, дочерью времени, а не авторитета), становится автором истины — ну, в крайнем случае, соавтором. Потому что у каждой вершины есть и склоны, и отроги, которые тоже без дела не сидят. Они упорно работают, пока ты максимально освещаешься солнцем.
Раньше в науке соавторов не было. Были просто авторы, соавторы же появились сравнительно недавно. Ссылаются на Бойля и Мариотта, но они не были соавторами. Это их потом, после смерти сделали соавторами, а они, возможно, даже не были знакомы друг с другом.
Может, при Бойле и Мариотте и слова такого не было. Так же, как не было соискателя. Искатели были, а соискателей не было.
Хотя были слова такого типа. Соратник, например. Сотрапезник. Но как-то незаметно эти слова устарели. Вместо сотрапезника появился собутыльник, вместо соратника — в лучшем случае сотрудник, а в худшем — соучастник.
Федора Устиновича время не так сильно потратило, как Михайлюка, оно его экономило, зная, что Федор Устинович ему еще пригодится. Что бы в жизни ни менялось, Федор Устинович пригождался всегда в первых рядах, он так быстро приспосабливался к меняющимся обстоятельствам, что обстоятельства не успевали за ним изменяться.
3
Комнату Калашников снимал у хозяйки, которая и сама не была хозяйкой, а снимала у настоящей хозяйки две комнаты. За эти две комнаты она платила шестьдесят рублей, а с Калашникова брала пятьдесят, так что жила всего за десять. Но и настоящая хозяйка не была в полном смысле хозяйкой: она снимала трехкомнатную квартиру у хозяйки, которая была прописана здесь, а жила совсем в другом городе. Хозяйка хозяйки Калашникова переводила ей по почте шестьдесят пять рублей, так что сама жила всего за пять — как при коммунизме.
Ближайшую хозяйку Калашникова звали Зиной, более отдаленную — Жанной Романовной, а иногороднюю — П.В.Горобец. Фамилия странная и даже как будто не женская, а может, и вовсе не человеческая, хотя, как известно, нечеловеческих фамилий не бывает. Не может какой-нибудь Зяблик носить фамилию Горобец. Для него это обидно, а для горобца оскорбительно. Но люди привыкли на свои фамилии не обижаться.
Калашников присматривался к своим хозяйкам, пытаясь определить, какая из них могла бы быть его единственной. Что-то было в каждой от той, которая откликалась ему в горах, но их внешность постоянно сбивала с толку.
Внешность вообще обманчива. Почти сорокалетняя Жанна Романовна, хоть и выглядела старше двадцатипятилетней Зиночки, по своему жизненному опыту была несомненно моложе. Когда случайно зашел разговор о горе Монблан, сквозь которую прорыт туннель из Франции в Италию, выяснилось, что Жанна Романовна не слышала не только об этом туннеле, но и о самой горе Монблан и лишь весьма отдаленно — о Франции и Италии. У Зиночки же половина вещей была из Франции, другая половина — из Италии, не исключено, что с этой самой горы Монблан. А может быть, и с более высокой горы, поскольку достать их оттуда почти не представлялось возможным.
Но Зиночка доставала. Она, как опытный альпинист, находилась в одной связке с другими альпинистами и благодаря этим связям могла достать что угодно даже с горы Эверест. Что могла противопоставить этому Жанна Романовна?
Только твердость характера. Жанна Романовна работала в гостинице дежурной по этажу, и главной ее заботой было следить за тем, чтобы мужчины не входили к женщинам, а женщины — к мужчинам. За многие века, а может быть, и тысячелетия у людей образовалась стойкая привычка тянуться к представителям противоположного пола. Вот с этим и боролась дежурная по этажу, вызывая у постояльцев ощущение, что гостиница не только дает им приют, но преследует и другие, исправительные, а может быть, и карательные цели.
А Зиночка работала в театральном буфете. В театре, а особенно в буфете, было, конечно, много интересного. Наиболее интересное Зиночка приносила домой и даже иногда кое-что уступала Калашникову. И когда он расплачивался, бормотала смущенно: «Ну зачем вы так?» — «А как?» недоумевал Калашников и накидывал рубль или трешник. Зиночка и эти деньги брала, но имела она в виду, конечно, другое.
Калашников пытался представить: как бы его единственная работала в театральном буфете? Как бы она все это тащила к себе домой? Да она бы этого не дотащила, она бы этого просто не подняла. А как бы она работала в гостинице? Сверху скажут: «Запрещается!» — и она подхватит: «Запрещается!» Сверху скажут: «Только до одиннадцати!» — и она подхватит: «Только до одиннадцати!» Да ведь это то же самое, чем она занималась в горах, только здесь ей за это платят зарплату.
4
Федор Устинович раскрыл свой доклад, и взгляд его уперся в вершины Памира. «Это как понимать?» — спросил он автора доклада.
Калашников смущенно молчал. Он не мог объяснить, почему их пики выше, а наши ниже. Даже тот пик, название которого когда-то звучало, как звание, не мог до их пиков дотянуться.
«Но они у них действительно выше…
Природа расположила жизнь в горизонтальной плоскости, но горы, которые она возвела, наводили на мысль, что жизнь можно расположить вертикально. В горизонтальном положении все равны, в вертикальном же кто-то выше, а кто-то ниже. Так возникает неравенство, а одновременно постоянная угроза падения, которой не знает горизонтальная жизнь. И самое неприятное: вылетишь с вершины одним, а приземлишься совсем другим человеком. Знакомые не узнают, даже не здороваются. Хотя вблизи разглядеть человека легче. Путь, на который потрачена жизнь, преодолевается в пять минут, и это увеличивает силу удара. Плюс, конечно, огромный запас полетной энергии, сэкономленной на работе.
Можно предположить, что человека тянет вверх стремление к истине. Внизу он, как правило, мелет вздор, но стоит ему подняться, как он тотчас начинает изрекать истины. А сбросят сверху — опять мелет вздор. А между тем там, вверху, он уже успел полюбить истину…
Борис Иванович, самый юный сотрудник Упрагора, открыл любопытную закономерность: если человек ростом А стоит на горе высотой 999 А, то высота его лишь на одну тысячную определяется собственным ростом. Но кому из стоящих на горе нужно такое открытие? Они привыкли, что рост их измеряется вместе с горой, им и зарплату за это платят, и оказывают уважение. Поэтому они так не любят летать вниз: очень уж они от этого уменьшаются.
Тут какой-то оптический обман: когда орел сидит на вершине, он снизу кажется маленьким, а человек на высокой должности снизу кажется большим. А вниз слетит, смотришь — он маленький.
Учитывая это обстоятельство, Федусь сделал Калашникову строгое внушение. Чрезмерная объективность — хуже, чем отсутствие объективности. Чрезмерная объективность — это объективизм.
Борис Иванович объяснил Калашникову, что такое объективизм. Если, допустим, чей-то сын сидит в президиуме, а ваш собственный сидит за решеткой, то утверждать, что чужой сын лучше вашего — чистейший объективизм.
Калашников это учел, и когда опять пришел к руководителю с написанным для него докладом, все приоритетные высоты были на нашей стороне.
«Ничего не понимаю, — сказал Федусь. — Как же наш пик самый высокий, если с их стороны девять пиков выше нашего?
Но теперь-то Калашников не дремал, он знал, кому сидеть в президиуме, а кому за решеткой. И он спокойно объяснил, что высота — понятие относительное, и даже вспомнил анекдот о царе Петре, который сказал Меншикову, что тот не выше его, а длиннее. «Возможно, их пики длиннее, а наш — выше», — твердо сказал Калашников.
Но уже новый ветер дул с вершины Упупа и выше — с Упупупа, и даже с самого Упупупупа.
«Выше, длиннее… — поморщился Федор Устинович. — Вы мне давайте в километрах. Вот это, как его… — Он не мог прочитать названия. Оно действительно читалось черт знает как. — У него высота больше восьми километров. И находится оно на территории дружественной Индии. Вы что, хотите нас поссорить с дружественной Индией? А вот это, в Китайской Народной Республике? Вы хотите нас поссорить с Китайской Народной Республикой? — И вдруг он смягчился: — Я понимаю ваши чувства. Тем более, что это бывший пик имени товарища… имени нашего бывшего товарища… Но, дорогой мой, что же делать? Утверждать, что наш пик выше — чистейшей воды субъективизм».
Подобный взгляд был слишком широк для Калашникова, поэтому ему пришлось снова обратиться к Борису Ивановичу, который, кстати, недавно изобрел меру ширины, хотя на нее после изобретения меры длины все махнули рукой, посчитав ее никому не нужной и даже бессмысленной. Высказывалось мнение, что в Упрагоре больше пригодилась бы мера высоты, но тайный смысл изобретений Бориса Ивановича всегда был скрыт от постороннего глаза. Можно лишь одно сказать с уверенностью: если Борис Иванович изобрел меру ширины, значит, без такой меры существовать человечеству невозможно. До сих пор обходились мерой длины, но вы же видите, к чему нас привела эта мера. Если будем и дальше так двигаться, от нас вообще не останется ни ширины, ни длины.
Прикинув на глаз широту новых взглядов Федора Устиновича и стоящих над ним упупных организаций, Борис Иванович объяснил, что такое субъективизм: если чей-то сын сидит в президиуме, а ваш сын сидит за решеткой, то утверждать, что чужой сын хуже вашего — это несправедливость, нахальство и самый беззастенчивый субъективизм.
Самое лучшее — это просто молчать, сообразил Калашников. Он умел молчать и любил молчать. Но не в этом состояла его природа и его призвание.
5
Точное знание, когда говорить, а когда молчать, — это не просто знание, это большое искусство. Есть люди, вроде и умные, и образованные, а разговаривают они, когда нужно молчать, и молчат, когда нужно разговаривать. Не один из них на эту науку угробил жизнь, а Калашникову что, он с этим родился.
Он родился как физическое явление и был воспитан в уважении к физическим законам. И если, как утверждает физика, всякая звуковая волна «олицетворяет возмущение», Калашников свое возмущение олицетворял так, чтоб его никому не было видно. Не в этом ли сущность эха: соглашаться как можно громче, а возмущаться молча, про себя?
Закон эха: надо молчать, пока другие помалкивают. А скажут — согласись, но не со всем, а лишь со второй половиной слова. Чтоб, если слово некстати, все слышали: не ты его начинал. Ты только в конце присоединился. Первый закон эхономики — закон сохранения себя. Не ты начинал, ты только присоединился, а к чему присоединился — это уже не твоя печаль и не твоя ответственность.
Второй закон эхономики: все подхватывай и все отражай, чтоб не расходовать силы. Любую инициативу снизу, спущенную сверху, — подхватывай. Но — отражай, чтоб не расходовать силы.
А он-то волновался, выходя в люди! Думал, не сумеет, не получится. А они тут, оказывается, все свои: только и забот, чтоб погромче откликнуться. Чтоб вовремя подхватить и вовремя отразить.
Вот Федор Устинович. Он же следует третьему закону эхономики: вместо того, чтоб двигаться вперед, равномерно распространяется во все стороны. И когда впереди перекроют, он спокойно распространится назад, а когда слева прижмут, тут же распространится вправо.
По этому третьему закону эхономики у нас все исчезает на полпути: об прилавок стукнулось — и его нет, распространилось во все стороны. На строительной площадке стук — и во все стороны. Куда девался строительный материал?
И, наконец, четвертый закон эхономики: старайся занять такое положение, чтоб тебе не приходилось дважды повторять. Чтоб, наоборот, тебя повторяли многократно.
Есть такие местечки в горах или в развалинах старых замков. А в городах — в различных высоких учреждениях. В Упупе. В Упупупе. Об Упупупупе нечего и говорить. Один раз сказанное в таких местах вокруг повторяется многократно.
Не-ет, они все «оттуда, только прикрываются Дарвином. Раньше богом прикрывались, теперь Дарвином. А на самом деле не от бога они, не от Дарвина, а все, как Калашников, от пустого звука.
6
Вера Павловна из книжного киоска была женщина в цветущем, но все-таки возрасте и прожила большую, интересную жизнь, которую охотно рассказывала покупателям.
Муж ее занимал крупный пост в государственном аппарате, он был намного старше, и она не любила его. Однажды ей встретился молодой офицер, у них возникла любовь, но муж об этом узнал и лишил ее возможности видеть единственного и горячо любимого сына. Она чуть не покончила с собой самым ужасным образом, но потом смирилась и пошла работать в киоск.
Многих заинтересовала эта история. Некоторые даже говорили, что, если ее записать, могло бы получиться художественное произведение. Но кто станет записывать? Мало ли что случается в жизни. Один знакомый Веры Павловны, судебный заседатель, во время суда вдруг почувствовал себя соучастником тяжкого преступления и отправился за преступницей в ссылку так что же, об этом писать?
Или другой знакомый Веры Павловны. Он утопил свою любимую собаку. Его заставили это сделать, и он не мог возражать, потому что привык молча повиноваться. Что может быть ужасней молчаливой покорности? Самого опасного противника мы носим в себе.
Каждый человек — это роман, и даже не один роман, а целая библиотека. Вот Вера Павловна: женщина она достаточно молодая, ей еще четыре года до пенсии, — а кого только не было в ее жизни! Не говоря уже о ее близком друге, который спал на гвоздях, ему ничего, кроме гвоздей, вообще не было нужно, и не говоря о другом, который резал лягушек, доказывая, что природа не храм, чтобы ждать от нее милостей, и нужно в ней работать, а не дурака валять, — был в ее жизни, например, человек, которого никто не видел, но все слышали (Калашников?). А другой так приспособился жить в воде, что мог вообще не появляться на суше.
Вере Павловне везло на хороших людей.
О своем муже Вера Павловна рассказывала, что он погиб, — видимо, утонул, потому что на берегу нашли его вещи. Она не уточняла, что это за муж: тот ли, который из-за преступной любви Веры Павловны лишил ее возможности видеть единственного сына, или другой, который увез ее во Францию и там довел до такого состояния, что она чуть ли не до смерти отравилась мышьяком… Слушатели кивали: чужая страна, на чужбине долго не проживешь — ни во Франции, ни в другом месте. Один, правда, прожил двадцать восемь лет, но это лишь потому, что жил он на необитаемом острове, где никто не лез в его жизнь.
Так изо дня в день Вера Павловна продавала печатную продукцию и рассказывала о событиях своей жизни. А вечером к ней приходил интеллигентный старик, они ужинали, и старик оставался ночевать в киоске. Интерес читателей к книгам настолько возрос, что оставлять киоск без присмотра было рискованно.
Старика звали Дарий Павлович, и охранял он киоск добровольно, без всякого вознаграждения. Из бескорыстного интереса к культурным богатствам отечества — как он объяснял Вере Павловне, а возможно, из интереса к Вере Павловне — как она его понимала.
Вера Павловна дома готовила что-нибудь вкусненькое, Дарий Павлович приносил то, что удавалось выудить из магазина, и они не спеша ужинали. Дарий Павлович называл это: пикник среди книг.
Свет не зажигали, чтоб не набежали покупатели. Они только и смотрят, где что открыто, им бы хоть среди ночи что-то купить. Сами-то интересно жить не умеют, вот и вычитывают из книжек чужую жизнь.
Дарий Павлович и сам не был уверен, своя у него жизнь или из книг вычитанная, поэтому рассказывал мало. Да, была у него любовь. И вдруг куда-то исчезла. Муж Веры Павловны тоже исчез. Вроде бы утонул, потому что на берегу нашли его вещи. Но, может быть, он их специально оставил, чтоб думали, будто он утонул… А на самом деле уехал в Америку… Или где-то здесь, поблизости, с цыганами прожигает жизнь…
Дарий Павлович был склонен думать, что кто-то подбросил вещи мужа Веры Павловны, чтоб это выглядело как самоубийство. А на самом деле это было убийство. Или арест. В те времена к каким только не прибегали методам! Вот и тот знакомый Веры Павловны, который добровольно отправился в ссылку. Вряд ли это было добровольно. Разве мало известно случаев, когда судьи отправляли людей в Сибирь, а потом сами за ними отправлялись? И судьи этих судей за ними отправлялись… Такое было время.
Но Вере Павловне он не высказывал этих соображений: пусть думает, что муж ее уехал в Америку. Брат Дария Павловича тоже исчез в эту Америку. В эту самую Америку.
В детстве с братом Марием они играли в греко-персидские войны. Дарий против Мария, Марий против Дария. Только потом узнали, что Марий был римский полководец, не греческий. А еще позже оказалось, что назвали их не в честь полководцев, а в честь бабушек — Дарьи и Марьи. Дедушек у них не было, вот их и назвали в честь бабушек.
Этот рассказ произвел сильное впечатление на Веру Павловну. Особенно тот факт, что у Дария Павловича не было дедушки. Она рассказала ему о знакомой девочке, у которой тоже не было дедушки, но потом он нашелся и увез девочку от ее жестоких хозяев. Вообще-то он не был ей дедушкой, он был беглый каторжник, но очень добрый, отзывчивый человек.
Рассказ о каторжнике опять напомнил Дарию Павловичу брата. Он исчез в одну ночь с любимой женщиной Дария Павловича.
«Наверно, они исчезли вместе», — догадалась Вера Павловна.
Дарий Павлович с ней соглашался, но как-то печально, без зла, не так, как это бывает, когда любимая женщина исчезает с другим человеком. Такое тогда было время. Люди исчезали не только вдвоем, но десятками, сотнями. Вера Павловна помнила эти времена. Один из ее знакомых много лет просидел в крепости, и там ему была открыта тайна несметных сокровищ. Потом, бежав из крепости, он добыл сокровища и, по возвращении на родину, отомстил врагам, которые засадили его в крепость. Подумать только, что может сделать справедливость, если ей дать средства и помочь бежать из крепости, куда ее невесть когда засадили!
Дарий Павлович не верил в справедливость, даже если ей дать денег и выпустить из крепости. Сколько было примеров, когда справедливость, выйдя из крепости, превращалась в несправедливость, а чаще просто не хотела оттуда выходить, потому что там, в крепости, ей было спокойней, и стены, в которые ее заточили, она уже давно использовала для собственной безопасности.
Так они сумерничали, не зажигая огня, а книги прятались в темноту и, пользуясь тем, что там их не могли прочесть, придумывали себе совершенно другую жизнь, не похожую на ту, что в них описана.
Книгам тоже надоедает одна и та же жизнь. Пусть даже самая интересная. Подвиги — это хорошо, но иногда хочется снять доспехи, завалиться на диван… А тот, толстый, который на нем протирал бока, пускай теперь он повоюет с мельницами.
7
Любовь в жизни человека одна, но складывается она из множества составляющих, как один километр складывается из множества маленьких сантиметров. И каждый сантиметр любви в нашей жизни — это еще один шаг на пути к той, единственной…
Калашникову на пути к его километру нравился каждый сантиметр. Ну, конечно, не каждый, некоторые он оставлял без внимания. Он отметал старых, некрасивых, не в меру длинных и слишком коротеньких. В Упрагоре он особенно выделил Маргошу, у которой над внешностью преобладало звучание.
В Упрагоре Маргоша работала временно: она заменяла Иришу, ушедшую в декрет. Но Ириша тоже была зачислена временно, вместо ушедшей в декрет Любаши.
Давно это было. Любаша, не выходя из декрета, уже третьего родила, а Ириша второго, хотя продолжала работать временно. Возможно, и Маргоша мечтала о таком будущем, хотя никто не знал, о чем она мечтает, сидя в приемной у Федуся.
Маргоша восседала на фоне входящих и исходящих бумаг. Входящие входили и временно располагались у нее на столе, прежде чем отправиться в шкаф на вечное поселение. Исходящие наблюдали за ними со стороны, еще не догадываясь, что отправляются тоже на вечное поселение. Маргоша их регистрировала. После того как бумаги были зарегистрированы, у них начиналась законная семейная жизнь, и после этого — только после этого! на свет рождались другие бумаги. Законный брак, как известно, отличается от незаконного тем, что законный в семье, а незаконный на производстве, но тут не бывает четкого разграничения. И зарегистрированные бумаги — это законный брак, который мало чем отличается от незаконного брака.
Маргоша регистрировала бумаги, ни на минуту не переставая звучать. У ее соседки заболел муж, врач не отходил от его постели, и что же удивительного, что соседка полюбила врача? Но тут муж умер, против врача возбудили уголовное дело, и соседка разлюбила врача и полюбила следователя. Но на суде адвокат доказал, что следствие велось неправильно, поскольку следователь был заинтересованной стороной, и тогда соседка разлюбила следователя и полюбила адвоката, но прокурор дал адвокату отвод, поскольку тот находился в состоянии любви с вдовой пострадавшего, но вскоре и сам прокурор оказался в том же состоянии, и ему пришлось оправдываться, что он не был зачинщиком этой любви, что просто, как мужчина и человек, не мог оставить женщину без взаимности, но в конце концов прокурор слег с инфарктом. Пришел врач, тот самый врач, как будто он все время стоял под дверью и ждал, когда его позовут. Он не отходил от постели больного, — может быть, потому, что это была когда-то его постель, а может, просто опасался, что стоит ему отойти — и больной выздоровеет.
Маргоша звучала о разных любовных делах и одновременно звучала на машинке. Ничто так не выражает душу женщины, как пишущая машинка… Звон кухонной посуды — это не то, от пылесоса и стиральной машины голова лопается. А пишущая машинка… Ведь там, за этим стуком, еще и слова… И кто знает, может быть, как раз те слова, которых нам не хватает.
Голоса машинок в машинописных бюро обычно хриплые, прокуренные, — будто солдаты не спеша переругиваются между собой и так же лениво перестреливаются с неприятелем. Голос Маргошиной машинки был другой. Так говорят о самом сокровенном, о чем не терпится рассказать, и спешат, то начиная с конца, то опять возвращаясь к началу, а то, вцепившись в середину, долго не могут ее размотать.
Калашников уходил в этот стук, как дорога уходит за горизонт, как усталый путник уходит в сон, как человек уходит с работы тайком от начальства. Но наступает время — и он возвращается, и путник просыпается, и дорога, куда бежит, оттуда и прибегает обратно…
8
Калашников разработал остроумный метод знакомства прямо на улице. Он подходил и спрашивал, который час, а затем уточнял: по местному или по среднеевропейскому времени. Среднеевропейское время сразу к нему располагало, развеивало опасения, что он может ограбить, убить или просто раздеть с недобрыми намерениями. Вот так и случилось, что в один прекрасный вечер Калашников оказался в доме Масеньки.
Дом этот был полной чашей, но такой чашей, в которую можно еще лить и лить, а вылить — разве что с помощью прокурора.
В доме царил дух обладания, обладания без любви, противоположный платонической любви без обладания. В прежней, бесплотной жизни Калашникова только платоническая любовь и была возможна, но теперь, имея плоть, он не мог довольствоваться чтением меню, вместо того, чтоб плотно пообедать. Но в мире внешности почему-то культивировалась платоническая любовь: при остром дефиците обедов, меню печаталось в огромных количествах. Здесь была и любовь к общественной собственности без обладания ею, и любовь к высоким идеалам, чести, самоотверженности… Мир внешности — это был платонический мир, с платонической любовью ко всему возвышенному и телесной, животной страстью к низменным вещам.
Знакомя Калашникова со своей мамой, Масенька намекнула на его среднеевропейское происхождение, и мама засуетилась, стала представлять Калашникова вещам, которые тоже были «оттуда. При этом у Калашникова создалось впечатление, что не ему показывают вещи, а его показывают вещам, и он не удивился бы, если б у них открылось что-то наподобие рта и оттуда прозвучало приветствие братского народа.
В завершение осмотра мама спросила, как ему у них нравится, и Калашников по привычке откликнулся на последнее слово. Мама кивнула: «Нам это многие говорят. Многие молодые люди. Но я понимаю, что именно им у нас нравится».
Все, что могло нравиться в этом доме, молчало. Только Масенька воскликнула: «Мама!» — зардевшись для красоты.
Калашников еле удержался, чтоб не повторить за ней: «Мама!» — но это, конечно, было бы преждевременно.
За чаем он стал рассказывать об удивительной стране Хмер, в которой царили краски, звуки и запахи, но свободно царили только звуки. Краски были слишком привязаны к насиженным местам, к тому же они боялись темноты, и когда наступала ночь, их нигде не было видно. А запахи боялись ветра, который их разгонял, и потому пахли робко, с оглядкой — нет ли ветра поблизости. От вечного страха те и другие стали осторожны и подозрительны и никак не могли сложиться в пейзаж или аромат.
И только звуки звучали свободно. И общались свободно, сливаясь в одну общую мелодию. Это была удивительная мелодия. Вот уже тысячи веков миллионы композиторов пытаются ее восстановить, но только множат горы своих собственных сочинений.
Он думал, что Масенька откликнется на этот рассказ. Если она была та, которую он искал, она не могла не откликнуться…
Но откликнулась ее мама. Она сказала, что знает эту страну, что их папа не раз там бывал и даже что-то оттуда привез, когда был там в последний раз с правительственной делегацией. У них, оказывается, такой папа, которого можно послать куда угодно, и он непременно оттуда что-нибудь привезет. Теперь уже было неловко признаваться, что сам Калашников никогда не бывал в стране Хмер, и он принялся ее расписывать так, словно он в ней бывал и даже, кажется, встречался с их папой. Это их поразило больше, чем страна Хмер, потому что сами они с папой встречались довольно редко. Мама заговорила о папе, а Масенька бросала быстрые взгляды на Калашникова и краснела для красоты.
Калашников настолько разнежился, что стал называть Масеньку Зиночкой, а ее маму Жанной Романовной, что ему, конечно, простили, посчитав особой формой вежливости на среднеевропейский манер. Но когда он дома рассказал об этой путанице, Зиночка сказала: «Вы опасный человек, вам ничего нельзя доверить, даже имени». А Жанна Романовна выразилась прямей: «Ходите бог знает где. Будто вам уже и чаю выпить негде».
9
Время между тем шло, и Калашников уже стал забывать о своей прежней, бесплотной жизни. Как он там — с обрыва на обрыв? Или с уступа на уступ? Нехорошо забывать родные места, но вот — и они забываются…
Федусь, например, в селе родился, а разве он помнит? Он среди голой степи родился, но теперь о степи забыл. В степи, конечно, все ровное, а ему надо повыше. Чтоб все выше и выше. Такой он, Федусь. Он хотя и на месте сидит, но по службе продвигается.
Продвижение вместо движения — это закон нашего века. Природой он не предусмотрен. У нее сплошное движение, а продвижения нет. У нее не видно, чтоб муравей продвигался в слоны, у него много движения, а продвижения никакого.
Другое дело Федусь. Начал с голой степи, но давно о ней позабыл. А в степи о нем помнят, детям рассказывают. Чтоб дети гордились, не ленились, выбивались в гору из равнинной местности. Портрет, наверно, повесили. Те, которые придают значение внешности, любят всюду вешать портреты.
Кстати, внешность — это не только тело. Сегодня это и одежда, и квартира, и прочие атрибуты приличного существования. Внешность Федора Устиновича распространилась так далеко, что охватывала даже Кисловодск и южное побережье Крыма, не говоря уже о ближайших спецсанаториях и спецпрофилакториях. Но при том, что он был такой большой спец, здоровье у него осталось таким же маленьким, каким было в детстве, и оно, как это бывает в детстве, пошаливало. Человек шалит в начале жизни, а здоровье его шалит ближе к концу; и не так просто его призвать к порядку.
Однажды Федусь, отправляясь в однодневный спецпрофилакторий, прихватил с собой Калашникова. Калашников был рад расширить пределы поисков своей единственной и прежде всего обратил внимание на молоденькую спецмаму, которая скармливала ребенку банан. Ребенок, жуя банан, играл в шахматы с незнакомым спецдядей. Каждый был поглощен своим: мама ребенком, ребенок шахматами, дядя, которому надоело быть незнакомым, был поглощен надеждой, что с ним, наконец, познакомятся.
«Эх, один раз живем!» Это крикнула специальная старушка, хотя сама она уже одну жизнь прожила и теперь проживала вторую, а может быть, третью. «Побежали?» — крикнула спецстарушка, и Калашников устремился за ней. Но тут же спохватился: за кем он бежит? — и вернулся к молоденькой маме.
На доске значительно поубавилось фигур, и тут выяснилось, что ребенок играет в шашки. У него уже было три дамки, а у незнакомого дяди ни одной. Ребенок провел в дамки королеву и теперь подумывал, как бы провести в дамки — стыдно сказать! — короля.
Вдали показалась старушка. Она бежала, размахивая руками, крутя головой и вращая тазом, но при этом не упустила момент присесть на соседнюю скамью рядом с каким-то профессором или академиком.
В районе спецпрофилактория внешность Федора Устиновича пересекалась с внешностями очень больших людей, и Калашников мог с ними общаться — как гость этой внешности. И тут он обратил внимание на то, что значительная внешность может заменить человеку молодость. Какой-нибудь студент-недоучка в сорок лет старик, а сорокалетний профессор в цветущем возрасте. Или шестидесятилетний академик, нобелевский лауреат, с квартирой в центре Москвы и дачей на берегу финского залива.
Внешность современного человека включает очень многое, поэтому внимание художников все реже привлекает обнаженное тело. Чаще, чем обнаженная шпага, но реже, чем обнаженные деревья осенью. И когда мы говорим «тело», то прежде всего на ум приходит тело покойника, потом космическое тело и только после этого тело живое, исполненное истинной красоты.
10
То обстоятельство, что Калашников оказался опасным мужчиной, так повлияло на Зиночку, что она ошиблась дверью и среди ночи забрела к нему в комнату.
Он долго объяснял ей ее ошибку, но Зиночка и сама не уходила, и его не отпускала, проявляя совершенно неуместное гостеприимство в чужой комнате.
Она была как во сне. Или просто во сне. Калашников поднял ее и понес, и уже донес до двери, но тут ему расхотелось ее выносить, а, наоборот, захотелось внести и положить куда-нибудь… На кресло, на стол… Лучше всего на кровать, там ей будет удобнее. Но хоть ей и было удобно и до утра еще было далеко, Зиночка вдруг проснулась и сказала «да», хотя ее ни о чем не спрашивали. Калашников тоже сказал «да», хотя и его не спрашивали, и так они проговорили всю ночь, выбирая самые короткие слова, чтобы не тратить на них много времени.
В эту ночь Калашников узнал для себя много нового. Он узнал, что в балете у нас больше народных, чем в драматических, потому что они играют молча, не распускают язык, а язык в наше время не только до Киева доведет, он доводит значительно дальше.
И еще он узнал, что в нашей стране любой спрос моментально загоняет товар под прилавок, поэтому человек здравомыслящий предпочитает находиться по ту сторону прилавка, откуда товар виден, а не по ту, откуда его не видать.
И уж совсем ненужные сведения: оказывается, эту их Дездемону недодушили в двух театрах и теперь она подалась в третий, но там у нее жизнь уже не та: не с директором, не с главным режиссером, а всего лишь с помощником администратора.
11
Теперь Калашников часто бывал в театре. Верней, в театральном буфете, где он был нужнее, чем в какой-нибудь ложе-бенуар.
Когда он пришел туда в первый раз, к театру тянулась длиннющая очередь. Тянутся люди к искусству, подумал Калашников.
Но оказалось, что очередь тянулась не к театру, а от театра. Не к искусству, а от искусства. Там, в направлении от театра, был гастроном.
Сквозь удивленные взгляды он пробивался навстречу движению очереди, затем, уже внутри театра, долго блуждал по коридорам и лестницам и неожиданно оказался на сцене. И тоже увидел очередь.
Сначала он подумал, что раз очередь, где-то поблизости должен быть буфет. Но это оказалась совсем не та очередь.
По замыслу автора, а впоследствии режиссера, очередь на сцене изображала жизнь. Но в отличие от жизни, которая, как известно, движется от начала к концу, эта очередь двигалась от конца к началу, и в этом был ее высокий жизнеутверждающий смысл. Хоть искусство и отражает жизнь, но оно должно быть жизнеутверждающим.
Все было, как в жизни. Одни приходили и становились в самый конец, а те, чья очередь подошла, уходили со сцены. Они затем и стояли, чтобы уйти со сцены. Глупо, конечно: прийти, чтоб уйти.
Кто-то доказывал, что он здесь стоял, но его никто не видел. Даже девушка, за которой он стоял, не помнила его. Она помнила другого, который как раз не стоял, но девушка говорила, что он за ней, только за ней и ни за кем больше.
Задние старались пробиться вперед, хотя это приближало их уход со сцены. Все интересовались: что дают? — но на этот главный философский вопрос не было ответа.
Режиссер ходил из конца в конец очереди и доказывал ей, что такое воплощенный замысел. Сначала вроде пусто, ничего нет, один только замысел и ничего больше. А потом этот замысел начинает облекаться в плоть, приобретать конкретные, реальные формы…
Калашников оторопел: да это же он, Калашников! Это он замысел, облеченный в плоть! Как он там резвился в горах, когда был бесплотным, безответственным замыслом! Что скажут — повторит. Замысел ни за что не отвечает. Он может даже повторить то, что давным-давно сказано в науке, в литературе, и его никто не осудит, потому что он пока только замысел. Но если воплотился — это уже плагиат.
Конечно, замыслу легче: за него спросят с автора. А кто автор Калашникова? Неизвестно. Существует воплощенный замысел, а кто автор неизвестно. За него никому ни лавров, ни взыскания — будто его вовсе нет.
Нужно верить, говорил режиссер. Очередь должна верить, что она очередь, чтобы ей поверил зрительный зал, чтоб ему самому захотелось стать в эту очередь.
В горах у Калашникова был ручеек. Он сбегал по склону горы, в полной уверенности, что впадает в речку. Но внизу не было речки, там была трясина, в которой бесследно исчезал ручеек. Но он об этом не знал и продолжал весело бежать по склону.
Потом ему объяснили его заблуждение. Правда восторжествовала, но он перестал торжествовать. Он больше не верил в речку, а в трясину верить не хотелось, и он засох от печали и разочарования. И склон, по которому он бежал, высох, потому что некому было его орошать.
Странно как получилось: пока ручеек верил в то, чего не было, и сам он был, и вокруг него чего только не было. А как перестал верить…
12
Для женщины, говорила Жанна Романовна, главное — встретить хорошего человека. Хороших людей много, но они почему-то редко встречаются. Они как воздух, который всюду, а потрогать его нельзя. И только редко-редко бывает так, что воздух вдруг материализуется и ты сможешь им не только дышать, но и взять его за руку, заглянуть в глаза, поговорить с ним о здоровье и о работе.
Вообще-то быть хорошим человеком нетрудно. Не нужно бросаться в огонь и в воду, спасать горящих и утопающих (как говорит директор гостиницы, спасать горящих от утопающих и утопающих от горящих), нужно только одно: со всеми соглашаться. Даже если имеешь свое мнение (хотя иметь свое мнение еще трудней, чем иметь свою виллу на берегу Баб-эль-Мандебского пролива, тоже выражение директора), все равно надо соглашаться. И с горящими, и с утопающими: «Что вы? Громче, пожалуйста! Ах, на помощь? Совершенно с вами согласен. На вашем месте-я бы кричал то же самое».
Нужно ли говорить, что Калашников был именно тем человеком, которого всю жизнь ожидала Жанна Романовна? Он по природе своей со всеми соглашался. Когда Жанна Романовна с ним разговаривала, она разговаривала как бы сама с собой — до того точно Калашников воспроизводил ее мысли и настроения. И вдруг все это рухнуло, и Жанна Романовна почувствовала себя, как отставший от каравана верблюд, который все еще надеется догнать караван, уходящий все дальше и дальше.
Если изобразить это на географической карте, то Зиночка и Калашников были Евразией, а в особенно пылкие минуты — Еврафрикой, тогда как Жанна Романовна была Австралией или даже замерзающей от одиночества Антарктидой. Как будто Антарктида сдает жилплощадь Еврафрике, и там эта площадь живая, а у Антарктиды — нет.
И тогда она отказала Зиночке от квартиры.
«Вы знаете, Зиночка, как я одинока, — так начала Жанна Романовна этот неприятный, но решительный разговор. — В целом мире у меня никого нет. Вы у меня одна… Вы и Калашников. Но с ним у меня нет той близости, какая с ним у вас… верней, какая у меня с вами… Вы мне как родная… — Жанна Романовна замялась: такая разница в возрасте. Сказать «сестра» — обидеть Зиночку, сказать «дочь» — обидеть себя. — Вы мне как родная… родственница… Я даже не знаю, что со мной будет без вас… А с ним? Вы о нем подумали?
«Жанна Романовна, завтра мы переедем. У меня есть двухкомнатный вариант, я сдам Калашникову комнату».
Жанна Романовна загрустила.
«Зиночка, вы человек крайностей. Оставаться — так всем оставаться. Переезжать — так всем переезжать. Калашникову переезжать не надо, зачем меня оставлять одну?
«Жанна Романовна, мы же взрослые люди!
С тех пор как Зиночка почувствовала себя взрослой, она постоянно всем доказывала, что она взрослая. Такова судьба современной женщины: до тридцати доказываешь, что ты уже взрослая, после тридцати, что ты еще молодая.
Утром они переезжали. Калашников стоял со своим чемоданчиком в коридоре, пока бригада грузчиков выносила вещи Зиночки.
Но вот вещи погружены, можно уходить. Калашников направляется к выходу — и в это время слышит спокойный голос Жанны Романовны: «Калашников, идите пить чай!
Он ставит чемодан и идет пить чай. «Мы же переезжаем!» — кричит ему вслед Зиночка. «Переезжаем», — отзывается Калашников и берет чемодан. «Чай уже на столе!» — предупреждает Жанна Романовна. Калашников ставит чемодан и идет пить чай.
Зиночка уже вышла за дверь и в последний раз крикнула оттуда: «Калашников!
Но Жанна Романовна успела крикнуть последней.
13
Дарий Павлович не зря напросился ночевать в киоске. Здесь, на этом месте, была когда-то их полуфизическая Лаборатория. Потому что здесь была одна из множества точек, где память человека подключается к памяти земли.
Он расположился на полу и прямо из киоска шагнул в Лабораторию.
И тут же увидел Дусю. И устремился к ней с проворством стрелки компаса, почуявшей север, но Ленчик прикрикнул на девушку; «Дуся, поставь на место товарища!» И объяснил Дарию Павловичу: «Это она так воздействует. У вас многие не верят, считают, что телекинез — это кино по телевизору, а мы это называли иначе: посмотрит — рублем подарит».
Дуся опять притягивала Дария Павловича. Может, она не знала, что она всего лишь воспоминание? Теперь уже ничто не имело смысла: ведь прошло столько лет.
Что он ей скажет? Что были такие времена и ему пришлось выбирать между нею и своим будущим? Он тогда думал: друзей у него будет много, а будущее у человека одно. Ему и потом приходилось выбирать между друзьями и будущим, и друзей становилось все меньше. Потому что он всегда выбирал будущее, считая, что оно у человека одно.
А оно не одно. Позднее, уже в старости, он понял, что будущих у человека — что дорог на земле, и выбираешь их каждый день, даже тогда, когда об этом не подозреваешь…
Дарий поискал глазами Мария. Тот сидел в глубине комнаты, к нему спиной. «Столько лет прошло, а он все еще не может забыть», — с горечью подумал Дарий Павлович.
Как будто они никогда не играли в греко-персидские войны, не маршировали по улицам мирного города, не подозревая, что охота на великих полководцев уже начата и ни на одной войне не погибло столько полководцев, сколько их погибнет в этом коротком мирном времени. Пусть бы они появились — те, которые будут вдохновлять нас в нашей борьбе, — Александры Невские и Дмитрии Донские, Александры Суворовы и Михаилы Кутузовы… Кто бы уцелел из них до начала предстоящей войны?
«Ну, как ты тут, Марий?» — спросил Дарий Павлович, и сам удивился вопросу: а, собственно, где это — тут? Марий что-то мастерил за столом и даже не обернулся.
Конечно, Дарий был виноват, но они забыли, какое было время. Они остались в том времени, в его правоте. Смерть как будто присвоила себе монополию на правоту: сколько ей ни толкуй, она ничего не слышит.
Не нужно было Дарию сюда приходить. Мертвые ничего не забывают и ничего не могут изменить в своей памяти. Они помнят жизнь такой, как она была, она остается в них, как самое яркое впечатление…
«Все-таки ты его притягиваешь, — сказал Ленчик. — До сих пор притягиваешь…
Они тогда шутили, что Дарий стал жертвой ее телекинеза: она передвигала его, как передвигают предметы на расстоянии. И ему было приятно перемещаться так, как хотелось ей, но при этом он старался сократить расстояние. Дуся тоже этого хотела: чем короче расстояние, тем меньше затрачиваешь энергии, воздействуя на объект, поэтому расстояние между ними все сокращалось…
14
В последний раз они виделись у кого-то на дне рождения. Во главе стола сидел краснолицый и рыжеволосый парень, которого все называли Вовой, но с таким уважением, словно произносили полностью имя, отчество, а также фамилию и занимаемую должность.
Вова был стотысячный житель провинциального города Хвелецка (или Хлевецка). В награду за это ему воздавали всяческие почести, а теперь вот послали в областной центр для повышения квалификации, — может быть, в надежде сделать из него миллионного жителя.
По левую руку от Вовы сидела толстая дама, рядом со своим тощим мужем напоминавшая номер 01, по которому обычно звонят при пожаре. Муж ее был похож на героя русско-японской войны, причем, к сожалению, не с русской стороны, а с японской, и глаза его постоянно были скошены туда, где в данный момент находилась выпивка. «Он у меня не пьет, — говорила его супруга, подрагивая телом, как плохо застывший холодец (чтоб не ходить далеко за сравнением), и накладывая мужу упомянутый холодец. — Говорит, что с тех пор, как бросил пить, никак не может выяснить, уважают его люди или не уважают. Конечно, сегодня ему разрешается, но в другое время нельзя. Потому что у него дети».
«Трое детей, — сообщил муж, косясь в излюбленном направлении, и шепнул жене: — Давай уже пить. А то неудобно».
По правую руку стотысячного жителя сидел никому не известный Егор, попавший сюда по ошибке или по какой-то случайности. Пока толстая дама занимала разговором левую часть стола, неизвестный Егор говорил, обращаясь к правой: «Я из семьи потомственных читателей. Мой прадед самого Пушкина читал. Дед читал Льва Толстого, отец Алексея, тоже Толстого, а я тоже Алексея, но не Толстого, а этого…» — фамилию он забыл.
Егора назвали Егором в честь поэта, а отца его Виссарионом — в честь великого критика. Но потом время критиков кончилось, и отца хотели переименовать в Василия — в честь великого песенника, потому что время песенников было в самом разгаре. Но не переименовали, поскольку отец уже был взрослый и даже старый и вообще это могли неверно истолковать. Однако Егор, пользуясь этим неосуществленным желанием, иногда называл себя Васильевичем. А иногда Виссарионовичем. В зависимости от обстановки.
Потом появился еще один гость — в тюбетейке и роговых очках, что делало его похожим на профессора. Неопределенного цвета костюм сидел на нем не очень уверенно и был в такую крупную клетку, что из него ничего не стоило сбежать. Опустошив вторую штрафную тарелку, человек в тюбетейке положил вилку и сказал: «Вова, ты здесь? А я ищу тебя по всему городу».
Отец троих детей пил за троих, хотя дети его были еще маленькие. Но он и предлагал выпить по маленькой. Тем более, что из каждого ребенка может вырасти большой человек. Правда, не при материнском воспитании. Если бы с Ньютоном так панькались, не давали на него яблоку упасть…
Взгляд жены заставил его замолчать о материнском воспитании, но чтобы молчание не выглядело слишком паническим, он стал рассказывать анекдот, в котором Екатерина Вторая признавалась адмиралу Берингу: «Если я буду столько есть, я не влезу ни в один из моих туалетов», — на что бравый адмирал отвечал ее величеству: «А если я буду есть столько, я вообще не влезу в туалет».
Дарий Павлович смеялся громче всех, чтобы не особенно выделяться. Он и пил вместе со всеми, чтоб не говорили, что он интеллигент. Он, правда, и был интеллигентом, но старался это скрывать, потому что в приличном обществе это было не принято. Было принято выходить из народа, и даже в песне пелось, откуда мы вышли, только не пелось, куда идти.
Дождавшись, когда компания отсмеется по поводу Беринга, Вова представил гостя: «Это Прохоров, из бюро обмена. Может, кому-то нужно что-нибудь обменять?
Хозяйке нужно было поменять трубы. Прохоров предложил их поменять на оконные рамы, но хозяйка сказала, что рамы у нее есть. Трубы у нее тоже есть, но старые, и она бы хотела поменять их на новые.
Прохоров, однако, сказал, что старое на новое — это естественный процесс, и вмешательство их бюро в данном случае излишне. Другое дело поменять талант на успех. К сожалению, талантов мало, менять практически нечего. Вот убеждение на благосостояние — тут работы побольше. Или, может быть, вас заинтересует чувство гордости? Некоторые выменяли на него чувство стыда и теперь гордятся тем, чего другие стыдятся.
«Я бы поменял чувство ответственности на чувство любви», — вздохнул отец троих детей, но жена взглянула на него так, что он вынужден был поправиться: «Вернее, я бы поменял чувство любви…» — но жена опять на него взглянула, и он умолк.
Все согласились, что обмен — это естественный процесс, без обмена веществ нет никакой жизни в природе. Если б вещества умели разговаривать, они бы только одно говорили: «Я тебе — ты мне».
Дарий Павлович сказал: «Вот если б поменять маленький талант на большой… На это бы я согласился…
Но Прохоров возразил, что талант на талант они не меняют. Если угодно, талант можно поменять на успех.
Дарий Павлович сказал, что имеет в виду другой талант. Например, талант его брата Мария. Ведь он, да будет известно, открыл неизвестную доселе цивилизацию. Причем, не в какой-то другой галактике, а прямо здесь, на Земле.
Стотысячный Вова приставил палец к виску, будто хотел застрелиться, и попробовал его ввинтить туда без помощи выстрела.
Дуся сказала: «Подпольные бывают организации, а не цивилизации».
«Почему подпольные? — удивился отец троих детей. — Разве кто-то сказал о подпольных цивилизациях?
«Я не говорил», — сказал Дарий Павлович.
«И я не говорила», — сказала хозяйка.
Все смотрели на Дусю. Но Егор Виссарионович перевел этот общий взгляд на себя. «Это я подумал. Просто подумал, — сказал Егор Виссарионович. Конечно, подпольных цивилизаций не бывает, но я почему-то подумал о подпольной цивилизации. А она прочла мою мысль. Какая интересная девушка!
Тут-то все заметили, какая Дуся интересная девушка, и отец троих детей стал предлагать ей выпить, непременно выпить. Но Егор Виссарионович взял Дусю под свое попечительство. Дарий Павлович остался как бы ни при чем, и это не могло его не обидеть. Он спросил у Прохорова, что если, допустим, поменять талант на успех, то можно ли потом поменять обратно? Оказалось, нельзя обратно. Еще никому не удавалось поменять успех на талант.
Все заговорили сразу, и от этого стало как-то особенно хорошо и непринужденно. Звонче зазвенели бокалы, громче застучали ножи и вилки… Стотысячный Вова отнял от виска палец и посмотрел на него, словно удивляясь, что остался жив.
15
И в третий раз взгляд Федора Устиновича уперся в вершины Памира. Но теперь Калашников научился двигаться по центру, не впадая ни в объективизм, ни в субъективизм. Он сказал, что наши вершины — это наши вершины, а чужие вершины — это чужие вершины.
«Опять вершины, — поморщился Федусь. — Сколько можно о вершинах? Может, пора обратить внимание на наши провалы?
«У нас нет провалов», — твердо сказал Калашников.
Оба они знали, что провалы есть. Потому что не бывает вершин без провалов. И чем выше поднимаешься, тем глубже провалы, а вершины тем выше, чем ниже опускаешься. Но этот естественный факт прежде замалчивался, все делали вид, будто вершины окружены вершинами.
Сегодня мы можем прямо говорить о провалах. Таков наш конструктивный подход к действительности.
Но внутренне Федусь не был спокоен. По ночам ему снилось, что он куда-то проваливается. Провал был глубокий, по дороге Федуся останавливали не дремлющие на уступах автоинспекторы, проверяли документы и коротко бросали: «Проваливай!» Федор Устинович в ужасе хватался за жену, могучую, как чугунная тумба. Жена брыкалась и сквозь сон бормотала: «Ах, Федя, оставь! Лучше почитай что-нибудь…
Он послушно брал с полки книжку, но уже на первой странице натыкался на провал чьих-то замыслов, чьих-то коварных планов, на провал блока правых с левыми, передних с задними — и в ужасе засыпал.
Он специально выписал из библиотеки словарь, чтобы освежить в памяти это ужасное слово. В словаре «Провал» имел четыре значения: провал откуда-то сверху куда-то вниз, место этого действия, затем крах, неудача и, наконец, провал памяти, частичная потеря сознания.
Меньше всего ему понравился провал в смысле краха, поскольку в нем улавливался намек на работу вверенного ему учреждения. Это значение Федусь решил всячески избегать. Он даже вычеркнул его из словаря, чтоб случайно на него не напороться.
Потеря памяти или сознания тоже была ему ни к чему: с этим недолго загреметь на пенсию. По этой же причине его не устраивало и первое значение: загремишь сверху, пусть даже не на пенсию, — костей не соберешь.
Теперь в словаре осталось одно значение: место, где можно провалиться. Можно провалиться, а можно и не провалиться. В Пятигорске, например, на провале неплохо зарабатывают: водят к провалу туристов. Это единственный провал, который дает прибыль государству, от остальных прибыль только мошенникам. Тут даже определенная закономерность: прибыль мошенникам государству провал. Провал мошенникам — прибыль государству. Может быть, в Упупе имели в виду такой провал, как в Пятигорске? Создать в горах побольше таких провалов, и от каждого качать прибыль. Водить к ним туристов, в газетах о них писать. Если у нас ничего нет, кроме провалов, нужно научиться зарабатывать на провалах. На наших провалах мы можем достичь вершин!
И до чего же умные люди у нас в Упупе! А в Упупупе еще умней. А в Упупупупе еще умней…
Федор Устинович совсем успокоился. Вычеркнул из словаря ненужные значения, нужное значение подчеркнул и отправил словарь в библиотеку.
16
В горах провалы были родной стихией Калашникова. Он ведь не жил на вершинах, он только отталкивался от вершин. И, оттолкнувшись, летел в провал — это и было его настоящей жизнью.
Но тогда у него ничего не было, ему нечего было терять, нечем даже было ушибаться. А сейчас у него и работа, и положение. Квартира, хотя и не своя. Круг знакомств, и он — в центре этого круга, со своим конкретным телесным обозначением.
Внешность сделала Калашникова осторожным. Сколько раз он порывался оттолкнуться от балкона и полететь, но всякий раз его что-то удерживало. Наверно, это чувство знакомо всем, кто был когда-то звуком или запахом, а потом приобрел внешность, пусть маленькую, пусть не очень яркую, но свою, потерять или повредить которую жалко.
В такой момент ему начинало казаться, что род его пошел не от солдатского крика «ура!», а от крика женщины, зовущей на помощь.
Может, он что-то напутал? Может, Федор Устинович говорил «про вал, а ему послышалось «провал»? Про вал у нас постоянно говорят, потому что им измеряют объем выпускаемой продукции. Не в продукции, а в рублях измеряют, потому что рубли все одинаковые, а в продукции поди разберись. Начнешь разбираться, вообще выпускать ее не захочется. Вот почему и говорится про вал. Но ведь это «про вал! Опять получается «провал»! Говоришь «про вал, а выходит «провал…
Он попытался осторожно выяснить у Михайлюка, не называя, конечно, провалы провалами. Михайлюк только вздыхал. Боже мой, как он когда-то мечтал писать о провалах! Провалы — душа полуфизики. Подъем, развернутый в противоположную сторону, какие отсюда открываются перспективы!
Теперь уже не открываются. Магистральная линия полуфизики прошла стороной и без него достигла своих провалов… А каких не достигла! Просто дух захватывает. Провал сознания есть выход в другое сознание. Ведь это решение всех проблем. Глупость — это тот же ум, если ее развернуть в противоположную сторону… Бездна глупости как вершина ума, а бездна ума… это же объективно существующая реальность! Глупость занимала вершинное положение именно в качестве ума, будучи развернута в противоположную сторону. Народ, наш мудрый и точный в определении народ не зря говорит: «бездна ума», — то есть вершина ума, развернутая в бездну.
«Наши провалы — это наши вершины, а наши вершины — это наши провалы, сказал Михайлюк. — Ошибка всякой реальности в том, что она считает вершины вершинами, а провалы провалами».
«А как же?..» — спросил Калашников.
«А так же, — ответил Михайлюк. — Время разворачивает пространство в нужную сторону. А что такое пространство, развернутое во времени?
«Что такое пространство, развернутое во времени?
«Пространство, развернутое во времени, — сказал Михайлюк, — это не что иное, как наша история».
Но история тоже не та, что мы думаем, если ее развернуть. Она существует не где-то в прошлом, а прямо сейчас. Но мы этого не замечаем, потому что видим ее в неразвернутом состоянии.
Время в природе круглое, оно похоже на циферблат. И между двумя событиями два расстояния: по часовой и против часовой стрелки.
Как на циферблате: от цифры 1 до цифры 2 по часовой стрелке совсем близко, а против — далеко. Нужно весь циферблат пройти, пока до нее, доберешься.
Не исключено, что Калашников здесь Калашников, а в прошлом — Цезарь, Ганнибал и именно сейчас совершает свои великие подвиги. В прошлом — и одновременно сейчас, только против часовой стрелки. И вполне возможно, что великий Пифагор тут же, рядом, преподает математику в средней школе. По часовой стрелке он преподает математику, а против часовой стрелки он в Древней Греции Пифагор. Потому он «там и Пифагор, что «здесь, в современной школе, преподает математику.
Ничего себе шуточки! Если это, конечно, шуточки. Было непохоже, чтоб Михайлюк шутил, он говорил совершенно серьезно.
Современность, говорил он, это вершина, по крайней мере ей кажется, что она вершина. И любое событие, оттолкнувшись от нее, летит в пропасть, то есть в историю. История — эхо современности, сказал Михайлюк. Это в одной реальности. А если развернуть события в другую реальность, то современность станет эхом истории. И какой-нибудь грозный царь, прозвучав однажды, многократно повторяется в других временах. Чего это эхо — вершин или провалов? И как отличить в современности вершины от провалов?
В истории они виднее. Потому что мы смотрим на них с вершины современности. Нам кажется, что с вершины. А если наша вершина — это провал? Какой нам увидится история из глубины нашего провала? Нам могут все провалы истории показаться вершинами, и мы будем на них равняться и в этом духе воспитывать новые поколения.
Такая история с географией. Кто б подумал, что история так тесно связана с географией? По часовой стрелке они далеко друг от друга, а против часовой стрелки совсем рядом, рукой подать…
17
Руководящие указания неудержимым потоком текли из Упупупа в Упуп, из Упупа в Упрагор и возвращались назад отчетами о проделанной работе. Превращение директивы в отчет — это, может быть, наивысшее достижение человеческого разума, до которого природа не додумалась в своей первозданной бесхитростной простоте. Создать замкнутую систему, которая существует сама по себе, выполняет любые планы, производит любую продукцию, повышает темпы любого роста, — и все это ничего не выполняя, не повышая, не производя, — разве могла природа до такого додуматья? Ну, хотя бы присвоить себе звание: заслуженная природа. Или наградить себя орденом — вроде тех, которые даются людям и городам. Не научилась природа извлекать смысл из бессмыслицы. Потому и страдает. Не в ногу со временем идет.
Возможно, бумаге кажется, что она обретает смысл, когда на ней напишут какую-то резолюцию. Но настоящий смысл у нее был раньше, когда она была молодой и зеленой, подпирала небо зелеными кронами и буйно шумела, ничего не боясь. А теперь шелестит, перешептывается — как бы чего не вышло.
Но власть-то бумага взяла, хотя и шепотом. И если раньше ей диктовали, то теперь диктует она. Ей не нравится, что человека к делу не подошьешь, и она старается сделать его таким, чтоб его подшивали к любому делу. И даже к любому слову, за неимением дел. Она утверждает на земле свою бумажную цивилизацию: вместо доверия — «доверенность, вместо простых человеческих отношений — «отношение с места работы, с места жительства.
Бумажная цивилизация во всем стремится к однообразию, потому что однообразием легче руководить. Ей бы все привести к общему знаменателю, и не только знаменателю, но и общему числителю, чтобы все в едином строю штурмовали новые и новые вершины. От 1/1 к 2/2 и дальше — к 10/10, 100/100… Чувствуете развитие?
Только такая дробь в этом победном ряду считается правильной, всякая же другая мешает нашему поступательному (наступательному!) движению от 1/1 к оо/оо [бесконечность].
Человек изобрел бумагу, а теперь бумага изобретает его. Пусть он не семи пядей во лбу, пусть у него и одной пяди не наберется, но приходит бумага о его назначении, и сразу пяди начинают расти и расти до тех пор, пока не дорастут до занимаемой должности.
Жизнь во всем ее богатстве на бумагу не перенесешь, да она и не поместится. Поэтому ее уменьшают и рядом пишут масштаб. Так и человека бумага то уменьшает, то увеличивает. Фамилия, а рядом должность, звание, награды. Тот же масштаб: считать такого-то маленького большим, а такого-то большого маленьким…
Маленького можно подшить к делу, большому пришить дело, но настоящее дело от этого не двигается.
18
Великая сила сказанного — это великая сила написанного, хотя не пишущий, а говорящий пожинает плоды почета и благосостояния. Потому что говорящего и видно, и слышно, а пишущего — не видать, не слыхать. Он, подобно орудийному расчету, расположен в укрытии и предоставляет говорить пушкам. Он рассчитывает, наводит на цель, а пушка пишет в резолюции: «пли!» — после чего выстрел считается сделанным.
Говорящим был Федусь, пишущим — Калашников. Но это лишь до тех пор, пока мы говорили и писали о вершинах. А теперь, когда надо было говорить о провалах, Федор Устинович задумался: а не пора ли давать дорогу молодым?
Как хорошо Калашников писал о горе Горуне! О том, как она тянется к небу каждым деревцем, каждой травинкой. Федусь, когда выступал об этом с докладом, сам умилился: как мы тянемся вверх, какие перед нами открываются высокие перспективы. Но Горуня со всех сторон окружена провалами. Это мы упустили, об этом не сказали. Пусть теперь об этом скажет Калашников надо же когда-то давать дорогу молодым.
Для Калашникова это была большая радость. Он еще там, в горах, мечтал, чтоб его не только услышали, но и увидели. Тем более, что говорить он будет о горе Горуне, о том, что при ее высоких достоинствах, поглядите, какими низменными обстоятельствами она окружена.
По сравнению с вершинами Памира, Горуня — гора невысокая, но крутая, для кого-то даже неприступная, а для Калашникова она своя, самое заповедное на земле место. Здесь он родился, думал, здесь и помрет, но судьба распорядилась иначе. И повела его судьба от родного пригорочка к таким вершинам, о которых подумать страх. В люди судьба его повела. Из пустого звука, из бесполезного сотрясения воздуха — в люди!
Здесь, на Горуне, его первый вздох, первый вскрик, здесь каждый камешек, каждый стебелек — это его, Калашникова, беззаботное детство. Какой-нибудь старый пень — и тот из его детства. И ворона Степанова…
Каждой своей травинкой, каждой росинкой гора Горуня привязана к его детству. И он был к ней привязан. По-своему, конечно, потому что в той его жизни трудно было говорить о каких-то прочных привязанностях. Просто он был общительный: кто ни крикнет, кто ни чирикнет, а он уже тут. Камень с горы упадет, он и с ним перемолвится. Или он был отзывчивый? Одно дело общительный характер, а другое — отзывчивая душа. Общительные умеют говорить, а отзывчивые — слушать. Сначала послушать, а потом уже что-нибудь и сказать. Но, конечно, всем подряд тоже нельзя отзываться: загремит с горы обвал, а ты ему — да, конечно, я понимаю… Общительность часто принимают за отзывчивость, и общительного считают своим парнем, а он не свой, он ничей, как ничейная земля между государствами. И его общий язык со всеми — это ничейный язык.
Наверно, Калашников был просто общительный, потому что он всем подряд отзывался. Но почему он всем подряд отзывался? Может, боялся, как бы опять не ударили? Он ведь, собственно, от страха родился: шмякнулся какой-то звук о какой-то сук, он и полетел. Память об этом страхе затаилась у него где-то внутри и жила вечным страхом снова удариться. Никто не знает, какие нам уготованы удары судьбы. А между тем каждый звук рождается для радости. Даже панический вопль — и тот рождается для радости. Может, он потому и вопль, что родился для радости, а радости не видит.
19
По вечерам Калашников писал о горе Горуне. Жанна Романовна, опасаясь, что он пишет письмо Зиночке, заглядывала ему через плечо и, читая «Горуня» как «Груня», насчет Зиночки успокаивалась, но насчет Груни начинала волноваться.
Напрасно она успокаивалась насчет Зиночки: Калашников как раз недавно заходил к ней в театр. Все та же очередь тянулась к соседнему гастроному, но на сцене очереди не было: репетировалась новая пьеса.
Для большей достоверности на сцене были поставлены настоящие станки, и артисты, прошедшие специальную подготовку, давали настоящую продукцию. План у театра был не в зрителях, а в рублях, и один станок давал больше прибыли, чем все зрители, взятые вместе.
Зиночку Калашников не застал, но она постоянно присутствовала в его мыслях. Как и Масенька. Сейчас они сливались с образом горы Горуни, и собирательное название «Груня», может быть, было для них самое подходящее.
Калашников писал, Жанна Романовна курсировала между ним и телевизором, то замирая вниманием на экране, то заглядывая Калашникову через плечо.
На работе Жанна Романовна расходовала грубость, в очередях и общественном транспорте — грубость, весь запас неизрасходованной нежности она обрушила на Калашникова. И теперь в груди ее боролись два желания: узнать, что там пишет Калашников, и посмотреть телевизионный фильм. Фильм был старый, много раз виденный, поэтому Жанна Романовна к нему привыкла и даже в конце концов полюбила. Как Калашникова.
Когда-то в фильмах целовались только в конце, а в наше время с этого начинают. А дальше? Дальше по телевизору все вырезано. Конечно, если начинать с поцелуев, дальше приходится вырезать.
Вот герой приходит к героине. Они одни, если не считать зрителей. И вдруг уже утро, и герой собирается уходить. Прямо за вечером начинается утро, а вся ночь вырезана. В каждом фильме ночи вырезаны, как будто действие происходит за Полярным кругом, где длится бесконечный полярный день. А в зарубежных фильмах — бесконечная полярная ночь. Там они вырезают день, а ночь оставляют.
Известно, как много искусств соединяет в себе кино: литературу, театр, музыку, живопись… А теперь еще художественную резьбу, когда все ненужное, художественное вырезают.
Если б можно было так в гостинице: вырезать все ночи, оставить все дни… Какое б спокойное было дежурство у Жанны Романовны.
20
На пригорке столб, под пригорком лес. И столб с пригорка спускает указания. Как расти, когда зеленеть. Сам-то он не умеет ни расти, ни зеленеть, но на нем провода, по которым поступают указания. С такого-то числа начинаем зеленеть, к такому-то числу заканчиваем плодоношение.
И все в спешном порядке — скорей, скорей! Потому что на другом конце провода начинается еще один провод, и там тоже спрашивают. А на конце того провода еще один провод, и там тоже спрашивают…
И лес зеленеет, плодоносит. Чтобы вовремя отчитаться по всем проводам. Но, возможно, есть и другие причины.
Точка зрения на вершины обычно в самом низу, а наверху лучше видно, куда мы проваливаемся. Когда Калашников мысленно поднялся на гору Горуню, зрелище ему открылось захватывающее. Эти провалы, в сущности, склоны, а склоны — самое красивое, что есть у горы.
Так бы Калашникову и написать, но сегодня были другие требования. Нужен был критический подход и одновременно экономически результативный.
Как на горе Машук в Пятигорске. Сам по себе там провал явление отрицательное, но если взимать плату за отрицательное зрелище, может быть достигнут положительный экономический результат. Смотрите, но платите. У нас нет секретов, потому что у нас денег нет.
Но провалы для внешнего созерцания недостаточны, нужны провалы для извлечения внутренних богатств. Превратить вершину в провал, чтоб извлечь из нее внутренние богатства.
Так истолковал Федусь то единственное значение провала, которое он оставил в словаре: провал как место, говоря точнее — месторождение. И не это ли предлагает Михайлюк? Развернуть гору в таком направлении, чтобы извлечь ее внутренние богатства.
Сверху идет по проводам: начинаем разворачивать… Снизу идет по проводам: начинаем разворачивать…
Конечно, Федору Устиновичу хоть все горы развороти: он родился в равнинной местности, хотя всю жизнь шагал от вершины к вершине. А вершины эти — просто перевернутые провалы.
Такая история с географией. И не поймешь, что тут виной: история или география. И за что тут раньше хвататься…
21
Постепенно Калашников наращивал собственную биографию. Биография пока что была коротенькая и нарастала как-то странно: не с детства во взрослую жизнь, а наоборот — из взрослой жизни в юность, детство, куда-то в младенчество и еще бог знает куда.
Начиналась она с того, что они были в лесу вдвоем… Нет, сначала он был один. Он стоял на уступе горы и кричал куда-то вниз: «Машенька!
Крик его повторялся где-то в отдалении, но до нее, очевидно, не долетал, и ему хотелось стать самому этим криком, чтоб долететь туда, где она его не услышала.
Потом наступило то, что предшествовало. Машенька вдруг вернулась со всей этой не очень честной компанией, и Калашников возмущенно сказал: «Как Это — извините?
«Извините!» — сказала Машенька.
Один из компании, самый веселый и самый пьяный, радостно сообщил: «А мы все шашлыки поели!» Второй сказал: «Э, да Мария Ивановна здесь не одна!» И наконец третий сообразил: «Так вот ты где, Машенька!
Все это должно было говориться в обратном порядке, но биография Калашникова нарастала именно так.
Потом вдруг вся компания исчезла, и Калашников с Машенькой остались одни. Тут уже Калашников заговорил, причем с таким жаром, с каким в лесу говорить не рекомендуется. Он говорил, что с тех пор как увидел Машеньку, он только о ней и думает, что он каждый день бегает в управление в надежде ее увидеть, что она его единственная забота, единственная мечта, единственная…
Они сидели на краю обрыва и любовались видом, который открывался внизу, и Машеньку больше занимал этот вид, чем то, что ей говорил Калашников. «Какое везение! — говорил Калашников. — Видеть вас только во сне и в управлении и вдруг встретить в таком замечательном месте».
Он встал. Машенька тоже встала. «Ну конечно, вы видели меня в управлении!» — радостно воскликнул он.
«Где-то я вас видела», — сказала Машенька. И внимательно на него посмотрела.
«Неужели это вы? — тихо сказал Калашников. — Доброе утро».
«Здравствуйте», — сказала Машенька и ушла.
Сказала «здравствуйте» и ушла. Потому что все это было в обратном порядке.
Калашников сразу перестал о ней думать. Слава богу, у него было о чем думать. У него была работа, была семья.
Так начиналась его биография. И не было в ней ничего выдающегося, такого, о чем пишут в книжках, что показывают в кино. Каждое утро Калашников уходил на работу, а вечером возвращался домой. На работу — с работы, на работу — с работы… Взятие Бастилии, восстание на броненосце «Потемкин» — все это было за пределами его биографии. Может быть, потому, что она пока что была коротенькая, и у нее еще было все впереди. В ней еще могли быть отчаянные дела, поскольку биография его нарастала не в старость, а в молодость.
А пока, в ожидании молодости, ему оставалось ходить на работу. Добросовестно ходить на работу.
Калашников хорошо ходил на работу, им были довольны, выносили ему благодарности. А с работы он хорошо приходил домой, и здесь им тоже были довольны.
Все события были в газетах. И какие планы строились в стране, и какие козни строились за границей. Можно было до предела заполнить жизнь, если регулярно читать газеты.
Мыслительный процесс не стал процессом века, уступив место другим процессам — производственным и особенно судебным. На судебных процессах мыслительный процесс выступал в качестве ответчика.
Появились такие понятия, как отрицательные достоинства и положительные недостатки. Отрицательными достоинствами считались излишняя принципиальность, излишне кристальная честность и многое другое, хорошее, но излишнее. А положительными недостатками считались естественные человеческие слабости, свидетельствующие о том, что человек не наберет опасную силу.
Закон был, как запрещающий знак у дороги: не запрещающий в принципе, а предлагающий ехать в объезд. Целые колонны, целые эшелоны ехали в объезд. В объезд была проложена широкая магистраль и построена многоколейная железная дорога.
Одно непонятно: как это все попало в биографию Калашникова? Сам он жил не в объезд, не старался переделать свое «плохо» на «хорошо», хотя последнее не только не возбранялось, но даже приветствовалось. Не только в производственных показателях, но и в печати, и в литературе «плохо» массово переделывалось в «хорошо», и уже, казалось, невозможно жить хорошо без «плохо», потому что нечего будет переделывать в «хорошо»…
После Машенькиного ухода (а на самом деле прихода, но в обратном направлении) Калашников опустился на край обрыва и стал любоваться видом, который открывался внизу. Лес был населен красками, звуками, запахами, они жили, как люди в городе, встречались и общались между собой. Покинет запах родной цветок и полетит прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом, а заодно и узнать, что там слышно. А навстречу ему — жур-жур, буль-буль, трах-тара-рах! И он уже знает, что слышно, и может возвращаться домой… Но найти дорогу домой очень сложно для запаха.
И побредет он дальше, и будет брести, насколько его хватит, как все мы по этой жизни бредем. Как бредет где-то жур-жур, буль-буль, как трах-тара-рах шагает метровыми шагами. Как бы он сейчас пригодился, этот трах-тара-рах, потому что навстречу лесному запаху из города вышел смрад у него свои дела на большой дороге. И забьется запах в лапищах смрада, и вспомнит свой далекий цветок, зачем он только покинул его? Но если б запахи не покидали цветов, в мире не было бы ничего, кроме смрада…
Посидев с полчаса, Калашников встал и побрел вниз по тропинке.
Внизу на опушке леса жена его объясняла детям, как нужно собирать грибы. «Как здесь хорошо!» — сказала она.
И тут же со своими пустыми корзинками они пошли на станцию, к электричке. Сели в поезд и поехали домой, делая детям замечания и наставляя их, как они должны себя вести в лесу.
Дома они позавтракали, умылись и легли спать. А когда вечером встали, жена сказала: «А не поехать ли нам завтра по грибы? Кукушкины уже десять банок замариновали».
Продолжение этой биографии, которое предшествовало ее началу, было уже совсем в другом городе. Калашников учился там в институте.
Институт, как нормальное учебное заведение, старательно переделывал «плохо» на «хорошо» и «хорошо» на «плохо»: хорошим студентам перекрывал пути, а плохим открывал в науку зеленую улицу.
Не все, конечно, удавалось. Были такие «плохо», которые никак не становились «хорошо», но были и такие «хорошо», из которых никак нельзя было сделать «плохо».
Биография наращивалась так, что время шло в обратном направлении. Институт открывал дорогу в будущее. Или закрывал. Наука отбирала будущих Ломоносовых, минуя будущих Эйнштейнов.
Часть вторая
1
Институт Истории Географии изучал географию в историческом аспекте, не чуждаясь и чистой истории, но, конечно, в аспекте географическом. Соединение этих двух наук подчеркивало нерасторжимость пространства и времени, столь необходимую для существования жизни на земле.
В дверях стоял милиционер, охранявший наше прошлое от нашего настоящего, а может быть, настоящее от прошлого, которое имеет привычку постоянно вмешиваться в современную жизнь.
Предъявив милиционеру документ, Калашников побрел по коридору. Стены были увешаны лозунгами: «Свободу римским гладиаторам!», «Возрождению размах Средневековья!» И совсем уже страшное: «Гуннам — нашествие татар!
Погрузившись в глубокие кресла, как в глубокую старину, исторические географы строили планы на прошлое. Вместо крестовых походов предлагались народные восстания, вместо разгула реакции — торжество просвещения и прогресса. Планы на прошлое выполнялись легче, поскольку в прошлом не приходится жить, а в будущем трудно предугадать, к чему нас приведет выполнение плана.
Скульптурная группа: Геродот и Магеллан склонились над книгой «Краткий курс истории географии». Рядом с ними их последователи, уже не скульптурные, а живые спорят о преимуществах и недостатках работорговли, по сравнению с торговлей свободными людьми. Конечно, лучше людей продавать, не ограничивая их свободу, но, с другой стороны, работорговец продает свое, а продажа людей свободных — это, в сущности, воровство. Учитывая, что свободный человек принадлежит себе, его продажа — это торговля краденым.
Противник рабства доказывал, что работорговец тоже продает не свое, поскольку человек не может принадлежать человеку. Но, возражал сторонник рабства, рабовладелец все же раба купил, потом кормил его, одевал… А тут продают совершенно постороннего человека. Причем заметьте: бескорыстно продают! Это не только худший вид продажи, но и худший вид бескорыстия. Раба выводят на торжище, он сам непосредственно участвует в процессе, здесь же человек даже не знает, что его продают. Он живет как ни в чем не бывало, свободно передвигается, наслаждается работой, семьей, встречается с друзьями, а в это время, в это самое время его уже продают… И скоро, очень скоро за ним придут покупатели… Ну скажите, может ли государство, допускающее и даже поощряющее такую торговлю людьми, считать себя свободным государством? Может быть, ему лучше называться рабовладельческим? С тем отличием от рабовладельческого, что там свободные граждане и рабы, а здесь — только рабы, потому что продать и купить можно каждого.
Высказав эту дерзкую и скорее всего несправедливую мысль, ученый муж оглянулся, и мужество покинуло его: он увидел внимательно слушавшего Калашникова. И не только Калашникова. Толстый парень в шляпе, плотно надвинутой на уши, однако не настолько, чтоб они не могли слышать, стоял, расставив руки и ноги, как вратарь, и, конечно, не пропускал ни одного слова.
Ученый муж сделал вид, что не заметил посторонних слушателей, и повторил последнюю фразу громче и в отредактированном виде: «Там, в Древнем Риме, свободные граждане и рабы, а в современном Риме — только рабы, потому что продать и купить можно каждого».
Он еще раз оглянулся и добавил для пущей убедительности:
«У нас-то, конечно, все равны. Хотя есть и первые среди равных. Есть вторые и третьи среди равных. А так — все равны, все равны…
Оба спорщика быстро ретировались, оставив наедине Геродота и Магеллана и, лишив «Краткий курс» той убедительности, которую ему придавало сочетание его основоположников с их последователями и учениками.
Толстый парень протянул руку Калашникову и представился:
«Индюков».
Если Калашников происходил от звука, то этот Индюков, судя по всему, происходил от запаха, и, сознавая это, он слегка прикрывал ладонью рот и старался дышать немножко в сторону.
«Ты их не слушай, — сказал Индюков, — никакого Древнего Рима там нет, его отменили на ученом совете».
«Древний Рим отменили?
Ну, не то чтобы отменили, а просто не утвердили, пояснил Индюков. Когда утверждали план работы на прошлые времена. Древний Рим просто не утвердили. А все эти слухи про Древний Рим — они отсюда, из этого института. Поползли давно, корда еще Рим не отменили, но, как это у нас бывает, пока ползли… Два года ползли, а теперь сюда же вернулись. Причем теперь уже в них и Древняя Греция. А Древнюю Грецию — ее же еще три года назад не утвердили. Так что три года как минимум про нее отсюда ничего не выползало. А вот — приползло.
Калашников сказал, что его интересует гора Горуня. Не Древняя Греция, а просто гора Горуня. Но толстый парень о Горуне не слыхал. Об Эвересте он слыхал, есть такая гора в Азии. Между прочим — вот смехота! — назвали ее не в честь открывателя, не в честь покорителя, а в честь, как это у нас бывает, какого-то дурацкого чиновника Эвереста. Этот чиновник, по-видимому, сидел у подножья Эвереста, пока другие поднимались на Эверест, попивал пиво или прихлебывал чаек, и все равно горе присвоили его имя. Эти прохиндеи чиновники достигают больших вершин. Потом поди разберись, то ли горе за ее высоту присвоили имя выдающегося человека, то ли человека назвали в честь горы за его выдающиеся достоинства. А когда обратно переименуют, опять непонятно: то ли человек проштрафился, то ли гора оказалась не на высоте. Прямо цирк от всех этих переименований. Природа только шарахается от наших громких имен. Сама она — как безымянный солдат на поле человеческой брани.
Толстый парень хлопнул Калашникова по плечу:
«Ладно, я в трактир, там сегодня завезли пиво. А ты дуй в сектор справок, пятый этаж, там такой человек, что никакой Горуни не захочется».
2
К двери сектора справок была прилеплена отпечатанная типографским способом табличка: «Скоро буду». Было не ясно, кто будет и когда, и Калашников в ожидании пошел бродить по коридорам.
Низенький ученый муж с высоким лбом доказывал высокому и низколобому, что палки в колеса появились раньше самих колес, потому что ведь не зря говорят, что обезьяна взяла в руки палку. Иначе бы говорили, что обезьяна взяла в руки колесо.
Низколобый ухватился за эту мысль и стал ее записывать в специальную книжечку, куда записывал мысли для будущих научных работ. «С тех пор, сказал высоколобый, — колеса все дорожают, а палки в колеса все дешевеют, и это определяет наше поступательное движение».
Калашников прошел в конец коридора и свернул в другой коридор, над входом в который большими мрачными буквами было начертано: «ДРЕМОТДЕЛ». И чуть ниже — более мелко: «Древних мифов отдел».
Весь этот коридор занимал Дремотдел, в который входило несколько секторов: «Сектор мифических подвигов», «Сектор мифического изобилия», «Сектор мифического счастья», «Сектор мифического труда». Приберегая счастье на конец, Калашников начал с того, что является его первоосновой.
Так это со стороны выглядело. Но на самом деле его выбор определялся другим. На дверях сектора мифического труда был нарисован контур горы, и Калашников подумал, что здесь он найдет необходимые сведения.
Ученые мужи сектора стояли в раздумье у стены, на которой были вывешены взятые сектором обязательства. Над обязательствами висел большой портрет Сизифа, сидящего на камне и задумчиво глядящего вдаль. От ног Сизифа поднимался склон горы, которая была одновременно диаграммой неуклонного роста.
Обязательства висели невысоко. Когда требовалось взять повышенные, их перевешивали повыше, а когда с ними не справлялись, двигали вниз. На стене был широкий след от передвигаемых обязательств.
Завсек, еще сравнительно молодой учмуж, заваливший работу в Упупе и брошенный сюда на укрепление, спросил, задумчиво глядя на диаграмму роста: «А почему у нас вместо роста спад?
«Это просто кнопка отлетела», — сказал учмуж, приставленный к кнопкам.
Держась на двух кнопках, диаграмма показывала рост.
Но когда одна из них отлетела, получился спад.
Завсек сказал: «Прошу вас, внимательно следите за кнопками».
«А какова производительность сизифова труда?» — спросил молчавший доселе учмуж, сложив руки на груди для большей производительности.
Выяснилось, что когда Сизиф катит камень в гору, производительность у него значительно ниже затраченного труда, а когда с горы — значительно выше. Напрашивалось предложение: а не катить ли ему только вниз? Но нельзя же вниз катить бесконечно.
Хорошо бы выбрать что-то среднее: катить камень одновременно и в гору и с горы. Но как это сделать?
«Все зависит от нас», — сказал учмуж, приставленный к кнопкам.
Он откнопил с одной стороны диаграмму роста с нарисованным сверху камнем и повернул ее на 90 градусов. Было так, а стало вот так.
«Видите: камень уже внизу. Повернем диаграмму — и он опять наверху».
Итак, низ — это скрытый верх, а верх — это скрытый низ. В этом ключ к решению проблем экономики.
«Интересная мысль», — сказал Калашников. Завсек внимательно на него посмотрел: это еще что за персона? Хорошо, если сам по себе, а если он кого-нибудь представляет? И не просто кого-то: это в театре человек представляет человека, а в жизни он нередко представляет целую организацию.
«А мы тут как раз берем повышенные обязательства», — на всякий случай сказал завсек, перевешивая обязательства повыше.
«А в субботу у нас субботник, а в воскресенье — воскресник», — сообщила Калашникову учмуж-женщина.
«В другие дни с субботниками и воскресниками не получается, — сказал учмуж, сложивший руки на груди для большей производительности. — Потому что в другие дни мы и так на работе».
«Ах, как хочется на работу!» — вздохнула учмуж-женщина.
«Проснись, ты же и так на работе!» — шепнул ей завсек.
«Ничего не могу с собой поделать, — призналась Калашникову учмуж-женщина. — На работе — и хочется на работу. Чем больше на работе, тем больше хочется!
Калашников не знал, как отнестись к этому признанию. Поэтому он спросил: «Скажите, это случайно не гора Горуня?
«Горуня? Ах, Горуня! — сообразил завсек. — Это рядом, в секторе мифических подвигов!
3
В жизни всегда есть место подвигам. Даже в мирное время, спустя много лет после Троянской войны, мирные люди становились героями. И дважды, и трижды героями. Все за ту же Троянскую войну.
Двенадцать подвигов Геракла стали со временем двадцатью, тридцатью. Если когда-то Геракл победил немейского льва, то впоследствии, он победил и немейского тигра, и еще много чего немейского.
Ежегодно подвиги Геракла перенумеровывались — в соответствии с тем значением, которое они имели в данный момент, и каждый учмуж отстаивал свой подвиг, — не свой, конечно, а Геракла, но с учетом, что на ставке при подвиге числился он, а не Геракл. Такие ставки существовали давно, быть может, еще со времен Геракла. На этих ставках работали люди квалифицированные, знающие, как совершается подвиг, но не умеющие его совершить. Иногда на сам подвиг не хватало средств, потому что все средства съедали консультанты при подвигах.
Учмуж, к которому обратился Калашников, был известный авгиевед, крупнейший знаток того, что вычистил Геракл из авгиевых конюшен.
«Герой Геракл работал у трижды героя Авгик, — сообщил Калашникову авгиевед. — Да, не удивляйтесь, если очистить конюшни — героизм, то просидеть всю жизнь в дерьме — трижды героизм. И кто сказал, что уже можно выносить сор из избы? Это сказал Геракл? Нет, это сказал Авгий».
Раньше-то все делали вид, что в конюшнях идеальная чистота, что лошади ходят в белоснежных носочках и сморкаются в батистовые платки. И вдруг, как гром средь ясного неба: живем в дерьме! Ну, Геракл и ухватился за это дело. Когда можно вывозить, почему бы не вывезти?
Оно, конечно, и теперь наваляют, а чистить не разрешается. То, что раньше наваляли, — можно, а то, что теперь, — нельзя.
Авгиевед пожаловался, что у нас недооценивается этот подвиг Геракла. Трудовой подвиг для них не подвиг. Хотя для некоторых любая работа подвиг, иронически заметил авгиевед.
В наше время большим подвигом считается украсть чужих коров (десятый подвиг Геракла) или золотые яблоки (одиннадцатый подвиг Геракла). А то и просто что-то добыть (третий, четвертый, шестой подвиги).
Молодой гидролог, специалист по второму подвигу, сказал: «Да, теперь уже нет тех подвигов… Чтобы сразиться с гидрой один на один…
«Я не понимаю Геракла, — сказала женщина, специализировавшаяся по другим подвигам, а сюда принятая на вакантное место. — Побеждал таких чудовищ, а Нарцисса победить не смог. По крайней мере, в глазах одной-единственной женщины…
«Одной-единственной?» — встревожился Калашников.
«Ну да. Я говорю о нимфе Эхо, которая полюбила Нарцисса, а не Геракла».
«Женщины не любят Гераклов. Их любят работа и борьба», — сказал учмуж, на которого давно махнули рукой все эти виды полезной деятельности.
Калашникова заинтересовала нимфа Эхо, и он узнал, что это была женщина, которая от любви превратилась в пустой звук. Он переспросил: точно ли женщина превратилась в пустой звук или, может быть, пустой звук превратился в женщину?
Гидролог засмеялся: кто ж его полюбит, пустой звук, чтобы любовь превратила его в человека?
«Вы возьмите нравственную сторону, — сказал авгиевед, привыкший от любви переходить непосредственно к нравственности. — Геракл достал пояс, Геракл достал яблоки. Неужели что-то достать — это подвиг? И на этом мы будем воспитывать подрастающее поколение? Потому они и вырастают такими: только и смотрят, где что достать, а чтоб поработать на скотном дворе, этого от них не дождешься».
Калашников сделал такое предположение: если в мифе женщина была превращена в эхо, то, видимо, возможен и обратный процесс. Это у многих вызвало сомнение. Превратить нечто материальное в пустой звук — это в нашей эхономике встречается на каждом шагу, но превратить пустой звук в нечто материальное — на это способны только японцы.
Тем более — в женщину. В то время как мы превращаем наших женщин невесть во что, превратить эхо в женщину — да, это был бы подвиг! Именно такие подвиги нам нужны, мы уже забыли, как выглядит настоящая женщина!
«У нас нет ставки на этот подвиг, — сказал завсек. — Разве что на общественных началах…
Заняться подвигом на общественных началах — это тоже подвиг, но учмужи к нему готовы не были.
4
В секторе мифического изобилия только и разговора было, что о потребителе, которого здесь называли Танталом. Потребитель Тантал, как известно из мифа, стоял среди еды и питья, но ни выпить, ни съесть ничего не мог, потому что все это таинственным образом исчезало.
Согласно мифу, Тантал воровал продукты со стола богов. А что делать, если ничего нет? Только на столе у богов и есть, у них, как известно, совсем другое снабжение.
Потому что у них распределение. Они сами распределяют, что кому. Внизу производство, наверху распределение. Поэтому наверху говорят: нужно лучше работать. А внизу говорят: нужно лучше распределять.
Внизу доказывали, что нужно изучать спрос. Но тот спрос, что вверху, был вверху известен, а тот, что внизу, вверху никого не интересовал. Какой там спрос, этот потребитель проглотит все, что ему ни кинешь. Тут уже не спрос определяет предложение, а одно предложение: поменьше спрашивай, довольствуйся тем, что есть. Так считали наверху, где было полное удовлетворение спроса.
Сотрудники сектора то и дело бегали куда-то с сумками и авоськами, занимали друг другу очереди и простаивали в них лучшие часы своей жизни. Но вокруг них тоже все таинственно исчезало или просто не появлялось, столь же таинственно.
Это были поистине танталовы муки: всеобщее изобилие, а ничего не купить. Идешь вроде бы к магазину, вроде бы написано: «Магазин», а зайдешь внутрь — будто это не магазин, а совсем другое учреждение.
Поток бегущих сотрудников вынес Калашникова в коридор. Он снова вошел, но его снова вынесли. Махнув рукой на изобилие, он направился в соседнюю дверь.
5
В секторе мифической справедливости висел большой портрет знаменитого Прокруста, что означало признание его заслуг, тогда как отсутствие портрета означало признание его злодеяний.
Конечно, он уничтожил много людей, подгоняя их под свое прокрустово ложе, но ведь в этом заключалась идея всеобщего равенства. Хоть и варварскими методами, но Прокруст добивался равенства. И ученые мужи говорили: нет, мы Прокруста не отдадим.
Он хотел, чтоб все были равны. Правда, не все выдерживали такое равенство. Одних приходилось вытягивать, другим обрубать ноги. Да, он шел по трупам, но все же ушел далеко.
Однако трупы многих смущали. И они говорили: нет, мы Прокруста отдадим. И не только его отдадим, но и всех его пособников и приспешников.
И они уносили портрет Прокруста в чулан, а на его месте вешали слова писателя: «Все в человеке, все для человека!
Но сама идея была хороша. До Прокруста еще никому не удавалось добиться такого всеобщего равенства. Прокруст по крайней мере служил идее. А чему служил потребитель Тантал?
Потребители не служат идеям, они служат только своим потребностям. И ученые мужи говорили: нет, мы им Прокруста не отдадим!
Вы посмотрите вокруг: ведь у нас одни потребители! Хоть бы кого-то взволновала идея — пусть жестокая, пусть бесчеловечная! И ученые мужи приносили из чулана портрет, а слова писателя возвращали в собрание его сочинений.
Если б отделить эту прекрасную идею от ее ужасного осуществления! Чтоб сама идея была, а осуществления — не было.
6
Он ходил по Дремотделу, из сектора в сектор, все больше погружаясь в удивительные мифические дела. То тут, то там его принимали за представителя и начинали отчитываться в якобы проделанной работе, причем отчет начинали с древнейших времен: «Вначале был хаос…
Звучали отчеты примерно так: «Вначале был хаос. Товарищ Хоменко собрал сотрудников…
В секторе мифического счастья обсуждался важный вопрос: что для чего является необходимым условием — любовь для счастья или счастье для любви. Учмуж, настолько старый, что в слове «любовь» не мог произнести правильно ни одной буквы, вследствие чего у него вместо любви получалась дружба, а иногда и сотрудничество, говорил, что без счастья не может быть сотрудничества, но и без сотрудничества не может быть счастья. Скептики утверждали, что счастье вообще невозможно на земле, поскольку история жить не может без географии, а география к истории равнодушна. География намного старше истории, она уже была стара, когда истории еще и на свете не было, вот почему она к ней равнодушна. От старости. А история по молодости лет может» вообще погибнуть от этой несчастной любви. Слишком близко к сердцу она принимает географические проблемы.
В различных точках земли по-разному складываются отношения между географией и историей. Какое-нибудь крохотное государство, в котором географии почти не видать, имеет большую историю, которая в нем развивалась в ущерб географии, и это государству пошло на пользу. А у другого государства одна только география, сплошная география и ничего больше.
7
Сектор справок все еще был закрыт, и на двери красовалась та же табличка: «Скоро буду». Калашников еще походил по коридорам и этажам и где-то в подвальном закоулке оказался перед дверью с табличкой: «Отдел умолчания». Он вошел.
Комната была заставлена стеллажами с толстыми папками. Из-за стеллажа выглянул старенький сотрудник: «Ну, наконец-то! А я вас жду, жду… — Он вышел из-за стеллажа и внимательно разглядывал Калашникова. — Таким я вас и представлял. Таким и должен быть внук нашего великого неизобретателя».
Внук! Неужели Калашников вышел на своего дедушку? Не тот ли это дедушка, который кричал «ура!»?
Оказалось, не тот. Даже когда все кричали «ура!», дедушке удалось от этого воздержаться. Все кричали, а он воздерживался.
Так говорил старенький сотрудник. Молодость его совпала со временем больших исторических изобретений. В других науках изобретатели были в загоне, а в истории наоборот: в загоне были неизобретатели… И те в загоне, и те в загоне — это ж какой нужно иметь загон, подумал Калашников.
В истории писали, что хан Батый был прогрессивным для своего времени, поскольку укрепил и расширил татаро-монгольское государство. Изобретали события, факты, усовершенствовали исторических деятелей, которые для своего времени были пригодны, а для нашего требовали некоторых усовершенствований. Или, наоборот, годились для нас, хотя и были непригодны для своего времени.
Дедушке Калашникова еще повезло: самое трудное время он «пересидел в тех местах, которые никогда не считались особенно отдаленными. Многие там пересиживали трудные времена. Пересиживал математик, занимавшийся отрицательными величинами, которые могли рассматриваться как отрицательные явления. Пересиживал физик, действие которого было сочтено равным противодействию. Художник, изобразивший время года, вместо того, чтобы изображать время эпохи.
Дедушка был выдающийся историк и мог такое в истории на изобретать… А он не изобретал. Он придерживался фактов, хотя факты в то время были все равно что камни на шее у историка: кто их придерживался, тот немедленно шел ко дну.
Есть такие факты, о которых история не только умалчивает, но хранит молчание, которое можно назвать гробовым, если не побояться этого зловещего слова. Особенно таких фактов много вблизи современности. Переходя из современности в историю, факты проходят карантин, который иногда затягивается надолго. Взять хотя бы материалы о Союзе Михаила Архангела. Очень любопытные материалы, но как Михаил Архангел против них возражал! Вот и отправили материалы в отдел умолчания.
«Можно ли считать, что ваш отдел — это отдел провалов исторической памяти?
«Совершенно справедливо. Но со временем эти провалы становятся вершинами исторической памяти. Потому что, как известно, провалы — это перевернутые вершины…
Сотрудник отдела умолчания провел Калашникова между стеллажами. Кое-что из этих материалов уже побывало в экспозиции, а потом его вернули сюда. Чтоб не компрометировать историю. Те, что не способны навести порядок в настоящем, любят его наводить в прошлом и будущем.
«А про гору Горуню материалы случайно не у вас?» — перешел Калашников к главной цели своего визита.
«Гора Горуня? Постойте, постойте… Может быть, Шипка? Или Сапун-гора?
Горуня и Шипка — что может быть у них общего? Совершенно разные горы и находятся в разных местах…
Но старый сотрудник не зря вспомнил о Шипке и Сапун-горе. Потому что Шипка — это провал замыслов турецких агрессоров. А Сапун-гора — это провал замыслов немецких агрессоров. А гора Горуня — это провал чего?
Калашников, собственно, и пришел сюда за ответом на этот вопрос. А выходит, что самому нужно и отвечать. Вот такое самообслуживание.
«Мне всегда казалось, что это гора… — заговорил он в некоторой растерянности. — Но теперь я в этом не уверен. Возможно, это провал чьих-то агрессивных замыслов, только перевернутый так, что он выглядит, как гора. Может быть, там, внутри, вообще пусто и только сверху высоко».
«Ну, это распространенное историческое явление, — кивнул знаток исторических явлений. — Некоторые исследователи считают это закономерностью: чем больше высоты, тем больше пустоты. Я не хочу называть имен: хотя их высота уже рассекречена, но пустота пока что в спецхране».
Калашников еще несколько раз переводил разговор на Горуню, но разговор почему-то тут же оказывался на Шипке или Сапун-горе. Наконец-то старичок посоветовал обратиться к Энне Ивоновне, которая, кстати, была обыкновенная Анна Ивановна, но было неудобно называть так обыкновенно главного завсекса.
«Зав… кого?» — Калашников почувствовал, что его прошибает пот. Но все оказалось намного проще и спокойнее.
Оказалось, Энна Ивоновна — завсекс в смысле заведующего сектором справок. И старичок к ней как раз собирался, чтобы передать рассекреченные работы дедушки Калашникова. Здесь, в отделе умолчания, дедушка — уже в Посмертном заключении — провел сорок лет, но посмертная жизнь бессмертна, это давно доказано, и каждый дождется своего часа.
Старый заведующий достал со стеллажа папку.
«Мне бы хотелось, чтобы вы сами ей отнесли. Внук освобождает дедушку из тюрьмы — в этом есть что-то символическое».
Он протянул Калашникову папку, аккуратно перевязанную ленточкой. Калашников дернулся по направлению к папке и обмяк: у него на глазах скоропостижно скончался его дедушка.
На папке значилось: «Труды профессора Индюкова».
«Вы самолично доставите эту папку нашей великолепной Энне Ивоновне. Там у нее на дверях табличка: «Скоро буду», но вы не обращайте внимания. Это она предупреждает своих поклонников, что она скоро у них будет, чтоб они на работе не морочили ей голову».
Он протягивал Калашникову папку, но Калашников папки не брал. Старик продолжал протягивать, но Калашников продолжал не брать. Наконец он сказал, что ему очень жаль, но это не его дедушка.
«А чей же, интересно? Уж не мой ли? Вот здесь черным по белому написано: «Труды профессора Индюкова».
Отпевание кончилось. Гроб стали засыпать землей. «Дедушка, куда же ты?» — хотел крикнуть Калашников, но сдержался и сказал почти спокойно: «Он Индюков, а я не Индюков».
«Вы не Индюков? А где же Индюков?
Свежая могила. Вокруг печаль. «Индюков пьет пиво в буфете».
8
Вера Павловна рассказывала о своей не то родственнице, не то соседке. У нее, представьте себе, два сына. Один — здоровенный балбес, учиться не хочет, а хочет — что бы вы думали? Жениться. Так и говорит: не хочу учиться, а хочу жениться. А старший — студент, способный мальчик, но возомнил, что ему все позволено. Убил какую-то старуху. Теперь его будут судить. Ну каково это матери? Ох, дети, дети… Тут один старичок ходит, покупает книжки. Все Шекспира спрашивает. У бедняги три дочери, а жить негде. Все, что имел, роздал детям, а они его выгнали, ну можно такое терпеть? Совсем с горя сдвинулся старик, теперь ходит, спрашивает Шекспира.
Покупательница, божий одуванчик, из тех, которые живут на земле в состоянии невесомости, хотя жизнь упорно приучает их к перегрузкам, слушала внимательно, не перебивая, поскольку оставила дома слуховой аппарат. Потом вдруг сказала:
«В наше время инфарктов не было. А теперь ничего нет — одни инфаркты».
«Тут один бегал от инфаркта — и все за женщинами, — включился в разговор веселый молодой человек. — Такую развил скорость, что прибежал к инфаркту с другой стороны…
Но Вера Павловна не давала сбить себя с темы: у нее у самой детство было трудное, отдали ее в люди. Написала бабушке, чтоб ее забрала, а на конверте — глупая была — написала: «На деревню бабушке».
И тут Калашникова как громом ударило: она!
Своей-то биографии у нее нет, вот она и рассказывает, что вычитала из книжек. Когда нет своей биографии, приходится пользоваться чужой. Сколько Калашников примерял к себе чужих биографий! Вот и она примеряет… Как же это не пришло ему в голову? Ведь чужая биография — это главная примета. Она ведь, его единственная, тоже не имеет своей биографии, поэтому и пользуется чужими, самыми известными…
В другое время это открытие обрадовало бы Калашникова, но сейчас, после знакомства с Энной Ивоновной, оно его огорчило. Энна Ивоновна больше подходила для роли его единственной. И как она тепло говорила о горе Горуне! Как будто она сама оттуда, как будто она — это она. «Горуня? Вот она, Горуня, — говорила Энна Ивоновна, водя пальцем по столбцам толстого историко-географического справочника. — Но здесь не указано, гора это или провал. Это может быть и гора, и провал, в зависимости от исторической обстановки». Калашников сказал, что если, допустим, люди кричат «ура!». Они берут высоту и кричат «ура!». Значит, это гора? Но Энна Ивоновна считала иначе. Потому что крик «ура!» может не только возвышать, но и принижать человека. Если в мирное время люди кричат «ура!» вместо того, чтобы кричать «караул!», это значит, что общество находится в полном провале. Нужно смотреть конкретно, что исторически происходило на этой горе, для того чтоб судить, что она собой представляет географически.
Замечательно говорила Энна Ивоновна, но Калашников ее уже почти не слушал. Он только на нее смотрел. И долго смотрел ей вслед, когда она ушла с каким-то парнем из средних веков, — то есть не из самих средних веков, а из отдела с таким названием.
И сейчас, слушая Веру Павловну, он все время думал об Энне Ивоновне. И не мог понять, почему Вера Павловна такая старая, она же раньше была молодая… Неужели она постарела от внешности? А почему не постарела Энна Ивоновна? Она, наоборот, от внешности только помолодела. А может. Вера Павловна постарела, ожидая Калашникова? Энна Ивоновна не постарела, ожидая его, а она постарела… Это предположение заставило его взглянуть на Веру Павловну другими глазами.
Вера Павловна рассказывала про свои детские годы, которые были даже не ее, потому что никакого детства у нее не было. Она так и сказала: «В детстве у меня не было детства».
Это уже было лишнее. Правду тоже нужно говорить к месту, иначе она хуже лжи. Это когда-то, в своем прежнем существовании, Калашников повторял все без разбора, теперь он знает, как повторять. Ему скажут: «Трам-та-та-там!» — а он в ответ: «Тири-тири…» Ему опять: «Трам-та-та-там!» — а он опять: «Тири-тири…» Интеллигентный человек.
В детстве у нее не было детства… Это же каждый догадается, что она из ничего взялась, из пустого звука. А может, она старилась не в ожидании Калашникова, а просто так, сама по себе? И опять перед ним возник образ Энны Ивоновны.
Вера Павловна между тем вспомнила о своем дяде, которого в каком-то провинциальном городе приняли за столичного ревизора. Надавали ему взяток… Он потом их сдал в милицию.
«Это случайно не тот дядя, который скупал мертвых душ?» — с намеком спросил Калашников.
Вера Павловна его не услышала. Она вдруг начала стремительно молодеть, но смотрела при этом не на Калашникова, что еще как-то можно было бы понять, а куда-то мимо Калашникова. И уже не только молодея, а светлея лицом и вся подавшись навстречу тому, что ее так сильно притягивало, Вера Павловна сказала, словно вздохнула: «Дарий Павлович!
Калашников обернулся. Прямо на него, но глядя тоже мимо него и улыбаясь мимо него, к киоску шел Дарий Павлович Михайлюк.
9
Калашников брел по улице, по которой еще недавно шли победным шагом Ганнибал, Наполеон и Суворов, и на душе у него было скверно. Все-таки обидно, что старый Михайлюк… Это, наверно, потому, что она сама старая… Конечно, до Энны Ивоновны ей далеко, но ведь единственная же! Когда-то они были созвучны друг другу. И вот — она другому отдана и будет век ему верна, — вспомнились слова из ее биографии. «Ну и пусть верна, подумал он, — в таком возрасте это совсем не трудно».
И Энну Ивоновну от него увели, и Веру Павловну увели…
Он зашел в театр. Ему хотелось увидеть Зиночку.
В связи с переходом на новые формы обслуживания буфет был закрыт. Продолжал функционировать зрительный зал, но тоже подвергся серьезной реорганизации.
Зрительный зал был уставлен станками. Производственная тематика давала продукцию. Небольшая кучка зрителей теснилась на галерке, и их жидкие аплодисменты тонули в грохоте станков. Должность главного режиссера была в театре упразднена, вместо нее была введена должность главного инженера. Театр в дальнейшем предлагалось именовать заводом, а при заводе организовать самодеятельность, чтобы и дальше внедрять производственную тематику в жизнь.
Он вышел на улицу. Там уже собиралась очередь «от театра. Несколько кварталов спустя он увидел очередь от библиотеки: там тоже был поблизости гастроном.
Калашников машинально побрел к дому Зиночки.
В освещенном окне Зиночку было хорошо видно. Она стояла перед зеркалом, примеряя на себя какую-то цепь, — словно кудрявая собачка перед домом хозяина. И вдруг этот хозяин вышел из глубины комнаты — в купальном халате и с полотенцем через плечо. Он был не из мира театра, он был скорее из мира тяжелой атлетики. Он стал играть с Зиночкой, как хозяин играет с собачкой в собственном доме, зная, что здесь его не укусят и не облают. Потом они оба склонились над столом, — может быть, над книгой? Лица у них были такие серьезные, словно они склонились над книгой и уже начали в ней что-то читать.
А может, они склонились над колыбелью? Они смотрели с такой любовью, что тут не могло быть сомнения. Вот Зиночка что-то сказала, — быть может, «агу!», а ее хозяин сделал руками ладушки…
Да нет же, теперь Калашников рассмотрел. Это была продуктовая сумка, которую он сам не раз носил из буфета, только теперь она была еще полней, потому что носил ее человек из мира тяжелой атлетики.
Еще часа два он бродил по городу. На глаза ему попалась табличка: «Проезд Иванова». Кто такой Иванов? Где-то Калашников слышал такую фамилию. Может, он строил город? Или защищал его на войне? А может, он просто «проезжал в этих местах, и места эти так и назвали: «проезд Иванова? Но почему этот проезд запомнился Калашникову?
Ну, конечно! Он стоял около дома Масеньки.
Он все еще думал об Энне Ивоновне, о Зиночке, о Вере Павловне, но уже появилась Масенька и решительно вошла в его мысли. И там, в его мыслях, они сидели все четверо: в самом центре Масенька, рядом с ней Энна Ивоновна, а в глубине мыслей Зиночка рассказывала Вере Павловне, как у нее в буфете Чацкий поит Фамусова в расчете на лучшую роль, а Вера Павловна говорила, что Чацкий — племянник ее сестры, он приехал в Москву, но ему не дают прописки.
И тут из подъезда вышла пара. Девушка что-то оживленно говорила своему спутнику, а он ее внимательно слушал… Лучше бы ему не слушать, а ей не говорить… Потому что это была Масенька.
Масенька не удивилась, увидев Калашникова у своего дома. Ведь он, наверное, шел к ним?
Вообще-то да. Вернее, нет. Тем более, что Масенька не одна, это, вероятно, какой-то знакомый Масеньки?
Оказывается, это Вадик. Просто Вадик. Милиционер. Обыкновенный милиционер, но он больше любит, когда его называют Валиком.
События развивались, как в романе. Как в историческом романе, который пересказывала Маргоша, коротая рабочий день. За дочерью не то декабриста, не то народовольца ухаживал тайный агент охранки. Ему было дано задание ухаживать, и он ухаживал. Потом было дано задание жениться, и он женился. Тестя — декабриста или народовольца — он сразу стал называть папенькой. Потому что у него было задание так его называть. И дети, которые родились от этого брака, унаследовали фамилию не декабриста, не народовольца, а агента охранки.
Жуткий роман. Слава богу, что исторический.
В связи с этим Калашников подумал, что милиционер Вадик заброшен к Масеньке со специальным заданием, но оказалось, что у него по службе неприятности. И в личной жизни. Теперь он женится на Масеньке, чтоб меньше горевать? Но Масенька отвергла такую возможность. Потому что Масенька любит совсем другого человека (уж не Калашникова ли?). А у милиционера просто горе. Масенька это сразу заметила, еще тогда, когда он пришел описывать их имущество.
«Чье имущество?
«Наше. У нас, вы знаете, описали имущество. Он зашел описывать, а сам такой грустный… Я ему что-то сказала, не помню что… Вот он и стал заходить. Ему сейчас очень плохо».
«У него тоже описали имущество?
«У него не описали. Это он описал. Но от этого ему не легче».
10
Была глубокая ночь, когда Калашников опять оказался у киоска Веры Павловны. Михайлюк топтался у киоска, и вид у него был какой-то растерянный и расстроенный. Он сказал, что видел своего брата. Брата, которого давно нет в живых.
«Вы видели мертвого брата?
Нет, не мертвого. Дарий Павлович видел след живого брата. У следа был жалкий вид: видно, подошву пришлось подвязывать тряпочкой. Никто, кроме Мария, не мог оставить такой след в таком месте.
Сам Дарий Павлович впервые оказался в этих местах. Прежде он все путешествовал по своей жизни, а теперь ушел дальше, еще до себя, И убедился, что они не воевали между собой: Дарий потому, что Марий еще при нем не родился, а Марий потому, что с мертвыми не хотел воевать. Хотя некоторые любят воевать с мертвыми: дождутся, когда человек умрет, а потом начинают военные действия.
Вспомните Навуходоносора. Пока он был жив, все эти навуходоносители вертелись у него около уха, а как не стало Навуходоносора, тут и вспомнили: и такой он был, и сякой! Да, конечно, он был и такой, и сякой, и даже гораздо хуже, но разве у нас нет живых Навуходоносоров? Ну, пусть еще не полных, а каких-нибудь навуходо? Или еще только навухо? Так что же, ждать когда он станет полным Навуходоносором? Почему бы уже сейчас не сказать ему всю правду?
И тут Дарий Павлович увидел след своего брата. След был рваный, разбитый, — видно, досталось брату Марию не в тех, древних, а в наших, недавних временах. Вон в какое далекое прошлое он забежал, чтоб только быть подальше от своего времени. Они-то, его охранники, не знали о его изобретении, им и в голову не приходило, что существует память земли, причем существует совершенно от них независимо. Они думали, что ничего от них не зависимого в природе нет, что, ограничив свободу в пространстве, они и время заперли на замок, но время запереть невозможно. Ни заборами, ни колючей проволокой, ни пулеметными вышками, держащими узников на прицеле. Знали б они, как о них отзовутся грядущие поколения, выставили бы железные заслоны, чтоб ни одна душа не покинула их страшные времена.
«Калашников, — попросил Михайлюк, — вы еще молодой человек, вам не нужно пробиваться сквозь собственную биографию… Посмотрите, есть ли там этот след. Вам ничего не придется делать, просто лечь на пол и закрыть глаза… Может, я ошибся… Может, мне померещилось… Или это книги влияют… все-таки столько книг…
11
Как утверждает физика вертикальных тел, всякое вертикальное тело отдыхает в горизонтальном положении. Желательно с закрытыми глазами. Уж не проспал ли Калашников всю историю с закрытыми глазами? Когда он проснулся, последний человек превращался в обезьяну, наведя его на грустные педагогические размышления, но он тут же сообразил, что это не последний, а первый человек и не в обезьяну он, а из обезьяны: просто Калашников двигался в обратную сторону.
По той же причине первый встреченный динозавр выглядел усталым и вымирающим. Он посмотрел на Калашникова равнодушными глазами. Дескать, ты все еще туда? А я уже оттуда…
Появлялись другие динозавры, их становилось все больше, и выглядели они все веселей. Один из них даже попытался сожрать Калашникова, но пасть его щелкнула вхолостую, и на ней зажглась надпись: «Спокойно: воспоминание!
Жизнь постепенно уходила под воду, словно ринулась топиться, но она не топилась, она только начинала жить на земле. Ничего себе начинание! Всю ее как рукой смело, и земля превратилась в голую пустыню. Ни одна пустыня на свете не бывала такой голой, как та, потому что ей совершенно некого было стесняться.
Все было пусто и голо. И вдруг посреди этой пустоты Калашников увидел след. Точно такой, как говорил Михайлюк: с поперечной полоской от тряпочки. Никаких следов рядом не было. Словно человек раз ступил и исчез.
Пустыня все тянулась, превращаясь из пустыни, которой стесняться некого, в пустыню, которая не может стесняться сама: из голой пустыни в мертвую. Но вот откуда-то появились обломки, которые сами сложились в развалины, и когда из них сложилась более-менее целая стена, Калашников увидел сидящего под ней человека.
«Ну, наконец-то! — сказал человек. Был он в синих спортивных брюках и белых тапочках. — А я уже, признаться, без общества истосковался. У нас тут было общество. Сначала оно делилось только на женщин и мужчин, и это деление его умножало. А потом оно стало делиться на богатых и бедных, и тогда мы пошли друг друга истреблять. Истребляли, истребляли и вдруг спохватились: кажется, мы уже делимся на умных и дураков? Тут-то все ринулись в умные и постарались отделиться от дураков, что привело к общественному неравенству: огромному обществу умных и крохотному обществу дураков. Чтобы как-то сохранить равновесие, мы в обществе умных установили высокий налог, а дуракам, наоборот, дали стипендию. И в результате все общество превратилось в общество дураков. Вот тогда нам и обменяли настоящее наше на будущее. Вы пробовали жить в будущем? Роскошно, шикарно, счастливо, но — в будущем? Пусть даже в светлом будущем? Ведь от самого светлого будущего в настоящем не светлей, настоящее из будущего не освещается…
Правда, настоящего у нас не было, нам же его обменяли. И кто-то жил в нашем настоящем, но кто именно — это от нас держали в секрете. А нам в настоящем оставили только страх и аппетит. Так постепенно мы превратились в ископаемое государство».
«Почему в ископаемое?
«Ну это же понятно! Если государство вывозит промышленную продукцию, его называют промышленным, если аграрную, его называют аграрным. А как прикажете его называть, если оно вывозит одни полезные ископаемые?
А вообще-то мы хорошо жили. Но только в будущем. В будущем мы, можно сказать, жили лучше всех. А настоящего у нас не было, потому что нам его обменяли. И сказали, когда обменивали: настоящее быстро проходит, а будущее — это на века!
12
И снова обломки, складывающиеся в развалины, и сидящий у стены человек, уже другой человек, но тоже в белых тапочках.
«Сам не понимаю, что у нас здесь произошло, — сказал он Калашникову. Мы просто голосовали. Единогласно, как всегда. Я говорю им: не нужно единогласно. Нам же просто нечего будет считать (сам я — председатель счетной комиссии). А они ни в какую. Единогласно — и все. У нас, видите ли, раньше был обычай: рубить руку, поднятую против, а также руку, не поднятую за. Иногда человек не только оставался без рук, но и терял право голоса. А кому хочется потерять право голоса? Вот они и голосовали за. Уж что мы не делали, чтоб обеспечить тайну голосования! Раздавали всем перчатки, чтоб не оставлять отпечатков на бюллетенях голосования, голосовали в темной комнате с завязанными глазами — ничего не получалось. Верней, получалось, но единогласно. Сто человек голосует — двести за. Двести голосует — четыреста за.
«И что же было дальше?
«А дальше — что ж. Проголосовали мы за что-то, уж не помню, за что. Вдруг — грохот, огонь… Вот все, что осталось…
Он снял тапочки, вытряхнул из них пепел. А Калашников двинулся дальше. Верней, глубже — в глубины памяти.
13
Цивилизации мелькали, как станции метро, и вот на развалинах еще один странный тип, не только в белых тапочках, но и в белой шапочке и вдобавок в белом халате. Увидев Калашникова, он панически закричал:
«Не подходите ко мне! Сначала сдайте кровь и мочу на анализ!
И все же он не удержался, заговорил без анализа. Видно, долго не разговаривал с живым человеком.
Ну что вы хотите, у них тут была чума. Или другая болезнь, столь же смертельная. Он не особенно разбирается, поскольку профессор-администратор. Академик-администратор. Ведал здравоохранением своей погибшей цивилизации. Так что в здоровье он еще разбирается, а в болезнях уже нет. А тут как раз чума, серьезная болезнь, а он, представьте себе, во главе здравоохранения. Как ни крути, получается, что это его плохая работа. Можно получить выговор, а то и вовсе с работы полететь. Вот он и объявил населению, что эпидемия окончилась, а медицине дал указание: вместо чумы ставить другой диагноз. Но население умирало, хотя и с другим диагнозом, пока не вымерло все целиком. Он один остался. Но тоже неважно себя чувствует, как бы не заболеть на этой работе.
14
Калашников от возмущения прыгнул так далеко, что его остановили совсем в другой цивилизации. «Эй! — крикнул ему человек на развалинах этой цивилизации. — Писать умеешь? Тогда садись и пиши. У меня накопилось много воспоминаний. Полководец я. Водил, понимаешь, полки. Только меня как полководца долго замалчивали. Пока я сам не взял все в свои руки. Ну, тут уже обо мне заговорили: видишь — вся грудь в орденах. Это за победы в развитии нашей цивилизации. Правда, враги цивилизации распространяли мнение, что цивилизация должна быть гражданской, а не военной. Дескать, само слово «цивильный» означает штатский, поэтому нельзя развивать цивилизацию исключительно посредством развития вооруженных сил. Но я думаю, они это от зависти. Небось, самим хотелось посидеть у руля. Сколько я их передавил, чтоб не путались под колесами. — Он улыбнулся. — Ничего не поделаешь: цивилизация требует жертв. Очень много жертв. Но это мы все напишем в воспоминаниях. Доставай ручку. У тебя ручка есть? Мы тут, понимаешь, весь металл пустили на вооружение, ну и кончилась наша литература. А я, понимаешь, не могу не писать: подпирают воспоминания. И писать не могу, и не писать не могу — ну что ты на это скажешь?
Калашников поинтересовался, почему он сидит у стены.
«Неужели непонятно? — он даже встревожился. — Сидеть нужно так, чтоб было понятно широким народным массам. Вот у нас, помню, был министр. Дважды министр. Так он все население посадил на казенные харчи. Посадил это как министр, тюрьмы, а на харчи — это уже как министр социального обеспечения. А что было делать, если он дважды министр и должен, с одной стороны, социально народ обеспечивать, а с другой стороны, социально его сажать?
«Но у стены-то, почему у стены?
Человек в белых тапочках посмотрел на тапочки и вздохнул:
«Хочу, чтоб меня похоронили у этой стены. В знак всеобщей любви. А то похоронят лишь бы как, а там опять начнут замалчивать…
15
Он стоял на вершине горы, чем-то похож и на его родную Горуню. Только не было на ней растительности, словно ее обрили после болезни.
Он стоял на этой голой вершине, и под ногами у него был провал расщелина в горе, открывавшая бездну.
Калашников отшатнулся от расщелины и увидел след. Все тот же след у самого края бездны.
«Марий Павлович, — сказал Калашников, обращаясь к следу, как к живому существу. — Я ведь тоже вроде вас: отпечаток звука. Что скажут отпечатаю. Но признаюсь откровенно: это не по мне. Вот я читаю мысли начальников, а они у них не свои. Еще более высоких начальников. Читаешь, будто на гору взбираешься, но при этом ощущение, будто проваливаешься. Калашников присел на корточки, чтоб следу было слышнее. — Соглашаешься ведь не только с тем, что правильно и полезно, потому что трудно отделить пользу от вреда. Они единый плод нашей деятельности, и мы вертим этот плод и все пользой к себе поворачиваем, а к кому-то вредом. Вот так же, наверно, все эти цивилизации: поворачивали к себе пользой, не смотрели, что к кому-то вредом. Когда я был отзвуком, или, по-вашему, отпечатком, я и листочка, и травинки не задел. А теперь все время задеваю, такое у меня ощущение. Может, это такая закономерность? Если что-то создается, значит, что-то непременно должно быть разрушено. И чем больше создается, тем больше разрушается. Как вы считаете, Марий Павлович?
След молчал. Он все сказал еще там, где другие помалкивали. А теперь они спрашивают: как да что, да почему?
16
Что это было? Он лежал с закрытыми глазами и видел прошлое земли, другие цивилизации. Когда видишь с закрытыми глазами, это означает, что видишь сон. Может быть, когда мы видим сны, мы подключаемся к чьей-то памяти?
Обнаружив, что проспал все то время, которое должен был бодрствовать в памяти земли, он не решился признаться в этом Дарию Павловичу. Он сказал, что ничего не видел. А Дарий Павлович даже обрадовался, благодарил. Он спал, а его еще за это благодарили…
А если не спал? Все было логично и последовательно, только последовательность была не прямой, а обратной. Как этот первобытный прыгнул в обезьяну! Совсем как в трамвай. Но на самом деле он «вышел из обезьяны. Только действие это прокручивалось в обратную сторону.
И если жизнь то и дело бежит топиться, не отчаивайтесь: это всего лишь означает, что она вышла из воды.
Все они поднялись не на ту вершину цивилизации. Тут ведь не спросишь, та вершина или не та. Поднимаешься, поднимаешься и только на самом верху видишь, что не туда забрался.
Незадолго до своего возвращения — из сна ли, или из памяти — Калашников оказался в удивительном времени. Там как будто не было никакой жизни, но она была, была! Это была жизнь красок, звуков и запахов… И Калашников понял, что он в земле Хмер.
Это была земля его предков. Земля свободных звуков, которые рождались не оттого, что кто-то обо что-то ударился, не потому, что кто-то что-то крикнул, рыкнул или сказал, а потому, что им приятно было рождаться. Они рождались не в муках, как рождается все на земле, — они счастливы были рождаться и потому всю жизнь были счастливы.
Там, в стране Хмер, звуки жили в такой свободе и согласии, что сливались в одну мелодию. Ведь музыка — это и есть согласие и свобода.
Когда краски сливаются в свободном согласии, возникают удивительные картины, когда запахи — удивительный аромат.
Вот такой она была, страна Хмер, страна свободного согласия…
Значит, она не погибла, не растворилась во времени. Значит, она существует. Всегда. Не в прошлом, не в настоящем, не в будущем, а всегда. И то, что мы слышим в глубине себя и в глубине того, что нас окружает, то, что мы слышим, когда вслушаемся, видим, когда всмотримся, — это она, земля Хмер… Все-таки ее не смогли убить, хотя, казалось, только это и делали.
17
В нашем горизонтальном мире человек склонен выбирать вертикальное положение, устремляться вверх, чтоб занять более высокую позицию. Внизу он был ничем, вверху станет всем, а кому не хочется свое собственное «ничто на общественное «все выменять? Даже те, которые что-то собой представляют, не прочь превратиться в ничто, чтоб потом из этого ничто стать тем, что обещано в лозунге. А в лозунге-то сказано: человек станет всем не благодаря тому, что был ничем, а вопреки этому. Они же этого не понимают и все качают, качают права, представляют справки о своем низком происхождении.
Тут аукнется, там откликнется, как будто весь род человеческий от эха произошел. Вот она, наша эхономика. На продуктовой базе растаяло две тонны колбасы, на промтоварной — полсотни дубленок. А уж вечные снега тают, даром что вечные. Чтобы покрыть недостачу, пришлось урезать несколько кавказских вершин. Кавказские товарищи на это пошли, но не без опаски: а вдруг нагрянет ревизия? Но ревизия если и грянет, то лишь затем, чтобы с ней по-хорошему договорились: я тебе, ты мне, это же наша эхономика!
Когда все принадлежит тем, кому ничего не принадлежит, появляется соблазн отдать это все за ничто, но лично принадлежащее. Люмпен (буквально: оборванец) на работе думает не о работе, а о том, чтобы что-то лично для себя отхватить, и ему, люмпен-оборванцу, на все наплевать, если он в этом не заинтересован лично. Люмпен-оборванец-директор договаривается с люмпен-оборванцем-бухгалтером, и вдвоем они договариваются с люмпен-оборванцем-прокурором. Люмпен-оборванец-учитель знать ничего не знает, люмпен-оборванцы-ученики знать ничего не хотят, ну, а люмпен-оборванец-ученый двинет науку так, что передавит половину населения, лишь бы получить свои ученые люмпен-блага.
Возьмите, к примеру, науку химию. Двигают ее, двигают — и все на биологию. Чем больше химии, тем меньше на земле биологии. Не выживает рядом с химией биология — ни на земле, ни в воде.
И вот результат: наука, которая прежде была вершиной, у всех на глазах становится пропастью. Это уже вам не Горуня, которую можно и так, и так развернуть, ничего в природе от этого не изменится. Наука не может развиваться в одном направлении, без учета других направлений.
Вот какую меру ширины изобрел Борис Иванович. Наука до него распространялась только в длину, не оглядываясь, что оставляет за собой и какие вокруг нее последствия. А нужно вширь смотреть. Не столько вдаль, сколько вширь. Чтобы в целом жизнь учитывать и только у нее спрашивать совета.
Люмпен-ученые с этим не согласны. Они считают: сначала защитимся в длину, а потом и о ширине подумаем. Кандидатские в длину — докторские в ширину. Или докторские в длину, а в ширину уже будем выходить в академики. Это как Зиночка, которая все тащит домой из буфета, только здесь не авоськи, а дипломы, научные звания. Чем больше на себя нагрузим, тем крепче будем стоять на земле, а иначе мы просто улетим, как пушинка в состоянии невесомости.
18
И вдруг он услышал: «Привет, Калашников! Я к тебе забегал, но тебя не было дома…
Это был ветер. Как они гоняли вдвоем по горам! Ветер говорил: чтобы сохранить свежесть, нужно побольше двигаться.
Сейчас он двигался с трудом и при этом задыхался. Раньше с ним такого не было.
«Померла наша Степанова, — сообщил ветер. — Съела чего-то, а его… сам понимаешь… Есть его не надо было. Ни в коем случае нельзя было есть…
Калашников не сразу сообразил, что он говорит о вороне Степановой. Никакая она не Степанова, просто в лесу кто-то кого-то позвал, к ней и прилепилось.
А теперь отлепилось. Потому что ворона Степанова померла. Как же так? Ведь она у них долгожительница. Если долгожители начнут помирать, куда ж тогда нам, недолгим, деваться?
«Я тоже какой-то несвежий стал, не пойму, что это у нас происходит? Может, ты понимаешь? — ветер подождал ответа. — Ну, ладно, ты иди. Тебе в квартиру надо, ночевать, наши дела мелкие для такого, как ты, человека».
19
Продолжая наращивать биографию, Калашников наконец добрался до своего детства.
Совершенно плоское место, город, как шахматная доска, разделенный улицами на ровные клеточки. Как будто великаны-невидимки играют в шахматы на морском берегу.
Вот Калашников возвращается из деревни от бабушки, они едут с вокзала на извозчике и так громко цокают копытами, как будто цокают все: и лошади, и извозчик, и, конечно, Калашников. Они едут по улицам, таким тенистым и солнечным, что на них тоже можно жить, и жильцы сидят на стульях возле своих домов и живут, и переговариваются через улицу, и провожают Калашникова заинтересованным взглядом. А мальчишки бегут за извозчиком и весело цокают ему вслед, подражая и ему, и лошадям, и Калашникову.
По мере приближения к родному дому в мальчишках начинают появляться знакомые черты, и наконец они уже настолько свои, что даже вступают в разговор с проезжим человеком: «Слушай, ты Гундосого не видел? И чего это ты там сидишь? Выйдешь на улицу?
Они жили в коммунальной квартире, в ней было десять комнат, и каждую комнату занимала отдельная семья. Коридор был длинный, рассчитанный на то, чтоб могла выстроиться очередь в туалет, которым пользовались намного чаще, чем ванной. Один сосед даже получил в туалете образование, обчитывая обрывки чужих газет при чужом электрическом освещении. Он настолько образовался, что впоследствии переместился из туалета в просторный государственный кабинет, но всегда питал слабость к мелко нарезанным бумажкам.
В коридоре устраивались общие собрания и скандалы. Веселая была жизнь! Все комнаты в один коридор, и каждая только и ждет, когда там что-то заварится. А как заварится, тут же приоткроет дверь, послушает, а потом уже дверь распахнет пошире и выпускает своего.
Особое положение занимала ванная, где человек представал таким, каким его задумала природа, но скрывал это от окружающих, тщательно запирая дверь. Обнажаясь же морально, он, наоборот, широко распахивал дверь и представал перед всеми таким, каким природа его совсем не задумывала, каким могла его увидеть только в кошмарном сне.
В их квартире была соседка, вдова художника. Старая женщина из старых времен. Тихая, интеллигентная, в мире, где ничего интеллигентного почти не осталось, где интеллигентность считалась пережитком нашего проклятого прошлого, она приглашала к себе Калашникова, когда ему в его детстве приходилось особенно трудно. Иногда к соседке приходили друзья, такие же, как и она, старые интеллигенты, приносили ей работу, чтоб она могла подработать к пенсии. Разговаривали тихо, словно начитавшись плакатов: «Тише! Враг подслушивает!» Врагов было много, ряды их множились, и никто не мог поручиться, что завтра не пополнит эти ряды.
Революция, сущностью которой было насилие, после победы сохранила насилие как наиболее легкий метод для решения всех проблем. Все равно что после хирургической операции резать человека от всех болезней: от головной боли, от насморка. Причем, если при хирургической операции больного режет хирург, то теперь режет любой, кто дорвался до скальпеля.
Мать Калашникова приходила с государственной службы, принося государственные порядки в семью, и он, пугаясь их, убегал и отсиживался у соседки. Он стеснялся той громкой и грубой жизни, которая к ней проникала, постоянно звуча за ее стеной, но соседка держалась так, словно она ничего не слышала. Она всегда была ему рада, всегда его ждала, и всегда для него находилось какое-то интересное занятие.
У нее всегда было хорошее настроение. Калашников еще не знал, как трудно дается хорошее настроение, что только плохое настроение дается легко, и он считал ее счастливым человеком. Возможно, это так и было: ведь и среди старых встречаются счастливые.
Вдова художника рассказывала ему о других странах, где ей когда-то довелось побывать. Особенно его поразило, что кошелек, случайно оброненный в парке, может пролежать там целый день и никто его не возьмет, только переложат на скамью, чтоб он не пылился на дороге. Неужели такое возможно? Тут, наоборот, рвут из рук, залезают во все карманы, а чтоб не взять то, что само лежит на дороге… Нормальный человек рассуждает: все равно кто-то возьмет, — и спешит взять, пока другие не взяли. Если его, конечно, не прельщают лавры героя, сдавшего находку в милицию. Собственность в отрыве от владельца — это уже не собственность. Для людей, которые так рассуждают, «не чье-то конкретно означает «мое, а для тех, кто рассуждает иначе, «не мое означает чужое. Не потому ли, что в той стране люди были такие честные, в другой стране всех честных считали агентами иностранных держав?
Эти мысли пришли потом. Вдова художника никогда не сердилась, не жаловалась, а когда ей хотелось сердиться и жаловаться, она доставала коробочку, в которой у нее хранились волосы покойного мужа. Калашников не понимал, зачем она их хранит, а спрашивать стеснялся. И постепенно сам начал понимать. И почему знаменитый на всю страну академик приходит в гости к безвестной старой пенсионерке, и почему другие ее друзья, которые могли бы ей помочь, приносят ей не деньги, а работу. И почему эта помощь приходит незваная, непросимая, а иногда и вообще не приходит, потому что ей лучше не приходить…
Как он завидовал этому миру, как он хотел ему принадлежать! Чтобы понимать все без слов и выражать то, что думаешь, не только словами. Чтобы чувствовать каждого человека так, как чувствуешь самого себя.
Этот мир не знал ненависти, и на ненависть ему нечем было ответить. И он, с присущей ему деликатностью, уступил место другому миру. Он уступил место миру романтиков, которые пытались быть реалистами, и реалистов, которые выдавали себя за романтиков. А между романтикой и реальностью была бездна.
Таким был мир его детства. Странный, удивительный мир.
Может быть, это было детство старого Михайлюка? Откуда оно взялось у Калашникова, который появился в этом мире совсем недавно? С годами они все неразличимей, эти недавно и давно.
Наверно, это все же было детство Калашникова. И было оно не в самые лучшие времена. Прицельный огонь по высоким целям не оставил вокруг ничего высокого, и все меньше к вдове художника приходило друзей, а потом их и вовсе не стало…
Но по-прежнему не смыкала глаз государственная служба, которую англичане называют «интеллидженс сервиз. В переводе на язык тех времен «сервис для интеллигенции.
20
Сколько Калашников написал докладов, но никогда ему не приходилось их читать. Все, им написанное, читали другие. Поэтому он так волновался, поднимаясь на трибуну, раскрывая перед собой доклад и опуская глаза на страницу, где у него в начале стояли такие простые и понятные всем слова: «Уважаемые товарищи!
Он нашел эти слова и обомлел: из буквы «ж» в первом слове вдруг проклюнулся то ли буковый, то ли дубовый листочек и зазеленел. И, словно по его команде, на странице пошла, в рост трава, заветвились кусты и даже ветерок прошелестел, хотя окна в зале были закрыты.
Вся страница зацвела, зазеленела, и ни одного слова на ней нельзя было прочесть. Словно бумага вырвалась из кабалы слов и возвращалась в свое первоначальное древесное состояние.
Калашников поспешно перевернул страницу, но на второй уже такое делалось! Кусты и деревья с дружным шелестом взбирались по крутому склону, и он еле сдержался, чтобы им не откликнуться, не зашелестеть, потому что не этого ждала от него аудитория.
Он закрыл доклад и поднял глаза на зал. Тот уже начинал томиться в ожидании. Калашников почувствовал, что его вершина, к которой он так долго шел, готова для него обернуться провалом, и стал говорить совсем не то, что было написано у него в докладе, а что-то совсем другое, что ему не раз приходило на ум, но вряд ли имело отношение к теме его доклада.
Он сказал, что горы похожи на дома и тоже скрывают в себе определенные богатства. Но кому придет в голову добывать из домов богатства, причем не каким-нибудь скрытым, воровским, а самым откровенным, открытым способом? Крыши на переплавку, стены на перестройку, все остальное — в комиссионку, и дело сделано. Если б деревья тянули из земли не только питательные соки, а почву, камень, металл, долго ли простояли б эти деревья? А как же тот солдат, которому Горуня как вечный памятник, разве ему докажешь, что ничего нет вечного на земле? Может, он бы там не полег, если б знал, что не будет ничего вечного, может, постарался бы свою недолгую жизнь сохранить.
Он полег, он ушел в нереальность из этой страшной реальности… Это часто случается: реальность становится настолько страшной, что уходит в нереальность, испугавшись самой себя. Ударишься и летишь в обратную сторону, в сторону невероятностей и чудес, в надежде найти там спасение. И может быть, оно именно там, спасение, потому что там ничего нет и удариться там не обо что… только лететь и лететь… Лететь и лететь… И уже не знаешь, где твоя настоящая жизнь: впереди или сзади, в реальности или в нереальности? И где подлинная твоя биография — там или здесь?
В нереальности наращиваешь биографию, в реальности ее расходуешь, так что же считать настоящей жизнью? И что лучше, что более по-человечески: наращивать или расходовать жизнь?
Солдат израсходовал свою жизнь на горе Горуне, а Калашников, разбуженный его криком, пошел наращивать свою жизнь. Кто из них был прав, и можно ли вообще сравнивать эти две такие разные жизни? А может быть, жизнь Калашникова — это жизнь того же солдата, только развернутая в противоположную сторону, как гора в сторону провала?
Жанна Романовна улыбалась Калашникову. Она начала улыбаться еще тогда, когда он пригласил ее на доклад, и с тех пор улыбалась, хотя прошло уже много времени. Это была четкая и ясная улыбка, она не блуждала по ее лицу, а была прибита к нему, как плакат, на котором большими буквами было написано: «Это мой, МОЙ Калашников!
Улыбался Федусь. Нас не запугаешь провалами, у нас каждый провал скрытая вершина, хотя, конечно, и каждая вершина — скрытый провал. Надо будет этот доклад прокрутить по рабочим и студенческим общежитиям, пусть молодежь впитывает наш исторический оптимизм, который так легко обернуть историческим пессимизмом. Потому что пессимизм нам тоже нужен. Не меньше, чем оптимизм. Но и не больше. В этом секрет нашего оптимизма.
Улыбалась Масенька. Она пришла вместе со своим милиционером, не оставлять же его в горе одного, и улыбалась она милиционеру, считая, что ему улыбка нужней, а милиционер улыбался ей, и получалось, что вместе они улыбаются Калашникову.
Грустно улыбался Михайлюк. В науке ведь что самое трудное? Доказывать, что земля вертится, и одновременно вертеть головой, чтоб уловить мнение начальства. Если все время оглядываться, не получится никакого движения вперед, поэтому давайте так: либо пусть она вертится, а мы будем гореть на кострах, либо мы будем вертеться, а она пусть горит синим пламенем. Всего лишь два выхода, и за каждый нужно платить. Такое кино: здесь нужно не за вход платить, а за выход.
Улыбаясь этим мыслям, Михайлюк заметил рядом милиционера, и улыбка забилась в судорогах на его лице, затем вытянулась и застыла в ожидании, и теперь была адресована не мыслям, не событиям, а милиционеру.
Рядом с Михайлюком улыбалась Вера Павловна. Она вспомнила своего знакомого, как он скакал на лошади по Ленинграду, весь такой медный, что просто больно было смотреть. Это не имело никакого отношения к докладу Калашникова, но все равно Вера Павловна улыбалась.
А вот кто не улыбался, так это товарищ из Упупа. Тот самый, который в Упуп пришел из Упопа — Управления не то оптики, не то оперы, не то оптовой торговли. Из узкого специалиста он стал неспециалистом широкого профиля, причем такого широкого, что уже почти превратился в фас, и этот фас нередко звучал как команда.
У ответственного работника две ответственности: та, которую на него возлагают, и та, к которой его привлекают. Главная задача — избежать той и другой ответственности. Быть тем, кто возлагает, тем, кто привлекает, но только не тем, который несет. Вот почему его профиль звучит как фас, и тут уже, как говорится, не до улыбок.
А Калашников продолжал рассказ. Он говорил, что раньше нам не приходилось ждать милостей от природы, мы получали их без всякого ожидания. И вдруг мы заторопились. Мы больше не можем ждать. Потому что раньше мы чувствовали себя постоянными на земле, а теперь почувствовали какими-то временными. И заторопились. Временные не могут ждать. Временным нужно уложиться во время, получить сразу все милости, а дальше — хоть трава не расти.
Милиционер Вадик посмотрел на часы, что-то шепнул своей соседке и стал пробираться к выходу. Михайлюк покорно направился за ним, но Вера Павловна была начеку и удержала Дария Павловича. И хорошо, что удержала, потому что милиционер даже не оглянулся, он торопился по своим делам.
Уход милиционера ободрил и Калашникова: теперь Масеньку ничто не отвлекало. Он настолько осмелел, что даже попробовал вернуться к тексту доклада, пробиться к тексту доклада сквозь заросли деревьев и трав.
Он пропустил начало, середину и раскрыл доклад где-то в конце. И тут ему открылась страшная картина.
Горуня, развороченная и выпотрошенная, зияла черным провалом, а на склонах ее умирали деревья и трава превращалась в пепел и прах. Ничего подобного не было в его докладе, откуда же оно появилось, причем в самом конце, который должен быть обобщающим, жизнеутверждающим?
О таких вещах надо было говорить раньше. В начале или в середине. А он молчал. Он вообще в своей жизни много молчал, хотя, казалось бы, не должен был молчать, потому что как-никак звуковое явление. Но он ждал, когда другие скажут, чтоб потом повторить. А пока все молчат, и он помалкивает. Сколько он там, в горах, намолчался!
И вот результат. В конце доклада, когда ничего исправить уже нельзя. О конце поздно думать в конце, о нем нужно думать вначале.
Конечно, не ему равняться с каким-нибудь утесом или скалой, но ведь и они помалкивали. Гордые, могучие — все помалкивали. Он все-таки иногда говорил. Хоть и не то, что думал, а то, что было ему сказано, так ведь у него никто и не спрашивал, что он там, внутри себя, думал. Не больно ли ему, к примеру, когда рубят лес.
А ему было больно, хотя он со всеми соглашался. Когда рубили лес, он поддакивал топору, когда стреляли дичь, он поддакивал выстрелам… Так хорошо поддакивал, что его даже сделали человеком. Но там, внутри себя, он не соглашался.
Калашников уходил от темы куда-то в сторону, причем не в какую-нибудь, а в свою родную сторону. И там, в родной стороне, он вдруг нашел свою единственную, он понял, что это — его Горуня. Она дала ему жизнь, дала ему воздух, чтобы он мог свободно распространяться… И вот он распространился. Только куда?
Она, Горуня, пустила его в свет, выдохнула из ничего — то ли воплем восторга, то ли криком о помощи. Чего ей не хватало, не могла она без него обойтись? Чтобы он потом рылся в ее утробе, выворачивал ее, потрошил, извлекал наружу самое сокровенное…
Его единственная… Это она ему отзывалась, чтобы он не чувствовал одиночества. А теперь не отзывается. Боится отзываться.
Не боялась громов небесных, не боялась землетрясений и ледников. Не боялась самых страшных чудовищ… А его боится. Хотя он не чудовище. Он любящий сын у изголовья умирающей матери, но не он, а она его похоронит. Потому что он ее не переживет.
А может, переживет? У нас уже строят подземные города, чтобы продолжить жизнь под землей, когда на земле будет жить невозможно. Земная жизнь превратится в подземную, привольная земная — в подземную, но безопасную жизнь. Может быть, и черви жили когда-то на земле, а потом ушли под землю от своей цивилизации? Вот так и мы уйдем, превратимся в червей…
«Но я не согласен!» — крикнул Калашников.
И исчез.
Только улыбки, ему адресованные, остались.
21
Много было в те дни разговоров об исчезновении с конференции одного из сотрудников Упрагора. С конференций люди и раньше исчезали, но обычно тайком, чтоб никто не заметил. Но исчезнуть у всех на глазах, прямо с кафедры…
Молодежь считала, что докладчика выкрали представители внеземной цивилизации, старики высказывали мнение, что его просто-напросто посадили. Хотя как можно посадить человека у всех на глазах? Человек не цветок. Но старики уверяли, что можно.
Была и такая мысль, что исчезнувший сотрудник был сотрудником одной из иностранных разведок. Видимо, здесь имел место научный шпионаж, докладом заинтересовалась иностранная держава — та самая, которая скупает и выкрадывает мозги, чтоб развивать свою, не слишком развитую науку. Соединяя эту версию с первой, некоторые приходили к выводу, что у внеземной цивилизации не хватает своих мозгов, — верней, хватает лишь на то, чтоб засылать к нам из космоса своих агентов.
Многие полагали, что здесь замешана женщина, даже две женщины, одна из которых выкрала молодого сотрудника у другой по причине страстной любви или просто потому, что ждала ребенка. Возможно, они обе ждали ребенка, не одного, конечно, а каждая своего, но ни тот, ни другой им не был нужен, это был только повод, чтоб выкрасть Калашникова. И, конечно, объединяя все версии, можно сказать, что женщины, замешанные в этой истории и ждущие каждая по ребенку, могли быть резидентками как зарубежных держав, так и внеземных цивилизаций.
Энна Ивоновна, наш самый главный завсекс, сказала, когда к ней обратились-за справкой, что, возможно, Калашников — это душа, закованная в плоть и наконец разрушившая ее, чтоб вырваться на свободу. Возможно, говорила Энна Ивоновна, Калашников искал в женщине душу, которую когда-то знал, а теперь не мог узнать, потому что она была спрятана в теле. Он искал душу, родную и единственную, но все время натыкался на тела… Может быть, вздыхала Энна Ивоновна, он постепенно привык и даже полюбил на них натыкаться и уже стремился не к тому, что искал, а к тому, что ему затрудняло поиски.
Так говорила Энна Ивоновна. Не зря она работала в секторе справок.
А потом Калашникова забыли. Просто забыли. Память о нем оказалась человечеству не нужна в его дальнейшем поступательном движении. Что же касается отдельных заинтересованных лиц, то Жанна Романовна по любопытному совпадению сдала комнату опять-таки молодому жильцу, а Вера Павловна, хоть и рассказывала в киоске, что у нее был знакомый, который куда-то исчез, но мало ли вокруг исчезает людей и мало ли рассказывает Вера Павловна.
На работе Калашникова заменила Маргоша, точнее, Любаша, которую заменяла Маргоша, а еще точнее — Ириша, которую заменяла Любаша, заменяла, конечно, временно, хотя и ушла в постоянный декрет. Теперь Калашникова заменила Ириша, Иришу — Любаша, Любашу — Маргоша, делавшая героические усилия уйти в декрет, хотя с исчезновением Калашникова шансы ее значительно сократились.
Лишь один Борис Иванович иногда вспоминал Калашникова и при этом задумчиво качал головой. Но почему он качал головой, это было никому не известно. Поэтому все еще больше уважали Бориса Ивановича.
Чем больше в человеке неизвестного, неразгаданного, тем выше его авторитет. Хотя истина — в этом Бэкон, конечно же, прав, — истина — дочь времени, а не авторитета.
22
Так кончилась эта история.
А может, не кончилась?
По случайному (или не случайному?) совпадению как раз в эти самые дни в горах появилось странное эхо. Оно не повторяло то, что ему было сказано, а, наоборот, ни с чем не соглашалось. Ты ему да, оно тебе нет, в нарушение всех законов физики, логики и здравого смысла. Удивительно было и то, что загадочное явление не сидело на месте, а бродило по горам и низменностям, стараясь держаться подальше от административных учреждений.
Ученые терялись в догадках. Один старый природовед, уже давно пребывавший на пенсии, а потому не ждавший никаких милостей от природы, сказал, имея в виду не столько природоведческий, сколько житейский опыт: «Вот до чего довели физические явления! Так у нас, глядишь, и вовсе явлений не останется: ни акустических, ни оптических, ни вообще явлений природы!
Сорок два банана
Слух о том, что профессор Гамадрил изобрел способ превращения современных обезьян в человека, оказался настолько преувеличенным, что репортеры нескольких европейских газет были уволены без выходного пособия. Им было указано, что как бы фантастически ни развивалась наука, она не должна лишать репортера здравого разума. Можно писать об антиматерии, о преобразовании времени в пространство, о любой теории, не нуждающейся в немедленном подтверждении практикой, — но превращение обезьяны в человека — тут уж позвольте… Где этот человек? Познакомьте меня с ним!
— Мне нужен месяц, — сказал Натти Бумпо, репортер, уже уволенный, но еще не выставленный из кабинета редактора. — Дайте мне месяц, и я вас познакомлю с таким человеком.
Натти Бумпо — это был его псевдоним, взятый в честь героя любимого писателя Купера. Не то, чтобы он любил его больше других, просто Купер был единственный писатель, который запомнился ему с детства — с того времени, когда человек еще имеет время читать.
— Натти, — сказал редактор, — зачем вы говорите о каком-то месяце, когда вы свободны теперь на всю жизнь?
— Ладно, — сказал Натти Бумпо, — пусть я сам превращусь в обезьяну, если через месяц мы не встретимся здесь втроем. — С тем его и выставили из кабинета.
Профессор Гамадрил ел банан где-то в северной части южного полушария, когда перед ним предстал репортер европейской газеты. В руках у репортера был блокнот, на носу очки, на голове шляпа, и все это отвлекало внимание профессора и мешало сосредоточиться на прямо поставленном вопросе:
— Что думает профессор о возможности очеловечивания современных обезьян, разумеется, в связи с достижениями современной биологии и генетики?
— Не хотите ли банан? — спросил профессор, явно желая выиграть время на размышление. Он в последний раз надкусил банан и протянул его Натти Бумпо.
Натти поблагодарил. Он не ел с тех пор, как покинул южную часть северного полушария, чтобы вступить на северную часть южного, и он охотно разделил профессорский обед или даже скорее ужин, потому что день уже клонился к вечеру.
— Так что же вы думаете? — протиснул он сквозь сладкую мякоть банана.
— Это как посмотреть, — рассеянно вымолвил Гамадрил, все еще продолжая отвлекаться очками. — Один говорит одно, другой — другое… Мой сосед Бабуин целыми днями сидит на дереве, так ему, конечно, видней…
Репортер европейской газеты впервые слышал о Бабуине, и он решил, что это тоже, наверное, какой-то профессор. А у них тут наука шагнула, подумал он.
— В последнее время наука очень шагнула, — вслух продолжил он свою мысль. — Взять хотя бы дельфинов — ведь это почти разумные существа…
Профессор Гамадрил не читал газет, поэтому он позволял себе сомневаться. Он сомневался во всем, чего нельзя было попробовать на ощупь или на вкус, в этом отношении он был чистый эмпирик. Он знал, что банан сладкий, а дождь мокрый, но о дельфине он ничего не знал, потому что ни разу в жизни его не пробовал.
— Если дельфины мыслят, — гнул свою линию репортер, — то что же тогда говорить об обезьянах? Но науке, им остается только превратиться в людей.
— Слишком долгая история, — сказал Гамадрил так, словно он сам прошел всю эту историю. — Да и результаты, как показывает опыт, весьма неутешительны.
Натти Бумпо почувствовал, что почва уходит из-под его ног вместе с редакцией европейской газеты. Если не верят сам профессор Гамадрил, то как же тут убедишь редактора?
Таким печальным размышлениям он предавался, когда внезапно в голову ему угодил банан. Второй банан угодил в голову его собеседнику.
— Это сосед Бабуин, — пояснил Гамадрил, поднимая оба банана и один из них протягивая гостю. — Берите, не стесняйтесь, это он угощает.
Вслед за тем появился и сам Бабуин, который, оказывается, сидел тут же, на дереве.
— Привет компании! — сказал Бабуин. — Что за шум, а драки нету?
— Какая там драка, коллега, — кивнул ему Гамадрил. — Просто сидим, разговариваем.
Сосед Бабуин тоже присел и принялся разглядывать гостя; точнее, его шляпу, блокнот и очки. При этом он почему-то чесал не в затылке, что обычно выражает недоумение, а где-то под мышкой, что уж и вовсе непонятно, что выражает.
— Меня удивляет, — продолжил Натти свой разговор, теперь уже обращаясь к двум собеседникам, — неужели обезьяны, ближайшие собратья людей, не могут оценить всех преимуществ цивилизации? Человек рождается свободным, человек — животное общественное и ничто человеческое ему не чуждо… Натти Бумпо говорил, вспоминая все, что читал и писал по этому поводу, и слова его строились, как колонки на первой воскресной полосе. — Человек мера всех вещей, — говорил он, — и не только вещей, но и животных. И пусть ему иногда свойственно ошибаться…
— Не так быстро, — попросил Гамадрил, — я не успеваю улавливать.
— Ешьте лучше банан, — предложил Бабуин.
После этого они долго ели бананы.
Между тем стало уже почти темно, и репортер зажег свой репортерский фонарик, чем доставил огромное удовольствие новым друзьям. Сосед Бабуин взял этот фонарик и посветил им Гамадрилу в глаза, а профессор зажмурился от яркого света, впрочем, тоже не без удовольствия. Потом, посвечивая себе, Бабуин сбросил еще по банану.
После ужина профессор, привыкший к строгому режиму, почувствовал, что его клонит ко сну. Было странно, что вокруг светло, а его клонит ко сну, и профессор подумал, что это, видимо, следствие переутомления. Надо больше следить за собой, подумал он и, совершенно по-английски, то есть, не простившись с компанией, уснул.
Профессор Гамадрил дышал так, словно находился на приеме у доктора. Грудь его то вздымалась, то опадала, нос шумно втягивал и выбрасывал воздух, а рот… но что делал профессорский рот, так и осталось невыясненным, потому что в этом месте Бумпо погасил свой фонарик.
Проснулся Бумпо в самом зените дня, когда в европейской редакции уже в разгаре работа. Просыпаясь, он испугался, не опоздал ли, потом успокоился, вспомнив, что опаздывать больше некуда, потом сообразил, что теперь опаздывать решительно некуда, и снова заволновался. В сумятице этих мыслей и чувств он открыл глаза и увидел Чакму.
Чакма не была образцом красоты — Натти, у которого хранились все образцы, начиная с 1949 года, мог судить об этом с полной ответственностью. Больше того, внешность Чакмы была словно вызовом всем установленным нормам и образцам и этим, пожалуй, импонировала Натти Бумпо, который, профессионально привязанный к штампу, душевно тяготел ко всякой неповторимости.
Чакма разглядывала его, как ребенок разглядывает взрослый журнал: без понимания, но с непосредственным интересом. Так и казалось, что ей не терпится его перелистнуть, чтобы разглядеть с другой стороны, но Натти не спешил удовлетворить ее любопытство. Она смотрела на него, а он смотрел на нее, и было в этом молчаливом смотрении что-то древнее и новое, как мир. Что-то очень знакомое, идущее от далеких предков, и неизвестное, из еще не рожденных времен.
— А где профессор? — спросил Натти Бумпо, опуская лирическую часть знакомства и переходя к деловой.
Чакма не ответила. Теперь, когда она не только видела, но и слышала его, она была совершенно переполнена впечатлениями, и ей не хотелось говорить, ей хотелось только видеть и слышать.
— Что же вы молчите? — услышала она и опять не ответила.
Затем наступило долгое молчание, прерванное наконец Чакмой.
— Я уже давно здесь сижу, — сказала она. — Сначала шла, потом села… И вот сижу… — Чакма помолчала в надежде снова что-то услышать, но Натти не спешил вступить в разговор, он ждал, когда Чакма как следует разговорится. — Я как утром встала, так и пошла… Да… А теперь сижу. Так и сижу…
— Вы пришли к профессору?
— Что вы, я к нему никогда не хожу! Мне совсем не нужно ходить к профессору… Просто я встала и пошла. А потом села…
— Привет компании! — сказал с дерева сосед Бабуин. — Я слышу, вы уже разговариваете?
Натти Бумпо не замедлил спросить, не видел ли сосед Бабуин профессора, на что тот ответил, что видел, когда было светло, а когда стало темно, тогда он его уже не видел. Он и теперь его не видит, хотя уже снова светло, добавил сосед Бабуин и замолчал у себя на дереве, что было весьма кстати, потому что Чакма как раз открыла рот, чтоб сказать:
— Я еще немножко посижу и пойду.
— Сидите сколько хочется, — сказал Натти Бумпо.
— Тогда я долго буду сидеть, потому что мне хочется сидеть долго. Сама не знаю, отчего это: раньше я всегда похожу, потом посижу, потом опять похожу, и так все время…
У нее были неправильные черты лица, в которых, казалось, отразился весь ее неправильный образ жизни. Конечно, можно и сидеть, и ходить, но нельзя же все сводить только к этому.
— У нас не так, — сказал Натти Бумпо. — У нас человеку всегда найдется занятие. Днем работа, вечером — театр или кино. Сходишь с друзьями в ресторан или просто посидишь у телевизора. Бывают довольно интересные передачи.
Чакма была превосходной слушательницей, потому что для нее все было в новинку. Она, затаив дыхание, слушала и про кино, и про ресторан, потом, осмелев, задала какой-то вопрос, который подсказал Натти новые темы, и вскоре разговор вылился в широкое русло международных проблем и, в частности, отношений между Западом и Востоком (которые оба находились на севере).
— Угощайтесь! — крикнул с дерева сосед Бабуин и бросил им два банана.
Это было кстати, потому что время завтрака давно прошло и приближалось время обеда.
— Мы как в ресторане, — сказала Чакма, надкусывая банан.
Ей было хорошо сидеть с этим человеком, еще недавно «совсем незнакомым, а сейчас таким знакомым, что просто невозможно и выразить. И она сидела, и не спешила уходить, и радовалась, что он тоже никуда не торопится. И представляла Чакма, как они сидят с ним вдвоем где-то там, в его ресторане, и смотрят телевизор — такой ящик, в котором показывают разные чудеса.
— Повсюду улицы, — сказал репортер, — тротуары… Киоски с газированной водой…
— Как хорошо! — тихонько вздохнула Чакма.
Натти Бумпо рассказывал о городе Роттердаме, где ему однажды пришлось побывать. Потом, по ассоциации, он заговорил о художнике Рембрандте, жившем в городе Амстердаме, и о Ван Гоге, жившем не в Амстердаме, но тоже художнике. От Ван Гога он перешел к Вану Клиберну, уже не художнику, а музыканту из штата Луизиана, затем еще к кому-то, не музыканту, но тоже из этого штата. От Александрии в штате Луизиана он перешел к Александрии в штате Вирджиния, затем к Александрии европейской, Александрии африканской и Александрии австралийской. И так, за короткое время, он набросал общую картину земли и проживающего на ней человечества.
Под грузом всех этих Александрии сосед Бабуин свалился на землю вместо банана. Он извинился, спросил, а почему, собственно, так одинаково называются такие разные города, и, не получив вразумительного ответа, полез обратно на дерево.
— Что же касается способности человека одним усилием воли влиять на радиоактивный распад, — развивал репортер еще одну смежную проблему, — то профессор Шовен говорит по этому поводу следующее…
Профессор Гамадрил так и не вернулся в тот день, и на следующий день он тоже не вернулся. Как выяснилось потом, он гостил где-то у дальнего родственника, в то время как его собственный гость был предоставлен чужим заботам. Это не было профессорской рассеянностью или бестактностью, как принято считать в цивилизованном мире, — просто профессор на минуту забыл о своем госте и вспомнил о родственнике, и в ту же минуту отправился к нему, чтобы вернуться через неделю.
Для соседа Бабуина это была беспокойная неделя, потому что ему приходилось кормить профессоровых гостей, которые вели внизу общеобразовательные беседы. Для Натти Бумпо это была неделя отдыха от всяких забот. Он дышал свежим воздухом, ел бананы и беседовал с Чакмой, поражая ее своей эрудицией, которой бы хватило на целую газетную подшивку. А для нее, для Чакмы, эта неделя была новой жизнью, вторым рождением, той эволюцией, на которую в других условиях потребовались многие тысячи лет. И хотя черты ее, с точки зрения общепринятых норм, все еще продолжали оставаться неправильными, образ мыслей ее уже вполне соответствовал этим нормам.
— Как жаль, что у нас не ходят троллейбусы! — говорила она на третий день.
— Конечно, Матисс интересней, чем Сезанн, — говорила она на пятый.
— Интеллектуальная жизнь имеет все преимущества над жизнью биологической, — говорила она на седьмой.
А на восьмой день вернулся профессор Гамадрил.
Он мог бы доставить значительно большую радость, если б вернулся раньше на несколько дней. Все уже как-то привыкли к его отсутствию: Бабуин привык, Натти Бумпо привык, а уж о Чакме и говорить нечего. Она и прежде не стремилась видеть профессора, а теперь у нее возникла к нему какая-то неприязнь, то, что она бы назвала духовной отчужденностью.
Семь дней она приходила сюда, и здесь не было никакого профессора, и она сидела и смотрела, как спит Натти Бумпо, и ждала, когда он проснется, а когда он просыпался, они начинали говорить об авангардизме и гамма-лучах, и ели бананы, которые им бросал с дерева Бабуин, и говорили, говорили до самого вечера.
Семь дней Натти Бумпо просыпался и засыпал с чувством внутреннего успокоения, не думая о делах, за которые его могут уволить или, наоборот, принять на работу. Он съел четыре десятка бананов и увидел четыре десятка снов, и ни в одном из них не было редактора европейской газеты.
Семь дней сосед Бабуин чувствовал себя гостеприимным хозяином, который не зря сидит у себя на дереве, потому что он нужен тем, кто сидит внизу. И он хлопотал, беспокоился, как бы не пропустить время завтрака или обеда, он выбирал для гостей самые большие бананы, а себе оставлял самые маленькие… Но он не был хозяином, хозяином был Гамадрил, который появился на восьмой день, если считать за день время между рассветом и наступлением темноты.
Он появился, как будни после праздников, как послесловие, которое никто не хочет читать, хотя оно многое объясняет. И, объясняя свое появление, он сказал:
— Ну вот я и дома.
Он сказал это, словно хотел подчеркнуть, что они-то не дома, что они у него в гостях. Чакма это сразу почувствовала.
— Пойдемте, Натти, — сказала она. — Нам нечего здесь оставаться. Пойдемте отсюда в Роттердам.
— В Роттердам? — удивился профессор. — В какой еще такой Роттердам?
И Чакма ему рассказала. Она рассказала и о городе Роттердаме, и о городе Амстердаме, и об Александриях со всех четырех материков. Она сказала, что газы при нагревании расширяются, а Юпитер — это такая планета, а еще прожектор, который зажигают на киносъемках, чтобы артистам было светло играть. И еще она сказала, что работа в газете — сущая каторга (профессор не знал, что такое каторга, потому что никогда не работал в газете). Она сказала, что редактор может уволить за любую неверную информацию, и тогда ему нужно доказать, что информация была верная.
— И мы ему докажем, — заверила Чакма профессора Гамадрила. — Правда, Натти, мы ему докажем?
Сосед Бабуин сбросил с дерева три банана. Чакме не хотелось есть, она была переполнена всем этим огромным количеством информации, и Натти взял себе два.
— Человек рождается свободным, — говорила Чакма профессору Гамадрилу. Человек — мера всех вещей. И если стоит жить на-нашей земле, то лишь для того, чтобы быть на ней человеком. Правда, Натти?
Натти Бумпо не отвечал. Он занял очень удобное место под деревом и теперь думал, как бы не уступить его профессору Гамадрилу.
— Сейчас уже, наверно, часов пять, — сказала Чакма. — По среднеевропейскому времени.
Только Натти Бумпо мог сказать ей, который час, потому что в кармане у него были часы с месячным заводом. Но ему не хотелось лезть в карман за часами — да и не все ли равно, который теперь час? Пять или шесть — от этого ничего не изменится…
— Пойдем, Натти, — сказала Чакма. — Мы найдем твоего редактора и докажем ему, что ты был прав.
А почему, собственно, он должен быть прав? Разве человек, который неправ, дышит не тем же воздухом? Разве он не ходит по той же земле?
— Пойдем, Натти, — сказала Чакма.
Профессор Гамадрил пытался их удержать — в конце концов им совсем нечего торопиться. Пусть посидят у него под деревом, погостят.
— Нет, — сказала Чакма. — На погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости. Две величины, порознь равные третьей, равны между собой. Мы не можем здесь оставаться. Пойдем, Натти!
Натти Бумпо подумал, что если он встанет и пойдет, то профессор Гамадрил тотчас же займет его место. Тут только встань, подумал он, только отойди на пару шагов…
— Возьмите чего-нибудь на дорогу, — предложил с дерева сосед Бабуин.
— Мы поедем на поезде, — успокоила его Чакма. — Потом на самолете. Потом на троллейбусе, трамвае и метро. Все будет очень быстро, правда, Натти? Ну что же ты сидишь?
— Я уже давно здесь сижу, — сказал Натти Бумпо, адресуясь больше к профессору, чтобы как-то узаконить свои права.
— Натти, — сказала Чакма, — не забывай, что тебя ждет редактор. Тебя ждут европейские газеты и весь цивилизованный мир.
— Я как встал, так и пошел, — объяснил Бумпо профессору. — А теперь сижу… Шел, шел, а потом сел. Так и сижу. Давно сижу.
Чакма готова была заплакать. Этот Натти был совсем не похож на того, которого она увидела в первый раз и которого видела потом каждый день, целую неделю.
— Натти, — сказала она, — неужели ты все забыл? Неужели ты забыл, что Земля вращается вокруг Солнца, а сумма углов треугольника равна двум d? Неужели и античастицы, и мягкая посадка на лунной поверхности для тебя теперь пустой звук?
Это был даже не звук, потому что Натти его не услышал.
— Прощай, Натти, — сказала Чакма, — раз ты остаешься, я ухожу одна. Я пойду к твоему редактору и докажу ему, что ты был прав… Тогда, раньше был прав… А потом я пойду в Роттердам… — Чакма заплакала. — Я буду гулять по городу Роттердаму, и по городу Амстердаму, и по Александриям я тоже буду гулять… И мне будет весело, мне будет хорошо и весело, слышишь, Натти?
Нет, Натти ее не слышал.
— Мне будет очень хорошо, — говорила Чакма, размазывая слезы по щекам, — потому что я буду чувствовать себя человеком. Потому что когда чувствуешь себя человеком… Ты же это знаешь, Натти, ты знаешь это лучше меня… Я научусь читать и прочитаю «Ромео и Джульетту». И «Тристана и Изольду». И я постараюсь быть такой же красивой, как были они… У меня будет красивое платье… И если мы с тобой когда-нибудь встретимся, ты меня не узнаешь… О Натти, ты никогда не узнаешь меня!
И она пошла прочь, маленькая, одинокая Чакма, вся мокрая от слез. Она шла туда, к своему человечеству, потому что теперь, когда из глаз ее текли слезы, она уже тоже была человек…
— Обезьяна, — сказал профессор Гамадрил, но было непонятно, о ком он это сказал.
Профессор Гамадрил иногда выражался очень загадочно.
Притяжение пространства
Николай Михайлович Поляков, литературный псевдоним — Кристофер Бомслей, сел к столу, положил перед собой стопку бумаги и написал придуманное еще вчера вечером, тоже за стопкой, но за другой: «Есть во Вселенной цивилизации, не знающие пространства. Им неизвестны слова «где», «куда», зато «давным-давно» и «когда-нибудь» они употребляют довольно часто…
Слова «давным-давно» и «когда-нибудь» придали мыслям Полякова лирическое направление. Самое лучшее в его жизни было либо давным-давно, либо, надо надеяться, когда-нибудь еще будет, причем «давным-давно» с каждым годом увеличивалось, а «когда-нибудь» — уменьшалось.
Поляков круто изменил направление мыслей, понимая, что подобные унылые размышления ни к чему хорошему не приведут. Литература не должна расслаблять читателя, она должна действовать на него, как утренняя зарядка.
«Представители внепространственной цивилизации живут в трех измерениях: вчера, сегодня, завтра. Геометры по двум известным — сегодня и вчера — вычисляют третье измерение — завтра. Квадрат завтра равен квадрату сегодня, минус удвоенное произведение сегодня на вчера, плюс квадрат вчера. К сожалению, завтра всегда оказывается не таким, каким его вычислили, и старые геометры подвергаются развенчанию, а молодые снова принимаются вычислять это загадочное измерение — завтра. Но и у тех, и у других ощущается острая тоска по четвертому измерению — пространству».
Поляков вспомнил совхоз «Рассвет» с его необозримыми пространствами. Правда, в отчетах эти пространства показывались меньшими, чем были на самом деле, что давало возможность повысить урожайность. Не на поле повысить, а в отчетности, то есть самым несложным путем. Собрать, допустим, на тридцати гектарах по двадцать центнеров продукции, а в отчете показать, что собрано по тридцать — на двадцати. А где остальные десять гектаров? Тут нужно сделать вид, что их вроде вовсе не существует. Не на поле сделать вид, а в отчетности: на поле-то нужно работать, урожай собирать, чтоб было чем повышать отчетную урожайность. Да, назначение этих гектаров — чужую урожайность повышать, жертвовать ради них своей собственной урожайностью. Там, на чужих пространствах, кто-то может и премию получить, а здесь никто ничего не получит, потому что здесь вроде и не работали. Вроде — это в отчетности, а на самом деле — еще как!
Поляков вздохнул и постарался держаться подальше от пространства.
Он вспомнил молодость. Был он красивый, молодой, и жена у него была красивая и молодая. Как говорится, было кому жить. Так негде было… Кабы не это клятое пространство, вопроса о том, что негде жить, и не возникало бы.
Чувствуя, что размышление о пространстве заводит его далеко, Поляков решил обратиться к теме любви, которая до него выручала многих писателей. Он сразу взял быка за рога и в качестве быка выбрал Василия Зуева.
Василий Зуев (так звучит его имя в переводе на язык пространственной цивилизации) жил в том времени, которое определялось как «давным-давно», а полюбил женщину из времени, которое будет еще когда-то. Родители были против этого мезальянса, но на родителей Василий Зуев внимания не обращал. Он отправился из своего давным-давно на корабле памяти, державшем курс через головы многих поколений. Путь был трудным, поскольку не все головы одинаковы. Встречаются среди них твердолобые, пустые, тупые и даже непроходимые — такие, через которые невозможно пройти. Но он проходил, он плыл, он всплывал в памяти и отважно врезался в память.
— А помнишь, старая, как мы с тобой качались на качелях? — шамкал какой-нибудь старушке ее старичок. Почему он об этом вспомнил? Потому что память его всколыхнул Василий Зуев на своем корабле памяти.
А невестка старичков в это время припоминала их сыну все его грехи за последние тридцать лет. Не потому, что грехов было много, а потому, что их поднял с самого дна Василий Зуев на своем корабле памяти.
А сын невестки и ее грешного мужа пил пиво и никак не мог вспомнить дорогу домой… А внук невестки и ее грешного мужа стоял у доски и не мог вспомнить, в каком году было Куликовское сражение… Потому что Василий Зуев на своем корабле памяти проплыл мимо.
Все это происходило здесь, на земле, но не в пространстве ее, а только во времени. И мы ничего об этом не знали, потому что все наши органы чувств рассчитаны на пространство. И дошло даже до того, что, ощущая присутствие кого-то постороннего, некоторые стали приписывать Василию Зуеву сверхъестественные поступки.
Говорили, что он изгнал первых людей из рая и не только первых: каждый человек у него сначала живет в раю, а потом изгоняется — без надежды вернуться. Возвращаться некуда. Рай — это детство и юность, из которых человек изгоняется, и если вначале он существовал преимущественно в пространстве, то теперь все больше существует во времени. Во времени, которого у него остается все меньше и меньше… Где-то за гранью он, как Василий Зуев, начнет существовать только во времени, и тогда его нигде не встретишь в пространстве…
Изгнание из рая… Может, это и есть изгнание из пространства во время, причем лишь в одно его измерение — во вчера? Живущие в пространстве усвоили эту манеру — изгонять себе подобных во вчера. Сейчас в мире накоплены средства, достаточные для изгнания всего человечества во вчера, чтобы все человечество жило в этом единственном измерении…
Василий Зуев летел к предмету своей любви, точнее, не предмету, потому что предмет — понятие пространственное. Он летел к беспредметности своей любви, бесплотности ее, бестелесности, — он летел к любви, о которой можно только мечтать на земле, отягощенной пространством.
Он летел к любви, о которой можно мечтать, а она летела к любви, о которой можно лишь вспомнить. Она летела в давным-давно, и звали ее Лена Семина — в переводе на язык пространственной цивилизации. Если бы у нее была внешность (понятие пространственное), то это была бы внешность очаровательная. К сожалению, время, отнимая у людей красоту, не скопило и двух-трех черточек за тысячи поколений. А какие были красавицы! Время отняло у них красоту, но ему нечего дать тем, кто красоты не имеет.
Мысли Полякова потекли в направлении: человек и его время. Как часто, говоря о времени, трудном для человека, мы забываем, как труден для времени человек. А ведь бывают и люди, трудные для своего времени. Такие бывают, что их ничем не проймешь, потому что им на все наплевать, кроме собственной персоны. Уж время им подсказывает, уж оно их и так и сяк прижимает, а толку нет. Свернутся калачиком, подоткнут под себя со всех сторон, чтоб не дуло, не сквозило на ветрах времени, — попробуй их добудись. А те, что поактивней, еще и время к себе приспособят, чтоб на них работало…
А Леночка Семина летела в давным-давно. Наверно, где-нибудь в книжке вычитала. Встретила в старинной книжке Василия Зуева и полюбила с первого взгляда, с первого прочтения. И почувствовала, что не будет ей без него счастья.
Тем, кто живет в настоящем, трудно представить, что кому-то может быть плохо и неуютно в будущем. Ведь все прошлые и настоящие времена жили и живут ради этого будущего, ради того, чтобы в нем жилось хорошо. Впрочем, все времена выглядят лучше на расстоянии. И отдыхает взгляд, устремленный в давным-давно или когда-нибудь, но тотчас напрягается, остановившись на ближайшем моменте. «Еще бы не напрягаться!» — подумал Поляков и опять вспомнил совхоз «Рассвет». Директор там — хороший человек, но плохой директор, а ему непременно нужно быть хорошим директором, потому что зарплату он получает за директора, не за человека. Вот он и идет на разные ухищрения, чтоб только его не разгадали. Инспектор, который проверяет работу директора, его бы разгадал, но он не очень хороший инспектор, хотя человек просто замечательный. И он старается не показать, какой он инспектор, а на первый план выдвигает, какой он замечательный человек. А начальник инспектора, тоже отличный человек, на многое закрывает глаза, потому что, учитывая состояние дел, привык смотреть на них закрытыми глазами.
Между тем Леночка Семина отправилась в прошлое на корабле мечты, совершавшем из будущего регулярные рейсы. Люди на земле чувствовали присутствие кого-то постороннего и приписывали ему сверхъестественные качества, а это просто две любви летели навстречу друг другу — память о прошлом и мечта о будущем… И от этого люди не чувствовали себя покинутыми в своем настоящем…
«Хорошо!» — похвалил себя Кристофер Бомслей. «Покинутые в настоящем» — неплохое название для романа. Покинутые в настоящем — это люди без мечты и памяти, живущие только сегодняшним днем. Потому они и работают плохо, и среду загрязняют, что живут только сегодняшним днем…
Где-то в пути, в трудовом грохоте своего победного века, Леночку Семину встретил директор совхоза «Рассвет». Было воскресенье, выходной день, и директор не был похож на директора, а был похож просто на хорошего человека.
— Леночка, — сказал он, — а не махнуть ли нам на природу?
— На какую природу?
Директор огляделся. Никакой природы вокруг не было.
— Это мы вырубили, — признался директор. — На пятидесяти гектарах… — директор смутился: — Фактически на семидесяти, но мы гектары убавили, чтоб увеличить количество кругляка.
При чем здесь кругляк и гектары? Кристофер еще раз перечитал написанное. Две любви летят навстречу друг другу через века, и вдруг между ними оказывается директор совхоза, очковтиратель, показушник, не имеющий отношения не только к любви, но и к элементарному уважению, какое он мог бы заслужить, как человек и директор. И до чего же эта жизнь к себе притягивает! Уж так стараешься держаться подальше, уже и вовсе из пространства уйдешь, глядь — какой-то директор высунется со своим кругляком.
Но если Василий Зуев должен встретиться с Леночкой Семиной, так они встретятся. Только где? Вернее — когда?
У Кристофера на этот случай была заготовлена точная дата: год 1616, месяц апрель, число 23-е.
В этот день Дон-Кихот разочаровался в своей Дульцинее, Ромео и Джульетта почувствовали несовершенство своей любви — по сравнению с любовью Василия Зуева и Леночки Семиной. И поняв, что ничего подобного им не создать, два великих писателя — Сервантес и Шекспир — покончили счеты с пространством и с тех пор существуют только во времени. А иначе — почему бы им в один день умирать?
Между Испанией и Англией тысячи километров, но это пустяки, если пространство не принимать во внимание. В Стратфорде у Шекспира, так же как в Мадриде у Сервантеса, ощутилось появление чего-то необыкновенного, еще никогда не описанного в литературе. Чтобы это описать, нужно было сбросить тяжкий груз пространства и начать существовать только во времени. Это и сделали два великих писателя в тот незабываемый день и отправились на корабле памяти в далекие времена — к истокам любви, потрясшей их воображение. Дата потеряла значение, отныне станет памятным каждый день, потому что прошлое и будущее встречаются в настоящем. Это удивительная, незабываемая встреча. Прошлое, идущее из глубины веков, встречается с будущим, пришедшим из неизвестности, и в месте их встречи рождается единственно возможное для жизни время — настоящее, где директор, очень хороший человек, встречается с инспектором, очень хорошим человеком…
Поляков перечеркнул все написанное и стал писать о совхозе «Рассвет».
Ушельцы
В одном из купе скорого поезда Ужгород — Москва ехали двое. Один потрепанный, общипанный жизнью толстяк, с волосами, когда-то жгуче черными, а теперь покрытыми жгучей сединой. Он сидел у окна перед стаканом остывшего чая и листал такую же, как и он, потрепанную книгу известного писателя Кристофера Бомслея. Впрочем, книга была не его, а другого пассажира, его же была газета «Сельская жизнь», уже дважды читанная.
Второй пассажир был, конечно, Ленька Соломин, потому что не станет Ленька читать газету, в особенности «Сельскую жизнь». Круг чтения его был ограничен двумя жанрами: приключенческой литературой — для сердца и научной фантастикой — для ума.
В книге, которую он прихватил в библиотеке для дорожного чтения, было два романа Кристофера: «Секретное оружие» и «Ушельцы», Он начал со второго, соблазненный названием. В романе рассказывалось об ушельцах людях, ушедших с Земли в другую цивилизацию. Та цивилизация, по сравнению с земной, была на более низкой ступени развития, и земные ушельцы, ставшие там пришельцами, снискали любовь и уважение тамошних аборигенов. Здесь, на Земле, они не хватали с неба звезд, а там стали светилами ума, вроде нашего Аристотеля. Понятно, им не хотелось уезжать, возвращаться из Аристотелей в прежнюю заурядность.
Ленька и сам уходил в своей жизни не раз, но все это были уходы не кардинальные, в пределах Земли. А ушельцы решились. У них хватило смелости. И хватило твердости не возвращаться обратно.
В практической жизни часто требуется фантастика. Соберется компания, пойдет непринужденный разговор, и тут вы вставляете между прочим:
— У одного американского писателя женщины стареют медленнее мужчин, потому что их включают только тогда, когда в них бывает потребность.
Тут, конечно, вспыхнет общий интерес: как это женщину включают и выключают? Найдутся грубияны, готовые женщину выключить насовсем, найдутся и охотники одну женщину выключить, а включить другую. Особое удивление вызовет то, что женщина не лежит выключенная, а на это время совсем исчезает.
— У нас только мужики исчезают, — скажет какая-нибудь, уже вовсе потерявшая надежду.
Кто-то поинтересуется, исчезает женщина вместе с детьми или оставляет их на отца, чтобы держать его при семье, пока она будет отсутствовать. И это, конечно, оживит разговор.
Воспитание детей — Ленькин конек, но конек скорее теоретический, поскольку практика у него всегда кончалась в самом начале. Хотя о воспитании лучше говорить с матерью ребенка, оставшись с ней наедине, чтоб она потянулась к тебе как к педагогу. У нас, откровенно говоря, мало кто умеет воспитывать, и вдруг находится человек, который умеет. У какой матери не загорятся глаза?
Педагог, фантаст и романтик. У какой женщины не загорятся глаза?
Женщины, особенно замужние, любят романтиков. Ей, обвешанной семьей, словно гроздь виноградная, только романтиков и подавай. Но она, конечно, себе не позволит, пока не созреют ее виноградинки. А как созреют, отпадут, кому она будет нужна, старая ветка?
Ну, а та, которая не слишком обвешанная, смотришь, и рискнет на отчаянный шаг. Взыграет в ее жилах романтика, подхватит она ребеночка и подастся за Ленькой Соломиным в туманную даль.
И станет она Соломина. Соломенная жена. Не соломенная вдова, но и не жена настоящая.
Ленька против формальностей не возражал, он всех пускал под свою фамилию, не придавая большого значения бракоразводным делам. Женился он легко, поскольку шел не в кабалу, а просто из одной на другую свободу. Он и профессию себе такую придумал: шофер, — чтобы легко уезжать и приезжать, с остановками по желанию, а не по требованию, как бывает на транспорте.
— Землетрясение в Танзании, — прочитал в газете жгучий сосед. — Опять землю трясут проклятые милитаристы. Прикрываются стихийными бедствиями. То у них засухи, то наводнения…
— А разве это не стихийные бедствия?
— Не будьте наивным! Все это происки, необъявленная война.
Толстяк взял Ленькину книгу и стал листать роман «Секретное оружие».
— Тратонийский ученый Бужерон изобрел способ искусственно вызывать стихийные бедствия. Каковы возможности для милитаристов? Мой вам совет: читайте книги, которые с собой возите, дорогой…
— Леонид, — представился Ленька Соломин.
— Очень приятно. А я Бермудес, Жан Поль Марат.
— Как это — Жан Поль Марат?
— Не пугайтесь, не тот. У великого якобинца Марат фамилия, а у меня просто имя.
— А Жан и Поль?
— Тоже имена. У меня три имени, как у писателя Гофмана. Я ведь бываю среди разных людей, не хочется, чтоб меня принимали за одного человека.
Конечно, это удобно. Был бы Ленька, допустим, Леонид, Петр, Алексей, он бы избавился от многих неприятностей. Вам Леонид нужен? А я, между прочим, Петр. Вы спрашиваете Петра? Что же вы пристаете к Алексею?
Но почему такое совпадение: и Жан, и Поль, и Марат?
— Что-то мне фамилия ваша знакома, — сказал Ленька, так и не разобравшись с именами. — Вы случайно не бывали в Мукачеве? А в Сыктывкаре?
— Нет, — сказал Бермудес, — я здесь новый человек.
Он не уточнил, где это здесь, поезд был далеко и от Сыктывкара, и от Мукачева, он шел, все больше удаляясь от Мукачева и в какой-то мере приближаясь к Сыктывкару.
Бермудес посмотрел на часы и задал странный вопрос:
— Когда прилетаем?
Не приезжаем, а прилетаем. Хотя и поездом.
— Ну, вы даете, Жан Поль Марат, — сочувственно протянул Ленька Соломин. — Неужели едете без сопровождающего?
— А разве вы меня не сопровождаете? — загадочно усмехнулся Бермудес.
Либо это сумасшедший, возомнивший себя Жаном Полем Маратом, либо брат по разуму, избравший Леньку проводником по Земле. Такие случаи бывали не раз. Но зачем тогда этот маскарад с именами?
— Резидент! — метнулся Ленька от фантастической к детективной литературе. — Вербует в какую-то разведку, это же ясно, как божий день!
Он улыбнулся для отвода глаз, как улыбался ребенку последней жены, утешая его перед расставанием.
— Называйте меня Полем, — прозвучало как будто издалека, и было неясно, сказал ли это его сосед, или поле, бегущее за окном поезда.
— Поговорим как ушелец с ушельцем, — сказал резидент, выдававший себя за ушельца, Жана Поля Маратами еще какого-то смутно знакомого Бермудеса. Вы ушелец и я ушелец. Вы ушли от своих, я ушел от своих.
«Измена Родине!» — молнией сверкнуло в мозгу у Леньки.
Он был легкий человек и легко уходил и приходил, когда дело касалось какой-то отдельной женщины. Но изменить Родине! На это он не пойдет. Ведь когда он изменял женщинам, при этом всегда страдали женщины, а если он изменит Родине, Родина не пострадает. Пострадает он, Ленька Соломин.
Это он точно знал. Такие случаи тоже бывали.
— Когда два пути расходятся, нужен третий, чтобы они сошлись, загадочно сказал резидент, но Ленька его понял: конечно, ему отводится роль связного. Возможно, на него потому и пал выбор, что он постоянно мотается по стране, то уходя, то приходя, и, таким образом, его поездки не вызовут подозрения. Лучше б он сидел на месте, не мельтешил перед глазами у иностранной разведки.
— Вот два пути, — нарисовал резидент два пути, выходящие из одной точки. — А вот третий, их соединяющий.
Треугольник! Бермудес нарисовал треугольник! Ленька в ужасе метнулся от детектива к фантастике.
Как же он сразу-то не догадался? Бермудес — это человек из Бермудского треугольника. Там все проваливается, куда-то исчезает. Потому он и называет себя ушельцем, что ушел в районе Бермудского треугольника. Там ушел, здесь появился — как просто все разгадывается!
— Две стороны — это муж и жена, — говорил между тем резидент из Бермудского треугольника. — Они расходятся из вершины своей любви и все расходятся, расходятся… Но соединяет их маленькое по величине, но огромное по значению основание: ребенок.
Наверно, «ребенок» — это какой-то объект. Может, военный завод, вернулся Ленька от фантастики к детективу. А две стороны? Наверно, это те, кто ведет наблюдение за объектом.
Ишь, Бермудес. Он потому и три имени себе взял, зашифровал треугольник. Прикрывается Гофманом, но насчет Гофмана тоже ничего не известно. Может, и он оттуда, из треугольника. Они специально берут три имени, чтоб было ясно, откуда они. Кому надо, ясно, а для остальных зашифровано.
«Сельскую жизнь» читает. Видно, готовит нам новый неурожай. И как откровенно сказал про секретное оружие! Считает, что Ленька уже провалился, что он уже свой. Не выйдет, мистер! Многие принимали Леньку за своего, но ни у кого не вышло. Ленька свой собственный. Не свой, а свой собственный.
— Я как посмотрел на вас, сразу понял, что вы ушелец, — сказал Жан Поль Марат. — До Москвы едете? Это естественно. Оттуда нашему брату на всю страну дорога открыта.
«Опутали проклятые шпионы Москву, — ужаснулся Ленька. — Из Москвы по всей стране расползаются».
— Какому это брату? — спросил он машинально.
Резидент из треугольника кивнул на книгу Кристофера Бомслея. Намек на братьев по разуму. Леньку осенило в который уже раз.
Вот вам и разгадка Бермудского треугольника. Оказывается, они, эти братья по разуму, устроили там свою базу. Сидят на дне океана и тянут в пучину все, что под руку попадет.
— Тянуть надо меньше, — сказал Ленька, решив помочь человечеству, раз подвернулся такой случай.
— Меньше не получается, — виновато улыбнулся Бермудес. — Вот и у вас не получается, — и он кивнул на книгу, увезенную Ленькой из теперь уже далекого города Мукачева. — Впрочем, эта книга сыграла свою службу: без нее у нас не наладился бы разговор.
Вот тебе и книга. Оказывается, это условный знак… Вот когда Леньку по-настоящему шмякнуло с космических высот на родную землю! Никакой это не пришелец, он только прикидывается пришельцем или ушельцем, а на самом деле заброшен в нашу страну…
Позвать проводника? Завяжется перестрелка, еще ухлопают к чертовой матери. Как раз когда Ленька начинает новую жизнь.
Надо выходить из игры, как говорил Штирлиц Мюллеру в известной кинокартине.
Вышел Ленька в Конотопе, хотя у него был билет до Москвы. Оставив на съедение иностранной разведке чемодан, он вышел, стараясь не касаться поручней, чтоб не оставлять отпечатков пальцев. Искусно заметая следы, он всю ночь кружил по незнакомому городу Конотопу, а утром, вернувшись на вокзал, дал телеграмму в два адреса — будущей и бывшей жене — с одинаковым текстом: «Вышли сто».
Обнаружив, что его попутчик исчез, Жан Поль Марат прежде всего поинтересовался, не прихватил ли он чего лишнего, но, убедившись, что попутчик не только лишнего не прихватил, но и свое оставил, Бермудес вскоре о нем забыл и, освежив в памяти печальный факт землетрясения в Танзании, погрузился в размышления о нашей фантастической жизни.
Последние сто лет нашу жизнь делали фантасты, причем не столько современные нам фантасты, как фантасты далекого прошлого. Все они были ушельцы, потому что ушли из своего времени в незнакомые будущие времена, чтобы строить там жизнь, которую разрушали в своем настоящем. Одним из таких строителей будущего был однофамилец Бермудеса, его любимый писатель-фантаст, фамилию которого он взял, присоединив к ней и фамилию любимого революционера.
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать факт, что все значительное в истории человечества сделали наши великие однофамильцы. Однофамилец уголовника Менделеева открыл Периодическую систему элементов, однофамилец алкоголика Чайковского сочинил балет «Лебединое озеро», а однофамилец Бермудеса написал поистине великий роман-эпопею «Страна, которая плохо лежит». Как вы помните, в этом романе речь идет о государстве, в котором постоянно все разворовывается, и в конце концов возникает идея украсть государство целиком. Но как украсть государство? Откуда взять и куда положить? В романе однофамильца Бермудеса подробнейшим образом разработана технология кражи страны, и желающему украсть страну ничего самостоятельно не нужно придумывать.
В секретных архивах КГБ, а прежде НКВД, а еще раньше ГПУ, ЧК и царской охранки до сих пор хранится донесение, тоже, между прочим, однофамильца, но чьего именно, лучше не упоминать, чтоб не рассекретить его фамилию, скажем только, что это было донесение агента, подсаженного в камеру к политическим заключенным в один из последних годов прошлого, не будем указывать, какого именно, века. Кроме агента, в камере было двое: один большой и мохнатый, с бородой, обрамлявшей его лицо по окружности, подобно тому, как темнота обволакивает солнце во время солнечного затмения, а второй маленький, лысенький, бегающий из угла в угол по камере и время от времени присаживающийся на пол у нар, чтобы что-то записать или вычеркнуть в своих записях. Кругобородый держал в руках переданную ему с воли книгу однофамильца Бермудеса, самую его знаменитую эпопею «Страна, которая плохо лежит», и вычитывал из нее наиболее полюбившиеся места. Агент слушал и запоминал, а лысенький записывал, не боясь вызвать подозрений.
В краже страны, читал Кругобородый, должен участвовать весь народ, поскольку одному человеку или группе людей такое не под силу. А для того, чтоб мобилизовать народ на кражу, нужно учение, которое должно быть всесильно, потому что оно верно, а может быть, и совсем не поэтому, оно может быть и неверным, но об этом никто не должен знать, задача учения приковать внимание масс, пока будет разворовываться государство. Это может быть учение экономиста Адама Смита, философа Гегеля, физика Ньютона, главное его так истолковать, чтобы оно работало в нужном направлении.
Далее в романе говорилось, что, когда учение овладеет массами, у масс отпадет потребность чем-то владеть и все их владения можно будет передать государству. Сначала национализировать, чтобы все это числилось за государством, а потом приватизировать, передав в частные руки, но уже не те, что были прежде, а в собственные, свои. На этом заканчивается процесс, который может продолжаться много лет, но уже в самом начале государственным можно будет пользоваться, как своим, так что время тут особого значения не имеет.
Пока Кругобородый все это вычитывал, лысенький быстро-быстро писал, сидя на полу у нар, чтобы потом, выйдя на свободу, осуществить фантазию великого фантаста на практике.
Он так и сделал. Взял теорию, которая без практики мертва, и соединил ее с практикой, которая без теории слепа, в надежде, что из этого возникнет что-то зрячее и живое. Но оно не возникло. Мертвое осталось мертвым, а слепое слепым.
В этом слепом воплощении мертвой идеи нынешний Бермудес играл не последнюю роль. Он был одним из ответственных лиц и теперь спешил уйти от ответственности. Жизнь ответственного работника в том и состоит, чтобы постоянно уходить от ответственности, и бродят по стране ответственные товарищи ушельцы, ответственные товарищи по несчастью целой страны, и светлое будущее, которое виделось им впереди, темнеет и чернеет по мере превращения в настоящее…
Внезапно страшная мысль пронзила Бермудеса: ведь этот его попутчик ехал до Москвы, почему же он сошел на другой станции? Может, позвонить? Кого-то уведомить? Бермудес как ни в чем не бывало приезжает в Москву, а там уже его встречают…
«Надо выходить из игры!» — опять сказал Штирлиц Мюллеру, и Мюллер с ним согласился.
Он вышел на станции Сухиничи. Было утро. Утро нашей Родины, как значится на известной картине известного художника. Бермудес стоял крупным планом на фоне нашей Родины, как стоял на картине тот, другой человек, продолжатель великого дела лысенького.
Рыженбах из Мозжечка
Директор института Мозга отдыхал от своих мозговых забот над книгой «Уроки печени». Остроумное, слегка ироничное, хотя и не вполне понятное исследование искрилось выдумкой, неожиданными поворотами, внезапными озарениями и столь же внезапными погружениями во тьму.
«У нас в мозгу так не умеют», — с завистью думал директор.
Дверь отворилась, и вошел Рыженбах из Мозжечка.
Собственно, теперь уже не из Мозжечка, поскольку четыре года назад он был уволен по сокращению штатов. Вместе с ним были уволены Пузенбах из Подкорки и просто Бах из Левого Полушария. Впоследствии кто-то из них затерялся на бескрайних просторах Родины, кто-то уехал в другую страну, но кто именно уехал, а кто затерялся, директор не знал, поэтому на всякий случай приветствовал вошедшего так:
— Хэлло, мистер Рыженбах! Как поживаете?
Последняя фраза тоже была задумана по-английски, но прозвучала ближе к отечественному: «Как поживайт?».
— Все в порядке, — сказал Рыженбах. — Вот, зашел навестить родного заведующего.
Смысл этого ответа заключался в том, что директор прежде был заведующим сектором Мозжечка, именно он и выдвинул кандидатуру Рыженбаха на увольнение по сокращению штатов. Сверху ему, конечно, подсказали, но он снизу выдвинул. Слишком широки для Мозжечка были научные интересы Рыженбаха, он постоянно околачивался в Больших Полушариях и даже ставил эксперименты на коре, как он сам говорил, по выпрямлению извилин. Выпрямление извилин! Какая чушь! Только у нас в Мозжечке могут до этого додуматься. Между прочим, Пузенбах из Подкорки и просто Бах из Левого Полушария считали, что Рыженбах на пороге великих открытий. Возможно, многое бы сегодня и виделось, и осмысливалось не так, если б Рыженбаха не уволили по сокращению штатов. Вот она, утечка мозгов! Здесь их увольняют, а там берут, и там они вдруг начинают хорошо работать. А мы одно заладили: кадры решают все. У них решают, это да, а у нас ничего решать не могут.
— Садитесь, Рыженбах, — сказал директор, целиком переходя на русский язык. — Небось, приехали подводить итоги эксперимента?
Рыженбах не понял. Или сделал вид, что не понял. Какого эксперимента, товарищ заведующий?
— Не скромничайте, Рыженбах. Разве не вы говорили, что отсутствие извилин помогает человеку делать карьеру? На Эвклида ссылались. Мол, прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками.
Рыженбах только улыбнулся в ответ. Директор тоже улыбнулся — весьма понимающе. Конечно, Рыженбаху нельзя раскрываться. Он теперь гражданин другой страны, его секреты — ее секреты. Кратчайшее расстояние… Они у себя в Америке идут к цели кратчайшим путем, а мы все петляем, петляем… Сами ставим себе препятствия, а потом начинаем их обходить. Препятствий столько, что на них не напасешься извилин.
Если он действительно здесь поставил эксперимент, то интересно посмотреть на объект эксперимента. Прямо спросить — он не ответит, но можно и самому вычислить. Нужно только припомнить, кто у нас за четыре года сделал карьеру.
Далеко ходить не нужно: бывший заведующий сектором Спинного Мозга стал президентом ассоциации невропатологов. Теперь в его распоряжении не только центральная нервная система, но и периферическая. Когда его выдвигали, у них в Головном Мозгу шутили, что спина в этом имеет большие заслуги, чем голова. А что если не спина? Что если прямые извилины?
— Пардон, мистер Рыженбах, — сказал директор, для убедительности опять переходя на английский. — Как вы представляете эту прямую извилину? Начертите ее вот на этом листке.
Рыженбах взял линейку и прочертил прямую линию.
— Какая же это извилина? — улыбнулся директор. — Это прямая, обычная прямая.
Рыженбах согласился: по природе она прямая, но может выполнять функции извилины. Так и в жизни бывает: человек выполняет совершенно несвойственные ему функции. Вот, например, Пузенбах. Вы помните Пузенбаха?
— Ну как же, кто же не помнит Пузенбаха! — воскликнул директор и добавил на всякий случай: — Замечательный был ученый! Если б не сократили штаты, он бы очень далеко пошел!
— А он, кстати, и пошел. И именно в Штатах. Штаты сократили, а он в Штатах дальше пошел! — засмеялся Рыженбах. — Вот какой каламбур получается.
Значит, это Пузенбах уехал в Америку. А Рыженбах затерялся на просторах нашей великой страны. И при этом ставит эксперименты. Директор вздохнул с облегчением: значит, может, может собственных Платонов земля Российская рождать!
Он расстегнул пиджак и сказал собеседнику как своему человеку:
— Между нами говоря, те, которые далеко идут, это обычно люди с прямыми извилинами. Им это не кажется далеко, потому что они недалекие по своим извилинам. Вот, например, президент ассоциации невропатологов, бывший заведующий сектором Спинного Мозга, что вы о нем скажете, Рыженбах? директор подмигнул Рыженбаху. — Говорили, что ему спина помогла сделать карьеру, а может быть, голова? Но какая голова!
Рыженбах не ответил. Он стал просматривать книгу «Уроки печени», вытащив ее из-под «Центральной нервной системы».
Не хочет говорить, — зафиксировал про себя директор и спросил как можно нейтральней: — А что Пузенбах? Как он там, в Америке?
— Ничего особенного. Миллионер. А какие подавал надежды!
Миллионер, который не оправдал надежд… Каких надежд? Стать миллиардером? Видимо, в данном случае речь шла о его научных возможностях. У него были большие научные возможности, а материальных — никаких. И вдруг осуществились материальные. Видно, что-то с Пузенбахом произошло. Уж не был ли он объектом эксперимента?
Но это если б один Пузенбах. А то ведь есть и другие примеры. Живет человек в своем отечестве, с трудом сводит концы с концами, а уедет в Америку — и уже миллионер. Неужели всем выпрямляют мозги? В таком случае трудно себе представить масштабы эксперимента.
У директора заныло сердце. Не оттого, что масштабы эксперимента были широки, а скорее оттого, что по отношению к нему они оказались широки недостаточно. Извинившись перед гостем, он набрал номер своего кардиолога. Для приличия спросил о здоровье — прежде, чем жаловаться на свое.
— Какое там здоровье! — живо откликнулся лекарь, словно только и ждал, кому бы пожаловаться. — Сердце барахлит. Я уже все перепробовал — ничего не помогает. Что вы хотите, четыре года без отпуска. Как стал главным кардиологом, так с тех пор ни разу не отдыхал.
Выслушал его директор, как больному положено выслушивать врача, что-то посоветовал и повесил трубку. Если врач жалуется на здоровье, то больному и вовсе некому жаловаться.
Четыре года… Что это, случайное совпадение? Четыре года главный кардиолог возглавляет кардиологический центр, и все это время директор лечит у него свое сердце. А если четыре года — не случайное совпадение? Значит, он все время — страшно подумать! — лечился у человека без извилин?
«Совпадение… сов. падение… — бормотал директор. — Какая странная аббревиатура. Странная и вместе с тем справедливая. У них на западе взлет, а у нас все время падение, наше родное совпадение…
Зазвонил телефон. Друг директора, известный писатель, сообщил, что вышел из печати последний том четырехтомного собрания его сочинений и что он посылает директору дарственный экземпляр.
— Наконец-то я сбросил этот четырехтомник. Каждый год по тому, быстрей у них не получается. Полиграфия!
Директор поздравил друга с завершением Избранного. Собственно, это было не избранное, а полное собрание его сочинений: помимо этого друг больше ничего не написал. Он включил в свое собрание даже выбранные места из переписки с друзьями. Нет, выбранные места — это у Гоголя, а друг включил всю переписку.
Четыре тома, каждый год по тому, — размышлял директор, простившись с писателем. — Получаются те же четыре года. Да нет, ерунда, нельзя написать книжку без извилин… А почему, собственно, нельзя? Ведь он, директор, этих книг не читал, он читал только дарственные надписи. Какой-то том начинал читать — не то первый, не то второй — и бросил на третьей странице. Плохо пишет друг, нечитабельно. Хоть бы раз оторвался от машинки, сам себя почитал.
Ну, этот — Бог с ним. Не так существенно, с извилинами он или без извилин. Его в конце концов можно и не читать. Другое дело кардиология. Или болезни мозга.
— А вы о Бахе ничего не слышали? — спросил он Рыженбаха — просто, чтоб поддержать разговор.
— Как же не слышал? Замечательный композитор. Так сказать, первая величина.
Вот это новость! Оказывается, Бах стал композитором. Здесь его уволили по сокращению штатов, а он куда пошел! Неужели выпрямили извилины? Прямая — кратчайшее расстояние на пути к цели… Правда, лечиться у такого человека или книжки его читать, или даже музыку слушать — сомнительное удовольствие, но для самого человека — это кратчайший путь к цели.
Директор схватился за голову, но не так, как обычно хватаются, прикладывая к ней ладони с боков. Он прихлопнул ее сверху, словно пытаясь удержать исчезающие извилины.
Как же он сразу не подумал? О других подумал, а о себе не подумал… А ведь он за время эксперимента стал директором, получил в распоряжение институт…
Теперь понятно, зачем к нему зашел Рыженбах. Он пришел проверить результаты эксперимента. Делает вид, что углубился в «Уроки печени», а сам наблюдает… По-видимому, эксперимент удался. Человек без извилин стал директором института Мозга.
Между прочим, головные боли, мучившие его прежде, прошли. Чему болеть, если нет извилин?
Вот тебе и Рыженбах. Со стороны посмотришь — обыкновенный человек, да еще вдобавок уволенный по сокращению штатов, а ведь какую произвел революцию в интеллектуальной деятельности человека! Теперь все станут миллионерами, учеными, писателями, композиторами. Никаких сов. падений, все устремлены вверх. По кратчайшему пути выпрямленных извилин. Быть может, это именно то, чего не хватало человечеству. Ведь насколько легче жить без извилин: и по службе продвигаешься, и голова ни о чем не болит.
Директор смотрел на Рыженбаха с любовью и благодарностью.
— Пожалуй, ваше открытие тянет на Нобелевскую.
— Какое открытие?
— Ну это, по выпрямлению извилин…
Рыженбах засмеялся. Он сказал, что некоторым из его знакомых, пожалуй, надо бы выпрямить извилины, потому что они у них завернуты не туда.
— Именно, именно не туда! — засмеялся директор.
Рыженбах, продолжая смеяться, уточнил свой замысел: извилины нужно сначала выпрямить, а потом уже завернуть в другую, противоположную сторону.
— Завернуть, непременно завернуть! — смеялся директор. И вдруг перестал смеяться: — Постойте, зачем же их заворачивать? Разве не прямая кратчайшее расстояние между точками?
— Прямая, именно прямая! — теперь Рыженбах смеялся один. И то, что он смеется один, больше всего обижало директора.
Но тут и Рыженбах перестал смеяться и полез в карман за бумажником.
— Я, собственно, зашел рассчитаться. Когда меня уволили, вы мне ссудили пятнадцать рублей. Я их возвращаю вам с благодарностью.
Вот теперь все стало ясно: он зашел рассчитаться с директором. Каких-то пятнадцать рублей… Почему директор дал ему всего лишь пятнадцать рублей? Но ведь он тогда еще не был директором.
Директор взял пятнадцать рублей и почувствовал, что на голову опять навалилась какая-то тяжесть. Только что было так хорошо, так легко. Любая мысль — невесомая, устремленная вперед и вверх по кратчайшему расстоянию между точками. И вдруг ничего этого нет. Нет победы разума над собой, столь нужной и ему, и всему разумному человечеству, опять разум отступает перед собой, опять терпит от себя поражение… И надо опять что-то думать, что-то решать, нужно опять привыкать к этой трудной, непосильно трудной, невыносимой жизни — с извилинами…
Конец жанра
Теория вероятности немеет перед невероятной практикой нашего века. Начальник уголовной полиции, хорошо известный как в полицейских, так и в уголовных кругах, задержал сам себя. Это был конец детективного жанра, за которым начинался жанр сомнительно научной фантастики.
Конец жанра, особенно такого популярного, как детектив, является настоящим потрясением для общества. Вот уже свыше ста лет общество участвует в постоянной, непрекращающейся погоне, впрыгивает в окна и выпрыгивает из них, сличает следы, пепел от сигарет, пуговицы и отпечатки пальцев. И вдруг на полном скаку — стоп! Кто кого поймал, кто от кого убегает? Сыщик стоит в пустой комнате и держит за шиворот сам себя. Конец жанра! Конан Дойл, Эдгар По, хорошо, что вы не дожили до этого несчастного времени!
В течение долгих месяцев начальник полиции шел по своему следу, то себя настигая, то внезапным рывком снова уходя от себя, совершая чудеса находчивости одновременно в двух противоположных видах деятельности. Знаменитый детектив, известный во Франции под именем Жана Грейо, в Англии под именем Джона Грея, а в России под именем Ивана Григорьева, — оказался вором-рецидивистом, известным во Франции под именем Большого Жака Фонтена, в Англии под именем Большого Джека Фонтенза, а в России под именем Жорика с Большого Фонтана.
Параллельные прямые пересеклись в точке, представляющей не бесконечно малую, а, напротив, довольно значительную величину, и даже не одну, а две величины: великого сыщика и великого рецидивиста.
Сенсация.
Впрочем, разве в уголовном и вообще в мире мало сенсаций? Мир, в том числе и уголовный, устроен так, чтобы человек, живущий в нем, не переставал удивляться. Конечно, если начальника полиции взять под стражу, он уже не будет вызывать того удивления, я бы даже сказал: восхищения, какое он вызывал, когда стоял во главе полиции. Вычеркнутый из настоящего, он будет вычеркнут также из прошлого, где у него имелись некоторые заслуги. Таково удивительное свойство человеческой памяти: она способна забывать.
И не только человеческой. Если б семя не забыло, что было когда-то семенем, оно никогда бы не стало побегом. Если бы побег не забыл, что был когда-то побегом…
Я прошу прощения у тюремной администрации, что употребил неуместное в данном тексте слово «побег», но таков закон развития и маленького семени, и взрослого, уважаемого человека…
Итак, является Жак Фонтен к Жану Грейо (дело, конечно же, происходит во Франции) и говорит:
— Напрасно ты, Ваня, за мной гоняешься: я, между прочим, сижу у тебя в кабинете.
Жан Грейо от удивления теряет дар своей французской речи, но тут же обретает английскую:
— Джек! — восклицает он. — Большой Фонтенз! Что тебе нужно здесь, во французской полиции?
— Я здесь работаю, — усмехается Джек. — В этом кабинете.
Ну, тут, конечно, удивление, выяснение, кто где работает и кто где ворует. После чего Жак Фонтен говорит:
— Ваня! Совсем ты одичал у себя в полиции, оторвался от жизни. Разве ты не заметил, что у нас давно уже воруют так же систематически, как и работают? Потому что у нас стерта грань между воровством и работой.
— Джек! — воскликнул Жан Грейо, упрямо не желая переходить на французский язык, чтоб не компрометировать родимую Францию. — Я привык делить мир на честных и бесчестных людей, на полицейских и, откровенно говоря, воров. И ты меня не собьешь с этой позиции!
— Эх, Ваня, Ваня… — вздохнул Большой Жак Фонтен. — Ты все еще думаешь, что на свою полицейскую зарплату живешь, а ведь ты уже давно не живешь на зарплату. Ты одного вора впустишь, а другого выпустишь, вот на что ты, Ваня, живешь. А кафель? Ты, я знаю, кафелем свой санузел покрыл, а ведь кафель это не честный…
— Я купил его!
— В магазине? Вот то-то и оно. Не на Елисейских полях ты купил его, Ваня, а в Булонском лесу, там, где у нас продают краденое.
— Так ведь санузел… — смутился начальник полиции. — С кафелем он совсем по-другому смотрится.
— Смотрится! Не смотреть туда ходишь, мог бы и обойтись.
— Мог бы, Джек.
— А шуба норковая? На твоей жене шуба норковая, откуда?
— Это подарок, Джек! Это по-честному.
— А кто подарил? Не каждой жене такую шубу подарят. Не каждого мужа жене.
— Жак! — Жан прикрыл дверь поплотней и перешел на французский. — Что же мне теперь?
— Не ссориться же нам. Мы же с тобой в одном деле, в одном теле… Либо ты меня за шиворот и к себе, либо я тебя под ручку и напротив.
Они перешли на шепот, и дальше уже было ничего не слыхать. Только одно слышалось: Булонский лес. Тот самый лес, где у нас продают краденое.
Пришельцы
Все говорят о пришельцах, все ждут пришельцев, а они давным-давно живут на земле.
Они появляются на земле, как земные люди, обучаются нашему языку, они разговаривают с нами о наших делах, которые считают своими. Правда, непонимание остается, нам с ними трудно друг друга понять, потому что понимание не только в языке… Мы, аборигены, умеем жить на земле, а пришельцы не умеют, они только учатся, и им нужно много учиться, чтобы стать такими, как мы. Им нужно долго обживать землю, пока они приживутся, — неземные люди, свалившиеся на землю с небес, бесплотные вспышки небес в плотных слоях атмосферы.
— А почему лев сидит в клетке? — спросил меня один пришелец.
— Потому что лев — хищный зверь.
— А зебра? Она разве хищный зверь? Почему же она сидит в клетке?
— Чтобы ее не съел хищный зверь.
— Кто, лев? Но он же в клетке. И тигр тоже в клетке. И другие хищные звери в клетках. Значит, зебра может не сидеть в клетке? Почему же она сидит в клетке?
— Потому что иначе она убежит.
— От кого? От тех, которые сидят в клетках?
— Вообще убежит. Из зоопарка.
— Она убежит туда, где ей будет лучше?
— Наверно, лучше.
— А надо, чтоб ей было хуже?
— Вовсе нет.
— Почему же тогда она сидит в клетке?
— Неужели не ясно? Потому что иначе она убежит.
Я выражался предельно ясно, но пришелец меня не понимал.
— А почему кошка не в клетке?
— Кошка — домашнее животное.
— А когда зебра посидит в клетке, она тоже станет домашней?
— Зебра никогда не станет домашней.
— Так зачем же тогда она сидит в клетке?
— Я же сказал: потому что иначе она убежит.
Некоторых слов пришельцы просто не понимают, хотя именно этим словам аборигены пытаются их научить.
— Красивый дом! Зайдем посмотрим, какой он внутри!
— Нельзя. В нем живут люди.
— Они страшные?
— Не страшные, но мы с ними незнакомы.
— А мы познакомимся. И заодно дом посмотрим.
— Нельзя. Как это мы войдем в чужой дом? Что мы скажем?
— Скажем, что пришли познакомиться. Они сами будут рады.
— Не думаю.
— Почему? Разве мы страшные?
— Мы не страшные, мы незнакомые.
— А мы познакомимся.
— Нельзя.
В мире пришельцев все знакомятся просто. Там, конечно, мы бы вошли в этот дом. Вошли бы, окликнули хозяина:
— Эй, что делаешь?
— Пишу диссертацию. Дать почитать?
— Сам читай. А жена что делает?
— Обед готовит.
— Тогда мы к жене. Здравствуй, хозяйка. Что, обед готовишь?
— Обед.
— Вкусный?
— Еще какой!
— Когда будет готово, позови, дал тут носа дом посмотрим. Дети есть?
— Трое.
— Ну так мы к детям твоим пойдем. Познакомимся.
Вот так бы мы разговаривали в мире пришельцев. А здесь вместо такого интересного разговора — только одно слово: «Нельзя!
Пришельцы плохо знают слово «нельзя», они постоянно путают его со словом «можно». Они считают, что можно ходить без пальто, когда аборигены кутаются в теплые шубы, и что можно купаться в холодной воде, и что можно, вполне разрешается схватить от этого насморк. Большинство пришельцев не расстается с насморком, — наверно, от своих космических холодов.
Однажды я увидел двух пришельцев, куривших сигареты — изобретение земли. Пришельцы кашляли, размазывали по щекам слезы и все же снова и снова пытались втянуть в себя горький дым.
— Зачем вы себя мучите?
— Привыкаем. Что мы — хуже других?
Из трубы ближайшего дома валил дым. Из трубы соседнего дома валил дым. Из трубы завода, фабрики, из выхлопных труб проезжих автомашин — отовсюду валил дым. Все, повально все себя мучили, и, конечно, пришельцы были не хуже других.
— Закуривайте, — предложили они. — У нас целая пачка.
— Я не курю, — рискнул я подорвать свой авторитет.
— Почему?
— Здоровье не позволяет.
— Кто не позволяет?
— Здоровье.
— Нашли кого слушаться!
Пришельцы очень доверчивы, они верят в любые фантазии, — может быть, потому, что они свалились на землю с небес, где обитают только фантазии. Им ничего не стоит в обыкновенной палке увидеть саблю, винтовку, а то и боевого коня. В самой людной толпе они ведут себя, как на необитаемом острове. Пришельцы — вечные путешественники, они легко перемещаются во времени и пространстве, посещая самые отдаленные материки и века. Как им это удается — загадка для аборигенов земли, для которых любое путешествие утомительно и хлопотно. Если абориген собирается летом на дачу, он начинает собираться уже с весны. Он бегает по магазинам, волоча за собой, как шлейф, длинный список предметов, без которых он не сможет продержаться до осени. Он пакует матрацы и одеяла, проводя последние ночи на голых досках, пружинах, а то и просто на голом полу. Он обзванивает всех родственников и знакомых, давая им последние наставления, словно собирается в последний путь, а не на загородную дачу. Если аборигену предложить съездить куда-нибудь в пятнадцатый век, он ни за что не поедет.
— Что вы! Меня там сожжет инквизиция!
А если ему предложить век тридцатый, он смутится:
— Я там никого не знаю… У меня там никого нет…
И только пришельцы смело отправляются в незнакомые времена и места, и проходят через костры инквизиции, и умирают в армии Спартака, но все же остаются живыми и возвращаются, чтобы сесть в ракету в отправиться в дальние небеса, откуда они пришли на землю.
Аборигены удивляются их энергии, аборигены знают закон сохранения энергии, поэтому они сохраняют свою энергию, а пришельцы расходуют, потому что слабо разбираются в этих законах. И под какой закон можно подвести шапку-невидимку, их излюбленный головней убор?
Если бы на аборигена надеть шапку-невидимку, абориген бы смертельно обиделся, потому что увидел бы, что к нему относятся, как к пустому месту. Возможно, к нему и раньше так относились, но столь явно этого не показывали, — такое случается среди аборигенов, в отличие от пришельцев, которые ничего не умеют скрыть. Пришелец никогда не станет раскланиваться с пустым местом и спрашивать у него:
— Как делишки? Как детишки? Что-то вас давно не видать…
— Скажите, вы не видели кошечку? Маленькую такую, серенькую?
— Вам нужна кошка? Мы вам десяток наберем.
— Да нет, мне нужна одна. Маленькая такая, серенькая…
Оставалось полчаса до отлета, и женщина боялась, что не успеет найти эту кошечку, которую она и узнать-то как следует не успела. Они встретились за много километров отсюда, где кошечке было плохо, и женщина взяла ее с собой, а теперь потеряла в чужом для кошечки городе, в многолюдном и шумном аэропорту. Как она здесь будет, среди чужих? Получается, будто ее обманули: завезли в такую даль и бросили. Боже мой, ведь ее никто не хотел бросать, ее только на минутку выпустили из рук, а она прыгнула куда-то в подвал, испугавшись шума мотора. Женщина обошла все подвалы, но и позвать-то она как следует не могла: ведь они и об имени кошечкином не успели договориться.
— Такая маленькая, серенькая…
— Мы вам десяток наберем, — отвечали ей те, для кого все кошки серы. Кошкой больше, кошкой меньше — что от этого изменится на земле?
Для аборигенов ничто не изменится, у них свои прочно насиженные места. Плацкартные, купейные, мягкие места. Даже в троллейбусе абориген устраивается так, словно собирается провести в нем остаток жизни. И где бы он ни находился, в какой бы должности ни служил, для него главное — не потерять это место. Плацкартное, купейное, мягкое. Потому что на всех необъятных просторах земли для него важно лишь это насиженное, наложенное место. Он не считает себя на этом месте пришельцем, он уверен, что он этого места абориген.
Я хотел бы навсегда остаться пришельцем…
Но время проходит, и пришельцы становятся аборигенами. Они перестают мотаться по всем пространствам и временам, усваивают закон сохранения энергии, они узнают, что означает слово «нельзя», привыкают к нему и уважают больше, чем слово «можно». Они любят вспоминать о том, как были пришельцами, но к той поре относятся снисходительно, с добродушной усмешкой:
— По ночам мы искали в траве падающие звезды. Представляете: звезды в траве!
Но не все пришельцы становятся аборигенами, некоторые из них остаются пришельцами — навсегда. Смешные, нескладные, хотя внешне мало отличающиеся от аборигенов, они живут пришельцами на земле, как живут все земные пришельцы. И они шагают по этой земле, подставляя ветру свои поредевшие волосы, и не могут найти себе постоянного места, и всюду им достается за то, что они нарушают законы аборигенов, — у пришельцев нет своих законов, и им приходится жить по законам аборигенов, и они нарушают их, не умея понять, потому что до конца жизни остаются пришельцами…
Все говорят о пришельцах, все ждут пришельцев, а они давным-давно живут на земле. В каждом доме, в каждой семье есть хотя бы один пришелец
Район деревни Старокопытовки
Это было осенью 1941-го года. Фашисты захватили деревню Старокопытовку, а Миша Коркин, простой советский школьник, закончивший пятый класс с одними пятерками, подался в партизаны, в старокопытовские леса.
Найти партизан было не просто — если б их найти было просто, фашисты бы их нашли. Поэтому Миша Коркин на первых порах решил действовать в одиночку. Он пустил под откос эшелон, поджег склад горючего и только тогда встретил первого партизана.
Партизан был старик, кряжистый и приземистый, в белом маскхалате, хотя до зимы было еще далеко. Видно, летнего маскхалата у старика не было, а ходить совсем без маскхалата было небезопасно. Без маскхалата солдат не солдат, а мишень.
— Сократ, — назвался старик. Видно, это была партизанская кличка.
— Миша, — представился Миша.
— Странное имя. Никогда не слыхал. Ты, наверно, нездешний?
— Нездешний. Я к бабушке приехал, а тут война. Вот я и подался в лес, к партизанам.
— К партизанам? Никогда не слыхал.
«Конспирируется, — сообразил Миша. — Сам партизан, а прикидывается, будто ничего не слышал о партизанах».
— Я тоже не слышал… — сказал Миша, чтоб старик не подумал, что имеет дело с каким-нибудь болтуном. Известно, болтун — находка для шпиона.
Оба помолчали — в целях конспирации.
Первым заговорил Сократ.
— Обстановка тяжелая, — сказал он. — К Старокопытовке стянуты основные силы противника, а нас с тобой только двое.
— Воюют не числом, а умением, — напомнил Миша Сократу суворовские слова.
— Оно, конечно, — кивнул тот в ответ. — Но дело в том, что и умения маловато. В военной специальности я, как говорится, знаю только то, что ничего не знаю.
«Под настоящего Сократа работает, — подумал Миша. — Тот тоже знал, что ничего не знает, а на самом деле…»
— Я понимаю, почему вы так говорите, — подмигнул Миша старому партизану. — Этого требует воинский устав. Вдруг поймают, начнут пытать, а ты: «Знаю только то, что ничего не знаю». Или среди своих встретишь замаскированного врага. Чем языком болтать, — «знаю то, что ничего не знаю».
— Чем язык короче, тем жизнь длинней, — сказал старик старую истину. Умный оказался старик. Может, его за ум Сократом прозвали.
Он поправил на себе свое белое одеяние, чтоб выглядеть поприличней. Но какое тут приличие! Умный человек, а как будто из сумасшедшего дома сбежал. Нет, маскхалат нужно носить по сезону.
— Что же нам — самостоятельно действовать или пробиваться к своим?
Пробиваться к своим старик решительно отказался. Видно, его оставили здесь с заданием, он должен был действовать в тылу врага.
Миша его успокоил:
— Я думал, не через линию фронта, а здесь, в тылу. Пробиваться к партизанам, идти на соединение.
— К партизанам согласен. Но не к своим. Идти к своим категорически отказываюсь.
«А разве партизаны — не свои?» — хотел спросить Миша, но не спросил. Кто ж у этого старика свои, если ему партизаны чужие?
Вот тебе и Старокопытовские леса. Тут и вправду не знаешь, с кем встретишься.
Миша решил не терять бдительности. Бдительность такое дело: раз потеряешь, потом свищи.
У старика оказалась вырытая землянка.
— Это еще с Троянской войны, — объяснил он, принимая Мишу за дурачка-двоечника.
Он не знал, что у Миши по истории одни пятерки. На каждом уроке пятерка, а то и не одна. Иногда за урок две-три пятерки.
Как бы Миша не знал про Троянскую войну? Он знал, что она была совсем в другом месте, да и так давно, что любую землянку за это время засыпало бы. Но он сделал вид, что знает только то, что ничего не знает. Вдруг враг подслушивает, вдруг он послан специально, чтобы разведать о Троянской войне?
Хотя не исключено, что старый партизан шутит. Может, он просто любит историю. Оттого и Сократом назвался, и приплел ни к селу ни к городу Троянскую войну.
Скорей всего так и было, но бдительности терять не следовало. Этот белый балахон тоже наталкивает на размышления: халат не халат, а что-то совсем непонятное. Ни врачи, ни десантники таких халатов не носят.
В их отряде старик, конечно, стал командиром. А Миша стал его заместителем. Комиссаром и начальником штаба. А главное — начальником разведки, вот о какой должности Миша всю жизнь мечтал.
Впрочем, старый Сократ не очень командовал. Он больше любил поговорить. Задавал вопросы и наталкивал на верный ответ. Если б на уроках так спрашивали, было бы легко заниматься.
Землянка их напоминала землянку не военных, а мирных лет. Кладовка была битком набита продуктами, в печи весело потрескивали дрова, и варились всякие вкусные вещи, а боевой командир спрашивал у своего боевого комиссара:
— А скажи, Миша: воевать — это хорошо?
— Хорошо! — отвечал Миша. Ему очень хотелось воевать.
— Значит, фашисты хорошо делают, что воюют с нами?
С этим Миша, конечно, не соглашался. Фашисты на нас напали, а мы защищаемся. Мы ведем справедливую войну. А они — несправедливую.
Командир разливал по тарелкам суп, нарезал хлеб и говорил, приступая к обеду:
— Значит, нападать — это плохо? Что ж ты так на еду напал?
Миша ел так, что за ушами хрустело.
— На еду — это хорошо!
— Почему хорошо?
— Потому что голодный.
— Значит, голодным быть хорошо?
И чего он все расспрашивает? — думал Миша. — Как шпион какой-нибудь.
И Миша сам переходил в наступление:
— А в нижнем белье разгуливать — это хорошо? Как будто вы из какой-нибудь больницы сбежали.
— Это не белье, это такая одежда. А сбежал я действительно. Хотя никуда не бегал. Шагу не сделал. Но — сбежал. Меня, между прочим, уже принимали за сумасшедшего. Как скажу, что я Сократ, так сразу и говорят: сумасшедший.
— Подумаешь! У нас собаку зовут Сократ. И ничего. Нормальная собака.
Так они мирно обедали, хотя вокруг было военное время. Потом Миша, как начальник штаба, предлагал разработать план операции, но командир с этим не спешил.
— Ну куда ты торопишься? Поел — отдохни. Только не спеши, это после обеда самое вредное.
Миша с тоской вспоминал, как он пускал под откос эшелоны, как поджигал склады с горючим, сколько бы он еще мог сделать, если б не встретил этого сумасшедшего старика. Устроился тут в лесу, как в мирное время на курорте.
А может, он специально заброшен в лес, чтобы тормозить партизанское движение? Чтобы не давать настоящим партизанам вести против оккупантов освободительную борьбу?
Но лицо у него честное, хорошее лицо. Если б не этот дурацкий балахон, выглядел бы вполне умным человеком.
И еще кличка эта — Сократ. Разве это имя для народного мстителя? Спартак — другое дело. Вождь восставших рабов. Или, допустим, Степан Разин.
Партизанский отряд Степана Разина идет на соединение с отрядом Чапаева. Тут немцы сразу побегут, от одной этой вести.
— Досидимся мы здесь, пока начнут лес прочесывать, — говорил Миша, выражая мнение штаба, который он возглавлял.
— А пускай прочесывают. Мы будем через болота уходить.
— Что ж, они нас не догонят через болота?
— Не успеют. Там, на болоте, трава цикута растет. Только примут ее — и все, поминай как звали.
— А чего они вдруг ее примут?
— Ты думаешь, можно не принимать? — Сократ посмотрел на Мишу очень серьезно.
— Странно вы рассуждаете. С какой стати враг будет делать то, что хочется нам? И вообще: воюют не травой, а оружием.
— Это верно, — сказал Сократ в раздумье. — Значит, ты считаешь — не принимать?
— Да плюньте вы на эту траву! Нашли время заниматься ботаникой. Сейчас только две науки заслуживают внимания: история и военное дело.
Они гуляли по Старокопытовским лесам, — верней, Сократ гулял, а Миша осматривал местность. Иногда он влезал на дерево, откуда деревня Старокопытовка была вся как на ладони. Она была зеленая от немецких войск, от их танков, бронемашин и прочей техники. Жителей видно не было: то ли они попрятались, то ли все ушли в партизаны.
— Надо нам добывать оружие, — говорил комиссар старому командиру.
— А оружие — это добро или зло?
— Если оно у врага — зло, конечно. Ну, а если у нас, — добро.
— Значит, ты хочешь из зла сделать добро? Но так не бывает. Из добра можно сделать зло, если его слишком много, но так, чтобы зло превратить в добро, этого я не слыхал.
— А почему ты говоришь, что фашисты — звери? Разве так бывает? Может быть, они просто люди, оказавшиеся на месте зверей? Самое страшное, когда человек не на своем месте. Помню, я однажды пошел в театр. Ну, где и когда — уточнять не будем. Давно это было и не здесь. Купил я билет, захожу в зал, а там людей битком, все места заняты. Как зашумели на меня все: кто он такой, откуда взялся? Я им говорю: у меня, мол, билет. Тут они совсем рассвирепели. Это, мол, еще нужно посмотреть, что за билет, на какой спектакль да из какого театра. В общем, вытолкали меня из зала, даже не стали смотреть на билет. А почему? Как ты думаешь, почему? Потому что все они там были безбилетчики, все занимали чужие места. Потому и смотрели зверем на каждого человека: а вдруг он предъявит на их место билет? Вот так посредственность зверем смотрит на талант, потому что он претендует на свое законное место. И она готова, чтоб обрушился мир, лишь бы удержать это чужое место… Так бурьян глушит вокруг себя культурные растения, чтоб утвердиться на месте, которое по праву ему не принадлежит.
Что-то он больно много говорил, этот Сократ. Сам занял место партизана, а воевать и не собирается. А если ты воевать не хочешь, какой же из тебя партизан?
— Надо действовать, — говорил Миша.
— Будем действовать, — отвечал Сократ. — Есть у меня секретное оружие. Такое оружие, что ни одного фашиста не останется и в помине.
Врал, конечно. Разве бывает такое оружие? Если это бомба, которая уничтожит всех врагов, так она уничтожит не только врагов. Бомба не будет спрашивать, фашист или не фашист, она не станет проверять документы.
Да и нет у него никакой бомбы. Просто не хочет воевать. Но зачем тогда ходить по лесам, строить из себя партизана? Сидел бы у себя дома на печке и чужого места не занимал. Сам же говорит — хуже нет как занимать чужое место.
Так раздумывал Миша, слушая беседы Сократа.
Долго он их слушал. И наконец не выдержал.
Однажды темной ночью, когда командир крепко спал, Миша поднял по тревоге отряд и повел его в деревню Старокопытовку.
Деревня тоже крепко спала. Не спали только вооруженные до зубов часовые. Это было очень кстати, что они были вооружены. Их стоило только разоружить — чтобы самому вооружиться.
Первого часового Миша снял ударом полена по голове, остальных — с применением оружия. Того самого, которое было злом, но теперь, попав в Мишины руки, стало добром.
Так, по дороге снимая часовых, Миша приблизился к немецкой комендатуре. Она расположилась в здании клуба, куда Миша бегал смотреть кино, когда приезжал в гости к бабушке.
Забросать клуб гранатами было делом одной секунды, но Миша медлил. Кончится война, подрастут дети, которые сейчас еще маленькие, и куда они будут бегать в кино?
Не хотелось оставлять деревню без клуба. Но война есть война. Клуб можно новый построить, только бы оккупантов выгнать с родной земли.
И Миша бросил в окно связку гранат, отобранных у фашистов. И еще в одно окно связку гранат.
И, отстреливаясь, начал отходить к лесу.
Огородами.
Но по дороге попался сад.
Это был сад Лысого, у которого они до войны трясли груши. Конечно, Лысый стал сейчас полицаем. Или даже старостой. Он и тогда, до войны, был злющий, как черт. Можно было бы и ему бросить в окно связочку, но было жаль семью Лысого. Не должна семья страдать из-за одного предателя и негодяя.
И все же припугнуть его стоило. Миша решительно шагнул к окну, но в это время кто-то схватил его за ухо.
Миша узнал знакомую руку.
Да, это был Лысый, он всегда незаметно подкрадывался.
Но на этот раз он просчитался. Миша наставил на него автомат, и Лысый заскулил, запросил пощады.
— Признавайся, — сказал Миша, — на немцев работаешь?
— Работаю, — признался Лысый. — Людей не хватает, все люди в партизаны ушли. Кому-то ж надо и на немцев работать.
— Кем работаешь? Старостой или полицаем?
— И старостой, и полицаем. По совместительству. Я ж говорю: людей не хватает. У партизан хватает, а у нас нет. Хотя материально мы лучше обеспечены.
Они обеспечены! Вот негодяй!
— Ладно, отложим разговор до прихода наших. А пока предупреждаю: за уши никого не таскать. Узнаю, что притесняешь жителей, плохо будет. Не уточняю — кому.
— Я понимаю, понимаю! — закивал Лысый. — А теперь сюда, пожалуйста! он распахнул перед Мишей калитку.
Миша сделал шаг и тут же оказался на земле. Это Лысый ему дал подножку, навалился на него и заломил руки за спину.
Утром Мишу вели на казнь. У него на груди была табличка с надписью: «Партизан», — и он, конечно, был партизан, раз фашисты это сами признали.
Всю ночь его пытали, но он ничего не сказал. Фашисты выбились из сил, и их пришлось отливать водой, чтоб они могли продолжать работу.
Отливал их Лысый. Мишу ему не пришлось отливать, потому что Миша и без того хорошо держался.
Как говорил Сократ, сила не существует сама по себе, она всегда в союзе с добром или злом, причем добро у нее в числителе, а зло — в знаменателе. Чем больше добра, тем больше силы, чем больше зла, тем меньше силы. Поэтому справедливость всегда сильнее несправедливости.
Так говорил Сократ. Возможно, он потому и не спешил воевать, что понимал: справедливость и без него восторжествует.
К месту казни была стянута вся живая сила и техника — так силен был страх гитлеровцев перед единственным партизаном. Мирные жители, которых насильно пригнали к месту казни, изо всех сил крепились, чтобы не плакать. Возле виселицы была прибита табличка: «За слезы — расстрел». К Мише это не имело отношения, но он все равно не плакал.
Он не дрогнул, когда ему накинули на шею петлю. Он только посмотрел вдаль…
И увидел старика в белом балахоне.
Старый Сократ стремительно приближался к месту казни, и при виде его палач стал хохотать и никак не мог попасть сапогом по табуретке.
И другие фашисты захохотали — до того у Сократа был нелепый вид. Это позволило ему пройти мимо охраны и подняться на эшафот. Одной рукой он взял Мишу за руку, а другую поднял, требуя внимания.
— Ахтунг! Ахтунг! — сказал он по-немецки, чтоб долго не объяснять. Сейчас вы все исчезнете. Я долго терпел этот сон, но больше я терпеть не намерен. Сейчас я проснусь — и вы исчезнете. Потому что все вы мне снитесь, господа!
— Ну, это мы еще поглядим, — сказал немецкий обер-лейтенант и приказал Лысому: — Живо еще одну веревку и еще одну табуретку.
— Не трудитесь, — сказал Сократ. — С веревкой или без веревки, все равно вы исчезнете. Я уснул, чтобы попасть в хорошее время, а попал черт знает куда. И этого терпеть не намерен.
— Глупости, — сказал обер-лейтенант. — Не может быть, чтобы весь наш вермахт, весь наш фатерлянд снился какому-то бродяге… Что, у нас уже сниться некому?
— У вас — некому. Потому что все вы мне снитесь. Мне, а не кому-то другому.
Он говорил до того убедительно, что некоторые начали сомневаться. А что, если он проснется и мы — тю-тю? Сон — это до того загадочное явление, что никогда не знаешь, кому ты снишься в данный момент.
— Дайте ему снотворное, — приказал обер-лейтенант. — А уже потом накинем петлю на шею.
— Крепись, Миша! — шепнул командир своему комиссару. — Я специально взял тебя за руку, чтобы ты не исчез.
Страх охватил оккупационную армию. Солдаты, презиравшие смерть, вдруг стали относиться к ней с уважением. Они повалились на колени и заныли:
— Не просыпайся, фройнд! Гитлер капут! Миру мир, война войне!
Но Сократ не переменил решения.
— Прощайте, — сказал он, — надеюсь, мы больше не встретимся.
И сразу все куда-то исчезли. Остались только Сократ и Миша, которого он держал за руку.
Они сидели на опушке леса, похожего на старокопытовский, а внизу, у их ног, лежал город. То ли Новгород в прошлом, то ли Старокопытовка в будущем.
— Кажется, я не совсем проснулся, — сказал командир отряда. — Я проснулся из сна в сон. Из одного сна в другой. Ну что ж, поглядим, что нам здесь покажут.
Они сидели и глядели. Как в театре с верхнего яруса.
— Извини, — сказал Сократ, — не предупредил тебя, что ты мне снишься. Ты-то думал, что на самом деле живешь… Так многие думают… А это все я. Взял, уснул — и сразу все ожили.
— Я не ожил, — сказал Миша, — я уже двенадцать лет живу.
— Это кажется. Когда ты снишься, всегда кажется, что живешь. Лучше, конечно, присниться умному человеку. Это интересней, чем какому-нибудь дураку.
— Ну, вы-то человек умный. Сократ. А я думал, это партизанская кличка.
— Вот видишь, ты думал. Не живешь, а думаешь. А другие не думают, хотя и живут.
— Не представляю себе, как это я не живу. Мне казалось, что это вы не живете. Давно не живете. Потому что жили вы еще до нашей эры, не помню, в каком году.
Сократ улыбнулся сочувственно:
— Не знаю, про какую эру ты говоришь, но наша эра пока продолжается. Хотя я в ней уже почти не живу. Невозможно мне стало в ней жить, совсем невозможно.
Он замолчал и долго смотрел на город, лежащий внизу.
— А ты думал, я струсил, не хочу воевать? Ну какой мне смысл воевать, если вы мне все снитесь?
— Может, вам и Гитлер приснился, и вся мировая война?
— Приснились, — вздохнул Сократ, словно извиняясь. — Было б тебе легче, если б ты приснился какому-нибудь дураку. У дурака на уме одни развлечения. Вот и развлекался бы с ним вместе. Но для себя я бы этого не хотел. Сниться дураку — пустое занятие. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Хотя умным такое снится… То кому-то рубят голову, то на костре сжигают. Ты слыхал про такое?
— Слыхал.
— Наверно, я тебе сон рассказывал. У меня такая привычка: человек мне снится, а я ему другой сон рассказываю. Наверно, это нехорошо. Неэтично.
— Еще неизвестно, кто кому рассказывает, — сказал Миша Коркин.
— Приснится же такой недоверчивый! — рассмеялся Сократ. — Ты спасибо скажи, что я не совсем проснулся, тогда б ты вовсе исчез. Перетащить из сна в сон — это я могу, но так, чтоб кого-то из сна в действительность… Не выйдет. Иначе мы б наплодили народу на земле. Каждый стал бы тащить из своих снов в действительность, это ж какой бы получился демографический взрыв!
«Откуда он знает про демографический взрыв?» — с сомнением думал Миша.
— Не стану говорить, что я только из-за тебя не проснулся, были у меня и личные соображения. Не хотелось мне в нашу действительность возвращаться. Нет, не подумай, действительность у нас объективно хорошая, только для меня субъективно плохая. Должен я там принять яд. Цикуту. А кому ж ее пить хочется? После нее уже не уснешь, но и, с другой стороны, не проснешься. Нелепое состояние, правда: ни проснуться, ни уснуть?
— Разве так бывает?
— В твоем возрасте — нет. Кажется, что не бывает. А на самом деле — еще как! Не во сне, конечно, а в действительности. Сон, понимаешь, тем хорош, что в нем всегда есть возможность проснуться. И вообще я сны больше люблю. Это как разные страны, между которыми вовсе нет расстояния. В каких только я странах не побывал! Помню, был в одной… Она там, во сне, называлась Италией. И был там один художник. Такие картины рисовал! Как же его звали? Что-то с тигром связанное… Нет, с леопардом…
— Леонардо да Винчи?
— Ты смотри! Оказывается, его даже в других снах знают.
— У меня есть его альбом.
— Неужели? Значит, напечатали! Он все жаловался: мол, не хотят печатать. Такое бывает в самых умных снах: бездарностей печатают, а талантливых не хотят печатать. Но все же рано или поздно… Как этого художника… Все же напечатали… И даже в других снах…
Сократ задумался, вспоминая Леонардо да Винчи.
— Ох и смеялся он надо мной! Надо мной всюду смеются, где я ни появлюсь. Один мне знаешь что сказал, когда я ему назвался? Каждый шут, говорит, в каком-то веке Сократ. В одном-единственном веке он Сократ, а в остальных — шут. Это, говорит, самое трудное: найти тот век, в котором ты можешь быть Сократом. Умный был человек…
— А вы — нашли?
— Я-то нашел. Только меня в этом веке убивают. Был бы я шутом, мог бы жить, а Сократом — убивают. Заставляют принять цикуту, смертельный яд. Я потому и уснул — и вот стараюсь не просыпаться. Брожу, понимаешь, из сна в сон, несчастный изгнанник действительности.
— Вам бы только одежду сменить, — посоветовал Миша. — А имя — это ничего, у нас еще не так людей называют.
— Откуда ж я возьму другую одежду? Какая, как говорится, есть. Какая снится. Одному богатство снится, и он у себя во сне как сыр в масле катается, а другой едва наготу прикрывает.
— У нас все равны, — сказал Миша.
— Все видят один сон? Но это тоже нехорошо, если все в один сон набьются. Люди должны видеть разное, иначе сон — это не сон. Как-то я, помню, из одного сна проснулся в другой. Смотрю: на площади людей видимо-невидимо. Но шума никакого: все молчат. Потом один вылез на трибуну и начинает говорить, что, мол, они снятся какому-то дураку, нехорошему человеку, что этого человека надо гнать… Я, конечно, постарался затеряться в толпе, чтоб меня не заметили. Но тут оратора стали тащить с трибуны, стали кричать, что он ошибается и что к нему нужно применить строгие меры. Что после того, как они столько лет молчали, им слушать такое прямо-таки не к лицу, а оратор этот пусть лучше где-нибудь пересидит, пока они привыкнут высказывать свое мнение. Тогда другой вылез на трибуну и стал говорить, что дело совсем не в том, кому они снятся, а в том, что они просто не умеют сниться. Не умеют и не хотят. Привыкли сниться лишь бы как, спустя рукава, через пень-колоду, вместо того, чтоб сниться не смыкая глаз, не покладая рук и так далее. Тут на него зашикали, стали тащить с трибуны, говорить, что его мнение ошибочное и что пусть он пока где-нибудь пересидит. Ну, я не выдержал, вышел на трибуну, но стал так, чтоб никто не заметил, что они снятся мне. И говорю: «Как же так? Вы столько лет молчали, что вокруг уже стали сомневаться, умеете ли вы вообще разговаривать, а теперь, когда кто-то высказал мнение… пусть даже ошибочное… Ведь вы же сами себя пугаете. Если вы твердо не будете знать, что можно высказать ошибочное мнение, что за это вас никуда не потащат, никуда не привлекут, ведь вы же опять замолчите и ни у кого слова не вытянешь.» Тут они стали кричать, что мое мнение тоже ошибочное, и я поспешил затеряться в толпе. Ну скажи, Миша, можно спать, когда тебе такие снятся?
Старый человек любит жаловаться. Мишин дедушка — тот вообще исписал в городе все жалобные книги. Если б еще эти книги кто-то читал. Дедушка жалуется, что у нас вообще больше пишут, чем читают.
— Ты посмотри, какая на нас туча несется, — сказал Сократ, опять прерывая молчание. — То ли смерч, то ли ураган. Никогда не видал такого количества пыли.
Такого количества пыли вообще не видел никто. Как будто вся земля стряхнула ее с себя — вроде собаки, которая отряхивается, выходя из воды на берег.
Туча приближалась быстрей, чем бывает в подобных случаях. Она, эта туча, небесная или земная, пожирала все небесные и земные цвета, не оставляя ничего, кроме серости.
— Знаешь сказочку про серого волка? — спросил Сократ. — Ну-ка, скажи, что в сером волке самое страшное?
— Зубы?
— Нет, не зубы.
— Когти?
— Нет, не когти. Самое страшное в волке — это его серый цвет. Потому что он объединяет волка со всеми серыми. А серых на земле знаешь сколько? Как пылинок в этой туче пыли. Вот они и объединяются. Кровожадность волка с трусостью зайца и глупостью осла.
— А зачем волку трусость зайца и глупость осла?
— Они все друг другу нужны, потому что все они серые. Они утверждают торжество серости на земле. И при этом, конечно, каждый отстаивает свои интересы.
— Такой сказки я не слыхал, — сказал Миша.
— А это не сказка. В каких я страшных снах ни бывал, и всюду самое страшное — это серость. Она не терпит ничего яркого, все яркое норовит сожрать, потому что на фоне яркого особенно видна ее серость. Однажды, помню, мне снился Моцарт, великий человек. И что ты думаешь? Его съели… Нет, не съели… — Сократ задумался. — Как же это? Вроде съели… Нет, как-то иначе… Съели? Нет, не съели… Сальери! Вот! Сальери, представляешь? И нет Моцарта. Ну, и в других снах не лучше… В одном сне перед самой войной всех великих полководцев съели… Нет, что это я? Не съели, а так, как этого Моцарта. Ну да, Сальери, именно Сальери… Перед самой войной…
Туча приближалась, и теперь уже можно было ее рассмотреть.
— Это не туча, — сказал Миша Коркин. — Это татаро-монголы идут на древний Новгород. Сейчас они его сожгут, разорят. Эх, жаль, мы у фашистов не прихватили оружия.
— У серости свое оружие, — продолжал прежнюю мысль Сократ. — Ее оружие — подозрительность. Взять под сомнение древний Новгород — и тогда делай с ним, что хочешь. Можно даже внушить, что под именем древнего Новгорода скрывается какая-нибудь Аддис-Абеба. Помню, как-то я видел сон…
— Опять вы со своими снами! Ну прямо как Обломов какой-нибудь!
— Это какой Обломов?
— Из литературы. Мы в школе учили «Сон Обломова».
— Сон Обломова? Не бывал. В этом сне я не бывал… Вернее, он во мне не бывал… То есть, мне не снился.
— Как же он мог сниться вам, когда он снился Обломову?
— А ты-то как о нем знаешь? Сидишь в моем сне и знаешь?.. — Сократ вздохнул. — Ну и дети пошли. Заткнут за пояс любого взрослого.
Татаро-монгольская туча приближалась.
— Примем бой или пропустим и ударим с тыла?
— Какой бой? С какого тыла? Сейчас я возьму тебя за руку и ка-ак проснусь! И тогда — не завидую я этим татаро-монголам.
— С тыла бы ударить, — вздохнул Миша. — Только нечем. Нам бы один пулемет, и мы бы спасли древний Новгород.
— Держись за меня крепче, — сказал Сократ. — Раз, два… Три!
Их хорошенько тряхнуло на стыке двух снов, и опять они на опушке леса. Только другого. И город перед ними. Только другой. И туча — только с другой стороны — несется на город.
— Сколько всюду пыли, — сказал Сократ. — Нет нигде спасенья от серости.
— Далась вам эта серость!
— А что ты думаешь? Она же отовсюду наступает на человека! И разве только на человека? Надвинется туча — и сразу серым становится день, закроет посредственность белый свет — и сразу мир поглупеет.
— Это вандалы, — сказал Миша. — Это они несутся на Древний Рим. Сейчас от него останутся только развалины.
— Ну что ты скажешь? Не дают человеку поспать. Такое делают в этих снах, почище, чем в действительности.
— Был бы у нас пулемет, мы бы им показали. С этими вандалами без пулемета нельзя.
— Интересно ты рассуждаешь! Туда пулемет, сюда пулемет… Всех сначала перекосить, а потом жить в мире и согласии?
— Я же не всех, я только вандалов…
— А он разбирается? Он же глупый, он сам не знает, куда палит. Поверни его туда — он туда палит, поверни сюда — он сюда… Нет, брат Миша, с ними нужно не так. С ними нужно по-моему: раз — и…
Их опять тряхнуло — и исчезло войско вандальское. А город остался. Только уже в другом веке. За четыре века до исторического нашествия.
Хорошо, что Миша так здорово знал историю. Иначе ни Риму, ни Новгороду несдобровать.
Но Сократ, конечно, думал, что это все из-за его снов. Перескочил из сна в сон — и конец вандальскому нашествию.
— А ты говоришь — пулемет. Разве под пулемет поспишь? Помню я, в одном сне… Человек плывет по реке, а по нему палят из пулеметов. Раненый он, еле плывет… Хорошо, что я подоспел, подхватил его…
— Чапаева?
— Ну да. Чапаева. Проснулся с ним в другой сон. Отдохни, говорю, подлечись. Так что ты думаешь? Он сразу собрал народ, вышел с ним на Сенатскую площадь…
— Это Чапаев?
— А кто ж еще? Я еле подоспел, а то б его там повесили. Ну, думаю, от греха подальше — проснулся с ним сюда, в Древний Рим. Так он — что бы ты думал? Поднял восстание рабов…
— Чапаев?
— Ясно, что не Деникин. Деникин на такое дело не пойдет.
Ну и каша была в голове у него по истории… Все исторические события перепутались, не поймешь, что, где, когда…
— А что же дальше было с Чапаевым?
— Проснулся я с ним в какие-то далекие будущие времена. Пусть там посидит, подождет. Чем в прошлых временах погибать, лучше спокойно дождаться будущего.
— Ну и философия у вас, — сказал Миша.
— Философия. Если хочешь знать, философия всегда спасала человека. Политика его губила, а философия выносила из огня. Вот как сюда, например. Слышишь, как тихо? Можно какое-то время спокойно поспать.
Разговорился Сократ. Пришлось Мише внести предложение: может, посмотреть город? Все же как-никак Древний Рим…
Небо было ясное, нигде не было видно туч. Ни вандалов, ни татаро-монголов. Старый философ из древних времен шел по дороге с мальчиком из новейшего времени, и кто-то кому-то явно снился. Только вот кто? И кому?
У входа в город им повстречался человек, тоже в белом балахоне, но сшитом несколько на другой манер.
— Сенека!
— Сократ!
Два великих философа обнялись, как родные.
— Это Миша, — представил Сократ мальчика. — Из другого моего сна.
— А ты все такой же, — засмеялся Сенека. — И по-прежнему говоришь загадками. Что значит — из сна? И что значит — Миша?
Настроение у Сенеки было хорошее, хотя сегодня ему предстояло умереть. Его собственный ученик приговорил его к смерти.
— Разве бывают такие ученики? — удивился Миша. Он и сам был ученик, но никогда не поступил бы так с учителем. Конечно, и учителя бывают разные, но приговорить к смерти — это уже слишком.
— А какая смерть? — спросил Сократ. Он знал в этом деле толк, поскольку сам был приговорен к смерти.
— Надо вскрыть вены, но никто не хочет брать это дело на себя. Я приговорен стать жертвой и убийцей одновременно.
— У меня тот же случай. Только я должен принять яд.
Они говорили об этом спокойно, и оба были в хорошем настроении. Истинные философы не меняют настроения. У них одно настроение на всю жизнь.
Заговорили о том, что никак не удается искоренить в жизни плохое, потому что многие научились из плохого делать хорошее. Из плохого для общества — хорошее для себя лично. И если не останется в жизни плохого, то им просто не из чего будет делать хорошее. И им уже не будет так хорошо, как прежде. Какой-нибудь бездельник, занимавший крупный пост и получавший кучу благ от своей подлости, — что он будет делать, если подлость упадет в цене? Поднимется в цене порядочность, а у него ее нет, что же ему — идти по миру? Вот положение!
Все это взрослые разговоры. Не только для Миши взрослые, но даже для многих взрослых людей. Когда сойдутся два философа, у них такие разговоры, что только в учебниках можно читать, а просто так и слушать не хочется. У себя дома, когда такое начинали говорить, Миша просто старался выйти из комнаты, а здесь, в Древнем Риме, не знаешь, куда выйти, куда войти. Вместо того, чтобы город смотреть, только теряешь драгоценное древнеримское время.
Ну, партизаны! Каждый из них партизан в своем времени, проводит диверсии в пользу будущих времен.
Заговорили об учениках. Сократ был доволен своими учениками, а Сенека недоволен, хотя у него был всего один ученик. Может, все дело в том, что он был императором? Хочешь испытать ученика, дай ему власть.
— Представляешь: поджег Рим, чтоб полюбоваться пожаром. А замечания делать не смей. Больше всего он не любит замечаний.
— Кто ж их любит? — улыбнулся Сократ.
— Вот сейчас приду домой и вскрою себе вены. Хватит с меня этой педагогической деятельности.
Мише стало неловко. Он тоже был ученик, а значит, был частично повинен в том, что некоторые учителя вынуждены вскрывать себе вены.
— Вы его на педсовет вызовите, — предложил он наиболее суровый способ воздействия.
— Какой там педсовет! Из педсовета никого в живых не осталось. И из родительского комитета тоже: этот мой воспитанник убил свою собственную мать.
Да, дисциплинка у них… У Миши в школе тоже с этим неважно, но педсовет и родительский комитет пока действуют.
— Если б не то, что он император, — вздохнул Сенека. — Он ведь и умный, и способный. Не был бы императором, был бы просто замечательный человек.
Сократ сказал:
— Считай, что он последний день император. Стоит мне проснуться, и он исчезнет, как дурной сон. Вы ведь мне снитесь, и хоть в жизни у меня никакой власти нет, но над своими снами я властен.
Но Сенека был умный человек. И не такая у него была жизнь, чтобы она могла кому-то присниться.
— А может, это ты мне снишься, Сократ? Ты ведь жил раньше, откуда ж тебе меня знать? А я о тебе слыхал, значит, ты мне можешь присниться.
— А Миша? Мы с ним прошли не один сон. Значит, и он тебе снится?
— И Миша снится. А почему бы и нет?
Миша совсем растерялся. Значит, все эти события и вообще вся его жизнь снилась не Сократу, а Сенеке?
— Э, нет, — сказал Сократ. — Мы с Мишей столько прошли, столько повидали. И фашистов, и вандалов, и татарское нашествие. И вот теперь еще ваш император… Как его?
— Нерон.
— Ну, вот, и о Нероне услышали. Тоже во сне. Чего только не увидишь, не услышишь во сне. Мне однажды, вы не поверите, Наполеон приснился. Как будто был такой император, захватил всю Европу и тоже напал на страну, где мы с Мишей партизанили. Ты партизанил с Мишей? А я партизанил. Так кому же он снится, я тебя спрашиваю?
— Вы говорили о Наполеоне, — сказал Миша, не желая быть яблоком раздора.
— Да, не поздоровилось этому Наполеону! Так же, как потом этому… Как его звали, Миша?
— Гитлер.
— Вот-вот, Гитлер. Ему бы тоже не поздоровилось, если б я не проснулся. Но я проснулся только для того, чтоб Мишу спасти. А так бы я подождал, когда бы его разделали. Вроде тевтонских рыцарей. Как их в Чудском озере топили! Я специально не просыпался, пока их не прикончили всех до одного…
Сократ рассказывал свои сны, а Миша рассматривал город. Что-то его заинтересовало чуть дальше, и он отошел чуть дальше… Потом еще и еще дальше… И потерял из виду великих философов.
Они этого не заметили. Наконец-то у них появилась возможность поговорить друг с другом.
Между тем Миша, разглядывая древние здания, дошел до самого дворца. Тут-то его схватили и привели к императору.
— Этот мальчишка, — доложил начальник стражи, — утверждает, что он здесь не живет, что он только снится…
— Кому же? — насторожился Нерон.
— Он говорит: либо Сократу, либо Сенеке. Одному из этих философов. Но Сократ отпадает: покойники не видят снов. Остается Сенека.
Нерон подошел к Мише, потрепал его по щеке.
— Такой хороший мальчик, а снится врагу престола. Почему ты не снишься своему императору?
Миша молчал.
— Как зовут тебя, мальчик?
Миша поднял глаза на Нерона и твердо сказал:
— Вы от меня ничего не узнаете.
— О, ты грубиян! Когда знакомятся, говорят имя. Вот меня зовут Нерон, а тебя?
Миша молчал.
— Значит, снишься Сенеке, врагу империи. А ведь за это дело… Что у нас за это дело? — спросил он у начальника стражи и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Да, за это дело у нас… В общем, строго. Так как тебя зовут?
— Миша…
Нет, это сказал не Миша. Миша молчал. Если он не испугался фашистов, то испугается он какого-то императора!
Миша молчал. Это сказал кто-то рядом. Сначала тихо, потом громче:
— Миша!
И еще громче:
— Миша! Миша, проснись!
И Миша проснулся.
Он сидел за столом, положив голову на десятитомник «Всемирной истории». За его спиной стояла мама и строго спрашивала:
— Это ты так учишь историю? Ой, смотри, не видать тебе деревни Старокопытовки, бабушке двоечники не нужны.
Вот и выяснилось, кто кому снился. Все-таки неправ был Сократ. И неправ был Сенека. Ошибались великие философы. Это они снились Мише, и вандалы снились, и татары, и фашисты, — вся эта история зависела сейчас от того, будет он дальше спать или проснется.
Он бы, конечно, спал дальше, хотя бы ради истории. Но пришлось просыпаться. И сразу все ушло далеко-далеко. И Древний Рим, и татарское нашествие, и даже Отечественная война, которая уже сорок лет как окончилась.
— Так-то, товарищ Сократ, — сказал Миша, раскрывая том «Всемирной истории». Со страницы на него смотрел Сократ.
— Так-то, Миша, — сказал Сократ. — Получишь по истории двойку, не видать тебе деревни Старокопытовки…
Нет, наверно, это сказал не Сократ. Это опять сказала Мишина мама.
Я угнал машину времени
1. Миг отъезда, миг приезда — один миг
Опять угнали Машину Времени. За последние пятьсот лет это преступление приобрело массовый характер, оставив позади угон спутников и космических кораблей: романтическое стремление познать иные миры не вызывает столь частого нарушения уголовного кодекса, как тяга в иные времена — будущие или прошедшие. Может быть, потому, что современность дана человеку от рождения, а прошлое и будущее приобретается нелегким опытом жизни. Что имеем, не храним. Что приобретаем, не храним. По-настоящему мы храним лишь то, чего не имеем.
Вот потому и не сидится людям в своем времени, им кажется, что самый золотой век где-то в прошлом или в будущем, а на их долю выпало самое неудачное время. Спору нет, бывают времена поприглядней, но если все устремятся в эти лучшие времена, то в настоящем времени жить будет некому. А если никто не будет жить в настоящем, то никто не будет жить и в будущем. Поэтому подлинная забота о будущем — это забота о настоящем.
Что касается инспектора службы розыска Шмита, то он считает так: все эти прогулки в другие времена — от избалованности техническим прогрессом. Когда у человека не было выбора, когда для него и передвижение в пространстве было затруднительно, тогда он все больше на месте сидел: и своим временем дорожил, да и у других не отнимал времени. А так — мотайся за ними по всем векам…
И вот опять угнали Машину Времени…
Это случилось в разгар встречи Нового, 4119 года. Значит, преступник, если учесть технические возможности современных машин, мог попасть в годы: 1149, 1194, 1419, 1491, 1914, 1941, 4191, 4911, 9114, 9141 и 9411. Вот тут-то и есть над чем поразмыслить службе розыска.
Если угон совершен в самом начале года, значит, преступнику нужен был именно этот год, чтобы попасть в соответствующий год прошлого или будущего. Но в будущем годы все одинаковы, поэтому, если преступник выбирает определенный пункт назначения, можно с уверенностью сказать, что искать его нужно в прошлом. Иногда преступник десятки лет ждет, когда пробьет час его преступления. Так было в 4113 году, когда француз Жан Морисьер угнал Машину в 1431 год, чтобы спасти от костра свою соотечественницу. Служба розыска настигла его в 3114 году, где он пытался выяснить у крупнейшего специалиста по истории Франции Жюля Крюшона (3037–3179), не пострадает ли история Франции, если Жанна д'Арк не будет казнена. Так было и в 3992 году, когда земляк великого Капабланки отправился в 2399 год, чтобы сыграть в шахматы с великим Алехиным — не тем великим Алехиным (1892–1946), а другим великим Алехиным (2321–2399)… Земляк Капабланки проиграл, конечно, Алехину, как когда-то сам Капабланка проиграл его однофамильцу.
А буквально в прошлом, 4118 году русский поэт Коростылев угнал Машину в 1841 год, чтобы драться на дуэли вместо своего любимого Лермонтова. Служба розыска не проявила достаточной оперативности, и Коростылев успел попасть в нужный ему год и даже подраться на дуэли, правда, не вместо Лермонтова, а вместо другого офицера, которого он второпях принял за Лермонтова. Впоследствии, вернувшись в свое время, он издал поэму «Наедине с Мартыновым», в которой довольно точно описал, — конечно, не Мартынова, а другого офицера.
Больше всего бродит по дорогам времени отпускников. Когда-то человеку давали месячный отпуск, и этот месяц был, в сущности, потерянным временем. Сейчас вместо отпуска человеку дают Машину Времени, которая отвозит его в какое-нибудь благоприятное время для отдыха и возвращает на исходную временную точку. Сослуживцы и глазом не успеют моргнуть, а он уже здесь, вернулся из отпуска. Только и заметят, что он внезапно изменился: поздоровел, загорел.
Сложнее обстоит дело с командировками. Есть немало любителей за счет командировки позагорать на морском берегу, провести в командировке не день, а год — чужого времени учесть невозможно. Отдельные ловкачи проводят в другом времени чуть ли не всю жизнь. Живет человек со своей семьей, никуда вроде не отлучается. Только вдруг начинает быстро стареть. По документам ему тридцать три, а на вид — все девяносто. Он, разумеется, и прожил девяносто, только не здесь, а в другом времени. Здесь он еще молодой отец, а где-то — прадедушка. Говорят, такие вещи и раньше бывали, но тогда человек просто менял семью, а теперь он меняет время.
Инспектор Шмит всю жизнь только и делает, что мотается по командировкам, но, как человек дисциплинированный, всегда возвращается своевременно — в ту секунду, из которой отбыл. И лишь однажды, двенадцать лет назад, он вернулся из командировки через час после отбытия. Он ездил тогда в 1407 год и на обратном пути не нашел нужную секунду. С тех пор его жена уверена, что в 1407 году у мужа ее кто-то есть. Первые несколько лет После этой злосчастной поездки инспектор пытался ее разубеждать, рисуя дикие нравы этого года и очерняя его красавиц, которые ему и вправду пришлись не по душе. Еще он объяснял жене, что в 1407 год, куда он ездил в 4107-м, в следующий раз он мог бы попасть не раньше чем через шестьдесят лет, однако и это обстоятельство жену не убедило. Она по-прежнему не доверяет этому году и старательно вычитывает о нем все самое худшее, что может найти в исторической литературе.
— Через секунду я вернусь, дорогая!
Инспектор целует жену, и она успокаивается. Она всегда успокаивается, когда муж ее целует, а когда он ее не целует, она начинает беспокоиться, даже если он никуда не собирается уезжать. Таковы женщины, думает инспектор Шмит и, вздохнув, обобщает эту житейскую мысль: а может быть, таковы и мужчины…
МАШИНА ВРЕМЕНИ (Историческая справка)
Задолго до того как Машина Времени вошла в повседневный быт, она уже устарела в научно-фантастической литературе. Поэтому когда она была в самом деле изобретена, к ней отнеслись без всякого уважения. Ее великий изобретатель Антуан Шерль (3172–3299) десять лет пытался доказать, что опубликованное им описание Машины — не художественный вымысел, а серьезный научный труд, но ему никого не удавалось убедить, так как фантасты во все времена выдавали вымысел за достоверность.
Антуан Шерль, часовщик по профессии, заинтересовался проблемой времени больше, чем того требовала его основная работа. Сходство в устройстве часов и спидометра натолкнуло его на мысль о связи между временем и пространством. А поскольку передвижение в пространстве было человеком давно освоено, оставалось найти для него соответствующий временной аналог, чем он и занялся в часы, свободные от основной работы.
Замечательный мастер своего дела, он стал мастером еще одного дела, не своего, — заняв почетное место в ряду Великих Мастеров Не Своего Дела. Юристы Франсуа Виет (1540–1603) и Пьер Ферма (1601–1665), сделавшие большие открытия в математике, музыкант Гершель (1738–1822), открывший планету Уран, коммерсант Шлиман (1822–1890), раскопавший Трою, телеграфист Эдисон (1847–1931), врач Чехов (1860–1904), кинорежиссер Конрад Штюмпф (2739–2951), увеличивший скорость света для быстрейшей связи с внеземными цивилизациями, — все это были Мастера Не Своего Дела, но дела, особенно пригодившегося человечеству. Никто не знает, как играл актер Шекспир, но как он писал, это известно каждому.
Машина Времени Антуана Шерля на десять лет потонула в океане научной и псевдонаучной фантастики, но по прошествии этого времени ей удалось всплыть и предъявить свои права на реальность. Вначале ее использовали для получения проб различных времен, исследования временных пластов с неглубоким залеганием, а также на других вспомогательных работах. Тем временем изобретатель Машины продолжал ремонтировать часы, не без основания полагая, что путешествия в иные времена невозможны без точного знания своего времени. Незадолго до смерти он написал завещание, в котором просил перевезти его тело для захоронения на его временную родину — в 3172 год, дабы он мог сам присматривать за своей могилой. Воля умирающего, однако, не была исполнена, — чтоб не омрачать жизнь живого Антуана и не отвлекать его от изобретения Машины Времени, необходимой не мертвым, а живым.
2. Перелет со скоростью 500 лет в час
Расстояние в три тысячи лет было покрыто за шесть с половиной часов такова скорость служебной Машины Времени. Инспектор начал с самой отдаленной точки, чтобы отрезать преступнику пути к отступлению.
1149 год… Король французский Людовик VII и император германский Конрад III привели к бесславному завершению второй крестовый поход, потеряв в нем свое миллионное войско. В Риме антипапское восстание под руководством Арнольда Брешианского реставрировало республику и готовилось к реставрации монархии и сожжению своего вождя. Население византийского острова Корфу, восставшее против императора Мануила, отдало свой остров норманнам, попав, по словам летописца, из дыма податей в пламя рабства.
Может быть, угнавший Машину Времени хотел поспеть к окончанию крестового похода? Чтобы помочь своим просвещенным советом разгромленным королю и императору? Три тысячи лет истории просветят кого угодно, и, если вернуться в древность, можно в ней выгодно отличиться. В сорок втором веке еще встречаются любители показывать свою просвещенность там, где ее легче показать. В своем-то веке они не блещут, вот и забираются куда-нибудь вглубь, удивляют непросвещенный народ своими просвещенными фокусами.
Как будто в нашем сорок втором веке нет своих нерешенных проблем. Но кому их решать, если одни живут прошлым, другие — будущим? Прежде люди так не мотались по временам, у них было только два средства передвижения: для поездок в будущее — мечта и для поездок в прошлое — память. Теперь же у них — ни памяти, ни мечты: все заменила Машина Времени.
Инспектор Шмит предпочитает старые средства передвижения, поэтому о нем говорят, что он морально устарел. Стоит человеку задержаться на какой-нибудь ступеньке морали — и уже он морально устарел. Так устаревающая мораль машин переносится на нестареющую мораль человека. Машина пересоздает человека по своему образу и подобию.
Но инспектора ей пересоздать не удастся. Как человек старой школы, он вообще не особенно доверяет технике, а больше полагается на работу мысли. Во-первых, потому, что техника часто ломается, а во-вторых, даже исправная, она не может заменить человека, если у человека голова на плечах. Инспектор и дома, в семейной жизни, пытается избегать модных технических усовершенствований и даже отказался от услуг механического воспитателя «ЭВ-Песталоцци».
Приземлившись на заднем дворе резиденции герцога Швабского, которому предстояло через три года стать императором Барбароссой, инспектор облачился в костюм астролога и направился в замок, где герцог занимался своим обычным делом — принимал гостей. На столе громоздился жареный бык, раздираемый на куски лоснящимися от жира руками, а рядом на вертеле жарился второй бык.
Герцог восседал во главе стола, и по левую его руку была красавица азиатка, привезенная им, вероятно, из злосчастного похода, а по правую молодой человек, показавшийся инспектору подозрительным, потому что он что-то шептал герцогу, возможно, подбивая его на третий (1189–1192) крестовый поход, а возможно, наоборот, отговаривая…
Бык, громоздившийся на столе, худел буквально на глазах, как можно худеть лишь от длительной голодовки. Но, конечно, здесь не было голодовки. Гости работали челюстями вдвойне: перемалывая пищу и последние политические новости и совмещая таким образом трудносовместимые интересы.
Красавица азиатка смеялась: герцог был еще молод, и он совершил такой далекий поход, чтобы привезти ее, красавицу азиатку. Она что-то говорила на своем непонятном языке, но понимать ее было вовсе не обязательно, ничего существенного она говорить не могла. И герцог не слушал ее, а лишь рассеянно похлопывал по спине и время от времени целовал, — впрочем с меньшей страстью, чем спустя тридцать лет целовал туфлю папы Александра III, заглаживая перед ним свою многолетнюю вину.
Появление астролога никого не заинтересовало — мало ли их бродило по дорогам в тот век? Только собеседник герцога бросил на астролога быстрый взгляд, словно угадав за его безобидной внешностью весьма обидное и даже опасное для себя содержание.
— Ваша светлость, не соблаговолите ли выслушать ученого человека, который, руководствуясь указанием звезд, предскажет течение вашей жизни?
— Пошел вон! — ответил герцог в средневековой манере. — Киньте ему кусок мяса.
— Спасибо, ваша светлость, я сыт.
Этот ответ озадачил герцога: среди своих гостей ему еще не приходилось видеть сытого человека.
— В таком случае пусть проваливает, — вмешался в разговор его собеседник. — Мало нам Арнольда и всей его ученой компании? У нас палкой кинь — попадешь в ученого.
Сидящие поблизости гости захохотали, и кто-то из них крикнул:
— Жертвую на ученого пятьсот палок!
— Молчать! — водворил тишину герцог. — Я разрешаю астрологу говорить. Мне интересно знать, что обо мне думают звезды. — Он не сомневался, что звезды о нем думают.
То, что для герцога было таинственным будущим, для человека из пятого тысячелетия было хорошо известным и даже изрядно забытым прошлым, и он, напрягая память, стал его излагать:
— Звезды утверждают, что через три года вы, ваша светлость, станете вашим величеством, императором германских земель. Вы завоюете много стран, потом потеряете много стран и закончите свою жизнь на дне азиатской речушки.
— Азиатской речушки? — герцог отодвинулся от красавицы. — Ты что мелешь? Да я тебя за такие слова!..
— Ваша светлость, я говорю правду.
— Правду! — зал так и ахнул. — Вы слышали? Он говорит правду!
Здесь никто не говорил правды: этого не позволял этикет.
— Нет, ты все-таки скажи: с какой стати меня опять понесет в Азию?
— Это будет в третьем крестовом походе.
Герцог расхохотался:
— Ну, насчет третьего похода твои звезды совсем заврались, хватит с меня второго крестового похода.
— Зачем же вы тогда его предпринимали?
— Соблазнила романтика первого: Готфрид Бульонский, Раймонд Тулузский… Но теперь я знаю, что это за романтика, на собственной шкуре испытал. Больше меня не втянешь в такие дела, уж я себя знаю!
Если б он знал себя так, как его впоследствии узнала история!
— А Милан? Может, вы и Милан не разрушите, не сровняете с землей?
— Зачем? Прекрасный город, стоит полторы тысячи лет, с какой стати я стану его разрушать, за кого ты меня принимаешь? — Герцог покачал головой: — Ну и наговорили тебе про меня эти звезды. Я человек совсем не такой.
— Не такой, пока не стали императором.
— Лучше пусть я никогда не стану императором, — сказал будущий император Фридрих Барбаросса, — лучше пусть я навсегда останусь герцогом, чем ввяжусь хоть в какую-нибудь войну. Мы, люди, знающие, что такое война, предпочитаем жить в мире. И вообще я противник войны.
Да, он был противник войны, он вынашивал совсем не те планы, которые ему впоследствии пришлось осуществить. Иногда жизнь человека складывается неожиданно для него самого, но он не замечает этого, потому что всякий раз смотрит на нее другими глазами.
— А если что случится, — сказал Барбаросса, — если с Миланом что-то случится, то… там виднее… — он поднял глаза вверх, к всезнающим звездам.
— Ну, тогда пропадай, как собака! — откровенно высказался инспектор, но тотчас спохватился, что выбрал неудачное время и место для откровенности: — Извините, ваша светлость… Звезды подсказывают, что закончите вы свой жизненный путь в год Собаки…
3. Ян-1941
Я угнал Машину Времени.
Я не преступник, я историк. Моя тема — движение Сопротивления в период второй мировой войны. Роясь в архивах, я обнаружил маленький отряд, действовавший в Восточных Карпатах. Сведения об этом отряде были скудные: несколько строк в донесении гестапо высшему командованию, сбивчивые и подчас противоречивые рассказы очевидцев, пересказанные третьими лицами. Точной была дата ликвидации отряда: 9 сентября 1941 года.
По-видимому, отряд состоял из пяти человек. Есть указания и на то, что их было шестеро, но это менее вероятно: в донесении гестапо (гитлеровской полиции) сказано, что отряд состоял из четырех мужчин и одной женщины. Но в других материалах почему-то названы два женских имени: Марыся и Анна. Вероятно, здесь какая-то путаница, вызванная, может быть, тем, что отряд носил название «Анна». Слишком необычное название для отряда, поэтому его, возможно, сочли за имя участницы. Из мужчин названы Стась и Збышек, остальные ни разу не упомянуты. Особый интерес представляет фотокопия письма, вернее, трех его строчек (самого письма не удалось отыскать): «…до последнего своего часа она не могла поверить, что их предал человек, которого они считали своим, а главное — человек, которого она…» По всей вероятности, отряд предал один из его членов. Правда, профессор Посмыш считает, что из письма не ясно, идет ли речь о членах отряда или о людях, каким-то образом с ним связанных. «Она», говорит профессор, может быть, просто женщина, узнавшая о предательстве близкого ей человека («их предал» вовсе не означает, что и ее в том числе). И человек, говорит профессор, которого считают в отряде своим, вовсе не обязательно член этого отряда.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому я и угнал Машину Времени. Доказательство не корректное, но до корректности ли, когда на носу защита? Человек — хозяин времени и должен вести себя, как хозяин. Это в прошлом, в далеком прошлом человек был бессилен перед временем, а сейчас…
Мы праздновали Новый год. Острили по поводу уходящего года, в честь наступающего провозглашали пышные тосты. В разгар праздника ко мне подошел профессор Посмыш и, с присущим ему юмором, преподнес мне книгу «Теория множеств» с многозначительной надписью: «Янек, это как раз то, чего вам не хватало!» Потом я танцевал с Наташей, самой красивой аспиранткой нашей кафедры, потом спорил с Коткевичем о древности цивилизации в каком-то, уж не помню в каком, созвездии (глупо, конечно: Коткевич специалист по истории звездных цивилизаций), потом я опять танцевал с Наташей, а потом… Потом я угнал Машину Времени.
В архивных материалах сохранилась самодельная карта, по которой прослеживается путь отряда. В начале пути стоит дата — 21 августа. Вероятно, в этот день произошло какое-то событие, какая-то важная операция или стычка с врагом. Мне эта дата помогла прибыть в место нахождения отряда, иначе бы я его не нашел. Сколько раз я прошел этот путь, — правда, позже на два тысячелетия, но я не думал, что он может быть таким трудным.
По этому пути я иду. Высадившись на расстоянии более чем двух тысяч лет от родного дома, я иду по древним карпатским лесам… Из литературы я знаю, что были когда-то на земле скопления диких деревьев, а также дикие животные, обитавшие не в заповедниках, а в неохраняемых местах, где их жизнь подвергалась постоянной опасности. Если б за ними своевременно не установили надзор, они бы вымерли, как вымерли в свое время лисицы. О лисицах я читал прекрасную книгу Франсуа Леберье «Ископаемое пламя». Он назвал свою книгу так, потому что лисицы были цвета пламени.
Вдалеке слышатся выстрелы. Идет война. Странно сознавать, что где-то рядом идет война, хотя все войны кончились за две тысячи лет до твоего рождения. Тяжелые сапоги, брюки, почти не сгибающиеся в шагу, и тяжелая сумка через плечо — таков мой вид, понятный людям этого времени.
Вторая мировая война по своим масштабам превосходит все, что до нее знала история. Если бы в Троянской войне приняло участие все население земного шара, включая женщин, стариков и детей, и даже население не открытых еще континентов, и если бы половина всего этого населения была уничтожена, а вторая искалечена, то это равнялось бы количеству жертв второй мировой войны. Если бы вандалы, сокрушившие великую Римскую империю, обнесли ее колючей проволокой и уничтожили всех ее жителей, то это равнялось бы количеству убитых фашистами в лагерях смерти. И если бы на каждого узника фашистских концлагерей приходился всего один метр колючей проволоки, то всей этой проволокой можно было бы трижды опоясать по экватору земной шар. Ни у одного рабовладельческого государства не было столько рабов, как у цивилизованной Германии середины двадцатого века.
Я чувствую, как мной начинает овладевать какое-то незнакомое ощущение, и догадываюсь, что это, возможно, страх. У нас я его не знал, значит, чувство это рождается обстановкой. Но ведь люди, которые жили в этой обстановке и воевали в этих лесах, тоже не знали страха. И ведь они не могли из своего страшного века сбежать, они, как к галере, были прикованы к своему времени. Значит, обстановка может и не рождать страх… Тогда что же все-таки его порождает?
— Стой!
Я останавливаюсь. Он подходит ко мне, волоча за собой винтовку.
— Кто такой?
Лет ему, наверно, не больше семнадцати. Видимо, зная за собой этот грех, он старается говорить по-взрослому строго.
Я отвечаю, что я учитель из Люблина. На всякий случай выбираю город подальше, во избежание неожиданных земляков. Но тогда что я делаю здесь, в карпатском лесу? На этот вопрос я отвечаю со всей прямотой:
— Ищу Стася. Или Збышека.
Иногда приходится говорить правду. Чтобы ложь выглядела убедительней.
— Збышека? — он по-настоящему поражен, но тут же говорит с безразличием, в котором сквозит плохо скрытая гордость: — Збышек — это я. Что дальше?
— Я пришел к вам в отряд.
— Откуда ты знаешь об отряде?
И тут мне пригодилось более широкое знание материала, чего от меня всегда добивался профессор Посмыш:
— Мне сказал один человек из отряда Мариана. Он шел к вам, но не дошел, его ранило при бомбежке, и он умер у меня на руках.
Збышек задумчиво смотрит на меня, решая трудную задачу: верить или не верить? С одной стороны, чужой человек из Люблина, оказавшийся вдруг в карпатском лесу, но, с другой стороны, раз я знаю его, Збышека, значит, я не такой уж чужой человек.
Но не так-то просто поверить человеку. Особенно в те времена.
— Знаю я вашего брата учителя. — Видно, еще свежи у него школьные обиды.
Впрочем, смотрит он на меня без вражды и даже, можно сказать, с симпатией. Наверно, ему приятно, что я уже знал о нем, когда он обо мне и не слышал. Он говорит, что я могу дождаться Стася, это даже необходимо, чтоб мы с ним встретились. Но тут же предупреждает, чтоб я не воображал, будто он мне поверил.
Из-за деревьев вышла девушка. Таких девушек я еще не видел. Могу ручаться, что у нас таких нет.
— Принимай гостя, — сказал ей Збышек, не без удовольствия пользуясь правом отдавать приказания. — Покорми. Чаем напои. Там разберемся.
В нашем времени еще утро, а здесь уже день. Разница часов пять, как между Люблином и Тобольском. Мы углубляемся в чащу и останавливаемся перед входом в землянку. В словаре устаревших слов Окаяцу сказано, что землянка — это вырытое в земле помещение, служившее одновременно и укрытием, и жилищем. В спокойное время люди возводили дворцы, а в тревожное зарывались в землю. Землянка — это дворец тревожного военного времени.
Стол, две-три колоды, заменяющие стулья, несколько лежанок у стен — вот и вся обстановка землянки. Все очень старое, сохранившееся, быть может, с прошлой войны.
Я сажусь на колоду, девушка наливает мне в кружку кипяток.
— Меня зовут Ян.
— А меня Анна.
— Не Марыся?
— Почему Марыся?
Не так-то просто ей объяснить почему.
— Мне казалось, что в таком отряде, как ваш, девушку должны звать Марысей.
Анна кладет передо мной три картофелины — популярную еду тех времен.
— Так вы учитель? Я тоже хотела стать учительницей, только война помешала. Кончится война — обязательно стану учительницей.
Кипяток из моей кружки выплескивается на стол. Для нее война никогда не кончится, а еще верней — кончится очень скоро. Ей жить еще восемнадцать дней, до 9 сентября. Сегодня 21 августа.
— Что с вами?
— Нет, ничего. — Я не осмеливаюсь на нее взглянуть, как будто это я приговорил ее к смерти. Если б я мог их спасти! И ее, и Стася, и Збышека… Но они уже история, а историю не изменишь…
— Я поступлю в Краковский университет. Вы какой кончали?
Университет, который я кончал, будет построен через полторы тысячи лет, поэтому я сказал, что кончил университет в Люблине.
— В Краковском учился Коперник. А в Люблине… Может, и Люблин прославится своим университетом, но сейчас он знаменит другим…
Это мне понятно. В одном из докладов Гиммлеру о созданных концлагерях под номером шестым значится: «Люблин».
— Со временем это забудется.
— В другом времени. Но в нашем времени — нет.
Она сказала «в другом времени», как бы отгораживая себя от меня, будто она знала, что мое время — это не ее время.
— Как вы думаете, меня примут в отряд?
— Конечно, примут. Людей у нас не хватает. Вот Вацек…
Вацек! Новое имя. В материалах архива ни разу не упомянуто.
— Что Вацек?
— Он ушел неделю назад. — Голос ее дрогнул. — И с тех пор его нет. Может быть, он убит…
«…она не могла поверить, что их предал человек, которого она…
Может быть, это Вацек?
Когда возвращаешься в прошлое, чувствуешь себя, как Гулливер среди лилипутов. Я возвышаюсь над этим двадцатым веком, упираясь головой в пятое тысячелетие, и все мне наперед известно, а для них загадка даже завтрашний день. Они берут эту жизнь шаг за шагом и, лишь оглядываясь назад, определяют, в каком они шли направлении. Для меня же весь их путь как на ладони, я знаю начало его и конец. Но того, что мне нужно узнать, я не знаю.
— Как вы думаете, это скоро кончится?
— Что кончится?
— Война.
Я точно знаю, когда кончится война. Она кончится 9 мая 1945 года. Но для Анны она кончится раньше. Намного раньше. И я отвечаю:
— Война кончится через восемнадцать дней.
4. Назад, в будущее
1149 год остался позади, и теперь инспектор следовал назад, в будущее… Хорошо возвращаться в будущее. Такое впечатление, что возвращаешься домой. Для некоторых прошлое — родной дом, и они всю жизнь вспоминают о нем: «Вот было когда-то…» Но для тех, кто, подобно инспектору, живет в далеких будущих временах, родной дом, естественно, в будущем, и они к нему тянутся: «Вот когда-нибудь будет
Фридрих Барбаросса расстался с инспектором холодно, он сказал, что слышать не хочет ни о каких походах, что всю свою дальнейшую жизнь посвятит исключительно мирной деятельности. План Барбароссы был грандиозен, но истории известно, как он был осуществлен.
Полистав исторический справочник, инспектор пришел к грустному выводу, что в 1194 году не было никаких событий. Ничто в этот год не началось и не пришло к своему завершению, а продолжалось то, что было начато раньше. На папском престоле уже три года сидел дряхлый Целестин III, и оставалось ему сидеть еще четыре года. Прошло два года, как союзники Барбароссы Ричард I и Филипп II вернулись из третьего крестового похода и теперь потихоньку воевали между собой. В Азербайджане продолжал творить поэт Низами, в Китае философ Чжу Си продолжал предаваться своим размышлениям. А в Грузии продолжала царить прекрасная Тамар и великий Руставели продолжал ее воспевать.
Все продолжалось в этом незнаменитом году, ничто не началось и не завершилось. Тибетское государство Си-Ся достигло своего расцвета и продолжало расцветать. Но уже вступил в пору своей злодейской зрелости Темучин, который под именем печально знаменитого Чингисхана разгромит государство Си-Ся, и страну Низами, и страну прекрасной Тамар, а напоследок вторично разгромит государство Си-Ся, но не переживет этой победы, потому что нельзя дважды уничтожить одно государство, даже такое процветающее, как государство Си-Ся.
Машина идет сравнительно плавно, лишь иногда ее трясет в особенно трудных временах — в эпохи кровопролитных войн и восстаний — или слегка подбрасывает в годы переворотов и заговоров. И вдруг инспектор замечает: стрелка темпоморта отклонилась от нуля…
Термин «темпоморт» происходит от латинского слова «темпо» — время и «морт» — смерть. Но он совсем не означает, как это легко догадаться, временную смерть, он, напротив, означает мертвое время. Поскольку Машина рассчитана лишь на остановки в определенных годах, все остальные годы являются для нее мертвыми, то есть такими, остановка в которых невозможна. В безаварийном полете стрелка темпоморта находится на нуле, и колебание ее означает, что в Машине что-то неладно. Но что именно?
Инспектор взглянул на унбеграб (указатель неисправностей, от немецкого «дас ист дер хунд беграбен» — «вот где собака зарыта»). Но указатель неисправностей показывал только собственную неисправность.
А может быть, сел транзистор? (От латинского слова «транз» — проходить и греческого «истор» — история.) Но если бы сел транзистор, накапливающий энергию, необходимую для движения во времени, то авария была бы мгновенной.
Скорей всего кончилось горючее. Верней, не кончилось, кончиться оно не могло, потому что двигатель питается воздухом, а засорился воздухопровод. Надо будет его прочистить на первой же остановке. Кстати, вот и она, остановка: 1194 год.
Год без событий… Чем же он мог привлечь преступника? Может, его соблазнили прелести царицы цариц? Но тогда он должен был отправиться к ней в прошлом, 4118 году, чтобы попасть в год 1184, когда Тамар взошла на престол и еще не успела выйти замуж за своего первого мужа Юрия Боголюбского.
И тут инспектора осенило. Преступник угнал Машину в самом начале 4119 года не потому, что спешил ее угнать в этом году, а потому, что не успел угнать ее в прошлом. Что-то ему помешало, и он, вместо того чтобы прибыть к воцарению, прибыл на десять лет позже, когда Тамар, уже не такая, как в былые годы, красавица, жила со своим вторым мужем и воспитывала двоих детей.
Инспектор прочистил воздухопровод, проверил унбеграб, темпоморт и особенно тщательно — транзистор. Надежно замаскировав Машину в ущелье, он облачился в костюм грузинского поселянина второй половины XII века и направился во дворец.
На дворцовой площади толпился народ. Настроив свои речевые центры на древнегрузинский язык — замечательное изобретение основоположника физиологической филологии Урхо Кааляйнена (3711–3845), избавившее человечество от изнуряющего изучения иностранных языков, — инспектор спросил у сидящего на завалинке старика:
— Ожидаем царицу, папаша?
— Ожидаем, милок, — ответил старик, тоже по-древнегрузински.
— Поздновато она встает.
— Так ведь царица. Тебя бы царем поставить, ты б до вечера спал.
— Кто рано встает, папаша, тому бог дает.
— Это какой бог? — старик насторожился. — Ты случайно не из мусульман?
— Да нет, я из наших. Из православных.
— Тогда другой разговор. Это ты верно сказал насчет бога. Только бог ведь тоже дает по-разному: одним дает все, другим дает ничего.
— Как это — дает ничего?
— А так. Вроде бы и дает, глядишь, а в руках-то пусто.
— Значит, ничего не дает?
— Этого сказать нельзя. Бог — он всем дает, только по-разному: одним все, другим ничего. Ты берешь, а в руках — пусто.
Старик попался разговорчивый. Он говорил о боге много и с уважением, но говорил так, словно проводил антирелигиозную пропаганду. И все, что он воздавал богу, превращалось в это самое «ничего».
Потом он высказал сожаление по поводу нелегкой царской судьбы: царица вроде и замужем, а без мужа. Муж Давид все воюет, покоряет разные страны и племена, для державы-то хорошо, а как для семьи?
— Мы-то люди маленькие, мы все больше думаем о семье. А державные люди должны думать о державе.
Инспектору показалось, что он и своим царям воздает так же, как богу: вроде бы все, а в сущности — ничего.
Рядом появился высокий юноша, с негрузинскими глазами и белокурой копной на голове. Увидев старика, он поспешил от него отвернуться. Странная для грузина внешность этого паренька, а также поспешность, с которой он отвернулся от, видимо, что-то знавшего о нем тифлисца, показались инспектору подозрительными.
— Что, парень, тоже царицу ждешь?
— Не тебя же мне ждать, дурака, — ответил тот на чистейшем древнегрузинском наречии. Возможно, это был его язык, но не исключено, что он просто настроил свои речевые центры по методу Урхо Кааляйнена.
— Не ругайся, малыш, не в средневековье живешь.
— Почему же? Именно в средневековье.
Он попался! Не станет средневековый человек называть свое время средневековьем, для него оно — самое новейшее время.
— Вы арестованы, — сказал инспектор на международном языке пятого тысячелетия, чтобы навостривший уши старик ничего не понял.
— Как вы сказали? — этот вопрос был задан с невинным видом, но на том же языке будущих времен. Сомнений больше не оставалось.
Толпа вокруг быстро начала редеть, и это можно было объяснить воздействием на средневековых грузин незнакомого им наречия. Может быть, они подумали, что среди них появились сельджукские огузы, их могущественные и давние враги. Это они, огузы, в прошлом столетии сожгли город Кутаиси, захватили город Тбилиси, впрочем, пока еще не Тбилиси, а Тифлис. Или потом Тифлис, а тогда Тбилиси?
Толпа рассеялась. Старик тоже исчез, видимо, опасаясь, что его станут обращать в мусульманство.
Инспектор отвел задержанного подальше от дворца, где им не могла помешать царская стража. Когда они остались одни среди пустынных скал и ущелий, молодой человек сказал:
— Я так рад встретить современника. Десять лет на чужбине — это тяжело. Как там у нас сейчас? Солнечный мост на Нептуне уже построили? А что Кубичек? Открыл четыреста пятьдесят второй элемент? А как отозвалась критика о последнем романе Ван Чанга?
Инспектор службы розыска Шмит чувствовал себя последним невеждой. Он ничего не слышал о Кубичеке, не читал не только последнего, но и первого романа Ван Чанга, не знал, что на Нептуне строится какой-то мост, и даже стыдно сказать — был уверен, что в таблице Менделеева всего триста восемьдесят элементов. Поэтому вместо ответа он спросил:
— Вы прибыли в 1184 год. Значит, вы отправились из 4118-го?
— Из 4811-го.
Теперь все стало ясно: и мост на Нептуне, и четыреста пятьдесят второй элемент таблицы Менделеева, и даже то, что молодой человек не понял простой фразы «Вы арестованы», которая, впрочем, уже в век инспектора стала до известной степени архаизмом.
— И служба розыска не обеспокоена вашим исчезновением?
— А что она может сделать? 4811 год кончился, а из 4812-го можно попасть только в 1248 год. Через пятьдесят лет по местному времени.
— Я бы вас забрал, хотя и у нас вам бы пришлось подождать десяток лет, но это уже не пятьдесят… Только вот Машина у меня двухместная, а мне нужно прихватить еще одного человека.
— Здесь никого из вашего времени нет.
— Откуда вы знаете?
— Мы здесь всех знаем, у нас тут столько народа из разных времен! Видели, как они разбежались, когда мы с вами заговорили? Только все они из других времен. Из самых разных. Этот старик, с которым вы разговаривали, прикидывается местным жителем, но и он такой же, как мы. Где он только не побывал, наскитался по разным временам, пока сюда добрался: из его года прямого сообщения нет. Состарился, бедняга, в дороге, так и жизнь прошла.
— А зачем он ехал?
— Как и все: посмотреть на царицу Тамар. Ну, когда он был молодой, ему, понятно, хотелось на нее посмотреть, а теперь это ему ни к чему. Но он ходит, смотрит. Чтоб не получилось, что жизнь прожил зря.
— Почему же вы сразу не уехали? Посмотрели бы на царицу и уехали.
— Мы так и думали. Но когда посмотришь на царицу Тамар, хочется посмотреть еще раз… Так мы и остались. Ходим, смотрим на царицу Тамар. А на сердце такая тоска — каждого тянет на родину. Мы тут собираемся в сакле у одного шведа из шестого тысячелетия. Вспоминаем. Каждый свое время вспоминает, свою родину. Вот погодите, и вы будете вспоминать, когда немного здесь поживете.
Удивительно, думал инспектор. Тысячелетиями человек мечтал одержать победу над временем, и вот теперь, когда победа одержана, когда свобода от времени — достояние каждого человека, он снова стремится себя закабалить… Видно, такая это свобода… Не может человек быть свободен от времени, даже если он исколесит все времена, потому что, в сущности, не он по временам колесит, а по нему колесит время. Беспощадное время, которое настигает нас в любом веке, в любом тысячелетии, чтобы отобрать у нас минуту, час или год нашей жизни… И никакая Машина Времени не возместит нам отобранный час или год.
Инспектор заверил этого несчастного робинзона, что, как только вернется домой, непременно пришлет за ним кого-нибудь из спасательной службы. Молодой человек заволновался:
— Вы постарайтесь не смотреть на царицу Тамар, иначе нам никогда не выбраться из этого времени.
— Если я и посмотрю, то только глазами инспектора.
— Глаза есть глаза. А Тамар есть Тамар. Лучше не рисковать.
Инспектор вдруг почувствовал, что теряет в себе уверенность. Если рисковать, то в интересах дела, а так — зачем рисковать?
— Вообще-то я ищу совсем другого человека…
— Вашего человека здесь нет.
— Но он мог прибыть сегодня ночью. Или к утру.
— Когда бы он ни прибыл, это сразу становится известно. У нас есть человек из восемьдесят пятого века, там очень развита телепатия. Этот человек на расстоянии чувствует иновременную мысль. Кстати, он грузин, знает здесь каждый уголок, от него нигде не скроешься. Вы думаете, он вас не почувствовал? Почувствовал, и если сюда не пришел, то лишь потому, что на расстоянии участвует в нашем разговоре: принимает наши мысли и передает нам свои.
— Выходит, что мы высказываем не свои мысли?
— И свои, и не свои…
— Может, и то, что вы мне сейчас говорили, вам внушил телепат?
Молодой человек смутился:
— Да нет, он не все внушил… Так, некоторые мысли…
— Какие именно?
— Я точно не знаю… Может, эту… чтоб вернуться домой… Мне и самому хочется домой, но он ревнует меня к царице Тамар и рад от меня избавиться… Вы думаете, он вам не внушает?
— Что же он мне внушает?
— Да хотя бы ваше решение приехать за мной. Это он вам внушает, чтоб поскорей от меня избавиться. Так что не сомневайтесь: если б здесь был тот, кого вы ищете, телепат бы вам внушил, где его найти, чтоб избавиться от конкурента. Верно я говорю, телепат?
И вдруг словно кто-то сказал инспектору: «Верно». Это телепат передал свою ответную мысль. Видно, честный был человек, не умел врать, даже на расстоянии.
ПЕРЕДАЧА МЫСЛЕЙ НА РАССТОЯНИЕ (Историческая справка)
Передача мыслей на расстояние связана с увеличением мыслей и сокращением расстояний. Когда мысли были маленькие, а расстояния большие (из-за примитивных транспортных средств), передавать мысли на расстояние было практически невозможно: они, как метеориты, сгорали в плотных слоях атмосферы. Правда, и прежде были мысли, одолевавшие расстояния, несмотря на всяческие препятствия и даже государственные границы. Так, мысль о сохранении и превращении энергии в 1841 году пересекла англо-германскую границу (неизвестно, правда, в какую сторону) и была передана англичанином Джоулем немцам Майеру и Гельмгольцу (или наоборот). Были и другие мысли: Ломоносова — Лавуазье, Бойля — Мариотта, уже упомянутого Джоуля и еще не названного Ленца. Все эти и подобные им мысли были настолько велики, что буквально носились в воздухе. Кстати, мысль о главной составной части воздуха, кислороде, также была передана на расстояние шведом Шеелем англичанину Пристли (или наоборот).
Укрупнение мыслей и сокращение расстояний привело к тому, что подобная передача мыслей стала обычным явлением. Едва открывалось какое-нибудь открытие, как о нем узнавал не только ученый мир, но буквально каждый школьник, если он, конечно, был не лентяй и добросовестно усваивал то, что носилось в воздухе.
Этот способ передачи мыслей имел, однако, и свою оборотную сторону. Мысль могла быть крупной, но абсолютно ложной, и опровергнуть ее было трудно, так как она моментально становилась всеобщим достоянием. Чтобы избежать преждевременной информации населения, Артур Фрессли (69381-69698) изобрел очень простой, но вместе с тем гениальный способ. Одновременно с посылаемой в пространство мыслью посылалась мысль прямо ей противоположная. Таким образом, одна из мыслей была непременно истинной, а вторая, естественно, ложной. Принявший обе мысли не знал, какой из них верить, и воздерживался от немедленных действий в ожидании уточнения. Этот способ, получивший название Дезинформации фрессли, избавил науку от огромного количества квази-, псевдо- и эрзац-теорий и вернул ее на твердые рельсы, по которым она двигалась до передачи мыслей на расстояние.
5. Ян-1941
Моя первая ночь в лесу, о котором прежде я знал только по книжкам. Луна, еще пустынная, еще не заселенная людьми, роняет свой доверчивый свет на листву, и он тает на ней, как снег на теплых ладонях. Незнакомые крики, свисты, шорохи… Растительный и животный мир ведут свою общую жизнь среди всемирной смерти, которая называется второй мировой войной. Для них война — стихийное бедствие, а не разумная деятельность разумных людей. Стихийное и вместе с тем разумное бедствие…
Я видел, как заяц метался среди кустов, хотя ему ничего не угрожало. «Совсем оробели зайцы на этой войне, уже не знают, куда и податься», говорит Стась. А как не оробеешь? Они на войне — мирное население, для них главное — унести ноги от этой войны.
А когда война кругом и не знаешь, как уносить ноги, что тогда делать зайцу, чтобы победить на войне?
Стась, наш командир, и сам мирный человек, он поэт, автор книжки стихов, в которой нет ни одного выстрела. Но теперь в это трудно поверить. Кажется, что Стась всю жизнь был командиром и его единственной профессией была война.
Мы идем по древним лесам, которые всегда служили убежищем для тех, кого подстерегала опасность. По закону сжатия пространства при достаточно высокой скорости передвижения во времени (соответственно сжатию времени при высокой скорости передвижения в пространстве) я могу встретить где-нибудь здесь моих родителей, которые в нашем пятом тысячелетии находятся на пути к созвездию Волопаса. Поскольку вселенная разбегается по принципу перехода времени в пространство, пути в пространстве могут пересекаться с путями во времени. Я с детства интересовался этой теорией, потому что родители мои отправились в созвездие Волопаса, когда мне не было и трех лет. Среди моих товарищей несколько не имели отцов, и я не сомневался, что все эти отцы отправились в созвездие Волопаса. Тогда же я подсчитал, что, когда наши отцы вернутся домой, все мы будем стопятидесятилетними стариками, а они останутся молодыми (закон сжатия времени при перемещении в пространстве). Как мы встретимся, как узнаем друг друга?
Небо светит звездами, давным-давно прошедшими на Земле веками, и века эти все дальше и дальше от нас, потому что вселенная разбегается по закону перехода времени в пространство.
Деревья нацелены в небо, как ракеты, берущие старт. Кажется, прозвучи сигнал, и они устремятся ввысь, вырывая из земли свои корни, оставляя позади сноп пыли, как ракеты оставляют сноп пламени… Но сигнал не звучит, и деревья остаются на месте.
Эти огромные деревья тоже подтверждают закон перехода времени в пространство. Крохотное семя, наполняясь временем, превращается в гигантское дерево. В каждом таком дереве заключены десятилетия и века. Вот так же из древнего семени выбилось и расцвело необъятное дерево нашей вселенной, вобрав в себя миллиарды веков… Мы идем, продираясь сквозь цепкие лапы вселенных…
Человек изобрел колесо, звездолет, вечный двигатель… Он изобрел то, до чего природа додуматься не могла. Но зачем ему было изобретать смерть? Смерть — это дело природы… Конечно, человек ее усовершенствовал, придал ей размах, но вместе с тем лишил ее той целесообразности, которую в нее вложила природа. Христо Друмев, изобретатель вечного двигателя, сказал: «Суть не в том, чтобы двигаться вечно, а в том, чтобы двигаться в правильном направлении».
Анна рассказывает мне о Вацеке, дорогом для нее человеке. Он ученый, и самое дорогое для него — математика. Но он ее оставил. Говорит, что это слишком отвлеченная наука, для которой не существует понятия о добре и зле. И в обществе, в котором господствует зло, математика служит злу, даже если ею занимаются добрые люди.
— И здесь, на войне, он нашел настоящее дело?
— Теперь только это настоящее дело. То, которое мы делаем.
— И вы любите это дело?
Нет, говорит Анна, кто же любит войну? Ей себя отдают, но это не любовь, а скорее ненависть. Как раз тот случай, когда ненависть заменяет любовь.
Каждый раз, придя на новое место, мы ожидаем встретить там Вацека. Последнее место встречи — в селе, у Хромого Тадеуша. Если Вацек не придет к Хромому Тадеушу, значит, его нет в живых. Так думает Стась, так думают все остальные, и лишь один я знаю, что это не так. Вацек жив, потому что главное его дело еще не сделано, потому что он и есть тот пятый, который предаст отряд.
Остальных я знаю, успел узнать. Збышек — замечательный парень, ему нет и восемнадцати, но он делает все, чтобы выглядеть взрослым. И чтобы быть твердым, потому что на войне нужно быть твердым, а это нелегко с его мягким характером. Главная его беда: Збышек всех жалеет. Юрек говорит, что и в мирное время не надо никого жалеть, потому что жалостью только обидишь человека. Збышек это понимает, он не хочет никого обижать — и все-таки жалеет, стараясь, чтоб другие этого не заметили. До войны Збышек был подручным каменщика, строил здания, которые потом разрушила война. Збышек ненавидит войну, потому что она враждебна его профессии. А чему она не враждебна? Она всему враждебна, война.
А профессия Юрека — разве ей не враждебна война? До войны Юрек был шофером автобуса. Он столько перевез пассажиров, что они могли бы составить население нескольких больших городов. А то и целой страны не слишком больших размеров. И ни один из пассажиров не мог пожаловаться на Юрека, что он доставил его не вовремя или куда-нибудь не туда. Автобус следовал строго по расписанию и останавливался во всех положенных пунктах.
А теперь пассажиров Юрека гонят пешком или возят в таких автобусах, в которых никуда живым не доедешь. А сам Юрек ходит пешком по горным лесам, избегая шоссейных дорог и предпочитая им бездорожье. И он, влюбленный в машины, уничтожает их, превращает в ненужный лом, потому что этого хочет война, враждебная его мирной профессии.
— Анна, — говорю я, — я вижу, как вы тоскуете по мирному времени. Хотите, я отвезу вас в мирное время?
— Отвезти можно в какое-то место.
— А я отвезу вас во время. В такое время, где вы не услышите ни одного выстрела. В будущее, за две тысячи лет. Там все иначе. Там люди долго живут и умирают только от старости. Там никто не пытается отобрать у человека жизнь…
— Рассказывайте, Янек. Мне так хорошо вас слушать.
— Там, куда я вас отвезу, никто не слышал разрыва бомб и не видел, как столб земли заслоняет от человека небо. В этом мире, Анна, человек может быть человеком, не рискуя заплатить за это дорогой ценой. На Нюрнбергском процессе…
— На каком процессе?
— Это из истории. Был когда-то такой процесс, — заметаю я следы будущего. Ее будущего, а моего прошлого… — Конечно, когда вокруг такое творится, трудно поверить в другую жизнь. Но если вы мне поверите, Анна, если вы мне поверите… Мы сядем в Машину Времени и помчимся сквозь времена, и нас не догонит самая быстрая пуля…
— А Вацека, наверно, уже догнала…
Она опять вспоминает о Вацеке, об этом несостоявшемся ученом, сначала предавшем свою математику, а потом предавшем отряд. За математику я его не виню, к математике я никогда не питал симпатий. Недаром профессор Посмыш сделал мне этот новогодний подарок — «Теорию множеств» с иронической надписью: «Янек, это как раз то, чего вам не хватало». Профессор Посмыш любит пошутить.
— Разве это справедливо, что одному достаются легкие времена, а другому такие, что и жить не захочется? Нет, Анна, человек не может быть свободным до тех пор, пока он обречен жить во времени, в котором родился.
— Времена не выбирают.
— Это правило тех времен, которые были тюрьмой для человека. Ну почему, почему вы должны гибнуть на войне, а другие потом наслаждаться мирным временем? Чтобы они вам сказали спасибо, которого вы все равно не услышите? Нет, Анна, человек должен сам выбирать себе время. Он должен иметь свободу жить во всех временах.
— Янек, вам бы надо было стать писателем. Вы умеете строить воздушные замки, в ваших воздушных замках хочется жить.
— Вы в них будете жить, если захотите.
— Я уже в них живу.
Как ее убедить? Что ей сказать, чтоб она поверила?
— Подождите, Янек. Вот кончится война — и тогда я поверю, всему поверю.
Сегодня уже четвертое. Отряду жить всего лишь пять дней.
6. Человек, не знавший мирного времени
1419 год, Франция, замок Монтро, резиденция короля Карла VI Безумного, который сбежал сюда из Парижа, взятого, к сожалению, не восставшими крестьянами, а своими же феодалами, бургундцами, выступившими против Франции на стороне англичан… А крестьянской девушке Жанне д'Арк только еще семь лет, и ей рано спасать Францию…
В приемном зале замка какой-то высокий чин ожидал аудиенции. Он любезно, но с достоинством кивнул новому гостю и представился:
— Иоанн Бесстрашный. С кем имею честь?
— Посол из Испании, — назвался инспектор Шмит соответственно своему облачению. Он хотя и прибыл во Францию, но на всякий случай надел костюм невоюющей стороны. — Рад познакомиться с бесстрашным человеком. Вы что же, совсем не знаете страха?
Бургундец ответил не сразу. Он огляделся по сторонам, потрогал под плащом кольчугу…
— В настоящее время не могу утверждать безоговорочно, опасности подстерегают на каждом шагу. С одной стороны — англичане: я ведь против них воевал на стороне французов. С другой стороны — французы: я против них воевал на стороне англичан. Ну, и еще феодалы, против которых я воюю вместе с восставшими крестьянами, и восставшие крестьяне, против которых я тоже веду войну. — Вид у него был жалкий. — Вы знаете, я недавно взял Париж. Да, представьте себе, взял столицу, но это меня не обрадовало. И вот я приехал мириться, просить прощения. А меня не принимают, держат в приемной…
Ручной времяискатель показал присутствие инородного времени в коротком диапазоне. Инспектор внимательно посмотрел на герцога, но не обнаружил на его лице ничего, кроме смятения, понятного в сложившейся вокруг него обстановке.
— Почему-то мне сегодня целый день вспоминается Людовик Орлеанский. Все считают, что я его убил, хотя я не принимал в этом непосредственного участия. И вообще дело давнее, прошло двенадцать лет… Да… — вздохнул Иоанн. — Мне почти пятьдесят, пора на покой. Наработался я, навоевался. Он встал, словно собираясь немедленно идти на покой: — Я, пожалуй, не дождусь самого, пойду к дофину. Не хочется идти к дофину, но… — он грустно покачал головой. Очень уж ему не хотелось идти к дофину.
Лишь только он скрылся за дверью, инспектор вытащил справочник. Иоанн Бургундский… прозванный Бесстрашным… родился в 1371 году, умер… Инспектор не поверил своим глазам: герцог умер в 1419-м. И даже не умер, а убит во время визита в Монтро, в тот самый замок, в котором он в данный момент находился… Видно, не зря он вспоминал убитого Людовика Орлеанского, не зря у него у самого совершенно убитый вид…
От короля вышла его супруга, королева Изабо, в сопровождении лекаря.
— Скажите, доктор, это не опасно? — спрашивала она, слишком явно желая, чтоб это было опасно, потому что ей не терпелось избавиться от безумного мужа.
— Для его величества не опасно, а вот для королевства…
— Королевство в полном отчаянии, — без всякого отчаяния сказала королева. И тут она заметила постороннего: — Вы к его величеству? Откуда?
— Из Испании.
— О Испания, в моих жилах течет испанская кровь! — и королева наградила инспектора таким взглядом, от какого с королем, видимо, и приключилось его несчастье.
— Типичная шизофрения, — сказал медик, имея в виду короля, а инспектор лихорадочно принялся вспоминать, существовало ли в пятнадцатом веке понятие шизофрении. — В старину подобные болезни лечили голодом.
В старину… О какой старине он говорил, инспектору было непонятно. Где-то он читал, что шизофрению лечили голодом в двадцатом веке, но, может быть, ее так лечили и во втором? Ведь события повторяются, и на смену старой приходит новая старина.
— Может быть, его полечить голодом? — прикидывала королева. — Я могу распорядиться, чтоб ему не давали есть.
— С голодом покамест повременим. У вас и так полкоролевства голодает, а если будет голодать еще и король… — в качестве приезжего медика он мог позволить себе подобные вольности.
Если он действительно медик, раздумывал инспектор Шмит, то для него интересно познакомиться с шизофренией, которой давно уже нет в его времени. Ради этого можно и угнать Машину.
— Так вы считаете, что его величество поправится? — спросила королева с тревогой то ли за здоровье, то ли за болезнь короля.
— Вам нет основания беспокоиться, ваше величество, — сказал медик, почему-то подмигнув при этом инспектору, с которым они даже не сказали двух слов. — Однако я должен откланяться, меня ждет мой пациент.
И тут раздался истошный крик его пациента.
— Вы себе представить не можете, как мне надоела эта вечная резня, сказала французская королева, оставшись наедине с испанским послом. Каждый день одно и то же, одно и то же…
Глядя на эту хрупкую женщину, трудно было поверить, что она предалась англичанам, поддерживая их против мужа и своей страны. В угоду англичанам она сделала официальное заявление, что сын ее, дофин Карл, не является сыном ее царствующего мужа, не только поставив под сомнение свою репутацию, но и развеяв все сомнения на этот счет. Тем самым она лишила сына права наследия, отдав это право английскому Генриху, который, однако, вскоре умер, потеряв не только чужой престол, но и свой собственный.
Однако преданный матерью дофин тоже не был кристальным человеком. Он был замешан в убийстве герцога Иоанна Бургундского (то-то герцогу так не хотелось идти к дофину), а когда умер его отец Карл Безумный, наследного дофина никто не хотел короновать, пока это не сделала Жанна д'Арк, преданная ему и преданная им англичанам.
В приемный зал вышел Карл VI, худой, болезненный человек, с застенчивой, почти робкой улыбкой.
— Вы ко мне? — осведомился он у инспектора, послав королеве воздушный поцелуй. — Ради бога, извините! Мне не сказали, а я не догадался выглянуть, виноват! Нет-нет, без церемоний, заходите, пожалуйста!
Стены королевского кабинета были сплошь увешаны щитами, надписи на которых свидетельствовали о миролюбивом характере их обладателя. «Блаженны миротворцы». «Все понять — все простить». «Не ведаете, что творите». Были надписи призывные: «Отойди от зла и сотвори благо!», «Перекуем мечи на орала!», «Не зарывай талант в землю!» Были полные отчаяния: «О времена! О нравы!», «Да минует меня чаша сия!», «Бей, но выслушай!» Надпись на одном щите, казалось, обобщала все остальные: «Вот как делается история!
— Какая удивительная коллекция! — воскликнул инспектор.
— Это не коллекция, это жизнь. Я никогда не знал мирного времени. Когда я родился, уже шла война. Она началась за тридцать лет до моего рождения и будет продолжаться еще тридцать лет после моей смерти.
Поразительно, что он ошибся всего на один год: война началась за тридцать один год до его рождения и окончилась через тридцать один год после его смерти. Жизнь безумного короля приходилась на самую середину безумной войны, и в этом была какая-то безумная закономерность.
— А мечей вы не собираете? — спросил инспектор.
— Нет, — отрубил король, — мечей я не собираю. У нас хватает тех, кто собирает мечи. Не собирали б они мечи, я бы не собирал щиты.
Вдруг он подмигнул гостю:
— Сейчас я вам кое-что покажу. Мой шут — он хоть и дурак, но светлая голова, можете мне поверить, подарил мне колпак. А я ему за это отдал корону. — Он достал из шкатулки колпак и надел его. — На вид он не очень внушительный, но зато удобный.
Странно, что шутовской колпак вовсе не делал короля смешным, он придавал его лицу даже некоторое выражение скорби. Колпак печально свисал на одну сторону, словно подчеркивая однобокость судьбы, которая, давая все с одной стороны, с другой стороны — все отнимает.
Вслед за тем король забыл о госте и принялся гоняться за мухой. Поймал ее, сунул куда-то под крышечку и сказал:
— Здесь она будет в безопасности. У нас так безжалостно уничтожают мух. Приходится их ловить, чтобы спасти от уничтожения.
Он печально посмотрел на инспектора, снял колпак и сказал:
— Война тянется почти сто лет, даже не верится, что бывает мирное время. Преданья говорят, что бывает, но мне не верится. Я родился во время войны и умру во время войны. Война была до меня и будет после меня… — Он снял со стены щит с надписью: «Сим победиши», прикрылся им и сказал: Аудиенция окончена.
В приемном зале инспектора ждал медик.
— Все в порядке, можно отправляться. Нам, кажется, по пути? — Он засмеялся: — Только не прикидывайтесь испанским послом, я слышу, о чем вы думаете!.. Что? Не расслышал… Нет, я не тот человек, который вам нужен. Я не из сорок второго, я из гораздо более позднего. Но я могу вас подвезти…
— Машина ваша собственная? — на всякий случай уточнил инспектор.
— Какая Машина? Времени? Старо, инспектор, старо! Так передвигались наши далекие предки. Наш способ — проекция вечности на любую секунду и проекция секунды на вечность. Что это значит? Это значит, что в каждую секунду я проживаю целую вечность, а поскольку в среднем жизнь человека нашего времени составляет тридцать миллиардов секунд, то, значит, я проживаю тридцать миллиардов вечностей. Не так уж мало, а? Как вы думаете?
Инспектор подумал, что этот врач-психиатр, видимо, сам спятил, и тот немедленно отозвался:
— Да нет, я вполне нормальный человек, и век мой, с точки зрения моего века, вполне нормальный. Но мы действительно передвигаемся по времени без машин, проецируя себя, так сказать… Ну, ладно, не буду перегружать ваше воображение. Так поедемте? Можете не отвечать, я слышу, что вы отказываетесь. — Он поклонился по здешнему обычаю. — Может, встретимся в каком-нибудь столетии. Кстати, через два года мне предстоит поездка в 1934 год. Приход к власти Гитлера, любопытный случай массового психоза. Вы туда не собираетесь? Ну, тогда всяких вам благ. — Он исчез, спроецировав себя в какое-то другое время.
Из покоев дофина вышел герцог Иоанн, на удивление здоровый и невредимый.
— Это просто невероятно, — радостно заговорил он, — мне пропороли кольчугу, да что там кольчугу, меня пропороли насквозь. И стоило этому лекаришке чем-то помазать, как сразу все зажило, даже исчезли боли, которые были до покушения. — Он осторожно приложил руку к сердцу. Стучит, как новенькое, давно так не стучало…
Это было непостижимо. Не то, что врач вернул жизнь покойнику — в сорок втором веке такие вещи делаются в каждом медпункте, — а то было непостижимо, что герцог остался жив, когда по истории он числился убитым.
— Я рад за вас.
— А уж как я рад! Людовику Орлеанскому просто не повезло: рядом с ним не оказалось подходящего лекаря. Хотя, правда, это было двенадцать лет назад, тогда еще медицина была не так развита.
Человек, живущий короткую жизнь, измеряет ее своими короткими мерками. Двенадцать лет для него время, а на самом деле — ну что они, в сущности, эти двенадцать лет?
Об этом думал инспектор, когда за спиной герцога мелькнула какая-то тень и вслед за тем раздался пронзительный крик герцога:
— На помощь! Лекаря!
Но его лекарь был уже далеко: времяискатель больше не показывал инородного времени.
А вокруг уже собиралась толпа: король, королева, придворные и служащие двора…
Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский был убит.
История торжествовала.
7. Ян-1941-1963
— Юрек, как ты относишься к Вацеку?
— Разве ты знаешь Вацека? А не знаешь, так нечего и говорить.
Мы спускаемся к шоссейной дороге, по которой должна пройти колонна вражеских машин. Вернее, мы спускаемся, потому что она не должна пройти, не должна пройти ни в коем случае.
— Оставайся здесь, — говорит Юрек, — начнешь сразу после меня. Не забыл, как это делается?
Я остаюсь один.
Как бы мне хотелось увидеть этого Вацека! Посмотреть ему в глаза, сказать о том, что случится после. Что сколько будет существовать человечество, люди будут с проклятием произносить его имя…
Издалека доносится гул машин.
Тяжелые грузовики, крытые брезентом. Древняя техника, в наше время исчезнувшая с лица земли, вымершая, как вымирали доисторические животные… Шесть машин…
Первая машина приближается, я вижу за стеклом кабины двух солдат, похожих на тех, которых видел на старинных рисунках и фотографиях. Они оживленно разговаривают и даже смеются, не подозревая, что у них так мало осталось времени… Но они, гоня свои машины по чужой земле, думают, конечно, не о времени, а о пространстве. Почему-то, живя во времени и пространстве, человек больше дорожит пространством, чем временем. И отдает свою жизнь за кусочек пространства, которое все равно ему не понадобится…
Первая машина прошла… Вторая… Четвертая машина прошла…
И тут гремит взрыв. Это Юрек подает мне команду.
Я бросаю гранату в последнюю машину, чтобы преградить остальным путь к отступлению. Но граната не разрывается: я забыл выдернуть кольцо.
Вторая граната разрывается, но в стороне от машины. Третья попадает в цель.
В колонне переполох. Из уцелевших машин выскакивают солдаты и залегают под прикрытием придорожных кустов. Я вспоминаю про свой автомат и даю очередь, как учил меня Юрек.
Я слышу свист пуль: это стреляют по мне… Странное, ни с чем не сравнимое чувство испытываешь, когда по тебе стреляют. Хочется зарыться в землю или раствориться в воздухе, но вместе с тем возникает ощущение собственной значимости: все же ты чего-то стоишь, раз в тебя целится столько дул, столько глаз.
Несколько солдат поднимаются с автоматами наперевес, но тут же опять ложатся — на время или насовсем: это заработал автомат Юрека. Я бросаю еще одну гранату, целясь уже не в машину, а в этих людей, бросаю туда, где их побольше, и вижу искаженные лица, слышу крики, — мне кажется, раньше, чем прогремел взрыв. Я не могу этого видеть, я зажмуриваю глаза и строчу, уже не выбирая цели, наугад. Я понимаю, что это фашисты, что их надо убивать, но я не могу видеть их смерть и убиваю их с закрытыми глазами.
— Быстро отходи в лес! — это голос Юрека.
Я открываю глаза.
— Слышишь?. Быстро!
Я углубляюсь в лес, слыша за собой автоматную очередь. Юрек меня прикрывает. Его в любую минуту могут убить, и он готов, чтобы его убили, только бы дать уйти мне.
Выстрелы звучат глуше. Война отступила, скрывшись за деревьями, которые теперь не встают у меня на дороге, а окружают меня плотной стеной, пряча от войны, как кусты прятали зайца. Неудачное сравнение, потому что я совсем не тот, для кого единственная победа — унести ноги с войны, я одержал победу в бою, как только и стоит одерживать победы.
Что это? Я стою на месте своего приземления. Я узнаю эту полянку, а там, за кустами, моя Машина… Стоит мне сесть в нее, и я еще сегодня буду далеко от этой войны… В конце концов можно поменять тему диссертации. Есть темы полегче…
Рядом хрустнула ветка. Я оборачиваюсь и вижу Юрека. Он стоит, обхватив дерево, и я понимаю, что он ранен. А может, и убит.
Я подхожу к нему. У него прострелена грудь. Я хочу перевязать ему рану и замечаю, что она уже перевязана. Неужели он сам оказал себе первую помощь?
Вот когда пригодится моя Машина. Она доставит Юрека в мирный год, он полежит там, подлечится, а потом, если захочет, вернется назад.
Я положил его на сиденье и задумался: куда его везти? Ближайшие пункты — 1914 и мой, 4119 год. Но в 1914-м тоже война, а до моего времени далеко, живым его не довезешь. Что же делать?
Оставалось идти на риск: посадить Машину в любом ближайшем году, где Юрек мог бы подлечить свою рану. Это грозило крупной аварией и тем, что оттуда мне уже вряд ли удастся выбраться в свое время. Но иначе Юрека не спасти.
Я включил мотор, и Машина плавно двинулась с места, верней, не с места, а со времени. На календарифмометре замелькали цифры: 1943… 1947… 1954… Я взялся за ручку тормоза… Сейчас это произойдет… То, от чего предостерегают все инструкции, — аварийная посадка…
Я резко нажал на тормоз. Раздался треск. Машина вгрузла в чужеродное время и проползла на брюхе по нескольким годам. Затем она замерла и затихла, — кажется, навсегда. На календарифмометре значился год 1963-й.
То ли от треска, то ли от внезапно наступившей тишины Юрек пришел в себя.
— Что это? — спросил он. — Откуда эта телега? Давай помоги мне выбраться, будем пробираться к своим, пока фрицы не подбросили свежие силы.
— Никаких фрицев здесь нет.
— Нет, так будут, у нас каждая минута на счету…
Я помог ему выбраться из Машины.
— Странная штуковина, — сказал он, поглядев на Машину со стороны. Откуда она взялась?
— Это Машина Времени, Юрек. Сейчас 1963 год, война давно кончилась, почти двадцать лет назад.
Он смотрит на меня, как на сумасшедшего.
— Ты что это? С перепугу?
— Да, я испугался. Испугался, что ты можешь умереть, и вывез тебя в мирное время. Понимаешь, Юрек, я не тот, за кого себя выдавал. Я не из Люблина, я из сорок второго века.
— Тебя, наверно, контузило, — забеспокоился Юрек.
И тут на глаза мне попалась консервная банка. Я поднял ее. На этикетке была обозначена дата: апрель 1963 года.
Юрек отбросил банку и долго молчал. Он побледнел, мне показалось, что он сейчас потеряет сознание.
— Юрек, нужно срочно найти врача…
— Врача? — он посмотрел на меня с ненавистью. — Ты зачем, гад, меня сюда затащил? Шкуру свою спасал? В то время, когда люди жизни отдают…
— В какое время? Война давно кончилась.
— Слушай, ты, потомок! Твое время еще придет. А в своем времени мы без тебя разберемся. А сейчас вот что: вези меня назад!
— Ты же ранен.
— Я ранен на войне и вылечусь на войне. Заводи свою времянку.
Он хотел унизить Машину Времени и потому назвал ее времянкой. Так у них назывались печки, которые давали не слишком много тепла.
— Может, сначала покажешься врачу?
— Идиот! Что ты скажешь врачу? Как объяснишь пулевое ранение?
Об этом я не подумал. Да, могут быть неприятности. И никому ничего не докажешь.
— То-то ты мне кричал: «Отходи, Юрек!», «Тебе приказано — отходи!» Интересно, кем это мне было приказано?
— Я тебе ничего не кричал.
Он долго ругался, выкладывая все, что он думает обо мне и о моем времени. Особенно когда узнал, что Машина вышла из строя.
— Что? Ты хочешь сказать, что твой примус больше не действует? Давай приводи в порядок свою технику, некогда мне тут с тобой…
— Я не умею. Я не техник, я историк.
— Я б тебе сказал, кто ты есть. Ладно, попробую сам. Я в машинах немного разбираюсь. Показывай свой механизм! — Юрек попробовал встать, но тут же сел, скривившись от боли.
Я подумал, что в Машине где-то должна быть аптечка. И действительно, в багажнике я обнаружил санитарный пакет и другие необходимые медикаменты.
— Ну вот, теперь полегче, — сказал Юрек, когда я промыл и перебинтовал ему рану. — Ты молодец. Если б еще дома сидел, тебе б цены не было.
Я не верил, что ему удастся отремонтировать Машину. Машина Времени это слишком сложно для двадцатого века. Видно, придется нам остаться здесь навсегда. Он будет водить автобусы, а я займусь историей — наукой о прошлом — или создам новую науку — о будущем. Футурологию, которая была создана задолго до меня, кажется, в том же двадцатом веке. Печальный парадокс: я знаю будущее человечества вперед на две тысячи лет, но не знаю своего ближайшего будущего.
А может быть, меня просто посчитают сумасшедшим. В двадцатом веке представление о времени примерно такое, как в первом веке было представление о пространстве. Великий Шандор Шандр (3000–3070), создавший первую карту времени, родится только через тысячу лет, и лишь тогда станет известен рельеф времени. Вершины и низменности. Ущелья и провалы. Если я стану прогнозировать будущее, исходя из объемности времени, если скажу о путешествии вокруг времени, меня непременно сочтут сумасшедшим. Но ведь Назым Фрисс действительно совершил путешествие вокруг времени, и сроки его измерялись не временем, а пространством. Он вышел за пределы пространственных измерений, и пространство для него стало временем, а время — пространством.
1963 год… Какой-нибудь час отделяет нас с Юреком от 41-го года, и за этот час сколько произошло! Окончена война, поднялись города из развалин… И погибли наши товарищи… Стась, Збышек и Анна. Час назад они были живы — и двадцать два года их уже нет на земле. Юрека с ними нет, значит, не он их предал. Впрочем, этот факт уже не требует доказательств. Стал бы он рваться туда, в войну, из теперешнего мирного времени, стал бы рисковать жизнью, спасая меня. А Стась? А Збышек? Прошлое не отдает своих тайн, и если я останусь здесь, то буду заниматься не прошлым, а будущим. В будущем хоть можно что-то еще изменить, а в прошлом уже ничего не изменишь.
8. Накануне открытия америки
Севилья. Портовый трактир. Мореходы, землепроходцы и просто проходимцы, люди, одержимые мечтой, и люди, одержимые жаждой наживы, моряки, не нюхавшие моря, и пираты, не нюхавшие пороха, а также настоящие моряки и пираты — все это галдит, шумит, таращит глаза и стучит по столу кулаками.
— Я им говорю, Америго: земля так же кругла, как моя башка, да и по величине не слишком ее превосходит. И если плыть из Севильи на запад, то можно достичь берегов Индии.
— Не Индии, Христофор.
— А чего же?
— Только не Индии.
Америго мнется, возможно, он из скромности не хочет назвать материк, который впоследствии будет носить его имя. Скромность в данном случае не мешает: Америку все же открыл Колумб, и заслуги Америго сильно преувеличены. Словно заранее это предвидя и заранее в чем-то раскаиваясь, Америго смиренно принимает громы гиганта, низвергающиеся на его голову.
— Скажу тебе как земляку, Америго, хотя я уже и не помню, когда покинул Италию (сердцем я ее никогда не покидал): для того чтобы осуществить одну-единственную идею, нужно потратить всю жизнь. Потому что легче преодолеть Атлантический океан, чем океан тупоумия, равнодушия и лени. Мне сорок лет, Америго, как и тебе (мы ведь с тобой ровесники), и половину из них я мотаюсь по белу свету и всюду слышу одно слово: нет.
Будущие века сначала вознесут Америго, а Колумба предадут забвению, потом вознесут Колумба, называя Америго вором, присвоившим чужое открытие, будущие века столкнут этих двух открывателей в непримиримой вражде, разжигая страсть в тех, кому давно уже неведомы страсти. А они, живые, сидят в портовом трактире и разговаривают, как друзья.
— Я пытался добиться приема у Торквемады, говорят, это сильный человек.
— Он духовник королевы.
— Что-то вроде этого. Но попасть к нему дело безнадежное, у него сейчас особенно много работы.
— Святой инквизиции не до новых открытий, она не знает, что делать со старыми. Поэтому она больше поощряет закрытия. Колумб, это совсем неплохо звучит: великий закрыватель. — Америго невесело улыбнулся.
Инспектор Шмит не видел в этом ничего удивительного: были в истории и открыватели, и закрыватели, причем последние, как правильно сказал Америго, нередко пользовались большей поддержкой.
— На все есть средства, — сетовал Колумб. — На войну с Гранадой есть средства. На усмирение бунтов, на инквизицию есть средства. И только на открытия нет средств. А ведь это открытие окупилось бы в течение года. Индия — страна богатая, а путь в Индию через Атлантический океан…
— Только не в Индию, Христофор.
— А куда же?
— Только не в Индию.
Времяискатель зафиксировал присутствие объекта инородного времени. Уж не Колумб ли это, человек из будущего, прибывший в эти древние и не понимающие его времена? Тогда понятно, почему он не встречает поддержки, почему его не хотят финансировать. Всех первооткрывателей не хотели финансировать, и большинство из них умирало в нищете. Может, все они были пришельцами из будущих времен? Ведь не случайно они именно в будущих временах находят признание. Гениальный открыватель антипланеты Ялмез Хасан Амир (3507–3700) тоже захотел пораньше осчастливить человечество и отправился делать свое открытие в XII век, но едва не был там четвертован, чудом спасся и, вернувшись домой, сделал свое открытие, после чего жил долго и счастливо. Возможно, это легенда, одна из множества легенд, которые существуют о Хасане Амире, человеке, сделавшем переворот в астрономии, опустив ее с неба на Землю. Но посмертно вышедшая книга Амира «Барьеры несовместимости времен» была написана им, конечно, не случайно, в ней слишком чувствуется горечь личного опыта. Быть может, в каждом веке есть представители будущего, непризнанные и непонятые, но открывающие миру глаза, которые без них ему никто не откроет.
Подобное объяснение не просто фантастично, оно сбивает с толку службу розыска, которой и без того приходится нелегко. Поэтому инспектор отбросил эту опасную, хотя и прекрасную версию и продолжал слушать заинтересовавший его разговор, в надежде почерпнуть из него необходимые сведения.
К разговору этому прислушивался не только он. За соседним столиком рыжебородый моряк ловил каждое слово будущих открывателей. С виду он был не испанцем и не итальянцем, он был скорее скандинавом. Но кого только не встретишь в Севильском порту!
— Христофор, не знаю, что я могу для тебя сделать. Мой хозяин занимается оснащением кораблей, я с ним поговорю, может, он замолвит за тебя словечко.
— Поговори, Америго. Покажи ему эту карту, здесь все обозначено. Мне не жаль потерянных двадцати лет, жаль, что погибнет идея…
Рыжебородый моряк пересел за их стол и заглянул в карту, которую Христофор Колумб развернул перед Америго Веспуччи.
— Чего тебе? Ты кто такой? — Америго прикрыл ладонями карту.
— Я моряк. Меня зовут Эрик Рыжий. Интересуюсь разными странами.
Эрик Рыжий… Инспектор слышал о таком мореплавателе. Но он, кажется, жил в десятом веке. Как же он попал в пятнадцатый век?
— Я давно мечтал пересечь океан, — сказал Эрик, не уточняя, однако, насколько давно. — Я много плавал по северным морям, открыл кое-какие земли, но это все не то. Моя мечта — открыть новую часть света.
Все это было знакомо инспектору по его многолетней работе. Подсесть к чужому столику, завязать разговор, все, что надо, выспросить. Колумб не понимал, с кем он имеет дело, и вот уже он положил руку Эрику на плечо:
— Обещаю. Если у меня получится — обещаю.
— Я поговорю с хозяином, — сказал Америго.
Этому человеку не повезло. Жизнь Америго сложилась весьма неудачно. Он работал на хозяина — то на одного, то на другого хозяина, не имел ни дома, ни семьи. Мелкий служащий, состарившийся среди бумаг и лишь на склоне лет взлетевший к зениту славы. Но что стоит слава на склоне лет? Америго Веспуччи опоздал к своему триумфу.
Может, никто не понимал Колумба, как он, ведь не зря же Колумб писал сыну: «Я беседовал с Америго Веспуччи… это честный человек, он полон решимости сделать для меня все, что в его силах».
Между тем инспектор продолжал ломать голову над тем, каким образом Эрик Рыжий затесался в пятнадцатое столетие. А что, если он тот самый искомый преступник, угнавший Машину Времени, чтобы опередить Колумба? В сорок втором веке неоткрытых земель не осталось, вот он и отправился туда, где они есть.
Эрик смотрел на карту, но было видно, что он ничего не может прочесть. Видимо, прибыл он не из будущего. Он прибыл из тех безграмотных времен, когда королю было легче покорить страну, чем поставить подпись под требованием капитуляции. Выходец из десятого века… В пору беспамятства человечества, когда всех массово забывали, ему удалось просочиться в историю. И, как теперь стало очевидно, не вполне благовидным путем.
Инспектор настроил речевые центры на язык древних скандинавов:
— Эрик, вы мне нужны.
Услышав родную речь, Рыжий испуганно вздрогнул.
— Подойдите ко мне, Эрик. Вот так. Что вам нужно в пятнадцатом веке? Почему вы покинули свой десятый век?
— Так получилось, — Эрик растерянно моргал рыжими ресницами. — Я всю жизнь занимаюсь открытием новых земель.
— Это нам известно. Ваше дело Гренландия, Америку откроет Колумб. Имейте в виду, попытка присвоить чужое открытие, выведав заранее его план, является преступлением перед историей.
Эрик Рыжий покраснел, как умеют краснеть только рыжие, совершившие преступный антиисторический акт.
— Стыдитесь, Эрик, легче всего приходить на готовое. Теперь я понимаю, откуда все эти разговоры о финикийцах и других племенах, якобы открывших Америку за тысячу лет до Колумба. Все они пришли на готовое, присвоив открытие великого человека.
Эрик Рыжий хотел было признать свою вину и с тоской косился на двух первооткрывателей, которые забыли о нем так, как было бы неплохо, чтобы о нем забыла история.
— Как вы сюда попали?
Эрик Рыжий, казалось, только и ждал этого вопроса, ему не терпелось рассказать о своих злоключениях.
Это случилось спустя два года после открытия Гренландии. Эрик стал подумывать, что бы еще такое открыть. Он мечтал о новом материке, который можно было бы назвать Великим Материком Эрика (сокращенно — Вемэрика), но где искать этот материк, было неизвестно. Да и есть ли, кроме Скандинавии, еще один материк?
Так он размышлял, и грустил, и сожалел о том, что Скандинавия уже открыта, когда появился Гарик Черный. Он возник совершенно внезапно и сказал:
— Тьфу, куда это меня занесло? Опять я не туда заехал!
Эрик был слишком погружен в свои заботы, чтобы заводить с незнакомцем разговор, и тогда тот его окликнул:
— Эрик!
— Что, Гарик? — почему-то вдруг Эрику стало известно, что незнакомца зовут Гарик, хотя тот себя не назвал.
— Так ты хочешь открыть Вемэрику? — спросил Гарик Черный. Каким-то образом он об этом узнал. — А кругосветное путешествие тебе не подойдет? Это ведь тоже неплохо?
Лишь только Гарик сказал о кругосветном путешествии, как Эрик сразу понял, что Земля круглая и по ней можно путешествовать, как по глобусу (о котором ему прежде тоже не было известно).
— Но ведь кругосветное путешествие первым совершит Магеллан?
— Тебя смущает Магеллан? Пусть он тебя не смущает.
До сих пор Эрика никогда не смущал Магеллан, но теперь он его стал смущать своим кругосветным плаваньем. Но Гарик его успокоил: они съездят к Магеллану, разведают его маршрут, чтобы пройти по нему в десятом столетии.
Они тут же оказались в пункте отправления Магеллана, но корабли великого мореплавателя уже ушли. Верней, еще не пришли.
— Они вернутся через три года, — сказал Гарик Черный. — Выходит, мы прибыли преждевременно. Что-то у меня измерение барахлит. — И Эрик сообразил, что передвигались они при помощи этого, неизвестного ему измерения. — Ну, ладно. Тогда мы в Индию поплывем, опередим Васко да Гаму.
— Его опередил уже Афанасий Никитин, — высказал Эрик неожиданные для себя сведения.
— А мы и Афанасия опередим. Только маршрут возьмем Васкин: обогнем Африку — это будет сенсация для десятого века.
И вот они стояли в Лиссабонском порту, в котором не было и признака кораблей Васко да Гамы: ведь прибыли они в Лиссабон на тридцать лет раньше — именно на столько лет опередил Афанасий Никитин португальского путешественника. И не у кого было спросить про Васкин маршрут.
— Измерение барахлит, — Гарик и тут свалил на никуда не годное измерение, хотя в данном случае был виноват сам. — Может, ты откроешь Берингово море? Я сведу тебя с Берингом.
— Нет, — сказал Эрик Рыжий, — я не хочу в Берингово море. И не хочу в море Лаптевых. Я хочу открыть Вемэрику, больше мне ничего не нужно.
— Америку так Америку, — сказал Гарик Черный, называя эту землю на общепринятый лад. — Только поскорей, у меня мало времени.
Да, его измерение по-настоящему барахлило: они прибыли за целый год до начала экспедиции Колумба. Гарик звал открывать Австралию, чтоб утереть нос голландцам, но Эрик Рыжий категорически отказался: свою, мол, Вемэрику он не променяет ни на какую Австралию.
— В таком случае оставайся, — сказал Гарик Черный. — А у меня дела поважней, чем твоя Америка: я собираюсь открыть антипланету Ялмез, обставить Хасана Амира.
(«Ну и проходимец этот Гарик! Почище Эрика…» — подумал инспектор Шмит.)
— Только бы измерение не подвело, — сказал Гарик, кивнув на прощание Эрику. И в ту же секунду исчез.
В Испании времен Торквемады люди исчезали тысячами, поэтому исчезновение Гарика никого не удивило. На него просто не обратили внимания. И на Эрика никто не обратил внимания: мало ли оборванцев слонялось по Севилье.
Он слонялся по Севилье, переходя из трактира в трактир, и чувствовал себя неуютно в чужом времени. Вемэрика отодвигалась все дальше, и ее заслоняла родная Скандинавия, а также незабвенный десятый век. И ему уже начало казаться, что не существует Великого Материка Эрика, что есть только Эрик — без всякого материка.
— Я хочу домой, — так закончил Эрик свой печальный рассказ, и в его зеленых глазах загорелась тоска по родине. — В гостях хорошо, а дома лучше, — сослался он на пословицу, позаимствованную в чужих временах.
Что с ним делать? Отправить его домой, пока он еще не все выведал у Колумба? А то ведь он и карту стащит, и грамоте выучится, пройдет все науки… А там доберется в свой век на попутной Машине или измерении, и прощай открытие Колумба. Рыжий его опередил!
Но из пятнадцатого века в десятый не попадешь без пересадки, так и преступника упустишь. У нас служба розыска, а не благотворительное бюро. Хотя, конечно, жаль этого Рыжего. За чужим погнался, а свое потерял. Обычный случай в уголовной практике.
Ничего, решил инспектор, как-нибудь доберется. Раз ему приписывают открытие Америки в десятом веке, значит, он все же добрался в свой век. Добрался, конечно, добрался и открыл в десятом веке то, что было до него в пятнадцатом веке открыто.
9. Ян-1963
Идут дни 1963 года, и, если б Машина была исправна, нам бы, возможно, удалось вернуться к нашим, — правда, ценой аварийной посадки. Но Юрек считает, что такая авария не страшна, наибольшая авария для человека быть выброшенным из своего времени.
Я пытаюсь ему рассказать то, что мне известно о пространственно-временных отношениях, но он не хочет слушать. Все равно, он говорит, ему в этих теориях не разобраться, лучше он будет рассматривать эту Машину как обычный дизель, тогда, может, ему удастся ее починить.
Он никак не может понять, что спешить нам некуда, и, даже если он через год починит Машину, мы не опоздаем в его время. И через двадцать лет не опоздаем. Только вернемся туда пожилыми людьми, потому что никакая машина не может вернуть человека в молодость.
— Юрек, ты пойми, пласты времени неподвижны, движется лишь то время, которое соприкасается с нами.
— Не морочь голову. Вроде кроме нас ничего на свете не существует.
— Оно существует, но раз мы можем попасть в любую точку любого времени, то это равноценно неподвижности времени. Относительной неподвижности, как неподвижность пространства.
Конечно, абсолютной неподвижности времени быть не может, есть лишь его видимая неподвижность по отношению к наблюдателю. Неподвижность прошлого и будущего, в берегах которых течет река настоящего. Великий Панасюк (1976–2058) в пору своих юношеских заблуждений пытался доказать, что движутся эти самые берега, а сама река неподвижна. Он утверждал, что жизнь есть неподвижное настоящее, затертое льдами прошлого и будущего. Это была ошибочная теория, и впоследствии Панасюк от нее отказался.
Пока Юрек копается в Машине, я хожу по лесу, собираю ягоды, иногда подхожу к шоссе, чтобы издали посмотреть на жизнь незнакомого мне времени. Когда кто-нибудь подходит близко к зарослям, в которых укрыта наша Машина, я даю знать Юреку, и он на время прекращает ремонт, а я заговариваю с прохожим и спешу отвести его подальше от этих мест.
А когда наступает темнота, Юрек прекращает ремонтные работы и начинает меня ругать.
— Гуманист, — говорит он, вкладывая нехороший смысл в это хорошее слово, — брат милосердия! Разве кто-нибудь вызывал твою неотложку? Да я бы еще с такой раной знаешь как воевал?
Закон временного притяжения, открытый великим Панасюком, формулируется так: всякое тело, существующее во времени, притягивается к этому времени с силой, прямо пропорциональной скорости течения данного времени и обратно пропорциональной квадрату взаимодействия его с другими временами. Вследствие этого течение времени в различные эпохи неоднородно и зависит не только от объективных причин, но и от позиции наблюдателя. Естественно поэтому, что, рассматривая то или иное событие, позицию лучше не менять, чтобы не исказить общей картины. По формуле Марантиди: ИК = шK^и (истинная картина равна соответствующему корню из картины в степени искажения).
— Когда кончится война, — говорит Юрек (мысленно он все еще там, в том времени), — я буду водить автобусы по этой дороге…
— И в 1963 году сможешь прийти сюда и посмотреть, как мы здесь возимся с этой Машиной.
— Чепуха какая-то! Не могу же я раздвоиться!.. Хотя — черт его знает… Если я смогу дважды прожить одну и ту же минуту…
Ему трудно это представить. Так же трудно было когда-то представить, что Земля движется вокруг Солнца, хотя ясно видно, что Солнце движется вокруг Земли.
— А почему я до сих пор не пришел? Янек… как ты думаешь, почему я до сих пор не пришел? Неужели нам никогда не вырваться из этого проклятого времени?
— Либо из этого, либо из другого.
— Это значит… что я погиб на войне?
Я ничего ему не ответил.
— Ну и ладно! Лучше уж там погибнуть, чем здесь торчать… — Он помолчал. — А может, я просто не нашел этого места? За столько времени можно забыть.
— Может, и так. Может, ты еще придешь.
— Надо бы оставить какую-то метку. Чтобы потом, в 63-м, я по ней нас нашел. Все-таки больше двадцати лет…
— Какие двадцать лет? Ведь мы поставим метку в 63-м.
— Ничего не понимаю. Ну и напутал ты с этим временем! Значит, даже если мы поставим метку, я могу нас не найти? Ведь я мог прийти до того, как метка была поставлена?
— Ты бы не стал раньше приходить. Ты бы запомнил, что метка была поставлена позже.
— Тоже верно. Я бы этого не забыл.
— И ты бы помнил, как мы тебя ждем. Ты бы непременно пришел.
— Я еще приду, Янек!
Утром, когда Юрек опять начал возиться с Машиной, я спустился к шоссе и вырезал на дереве надпись: «Юрек, мы тебя ждем!» Потом я ее ему показал, и он долго на нее смотрел, чтобы получше запомнить.
— Теперь я найду, — сказал он.
Я не говорю ему о гибели отряда, о том, что, если он вернется, ему этой войны не пережить. Правда, в архивных документах имя Юрека не было названо, не исключено, что там погиб кто-то другой. Если мы не вернемся, то, конечно, там погиб кто-то другой. Знал бы это Юрек, он бы пешком пошел в 41-й год, хотя пешком ходить по времени даже в наш век еще не научились.
Я бы тоже не хотел, чтоб за меня погибал кто-то другой, но и самому тоже погибать не хочется. Впрочем, откуда знать, что человек погибает за тебя? Может, он погибает за себя? Древнее слово «судьба» рассеивало эти сомнения.
Пожилой человек на шоссе остановился и долго смотрел на вырезанную на дереве надпись. Я подумал, что это, может быть, Юрек. Прошло столько лет, он, конечно, успел состариться. Я подошел ближе.
— Это вас ждут?
Старик пожал плечами.
— У меня нет таких друзей. Мои друзья не портят деревьев.
Если б старик знал. Если б он видел нас во время боя. Он бы не стыдился таких друзей. Он бы гордился такими друзьями.
10. Ветер времени
Нет, человек не идет по времени — изо дня в день, из месяца в месяц, он стоит во времени, под ветром времени, которое проносится мимо, срывая с него, круша и ломая все, чем он пытается себя защитить. И гнет ветер времени человека к земле, и заставляет прятать лицо и подставлять ветру спину, — вот почему мы не видим нашего будущего: мы отворачиваем от сокрушительного ветра лицо и смотрим в безветренное прошлое.
Ветровые стекла Машины Времени защищают человека от ветра, но не от времени. Как бы далеко ты ни сбежал от своего времени, время — свое ли, чужое — возьмет то, что ему положено. Конечно, для того, кто располагает Машиной, ассортимент времен богаче, разнообразней, — но что такое ассортимент, когда покупательная способность у всех одинаковая? Что касается инспектора Шмита, он предпочитает одну большую жизнь в одном времени, в кругу одних и тех же друзей тысяче маленьких жизней, нахватанных по минутке в разных временах.
Машина движется медленно: при обычной скорости четыреста пятьдесят лет в час сейчас она выжимает не больше пятидесяти… Опять, видно, засорился воздухопровод. Такие времена — чего в них только не накопилось!
1519 год… Начинают бой звездные часы Магеллана, а завершают бой часы Леонардо… Звездные часы ни на минуту не прекращают бой. И в тот же год, когда Магеллан отправился в плаванье, а Леонардо закончил свой жизненный путь, Рафаэль дал миру «Сикстинскую мадонну»…
Только бы не потерпеть аварию в этом столетии, которое уже стало Возрождением, но еще не перестало быть средневековьем. Иногда Возрождение надолго сохраняет отпечаток средневековья и средневековье кончается вместе с Возрождением.
1535 год… На эшафот взошел британский канцлер Томас Мор, автор «Утопии». Веками человечество расплачивалось за свои утопии, но оно не хотело с ними расставаться…
Ветер времени свистит за окном. Он дует из будущего в прошлое. И все живое, что движется в будущее, он уносит в прошлое, этот встречный ветер…
Инспектор включает фодемент (ручное управление, от французского: «за неимением лучшего»), поскольку автоматика не дает возможности любоваться пролетающими временами. И сбавляет скорость, мягко нажав на рычаг пеклобата (переключатель скоростей, от украинского «не лiзь поперед батька в пекло»).
1650 год… Перестал мыслить Рене Декарт, сказавший памятную всем фразу: «Я мыслю, значит, я существую». Франция, его родина, не одобряла подобного рода существования, и он вынужден был скитаться по чужим странам, ища приют для своих непослушных мыслей и нигде его не находя. Вечное изгнание, вечные нужда и бесприютность… Как ты мыслишь, так ты и существуешь, Декарт!
1701 год… Война за испанское наследство.
1741 год… Война за австрийское наследство.
Наследников всегда больше, чем наследства, поэтому постоянно возникают недоразумения. Все, конечно, зависит от того, какое наследство. Есть наследства, которые не убывают, сколько их ни наследуй, и никто не ведет из-за них войн: за книги Сервантеса — испанское наследство, за музыку Моцарта — австрийское наследство… Очень важно выбрать что наследовать, чтобы не воевать всю жизнь из-за пустяков…
1849 год… Крохотное государство Сан-Марино проявило первые признаки своего будущего величия: дало приют итальянскому революционеру Джузеппе Гарибальди. Впоследствии великое, крупнейшее в Европе государство Сан-Марино занимало тогда площадь всего лишь восемь на семь с половиной километров, да и эти несчастные полкилометра находились под постоянной угрозой соседнего города Римини, который рассчитывал таким путем расширить свою территорию. Особое положение государства Сан-Марино заключалось в том, что оно было со всех сторон окружено Италией, оно было как бы сердцем Италии, но сердцем свободным и независимым и готовым бороться за свою независимость и свободу.
В то время великое государство Сан-Марино было крохотным государством, потому что великими тогда считались государства: а) богатые, б) сильные, в) внушительных размеров. Впоследствии эти критерии были пересмотрены и к государству стали предъявлять те же требования, какие предъявляются к каждому живущему в нем человеку. А так как в новые времена никто не считал великим человека: а) богатого, б) сильного и в) внушительных размеров, точнее, считали, но с некоторыми поправками: а) богатого мыслью, б) сильного духом, в) имеющего заслуги перед всем человечеством, — то новые критерии в оценке государств существенно изменили прежние представления. Памятник Гарибальди в центре Сан-Марино напоминает о том, что первый шаг к величию этого государства был сделан тогда, когда оно, крохотное, окруженное Италией, взяло под свою защиту преследуемого человека.
1889 год… В один год и даже, помнится, в один месяц родились два человека, которые ни на день не прекращали между собой борьбу, которые вели ее задолго до своего рождения и продолжали вести после смерти. «Сверхчеловек» и «маленький человек» — в глазах тех, для кого единственный критерий — сила. А в глазах, видящих в человеке другие достоинства, ничтожество и великий человек. Гитлер и Чаплин.
Ветер времени… Не каждый может перед ним устоять. Не каждый способен стать к нему не спиной, а лицом, чтобы хоть краем глаза увидеть будущее…
НЕСБЫТОЧНЫЕ ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА (Историческая справка)
В тридцать шестом веке, когда Машина Времени прочно вошла в быт, стали раздаваться голоса о необходимости ее запрещения. Требовали принятия закона о неприкосновенности времени, поскольку стирание грани между прошлым и будущим пагубно для настоящего, которое, собственно, и является этой гранью. Сторонники Машины утверждали, что грань эта никогда не была четкой, поскольку в каждом времени мы обнаруживаем следы других времен. Если бы в прошлом и настоящем не было никаких следов будущего, то никакого прогресса не было бы. Ведь самые передовые идеи рождаются будущим, а как они могут попасть в настоящее? Без Машины Времени тут не обойтись.
Некоторые предлагали поставить Машину Времени на службу Пространству. Гениальный астрофилософ и конструктор Времени Садреддин Алиев (3721-….) нашел оригинальный способ соединения Машины Времени с фотонной ракетой, что давало возможность в минимально сжатые сроки перемещаться на бесконечно большие расстояния.
На первый случай Садреддин решил не летать особенно далеко, а ограничиться центром нашей Галактики. Расстояние — 25 тысяч световых лет, следовательно, чтобы не тратить на путь туда и обратно 50 тысяч лет, нужно на столько же лет углубиться в прошлое. В прошлом, сказал Садреддин перед отлетом, у нас неисчерпаемые залежи времени, за счет которых можно сберечь ресурсы будущего.
Он улетел, пообещав вернуться через минуту. Но не вернулся. Ни через минуту, ни через десять минут. Прошел целый час, а его все не было. И тогда радиопрожекторы сообщили печальную весть: астрофилософ и конструктор Времени исчез из Пространства.
Противники Машины немедленно взяли этот печальный факт на вооружение: раз в Пространстве Садреддина нет, значит, он находится где-то во Времени. Всей историей доказано, говорили они, насколько Время гибельно для человека. От Пространства еще никто не умирал, все умирали только от Времени. Так имеем ли мы право, вопрошали они, увозить человека из Пространства, которое дает ему жизнь, во Время, которое ничего не может дать, кроме смерти?
Сторонники Машины верили, что великий Садреддин не умер, нет! Мы, говорили они, еще услышим о нем — в прошлом!
И — услышали. Древние мифы донесли до нас имя Фаэтона, взмывшего в небо на солнечной колеснице. Не сразу додумалось человечество, что Фаэтон — это и есть тот самый Фотон, который умчал Садреддина к центру Галактики. Просто звук «о» может слышаться как «аэ», особенно если между говорящим и слушающим несколько тысячелетий…
Садреддин-Фаэтон взмыл на своей солнечной колеснице — и сгорел, как об этом рассказано в мифе, то ли приземлился в древнем времени, а взлететь не смог из-за какой-то поломки. А возможно, он все еще летит к центру Галактики — ведь лететь туда двадцать пять тысяч лет, и если у него что-то случилось с механизмом Времени… Тогда лететь ему еще и лететь, и неизвестно, когда он вернется на землю…
Построенные по его проекту летательные аппараты давно бороздят пространства и времена, но ни один из них не встретил в пути своего создателя, замечательного астрофилософа и конструктора Времени легендарного Фаэтона. Правда, Галактика наша велика, и не так просто встретиться на ее путях… И так легко разминуться во Времени и Пространстве…
11. Ян-1963-1941
Невероятная вещь: Юрек починил Машину Времени. Он, простой водитель автобуса из двадцатого века, разобрался в сложнейшем механизме из далеких будущих тысячелетий.
— Все не так уж сложно, — сказал он, демонстрируя мне готовность Машины к действию. — Могли б такую Машину и раньше изобрести. Только зачем? Чтобы дать возможность всякому… — тут он употребил неизвестное мне существительное, — сбегать от своего времени в более уютные времена?
Не думаю, что у Машины Времени такое уж простое устройство. Юрек починил ее потому, что у него не было другого выхода: он должен был вернуться в свое время.
— А тот не пришел, — вздохнул он. — Что ж, так тому и быть. Видно, он не дожил до мирного времени.
Он говорил о себе в третьем лице, чтобы отделить себя от того, не существующего, который лишил его надежды выйти живым из войны.
— Может, подождем еще? — предложил я. Ждать было нечего, но нелегко отправляться на верную смерть. А он теперь знал, что идет на верную смерть.
— Нам ждать легко. А каково им там, в сорок первом?
Он так и не понял, что время для нас остановилось, что мы сможем вернуться в любой день 41-го… Если, конечно, не погибнем при посадке: из 63-го в 41-й так просто не попадешь.
Юрек нажал на рычаг. Машина качнулась, задрожала и замерла.
— Что, не идет?
— Не идет. Потому что — приехали.
На календарифмометре значился год 1941-й.
— Как тебе удалось? Ведь Машина на это не рассчитана.
— Обычный технический недосмотр. Я кое-что поправил.
Он кое-что поправил! Революция в науке пятого тысячелетия — и это называется: кое-что поправил.
— Юрек, тебя бы в наш век!
— Еще в один век? Еле до своего добрался… — Он положил руку мне на плечо. — Ладно, Янек, прощай. Передай привет своему времени.
— Я пока здесь останусь. Зря я, что ли, учился воевать?
Юрек был не прочь вместе со мной повоевать, но он не знал, как быть с Машиной. Он боялся, что Машиной может воспользоваться враг. Какой-нибудь фашист может проникнуть на ней в будущее. В науке высказываются серьезные предположения, что такие случаи имели место. Больше того, академик Гловач утверждает, что фашизм в двадцатый век прибыл из средних веков, вероятно, использовав Машины Времени легкомысленных и сердобольных туристов. Академик Гловач требует большой осторожности в обращении с Машиной Времени, особенно же предостерегает от того, чтобы подбирать по дороге случайных пассажиров, ибо, говорит он, информация распространяется не только в пространстве, но и во времени. Институт истории рассматривает этот вопрос и, вероятно, перенесет фашизм из двадцатого куда-нибудь в средние, а то и в древние века.
На шоссе прогремел взрыв, затем другой. Застрочили автоматы.
— Кажется, нас окружают…
— Нет, Юрек. Это мы прибыли раньше времени: сейчас на шоссе как раз начался бой.
— Наш бой? Значит, мы подоспели вовремя.
Юрек подхватил автомат и побежал к шоссе. Я бросился за ним, прихватив санитарный пакет, так как знал, что он понадобится.
Наша помощь была очень кстати. Тот Юрек остался один, он прикрывал меня, того меня, отходившего в глубь леса. Я крикнул ему:
— Отходи, Юрек!
Мои слова подкрепил автомат нашего Юрека.
Тот Юрек продолжал вести бой, и тогда наш Юрек, побоявшись, что его могут прихлопнуть прежде времени, крикнул:
— Тебе приказано: отходи!
Но теперь уже отходили немцы. Увидев, что появилось подкрепление, они попрыгали в уцелевшие машины, и вскоре шоссе опустело.
— Юрек! — позвал я того Юрека. Он не ответил.
Я распечатал санитарный пакет и перевязал Юреку рану.
— Ладно, пусть дальше сам выкарабкивается, — сказал наш Юрек, и в словах его была единственно оправданная жестокость: жестокость к себе.
Не желая опережать события, которые мы и без того достаточно опередили, мы двинулись вдоль шоссе, оставив на произвол судьбы и Машину Времени, и меня, уже стоящего возле нее, и раненого Юрека, который все-таки поднялся с земли и теперь шел, цепляясь за встречные деревья. Мы уходили все дальше от событий, которые развертывались позади нас и в которых мы уже однажды приняли участие.
— Янек, мне нужно вернуться. Я тебя догоню.
Я не спрашиваю, зачем ему нужно вернуться. Может, он хочет посмотреть, как наша Машина отправится в 1963 год, а может, хочет вынуть какую-нибудь деталь, чтобы враг не воспользовался нашей Машиной.
Я иду дальше. Сегодня седьмое сентября, остается два дня до гибели отряда. Я понимаю, что иду к гибели, потому что только мне известен конец нашего пути. Но сейчас я бы не мог покинуть отряд. Профессор Грюн объясняет это действием закона временного притяжения: время притягивает нас к себе, взваливает на нас свои заботы, и нам становится трудно мыслить тысячелетними категориями, мы начинаем мыслить категориями года, месяца и даже одного дня.
Хоть я и занимался двадцатым веком, но по-настоящему узнал его только сейчас. Я не понимал, как люди могли жить в этом времени, когда каждая жизнь висела на волоске, когда была почти стерта грань между жизнью и смертью. Теперь я понимаю. Теперь я вижу, что на грани смерти может быть настоящая жизнь.
Я вспоминаю слова Юрека о том, что бесчеловечность нельзя оставлять на земле в надежде, что из нее когда-нибудь произрастет человечность. Обезьяна больше не превратится в человека, она скорее весь мир превратит в обезьян и заставит их стыдиться всего человеческого. Когда обезьяна вооружена до зубов, очень трудно превратить ее в человека…
— Хальт!
Я останавливаюсь. Передо мной стоит вооруженная до зубов обезьяна, та самая, которой не удалось стать человеком, а может быть, Человек, которому удалось стать обезьяной, и он торжествует по этому поводу, потрясая оружием в знак победы нам тем, что когда-то сделало его человеком…
12. Ян-1941
Годы жизни: 4092–1941. Как будто я жил до нашей эры.
Сегодня моя эра кончится, какой бы она ни была. Кончится за две тысячи лет до начала моей эры…
Сначала мне повезло: я встретил интеллигентного человека. Он не был похож на фашистов, о которых я писал в своей диссертации. Он сам признался, что не одобряет жестокостей, которых, как ему кажется, многовато в этой войне, хотя обстановка зачастую вынуждает к жестокости. Правда, сам он старается ее избегать и проявлять гуманность — в той мере, в какой позволяет обстановка.
Доводы его были разумны, если отвлечься от этой самой обстановки, в которой протекал разговор. Он сослался на Христа и Пилата: для Христа человечность — дело обычное и естественное, а для Пилата — исключительное, поскольку противоречит его миссии, делу его жизни. Поэтому когда Пилат умывает руки, это больший подвиг, чем когда Христос умирает на кресте.
Видимо, он считал себя Пилатом, но ему не давали покоя лавры Христа. Ему хотелось себя вознести, но так, чтобы при этом избежать распятия.
Разговор приобретал философский характер. Мы сидели в креслах и не спеша обменивались мнениями. Внезапно из-за стены донеслись глухие удары и крик…
— Какая слышимость, — поморщился мой собеседник. — Кстати, не узнаете голос? Мне кажется, вы должны его знать…
Я не понял, что он имеет в виду. Может быть, Юрека тоже схватили? Может быть, схватили весь отряд? А может быть, это Вацек дает свои показания?
— Что там происходит?
— В соседней комнате? То же, что у нас с вами здесь, только другим методом. Видите ли, меня всегда возмущал метод физического воздействия на человеческую душу. Я не хирург, я терапевт, даже гомеопат. Хотя лечу человечество от той же болезни.
Я задал ему вопрос: чем может кончиться для меня это лечение? Он сказал, что не стоит переоценивать возможности медицины, нередко исход болезни зависит от поведения самого больного. Хотя, сказал он, я не похож на больного, вид у меня вполне здоровый, точней, здравомыслящий.
— Так отпустите меня.
— Чтобы вы тут же попали в соседнюю комнату? Я бы, может, вас отпустил, но там вас так легко не отпустят.
Это наглядный пример того, как трудно такому человеку, как он, проявлять гуманность. Вот и я прошу, чтоб он меня отпустил, а куда меня отпускать? Туда, где никто не станет со мной церемониться? Он говорит мне честно, мне еще повезло: к нему попадают немногие, большинство попадает туда, за стенку. В этом тоже особенность его метода: пока он поговорит с одним человеком, в соседней комнате пропускают пять… Нет-нет, он меня не торопит, хотя, конечно, из-за нашей с ним медлительности несколько человек будут лишены возможности облегчить свою участь. Возможно, это будут мои друзья… Впрочем, сказал он, это естественная человеческая слабость. Когда нам самим хорошо, мы забываем о тех, кому в данный момент приходится плохо…
— Уже?
Это вырвалось так неожиданно, что он улыбнулся:
— Зачем вы меня спрашиваете? Я ведь вас ни о чем не спрашиваю, у нас ни к чему не обязывающий разговор.
Видимо, он знал больше, чем говорил. Не исключено, что его уже успел информировать Вацек. Тогда, значит, не Вацек там, за стеной. Мне стало страшно, когда я подумал, что, может быть, там Анна…
— А в этой комнате, за стеной… Кто там сейчас?
— Значит, вы все же не узнали по голосу? Там две комнаты: в одной женщина, в другой — мужчина. Видите ли, все мы, и мужчины, и женщины, всего только люди, слабые, избалованные существа. Мы привыкли, чтоб с нами обращались по-человечески. А когда с нами обращаются не по-человечески, мы забываем, что мы люди, и ведем себя, как обыкновенные животные. Лишь бы избавиться от боли.
И тут я понял, что хотя история и совершилась, но в ней не все еще определено. Отряд погибнет, от этого ему не уйти, но погибнуть он может по-разному. В материалах архива ничего не сказано о том, какой смертью погибли члены отряда.
Если б они попали сюда, в эту комнату, им была бы обеспечена легкая смерть…
Я попросил его помочь. Ведь он сам сказал, что говорит со мной, как человек с человеком. Я попросил его сделать так, чтоб мои товарищи попали к нему, а не туда, за стенку.
Я нарисовал ему карту продвижения отряда (нарисовав, я узнал в ней ту самую карту, которая впоследствии попала в архив). Я попросил, чтобы он ни в коем случае не дал захватить отряд этим палачам. Раз мои друзья все равно погибнут, — спастись они не могут, это известно мне из истории, — то пусть хоть будет легкой их смерть.
Он обещал мне. Но он меня обманул. Он и меня отправил туда, за стенку, в расчете, что там еще что-нибудь из меня вытянут. Понтии пилаты всегда умывают руки в крови…
И тогда я сделал заявление. Я сказал, что я — лицо неприкосновенное, поскольку принадлежу другим временам. Они не имеют права убить меня в 1941 году, потому что я только появлюсь на свет в 4092 году и должен жить в сорок втором веке.
Это не произвело того эффекта, который должно произвести появление человека из будущего. Меня обозвали симулянтом, выдающим себя за сумасшедшего в расчете на то, что с сумасшедшего меньший спрос. Но у них со всех одинаковый спрос. И тут же доказали мне это, после чего я долго не приходил в сознание.
Очнулся я в кресле у моего интеллигентного собеседника, он смотрел на меня сочувственно и качал головой.
— Теперь вы понимаете, как по-разному можно осуществлять одни и те же идеи? Успокойтесь и постарайтесь сосредоточиться. Ваш год рождения?
— 4092.
— А вас не смущает тот факт, что сейчас у нас 1941 год?
— Я угнал Машину Времени.
— Очень любопытно. Значит, вы прибыли к нам из сорок второго века. Удивительное совпадение. Вам не знакома такая фамилия: Шмит?
— Нет. А почему я должен знать этого человека?
— Не просто человека, а вашего современника. Он тоже утверждал, что прибыл из сорок второго века. Точнее — из 4119 года.
— Я тоже из этого года.
— Вот видите. Разница лишь в том, что вы угнали эту вашу Машину Времени, а он искал того, кто угнал Машину Времени. Уж не вас ли?
Я согласился, что, возможно, искали меня. И даже обрадовался, что обо мне не забыли.
— Очень стройная версия, не правда ли? — улыбнулся мой собеседник. — Но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Однако по порядку: в 1914 году, в самом начале нашей военной кампании, с фронта дезертировал рядовой Шмит. Он был задержан, предстал перед судом и был приговорен к расстрелу. Все нормально, все по законам военного времени. Но солдат, который должен был привести приговор в исполнение, не вернулся, исчез, и его десять лет считали дезертиром. Да, именно десять лет, потому что объявился он в 1924 году, когда война давным-давно была окончена, и, конечно, был задержан. В деле его не было полной ясности, предполагалось, что он работает на Россию. На суде он рассказал, что приговоренный к расстрелу Шмит предложил ему прокатиться в Машине Времени. Он сначала не поверил, но решил, что ничего плохого не произойдет, если он посмотрит на эту Машину. Тем более что она находилась где-то поблизости. А потом, когда он увидел Машину, ему захотелось уличить этого дезертира во лжи, и он сел в Машину. Что было дальше, он не помнит. Очнулся он якобы в 1419 году, приговоренный со своей Машиной исчез, и не было возможности осуществить меру наказания. Хотя тогда это делалось без задержки: незадолго до этого был сожжен на костре Ян Гус, вслед за ним был сожжен Иероним Пражский… Дальше подсудимый рассказывал то, что всем известно из истории, утверждая, однако, что был свидетелем этих событий. Десять лет он проскитался в чужом времени, после чего опять появился приговоренный Шмит — на этот раз уже из 4129 года — и помог ему добраться в 1924 год. И опять Шмит так быстро исчез, что не было никакой возможности привести приговор в исполнение.
Конечно, у суда не было и тени сомнения, что обвиняемый был завербован приговоренным и в течение десяти лет действовал в пользу Советской России. До полного признания его держали в тюрьме, а в дальнейшем след его затерялся.
— И вот теперь вы прибыли из сорок второго века. Добро пожаловать, мы давно вас ждем… — он вздохнул с облегчением, завершая затянувшийся разговор. — Отдыхайте пока. Скоро за вами приедут.
Скоро… Я не знаю, какое сегодня число: седьмое, восьмое или девятое. Возможно, сегодня — последнее для меня число. Человек с годами жизни 4092–1941 сегодня, возможно, окончит свой жизненный путь, который никто никогда не сможет измерить.
Я слишком много знал, Анна. Я тебе об этом не говорил, а если бы и сказал, ты бы все равно не поверила, но с самого начала, когда я лишь только пришел в отряд, я уже знал, что с ним будет. Я знал, что Вацек предаст отряд (правда, тогда еще не знал, что именно Вацек), знал, что последний день вашей жизни — девятое сентября. И никуда от этого не уйти, потому что для меня история уже совершилась, потому что я человек из других времен, — ты помнишь, я тебе говорил, но ты не поверила. Ты и теперь не поверишь, потому что ни о чем не узнаешь. Ты будешь считать не Вацека, а меня предателем. И если нам придется умирать вместе, ты не посмотришь в мою сторону, а если посмотришь, то плюнешь мне в лицо. И все вы, мои друзья, заклеймите меня последним проклятием, вы, кого я любил так, как не любил никого в моем сорок втором веке. Впрочем, уже не моем. Для меня этот век так же недостижим, как для вас, потому что мне в него уже не вернуться…
История останется недописанной. И никто не узнает о подвигах Юрека и о предательстве Вацека, мне-то известно, что имена их не сохранятся. Если б я мог как-то передать, сообщить каким-то образом эти сведения. Было бы легче умереть, знал бы, что жил не напрасно.
Профессор Посмыш, ваш аспирант ничего не сделает для науки. Вы всегда говорили, что в науке нет легких путей, — Машина Времени — это легкий путь, но кончается он для меня очень трудно.
Ночь, всего лишь одна короткая ночь среди веков и тысячелетий, но как долго она тянется… Может, время выбросило меня из себя — и я обречен жить вне времени, потому что никакое время меня не примет? Что может быть хуже этой бесприютности — во времени, а не в пространстве?.. Мне никогда не увидеть света, вокруг меня всегда будет ночь…
Нет. Я шестнадцать дней был в отряде и делал то, что делали все. Я убивал фашистов, я научился их убивать, чтобы избавить двадцатый век от средневековья. Значит, я не был чужим в этом веке, почему же он от меня откажется? Я имею право умереть в этом веке, как Стась и его друзья. Как мои друзья. Как ты, Анна.
Все, что я мог тебе сказать, теперь не имеет смысла, его и раньше не было, потому что все было заранее предрешено. Страшно выглядит история, если смотреть на нее не с конца, а с начала и знать, что все заранее предрешено. Краковский университет даст первый послевоенный звонок, он распахнет свою дверь, но будет напрасно ждать тебя, Анна. И все же он будет надеяться и каждый год, с первым звонком широко распахивать свою дверь, но ты никогда в нее не войдешь, потому что для тебя никогда не наступит послевоенное время. И дом, не построенный Збышеком, так и останется непостроенным домом, и, хотя вокруг будет много новых домов, этот так и останется непостроенным. И все автобусы во всех автопарках будут напрасно ждать, что к ним за руль сядет Юрек. И все издательства будут напрасно распечатывать конверты в надежде, что Стась прислал им свои стихи. Потому что, хотя многое в истории повторяется, в ней никогда не повторяется человек. Сколько б ни прошло веков, сколько б ни родилось новых людей, этот человек уже не повторится.
Прощай, Анна… Так случилось, что мы живем в разные времена и только умереть можем в одном времени. Прости меня, Анна, что я главного тебе не сказал, но что бы я тебе ни сказал, ты бы все равно не поверила. Будущие времена всегда несбыточны для прошлых времен, но и прошлые времена тоже бывают несбыточными…
Гремят замки. Меня выводят из подвала. Приехавший за мной эсэсовец приказывает поместить меня на заднее сиденье, а сам садится за руль. Руки и ноги у меня крепко связаны: необходимая меча предосторожности, потому что едем мы без охраны.
Машина трогается с места. Офицер за рулем долго молчит. Потом говорит словно в раздумье:
— В первую мировую я был рядовым. Но в нашем деле лучше быть офицером. — Он останавливает машину. — Давайте знакомиться: инспектор службы розыска Шмит.
13. Ян-4119
Я помню это письмо слово в слово:
«Дорогая мамочка! Я по-прежнему жив-здоров, иду по Германии и приближаюсь к Берлину. Скоро уже кончим эту войну. Недавно встретил Марысю, помнишь, я тебе о ней писал? Связная нашей «Анны». Она мне рассказала, как погиб отряд, когда я встретился с ней после ранения. Одного из погибших я не знал, он пришел в отряд, когда я был ранен и проходил лечение на чердаке бабы Зоей. О нем ходили нехорошие слухи, но подробно я ничего не успел узнать. Марыся говорит, что слухи вроде бы подтвердились: одна женщина разговаривала с Анной накануне казни, но женщину эту Марыся не знает, знает лишь то, что слышала от других…
Это письмо напечатано в послесловии к книге «Теория множеств», которую подарил мне профессор Посмыш с надписью: «Янек, это как раз то, чего вам не хватало!» Там говорится, что выдающийся математик двадцатого века Вацлав Козельский, создатель системы грантов, основополагающей в современной теории множеств, погиб, так и не дойдя «до Берлина, и его математические работы были обнаружены лишь спустя двести лет. Письмо к матери было его последним письмом, и его оригинал хранится в центральном математическом архиве.
Вацлав Козельский! Это имя мне хорошо известно. А кому оно не известно? Точно так же, как имена Пифагора, Эвклида, Лобачевского… Все это мы проходили в школе, но я никогда не думал… Вацлав Козельский. Вацек… Особенный человек. Недаром Анна считала его особенным человеком.
И в то время, когда он, Вацек, прячась на чердаке бабы Зоей, совершал свое великое открытие в математике, я заменил его в отряде, я стал тем пятым, который выдал отряд.
Это я выдал отряд. Я думал, что его выдали до меня, что история уже совершилась, а она совершилась при моем участии. В этом была моя ошибка. В какое бы время мы ни жили, мы не должны думать, что история совершается без нас, — то, что происходит при нас, происходит при нашем участии. Притяжение времени, закон великого Панасюка.
«…И до последнего своего часа она не могла поверить, что их предал человек, которого они считали своим, а главное — человек, которого она…
Анна, мне страшно поверить… Я считал, что ты любишь Вацека, Вацлава Козельского, вспомни, как ты о нем говорила… Мог ли я подумать, мог ли хоть на минуту предположить…
Я не выдержал испытания времени. Не будущего времени, которое прощает легко, а прошлого, которое ничего не прощает. Люди жили и умирали до нас, и от нас зависит, чтобы их жизнь не была лишена смысла. Сами они уже ничего сделать не могут, им остается надеяться только на нас… Человек не должен быть ниже своей эпохи, тем более ниже прежних эпох. Иначе он предает историю и каждого жившего до него человека…
Я слышу голос Анны:
— Янек, ты ведь не хотел нас предать, ты только хотел облегчить наши мучения.
— Это не имеет значения. Значение имеет лишь результат.
— Нет, Янек, не только результат. Иначе о нашем отряде давно бы забыли, потому что мы не так много сделали. Сам подумай, что может значить наша горсточка, если важен лишь результат?
Нет, Анна, я не вижу себе оправдания. Что я могу? Еще раз угнать Машину Времени?
Да, конечно, я ее еще угоню, я к вам вернусь, и все опять повторится… Я вернусь в тот самый день, и ты поведешь меня в землянку и будешь поить меня чаем, и ты скажешь:
— Когда война кончится, я непременно стану учительницей.
И ты спросишь:
— Как вы думаете, когда кончится война?
И я отвечу тебе:
— Через восемнадцать дней.
Потому что для тебя это так и будет.
Стена
Друг мой, я по-прежнему стою у стены, у которой мы с тобой когда-то стояли. За стеной была чья-то беззаботная жизнь, о которой нам было ничего не известно, как и о нашей жизни, потому что мы стояли с тобой у стены. На нас смотрели десять круглых металлических глаз, которым достаточно было моргнуть, чтобы наша жизнь прекратилась. И мы смотрели в эти пустые глаза и ждали, что сейчас они моргнут с грохотом и мы навеки оглохнем и ослепнем, станем такими же мертвыми, как эти слепые глаза. Рядом с нами были девочка и старик, и старик ладонью прикрывал глаза девочке, чтоб она не смотрела. И был юноша — помнишь? — как две капли похожий на того, который стоял напротив и пялил на нас металлический глаз. Потом еще женщина, с такой неуместной красотой — там, где все было сплошным уродством. Был рабочий, не успевший вымыть после работы рук и прятавший их, чтоб не запачкать белую стену. И он — впервые — не знал, что делать со своими руками, с перепачканными мазутом руками — рядом с этой белоснежной стеной. Была там еще мать, вернее, еще не мать, а та, что собиралась стать матерью. И она боялась, что не успеет стать матерью, — времени у нас было в обрез. Были там еще двое, но я не помню ни возраста их, ни лиц, ни даже пола — ничего не запомнилось. Только то, что их было двое…
За стеной слышалась музыка, там была «чья-то квартира, и кто-то крутил пластинку — арию из оперетты «Веселая вдова». Единственная веселая среди всех этих невеселых вдов пыталась их развеселить, но, кажется, безуспешно. Мы стояли, прижавшись к стене, как будто подслушивая чужую жизнь, нам оставалась чужая жизнь, потому что своей мы уже не имели.
Помнишь: первой нас покинула красивая женщина — она вышла замуж и стала жить по ту сторону стены. Мы слышали, как там кричали «горько!», как двигали мебель, благоустраивая жизнь. И юноша, похожий на того, с металлическим глазом, как-то сразу осунулся и уже не так ровно стоял у стены, потому что рядом с ним не было той женщины. И мы тоже, друг мой, чего скрывать, смотрели на мир не так браво. Не из-за женщины, нет, а просто — когда уходит красота, как-то теряется организующее начало.
Та, что собиралась стать матерью, стала ею и ушла по своим материнским делам. Туда, по ту сторону стены, где звучала веселая музыка. Теперь к этой музыке прибавился крик ребенка. Ребенок надрывался, он заявлял о себе, но веселая вдова не думала о ребенке. Беспорядочная, разноголосая, всецело собой поглощенная жизнь то спокойно текла, то бурлила по ту сторону…
Девочка выросла, и, как старик ни Закрывал ей глаза, она увидела юношу, стоявшего рядом.
Один за другим уходили стоящие рядом — туда, по ту сторону стены. И ты ушел, мой друг, чтоб не стоять под металлическим глазом, чтобы кричать «горько» и слушать веселые песни вдовы, чтобы стена, вытолкнувшая тебя на смерть, укрыла тебя для жизни.
Друг мой, я по-прежнему стою у стены, у которой мы с тобой когда-то стояли. Умер старик, от которого ушла его девочка, ставшая взрослой, а на их месте — другая девочка и другой старик. А те, помнишь, двое, со смутными лицами и неопределенным возрастом и полом, они стоят теперь против нас, пяля металлические глазницы, которые вот-вот моргнут.
Нет крыши над головой, по эту сторону нет, а по ту — надежная, прочная крыша. И еще три стены, окружившие вместе с нашей квадрат жизненного пространства. Мы — вне жизненного пространства, вне крыши, вне четырех стен, теплых внутри, а снаружи холодных, мы стоим у холодной стены, за пределами жизненного пространства, один на один со смертью, целящей в нас черные пустые зрачки. Рабочий вымыл руки, он белит стену и пишет на ней крупно: «Не прислоняться!» Бесполезные слова, потому что все стоят к ним спиной и, кроме того, нам больше не к чему прислоняться. У нас нет ничего, кроме этой стены. Рабочий постарел, а все не уходит от стены, для него постоянно находится здесь работа. Он сделал деревянный настил, чтобы нам не стоять на сырой земле, соорудил перила, чтобы было на что опираться… Теперь нам легче, удобней. Но мы по-прежнему стоим у стены.
Недавно здесь появилась торговка живыми цветами. У нее огромная корзина цветов, на которые тоже направлены металлические зрачки, потому что цветы тоже живые. И торговка спешит их продать, пока они живые, чтобы на вырученные деньги купить комнатку по ту сторону стены. Я купил хризантему, хризантемы долго живут, они показывают, как надо жить, когда тебя сорвали, когда поставили у стены. Я смотрю на нее и думаю: я еще поживу, поживу, между жизнью и тем, что глядит на меня пустыми зрачками, я еще поживу…
Друг мой, я по-прежнему стою у стены, у которой мы с тобой когда-то стояли…
Изобретатель вечности
Изобретатель Вечности умер в 1943 году, в маленьком курортном городке на берегу Средиземного моря. Незадолго перед тем в этом море пошел ко дну представитель оккупационного командования, пожелавший освежиться в оккупированных водах и оставшийся там дольше желаемого.
В это время в воде находились:
ПРОФЕССОР ЭНТОМОЛОГИИ, пятидесяти восьми лет, тридцать пять из которых были отданы не собственной жизни, а жизни различных насекомых;
КОММЕРЧЕСКИЙ АГЕНТ небольшой торговой конторы, выглядевший старше своих тридцати двух лет;
ПОЧТАЛЬОН, выглядевший моложе своих шестнадцати лет;
СТУДЕНТКА МЕДИЦИНЫ двадцати лет с небольшим; ПАРИКМАХЕРША дамского зала, тридцати лет с небольшим;
БАКАЛЕЙЩИЦА, владелица бакалейной лавки, некоторых лет с небольшим; а также СТАРУХА-МАНЕКЕНЩИЦА, возраст которой уже ни для кого не представлял интереса.
Все эти лица были обнаружены в воде после того, как от представителя оккупационных властей перестали поступать какие-либо известия. Коммерсант и Парикмахерша оживленно беседовали в воде (не заходя, впрочем, глубоко, чтобы быть на виду у собеседника), Старуха у самого берега принимала морские ванны, остальные плескались каждый сам по себе, поскольку в то время были еще незнакомы.
Все они были доставлены на берег и взяты в качестве заложников, с угрозой, что через месяц будут расстреляны, если не объявится настоящий преступник. Их поместили не в тюрьму, чтоб они не утратили вкус к жизни, а, напротив, предоставили им комфортабельный особняк, снаружи зарешеченный и тщательно охраняемый, но внутри довольно уютный.
Это был своего рода эксперимент.
Первый день тянулся долго, и Профессор объяснил это причинами субъективными. Время, сказал он, в значительной степени явление психологическое, зависящее от процессов, которые происходят внутри нас. Радость убыстряет время, горе замедляет его; а ожидание смерти заставляет ползти совсем медленно, потому что жизнь сопротивляется смерти.
Старуха-манекенщица охотно поддержала разговор о смерти. Разговоры об общей участи отвлекали ее от мыслей о собственном неизбежном конце. В то время, когда Старуха-манекенщица была манекенщицей, а не старухой, мысли о бренности жизни не посещали ее, тогда она видела в жизни другие стороны. Но коловращение жизни повернуло ее к Старухе бренной стороной, и уже ничего не было видно, кроме бренности. Морские ванны должны были Старухе помочь, но они, напротив, погубили ее окончательно. Такое беспокойное время: кто-то кого-то топит, а больного человека вытаскивают из воды, прерывают курс лечения…
— Не нужно говорить о смерти, — сказала Бакалейщица. — Пока мы молоды… — она осеклась, поймав на себе критический взгляд Парикмахерши.
Профессор считал, что она права, что для того, чтобы жить, нужно сосредоточить себя на жизни. Есть насекомые, жизнь которых составляет всего несколько часов, но это отнюдь не приводит их в отчаянье. За свои несколько часов они проживают не меньше, чем крокодилы за триста лет.
— Неужели за триста? — у Старухи заблестели глаза, и ее собственный возраст показался ей младенческим.
— Ненавижу насекомых, — сказала Парикмахерша. — И крокодилов тоже, не понимаю, зачем им так долго жить.
Коммерсант предложил Студентке прогуляться по коридору, но Студентка уткнулась в конспект и не слышала его приглашения. Тогда Коммерсант послал Почтальона за газетами, — может быть, в доме сохранились какие-нибудь газеты, — а Старухе предложил выгладить ему брюки, — если, разумеется, в доме найдется утюг.
Старуха кивнула, думая о крокодилах. Неужели они так долго живут? Триста лет! А тут — какой-нибудь месяц. Что можно успеть за месяц? Только не пожить. Пожить не успеешь и за всю жизнь, не то что за какой-то там месяц. Насекомые — другое дело, у них потребности крошечные. И вообще неизвестно, зачем они живут. А крокодилы зачем живут? Непонятно зачем, правильно сказала Парикмахерша. Триста лет живут — и непонятно зачем.
— Все относительно, — сказал Коммерсант. Он был относительно небольшой коммерсант, и это заставило его исповедовать теорию относительности… Каждый город — маленькое государство, каждый дом — маленький город…
— Какой у нас миленький город, — сказала Парикмахерша, окидывая взглядом городские стены и потолок.
Коммерсант предложил ей прогуляться по коридору, но она отказалась. Она была дамской парикмахершей, и сердце ее замирало при виде мужчин, которые стриглись в соседнем зале. Их бороды и усы были для нее полной загадкой, и, придя с работы домой, она подолгу стояла перед зеркалом с бритвой в руке, воображая, что бреет клиента. Но в дамском зале, а тем более в ее одинокой комнатке, брить было некого, и рука ее повисала в воздухе, как птица на бреющем полете…
Почтальон принес газету. Он обнаружил в кладовке целую пачку старых газет, но принес только одну, чтобы обеспечить ежедневную доставку почты. Он распределил газеты по датам, и хоть все они были пятилетней давности, но каждая, по сравнению с более старой, сообщала новости посвежей, и это обеспечивало регулярный приток информации.
Коммерсант развернул газету и прочитал о сформировании правительства Даладье, три года назад ушедшего в отставку. Весть о сформировании правительства Даладье, в свое время не оправдавшего ничьих ожиданий, теперь была воспринята с радостью, поскольку обозначала уход в отставку оккупационных властей. Было, правда, опасение, что правительство Даладье уступит место правительству Поля Рейно, которое в самые трудные дни сбежит из Парижа, уступив страну Маршалу Петену, который уступит ее все тем же оккупационным властям. Круговорот истории, связанный с чтением старых газет. И хоть говорят, что новое — это хорошо забытое старое, но иногда старое возвращается так скоро, что о нем даже не успеваешь забыть.
— Все относительно, — сказал Коммерсант, углубляясь в газету.
Да, конечно, все относительно. В сущности, человек уже при своем рождении приговорен к смерти, разница лишь в том, когда будет исполнен приговор — через день, через месяц или через столетие. Эту мысль высказал Профессор, знаток биологических систем, имеющих разную продолжительность, но одинаковую завершенность.
Еще там, на пляже, Парикмахершу привлекла роскошная борода Профессора, и здесь ее продолжала смущать его борода. Пальцы ее сжимали отсутствующую бритву, и рука ее взлетала, как птица в свой бреющий полет.
— С точки зрения бабочки-поденки тридцать дней, которые нам отведены, это не такой уж малый срок, — сказал Профессор энтомологии.
— Для этой бабочки час — как год, — кивнул Коммерсант. — У нее время идет по повышенному курсу. Мы, люди, живем в условиях временного изобилия, поэтому мы не ценим времени. А если б у нас на счету был каждый день, мы пустили бы его по повышенному курсу.
— И получили б те же прибыли? — усомнилась Бакалейщица.
— Конечно. Произвожу элементарный подсчет: предположим, час идет по курсу месяца. Значит, сутки у нас составляют два года, а месяц шестьдесят лет.
— Это заманчиво, — улыбнулся Профессор и подмигнул Старухе-манекенщице. — Мы еще проживем шестьдесят лет.
— Не с моими болезнями, — не приняла его оптимизма Старуха.
Бакалейщица вздохнула:
— Мы — бабочки, которых посадили в общую коробку и позволили прожить в ней тридцать дней…
— Шестьдесят лет, — поправил ее Почтальон. — Привыкайте к новому летосчислению.
Все привыкали к новому летосчислению. Первые несколько месяцев прошли в устройстве на новом месте.
Профессору отвели отдельный кабинет, чтобы он мог заниматься научной работой. Кроме того, ему предстояло вести работу преподавательскую: читать Студентке курс лекций, проводить с ней семинарские занятия, а впоследствии принять у нее экзамен.
Старуха-манекенщица молодела у всех на глазах. Ведь молодость измеряется не тем, сколько прожито, а тем, сколько еще предстоит прожить. Теперь Старухе предстояло прожить столько же, сколько молодой Студентке и юному Почтальону, и если б не ее болезни, она бы чувствовала себя такой же молодой, как они.
Все стали ровесниками, и сорокалетняя (скажем так) Бакалейщица обратила внимание на тридцатилетнего Коммерсанта. Она сразу выделила его среди прочих своих ровесников — шестидесятилетнего Профессора и шестнадцатилетнего Почтальона. Этому способствовало и то, что, в своей семейно-бакалейной жизни отягощенная многочисленной семьей и толпами покупателей, она впервые оказалась в столь малолюдном окружении, что смогла разглядеть каждого отдельного человека.
Через два года после знакомства (сутки по старому летосчислению) Почтальон доставил Бакалейщице первое письмо, в котором ей было назначено первое свидание в коридоре. А еще через три месяца Коммерсант получил ответ. Расстояния были короткие, и почта работала вовсю, но письма шли очень долго — по новому летосчислению.
Почувствовав прилив молодых сил, Старуха-манекенщица принялась наводить в доме порядок, о котором в своем собственном доме уже не думала много лет. Теперь у нее было будущее — пусть не слишком большое, но не меньшее, чем у других, а главное — здесь ей было для кого стараться. Едва открыв глаза, она лихорадочно соображала: нужно прибрать у Профессора в кабинете, а еще до того подготовить рабочее место для Парикмахерши, а еще раньше разбудить Почтальона и собрать его в путь, чтобы он успел доставить утренние газеты.
Она будила Почтальона, наскоро кормила его и провожала до дверей из столовой в гостиную. Затем протирала зеркало Парикмахерши, ставила перед ним кресло и аккуратно раскладывала орудия парикмахерской деятельности: расчески, ножнички, щипчики, бигуди… Она сама удивлялась своей энергии. Она могла три месяца подряд тереть пол, чтоб довести его до полного блеска, провести неделю у какого-нибудь серванта, сообщая ему приличный и эстетический вид. У каждой двери она положила половичок и строго следила, чтоб ноги вытирались при переходе из комнаты в комнату и обратно. Домашняя работа не имеет начала и конца, и это в какой-то мере приобщает ее к вечности. Может быть, потому молодые ее любят меньше, чем старики, а старики обретают в ней спасительное ощущение, что всему этому никогда не будет конца… Старуха-манекенщица, казалось, демонстрирует эти чужие комнаты, как демонстрировала когда-то чужие одежды. Ну-ка поглядите, не согласитесь ли здесь пожить? Только в этих комнатах можно жить в нынешнем сезоне! Только в этих — и только в этом сезоне!.. Потому что жизнь бабочки — только один сезон.
Так проходили годы, и, как это обычно бывает с годами, они пролетали, как один день. В свободные от лекций часы Профессор писал монументальный труд: «Жизнь бабочек в условиях закрытых помещений».
В том большом мире, где время измерялось полновесными годами, была война, но здесь об этом никто не думал, потому что здесь люди жили в другом измерении. Они и прежде не мыслили слишком широко, и там, где их никто не ограничивал, ограничивали себя сами: жизнь в маленьком мире имела те преимущества, что избавляла человека от больших бурь. Профессор ограничивал себя энтомологией, Бакалейщица — бакалеей и семьей, Парикмахерша — дамским залом, за которым начинался неведомый ей мужской, полный тревог и опасностей, как всякий мир, которым правят мужчины.
— Посидим под плафоном, — предлагал Бакалейщице Коммерсант, и они усаживались под плафоном, который лил на них лунный свет.
Это сидение под искусственной луной возвращало Бакалейщицу в те далекие годы, когда и луна была другая, и Бакалейщица была другая, да и человек, сидящий с нею рядом, был совершенно другой. Тот человек, впоследствии Бакалейщик, впоследствии супруг и отец пятерых детей, тогда еще был никем, но именно тогда он был ей особенно дорог. Лунный свет… Возможно, во всем виноват лунный свет, делающий близким постороннего человека. Потом, когда он рассеется, станет ясно, что человек чужой, но это придется скрыть от него, от себя и от всех, потому что будут общие дети, общая семья и общая бакалея… А больше — ничего общего, а особенно того, что когда-то привиделось в лунном свете…
Едва зародившись, отношения между Бакалейщицей и Коммерсантом встретили горячую поддержку со стороны остального населения этого ограниченного мирка. Почтальон целиком посвятил себя их переписке, тратя на доставку корреспонденции не более одного дня. Студентка восстанавливала в памяти забытые стихи и, как листовки, разбрасывала их по комнате. А Старуха-манекенщица, глядя дальше других, тайком шила пеленки. Хотя, для того, чтоб понадобились пеленки, нужно было не шестьдесят, а чуть ли не шестьсот лет по новому летосчислению, но истинная любовь не боится подобных препятствий, и Старуха шила пеленки, веря в истинную любовь.
Между тем виновники всех этих предприятий сидели в центре внимания, совершенно его не замечая. Таков эгоизм любви: она ничего не замечает, когда сидит вот так, под плафоном.
— Взгляните туда, — говорила Бакалейщица, поднимая кверху глаза, а вместе с ними — мечты и надежды. И там, под сводами вечернего потолка, ее мечты встречались с его мечтами, а ночь уже подступала, окружая их плотной стеной, говоря точнее — четырьмя плотными стенами…
Так пролетело тридцать лет, и Старуха забеспокоилась, что не успеет дошить пеленок. Здесь, в этом замкнутом мире, годы летели особенно быстро, и она почувствовала, что опять начинает стареть. Давали о себе знать болезни, оставшиеся еще от той, прежней старости, и порой она месяцами не вставала с постели, а однажды провела в постели целый год.
Она вспоминала полновесные годы своей молодости… Хотя молодость подвижней, чем старость, но движется она медленней. А старость летит, как на крыльях, — пусть на старых, немощных крыльях, — но она так пролетает, что за ней не поспеть.
Особенно сейчас это чувствуешь. Только поселились, начали жить, — и уже тридцать лет прошло. И осталось всего тридцать лет. Бабочкино время.
Это было грустно, тем более, что Старуха всегда оставалась в душе манекенщицей, храня верность ушедшей юности и красоте. Это трудно хранить верность юности и красоте, которые сами не способны сохранить верность.
И вот в этот безнадежный момент, когда спасения, казалось, ждать было неоткуда, Почтальон принес Старухе письмо:
«Учитывая катастрофическое вздорожание времени, предлагаем считать час не месяцем, а годом. Таким образом, в нашем распоряжении еще триста шестьдесят лет».
В письме не было ни подписи, ни обратного адреса, но категорический его тон убеждал. Особенно убеждало то, что в любом случае триста шестьдесят лет предпочтительней тридцати лет, или пятнадцати дней — по первоначальному летосчислению.
Старуха почувствовала прилив новой молодости. Триста шестьдесят лет это минимум четыре жизни, и она начала жить за четверых, как жила тогда, когда была не старухой, а манекенщицей. Правда, тогда она не знала, сколько у нее впереди, а теперь научилась считать оставшиеся годы, потому что молодость определяется не тем, сколько прожито, а тем, сколько предстоит прожить.
— Господи, какие мы еще молодые! — воскликнула Старуха, предавая гласности полученное письмо. — Нам еще жить и жить… Жить и жить…
И пока она это говорила, прошло три дня. Но что такое три дня, — по новейшему летосчислению!
У Бакалейщицы и Коммерсанта длиннее стали свидания, но зато длинней и разлуки.
— Опять нам не видеться несколько лет, — сокрушались они, расходясь по своим комнатам, а встречаясь, восклицали: — Все эти годы! Все эти долгие годы!
Что может быть длиннее годов разлуки? На Плутоне год составляет двести пятьдесят земных лет, но даже его год короче года разлуки. Даже такого, который пролетает всего лишь за один час.
Поэтому дольше всех живут те, кто живет в разлуке. Для них каждый день — как год, а каждый год — как полтора года на Плутоне. А что такое полтора года на Плутоне? Это триста семьдесят пять земных лет в условиях вечного холода и вечного мрака, на расстоянии шести миллиардов километров от Земли.
Вот что такое годы разлуки.
Ежедневные газеты Почтальона стали сначала ежегодными, а потом доставлялись раз в двадцать четыре года. Но и при такой периодичности газеты не успевали читать. До газет ли тут, когда год просидишь в кресле у Парикмахерши, чуть ли не год конспектируешь одну лекцию, а на уборку тратишь не меньше трех лет?
А Профессор сидел над своей монографией, и на обдумывание каждой фразы у него уходило два, а то и три месяца. Ничего удивительного: это был серьезный научный труд, на который не жаль потратить и целую жизнь, «Жизнь бабочек в условиях закрытых помещений».
Жил-был Психиатр. Он лечил людей отложных представлений (если исходить из того, что истина известна нормальному человечеству), в том числе и от мании величия, то есть чрезмерного преувеличения собственных достоинств. Допустим, зяблик возомнил бы себя орлом — это мания величия в ее классической форме. А вот если бы орел возомнил себя зябликом — это уже не мания величия, а скорее комплекс неполноценности у орла. А если зяблик возомнит себя воробьем или орел возомнит себя соколом — это уже не мания и не комплекс, а вообще неизвестно что. То есть оно неизвестно нам, а Психиатру оно было известно.
Однажды, подводя итог своей многолетней деятельности, Психиатр обратил внимание на любопытный факт: за последние десять лет никто из его больных не возомнил себя Наполеоном. Наполеон — стандартная форма величия, а поскольку для неполноценных умов понятнее и доступнее форма, то первое, что приходит в голову такому уму, — это возомнить себя Наполеоном. Не встречалось за последние десять лет Жанны д'Арк и Джордано Бруно, Ньютона и Шекспира. Максимальными вершинами, до которых поднималось маниакальное воображение душевнобольных, были их ближайшие начальники: директора, заведующие, управляющие делами. У лейтенанта была мания, что он капитан, у капитана — что он майор, у майора — что он подполковник. Такое снижение маниакального потолка было тоже своего рода патологией, снижением потенциальных возможностей личности в результате утраты веры в себя. И Психиатр решил поднять этот потолок, привить своим больным манию истинного величия.
Он рассказывал им о подвигах, совершенных до них на земле, о путях, приводивших людей к величию. Он говорил о неисчерпаемых возможностях человека, о том, что разница между большими, средними и маленькими людьми — лишь в различной степени использования этих возможностей. Маленькая крестьянская девушка спасла огромную страну, совершила подвиг, незабываемый для истории. Каждая девушка имеет такую возможность.
— Что касается бабочек, то они, конечно, лишены этих возможностей, закончил Профессор свой рассказ, которым иллюстрировал лекцию, прочитанную студентке. — Потому что жизнь бабочки ограничена физиологией, бабочка не может выйти за пределы физиологии, а человек — может. Разорвать этот ограниченный круг, выйти за пределы физиологии — это, в сущности, и означает стать человеком. Человек становится тем выше, чем выше поднимается он над физиологией. Над бабочкиной физиологией. Над звериной физиологией. Над человеческой физиологией. Над физиологией всех, кто жил до него на земле.
Почта была доставлена с опозданием на целый год: Почтальон слушал лекцию Профессора. Прежде он не слушал его лекций: все они были о насекомых, то есть, в сущности, о мелочах, — но теперь, когда Профессор заговорил о людях, причем о выдающихся людях, Почтальон не смог пройти мимо и прослушал лекцию до конца.
Чем отличается человеческая жизнь от бабочкиной? Не только тем, что бабочкина короче. У человека есть возможности, которых у бабочки нет. Бабочка могла бы облететь вокруг земли, если б у нее была такая возможность. Но у нее нет такой возможности. А у человека есть.
Взять, к примеру, братьев Монгольфье, которые первыми поднялись на воздушном шаре. До них люди не умели летать. У них была возможность летать, но они не умели летать, потому что не использовали эту возможность. А братья Монгольфье использовали — и полетели. Они вышли за пределы своей физиологии — и полетели. И теперь никто не скажет, что люди не умеют летать…
Почтальон с детства мечтал стать летчиком, и, если бы не война, он бы непременно стал летчиком, потому что у него была такая возможность. Война временно лишила его такой возможности, но когда война кончится…
Хорошо мечтать о будущем, когда впереди почти четыреста лет. О том, как станешь летчиком, окончишь университет, научишься стричь бороды так, как их стригут в мужском зале… Или о том, как посвятишь все четыреста лет личной жизни, как завершишь работу над монографией и будешь нянчить младенцев… Боже, какие головокружительные открываются перед каждым из нас перспективы! Если б мир, который нас окружает, был построен заново и при этом строился из одних перспектив, он был бы удивительным миром. Только бы перспективы не сталкивались, не перечеркивали ДРУГ Друга, как перечеркивает перспектива нянчить младенца перспективу завершения монографии.
Мир тесен, и любая перспектива, продолженная до бесконечности, непременно пересечет бесконечное число перспектив и, в свою очередь, будет пересечена ими. И это не просто закон геометрии, который нельзя затвердить со школьной скамьи, — это закон жизни, который нельзя заучить, потому что он всякий раз создается заново.
Мы живем на пересечении перспектив, и мир, в котором они пересекаются, — тесен. Да, мир тесен, особенно если его заключить в четыре стены… Но разве стены — преграда для перспектив? Окружите нас десятками стен, упрячьте в каменные мешки, — и оттуда, в бесконечность, к далеким звездным мирам помчатся наши освобожденные, раскрепощенные перспективы…
И прошло еще двести лет, и Старуха опять почувствовала, что стареет. В ней уже не было той легкости, какая была двести лет назад, и она годами не вставала с постели. Жизнь уходила из нее, как уходит публика из демонстрационного зала, когда все моды исчерпаны, все модели показаны и пора закрываться… Пройдет немного времени — и пора закрываться. Осталось каких-нибудь полторы сотни лет…
И тогда Почтальон принес ей письмо:
«В соответствии с новой реформой времени, считать отныне годом не час, а минуту. Впереди у нас 9600 лет».
Почти десять тысяч лет… Практически это означает вечность. Никому из земных жителей не удавалось прожить столько лет. Библейский Мафусаил прожил 969 лет — смешно сказать, меньше тысячи! Да, Мафусаил был не жилец…
До сих пор Старуха прожила по разным летосчислениям около трехсот лет, а впереди у нее — почти десять тысяч… Старуха соскочила с постели и заняла очередь за Бакалейщицей, которой Парикмахерша делала укладку. Парикмахерша работала быстро, и не прошло и сорока лет, как она, покончив с Бакалейщицей, принялась за Старуху. Хотя — почему за Старуху? Разве можно назвать старухой женщину, которая прожила каких-нибудь триста лет? Крокодил живет триста лет, но умирает он стариком. А для нас в триста лет жизнь только начинается.
Часы тикали, отмеряя не часы и минуты, а годы и века. Полный круг часовой стрелки — почти тысяча лет. Еще круг — еще тысяча… И в одно прекрасное тысячелетие Почтальон обнаружил, что на него начинает давить потолок.
Дело было не в росте. Ростом Почтальон был ниже всех остальных, но на длинного Коммерсанта потолок не давил, а давил на малорослого Почтальона. Не потому ли, что он с детства мечтал стать летчиком? Или под влиянием лекции Профессора о потенциальных возможностях человека? Да, все дело было в потенциальных возможностях. Почтальону казалось, что потолок давит именно на эту его потенциальную часть и мешает ей воплотиться в действительность.
Почтальон спросил Профессора о Психиатре — удалось ли ему привить своим больным манию истинного величия и стали ли они нормальными великими людьми? Профессор ответил, что, к сожалению, пока еще величие не является нормой. Больше того: приобщаясь к величию, человек зачастую нарушает нормы — социальные, научные, эстетические или просто психические, если речь идет о чистой психиатрии. И наоборот: становясь абсолютно нормальным, человек зачастую утрачивает свое величие — не только патологическое, но даже истинное, которое должно бы являться нормой. История помнит юношу, который встречал на берегу корабли, радуясь их благополучному возвращению и глубоко страдая, когда с ними случалась беда. Это были не его корабли, и везли они чужие грузы, и никому не были нужны ни радости его, ни страдания, но он не уходил с берега, продолжая встречать корабли. Потом его вылечили, и он стал нормальным человеком. Его перестали волновать чужие беды и радости, он четко отличал свои беды и радости от чужих… От чего его излечили? От патологического или от истинного величия? Это случилось в древности, когда медицина еще не была настолько сильна, чтобы поставить правильный диагноз.
Вечность пролетала быстро: не успели оглянуться — и нет семи тысяч лет. И осталось всего три тысячи лет, пятьдесят лет по прежнему летосчислению. А по первоначальному — пятьдесят часов.
Время вокруг сжималось, тесней и тесней, и нельзя было распрямиться и шагу ступить в этом времени. Обычно его не видишь, не знаешь, сколько его впереди, и от этого легче дышится. А когда оно все на виду, и все меньше его и меньше, и уже так тесно, что только сидеть на корточках да ничком лежать на полу, тогда хочется и самому сжаться, стать бабочкой, чтоб еще хоть немного полетать, попорхать.
Но человек не может быть бабочкой, ему нужен настоящий простор, необозримый простор во времени и пространстве. И он умирает, когда у него не остается времени жить. Когда больше нет времени, чтобы жить, человек умирает.
Студентка перестала вести конспект: она больше не поспевала за Профессором. А Профессор спешил дочитать курс до конца: приближался экзамен.
— На каждого человека Земли приходится до тридцати миллионов насекомых, а по весу насекомые чуть ли не в десять раз превосходят все человечество. Человечество в подавляющем меньшинстве, поэтому так почетно принадлежать к человечеству…
Тикают часы, отмеряя минуты, дни и века. Минутная стрелка скачет не по минутам, а по годам, и весь ее путь — сплошной новогодний праздник. От нового года — к новому году, и нет никаких старых лет, все годы молоденькие, не старше минуты. Поэтому им так весело, они, как дошкольники, стали в круг, и по кругу этому скачет минутная стрелка. С Новым годом! С Новым годом! Только и успевай поздравлять, потому что больше ничего сказать не успеешь…
Тикают часы… Тикают часы… Почему они тикают так громко?
Оглушительные удары, от которых сотрясается дом. Как будто остатки времени колотятся в дверь, требуют, чтоб их выпустили отсюда… Время чувствует, что здесь, в этом доме, ему скоро придет конец, и оно рвется прочь, чтобы слиться со своей вечностью… Но ведь вечность здесь, она изобретена здесь. Десять тысяч лет, если считать годом минуту. Шестьсот тысяч лет, если считать годом секунду. Шестьдесят миллионов лет, если считать секунду столетием. И так далее, без конца. Именно — без конца, ведь без конца — это и есть вечность…
Почему же вечность боится, что ей наступит конец? Почему она колотится в дверь, требуя, чтоб ее выпустили из дома? Вечность, куда же ты? Дверь заперта, и за дверью стоит часовой. Он стоит на часах, на страже запертой вечности.
Тикают минуты, стучат часы, гремят столетия, и грохочет вечность.
И вдруг грохот смолкает. Внизу скрипнула дверь. И в наступившей тишине — тот же голос, который говорил: «Вам письмо. Вам газета», — теперь говорит:
— Это я прикончил вашего офицера.
Удаляющиеся шаги. И опять тишина. Присмиревшие часы тикают еле слышно.
Это были не его корабли, зачем же ему было ради них жертвовать жизнью? Лететь, как бабочка на огонь, не дождавшись дня… Разве не разумней дождаться дня, а не лететь на огонь среди ночи?
— Бедный мальчик, — сказала Бакалейщица, — не понимаю, как ему удалось утопить взрослого офицера.
— В таком возрасте все ищут подвигов, — спокойно объяснил Коммерсант.
Эти мужчины совсем как дети, подумала Парикмахерша. Утопить человека у них называется подвигом.
— Возраст такой, — сказал Коммерсант. К ним опять возвращалось забытое понятие возраста, воздвигая между ними возрастные барьеры.
— А ведь молчал, — затрясла головой Старуха. — Обо всем рассказывал, а об этом молчал…
— У меня такие дети, — сказала Бакалейщица. — Что-нибудь сделают — и молчат. Хоть ты дух из них вон — не скажут ни слова.
— Мог бы признаться раньше, — сказала Парикмахерша.
— Это не так просто, — возразила Студентка. — Нужно собраться с духом, ведь идешь на верную смерть. Он мог бы и вовсе не признаваться, его бы не заподозрили, но он поступил как мужественный человек. Он дважды поступил как мужественный человек: и когда признался, и когда утопил этого офицера.
— Ну, знаете, если это называть мужеством… — Парикмахерша не кончила фразы, заметив, как дрогнула профессорская борода.
— Утопил офицера! — воскликнул Профессор. — Кто вам сказал, что он утопил офицера?
Коммерсант отвернулся к окну:
— По-моему, он сам в этом признался.
— Он солгал. Я был все время возле него, он барахтался у самого берега, учился плавать.
— Он не умел плавать? — удивилась Парикмахерша. — Как же он мог кого-то утопить, если он сам не умел плавать?
— Теперь его убьют, — сказала Старуха. И заплакала.
— Его бы все равно убили, — резонно заметил Коммерсант. — Что же лучше: чтоб убили одного или семерых? Простая арифметика.
— Не такая простая, если приходится умирать самому, — сказал Профессор.
— Это субъективный взгляд, — сказал Коммерсант. — А в данном случае нужно рассуждать объективно.
Старуха спросила, почему же он. Коммерсант, в интересах объективности не взял вину на себя? Ведь и тогда была бы та же арифметика: один вместо семерых.
Коммерсант ответил с ледяным спокойствием:
— Почему именно я должен был рассуждать объективно? Здесь есть люди постарше… — при этом он посмотрел на Старуху, затем на Профессора и наконец остановил взгляд на Бакалейщице. Он и прежде любил остановить на ней взгляд, но теперь в этом было что-то новое и обидное.
Старуха вышла на лестницу, словно для того чтобы посмотреть вслед Почтальону, как не раз смотрела вслед уходившим от нее сыновьям.
— Дверь открыта, — сказала она, возвращаясь.
— Они сняли охрану, — сказал Профессор, выглянув в окно.
— Значит, мы свободны? — уточнила Парикмахерша.
Все были свободны, но все оставались на местах. Корабли благополучно причалили к берегу, но никто не спешил сойти на берег.
— Зачем он взял вину да себя? — недоумевала Парикмахерша. — Чтобы спасти вас? Но ведь мы были так мало знакомы…
— Это вы не были с ним знакомы, а я любила его, как сына. Как внука. Всякий раз, когда мне было плохо, он приносил мне письмо. — Старуха беспомощно огляделась по сторонам, ища письмо, потому что сейчас ей было особенно плохо.
— Мы тоже были ему не чужие, — сказала Бакалейщица. — Я относилась к нему с большой симпатией.
Студентка усмехнулась:
— И этого достаточно, чтобы отдать за вас жизнь?
— Почему за меня? Скорее за вас, вы ближе ему по возрасту.
Парикмахерше Почтальон тоже нравился, хотя, к сожалению, они были мало знакомы. Газет она не читала, а писем ей никто не писал. И она никогда не могла подумать, что он, для кого она не была даже адресатом…
— Почты сегодня не будет, — сказал Коммерсант. И увидел в руках у Старухи письмо.
Все-таки она получила письмо. С опозданием, но получила. Как она была благодарна этому мальчику, что в такую минуту он не оставил ее без письма! Она подошла к серванту, чтобы поправить салфетку, и под салфеткой обнаружила письмо. И это было — как возвращенная молодость.
— Что же нам пишут? — осведомился Коммерсант. — На конверте нет адреса, это значит, что письмо адресовано воем. Дайте-ка я прочитаю.
— Нет, — сказала Старуха, — только не вы.
Она читала медленно, как читала когда-то в начальной школе, потому что что-то вдруг случилось у нее со зрением и с голосом тоже:
«Живите долго. Когда почувствуете, что осталось впереди мало лет, считайте годом день или час, и опять впереди у вас будет вечность. Так, вероятно, поступают бабочки, которые живут один день. Каждый, кто живет, проживает вечность, только измеряется она по-разному. Моя вечность подходит к концу, а ваша пусть подольше не кончается. Извините, что не смог доставить вам это письмо, как положено почтальону».
— Тот же почерк, — сказала Старуха-манекенщица. — Значит, это он писал письма, которые продлевали мне жизнь.
— Продлевали нам жизнь, — сказала Студентка.
— И теперь он снова продлил нам жизнь, — сказала Бакалейщица.
Коммерсант посмотрел на часы, которые опять показывали часы, а не годы и столетия.
— Изобретатель вечности, — сказал Коммерсант.
Теперь стало ясно всем, что это он, Почтальон, изобрел для них вечность. Профессор считал это поистине великим изобретением. В ответ на замечание Коммерсанта, что вечность существует объективно и независимо от нас, Профессор возразил, что иногда ее стоит заново изобрести, чтобы сделать доступной человеку.
— Жизнью пользуйся живущий, — сказал Коммерсант.
— Это правда, — вздохнула Бакалейщица. Это была нелегкая для нее правда. Ей было искренне жаль этого мальчика, этого Почтальона, но ведь они, в сущности, только начали жить. Они с Коммерсантом только начали жить.
Она придвинулась к Коммерсанту, но он отодвинулся от нее: разница лет встала между ними, как стена, и было не преодолеть возрастного барьера. И не только возрастного. У него была своя семья, у нее своя. У нее своя бакалея, у него своя коммерция. Все, что их еще недавно сближало, выпорхнуло, как бабочка, в открытую дверь, за которой простирались их разные жизненные дороги… У каждого своя дорога. Своя ли? Жизнь, которая ждала их за дверью, стала для них чужой за этот месяц — за эти века и тысячелетия. Все, что они здесь обрели, все, что дала им вечность, теперь было безвозвратно утрачено. Профессор не допишет своей монографии о жизни бабочек в условиях закрытых помещений, Старуха вернется к своей старости, а Парикмахерша — в дамский зал, отделенный, отгороженный от мужского. Стихи, переписанные Студенткой, будут напрасно взывать о любви, и стопка пеленок не дождется своего хозяина… Бакалейщица это поняла и отодвинулась от Коммерсанта.
Все стали друг другу чужими, словно они не прожили вечность под одной крышей, и близок им был только тот, ушедший, создавший и разрушивший их маленький бабочкин мир. Он был им близок, хотя он-то ушел особенно далеко — так далеко, что не хватит и вечности, чтобы вернуться.
Студентка встала.
— Хватит с меня вашей энтомологии? Он там сейчас умирает, чтобы мы могли еще немножко поползать, попорхать!
Она отбросила свой аккуратный конспект — почему-то не в сторону Профессора, имевшего прямое отношение к энтомологии, а в сторону Коммерсанта, который никакого отношения к этой науке не имел.
— Счастливо оставаться. Приятной вам вечности. Я не хочу, чтоб за меня умирали другие.
— Как будто только за вас, — сказала Парикмахерша, а Коммерсант выразил эту мысль более четко и доказательно:
— Человек умирает за коллектив. Это нормально. Ненормально, когда коллектив гибнет ради одного человека.
Старуха чуть не бросилась на него с кулаками:
— Он считает это нормальным! За него умирает человек, а он считает это нормальным!
— Не за меня, — терпеливо объяснил Коммерсант. — Он умирает за коллектив, а каждый из нас — всего лишь частичка коллектива.
— Я не частичка, — сказала Студентка, — я человек. И я имею право умереть сама за себя, как положено человеку.
Парикмахерша возразила:
— Что значит — за себя? Ведь не вы же…
— Именно я. Мне стыдно, что я не сказала об этом раньше, но это я, я утопила этого боша.
Она была похожа на Старуху в молодости: такая же непреклонность, такая же решимость идти до конца, не думая о последствиях. А Старуха давно уже привыкла думать о последствиях, и в данном случае она их ясно себе представляла. И когда Студентка поднялась, чтоб уйти, Старухе показалось, что это уходит ее молодость, уходит, чтобы больше не возвращаться.
— Этого не может быть, — сказала Парикмахерша. — Я видела, как вы плескались в воде — осторожно, чтобы не замочить прическу.
— И тем не менее я это сделала.
Профессор покачал головой:
— Не думаю, чтоб вы были способны убить человека.
— Вы меня плохо знаете.
Профессор улыбнулся. Как он может плохо ее знать, если она прослушала у него курс лекций? Манера слушать у каждого своя, поэтому, если хочешь человека узнать, посади его слушать лекцию.
Заговорил Коммерсант, пытаясь внести здравый смысл в эту эмоциональную неразбериху.
— Вероятно, у вас был повод его утопить? Он, наверно, вас оскорбил, унизил ваше достоинство?
Он, как преподаватель на экзамене, подсказывал ей ответы. Несмотря на ее враждебность, он все-таки хотел ей помочь.
Студентка подтвердила, что офицер унизил ее достоинство. Нет, лично ей он ничего не сделал, он даже ее не заметил. И все же он унизил ее достоинство.
Здравый смысл исчез, опять началась какая-то путаница. Как можно унизить достоинство девушки, не видя ее и не подозревая о ее существовании? Профессор сказал, что сам факт оккупации унижает достоинство каждого человека. Но, конечно, не до такой степени…
— Так вы из политических соображений? — догадалась Парикмахерша. Она была далека от этих соображений, да и вообще от оккупационных властей: все они стриглись не у нее, а в соседнем зале.
— Как бы ни было, я одна буду за это отвечать. — Студентка шагнула к выходу, но Старуха оказалась там раньше.
— Это не вы утопили офицера.
— Откуда вам это известно?
Старуха улыбнулась своей возвращенной молодости:
— Мне известно. Потому что его утопила я.
— Вы? Пожалуйста, не смешите! С вашим ревматизмом, радикулитом, с вашими спазмами… — Бакалейщица перечисляла болезни, на которые Старуха жаловалась не раз, и каждая была весомым аргументом и наповал сражала болящую, как сражают только болезни.
— Ну и что, что радикулит? — отбивалась Старуха. — Стоит мне собраться с силами…
— В вашем возрасте это не так просто.
Он был молод, Коммерсант, и не выбирал выражений, говоря о чужом возрасте. Но Старуха больше не стеснялась своего возраста: ее возраст давал ей право выйти первой, удержать эту молодость, отдав вместо нее свою старость. Отдать старость взамен молодости — это значит снова стать молодой…
Студентка обняла Старуху за плечи:
— Ну пожалуйста… Они вам все равно не поверят. А мне поверят, я скажу, что он меня оскорбил, унизил мое достоинство…
Как будто Старуха этого не может сказать. Как будто у нее нет достоинства, которое можно унизить.
— Женщины! — воскликнул Профессор. — Почему вы берете на себя неженские дела? Разве там не было мужчины? Разве некому было утопить офицера?
— Кого вы имеете в виду? — сухо спросил Коммерсант.
Возникло молчание, которое сначала было неловким и беспомощным, но потом, крепчая, становилось все более выразительным, уверенным и могучим. И, нарушая это торжественное молчание, Профессор сказал:
— Я имею в виду себя.
В минуту опасности медляк-вещатель становится на голову и начинает вещать. Другие жуки разлетаются, а он медлит, потому что ему нужно оповестить… всех, кому грозит опасность, оповестить…
— Что, не похоже? Кабинетный ученый, книжный червь, и вдруг такая партизанщина. А между тем… — Профессор говорил быстро, не так, как на лекциях, как будто боялся, что сейчас прозвенит звонок. — Я его сразу заметил. Когда он разделся и вошел в воду, я последовал за ним… В молодости я был неплохим пловцом, да и сейчас… В общем, я решил его утопить…
— Из политических соображений? — поинтересовалась Парикмахерша.
— Из политических. Из государственных. Из каких хотите. Решил использовать неиспользованные возможности, как говорил приятель мой Психиатр, прививая своим пациентам истинное величие. Я хоть и занимаюсь насекомыми, но в человеке этого не люблю… — Он говорил вдохновенно, и в глазах его появился отблеск того огня, на который он в данную минуту летел, как ночная бабочка. Но бабочка не видит, куда летит, а он видел.
Он говорил о каком-то партизанском отряде, с которым был связан и от имени которого действовал, он признался, что получил задание уничтожить представителя оккупационных властей, и не только этого представителя оккупационных властей, но в всех остальных представителей оккупационных властей…
— Неужели всех? — ахнула Парикмахерша.
— Ну, не всех, возможно. Я ведь тоже там не один… у нас целый отряд, если хотите, целая армия…
Он спешил. Он боялся, что, если он остановится, вся эта история лопнет, как мыльный пузырь, и он торопливо надувал этот пузырь, расцвечивая его всеми красками спектра.
— Настоящий мужчина! — сказала Бакалейщица, тем самым отделив Профессора от Коммерсанта, давая тому понять, что из них, двоих мужчин, именно он, Коммерсант, — не настоящий.
Это его задело. Даже внимание женщины, безразличной нам, нам, мужчинам, вовсе не безразлично. И хотя Коммерсант не собирался пожинать лавры, так щедро посеянные Профессором, но и созерцать их на чужой голове тоже было не очень приятно.
— Чепуха! — сказал Коммерсант. — Я один знаю, как было дело. Все это случилось на моих глазах.
Да, все произошло на его глазах, потому что он был ближе всех к этому офицеру. Офицера просто схватила судорога. Коммерсант видел, как исказилось от боли его лицо, как он открыл рот, чтобы крикнуть о помощи, но не успел крикнуть: его захлестнула волна. После этого он еще несколько раз появлялся на поверхности, тараща на Коммерсанта умоляющие глаза, но Коммерсант предпочел остаться в стороне, чтобы не быть замешанным в гибели офицера.
— Почему же вы им не сказали, что он сам утонул?
Профессор — наивный человек. Если бы Коммерсант это сказал, ему бы пришлось отвечать за то, что он не спас оккупационного офицера. Офицер, таким образом, стал жертвой подозрительности и недоверия оккупантов к населению оккупированной ими страны.
— Вы просто негодяй, — сказала Бакалейщица. — Боже, и я любила этого негодяя!
Так всегда бывает, когда здравый смысл приносится в жертву эмоциям. Поступок Коммерсанта был безукоризнен с точки зрения логики, а если нас нельзя упрекнуть с точки зрения логики, то все остальные упреки беспочвенны и нелепы.
— Я пойду, — сказала Старуха. — Вы не бойтесь, я вас не выдам, я скажу, что сама видела, как он тонул.
Может, еще удастся спасти Почтальона, этого мальчика… Ее старость никому не нужна, а его юность многим еще пригодится.
— Я пойду с вами, — сказал Профессор. — Два свидетеля лучше, чем один.
— И я пойду, — сказала Студентка.
Парикмахерша колебалась. Она бы тоже пошла, но ведь она ничего не видела… Ее могут привлечь за лжесвидетельство…
— Все равно вам никто не поверит, — сказал Коммерсант. — Воинская доблесть требует, чтоб офицер погибал от руки врага, а не тонул, как мокрая курица. Я это тоже взвесил, поэтому я молчал.
— Какой же вы негодяй!
Коммерсант оставил без ответа замечание Бакалейщицы.
— Давайте рассуждать логично: мальчишка хочет умереть как герой, а вы хотите, чтоб он умер просто как лживый мальчишка. Живым его не выпустят хотя бы за то, что он обманул оккупационные власти. Зачем же отнимать у него единственный подвиг, пусть даже он его не совершил? Будьте снисходительны к мальчику, дайте ему умереть героем!
Еще недавно они жили в этом доме, надежно запертые, отгороженные от всех проблем, от необходимости принимать решения. И потолок над их головой был хоть и ниже, но надежнее неба, и весь их маленький мир был хоть и меньше, чем тот, большой, но гораздо надежней и благоустроенней. Теснота пространства и времени — это еще не обида. Пусть вокруг необъятность вселенной, безграничность времени, но есть у нас своя точка, своя малая величина, которая помогает нам видеть себя большими. Во вселенной это трудно — для этого нужна теснота: теснота Земли, теснота города и квартиры. Мы все великие, разница лишь в степени тесноты: один велик в пределах Земли, другой — в пределах своей квартиры. И у каждого своя вечность — большая или маленькая…
Они стояли на пороге своей маленькой вечности и смотрели в ту огромную вечность, которую нельзя ни подчинить, ни присвоить, которая, как свободная стихия, любит отважных пловцов, уходящих в ее глубину, не цепляясь за часы и минуты. Мы привыкли к часам, и минутам, и к месяцам, и к годам, но мы должны их покидать, потому что каждый из нас — пловец в океане Вечности. И мы не просто пловцы, брошенные как попало в пучину, мы сами выбираем свой путь, и из наших коротких часов и лет созидается Вечность…
В эту Вечность ушел Почтальон, изобретатель Вечности, и теперь стало ясно, что изобрел он эту, большую вечность, а не ту, бабочкину. Хоть она и до него существовала, но он ее изобрел наново, потому что Большую Вечность нужно снова и снова изобретать, чтоб она не превратилась в пустую, бессмысленную стихию. Совсем нетрудно превратить Вечность в бессмысленную стихию: для этого нужно только цепляться за собственные часы и минуты…
Профессор шагнул навстречу распахнутой Вечности, Коммерсант остановился, пропуская женщин вперед: все-таки он был воспитанным человеком.
Завтрак, обед, ужин
Тихий, затерянный уголок, лежащий в стороне от магистралей цивилизации, был как раз тем местом, где человек, поднявшийся на определенную высоту, мог встретить подобного себе человека. Видные политики, финансисты, промышленные и административные деятели лечили здесь свои сердца, испорченные многолетним восхождением на вершину.
Здесь был сенатор одной из самых верхних палат, в которой, по слухам, заседают одни сенаторы; отставной генерал, переживший не одну армию, павшую под его руководством; адвокат, знаток преступной души человеческой и все же ярый ее защитник; был и видный скотопромышленник, и знаменитый романист, и кинозвезда, свет которой продолжал тешить публику, между тем как сама она давно померкла; был даже министр финансов какого-то государства, правда, столь незначительного, что все финансы его помещались у министра в кармане, где он охотно их содержал.
И сюда, в затерянный уголок, куда не ступала нога обычного человека, проникла весть о доселе не слыханной операции: о замене больного сердца здоровым.
Разговор происходил за завтраком, вскоре после ночного сна, когда голова работает особенно ясно, и отставной генерал сказал:
— Да… такие новости…
Угасающая звезда вспомнила, что больному пересажено сердце женщины. Ее интересовало, как это может отразиться на мужчине. И как это отразится на женщине — если пересаживать наоборот. Отставной генерал сказал, что он скорее умрет на поле боя или, скажем, здесь, в санатории, чем даст всадить себе в грудь женское сердце. Потому что как солдат и мужчина… Генерал внезапно замолчал, позабыв, о чем хотел говорить.
— А вы как считаете? — спросил он, ища, кому бы передать ускользнувшую нить разговора.
— Чепуха! — отрубил эту нить скотопромышленник, внешне очень похожий на римского философа Сенеку, но уступавший ему в мастерстве выбирать выражения. — Пусть хоть сердце крокодила, лишь бы работало!
— Все же я предпочитаю человеческое, — рассудительно сказал министр финансов. — В крайнем случае я готов заплатить… — И он полез в карман, где содержались финансы его державы.
Генерал подумал, что в битве при этом (ему не удалось вспомнить при чем)… он допустил серьезную ошибку. Если б он мог повторить битву при этом (просто начисто вылетело из памяти!)… но он не мог, потому что, во-первых, находился в отставке, а во-вторых, война давно кончилась, и, самое главное, он так и не мог вспомнить, где же происходила эта самая битва.
— Цезарь и Линкольн прожили по пятьдесят шесть лет, — сказал сенатор. Макиавелли и Вальдек-Руссо — по пятьдесят восемь, Макдональд и Бриан — по семьдесят… Быть может, мир сейчас был бы другим, если б они прожили на несколько лет больше.
Адвокат положил себе ветчины, которую он ел в самых отчаянных случаях, когда видел, что в жизни уже ничего нельзя изменить. Он положил себе три куска ветчины и принялся есть под внимательным взглядом кинозвезды, которая не могла избавиться от изнуряющей мысли, что в жизни еще не все потеряно.
— Жизнь — это своего рода гигиеническая гимнастика: прежде чем лечь в землю, рекомендуется походить по земле, — сказал романист фразу из своего романа.
После завтрака все занялись процедурами. Те, кому предписано было ходить, — ходили, те, кому предписан был свежий воздух, — просто дышали свежим воздухом. Генерал, страдавший ожирением сердца, делал вольные упражнения: он ложился на спину и старался поднять ноги так, как поднимал их в далекой молодости. Адвокат, одиноко сидя в воде, беседовал со служителем бассейна, который, возвышаясь на берегу, изрекал голосом Посейдона: «С утра у меня купается столько-то человек… После обеда у меня купается столько-то человек…» Романист… но что делал романист, было скрыто дремучими зарослями: здесь, на утлой скамье, пренебрегая общими правилами, романист украдкой заканчивал новый роман.
После всех этих дел разговор продолжился за обедом.
— Конечно, если знать, что все хорошо кончится, — размышлял министр финансов. — Но тут, наверно, нет полной гарантии. Кому как повезет.
Адвокат был готов без гарантии. Ему предстоял процесс, жизненно важный для его подзащитного. Но для того чтоб кого-то спасать… Это ясно, сказал министр, нужно прежде всего о себе позаботиться. Дело не в этом, возразил сенатор, тут заботишься вовсе не о себе. Столько работы… И главное голова ясная… В том-то и дело, вздохнул романист, можно бы горы перевернуть… Какие горы? — насторожился генерал. Теперь он вспомнил, что эта битва была в горах. Конечно, в горах, теперь он окончательно вспомнил.
Об этом стоило рассказать, и генерал стал рассказывать, вспоминая давно забытые термины и переводя их на доступный слушателям язык.
— Я всегда был против конфликтов, — сказал адвокат.
— Слыхали, слыхали! — кивнула ему голова Сенеки. — Но представьте себе, что такая больница перенесена туда, к этой самой свалке, и каждый день в больницу поступают сердца. Здоровые, молодые сердца, еще почти не бывшие в употреблении.
— Это варварство, — сказал романист, но до того неуверенно, что утверждение его прозвучало как вопрос: «Это — варварство?
— Вовсе нет, — пожал плечами скотопромышленник. — Ведь вы же платите деньги.
Адвокат хотел резко встать, но резкие движения были ему противопоказаны, и он остался сидеть.
— Я готов заплатить, — сказал министр финансов.
Романист долго обдумывал свою мысль, вернее, форму, в какой ее лучше выразить. Наконец он сказал, и это прозвучало как-то загадочно:
— Когда не хватает человеческого тепла, нас согревают костры и пожары…
— Как это верно! — воскликнула угасающая звезда и впервые почувствовала, что свет ее угасает. И почувствовала, что свет ее — это всего лишь сигнал о помощи, который дойдет на землю через тысячу световых лет.
Генерал досадовал, что ему не дали дорассказать, и он все время пытался дорассказать, но теперь это было уже невозможно. Адвокат заявил, что он ничего не хочет слышать, что он всегда был против конфликтов. Сенатор весьма нетвердо предположил, что война ужасна, когда она лишена смысла, а когда в ней есть некоторый смысл, быть может, она и не столь ужасна? Министр финансов сказал, что он готов уплатить, пусть ему представят счет, он готов уплатить по любому счету. Адвокат сказал, что дело не в том, что он всегда был против конфликтов. Сенатор сказал, что, конечно, война — это плохо, но ведь совсем не обязательна большая война, может, для этого хватит и маленькой? Можно и маленькую, кивнул генерал. Тут он слегка задремал, а когда проснулся, говорил уже романист. Романист говорил, что если раньше земля держалась на китах или, допустим, слонах, то теперь она держится на пороховой бочке. Значит, есть еще порох в пороховницах, сказал проснувшийся генерал.
Потом все разошлись на отдых.
Это был самый активный отдых из всех, какие допускаются санаторным режимом.
Генерал у себя во сне вел войну. Война была небольшая, но достаточно громкая. Гремели пушки, рвались снаряды, и пули свистели, грозясь залететь на командный пункт, в просторных покоях которого разместилась хирургическая клиника. Санитары лихорадочно собирали раненых. Одним из раненых оказался сенатор, и он чувствовал, как его куда-то несут, и стонал во сне от недобрых предчувствий. Министр финансов выгрузил из кармана всю государственную казну, но у него не хватало какой-то мелочи, и он ругался и говорил, что это грабеж, что такой цены нет, и, словом, все, что говорится в подобных случаях. Кинозвезда видела себя на операционном столе, ей примеряли сердца, но ее размера не было, были только мужские размеры. Скотопромышленнику поставили отличное сердце, но в суматохе куда-то девалась его голова, прекрасная и мудрая голова философа Сенеки… Адвокат выступал на процессе. Он защищал тех, у кого отобрали сердца, — и не находил слов, потому что в груди у него тоже билось чужое сердце…
Один романист, как всегда, лишил себя отдыха. Он заканчивал свой роман, и уже в самом конце, когда все, казалось, должны успокоиться, вдруг загремели выстрелы и началась война, подумать только, война — в самом финале!
Генерал все еще воевал, и война его грозила перерасти из небольшой в очень большую. Он устал, ему надоело, он убеждал кого-то, что ему уже много лет, но ему отвечали: ничего, генерал, у вас молодое сердце… А министр финансов ругался во сне, как чиновник, распугивая недремлющий персонал, потому что слишком малы были финансы его державы… Мудрая голова философа Сенеки все еще пребывала вне тела его, и не было возможности их соединить, таких средств не знала пока медицина… А адвокат выступал на процессе, он весь взмок, у него началось сердцебиение, такая досада, за какой-нибудь час испортилось его новое сердце…
Война прекратилась внезапно, и, вместо гремящего хаоса, — снова тихий, затерянный уголок, куда почти не ступала нога человека. Час отдыха прошел, все встали и, избегая глядеть друг на друга, побрели по аллейке мимо этого прекрасного и всем дорогого мира, мимо скверов и цветников, мимо дремучих зарослей, за которыми романист, совершенно отчаявшись, начинал новый роман…
Ужин проходил в молчании.
Экспонат
— Когда часы стоят, они дважды в сутки показывают верное время, он и это обман, всего лишь иллюзия. Потому что время, которое они показывают, давно прошло и не может объяснить того, что происходит сегодня. — Гость тронул маятник, и тот двинулся тяжело и со скрипом, словно вспоминая давно забытые законы колебательного движения. — Тогда, — сказал Гость, — была зима, а сейчас лето, и люди вас окружали другие, и совсем были не те обстоятельства. Да и сами вы были другим. Вот таким, как на этом портрете.
Хозяин разлил кофе. В шкафу у него нашелся какой-то крепкий напиток, который он прятал от строгого взгляда врача, и он налил Гостю и налил себе, и они выпили, как могли бы выпить в прежние времена, там, где никогда не водилось ни выпивки, ни закуски.
— Сколько мы там перевернули земли… Больше, чем за всю историю археологии. У вас это получалось, я еще собирался взять вас с собой в экспедицию. Если мы выберемся _оттуда_.
Но Гость не хотел предаваться воспоминаниям. Часы должны идти вперед, а не показывать прежнее время, пусть даже оно иногда и совпадает с сегодняшним.
— Мне очень жаль, — сказал Гость, — не думал я, что у нас будет такая встреча.
Тот, на портрете, смотрел, как беседуют друзья, и прятал улыбку в дремучую бороду. По возрасту он был самым молодым среди них, но держал себя так, словно был самым старым.
— Как голова? — спросил Гость.
— Вы помните? — растрогался Хозяин. — Столько лет прошло, а вы помните, как меня ударили камнем.
— Не камнем, а рукояткой.
— Нет-нет, вы путаете. — Хозяин оживился, словно речь шла о каком-то приятном воспоминании. — Мне проломили голову камнем. Я отлично помню… особенно ясно, когда у меня начинает болеть голова. Я вижу, как этот человек выходит из пещеры, а в руке у него камень… Человек типа Схул по классификации Мак Коуна…
Никакого Схула там, разумеется, не было. Бедняга совсем свихнулся на своей археологии, подумал Гость. И сказал:
— Не думайте об этом, профессор.
Маятник на старинных часах снова остановился, и Гость почувствовал беспокойство, как пассажир, высаженный среди дороги. Он подтолкнул маятник, и время двинулось дальше, и понесло их, мерно покачивая…
— С вашими часами, профессор, вы рискуете вовсе остаться в прошлом, пошутил Гость.
Они лежали на нарах в битком набитом бараке, люди, выброшенные из цивилизации куда-то в первобытные времена. Еще не было изобретено ни матрасов, ни одеял, ни даже дров, которыми топить печи. Они лежали, как палеантропы в какой-нибудь Мугарет-Табун, вмерзая в свою пещеру, чтобы лучше сохраниться для будущего. И они просили его, знатока древностей, рассказать им о прошлом, потому что прошлое заменяло им будущее, настолько они были отброшены назад.
Он рассказывал им, как люди добывали огонь и грелись у костров, как они приручали диких животных. Они обрабатывали землю и собирали урожай, и женщины, которых они любили, создавали им домашний уют… Это было невероятно, и люди в бараке утешали себя, что и они когда-нибудь так заживут, и им становилось теплее от этого.
Утром их угоняли на работу, и они выворачивали руками огромные глыбы, и вгрузали по шею в землю, и падали, и умирали на ней, но никуда не могли уйти, потому что только работа была оставлена им от цивилизации. А у кого хватало сил дотянуть до вечера, те доползали до барака, вытягивались на нарах и мечтали о прошлом, которое им заменяло будущее.
И Хозяин, и Гость были тогда обычными палеантропами, и кофе еще не был изобретен, как и этот крепкий напиток в бутылке. И дрова тоже изобретены не были, потому что _печи топили страшно подумать чем_…
— Может, еще чашечку? — предложил Хозяин.
— С удовольствием, — согласился Гость.
Они сделали по глотку и помолчали, отдаваясь теплу. Хозяин закурил запретную сигарету.
— Человек должен думать о будущем, — сказал Гость, словно желая придать должное направление своим мыслям.
— А разве будущее возможно без прошлого? Все, что существует, уходит в прошлое, для того и уходит, чтобы освободить место будущему.
— Вот именно. Прошлое должно уходить, оно должно исчезать, чтобы не мешать тем, кто приходит ему на смену.
Тот, на портрете, думал о чем-то своем, что, возможно, соответствовало замыслу художника, а скорее всего потому, что он и сам принадлежал прошлому, и то, о чем сейчас затевался спор, для него было давно бесспорным. Что делать, люди склонны забывать прошлое, отрекаться от него и даже закапывать в землю, чтобы его было удобней топтать…
— Вы знаете, профессор, я не поклонник вашей профессии. Для чего раскапывать прошлое? Это ведет лишь к повторению старых ошибок. В двадцатом веке многого удалось бы избежать, если б мы не знали об опыте средневековья…
Опыт прошлого… Немало его было собрано здесь, в музее. Экспонат номер 72, девушка из палеолита… В пещере было душно и темно, и она вышла подышать свежим воздухом… На берегу речки она повстречала человека незнакомого племени и бросилась бежать, но он крикнул: «Постой!» — и она остановилась. Он подошел и сел у ее ног, ей стало страшно, но уже не хотелось уходить. Так их и застали на берегу: она стояла у самой воды, а у ног ее сидел этот человек, экспонат номер 73 — потому что похоронили его рядом с девушкой.
Экспонат номер 300, огромный череп мыслителя. Какой-нибудь первобытный Эйнштейн, открывший, что сила удара зависит от величины палки, и ставший жертвой своего открытия. Экспонат номер 118, судя по челюсти, первобытный оратор или первобытный диктатор…
— Оставим их, — сказал Гость, отодвигая недопитый кофе. — В другое время, профессор, я бы охотно послушал ваши истории, но сейчас… Мне очень жаль, профессор, но я пришел к вам по поводу Двести Двенадцатого.
— Вы?!
— Что делать — пришлось поменять специальность. Чтобы не копаться в земле, — он попробовал улыбнуться, — как мы с вами в те времена. Извините, профессор, у каждого свои обязанности. — Он помолчал ровно столько, сколько требовалось, чтобы перейти от дружеской беседы к исполнению служебных обязанностей. — Вам известно, куда исчез экспонат?
Ответа не последовало.
— Профессор, я вас прошу… Это всего лишь свидетельские показания. Вам известны обстоятельства, при которых исчез экспонат?
— Нет, не известны, — сказал Свидетель.
— Не торопитесь отвечать, у вас есть возможность подумать. Двести Двенадцатый подлежал изъятию, он числился в списках…
— Это очень ценный экспонат.
— Этот скелет первобытного человека был признан нежелательным для нашего времени и подлежал изъятию. Вы знали об этом?
Палеантропы сидели в своей Мугарет-Табун и слушали, что было тысячи лет назад или вперед, когда на земле жили разумные люди. Они удивлялись, что люди эти жили в домах со светлыми окнами, что по вечерам они пили чай и читали газеты… Или ходили к знакомым, или принимали их у себя. Каждый из них был настолько значительной личностью, что мот принимать у себя, иногда даже в отдельной комнате… Это было невероятно, и палеантропы с сомнением качали головами…
— Вы знали об этом? — повторил вопрос Следователь.
— Знал, — твердо сказал Свидетель.
Следователь достал из портфеля папку и стал что-то вычитывать. Он долго вычитывал, потом стал записывать, потом отложил папку и задал новый вопрос:
— Кто был ночью в доме?
— Я был. Я, видите ли, здесь живу… Я был один, а больше никого не было.
— Постарайтесь вспомнить, — сказал Следователь.
— Мне нечего вспоминать.
— В таком случае я вам помогу. Вчера вечером, — он заглянул в свою папку, — в одиннадцать двадцать пять вам позвонили. У вас кто-то снял трубку и сказал, что вы не можете подойти к телефону. Кто это был?
Свидетель ответил не сразу. Он отошел к окну и долго смотрел на распростертую внизу площадь (по-старому плац — или, может, уже по-новому?).
— У меня был врач, — сказал Свидетель.
— Я не знал, что вы болеете… Давно собирался вас навестить, но эта работа… Поверите, для себя — ну совершенно не остается времени. А так хотелось посидеть, как мы сидели тогда… — он засмеялся. — Только, конечно, в других условиях.
— Я тоже вас вспоминал.
— Ну что там я! Мелкая сошка, один из тех, кому вы засоряли мозги. Конечно, если у человека нет будущего, он вынужден довольствоваться прошлым. Но если оно есть… а сейчас оно у нас есть… Так кто же он, этот ваш ночной посетитель?
— Врач из скорой помощи. Фамилии его я не знаю. И в конце концов, почему я должен вам давать эти сведения?
— Мы с вами давно не виделись, профессор, мы стали совсем чужими. Когда-то вы были откровенны со мной и охотно отвечали на все вопросы. Да, там мы доверяли друг другу… Вы помните нашего врача? Он у нас постоянно болел, и мы все вместе его лечили. Хороший был человек. Все спрашивал у вас о доисторической медицине, интересовался древними скелетами, а свой скелет оставил там, в яме, которую сам же и выкопал…
— Я был у него в прошлом году.
— Смотрите! Значит, не забываете? Это хорошо, когда такая память… Так, может, вспомните фамилию врача, который был у вас прошлой ночью?
— Нет, — сказал Свидетель.
— Напрасно. Вы даже не догадываетесь, как это важно для вас. Конечно, пропавший экспонат принадлежит вам, трудно предположить, что вы сами его у себя похитили. Но если учесть вашу деятельность… Быть историком — не самый праведный путь.
— Это моя профессия.
— Плохая профессия. История преступна, она античеловечна. И не суд истории, как вы говорите, нам нужен, а суд над историей.
Даже Кафзех — из людей, близких Схулу (по классификации Вейденрейха), и тот интересовался, что было на земле до него. И когда палеантропы, свесившись со своих нар, слушали рассказы о далеком-далеком прошлом, Кафзех, немолодой уже прачеловек, пристраивался где-нибудь рядом и, делая вид, что следит за порядком, на самом деле внимательно следил за рассказами. Иногда он не выдерживал и сам задавал вопрос, и тогда ему приходилось обстоятельно все пояснять, потому что он понятия не имел о том, что было на земле до его появления. Впрочем, он был добрый человек, хотя в силу своей душевной малоподвижности и не был способен на добрые дела. Конечно, если б он жил в цивилизованном обществе, он бы и сам постепенно цивилизовался и научился сомневаться, тревожиться и сожалеть, но, живя среди людей своего типа, он ни о чем не сожалел и послушно выполнял все приказания. И когда Схул потребовал дать ему камень, тот самый камень, Кафзех послушно его принес, да еще спросил, не маленький ли, потому что можно принести и побольше.
— Эти врачи такие фанатики, — сказал Следователь. — Один, представьте, привил себе рак, чтобы понаблюдать за ходом болезни. Не исключено, что вашему доктору для чего-то понадобился древний скелет.
— Он не хирург, он невропатолог.
— Это важное обстоятельство, — сказал Следователь и записал это обстоятельство. — Конечно, невропатологу скелет ни к чему. Он и смотреть не станет на ваши древности.
— Ну почему же… Как всякий мыслящий человек… Он смотрел, я ему показывал.
— Когда почувствовали себя лучше?
— Да нет, не вчера. — Свидетель замолчал, чтоб не сказать лишнего.
— Ваш врач, видно, неглупый человек, я бы и сам у него полечился… Нет-нет, я не настаиваю, профессор, я вообще не очень доверяю врачам… Так что же он говорил, познакомившись с вашей коллекцией?
— Он сказал, что история человечества похожа на историю запущенной болезни.
Следователь кивнул. Ему понравилось и само выражение, и то, как в нем удачно связывались медицина и история, намечая возможное соучастие в том деле, которое ему предстояло раскрыть.
— И как же он предлагал избавиться от этой болезни? Путем хирургического вмешательства?.. Хотя… вы говорили, что он не хирург… Но, как у врача, у него должны были быть какие-то соображения… Возможно, он их высказывал… Ведь вы не однажды встречались?
— Не однажды… Но почему я должен вам отвечать?
— Можете не отвечать, — любезно разрешил Следователь. — Я понимаю, если человек болен, то чем чаще приходит врач… Конечно, для врача это затруднительно…
— Ему по дороге. Он здесь рядом работает в клинике.
— Ну, если рядом… — Следователь записал и это обстоятельство. Потом взял телефонную книгу и стал ее листать. — Да, что ни говорите, профессор, а такого врача, какой был у нас там, теперь не сыщете. Без инструментов, без лекарств, и ведь сам едва волочил ноги… Все собираюсь к нему съездить, цветы положить… Да в этой суматохе разве вырвешься?
Свидетель застыл в своем кресле. Он смотрел на этого человека, которого когда-то хорошо знал, так знал, как можно только _там_ узнать человека, смотрел и не узнавал его. _Там_ он был другим человеком. Может быть, потому, что там не было телефонной книги, в которой точно записаны все адреса.
Следователь встал. Разговор был окончен, и он подтолкнул маятник, позволяя времени двинуться дальше.
— Вот и все, — сказал он и улыбнулся. — Теперь вам не о чем беспокоиться. Виновника мы найдем.
— Виновника мы найдем, — сказал Схул.
И тогда все палеантропы, выстроенные возле пещеры, сделали шаг вперед, и каждый сказал:
— Это сделал я.
Схул вышел из себя. Он ругался на своем скудном языке доисторического человека и обещал всех упрятать так, что их не найдут никакие раскопки. Он требовал, чтобы ему назвали бездельника, который придумал эту лопату, чтобы облегчить себе труд, и кричал, что палеантропам никогда не видать ни лопаты, ни других орудий труда, что они будут вот так, руками ворочать землю, пока не навалят ее на себя.
Схул очень ругался и требовал, чтобы ему назвали виновного, но палеантропы стояли не шелохнувшись и каждый твердил:
— Это сделал я.
Вот тогда Схул и приказал подать ему этот камень. Кусок гранита, пролежавший тысячи лет, прежде чем дождаться своего часа, своего действия. Мертвый камень, орудие вечности, уничтожающей все живое…
— Это сделал я.
— Вы, профессор? Вы свидетельствуете против себя?
— Это сделал я, — твердо сказал Свидетель.
— Ну, хорошо, — Следователь опять опустился в кресло. — Расскажите все с самого начала.
Это было давно. А может, не очень давно. Трудное было время для человека. Беззащитные на этой, почти непригодной для жизни земле, люди жались друг к другу, согреваясь своими телами. И они зарывались в землю, спасаясь от холода и жестокости подобных себе и оставляя в земле свои скудные кости… Хищники бродили по земле, и только они чувствовали себя свободно, но тоже не очень уверенно, и, чтобы защитить себя от более сильных, они приносили им в жертву людей. Очень страшно было быть на земле человеком, и люди скрывали все, что было в них человеческого, и поступали несвойственно своей природе.
Это были палеантропы, очень древние люди, и древними их сделало не столько время, сколько их невозможная жизнь. Все силы природы были направлены против них, против их свободной воли и разума. И разум их, в плену у злобы и ненависти, уже начинал верить в справедливость безумия, окружавшего их… А по ночам, обессиленные работой, они забивались в свои пещеры и слушали рассказы о других временах — возможно, будущих, а возможно, прошедших. Человек приручит собаку, и она не будет на него бросаться и его загрызать, и можно будет спокойно сидеть у печи, не опасаясь, что тебя в нее бросят.
— Не понимаю, зачем вы это рассказываете.
— Зачем?.. Я не знаю… Может быть, потому, что среди этих людей был и экспонат Двести Двенадцатый.
— Вы нездоровы, — сказал Следователь, — вам нужно лечь.
— Не беспокойтесь, я уже лег. Я закопал себя глубоко-глубоко, так, что меня найдут через тысячу лет, не раньше. Возможно, тогда не останется в мире камней, которыми человеку разбивают голову.
— Итак, вы утверждаете, что сами изъяли этот экспонат, хотя и знали, что он числится в списках? Ну что ж, профессор. Мне остается только сожалеть. Поверьте, мне не хотелось браться за это дело… Я ведь тоже многое помню, профессор, и как друга, как старого товарища, мне хотелось бы вас защитить… но, профессор, я очень плохой защитник… И я обвиняю вас, — он встал, и голос его зазвучал тверже: — Я обвиняю вас в том, что, во-первых, вы раскапываете прошлое, а во-вторых, пытаетесь его утаить от инстанций, которым положено о нем знать. Вам ясна суть обвинения?
Обвиняемый молчал. Он сидел, сжав руками виски, то ли собираясь с мыслями, то ли, напротив, пытаясь от них освободиться.
— Вы поняли суть обвинения?
Схул поднял камень. Тяжелый камень взлетел в его руке, целясь в непокорную голову.
— О, я не сказал самого главного! Экспонат Двести Двенадцатый — это я. Это меня вы приговорили к изъятию.
— Куда вы девали скелет?
— Мой скелет? Я его закопал. Пускай полежит, дождется лучших времен. Ведь будут и лучшие времена, а? Как вы думаете?
Дружба дружбой, но всему есть предел. Каждый выполняет свой долг, и все должны его выполнять хорошо — и обвинители, и обвиняемые.
— Профессор, примите успокоительное!
— Зачем? Я спокоен, я сейчас снова спокоен, как был спокоен тридцать пять тысяч лет… Я лежу в земле, и кости мои отдыхают… Кости так хорошо отдыхают, когда их никто не раскапывает…
— Давайте без эмоций. В вашем музее был скелет, носивший на себе следы прошлого варварства: проломы черепа, переломы костей. Потому-то он и подлежал изъятию. Цивилизованное общество не должно видеть дурных примеров. Это искушение, соблазн, которому не следует подвергать нашу гуманность. Как же могли вы, профессор, при всем вашем добром отношении к человечеству, которое памятно мне по другим временам, как могли вы этого не понять, как могли вы утаить, спрятать, закопать экспонат, подлежащий изъятию? Зачем вы это сделали?
— Чтобы сохранить его для будущего.
— И вы еще говорите о будущем! Вы! Археолог!
— Да, потому что прошлое всегда принадлежит будущему, оно принадлежит только будущему, и никто из живущих не имеет на него права.
Обвинитель не был согласен с Обвиняемым. Но было не время заводить теоретический спор.
— Я удивляюсь вам, профессор. Ученый, уважаемый человек, и вдруг какая-то уголовщина… Конечно, что позволено Юпитеру, не позволено быку, но, с другой стороны, что позволено быку — не позволено Юпитеру.
— Это я Юпитер? Бросьте шутить! — Обвиняемый сделал очень долгую паузу. — Как вы думаете, кто изображен на этом портрете?
— Как это кто? Вы, профессор.
— Приглядитесь внимательней.
Обвинитель посмотрел внимательней.
— Ну конечно же, это вы! Особенно если убрать бороду…
— Нет! Неправда! Это не я! Это экспонат номер Двести Двенадцать!
Он это крикнул так, как кричал, быть может, тот, древний человек, когда встречал в лесу дикого зверя.
— И если вам нужен мой скелет, вам не придется его раскапывать. Вы можете просто вынуть его из меня… Присмотритесь лучше, ведь это не портрет, это реконструкция головы палеантропа. Того самого, скелет которого хранился у нас под номером 212.
— Этого не может быть, — сказал Гость, заставляя себя не верить.
— И все-таки это так. Вот он, Юпитер, дикий человек, которому другой Юпитер проломил голову камнем! Его лицо одухотворено мыслью — это мысль о том, чтобы урвать побольше кусок. В его глазах боль, но это боль не о человечестве, а лишь оттого, что его ударили камнем… Юпитер! Когда я его увидел, я состарился на многие тысячи лет. Я понял, что это был я, что это мне проломили голову камнем… Я занимался наукой, писал исследования, а скелет мой лежал под стеклом, в зале музея, и мне казалось, что все меня узнают.
— Это страшно, — сказал Гость, и что-то страшное, дремавшее на дне его памяти, поднялось и встало перед ним, и он снова почувствовал себя беззащитным, беспомощным палеантропом. И снова они были в пещере, в холодной, сырой пещере, из которой можно выбраться, лишь оставив в ней свой первобытный скелет.
Солнце скрылось, зашло на веки веков, и с ним исчезли и свет, и тепло, и всякий смысл человеческого существования. Потому что завтра — уже не будет, и сегодня — уже не будет, а останется только вчера, на веки веков вперед — только вчера, и ничего больше… И никакие часы не изменят этой беспощадной поступи времени вспять…
Схул посмотрел на камень, словно раздумывая, куда его бросить — в завтра или во вчера.
— Собирайтесь, профессор. И захватите портрет. Мы приобщим его к вашему делу.
Повод для молчания
— А сейчас позвольте вам представить еще одного гостя, которого, впрочем, все вы хорошо знаете. Галилео Галилей!
Брэк сказал:
— Учитель устал от выпитого, он забыл, на каком он свете: на том, на котором уже Галилей, или на том, на котором пока еще мы с нашим Учителем. — И он ударил по клавишам, как по барабану (Брэк превосходно бил по барабану, за что и получил свое прозвище — Брэк).
— Цивилизация, о которой мои друзья имеют не очень ясное представление, продолжает развиваться, — сообщил Учитель, которого назвали так именно за образованность. — До последнего времени наука считала: личность умирает вместе с человеком. Но ведь личность не исчезает бесследно. Она остается в письмах, дневниках, воспоминаниях современников. И если собрать все это, можно восстановить личность. И она будет жить.
— В этих бумагах? — спросил Метр, получивший это имя за то, что росту в нем было немногим более метра.
— Нет, не в бумагах. Мы записываем личность на пленку, и она живет на магнитофоне. И не просто воспроизводит записанное, а продолжает жить дальше — от того места, на котором обрывается запись. И длиться может без конца — сотни, тысячи километров.
— Тысячи километров, — усмехнулась Праматерь (ее по-настоящему звали Евой). — Вот бы тебя, Метр, так записать!
— Лучше Брэка, — сказал Метр. — Для него главное — звучать, он может обойтись и без тела.
— Ты тоже неплохо обходишься, — Праматерь смерила его коротким взглядом.
— Ну, тебе-то, ясно, не обойтись, — парировал обиженный Метр.
Плоская коробочка. Магнитофонная лента. Вот здесь он, Галилео Галилей, человек перевернувший вселенную, доказав, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. И сейчас, спустя четыреста лет, он оживет и с ним можно будет разговаривать…
Все притихли. Было в этом что-то непривычное, даже страшное разговаривать с умершим человеком.
— Давайте сначала выпьем, — предложил Метр. — Потом будет неудобно: он же, наверно, не пьет?
— Выпьем и закусим, — поддержал предложение Брэк.
— Пускай говорит, — вступилась за Галилея Праматерь. — Ему же больше ничего не осталось. Пускай говорит.
— Никак мы не можем без разговоров, — пожаловался Метр. — Нет чтоб спокойненько посидеть, выпить…
Наступила долгая пауза. Бесшумно крутилась пленка, не извлекая никаких звуков, и уже Брэк и Метр переглянулись между собой и перемигнулись, и уже они чокнулись, чтобы выпить на радостях, как вдруг послышался вздох…
— Это не ты. Праматерь? — подозрительно спросил Брэк.
— Это я, — прозвучало в ответ. Но ответила не Праматерь.
Пленка крутилась так, как крутится человек, наматывая на себя дни, месяцы, годы. И когда их достаточно намотается, ему не будут страшны никакие житейские волнения: от них защитит его толстая пленка годов. Так сохраняются мумии фараонов, крепко спеленатые, окруженные толстыми стенами пирамид, потому что разрушительно лишь соприкосновение с жизнью.
Галилей молчал; а пленка крутилась, перематывая его молчание, и он не знал, сколько там, впереди, остается. Со стороны было видно, как жизнь его перематывается с катушки на катушку, и все меньше становилась катушка будущего, и все больше становилась катушка прошлого, и крутились они с одинаковой скоростью, и были похожи одна на другую, как сестры. Сначала будущее было старшей сестрой, и оно давало советы младшей и всячески обнадеживало ее. Но со временем оно уменьшалось, и тогда прошлое становилось старшей сестрой, и уже оно давало советы будущему. Всего этого не было видно тому, кто жил на пленке, и он нерасчетливо тратил жизнь, заполняя ее молчанием.
Выпили для храбрости, и Брэк сказал:
— Что-то молчит старичок. Может, обиделся?
— Я не обиделся. — Это сказал он, Галилей. — Просто я не вижу повода для разговора.
И он опять замолчал, — между прочим, без всякого повода, на что тотчас же указал ему Брэк. Галилей ответил в том смысле, что молчание не требует повода, что оно естественное состояние человека. А вот для того, чтоб нарушить его, нужен повод. Брэк сказал, что миллионы людей разговаривают без всякого повода — просто потому, что им приятно поговорить, хочется обменяться мыслями. Галилей сказал, что один только обмен мыслями не увеличивает общего количества мыслей, что мысли, подобно денежным знакам, стираются от усиленного обращения.
— У него какая-то путаница в голове, — шепнул Метр Праматери. — Мысли, деньги — не поймешь, о чем он говорит. Конечно, — старик и вдобавок еще покойник.
— Заткнись! — оборвала его Праматерь.
Учитель сказал:
— Иногда молчать — значит думать. Это не все понимают, дорогой Галилей.
— Думать! — возмутился Метр. — Тоже мне повод для молчания!
— Метр — человек неплохой, — объяснил Галилею Учитель, — но разум его вращается не вокруг Солнца, как сказал бы ты, а вокруг вечного мрака, в котором вечная пустота.
— Природа не терпит пустоты, — сказал Метр и наполнил бокалы.
На пленке покашляли. Это был хронический, застарелый кашель, которому было четыреста с лишним лет. Галилей сказал:
— Наверно, я не все понимаю. Старикам трудно понять молодых, а мне уже почти восемьдесят.
— Молодится старик, — не упустил случая Метр. — Наверняка скинул четыре сотни.
— Вы боитесь пустоты, — сказал Галилей, — и заполняете жизнь чем попало. Вы хотите получить все сразу, забрав со своего счета весь вклад… Человек не должен грабить свое будущее… Хотя я не навязываю вам свой образ жизни…
И все представили себе этот образ жизни: четыре магнитофона — и на каждом крутится пленка: Брэк, Учитель, Праматерь и Метр.
Брэк (меланхолически крутится). Чем бы таким заняться? Двадцать метров прошло, а ничего не меняется. С одинаковой скоростью ничего не меняется… Ты здесь, Праматерь?
Праматерь (так же бесстрастно крутится). Здесь. А может, не здесь. Я не вижу, где я.
Брэк. Ничего. Главное, что ты крутишься. А то одному крутиться… Как у тебя со скоростью?
Праматерь. Четыре в минуту.
Брэк. То же самое. А бывает десять. А то и девятнадцать. Конечно, крутишься веселей, но быстрей прокручиваешься.
Праматерь. Пускай быстрее. Только бы веселей.
Брэк. Как у тебя напряжение?
Праматерь. Нормально.
Брэк. А громкость?
Метр (взрывается, внешне спокойно крутясь). Перестаньте! О другом не можете поговорить? Как скорость? Как громкость? Как напряжение? Я не хочу об этом слушать! Я не хочу об этом думать! Я хочу просто крутиться! Просто крутиться, как все!
Брэк. У тебя сейчас лопнет пленка.
Метр. Пускай. Дайте мне выпить.
Учитель (с четвертого магнитофона). Ты не можешь выпить.
Метр. Я не могу? Вы шутите!
Учитель. Друзья, не будем ссориться. Мы опять вместе, как в прежние времена. Правда, мы не можем видеть друг друга, а если б и видели, все равно б не узнали. Все осталось там, в прежней жизни: и добрые глаза нашей Праматери, и пьяная физиономия Метра, и Брэк с его барабанными палочками, угнетающими барабанные перепонки, — все осталось там. Но мы сохранили главное: наши личности, наши индивидуальности, которые вознесли нас над смертной природой.
Брэк. Он уже десять метров наговорил, я специально следил за временем.
Учитель. Мы не можем видеть друг друга, мы не можем друг к другу подойти. Мы не можем сходить в кино, посидеть у телевизора, мы не можем ни сидеть, ни ходить, мы можем только обмениваться мыслями. И мыслить. Раньше мы не ценили этого высокого наслаждения — мыслить, а теперь нас ничто не отвлекает от него. Так будем же мыслить, будем обмениваться мыслями! Начинай, Брэк!
Брэк. Почему это я?
Метр. Кто-то должен начать. Для начала.
Брэк. Но почему же я?
Метр. Ты любишь звучать. Давай прозвучи какой-нибудь мыслью.
Брэк. Пусть прозвучит Праматерь. Она женщина.
Праматерь. Неужели ни у кого нет какой-нибудь мысли?
Брэк. Наверно, есть у Учителя.
Метр. Да, Учитель, это по твоей части.
Учитель. Хорошо, вот вам мысль: «Я мыслю, значит, я существую».
Метр. Это — мысль?
Учитель. Ее высказал Декарт, французский ученый.
Брэк. Хорошо высказал. Мыслишь, — значит, существуешь, не мыслишь — не существуешь. И кончен бал.
Учитель. Предлагаю вам эту мысль для обмена.
Метр. Такую мысль даже не знаешь, на что обменять.
Праматерь. Учитель, придется тебе сказать еще одну мысль. Чтобы было на что обменять предыдущую.
Учитель. Не могу же я обмениваться мыслями сам с собой. Причем учтите: существует лишь тот, кто мыслит, и если вы не будете мыслить…
Метр. Да, положеньице…
Брэк. А пленка крутится. Четыре метра в минуту.
Праматерь. Она крутится, а мы даже не существуем. Для чего же она крутится? Брэк, неужели ты ничего не можешь придумать?
Брэк. У меня когда-то была одна мысль. Я еще сказал ее Метру, а он так и ответил: «Брэк, это мысль». Ты не помнишь. Метр?
Метр. Как же не помню? Такие мысли ты не часто высказываешь. Ты сказал: «Метр, у меня есть одна мысль…
Брэк. Точно! Я так и сказал: «Есть одна мысль». И какая же, Метр?
Метр. Ты сказал, что у тебя есть мысль купить гитару. А я тебе ответил, что это мысль. Но теперь, ты знаешь, я начинаю в этом сомневаться. Как-то уж очень эта мысль отличается от мысли Учителя.
Брэк. Мысли не могут быть все одинаковые. Иначе как ими обмениваться?
Учитель. Вот это мысль, Брэк. Теперь ты сказал настоящую мысль: нужно не просто мыслить, нужно мыслить по-своему.
Брэк. Значит, я существую? Да, теперь я чувствую, что я существую.
Праматерь. А как же я, Брэк?
Брэк. Очень просто. Ты просто мысли, понимаешь? Мысли — и будешь существовать!
Праматерь. Надо что-то придумать. Надо что-то придумать.
Метр. А пленка крутится, крутится…
Пленка крутится, крутится… Но молчит Галилей. И молчит вся компания, глядя, как крутится пленка.
Метр первым приходит в себя:
— Может, выпьем? У меня есть хороший тост. Если потом, после всего, от нас что-то останется, то пусть это будет не способность мыслить. Пусть это будет способность… — Он выпил и снова себе налил, но никто не последовал его примеру.
— Какая способность? — не поняла Праматерь.
— Вот эта, — Метр постучал пальцем по скульптуре Байрона, полагая, что стучит по бутылке.
Наступила долгая пауза. И вдруг заговорил Галилей:
— Древний вопрос «Что есть истина?» до сих пор остался без ответа. Жизнь многих истин похожа на жизнь человеческую: сначала их подгоняют под известные образцы, потом долго и упорно не замечают. А замечать начинают лишь тогда, когда истина устаревает и становится общепринятым образцом, под который подгоняются вновь рожденные истины…
Смерть истины — рождение лжи, говорил Галилей, но это нельзя понимать упрощенно. Ведь и лжи приходится нелегко. Ложь при жизни тоже не признают, ее при жизни считают истиной. И лишь после смерти, когда ложь умерла, ее называют по достоинству — ложью.
Метр попросил переменить пластинку. Вернее, пленку. Учитель не решался оборвать жизнь Галилея на полуслове, хотя знал, что пленка все равно кончится. Рано или поздно кончится. Но как обрывать человека на полуслове?
Праматерь откопала какой-то альбом и принялась рассматривать репродукции. Этот Галилей, конечно, умница, недаром его проходили в школе, но Праматери вдруг стало скучно, как бывало когда-то в школе, и она не могла себя пересилить, хотя ей не хотелось обижать старика.
Брэк рылся в магнитофонных записях. Метр дремал.
— Истину мало найти, ее нужно найти своевременно, в то недолгое время, когда она жива, — говорил Галилей. — Десятки тысяч томов, учебников и трактатов полны мертвыми истинами, им поклоняются, их отливают в бронзу, а тем временем живые истины незаметно доживают свой век, а если их и замечают, то лишь для того, чтобы покончить с ними, как с ложью.
— Может, поставим музычку? — спросил Брэк.
— Давай! — оживилась Праматерь и сконфузилась. Все-таки ей было жаль старика. Ей было по-настоящему жаль старика, но ей хотелось послушать музыку.
— Выключай его! — сказал, просыпаясь. Метр.
Учитель уже жалел, что принес домой эту пленку. Лучше б она лежала в лаборатории, а они бы слушали музыку, и никто б никому не мешал. И жизнь Галилея зависела б не от него, от Учителя, а от целого научного коллектива, который знает, когда включать ее, а когда выключать. Все это проходило бы в соответствии с планом работ, и даже сам Галилей не был бы в претензии. Ведь сейчас, собственно, он живет незаконно…
— Извини, Галилей, — сказал Учитель, — эксперимент на сегодня окончен.
— Эксперимент?
— Называй как хочешь. Каждая жизнь — эксперимент, иногда удачный, иногда неудачный.
— Вот это мысль! — восхитился Брэк. — Учитель, ты существуешь!
Праматерь чуть не плакала, так ей было грустно. Она уже привязалась к Галилею и даже успела немножко его полюбить. Как своего дедушку. У Праматери никогда не было дедушки, но если б он был, она бы его вот так полюбила. Как старика Галилея. И ей было б жаль, если б он должен был умереть.
Но Брэк уже держал в руках пленку с веселой музычкой, а Метр разливал в бокалы вино.
— Вы хотите меня убить? — спросил Галилей. — Именно сейчас, в самую важную для меня минуту?.. Но ведь вместе со мною умрет истина… Послушайте… Я обращаюсь к суду Святой Инквизиции… Милосердной и Святой Инквизиции…
Учитель нажал на рычаг. Все было кончено.
Сразу стало так тихо, как будто одновременно выключилась вся жизнь — и в комнате, и на улице.
— Это ужасно, — сказала Праматерь, и слезы потекли по ее щекам.
Метр стал совсем маленьким. Он молчал.
— Ты хотел что-то поставить, Брэк? — Учитель никак не мог снять пленку с магнитофона. — Где же твоя музыка, Брэк?
— Вот, — протянул Брэк свою музыку, но так, что Учитель не мог ее взять, а Брэк и не спешил помочь ему дотянуться. — Вот она. Вот.
— Который час? — спросил Метр и посмотрел на часы. — Впереди еще целый вечер…
— Целый вечер, — сказал Брэк. — Целый вечер.
— Перестаньте повторять! — крикнула Праматерь, и сама повторила: Целый вечер…
— Давайте выпьем, — предложил Метр. И погладил скульптуру Байрона.
Дух Наполеона
В одном из российских городов, — может, в Курске, а может, в Волоколамске, но совершенно точно, что на улице Ленина, — жил человек, в котором жил дух Наполеона. Этот дух поселился в России давно, сразу после Святой Елены, где окончились земные дни императора. Чем-то ему еще при жизни приглянулась наша страна, — может быть, тем, что в ней самые безумные идеи осуществлялись, а разумные не могли пробиться в течение веков.
После смерти человек останавливается на той точке развития, какой ему удалось достигнуть при жизни. Кто на этом свете не поумнел, на том уже не поумнеет. На том свете многие думают: надо будет в очередном земном воплощении что-нибудь подчитать, подучить, пытаются даже завязать на память узелок, но в тех местах завязать его практически не на чем.
С этими воплощениями иногда случаются пренеприятные казусы. Дух одного из столпов антисемитизма после его смерти вселился в еврея. Зачем? Чтоб иметь под рукой постоянное поле деятельности? И всю жизнь этот еврей испытывал какое-то внутреннее неудобство (о внешних неудобствах еврея не будем говорить). Что-то в нем такое происходило, а что именно, он понять не мог. Его все время тянуло изменить в паспорте национальность, рассказать в неподходящей компании еврейский анекдот, напиться и нахулиганить так, чтобы все хулиганы и алкоголики считали его своим человеком.
И вдруг все заговорили об исторической родине. К тому времени у еврея в паспорте значилась уже совсем другая национальность, и пришлось потратить немало сил и средств, чтоб вернуть свою, историческую. Наконец-то все было хорошо, можно было пожинать плоды своей национальности, однако неисторическая родина не дремала. Она решила вообще убрать в паспорте графу «национальность», чтоб не было видно, кто еврей, а кто не еврей. То ли для того, чтоб никого не выпускать, то ли для того, чтобы все граждане выглядели как потенциальные евреи и могли уехать на свою историческую родину.
Тут даже дух великого антисемита не выдержал. Он стал шуметь, что, дескать, нечего нам ставить паспортные заслоны, что мы, евреи, должны жить на своей исторической родине. Зачем ему это было нужно? Может, он хотел иметь под рукой более широкое поле деятельности?
А вы посмотрите, в ком живет дух Льва Толстого. Мало того, что он сопротивляется злу насилием, и даже не злу, а добру сопротивляется насилием, но он же за всю свою жизнь ни разу не раскрыл книжки. А человек, в котором обосновался дух Антона Семеновича Макаренко, в буквальном смысле лишен родительских прав. Он из тюрьмы не вылазит, в то время как дух его, великий педагог, пытается его перевоспитать и даже открыл у него внутри маленькую колонию имени Дзержинского.
Но вернемся к духу Наполеона. Долго мыкался он по российским медвежьим углам, мечтая перебраться в Москву и зажить нормальной цивилизованной Жизнью. Но это были ему не прежние времена: тут хоть какое войско собирай, вокруг Москвы выставлен железный заслон прописки. Да и армию вести на Москву, для этого нужно быть Наполеоном. А он уже давно не Наполеон. У него другое имя, другая фамилия. Да и должность другая: заведующий прачечной. Только дух остался прежний. Наполеоновский дух.
Духу, конечно, спокойней в директоре прачечной. Сколько с этими победоносными войнами хлопот! Сам заведующий, правда, не стирает, но когда он собирает тех, кто стирает, и обращается к ним с привычным воззванием: «Сорок веков смотрят на вас с этих пирамид!» — простирая руку к горам грязного белья, — у кого тут не займется сердце: Наполеон, чистый Наполеон!
В не такие уж давние времена, руководя мясокомбинатом, он тоже обращался к своим людям по-наполеоновски: «Каждый солдат носит в своей сумке…» — но что именно носит, не проверял, за что его и любили подчиненные.
В прачечной коллектив тоже опытный, толковый: умеет отличить чистое белье от грязного. Но клиенты все равно недовольны, осаждают заведующего жалобами. Слушает их заведующий, и вдруг закроет глаза, и замрет без движения. Со стороны можно подумать, что он уснул, убаюканный критикой, а он не уснул, просто в данный момент кто-то вызвал дух Наполеона.
Живешь, как на экзамене: вопросы, вопросы. Сколько дали Ванькины, чтоб сына протащить в университет? С кем живет жена Сенькина и с кем живет сам Сенькин? И на такие вопросы должен отвечать Наполеон!
Обычно, уже ответив, он немного задерживается: а вдруг вызовут кого-нибудь из знакомых или просто великих людей. Так познакомился с Гомером (оказывается, это сплетни, будто его не было). Хотелось встретиться с Лениным, но его никто не вызывал, поскольку на все вопросы он еще при жизни ответил (неправильно).
Жена у Наполеона была Жозефина, а теперь стала Лизавета Васильевна. Ты ждешь, Лизавета, от друга привета. Это она в песне ждала, а в жизни у нее совсем другие ожидания. Тут к привету приходится из зарплаты добавлять. Жозефина бы взяла и еще благодарила, у нее культурное французское воспитание, а этой все мало. Из зарплаты — мало. Приходится искать другие источники.
Однажды пригласили его в один дом. Там гости собрались пить чай, но из посуды осталось одно блюдечко. Что делать с одним блюдечком? Гость Толик предлагает: давайте духов вызывать. А вокруг все материалисты, атеисты, марксисты. Каких духов, говорят, ты что, офонарел, все духи давно перемерли.
А дух Наполеона тем временем не дремал. Это он с женой дремал, но в данный момент находился совсем с другой женщиной. Замечательная женщина, не Лизавете чета. И даже, если напрямую сказать, не Жозефине. Он с ней на улице познакомился. Посмотрел — что за женщина! Не женщина, а воплощение наполеоновской стратегии боя: лучшие части выдвинуты вперед, но и тылы укреплены основательно. А фланги, какие фланги! Против таких флангов ни один противник не устоит.
Взыграл в заведующем наполеоновский дух, подошел он к женщине. «Может, вам, — говорит, — чего-нибудь постирать? Потому что я — заведующий прачечной».
Женщине сначала не понравилось, что к ней прямо посреди улицы подходит незнакомый мужчина, но тема разговора ее заинтересовала. Действительно, думает, почему бы не постирать? Дома горы белья, накопилось за два месяца. Тем более, муж пошел на повышение, теперь ему чаще понадобятся чистые рубашки.
Заиграла женщина глазами, выражая желание постирать, а заведующий говорит: «Приходите ко мне, я вам лично все устрою».
В назначенный день сам помылся, сменил белье. Оделся во все чистое как в гроб ложиться. Подобрал стишок, подходящий к случаю: «Я помню чудное мгновенье» неизвестного автора. Стишок он у дочки из тетрадки списал, автор там не был обозначен.
Клиентка заявилась с супругом, который притаранил два чемодана белья. При виде супруга дух Наполеона вначале увял, но супруг едва отцепился от чемоданов, только его и видели.
Между тем Толик ведет непринужденный разговор с Жанной д'Арк. Интересуется, какие ей больше нравятся мужчины — блондины или брюнеты. Жанна смущается: ей ведь только исполнилось девятнадцать. После смерти, конечно, больше набежало, но душа сохранила возраст прижизненный.
«Мне, — говорит Жанна, — нравится Франция, моя отчизна».
Такой ответ еще больше распалил Толика, ему эти разговоры про отчизну во где сидят. Стал он флиртовать с девушкой, задавать все более рискованные вопросы, чем окончательно ее смутил, и она надолго замолчала, как замолчала в тот памятный день 30 мая 1431 года.
Толик, однако, не унимался: крутит блюдечко, вызывая девушку на разговор. Хозяйка говорит: «Перестань к девушке приставать, блюдечко разобьешь, а сейчас у нас посуды вообще не купишь».
Тут вокруг стали собираться духи разные, хотя их никто не вызывал. Жизнь у них монотонная, однообразная, только и прислушиваются, не запахнет ли где скандалом.
Пришел дух Клима Ворошилова, знаменитого полководца. Он пока еще ни в кого не вселился, все выбирал. Ему по его высокому положению не так просто было найти человека. Были здесь и другие духи, которые в ожидании назначения слонялись в загробных мирах, пребывая, так сказать, на заслуженном отдыхе.
Дух Ильи Семеновича Рыженбаха, учителя иностранного языка провинциальной неполной средней школы, слонялся по тому свету со своим неизменным вопросом: «Меня не вызывали?
«Я вас не вызывал», — отрубил ему Климент Ефремович.
Илья Семенович проследовал дальше. Никто его не вызывал. У него было много учеников, среди них были люди достаточно выдающиеся — не только в районном и городском, но даже в областном и республиканском масштабе, были среди них орденоносцы, кандидаты различных наук, но ни разу никому не пришло в голову вызвать дух Ильи Семеновича Рыженбаха.
А учительницы? Он был единственный мужчина в неполной средней школе, и когда он призывал свой класс к порядку, порядок воцарялся во всей школе, включая соседнее профессионально-техническое училище. На переменах учительницы, как пчелки, роились вокруг него, наперебой предлагая свой мед, а теперь хоть бы одна о нем вспомнила.
Никто не вызывает Илью Семеновича Рыженбаха. А он все ждет, все надеется и спрашивает у каждого встречного: «Меня не вызывали?
Познакомившись с духом Наполеона, Илья Семенович призадумался:
«Наполеон… Наполеон… Где-то я слышал эту фамилию. Ну-ка припомните: вы у меня не учились?
Дух Наполеона отверг это предположение и при этом заметил, что Наполеон — это вовсе не фамилия, что фамилия его Бонапарт…
«Бонапарт? — насторожился дух учителя Рыженбаха. — Где-то я слышал и эту фамилию. Но вы точно помните, что у меня не учились?
Чего только не услышишь на этом свете. Теперь уже, правда, не на этом, но все равно… Кто-то у кого-то учился, кто-то с кем-то встречался, но теперь это уже все равно… Дух Наполеона подробно излагал историю Франции, а тем временем Илья Семенович Рыженбах рассказывал о специфике преподавания иностранного языка в провинциальной неполной средней школе.
«Но вы совершенно уверены, что у меня не учились?
Нет, не учился у него Наполеон Бонапарт.
Между тем заведующий прачечной усадил клиентку на диван, выставил на столик конфеты, которые прятал на работе от семьи, и вообще повел себя так, будто не она у него клиентка, а он у нее клиент. Бумажку со стишками достал. «Я, — говорит, — помню чудное мгновенье».
На такие слова клиентка ближе к конфетам придвинулась. Надо было, думает, еще два чемодана припереть, тут уже точно что будет постирано.
В ответ на расположение клиентки заведующий решил еще одну строчку прочитать и даже вставить между строчками какое-нибудь действие, но в этот самый кульминационный момент слышит — его вызывают. Какой-то ненормальный Толик, который в своем доме, может, всю посуду перебил, на чужом единственном блюдечке гнусит: «Вызывается дух Наполеона».
Тут уже никуда не денешься — такая работа. Смотрит клиентка: заведующий вроде как уснул. Какой позор: во-первых, на работе, а главное — рядом с женщиной. Еще, чего доброго, проснется, станет рассказывать, как он с ней спал. А спал, между прочим, он один, она и глаз не сомкнула.
Сидит клиентка в полной растерянности, смотрит, как он с ней спит, а белье между тем грязнеет в ожидании стирки. Но клиентке все же интересно, что там дальше в стишке написано. Заглянула в бумажку; а там — прямо про ее визит к заведующему: «Передо мной явилась ты…» И стало ей так приятно, и она уже не сердилась на заведующего: это ж надо — такие стишки специально к ее приходу сочинил!
А дух Наполеона, прибыв по вызову, еле пробился сквозь толпу любопытных духов. Ворошилов никак не хотел дорогу уступать, считая, что он более великий полководец. Дважды Герой Советского Союза, это вам не Наполеон.
Крутит Толик блюдечко, как пьяный шофер баранку, пока дух Наполеона пререкается с духом Ворошилова. Жанна д'Арк смущается, слыша незнакомые мужские слова, но уходить не уходит. Любознательная девушка. Наконец дух Наполеона пробился к Толику, и пошел у них разговор. Про политику, про всякие житейские дела. Будут ли старые деньги на новые менять. Наполеон понятия не имеет, но отвечает утвердительно. «А в какой пропорции?» — не унимается Толик. На всякий случай дух брякает: два луидора за один наполеондор. «Это он по-своему, — объясняет Толик гостям. — Будут менять двадцать восемь рублей за доллар».
«Спроси, не повысят ли цены на мясо», — подсказывает хозяйка.
«И на водку», — добавляет хозяин.
Дух Наполеона и тут проявляет эрудицию: на мясо повысят, на водку оставят без изменения, поскольку ее уже больше некуда повышать.
Разговор о водке слегка опьянил дух Наполеона, и он, ответив на все наболевшие вопросы, пошел знакомиться с Жанной д'Арк. Поговорили о любимой Франции, о том, что теперь уже нет былого патриотизма, и на этой почве дух Наполеона пошел Жанну провожать. Ему нравилось, что она моложе его на тридцать пять лет, хотя фактически она была старше на триста пятьдесят с гаком.
У вечности свои законы. Когда человек приходит в вечность, он приносит из жизни свой возраст, который остается неизменным уже навсегда. Если ты умер в семнадцать лет, быть тебе в вечности вечным юношей, а если в семьдесят — вечным стариком. Мы удивляемся: почему у нас одни люди с детства старики, а другие — до старости младенцы. А все от того зависит, чей дух в них вселился — младенца или старика.
Два великих духа шли по вечности, разговаривая о разных вещах и задавая друг другу вопросы, которые никому из живых не пришли бы в голову. Дух Наполеона рассказывал, какая у него была спокойная жизнь, когда он был императором Франции. Сходил на одну, на другую войну — и отсыпайся. А тут не отоспишься: у всех столько вопросов, и кто-то же должен на них отвечать. Причем вызывают одних и тех же, ничтожный процент. А остальные преспокойно себе отсыпаются. Знать бы при жизни, как придется эту славу отрабатывать, мы бы старались прожить потише… И покороче — добавил дух, покосившись на свою юную спутницу.
У Жанны на этот счет было другое мнение. Хуже всего, когда тебя забывают. Потому что забвение — это и есть настоящая смерть. А пока ты нужен, пока ты по свету мотаешься — пусть даже не по этому, а по другому свету, — до тех пор ты живешь.
Какие у нее молодые мысли! — восхитился дух Наполеона. — А ведь этим мыслям лет пятьсот… — как истинный француз, он слегка убавил возраст женщины. — Это все оттого, что ее сожгли в девятнадцать лет, — позавидовал он. Но тут же спохватился: сожгли б его в девятнадцать лет, он бы навеки остался капралом.
Тут им навстречу выплыл дух Ильи Семеновича Рыженбаха и осведомился, не вызывали ли его. Затем он поинтересовался, не училась ли у него Жанна д'Арк и не он ли ставил ей произношение.
Произношение у Жанны было действительно отличное: иностранное, но совсем как родное.
Девушка не все поняла в его разговоре и на всякий случай сказала, что полюбить она может только Францию.
«Так должна отвечать каждая порядочная девушка», — подумал дух Наполеона, и впервые его мысли совпали с мыслями школьного учителя.
«Конечно, вы у меня учились», — сказал Илья Семенович Рыженбах.
Когда заведующий открыл глаза, клиентка сидела за его столом и переписывала стихотворение. Она так старалась, что даже высунула язычок, и он подумал: какой у нее красивый язычок. Не плоский, как подошва, не корявый и пористый, как асфальт, а остренький, аккуратненький. Он словно соревновался с пером, показывая ему, как надо писать: вот так и вот так, а потом вот так…
Она заметила, что заведующий проснулся, но сделала вид, что не замечает, что она даже не заметила, как он уснул, и она спросила, будто он и не засыпал, будто они все время сидели и разговаривали:
«Как это у вас хорошо написано! Мне даже неловко… такие стихи… Мне еще никто не писал такие стихи… А гений чистой красоты — это тоже про меня? Или это про вашу прачечную?
Передача мыслей на расстояние и обратно
Много было сказано и написано о феномене Сен-Жермена, Мессинга и Кашпировского, но значительно меньше известен Александр Иванович П. А между тем именно он обнаружил фантастическую способность принимать правильные государственные решения на большом расстоянии от государственного руководства. Это тем более поразительно, что на протяжении новейшей нашей истории государственные решения принимались исключительно ошибочные, а некоторые могли быть отнесены даже к разряду преступных.
Между тем Александр Иванович говорил, он предупреждал. Но простому человеку, который принимает важные правительственные решения, без передачи мыслей на расстояние не обойтись: ни в одно правительственное учреждение ему не пробиться, письма его туда не доходят, номера телефонов засекречены. Что же остается? Передача мыслей на расстояние.
К сожалению, этой способностью Александр Иванович П. не владел. Принять решение — это да, но чтоб его передать, тут нужны совсем другие свойства личности.
По случайному совпадению, Степкин из того же двора передавал мысли на расстояние. В собственной его голове никаких значительных мыслей не рождалось, но передать чужие мысли на расстояние — это он пожалуйста, сколько угодно.
Вот ему-то и стал рассказывать Александр Иванович П. как и что. Что нужно делать правительству в данный момент, как развивать свою политику на дальнейших этапах. Степкин все внимательно выслушивал, кое-что записывал и говорил в заключение: «Непременно передам!
Возможно, он не очень точно передавал, но правительство совершенно не следовало советам Александра Ивановича. Оно принимало такие глупые решения, что Александру Ивановичу было просто неловко. А вдруг кто-то подумает, что это Александр Иванович им такое посоветовал? Ведь Степкин может кому-то сказать, что передает мысли Александра Ивановича, а то, что их извратили до неузнаваемости, потом уже никому не докажешь.
Самое невероятное, что две такие выдающиеся, можно даже сказать феноменальные способности соединились в одном дворе. Вообще-то наши люди обладают самыми разными способностями, кроме единственной — покупательной способности, которая у нас только в последнее время стала престижной, оставаясь, впрочем, на прежнем уровне.
По этому поводу Александр Иванович передал в правительство такое решение: нужно дать возможность каждому человеку заработать на себя. Но в правительстве поняли неправильно и стали давать возможность заработать не всем, а только некоторым, причем не просто так, а за солидную взятку. Александр Иванович возмущался, призывал Степкина в свидетели, что о взятках он ему ничего не передавал.
«Сумародок!» — восхищался Степкин, ни на что не намекая, а просто не справляясь с произношением. Как известно, справиться с произношением почти непосильная задача не только для широких народных, но и для узких правительственных масс. При этом Степкин что-то записывал в свой блокнот, переходя от неправильного произношения к неправильному написанию.
Александр Иванович между тем говорил:
«Приход социализма на смену капитализму был разрушителен для экономики. Приход капитализма на смену социализму разрушителен для экономики. Можно ли два раза разрушить, ни разу не построив?
«Сумародок!» — восклицал Степкин и опять записывал.
Были у этих двух феноменальных людей и свои маленькие слабости. Степкин, например, был влюблен в тетю Женю по имени Катерина Ивановна. Тетей Женей Катерину Ивановну называли за выдающиеся свойства ее фигуры, и Степкин любил в ней именно ту часть, которая называлась Женя, а к остальной Катерине Ивановне относился несколько настороженно. Особенно его настораживало то, что Катерина Ивановна ходит к Александру Ивановичу — и это при живом муже Хренопуло, алкоголике и мечтателе, которого трезвым можно было застать либо в раннем детстве, либо уже в могиле, куда вряд ли кто-то захотел бы за ним последовать. Не было у Хренопуло на этом свете столь верных и любящих людей.
Поэтому Хренопуло Степкина не смущал, его смущал Александр Иванович П., к которому тетя Женя (Катерина Ивановна) ходила на квартиру. Он ведь не знал, что она ходит в самом хорошем смысле, хотя и тот смысл, о котором думал Степкин, тоже не плохой и довольно-таки в нашей жизни распространенный.
И пока тетя Женя находилась у Александра Ивановича П., Степкин шел к ее мужу Хренопуло, который по обыкновению был после получки и тихо и отрешенно мечтал во дворе, принимая каждого подходящего к нему за представителя внеземной цивилизации. А когда тетя Женя выходила от Александра Ивановича, Степкин направлялся к нему и ревниво осматривал поле своего поражения, но ничего компрометирующего обнаружить не мог, поскольку Александр Иванович успевал все привести в порядок и встречал Степкина с неизменно умным лицом и словами, обращенными к политике нашего государства. Степкин слушал о политике и обещал это все передать, непременно передать и даже кое-что записывал для памяти.
Устав от разговоров о политике, Степкин возвращался к Хренопуло, надеясь выяснить некоторые обстоятельства касательно его жены, но Хренопуло не помнил своей жены и воспринимал ее как планету Женю на орбите звезды Катерины Ивановны, а Степкина как пришельца с этой Жени, который прилетел за Хренопуло, чтоб забрать его туда для дальнейшего прохождения жизни.
«Ни в коем случае, — говорил Хренопуло и кивал головой. Собственно, он качал головой, но по ошибке не в ту сторону. — Я ни в коем случае никуда не поеду. Потому что я, во-первых, люблю Родину, а во-вторых, меня не пустят. Ни в какую цивилизацию. Потому что у меня такая анкета. Ты никогда не видел мою анкету? Обязательно посмотри, это что-то особенное!
Конечно, Степкин видел его анкету. Он вообще многое в жизни повидал.
Жизнь у Степкина была сплошной детектив, но кое в чем отличалась от детектива. Там, в детективе, главное лицо — человек, который ищет преступника, а в жизни элемент риска отсутствовал, все преступники сидели по своим квартирам и тихо ждали, когда за ними придут. Поэтому в жизни главным лицом становился не сыщик, а следователь. Без него преступник прожил бы жизнь, да так бы и не узнал, что он преступник.
Степкин, однако, следователем не стал, но из него получился секретный сотрудник. Он следовал за объектом и передавал его мысли на расстояние, так что в определенном смысле он все же стал следователем.
В его записной книжке в качестве эпиграфа были написаны такие слова: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. А.С.Пушкин». С одобрения Пушкина он и занимался своей деятельностью, которой оценка великого поэта сообщала и поэзию, и высокое благородство.
Фамилия Степкин была не его, а жены. В своей жизни, чтоб замести следы, он постоянно переходил на чью-то фамилию. Он и женился не по любви, а для конспирации, а рассекретившись, разводился.
Громких фамилий он избегал. Чем громче фамилия, тем ее лучше слышно. Когда-то его увлекла женщина по фамилии Лермонтова, и только из-за ее фамилии он на ней не женился. Он опасался стать Лермонтовым, Лермонтовы долго не живут. Вместо Лермонтовой он тогда женился на обыкновенной женщине Ивановой — не Татьяне Ивановой, не Наталье Ивановой, а просто на Ивановой. Была такая женщина.
Три года он прожил под незаметной фамилией Иванов. А потом внезапно прогремел Иванов — не то писатель, не то государственный деятель, — и пришлось Степкину разводиться с женой, чтоб не греметь такой громкой фамилией.
Для него не было отдыха, не было свободных от работы минут. Однажды он разговаривал по междугородному телефону с женой, и вдруг, как это бывает, в его разговор вклинился другой, весьма подозрительный по содержанию. При этом назывались такие нетелефонные имена и должности, что он уже не слушал, что там кричала жена, а мучительно соображал, кто такие эти вклинившиеся в разговор абоненты, из каких они городов, из каких учреждении и как бы их подольше задержать на линии. Жена уже давно повесила трубку, а он все кричал из кабины телефонистке: «Дайте еще пять минут!» — хотя и не знал, что будет делать с этими разговорами, каким образом они могут ему пригодиться.
Больше всего он любил очереди, потому что в очередях люди бывают особенно откровенны. А кроме того, там непременно что-то дают. Если из соображений конспирации нельзя стать в ту же очередь, можно стать в другую: у нас хватает очередей. Они, допустим, стоят за водкой, а ты займи за колготками и отсюда, от колготок, слушай, о чем там, за водкой, идет разговор.
Разговоров было много. Особенно о нашей отечественной промышленности и не менее отечественной торговле. О том, что кому-то привозят колготки непосредственно домой, минуя все магазины, прямо из Франции. Или из Италии. Или из других государств. Но тут колготки кончались, и Степкин оказывался перед диаграммой в виде чулка: «Рост чулочного производства по сравнению с 913 годом» (началом княжения великого князя Игоря). Приходилось становиться за какими-нибудь билетами — то ли на выезд, то ли на въезд, то ли просто на сидение где-нибудь, допустим, в театре.
Он жил среди людей, которые были, как кусты в ночном парке под колеблющимся фонарем: то одна веточка высветится, то другая. И не узнать, что у них там, в тени: какие мысли, какие настроения. Вся их открытость от верхнего света: как фонарь повернется, какой бросит луч. Люди — только блики в глубине ночи, как волны под луной: поднимется большая волна, а высветится маленьким бликом. Маленькая же может высветиться большим. И не поймешь в темноте, какая там из них больше.
Это — в темноте. А на свету Степкин жил дворе, как остальные соседи: как Александр Иванович П., как тетя Женя и ее муж, алкоголик и мечтатель Хренопуло. Всякий раз, расставшись с очередной женой, он возвращался в этот дом — к своему детству, к своей юности и к своей любви, которую осуществить не мог, и не только потому, что в этом случае ему пришлось бы стать Хренопуло, а становиться Хренопуло не хотелось, — но он не мог позволить себе открытой жизни при столь закрытой профессии. Он мечтал о конспиративной квартире, в которой можно жить с конспиративной женой, воспитывать конспиративных детей… Но тетю Женю слишком хорошо знали в городе, потому что она работала в гастрономе.
Вот и все, что можно узнать о Степкине. Маленькой его слабостью была его большая любовь, а в остальном это был феноменальный человек, передавший на расстояние больше мыслей, чем передал Сократ всем своим ученикам, хотя передавал их в одно-единственное учреждение.
А какая слабость была у Александра Ивановича П.? У этого поистине государственного ума, способного принимать поистине государственные решения, была слабость, о которой можно догадаться, если намекнуть, что была она связана с любовью к прекрасному в сочетании с любовью к хорошим деньгам.
Нет, он не спекулировал картинами и не пел в эстрадном ансамбле, он не поставлял девочек в зарубежные дома благородных девиц.
Александр Иванович шил лифчики, отдавая дань красоте и принимая дань за работу.
Это была его вторая, древнейшая профессия, потому что занимался он ею с юных лет, и первой своей профессией он стал заниматься намного позже.
В первой, основной профессии Александра Ивановича не было ничего интересного ни с точки зрения эстетической, ни с точки зрения материальной, поэтому и говорить о ней ни к чему. А вот вторая, древнейшая была его вечной слабостью и вечной любовью.
Многие считают, что эта работа не для мужчин, но Александр Иванович отдавался ей с увлечением. Он умел так снять мерку, что создавалось впечатление, будто это вовсе и не работа, а нечто более возвышенное, окрыляющее, хотя крыльям положено расти с другой стороны.
Все это началось давно, еще в молодости, когда Александр Иванович ухаживал за своей невестой. Он приходил к невесте, и она засаживала его шить лифчики. Сначала он не умел, да и мысли были совсем не об этом, но она ему объяснила, показала, работа оказалась довольно простой. На первых порах он пришивал пуговицы, потом еще что-то пришивал, и лишь тогда, когда научился пришивать, невеста ему доверилась.
Так они сидели все вечера и шили лифчики. «Может, на диване посидим?» предлагал Александр Иванович, опасаясь, что его неправильно поймут, но и не желая, чтоб его поняли правильно. «Посидим! — отзывалась его любимая. Нам это сидение не меньше пяти рублей обойдется!
Время было действительно — прямо золотое. Час — два рубля. Сидеть в кино — и то дешевле. И постепенно Александр Иванович научился временем дорожить, и уже сам подгонял невесту, когда она пыталась расслабиться в обществе жениха.
Невеста жила далеко: сорок минут езды с двумя пересадками. Чтобы сэкономить время, Александр Иванович решил работать дома.
Были трудности с клиентурой. Первая женщина, которую он привел, чтобы снять с нее мерку, поначалу согласилась довольно охотно, но, увидев, что он действительно лезет мерку снимать, устроила скандал и ушла, хлопнув дверью. Он тогда не знал, что нельзя снимать мерку с первой попавшейся женщины, случайные знакомства тут ни к чему хорошему не ведут.
Вторую клиентку Александр Иванович решил сначала поближе узнать. Познакомились на базаре, стояли в очереди за грушами. Женщина была изрядной комплекции, из тех, что нуждаются в индивидуальной работе. Когда он предложил снять с нее мерку, она засмеялась и согласия не дала. Сказала, что они для этого мало знакомы. Лишь на третий день она решила, что они знакомы достаточно, но, когда он, приведя ее домой, полез к ней с сантиметром, она закричала и стала звать на помощь соседей.
Постепенно, однако, все наладилось. Клиентки сами стали к нему ходить и даже приводили других клиенток. Все они знали, зачем идут, и Александр Иванович оправдывал их ожидания.
Между тем невеста писала ему письма, просила зайти, соблазняла какими-то особыми пуговицами. Но он уже раздумал жениться. Зачем ему было жениться? Бесплатно шить лифчики?
Чтобы не вляпаться в такие дела, он стал подбирать клиенток с нестандартным возрастом и фигурой. Этим было все равно: примерять, так примерять, лифчики, так лифчики. Невеста не выдержала конкурентной борьбы, стала шить подворотнички, вышла замуж за военного и укатила с ним на восток. Не на Ближний Восток, как это теперь вошло в моду, а на Дальний, который был в то время ближе Ближнего.
Здесь же, вдали от востока, все больше ощущалось влияние запада, где женщины прекрасно обходились без лифчиков (поэтому у них от лифчиков ломились магазины, а у нас все лифчики были на женщинах, поэтому в магазинах их было не найти). В условиях острого дефицита предметов первой необходимости наша отечественная мораль все внимательней присматривалась к западной нравственности. По телевизору показывали, как должна выглядеть женщина, если она хочет обходиться без лифчика, а также других предметов нашего дефицита. В кино о лифчиках вообще не вспоминали — разве что в фильмах из времен Ивана Грозного, а также победоносных сталинских пятилеток. Клиентура Александра Ивановича старилась у него на глазах, и работа приносила ему все меньше удовлетворения. Впечатление было такое, что он изготовляет емкости либо для жидкостей, либо для совершенно сухих предметов, и в его профессии оставалось все меньше от высокого и трепетного искусства.
А тут еще одинокие клиентки, у которых настолько окаменели мечты, что о них разбивались последние их надежды, стали как-то по-другому смотреть на Александра Ивановича. Увидев, что одинокий мужчина так хорошо шьет, они решили, что он выполняет и другую домашнюю работу, и в целях установления более близкого знакомства тормозили рабочий процесс, просили снять мерку и там, и тут. и в таких местах, которые не имели никакого отношения к лифчику.
Александр Иванович удвоил, затем утроил тариф, но не отпугнул самых пылких и самых одиноких. Повышение цен только подстегнуло их мечты: им нравились мужчины, которые хорошо зарабатывают.
И все чаще Александру Ивановичу вспоминалось то время, когда он все это только начинал. Наверное, он не так начинал. Наверно, нужно было сесть с невестой на диван и потерять эти пять рублей, черт с ними, с пятью рублями. Тогда бы у него все сложилось не так, он имел бы свою личную жизнь и не должен был бы соваться в чужую, общественную. Он бы имел любовь вместо лифчиков, а сейчас у него сплошные лифчики вместо любви.
«Слышь, Степкин, — говорил в такой момент Александр Иванович, — а может, мы с тобой прожили жизнь не так?»
И Степкин отвечал:
«Может, и не так. Но так или не так, надо за нее, прожитую, держаться».
Но однажды события, которые столько лет топтались и пылились во дворе, сорвались со своих мест и помчались с бешеной скоростью. И алкоголик Хренопуло вдруг проснулся, совершенно трезвый перешел через дорогу и замер у административного здания с плакатом: «Свободу Отечеству!» Тут же набежали его соотечественники, у которых было много свободного времени, а им хотелось еще каких-то свобод (впоследствии они получили свободные цены).
Пролетарии, которым нечего было терять, поскольку все, что можно было потерять, они пропили, требовали призвать к ответу руководителей Учреждения. Руководители сначала затаились, потом долго не отзывались, а потом вышли тихонько через черный ход и присоединились к толпе, требуя призвать к ответу уже неизвестно кого. Чтобы как-то разрешить эту проблему, кто-то высказал требование призвать к ответу еврейский вопрос, но можно ли призывать к ответу вопрос, или вопрос можно призвать лишь к вопросу?
Александр Иванович имел несколько мыслей на этот счет, но ему не удавалось передать их на расстояние, а близко подходить к толпе он боялся.
Правда, был изобретен другой способ передачи мыслей на расстояние — с самого низа на самый верх, с трансляцией их оттуда на всю страну по телевизору. Степкин буквально не отходил от микрофона. Все те мысли, которые он прежде изымал из низов, он теперь провозглашал сверху в микрофон, и не последнее место среди них занимали мысли Александра Ивановича.
Александр Иванович сидел перед телевизором и слушал свои самые сокровенные мысли. Это были старые мысли, сейчас он думал уже не так. Он, например, не одобрял, что покупательная способность, которая прежде у нас отставала от других способностей, теперь становится самой престижной, хотя тоже пока еще отстает.
Иногда к нему заглядывал Степкин, но уже не с той целью, с какой заглядывал в прежние времена. Степкин хотел узнать, как реагируют избиратели, которых он прежде держал под колпаком, на наши сегодняшние парламентские достижения. Для этого Степкин слегка приподнимал колпачок и заглядывал к Александру Ивановичу.
Степкин рассказывал о приватизации конспиративных квартир: теперь они передаются конспираторам в личное пользование. Он, Степкин, давно пытался это сделать и за это пострадал, не зря его выбрали в народные депутаты.
Они сидели, вспоминали прежние времена, в которых Александру Ивановичу больше всего запомнились лифчики, помогавшие держать в секрете то, что сегодня выставляется на всеобщее обозрение. Народный депутат с ним соглашался: не все нужно выставлять на всеобщее обозрение, многое народ может не понять.
Степкин уходил и вскоре появлялся на экране телевизора. Александр Иванович сидел и слушал собственные мысли. Они дошли до него, наконец-то дошли: поднялись на самый верх и спустились к нему, словно никогда от него не уходили.
Ходить — ходьба, судить — судьба
Парень и девушка шли по широкой степи, и им было еще далеко до горизонта. Горизонт был спокойный и ровный, словно ему нечего было скрывать, а ему было что скрывать, ох, было…
Девушка шла под конвоем, а думала, что идет в дружеском сопровождении. Она любила своего конвоира и называла его просто Вась. «Вась, куда ты меня ведешь?» — спрашивала она, делая вид, что не догадывается. Но она догадывалась, все девушки всегда обо всем догадываются, — правда, не всегда о том, что бывает на самом деле.
Конвой Вась не отвечал, на подобные вопросы отвечать не положено, он только торопил подконвойную, а ей не хотелось спешить, ей хотелось продлить это волнующее приближение к горизонту. Она старалась держаться поближе к парню, а он по уставу должен был соблюдать дистанцию. А то обезоружит чего доброго, а там ее поминай. У него в кармане предписание доставить подконвойную к месту казни. Или каторги. А она думала, что к месту любви. Она верила, что любовь побеждает смерть, как написал творец смерти на книге творца любви, чтоб отвести глаза любви от неумолимого шествия смерти.
Девушка была революционерка, а парень — шпион и стукач, агент охранки и Чрезвычайной Комиссии, и еще чего-то в этом роде. Но внешне он ничем не отличался от революционера, партизана и подпольщика. А чем он мог отличаться? Мы ведь все живем вперемешку — герои, революционеры, убийцы и предатели. Встречаемся, общаемся, говорим о том, о чем положено говорить, и молчим о том, о чем говорить не положено. Как тут отличить одно от другого?
Бывали даже случаи, когда агенты охранки становились во главе революции и вели ее на казнь, усыпляя пламенными словами. Такими словами усыплял парень девушку, а она слушала и вся тянулась к нему, потому что он был парень, а она была девушка.
«Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете», — сказал бы об этой сцене знаток подобных сцен, выдавая себя за знатока тонких человеческих отношений. «Любовь побеждает смерть», — сказал бы он, имея в виду всенародную любовь, существующую наперекор всенародной смерти.
Горизонт все еще скрывал правду смерти, выдавая ее за правду любви. А здесь, в том самом месте, где парень вел девушку по степи, три мальчика сидели на берегу моря. Но если хорошо приглядеться, это были три старика. Жизнь пролетает так, что не успеешь оглянуться, не то что приглядеться.
Берег моря тоже изменился. Сначала он был пустынный, потом на нем появился пляж, людей набралось — ступить негде. А потом вдруг люди исчезли, хотя был разгар лета, солнце светило вовсю, и остались только три старика: в море было запрещено купаться.
Три старика, которым многое было запрещено, жизнь которых прошла в мире сплошных запретов, ничуть не удивились, что в море купаться запрещено. Хорошо хоть можно на солнышке посидеть. А запретят — не будем сидеть. Будем дома сидеть. У телевизора.
Конечно, это слабое утешение. Но ведь мы пришли в этот мир не за утешением. А за чем мы пришли? Вот и ломай теперь голову: пришли, а за чем — забыли.
Море безмятежно плескалось, словно с ним ничего не произошло, и все так же светло и ровно уходило за горизонт, — может быть, туда, куда парень вел девушку. Но они ничего этого не видели и видеть не могли. В том месте, где сидели старики и плескалось море, парень вел девушку по сухой и безлюдной степи. События накладывались одно на другое, пронизывали одно другое, в мире было тесно от них, а если посмотреть со стороны, в мире не было никаких событий.
Три старика сидели на берегу, и через них парень вел девушку. Ходить ходьба, судить — судьба… Вот так они и складываются, судьбы. Идешь к горизонту, и сам не знаешь, куда идешь. И через что придется пройти прежде, чем придешь к своему горизонту.
И в какой-то момент конвой Вась забыл устав конвойной службы, он забыл, что у него дома семья, что у него дети Вась Вася меньше, — он решил, что здесь, в степи, ему все позволено, и тогда три мальчика заплескались в море и поплыли, высоко поднимая брызги, кто быстрей доплывет. Три мальчика вытворяли в море такое, что на них неприлично было смотреть, и девушка почувствовала, что к ней пришла любовь. А к кому ей было прийти? У конвоя Вася была семья, и только сердце девушки было свободно.
Но она все равно сказала «нет». Для конвоя это означало неподчинение. И он забыл, что у него семья, а если и не забыл, то для дальнейших его поступков это уже не имело значения.
И тогда три мальчика выбрались на берег и превратились в трех стариков. Купаться в море было нельзя, но им и не хотелось. Им хотелось просто сидеть на берегу моря, вспоминать, как они когда-то купались, когда купаться было разрешено.
Каждый из этих стариков был Василий Васильевич. И конвой Вась был Василий Васильевич. И даже девушка была Василий Васильевич.
Потому что все эти события происходили внутри Василия Васильевича, и он наблюдал их, когда перемещался внутрь себя, соединяя два, казалось бы, несовместимых пространства.
Это погружение в себя можно истолковать как глубокую задумчивость, мечтательность или пробуждение каких-то воспоминаний, но, возможно, здесь было что-то совсем другое. Возможно, внутри Василия Васильевича происходили не воображаемые, а действительные события. Не исключено, что воспоминания — это и есть действительные события, которые повторяются на микроуровне внутри нас, а мечты — события, которые на том же уровне предшествуют внешним событиям.
Есть такая теория. Современная биология ее не признает, потому что не исследует человека на атомном уровне. И если в нем случится, допустим, атомная война, ему пропишут какую-нибудь касторку. Как будто можно касторкой вылечить человека от атомной войны. А если не вылечишь человека, как можно вылечить человечество?
Создателем этой теории был Капитан, последнее плаванье которого было сухопутным, отчего он и его спутники терпели бедствия, не окончившиеся и тогда, когда корабль их прибыл на место.
Бескрайние просторы, ограниченные, правда, колючей проволокой, продувались со всех сторон такими ветрами, которые и не снились открывателям Арктики. Капитану там доказывали, что он не капитан и даже не матрос, а вообще никто, сухопутное насекомое. Но Капитан-то знал, что он капитан, и изо всех сил старался держаться капитаном.
Вот тогда-то он и создал свою теорию о черве или пауке, которому поклоняется высокоразвитая цивилизация, считая его не червяком, а всесильным богом. Потому что у высокоразвитых цивилизаций тоже имеются свои соображения. Кто-то надеется, что бог его пощадит, кто-то — что поможет продвинуться по службе, а многие просто верят, потому что у них чистая и доверчивая душа, и они создают бога по своему образу и подобию. Вот для них, для тех, кто поклоняется жестокой силе, им не видимой, Капитан и придумал, что каждый из них тоже по-своему бог, со своими внутренними мирами и вселенными. Пусть их здесь увечат и топчут, пусть заставляют есть дерьмо, но они боги и поклоняются пауку лишь потому, что так устроено это общество. Но они не умрут, когда их бог подохнет, отдаст концы, потому что атомы не погибают, атомы переходят в другие вещества и уносят туда с собой свои высокие цивилизации.
Там, где Капитан создал эту теорию, она была воспринята как вражеская пропаганда, и просторы Капитана были еще больше ограничены. Его даже посадили в канцер… нет, не в канцер… его посадили во что-что другое, похожее на канцер… Плаванье становилось все трудней, все опасней, но это уже не могло его испугать, и он продолжал твердить, что бог наш паук и червь, а мы, им раздавленные, не черви, а боги…
Василий Васильевич уходил в себя, и мир, который он покидал, уменьшался, а тот, к которому он летел, увеличивался. Микрокосм переходил в макрокосм, и вот уже они поменялись местами, и он летел в безграничном пространстве среди атомов-звезд своего тела — туда, где совершаются невидимые нашему большому миру события…
Василий Васильевич неважно себя чувствовал, и ему, конечно, хотелось узнать, что там у него внутри.
На примере каждого человека подтверждается теория о расширяющейся и сжимающейся вселенной. Рождается он, можно сказать, из пустяка, из пустого места, а потом все расширяется, расширяется, пока не дорастет до взрослого состояния. И тут, в соответствии с теорией, он начинает сжиматься, конечно, не без влияния жизни, которая ставит его в такие условия. Именно в этом периоде сжатия возникают внутри человека различные болезни, которые вступают в противоборство с высокоразвитыми цивилизациями. Трудно себе представить, сколько темноты, невежества, мракобесия носит в себе даже самый просвещенный человек, какой-нибудь доктор прав, профессор юриспруденции. В обычной жизни он ведет себя как доктор прав, но вдруг что-то такое случится — и в нем заговорит первобытная, обезьянья, ящеровая микроцивилизация, которую и цивилизацией-то нельзя назвать, — вот тогда посмотрите на этого доктора и юриспрудента!
И тут возникло время. Оно возникло на площади в виде многочисленных часов, каждая грань которых представляла собой циферблат со своим собственным, индивидуальным временем. Когда циферблат один, стрелки должны пошевеливаться, потому что вынуждены рассчитывать только на себя. А когда для любого часа, для любой минуты отдельный циферблат, стрелки могут расслабиться, никуда не спешить, у них одна забота — постоять за себя, чтобы не потерять свое место. Время и место в этом случае сливаются в одно, и уже не отличишь, чему ты служишь: своему месту или своему времени.
Под часами на часах стоял часовой. Он равнодушно разглядывал прохожих, но вдруг широко раскрыл рот и завопил: «Василиса! Ты опять одета из зарплаты Васильченко!
Та, которую он назвал Василисой, была одета несколько самонадеянно, но держалась безапелляционно.
«Разве так оденешься на зарплату Васильченко? Так оденешься только на зарплату Василюги», — откликнулись женщины, знавшие в этом деле толк.
«Василюга? — забеспокоился часовой. — Василиса, почему Василюга?
Тут же он стал объяснять, что у него такая служба, что на этой службе он не может никого одеть и даже сам одевается за счет государства. А у Васильченко каждый день живая копейка, у Василюги живая десятка, но живая» десятка, учтите, это не любовь.
И тут прозвучала команда: «От инкубария до колумбария — не сбавляя шага!
И сразу стало ясно, что на площади исключительно бройлерное население. Часовой — бройлер, девушка — бройлярышня, и от всех почему-то пахло бульоном. Может быть, где-то поблизости была столовая.
Перед инкубарием, в котором воспитанники приучались к государственному теплу, заменявшему им тепло родительское, молодые бройлеры проводили тренировочный парад в честь сбора урожая укропа и петрушки. Директор инкубария, демонстрируя директору колумбария его будущих питомцев, то и дело задавал им вопрос: в чем преимущество сковородочного, то есть открытого образа жизни, перед закрытым, кастрюльно-духовочным. Ответы были разные. Говорили, что на сковородке — как на пляже в летний сезон. Что здесь можно открыто шипеть и шкварчать, а в кастрюле можно только булькать.
Не все соглашались, что в кастрюле можно свободно булькать. Булькать да, но свободно — нет. А вот шкварчать и шипеть — это можно совершенно свободно.
Директор насторожился: «Кто сказал: шипеть и шкварчать? Главное не это, вы скажите самое главное!
Самого главного никто, конечно, не знал. «Самое главное, — сказал директор, — мы наконец-то научимся краснеть и даже покрываться румяной корочкой».
Василий Васильевич двинулся по улице дальше. Два бройлера у пивного ларька беседовали на экономические темы: о том, как довести общественные блага до широких масс через узкие распределители. Распределители слишком узки, а массы слишком широки. Тема разговора была подсказана, видимо, тем, что тут же, рядом с ларьком, проходила городская бройлерная конференция.
Двери и окна конференц-зала были плотно закрыты, у всех возможных отверстий были выставлены посты, а для наблюдения оставлены лишь немногие смотровые щели. Василий Васильевич как раз и воспользовался одной из них для наблюдения за ходом конференции.
Делегаты-бройлеры были совершенно не отличимы друг от друга по своим размерам, упитанности, а также убеждениям и жизненным целям. Было непонятно, как удалось отделить от общей массы небольшую часть, чтобы, усадив ее в президиуме, противопоставить остальному залу. Даже докладчик ничем не отличался. Когда он что-то вычитывал из доклада, то клевал носом точно так же, как остальные клевали, его слушая.
Из доклада Василий Васильевич понял, что сидящие в зале стремятся к открытому обществу, но это у них пока не получается. И тем не менее уже говорилось открыто, что закрытое кастрюльное общество отжило свой век и только раскастрюленность сулит новые перспективы.
Доклад был окончен. Аудитория дружно спала, как-то странно дергаясь во сне и выбрасывая руки вверх, что, очевидно, обозначало голосование. Василий Васильевич поспал со всеми, а когда проснулся, аудитория клевала кого-то, обвиняя его то ли в раскастрюленности, то ли в сковородочности, о которой позволено только мечтать, потому что она — наше будущее, а мы пока что живем в настоящем.
«Пусть Вассерман скажет! Пусть Вассерман объяснит!» — кричали в зале, и Василий Васильевич сообразил, что клюют именно Вассермана.
Это его не удивило. Подумаешь — невидаль какая, — клюют Вассермана! Но потом он заволновался: откуда в нем взялся Вассерман? По звучанию это близко: Василий — Вассерман, — но корни тут разные, ничего общего между собой не имеют.
Было неприятно обнаружить в себе Вассермана. Уж не подхватил ли он его где-нибудь в очереди или в трамвае? Кто-нибудь чихнул или кашлянул… Интересно, передается ли это инфекционным путем, или только по наследству?
Между тем в конференц-зале Вассермана продолжали клевать. А он и не сопротивлялся. Он только дергался, как при голосовании, и поднимал две руки, показывая, что он двумя руками за, то есть больше за, чем были сами клевавшие.
Но это на них не действовало. У них был самый клев, и они клевали до тех пор, пока совершенно его не склевали.
Потом все опять погрузились в сон, и Василий Васильевич с ними поспал, зорко прильнув к смотровой щели. А когда проснулся, у них опять начинался клев: клевали тех, кто клевал раскастрюленного. Этот раскастрюленный отстаивал открытый способ приготовления, и пока его клевали, этот открытый способ восторжествовал, поэтому теперь искали кастрюльщиков, которые его заклевали.
И тут выяснился невероятный факт: оказывается, в зале сидели одни сковородочники. Где они были раньше? Ведь не могло же быть так, чтобы сковородочники заклевали сковородочника, поэтому они продолжали искать, клюя то одного, то другого для пробы и отчаянно переклевываясь. При этом они говорили: «Где-то здесь должен быть Вассерман! Это все Вассерман! Вы не видели Вассермана?» — забыв, что Вассермана они еще раньше склевали.
Начинался большой клев. Но какой клев без Вассермана?
Кажется, Вассерман была фамилия Капитана…
Пока Капитан Вассерман (а может быть, и не Вассерман) находился в своем сухопутном плавании, в его квартире появился сантехник, потому что там не работал сливной бачок. Сантехник его исправил и ушел, но вскоре опять пришел, потому что бачок снова испортился. Они словно соревновались: один все портился и портился, а другой все приходил и приходил. Видя, что с бачком бороться бесполезно, сантехник насовсем поселился в квартире и стал уже не сантехником, а просто дядей Гришей, жильцом, выполнявшим, однако, обязанности сантехника. Соседи — каждый в отдельности — осуждали жену Капитана, но все вместе одобряли, потому что бачок работал хорошо.
А потом вдруг жена Капитана получила извещение, что муж ее, Капитан, находится в какой-то клинике, и она, если хочет, может его забрать. Клиника была такая, что жена не сразу решилась Капитана забрать, да и соседи не советовали. Одни потому, что не хотели лишиться сантехника, другие потому, что Капитан побывал в таких местах, что это может повредить всей коммунальной квартире. Да и клиника такая, что лучше уж ему в ней остаться. Почему он не может жить в клинике?
Но дядя Гриша сказал, что не пропадать же в этой клинике человеку, а он, дядя Гриша, на всех заработает.
Он и зарабатывал вначале, но потом началась война, дядя Гриша ушел на фронт и больше уже назад не вернулся. И осталась жена с Капитаном, как в молодости. Она за ним ухаживала, а он только улыбался — то ей, то тазику на стене, то всему безграничному окружающему пространству.
Потому что он уже давно жил не в окружающем, а во внутреннем своем пространстве и мог сам выбирать и миры, и события, проживать свою собственную, а не чужую, кем-то навязанную жизнь.
А конвой Вась вел девушку к горизонту. Там, за горизонтом, начиналась другая, неизвестная жизнь, но горизонт удалялся по мере приближения.
— Василиса! — говорил конвой Вась. — Мы дойдем, дойдем, именем товарища Васильченко мы дойдем до этого горизонта. — И тут же сам себе возражал: Васильченко? Почему Васильченко? В гробу я видел товарища Васильченко! Мы дойдем до него именем товарища Василюги!
Дальше выяснялось, что товарища Василюгу конвой Вась тоже видел в гробу, и товарища Вассермана, и товарища Басилашвили.
Тут же появились все эти гробы, и конвой Вась замер в почетном карауле. И Василий Васильевич в своем внешнем мире тоже замер в почетном карауле. Потому что вся жизнь для него была сплошной караул.
А три мальчика бежали по берегу моря. Через безводную пустыню, через непроходимую, немилосердную жизнь они все бежали и бежали к горизонту, который все удалялся и удалялся от них. Они бежали и на бегу превращались в стариков, очень быстро превращались в стариков…
Потому, что они очень быстро бежали.
Фантастика-Буфф
Глава первая Берегите мужчин
Внимание полицейского инспектора Хоста уже давно выбросило белый флаг и бредет под конвоем слов, монотонных, невыразительных, похожих друг на друга:
— Он исчез неделю назад… Сначала, я не придавала значения… То есть, вы меня понимаете… не может жена не придавать значения, когда муж не ночует дома…
Не умеют пострадавшие ярко страдать, не умеют рассказать о происшествии так, чтобы дух захватило. Да и сами происшествия, откровенно говоря… Кого они могут взволновать? Только не инспектора. А ведь есть же происшествия, есть преступления… Вот, например, хоть это. Ограблен универсальный магазин. Но не примитивно, со взломом и отключением сигнализации. Преступник, инопланетянин, а точнее, плутонянин, прилетевший на Землю с планеты Плутон, взял кассу, приняв образ кассира. Он провел операцию спокойно, без шума, но, по неопытности, не оставил следов. Поэтому подозрение, естественно, пало на кассира. Увидев, что он обнаружен, преступник поспешно покинул образ кассира и принял образ заведующего секцией «Мужские костюмы». Там его тоже засекли, и он перебазировался в секцию «Чулки, носки». Когда все секции были исчерпаны, преступник принял образ директора магазина. Но полиция оцепила магазин, стянула к нему крупные силы и уже приготовилась брать универмаг штурмом… Тут-то плутонянин пошел на крайнюю меру: он отключил гравитацию, и универмаг, лишенный земного притяжения, легко поднялся в воздух. Все здание, со всеми товарами, даже теми, что в подсобке и под прилавком, взмыло в воздух, и только служащие универмага остались стоять на земле: они до того наворовались, что не могли оторваться от земли даже в условиях полной невесомости. Тут-то их всех и замели.
Так, благодаря вмешательству инопланетных сил, было раскрыто крупное преступление. Этот случай был описан в литературе.
А вот другой случай, тоже описанный в литературе. Воспользовавшись новейшими достижениями телепатии, преступник присвоил мысли, которые ему никто не передавал. Метод передачи мыслей на расстояние он использовал для хищения чужих мыслей. В результате известный профессор, автор многих замечательных открытий, вдруг перестал делать открытия и понес такую околесицу, что вся кафедра разбежалась. А молодой аспирант вдруг стал высказывать мысли, которые по плечу только крупному научному авторитету. Это-то и навело полицию на след. Краденую вещь можно скрыть, но мысли не скроешь.
Конечно, преступник получил по заслугам. Суд вынес решение: на всех работах, которые будет издавать аспирант, отныне ставить имя профессора, возвращая, таким образом, украденное его владельцу. Правда, злые языки утверждали, что никогда у владельца не было столько украдено, сколько впоследствии было ему возвращено. Но протеста по Этому поводу от пострадавшего не поступало.
— И вот с тех пор он не ночует дома… — доносится до инспектора сквозь собственные отвлеченные мысли.
Какое дело инспектору до того, где ночует муж этой женщины? Он, инспектор, и сам почти неделю дома не ночевал: все работа, работа, срочная работа. Теперь у нас не девятнадцатый век, когда сыщики раскрывали преступления с помощью одной лишь формальной логики. Техника розыска совершенствуется, и вместе с ней совершенствуется техника преступлений, и обе эти техники намного опережают, а зачастую и вовсе вытесняют логику.
— У него и прежде бывали отлучки, но я считала это естественным. Я предпочитаю не контролировать моего мужа, чтобы не давать ему повода что-то скрывать. И он, вы знаете, ничего от меня не скрывает. Когда он приходит домой — в тех случаях, когда он приходит домой, — мы с ним все выкладываем друг другу: я ему, он мне. Мы даже ни о чем не спрашиваем, а просто начинаем рассказывать…
Инспектор слушает и скучает. Он тоскует, как тоскует преступник по оправдательному приговору, когда слушает обвинительную речь. Как тоскует моряк на суше, как тоскует карточный шулер, когда партнеры начинают раскладывать пасьянс. Муж сбежал! Никакой работы воображению…
Правда, работа воображения не всегда помогала инспектору в раскрытии преступлений. Оно обычно уносило его так далеко, что преступник оставался позади и сворачивал куда-нибудь в сторону. Но эти неудачи не расхолаживали инспектора. Он твердо верил: в наш фантастический век нужно больше полагаться на фантазию, чем на факты.
Раньше он это интуитивно чувствовал, а недавно имел случай укрепиться в этой мысли. К нему в полицию пришел человек и рассказал об ограблении века. Кого же ограбили? Оказывается, его самого. Так они устроены, эти пострадавшие: каждый считает свое происшествие происшествием века. Но молодой человек имел основание так считать, поскольку у него украли гениальное изобретение: усилитель интеллекта.
Инспектор Хост любил фантастические изобретения. Втайне он мечтал о роботе-сыщике, который находил бы преступника в течение считанных минут. Но что касается усиления интеллекта, то об этом инспектор никогда не мечтал, так как не имел к своему интеллекту никаких претензий.
Молодой человек, назвавшийся Н.Ютоном, сообщил инспектору, что у него есть и другие, неукраденные, изобретения, среди которых он назвал расширитель времени. Оказывается, Н.Ютон открыл закон взаимозависимости между временем и пространством. В бесконечно большом пространстве вечность равна мгновению, в бесконечно малом — мгновение равно вечности. Звезды живут миллиарды лет, но они живут не дольше, чем какой-нибудь мезон, жизнь которого умещается в миллионной доле секунды. И если мы сузим наше пространство до масштаба атома, то секунда для нас станет равна вечности.
— А как мы его сузим? — спросил инспектор Хост, которого это неукраденное изобретение заинтересовало больше, чем украденное, хотя это противоречило его профессиональному интересу.
— Здесь все описано, — сказал Н.Ютон и похлопал по папке, на которой было крупно выведено: «Н.Ютон. Это долгое, долгое никогда».
Посетительница все говорила. Оказывается, у исчезнувшего мужа тоже были свои фантазии. Например, он настаивал, чтобы ей снились цветные сны, вместо того, чтобы купить ей цветной телевизор.
— Муж любил вас?
— Что вы имеете в виду?
— Он был внимателен, приносил вам цветы?
— Он приносил мне свой заработок.
— И этого было достаточно?
— На первых порах не очень, по правде говоря. Но потом он стал хорошо зарабатывать, мы купили квартиру, машину… Мы были счастливы.
— Вы были счастливы? Или ваш муж тоже?
— Конечно, тоже! Мы же с ним жили вместе, значит, вместе были счастливы.
— Чем занимается ваш муж?
Миссис Фунт не может этого с точностью сказать, до кажется, его работа связана с какой-то наукой.
— Но вы говорите, что муж вам все рассказывал?
— Так не о работе же! Слава богу, у людей, которые пятнадцать лет прожили вместе, найдется о чем поговорить!
Рассуждения миссис Фунт на семейную тему были прерваны появлением новой посетительницы. Эта дама, нисколько не смутясь занятостью инспектора, решительно вошла в кабинет и представилась:
— Мисс Стерлинг.
— Присаживайтесь, — любезно пригласил ее инспектор. — А вы, — это относилось к миссис Фунт, — не уходите. Вы друг другу не помешаете.
Так инспектор разнообразит свои скучные занятия. Он любит собрать у себя побольше народу, завязать разговор, чтоб спокойно посидеть да послушать. Незнакомые люди обычно откровенны между собой, и когда они разговорятся — о, тут только послушать их полицейскому инспектору!
— Инспектор, я к вам за помощью, — озабоченно, но, впрочем, спокойно сказала новая посетительница. — У меня пропал любовник.
— Вы хотите сказать, друг? Или приятель? Или добрый знакомый?
— Никакой он не друг. И не приятель. Любовник. Или я неясно выразилась?
— Уж куда ясней, — поморщился инспектор. По роду своей службы он любил ясность, но ему не нравилось, когда ею слишком бравировали.
— У меня от полиции нет секретов. Я привыкла жить на виду у полиции.
— Значит, ваш возлюбленный вас покинул?
— Не возлюбленный. Любовник. — Пострадавшая настаивала на точности своих показаний.
— Ну, хорошо, — сдался инспектор. — И что же, он вас разлюбил?
— На этот счет я спокойна.
— Вы так хорошо его знаете?
— Я себя знаю. Меня нельзя разлюбить. Это многократно проверено.
Миссис Фунт, почувствовав неловкость, спросила, не лучше ли ей уйти, но мисс Стерлинг заверила ее, что напротив, это даже очень хорошо, что при разговоре присутствует женщина.
— Вы как женщина сможете меня понять — там, где инспектор не поймет меня как мужчина. Не обижайтесь, инспектор, но вы не поняли меня как мужчина, когда предположили, что мой любовник меня разлюбил. Он не разлюбил. Он просто куда-то испарился.
Такие случаи бывали. Не в практике инспектора, но они были описаны в литературе. Банда преступников испарила из подвалов банка весь золотой запас, а в другом месте вернула его в твердое состояние. В газообразном виде золото свободно прошло сквозь замочную скважину, и не потребовалось взламывать дверь. Еще были описаны случаи испарения валюты, ценных бумаг, но чтобы испарился живой человек — с этим инспектору не приходилось встречаться.
— А ваш… любовник… он семейный человек?
— Если бы вы, инспектор, были женщиной, я бы вам объяснила, что такое семейный человек для несемейной женщины. Несемейные мужчины тянутся к семье, а семейные — из семьи. Поэтому я могу полюбить только семейного мужчину.
— Я тоже люблю семейного мужчину, — сочла нужным вставить миссис Фунт. — Но не из чужой же семьи.
— Глядя на вас, я так и подумала, — ответила мисс Стерлинг, не скрывая подтекста.
— И вы легко находите этих… любовников? — брезгливо осведомилась миссис Фунт. — Надеюсь, не всегда с помощью полиции?
Мисс Стерлинг не приняла иронии.
— Если бы он был жив, он бы пришел ко мне, приполз на последнем дыхании. Если б перед ним встали Гималаи, тропические леса, непроходимые болота, Северный Ледовитый океан… Он бы приполз ко мне по льдам, как Фритьоф Нансен, как Амундсен.
— Вот как! Вы знаете и их?
— Я себя знаю.
Глава вторая Новые события в романе Даниеля Дефо
Корректор Крект читал роман Дефо «Робинзон Крузо», выходящий в издательстве Рокгауза пятьдесят седьмым изданием. Он третий раз перечитывал заключительные страницы рукописи, но что-то в них его не удовлетворяло. Что бы такое могло его не удовлетворять? Запятые были на месте, слова переносились правильно, по слогам, — все соответствовало грамматическим правилам. И все же в тексте чувствовался какой-то подвох.
Корректор Крект дочитал рукопись до конца и задумался.
«Робинзон Крузо» — его любимый роман, потому что в нем почти нет трудных случаев написания. Вероятно, поэтому роман выдержал столько изданий. С ним ни в какое сравнение не шли романы Дауккенса, этого пирата стилистики, каждая фраза которого опутывала, как веревка, а каждое слово было, как нож, приставленный к горлу читателя. Не могло сравниться с романом Дефо и творение его современника и земляка, сочинившего этого дурацкого «Гулливера». Лилипуты, великаны, какие-то люди-лошади. Как будто автор специально собрал все, чего в жизни не бывает, и поместил в свой роман. А зачем читателю то, чего не бывает? Он и то, что бывает, еще как следует не узнал. Он реальной жизни не узнал, а ему забивают голову фантастикой.
В борьбе с фантастикой реальности приходится нелегко. Люди тянутся к чему-то невероятному, им нравится удивляться, а реальность уже не может их удивить. Верней, они просто не тому удивляются. Разве не достойно удивления, как простой человек, моряк из Йорка, попал на необитаемый остров, как он жил и трудился на этом острове…
Пятьдесят шесть изданий, которые вел корректор Крект, сроднили его с этим бессмертным произведением, и пятьдесят седьмое было для него, как встреча с близким, дорогим человеком. Откуда же взялось это смутное, тревожное предчувствие?
В сознании корректора Кректа внезапно замаячило слово «автобус». Как будто он только что его прочитал. Но каким образом в романе восемнадцатого века может идти речь об автобусе, появившемся двести лет спустя?
Впервые за сорок лет работы корректор Крект решил отвлечься от грамматики и посмотреть на текст другими глазами. И вот что он в нем увидел, верней, прочитал.
Когда обитаемость в прошлом необитаемого острова превысила все допустимые для обитания нормы, президент Робинзон пригласил к себе государственного советника Робинзона и сказал:
— Мы поставлены перед исторической необходимостью…
Перед исторической необходимостью бывший необитаемый остров находился с тех пор, как перестал быть необитаемым: через него проходила главная историческая магистраль, и к Истории относились, как к маршрутному автобусу: «Сегодня номер пятый идет по маршруту двенадцатого. А завтра он пойдет по маршруту седьмого». История, как старый, видавший виды автобус, давно привыкла ходить не по своему маршруту, и она звонила больше, чем двигалась, как старый, видавший виды трамвай.
— У сапожника Робинзона родился ребенок, — продолжал президент. — Это ставит нас перед исторической необходимостью. Мы не можем допускать, чтобы каждый сапожник… — «изменял маршрут нашего автобуса» — мог бы закончить он, но вместо этого сказал неопределенно: — М-да… Вы меня понимаете?
«Был один Робинзон, а стало три Робинзона, — недоумевал корректор Крект. — Интересно, они родственники или просто однофамильцы?»
Он продолжал читать. Президент Робинзон сожалел о тех временах, когда остров был необитаемым, когда на нем жил только основатель его Робинзон со своим Пятницей. Советник осторожно поправил его: «Со своей Пятницей». Аргументировал он это тем, что Пятница была женой Робинзона.
Президент Робинзон с этим не согласился. Он сказал, что мы (то есть, они с советником) должны знать, с кого мы начинались, а начинались мы с Робинзона и его друга Пятницы.
Советник Робинзон сослался на грамматика Робинзона.
«Еще один Робинзон!» — отметил корректор Крект, но не огорчился, а скорее обрадовался, в надежде, что грамматик Робинзон все поставит на свое место.
Грамматик Робинзон, по словам советника Робинзона, исследовал слово «пятница» с точки зрения грамматического рода. Президенту, однако, этот аргумент показался неубедительным, и тогда советник призвал на помощь пятого Робинзона:
— В своей теории наследственности генетик Робинзон утверждает, что для получения наследственности необходимы представители разных полов. Таким образом, если один из наших предков был мужчиной, то другому остается быть женщиной. Кто именно был мужчиной, уточняет грамматик Робинзон на основании грамматического рода. Так грамматика дополняет генетику.
— Это ужасно, — сказал президент. — Если предположить, что единственный друг Робинзона был женщиной, то какой будет пример нашему и без того растущему населению? В частности, сапожнику Робинзону?
Советник сообщил, что композитор Робинзон уже сочинил песенку о Робинзоне и Пятнице. Это сообщение настроило президента на лирический лад, и он поинтересовался, что может сказать советник о любви. Советник Робинзон смутился: в этом кабинете ему не приходилось говорить о любви разве что о любви к своему отечеству. Президент уточнил свой вопрос: за последнее время у него возникло подозрение, что именно любовь способствует превращению некогда необитаемого острова в сверхобитаемый остров. Советник недоверчиво покачал головой: какое отношение имеет любовь к росту населения?
Установить эту зависимость означало решить все проблемы. Чем больше любви, тем больше прирост населения, чем меньше любви — тем прирост населения меньше. Но в действительности было не так. Советник давно заметил, что любви на его острове не прибывало, а население все росло и росло. Задумываясь над этим обстоятельством, советник начинал подозревать, что растет оно не только от любви, но и от симпатии, антипатии и просто апатии, — от всех известных человеческих чувств был единственный ощутимый эффект: прирост населения.
Вот почему, продолжил свою мысль президент, очень важно, чтобы Пятница был мужчиной. Дружба не чревата такими последствиями, как любовь.
И дружба чревата, размышлял советник, и сотрудничество. И даже простое знакомство. Все чревато, куда ни взгляни, — все, все чревато…
— Друг мой, — спросил президент, — вы любили когда-нибудь?
Советник опять смутился. Не потому, что ему неловко было признаться в столь интимном чувстве, а потому, что весь смысл их разговора требовал от него не признаваться, отвести от себя малейшие подозрения. И советник Робинзон, приняв позу уголовника Робинзона перед следователем Робинзоном, сказал:
— Никогда. Ни разу в жизни.
— А я любил, — признался президент. — И сейчас еще люблю — правда, не так и не ту, что в молодости… И могу вам сказать, мой друг: это опасное чувство. Лет сорок назад, когда я никого не любил, я был цветущим человеком, а сейчас — посмотрите, в кого я превратился. Вы выглядите на десять лет моложе меня. — Советник был и в самом деле на десять лет моложе президента. — Одним словом, — закончил президент, — Пятница должен остаться мужчиной, даже если это противоречит законам генетики и грамматики, а также всех остальных наук.
Приняв такое решение, президент приободрился и даже стал выстукивать популярную песенку композитора Робинзона — о том, как первый человек Робинзон встретил первую женщину Пятницу… Советник, тоже знавший мелодию, подхватил ее и стал выстукивать о их первом знакомстве… И теперь уже они оба выстукивали эту песню — советник Робинзон и президент Робинзон, послушные воле композитора Робинзона.
— Генетику можно подправить. И грамматику можно подправить. Но что делать с этим?.. — президент еще раз постучал по столу. — С музыкой?
— Все уже поют, — сказал советник, подавляя в себе желание петь. Очень ему нравилась эта песня.
— Поют, — вздохнул президент. Сколько раз он сам ее пел — не на официальных приемах, конечно, а в интимной обстановке, оставаясь наедине с женой или с какой-нибудь другой женщиной. Он понимал, что есть песни лучше, содержательнее, песни, которые надо бы петь, но ему их петь не хотелось. Впрочем, разве обязательно, чтобы все песни пел президент? Сейчас уже не прежние необитаемые времена — слава богу, есть кому петь на острове!
Корректор Крект перечитывал эти «Приключения» сотни раз, но такое он вычитал здесь впервые. Между пятьдесят шестым и пятьдесят седьмым изданием в книге произошли столь значительные события, что ни правильное написание слов и предложений, ни идеальная расстановка знаков препинания уже не могли ее спасти. Это просто какая-то фантастика! — подумал он, и внимание его задержалось на слове «фантастика». То, что он прочитал, было действительно похоже на фантастику, на злополучный жанр, который издательство тщательно избегало. Он вспомнил скандальный случай с повестью «Скорость твоего света», где герой превратил себя в луч света, чтобы добраться до женщины, от которой его отделяло бесконечное космическое пространство. Автор не объясняет, каким образом герой полюбил женщину, которую даже ни разу не видел, он только описывает, как он к ней летит. Проходят миллионы лет, на планете, на которой жила эта женщина, давным-давно никого не осталось, а он все летит и летит, пронзая мертвое космическое пространство, и не гаснет, не может погаснуть, так велика сила его любви…
Издатель Рокгауз каким-то образом пропустил эту рукопись, а корректор Крект аккуратно исправил в ней ошибки, и она уже почти вышла в свет, но в последнюю минуту на нее наткнулась жена издателя и затосковала по этой сверхсветовой любви. Видимо, она сказала мужу об этом луче света и, может быть, поставила его в пример, потому что издатель Рокгауз прибежал в типографию вне себя и вырвал эту рукопись из рук линотиписта. И тогда же он заявил, что не позволит литературе вмешиваться в его личную жизнь и что не с его положением в обществе летать со скоростью света.
Писатель Дауккенс говорит, что нужно соизмерять фантазию с жизнью. Какая жизнь, такая должна быть и фантазия — ни больше, ни меньше. И во всех своих проявлениях фантазия должна быть в точности похожей на жизнь. В этом случае он — за фантазию.
И все же это прекрасно — лететь лучом со скоростью света к своей любви, к мечте своей, которую никогда не видал. И никогда не увидишь. Но все-таки лететь к ней, спешить, освещая мертвое космическое пространство. Корректор Крект почувствовал, что внутри у него что-то засветилось, и поспешил погасить этот преступный огонь.
Глава третья Личная жизнь человека — это его личная жизнь
Миссис Хост не раз пыталась себе представить, чем занимается ее муж, когда он не ночует дома. Обычно перед ней возникала одна картина: инспектор Хост идет по следу преступника. Вокруг ночь, преступник вооружен до зубов и совершенно не оставляет следов, но инспектор продолжает идти по его следу. Вероятно, в этом сказывалось увлечение миссис Хост детективной литературой, которую сам инспектор глубоко презирал, отдавая предпочтение научной фантастике.
Детективная литература — это литература простых слов и запутанных дел, потому что если запутать также слова, то там уже никто ничего не распутает. Всякое глубокомыслие противопоказано детективной литературе, если она хочет быть популярной. Популярность — это пляж, мелкая вода, возможность поплескаться, ничем не рискуя. Широкому купальщику, как и широкому читателю, нужно дно, на котором можно твердо стоять, как стоишь на суше. В море главное суша, слегка прикрытая водой, — только такое море может завоевать широкую популярность.
Но, конечно, не у инспектора. Инспектор любит глубину. Он, как опытный пловец, не станет плескаться у берега. Ему подавай фантастику, сплетение пространств и времен, потому что в нем дух расследователя сочетается с духом исследователя. Еще в школе он открыл закон: если в двузначном числе переставить числа и вычесть меньшее из большего, то результат будет непременно делиться на девять. Учитель его похвалил, сказал, что для своего времени это большое открытие. Правда, время это, добавил учитель, было давно.
Тогда будущий инспектор исследовал разность трехзначных чисел, состоящих из одинаковых цифр, расположенных в обратной последовательности, и определил, что она тоже делится на девять и дает при делении число, состоящее из двух одинаковых цифр, составляющих разность между крайними цифрами исходных чисел:
791 — 197 = 594; 594: 9 = 66; 6 = 7–1.
Учитель опять сказал, что для своего времени это большое открытие, но когда было это время, не уточнил.
Идя дальше по пути исследований в объеме неполной средней школы, инспектор обнаружил, что любые два многозначные числа с одинаковой суммой цифр при вычитании меньшего из большего дают число, непременно делящееся на 9.
И такого человека не приняли на математический!
После крушения математической карьеры будущий инспектор занялся физикой и в какой-то степени пошел даже дальше Эйнштейна. Если Эйнштейн говорил об искривленности пространства, то абитуриент Хост заговорил о его смотанности. Термин этот означает, что пространство, наподобие ниток, смотано в клубок. Если до какой-нибудь звезды по протяженности нитки тысячи световых лет, то напрямик, сквозь клубок, каких-нибудь полквартала. Не потому ли люди так плохо понимают друг друга: им только кажется, что они рядом, а на самом деле они в разных галактиках.
Была у абитуриента Хоста и другая гипотеза. Помните лист Мебиуса? Берется полоска бумаги и склеивается в кольцо так, чтобы образовалась одна поверхность. Чтобы муха, ползущая по этой поверхности, могла ползти до скончания лет, оставляя следы с двух сторон, но не подозревая, что листок имеет вторую поверхность.
Теперь спросите у мухи о величине листка. Она ответит, что это бесконечность, не поддающаяся осмыслению. А это всего лишь полоска листа, склеенная по принципу листа Мебиуса. Каждый участок этой полоски имеет две стороны, а в целом у нее одна поверхность.
Вот так устроено все пространство. Каждый отдельный его отрезок конечен, но соединены они по принципу бесконечности. Мир и антимир находятся в любом отрезке пространства. Находясь на двух противоположных поверхностях, они наиболее приближены друг к другу, но в то же время, принадлежа одной общей поверхности, наиболее друг от друга удалены. Самое дальнее в природе одновременно и самое близкое. Чем дальше от нас точка вселенной на видимой нам поверхности, тем она ближе к нам в антимире, с противоположной стороны отрезка листа Мебиуса.
Так же устроено и время. Вечность — это не бесконечное количество лет, это время, расположенное по принципу листа Мебиуса. Каждый отрезок времени имеет начало и конец, но вечность их не имеет, она, подобно листу Мебиуса, имеет только продолжение.
Разрешив вопросы времени и пространства, абитуриент Хост двинулся дальше и пришел к выводу, что все противоположности в мире соединены по принципу листа Мебиуса: одна переходит в другую. Свет и мрак, жизнь и смерть — все это по одну сторону общей бесконечности, но противоположно в каждом ее отдельном отрезке.
Короче говоря, его не приняли и на физический.
Что оставалось Хосту? Сузить масштабы своей деятельности. Так он пришел от исследования мироздания к расследованию отдельных конкретных преступлений.
Как всякий недоучившийся ученый, недостаток знаний инспектор восполнял фантазией, поэтому преступника ему редко удавалось поймать. Но это его не смущало. Он считал, что такую элементарную вещь, как поимка преступника, давно пора поручить ЭВМ, чтобы освободить мозг человека для познания и объяснения мира. Лично для него не существовало загадок, он легко объяснял мир, и там, где отступала наука, он победно шел в наступление.
А супруга инспектора знала лишь один путь: сквозь ночь по следу преступника. Именно это она вычитала из книг и высмотрела с экрана телевизора. И когда она читала и смотрела, твердо зная все наперед, она чувствовала, что в ней погибает великий сыщик или по меньшей мере друг великого сыщика. В ней пропадал друг великого сыщика, потому что великий сыщик не ночевал дома.
Приятельница миссис Хост, пришедшая разделить с ней ее одиночество, пыталась навязать ей свои проблемы:
— Ну, вы меня знаете, миссис Хост, я не прячу от людей своего мнения. И я говорю племяннице: если тебе так нравится этот человек, почему бы тебе не выйти за него замуж? И знаете, что она мне ответила? Он ей слишком нравится, чтобы выходить за него замуж. Что значит — слишком? Чем больше нравится, тем скорее надо выходить замуж, а то ведь недолго и разлюбить. А она говорит: я не хочу разлюбить и потому не выхожу замуж. Если, говорит, мы будем все время вместе…
— Вместе! Если она хочет пореже с ним видеться, пусть выходит за него замуж. Когда инспектор был моим женихом, мы виделись почти каждый день. Представляете? Чуть ли не ежедневно!
— У него кто-то есть? — спросила миссис Смит очень тихо, чтобы не спугнуть вопросом ответ.
— Что вы, у моего инспектора! Его внимание может привлечь только что-нибудь фантастическое. А где вы видите вокруг фантастическое? К тому же у него работа, он и дома не успевает ночевать, не то чтоб еще где-нибудь.
— Миссис Хост, вы — святая женщина!
— Да нет, не такая уж я святая.
Миссис Смит сделала паузу, собираясь с духом. И спросила тихо, приглашая к интимности:
— У вас кто-то есть?
Миссис Хост рассмеялась.
— Тогда я не понимаю… — сказала миссис Смит. И она действительно не понимала.
— Нам, женщинам, это трудно понять. Мужчины способны любить только свою работу. Их хлебом не корми, только дай поработать, такой это народ.
— Бы рассуждаете совсем как моя племянница, — сказала миссис Смит, чтобы перевести разговор на племянницу. — Я своего мнения ни от кого не скрываю: можно, конечно, любить и так, но сначала нужно выйти замуж. Так я считаю и так говорю племяннице. А она говорит: если б я его меньше любила… Значит, если совсем не любишь, только тогда и выходить?
— Выходи, не выходи, все равно одна останешься. Мужчина, пока он не на пенсии, живет только для работы. А уж потом может пожить для жены.
Ждать, когда муж выйдет на пенсию? Если б только не одной ждать, если б с кем-нибудь вдвоем… Миссис Смит Хотела привести пример из жизни, но внезапно ее покинул дар слова, потому что этот пример она увидела прямо перед собой. В полутьме коридора перед изумленными глазами миссис Смит возник мужчина.
Он возник и исчез, как это обычно бывает с мужчинами, но он был тем лучом, который осветил данную ситуацию: верная супруга миссис Хост ожидает мужа, но не так ожидает, как ожидают в фантазиях, а так, как это бывает в реальной жизни.
— Конечно, в одиночестве ждать трудно, — вздохнула миссис Смит.
Нет, инспекторша привыкла ждать одна. А может быть, не одна? Интересно, с кем же? Инспекторше лучше знать, но миссис Смит у нее не спрашивает. Закон счастливой семейной жизни: ни у кого ни о чем не спрашивай.
Миссис Смит опять вздохнула, но теперь уже с облегчением:
— А я думала, вы одна.
— Я одна.
— Только не подумайте, что я о чем-нибудь спрашиваю. На такие темы я не люблю ни спрашивать, ни отвечать. Личная жизнь человека — это его личная жизнь, особенно женщины. Поэтому я не настаивала, чтобы племянница вышла замуж. Ведь замужество — это тоже, в сущности, личная жизнь.
Миссис Смит заторопилась, но торопилась долго и не спеша, пока не услышала от хозяйки:
— Посидели бы еще…
Миссис Смит тотчас прекратила сборы.
— Если вы так настаиваете… Не могу же я вас покинуть, не зная на кого… Инспектор давно ушел?
— Неделю назад.
— Удивительно: до чего стоек запах мужских духов. Неделя прошла, а до сих пор чувствуется.
— Это не он. Это я пользуюсь мужскими духами. Мне нравится этот запах. Есть в них что-то суровое, непреклонное… — Миссис Хост закрыла глаза и опять пошла по следу противника.
— Простите меня, — сказала миссис Смит, — я иногда бываю так бестактна… В вашем доме нет второго выхода?
Инспекторша вздрогнула, услышав знакомый вопрос.
— Вас преследуют? Что с вами, миссис Смит? Вы чего-то боитесь? Почему вы все время смотрите на дверь?
Миссис Смит смотрела не на дверь, она смотрела сквозь открытую дверь в коридор, в надежде, что незнакомец снова появится.
— Успокойтесь, миссис Смит, — сказала женщина, которая умела не только пользоваться мужскими духами, но в самых опасных случаях поступать по-мужски. — Входная дверь у нас на запоре, так что сюда никто не может войти.
Миссис Смит немедленно успокоилась и даже просияла:
— Значит, сюда никто не может войти без вашего ведома?
— Только инспектор.
— Да, да… Я тоже все время думаю об инспекторе… Это его портсигар? Что-то я не замечала, что инспектор курит.
— Это не портсигар. Это футляр от часов.
— Удивительно. А эти полы… в коридоре… Они у вас всегда так скрипят или только в сухую погоду?
— Они никогда не скрипят.
— Значит, мне показалось. Вы знаете, миссис Хост, нам, женщинам, многое кажется, потому что нам необходима опора. Кажется — опора, а она — не опора. Обопрешься и упадешь. Вот так мы и падаем всю жизнь, потому что всю жизнь ищем опору. Что это за тень там в коридоре? Будто человек стоит.
— Это шкаф.
— Подумайте! А тень совеем как у человека.
Миссис Смит могла отличить шкаф от человека, но сейчас в коридоре человека не было. Он больше не появлялся, и она изнемогала от ожидания. Надежды на то, что он еще раз появится, не было никакой, и миссис Смит опять начала собираться.
— Засиделась я у вас, миссис Хост. Пора домой, меня ждет племянница. Рада была вас повидать, мне было очень интересно. Пожалуйста, не провожайте, я захлопну дверь… Ради бога, извините, что я так не вовремя…
— Вы всегда вовремя, миссис Смит.
— О, миссис Хост, со мной можно без церемоний. Вы могли бы смело довериться мне, но, миссис Хост, я убегаю, я ничего не хочу слышать и знать!
С этими словами миссис Смит убежала.
Глава четвертая Человек, не названный Джемсом
Оставшись одна, миссис Хост призадумалась: чего от нее не хотела узнать миссис Смит?
Вокруг сплошные секреты. Только в детективной литературе известно все наперед. Муж домой не приходит, а почему не приходит — секрет. Какие-то люди его спрашивают, а зачем он им нужен — секрет. Что-то приносят, устанавливают в квартире, а что устанавливают, зачем устанавливают секрет и секрет.
Три дня назад привезли какой-то ящик, похожий на шкаф.
— Вы заказывали НФД-593?
— Я ничего не заказывала.
— Вы супруга мистера Хоста? — Ей протянули бумагу, на которой рукой ее мужа было написано: «Прошу изготовить НФД-593. Заказ совершенно секретный».
— Мы не должны были вам это показывать, потому что заказ совершенно секретный. Но ведь для жены нет секретов.
Откуда им было знать, что у инспектора для жены нет ничего, кроме секретов?
Установили ящик в чулане, заняли весь чулан.
— А что такое НФД-593?
— Это мы сами не знаем: секрет. НФД-592 — пожалуйста, НФД-594 пожалуйста. А НФД-593 — строжайший секрет.
— А что такое НФД-592?
— Стабилизатор времени. Помните, у Гете: «Остановись, мгновенье!» Вот для этого и существует НФД-592.
— А 594?
— Кристаллизатор счастья. Ведь счастье почему так неуловимо? Потому, что оно существует лишь в газообразном состоянии. А если его кристаллизовать, оно сразу станет ощутимым, доступным каждому.
— Все эти фантазии приберегите для моего мужа. Он это любит. А я довольствуюсь фактами. Хотите выпить? Не хотите? Фантастика! А что такое НФД-300?
— Замечательное устройство. Выпрямитель орбит. Если, к примеру, выпрямить орбиту Земли, то, не сходя с Земли, можно улететь в другую галактику.
— Моему мужу только не хватало в другую галактику! Он и так неделями не бывает дома.
Миссис Хост, как женщина, далекая от фантазий, не сомневалась, что все эти НФД — чистая выдумка, а ящик этот, вероятно, набит фантастической литературой. НФД — марка издательства, 593 — количество присланных книг. Но зачем окружать это все такой таинственностью?
Видно, секреты мужчин все равно, что красота женщин: их нужно уметь хранить. Только ни того, ни другого сохранить обычно не удается.
И все же миссис Хост решила сохранить секрет, попытать себя в этом неженском деле. Не только же ей разгадывать чужие секреты, хочется иметь и свой. Поэтому она решила не звонить мужу, что заказ его выполнен. Пусть, если хочет узнавать новости, почаще ходит домой.
Миссис Хост раскрыла книжку и углубилась в чтение. «Вокруг была ночь, читала она, — преступник был вооружен до зубов и совершенно не оставлял следов, но инспектор продолжал идти по его следу… И когда уже не было никакой надежды, они встретились лицом к лицу: беззаконие и закон, бесчестие и справедливость…»
Миссис Хост подняла глаза и увидела перед собой неизвестного человека. В ее квартире, в такой поздний час.
— Не двигайтесь! — сказала миссис Хост, не отступая от текста. — Как вы здесь оказались?
— Дверь была не заперта.
Миссис Смит все же не захлопнула дверь.
— Могу я видеть инспектора?
— Даже я не могу его видеть, хоть я и жена. Почему вы не пошли к нему в полицию?
— Мне не хотелось идти в полицию. Если можно, я его лучше здесь подожду.
— Я жду его вторую неделю.
— Но, может быть, вдвоем мы его скорее дождемся? Позвольте вам представиться: Гарри Уатт.
— Уатт? Какая известная фамилия!
— Пока еще не известная… Может быть, со временем…
— Уатт — фамилия неизвестная?
— Не в том смысле… Вернее, не та фамилия… То есть, фамилия, конечно, та же, но только я — не тот Уатт.
— Об этом я уже догадалась.
— Тот был Джеме Уатт, а я — Гарри. К тому же тот Уатт давно умер, а я вот живу и даже хожу по гостям… если позволите считать себя вашим гостем…
— Поздно уже. Но, пожалуй, часок можете подождать. Вы знаете, мистер Уатт, я уже устала волноваться.
— Миссис Хост, с вашим мужем ничего не случится. На его стороне закон.
— Разве закон может защитить? Закон сам нуждается в защите. И если инспектор защищает закон, то ему нечего рассчитывать на защиту закона. Вы посмотрите, сколько у закона защитников: полиция, суд, прокуратура — всего не перечтешь. Это значит, что наш закон слаб. А преступники… Вы ведь читаете книжки, мистер Уатт, там все это ясно сказано.
— Я читаю книжки, миссис Хост. Но мне еще многое неясно.
— Конечно, если вы читаете такие книжки, как мой муж… такие книжки еще больше запутывают. Вы слыхали когда-нибудь про выпрямитель орбит?
— Ну как же… Ведь орбита — это эллипс, замкнутая кривая, а если замкнутую разомкнуть…
— Вот видите, вы рассуждаете, как мой муж. Я не удивлюсь, узнав, что вы неделями не бываете дома.
— А что такое «дома», миссис Хост? Это то место, откуда мы уходим, или то, куда возвращаемся? У нас слишком точные адреса, миссис Хост, это мешает нам чувствовать необъятность мира. Особенно возможного мира.
— Какого это — возможного?
— Есть два мира, миссис Хост: действительный, в котором мы живем, и возможный, который мы посещаем только мысленно. Он еще необъятней, чем наш действительный мир. 90 процентов запасов счастья находятся в этом возможном мире, и только 10 процентов в мире действительном. Поэтому так важно было наладить регулярное сообщение между двумя этими мирами.
— И оно налажено?
— Представьте себе. Это оказалось даже проще, чем изобрести машину времени. Из любого пункта истории нужно резко свернуть в сторону — и вот уже мы избежали крупной исторической катастрофы. Войны, например. И все несбывшиеся гении, погибшие на этой войне, некоторые даже в младенческом возрасте, остаются живыми, изобретают вечный двигатель, средство лечения рака, пишут такие книги, о которых действительный мир не мог и мечтать.
— Откуда это вам известно?
— Известно. Потому что некоторые гении из возможного мира иногда забредают в действительный мир, навеки поражая его воображение. К примеру, Леонардо да Винчи. Мы не перестаем удивляться, как в пятнадцатом веке мог родиться такой гений. Художник, изобретатель, мыслитель. А он не рождался. Все дело в том, что он не рождался. Он просто случайно забрел из мира возможного в мир действительный.
— А почему бы всей этой прекрасной возможности не переселиться в мир действительности?
— В истории так не бывает, чтобы все было хорошо. Если плохого нет, оно производится из хорошего. В истории плюс на плюс дает минус.
— Об этом тоже поговорите с моим мужем. Он у меня с детства увлекается математикой.
— Как это — у вас с детства? Вы что, замужем с детства?
— Я неправильно выразилась. Конечно, в детстве мы не были знакомы, но он уже тогда увлекался математикой.
— Вы правильно выразились, миссис Хост. Просто случайно из мира действительности забрели в мир возможности. Ведь вы могли быть с детства знакомы, могли вместе расти… В мире возможном это так и было…
— Ваши родители могли бы назвать вас Джемсом, мистер Уатт. Почему они не назвали вас Джемсом?
— Джемсом? Вы слишком многого хотите от них, миссис Хост. Они не назвали меня даже Уаттом.
Глава пятая Полиция на гребне цивилизации
В ожидании инспектора Хоста миссис Фунт и мисс Стерлинг обсуждали свои печальные обстоятельства.
— У вас тоже пропал любовник?
— У меня пропал муж.
— А любовник у вас не пропал?
— У меня нет любовника.
— Вообще нет? Странно, что вы сами в этом признаетесь. — Тут мисс Стерлинг привела с некоторым искажением латинскую фразу, смысл которой сводился к тому, что добродетель — это всего лишь не востребованный порок или что-то в этом роде.
Миссис Фунт запротестовала, из чего мисс Стерлинг сделала вывод, что любовник у нее все-таки не пропал, и миссис Фунт должна была это подтвердить, так как это соответствовало истине. Она стала жертвой древнегреческого софизма: «То, чего я не терял, у меня есть». Согласно этой ложной мудрости получалось, что раз миссис Фунт любовника не теряла, значит, любовник у нее есть. Мисс Стерлинг немножко знала латынь, а мыслила немножко по-древнегречески.
— А у меня пропал любовник, — вздохнула она. — Такой человек… Солидный, семейный… Ах, мистер Фунт, мистер Фунт, как я буду без вас?
— Вы? Без мистера Фунта? — парадокс предыдущей фразы заключался в том, что ее должна была произнести миссис Фунт, а не мисс Стерлинг. Потому что именно она, миссис Фунт, осталась без мистера Фунта.
Но, оказывается, не только она. Оказывается, мистер Фунт — это и был любовник мисс Стерлинг.
— Послушайте, но он же мой муж!
— Разве муж не может быть любовником?
Миссис Фунт привела наивный аргумент, что ее муж, конечно, не может, но мисс Стерлинг ей возразила, что ее муж не хуже других. Не хуже, а лучше других, согласилась с ней миссис Фунт, уж она-то его хорошо знает. Мисс Стерлинг, в свою очередь, согласилась, сказав, что и она его хорошо знает, на что ей было отвечено, что, возможно, она знает другого Фунта, потому что этот Фунт, да будет ей известно, вовсе не любовник, а муж.
— Как странно вы рассуждаете: либо любовник, либо муж. Я вам могу показать его подпись.
— Он писал вам письма?
— Он подписывал мои счета.
Миссис Фунт была окончательно сражена. Чужие счета! Как будто им своих не хватает.
— Почему он оплачивает ваши счета? Ведь мои счета ваш муж не оплачивает!
— Зато мой любовник оплачивает ваши счета. И я, заметьте, это ему прощаю.
Это опять была софистика, ложная мудрость, к которой вынужден прибегать человек, попадая в ложное положение, подобное тому, в каком находилась сейчас мисс Стерлинг. Но она чувствовала себя неплохо в этом положении и продолжала:
— Миссис Фунт, мы потеряли дорогого нам человека, мы с вами товарищи по несчастью, миссис Фунт. Раньше мы были товарищи по счастью, а теперь товарищи по несчастью, эти узы самые крепкие. Беда одна не ходит, миссис Фунт, так давайте ходить вдвоем. Так мы отыщем скорей нашего дорогого мистера Фунта.
С удвоенной энергией мисс Стерлинг занялась анализом ситуации:
— Попробуем разобраться. В начале месяца ваш муж дважды не ночевал дома, не так ли?
— Два раза. Но откуда вы знаете?
— Все в порядке: он ночевал у меня. Теперь постарайтесь вспомнить: вторая неделя, ночь с понедельника на вторник. Ночевал он дома? Потому что у меня его не было.
— Он был дома.
— А в ночь со среды на четверг?
— Тоже был дома. Его не было с четверга на пятницу.
— Он был у меня, так что здесь все в порядке. Переходим к третьей неделе.
— Всю третью неделю его дома не было.
— И у меня не было… Вы не думаете, что у него еще кто-то есть? Я имею в виду на стороне, вы меня понимаете?
— Никого у него нет, — сказала миссис Фунт, твердо веря в своего мужа.
— Я так и знала. Меня бы обманывать он не стал.
— Почему это — меня бы стал, а вас бы не стал?
— Потому что я себя знаю. — Мисс Стерлинг засмеялась с облегчением. Представляете, вдруг приносит апельсиновый сок. А я его терпеть не могу.
— Это я люблю апельсиновый сок, — сказала миссис Фунт. И улыбнулась.
— Я так и поняла, что он перепутал. Слава богу, дальше нас с вами дело не пошло.
— А меня он называл Рыжиком, хотя во мне ничего рыжего нет. Но теперь я знаю, откуда это.
— Слава богу, дальше нас дело не пошло, — сказала мисс Стерлинг. И придвинулась поближе к миссис Фунт. — Знаете, как мы с ним познакомились? Это было в прошлом году. Был теплый весенний вечер, и я спросила у мистера Фунта, не покажет ли он мне «Полярную Звезду». Знаете, кондитерский магазин, неподалеку отсюда. А он стал показывать настоящую Полярную звезду. Я сразу, говорит, понял, что вы нездешняя.
— Он любит говорить о звездах.
— Тогда это был только повод, чтоб поговорить-обо мне. «Как же я могу быть нездешней, ведь звезды видны всюду», — сказала я. А он говорит: «Есть очень далекие звезды. Вы, говорит, наверно, с очень далекой звезды». Я могла ему сказать, что я из соседнего дома, но мне не хотелось его разочаровывать.
— Когда он разочаруется, он совсем как ребенок.
— Потом он сказал, что я очень выделяюсь на этой планете. Я сказала, что он тоже выделяется. И так мы стояли и выделялись на фоне этого вечера, и он рассказывал о какой-то прозрачной звезде, на которой живут совершенно прозрачные люди, так что когда у кого-то возникнет какая-то темная, нехорошая мысль, это всем сразу видно…
— Он вам наговорит! — улыбнулась миссис Фунт.
— Да, говорить он умеет. «Вы, говорит, с далекой звезды, но все далекое становится близким…» Так мы с ним сблизились…
— А мы прожили пятнадцать лет… Постойте, как же мы с ним познакомились? Если это вам интересно…
— Меня интересует все, что касается вашего мужа, — заверила мисс Стерлинг свою собеседницу.
Они были целиком во власти воспоминаний, когда вернулся инспектор. Мисс Стерлинг пожурила его за то, что он совсем забыл о них, о их деле.
— О вашем деле? Разве у вас одно дело?
Да, так получается. Они думали, что пропали два человека, а на самом деле пропал один человек. Нет, любовник пропал, и муж тоже пропал…
— Значит, все-таки двое?
— Ну почему же двое? Вы думаете, что любовник и муж исключают друг друга, а они не исключают, а подразумевают…
— Муж подразумевает любовника? Значит, их все-таки двое?
— Да нет же, один. Он у нас один: муж и любовник. Одного человека вам будет легче найти.
Одну иголку в стоге сена легче найти, чем две иголки. Обычное заблуждение. При этом муж, разумеется, иголка, а жена нитка… Муж иголка в стоге сена, а нитка… даже две нитки… а стог сена такой же большой… За какую нитку тянуть? И вытянешь ли иголку?
Инспектор чувствовал, что совсем запутался в этих нитках. И тут появилась третья нитка: позвонила жена инспектора.
Жена интересовалась, пообедал ли инспектор, принял ли лекарство и придет ли он сегодня домой. Получив на все вопросы утвердительный ответ («Да… да… да, дорогая…»), жена упомянула о сюрпризе, который ждет дома инспектора, но сказать, что это за сюрприз, категорически отказалась («Не спрашивай, дорогой… Даже не спрашивай… Это секрет…»). Несколькими удачно поставленными вопросами инспектор без труда раскрыл этот секрет и в радостном возбуждении положил трубку.
— Все в порядке! Теперь они от меня не уйдут. Теперь я их обоих найду! — торжественно объявил инспектор Хост. Искать надо было одного, но он теперь готов был найти обоих.
Потому что техника — великая вещь. Чего только не найдешь с помощью техники!
Ведь мы не в каменном веке живем, мы живем на гребне цивилизации. И полиция должна не отставать от цивилизации, иначе неизвестно, куда цивилизация нас заведет.
Глава шестая Человек с планеты Земля
Коммерсант Борвик ужинал в кафе «Холостяк», хотя уже много лет был женатым человеком. Кафе «Холостяк» посещали в основном люди женатые, а холостяки предпочитали ужинать в семейной обстановке. Таким образом, название кафе «Холостяк» обозначало не семейное положение клиента, а всего лишь состояние его души. Состояние души коммерсанта Борвика было неизменно холостое.
— Разрешите присесть возле вас?
Этого человека Борвик видел впервые. Низенький, щуплый, с непомерно большой головой и широко раскрытыми глазами, которые, казалось, излучали сигналы бедствия, незнакомец сел, получив разрешение, и зашептал:
— Позвольте представиться: я — человек с планеты Земля.
— С какой планеты? — недоверчиво переспросил коммерсант, как будто другая планета, не Земля, прозвучала бы для него правдоподобней.
— С планеты Земля. Это замечательная планета: издали голубая, а вблизи зеленая. Сейчас уже, правда, не такая зеленая и не такая, откровенно говоря, голубая, но многое еще сохранилось…
— Кому вы рассказываете? — прервал его коммерсант Борвик, выражая этим не недоверие, а, напротив, свою осведомленность.
— Извините, — смутился незнакомец, — я рассказываю потому, что я человек с планеты Земля.
— А я, черт побери! — возвысил голос коммерсант. — Я, по-вашему, свалился сюда с Марса?
Незнакомец еще больше смутился:
— Извините. Я все забываю, что я уже на Земле. Отвык, понимаете. Я ведь мотаюсь еще с тех пор, когда на Земле изобрели порох. Запасы его так быстро росли, что я подумал: добром это не кончится. А просто уничтожить жалко: столько затрачено средств. Вот я и решил продать запасы пороха на какую-нибудь другую планету.
— Мне кажется, порох был изобретен довольно давно, — осторожно возразил коммерсант, чувствуя, что имеет дело с пациентом доктора Фрайда.
— Это у вас здесь давно. На Земле все давно. А в космосе нет понятия «давно», там есть только понятие «недавно».
— И вам удалось найти покупателя?
— О, это не так просто! В каких только цивилизациях я не побывал! Никого, представьте, не интересует оружие.
— А что их интересует? — забыв, с кем имеет дело, Борвик уже был готов предложить свой товар.
— Ну, вот, к примеру: был я на планете Дельта Стрельца. Думал так: раз Стрельца, значит, им может понадобиться порох. Но представьте: там разумные существа — белые медведи. Есть там и люди, я даже пытался с ними заговорить, но они отвечали: «Нет-нет, у нас ничего не спрашивайте. По всем вопросам обращайтесь к медведям».
— Значит, там цивилизация сосредоточена на полюсе?
— Если выражаться земным языком. Белые медведи живут там, естественно, среди льдов и среди льдов строят свою цивилизацию. Конечно, это не так прочно, как деревянные или каменные цивилизации, но зато проблема отопления сведена к нулю и даже значительно ниже нуля. Еще одно удобство: льдина служит не только жильем, но и средством передвижения. В свободное время они на льдинах подплывают друг к другу, находясь одновременно и дома и в гостях.
Коммерсант спросил для приличия, чем занимаются жители этой Дельты Стрельца в свое несвободное время, и получил ответ, что у них три основных занятия: рыболовство, рыбоводство и рыбоведение. Каждую зиму, обычно в самый холодный день, происходят выборы Самого Белого Медведя, то есть, медведя без единого пятнышка. Самый Белый Медведь формирует кабинет, в который входят министры не более чем с одним пятнышком, министры подбирают себе советников — не более, чем с двумя пятнышками, и так далее, вплоть до правителей льдин и водных бассейнов.
— Я там жил на льдине, которую занимал средних лет рыболов-теоретик с женой и двумя дочерьми. Дочери эти, легкомысленные особы, изводили меня насмешками, потешались, что у меня нет шубы, такой, как у них. Жених одной из них работал в министерстве торговли, занимая какой-то пост при советнике с двумя пятнышками. Он-то и устроил мне встречу с этим советником.
Советник был длинный тощий медведь, с умной мордой и проницательными глазами. И уши его торчали так, что когда он сказал: «Я вас слушаю», — в этом можно было не сомневаться. Человек с планеты Земля опустился на ледяную глыбу, которую советник любезно ему предложил, и в нескольких словах сообщил ему суть дела. Он умолчал о качестве продаваемого товара, сказав лишь, что его очень много.
«Чего много? — уточнил советник. — Льда или соленой воды? Что вы мне продаете кота в мешке?» — Он имел в виду морского кота, потому что другие у них не водятся.
Человек с планеты Земля сказал, что он продает не кота, но что именно он продает, сказать поостерегся. Он объяснил, какие огромные средства были вложены в производство этих огромных запасов, что их хватило бы на то, чтобы не только растопить здешние льды, но и вскипятить полученную из них воду. Советник поинтересовался: зачем? — но не получил на этот вопрос ответа. Тогда он спросил, нельзя ли на тех же условиях продать им более понятный товар. Например, рыбу. Но человек с планеты Земля забрался в такую даль совсем не для того, чтобы торговать рыбой.
Советник с двумя пятнышками посмотрел на сосульку, которая здесь заменяла часы, летом тая, а зимой обрастая льдом, и опустил уши, давая понять, что больше ничего он слышать не хочет.
— Напрасно вы отказались продать ему рыбу, — сказал Борвик. — Сразу видно, что вы не коммерсант. Начнешь продавать рыбу, а там, глядишь, и порох продашь, и все остальное, что сочтешь нужным. Ведь в торговле главное что? Главное — не упустить покупателя.
Человек с планеты Земля вздохнул:
— Где его найдешь, покупателя? Такой товар… зачем его только производили? Вот так производим, производим, завалим все склады, а сбывать некуда… Вот, к примеру, на Ипсилоне Кассиопеи. Разума там столько, что некуда девать, а разумных существ нет: разум существует в свободном состоянии. Сначала я его не заметил, мне показалось, что планета необитаема: вокруг были мертвые камни и скалы, которых никогда не касалась жизнь. Я сел на камень, и вдруг странная мысль пришла мне в голову. Я точно знал, что ее там не было, я ее не принес с собой, — значит, она появилась на этой планете. «Смерть — это всего лишь форма задумчивости, когда, отказавшись от легкомысленного движения, приобретаешь мудрую неподвижность».
Камни и скалы вокруг были неподвижны, теперь я понял, что они не мертвы, а всего лишь пребывают в задумчивости, и Разум, свободный, не скованный ими Разум парил над ними и запросто общался со мной.
«Вы со мной не согласны?» — спросил Разум. Я ответил, что привык думать иначе. «Это потому, что вы считаете движение единственной формой жизни, а на самом деле это не так. Вечная неподвижность, вечная задумчивость — вот наивысшее проявление высшего Разума».
Может быть, с точки зрения высшего Разума он рассуждал логично, хотя я все же не был уверен, что это его, а не моя мысль. Когда вот так непосредственно беседуешь с чистым Разумом, трудно определить, где его мысль, а где твоя.
«А каков результат вашей мыслительной деятельности?» — спросил я.
«Деятельности? — Он удивился. — Это еще одна ошибка движущейся жизни. Жизнь, пребывающая в движении, подчиняет и мысль движению, оставляя ей лишь две возможности: созидания и разрушения. Движение целенаправлено, и оно считает, что такой же должна быть и мысль. Но это неверно. Идеальная, абсолютная мысль бесцельна, бездеятельна, и это делает ее бессмертной. Потому что, когда движешься, неизбежно приходишь к концу».
Внезапно он заявил, чтобы я не вздумал делать ему какие-либо предложения, что ни на какие сделки он не пойдет, поскольку он, нематериальный Разум, не является лицом, материально ответственным. За все, что происходит вокруг, в том числе и на нашей планете. Откуда он знал, что я собираюсь делать ему какие-то предложения? Откуда он знал, что происходит на нашей планете?
Он говорил, что руины возникают на месте здания, а там, где нет здания, не может быть и руин. У него на планете никогда не будет руин, потому что на ней никогда не было зданий. Впрочем, говорил он об этом без особенной радости, потому что, видимо, тосковал по подлинной жизни. Потому и старался выдать отсутствие жизни за какую-то особо мудрую жизнь… Вот до чего довело его состояние вечной задумчивости… Разум, оторванный от жизни, всегда направлен против жизни, и чем он разумней, тем изощренней он отрицает жизнь…
— И вы ему ничего не продали? — спросил коммерсант Борвик.
— Ему ничего не нужно… Вернее, нужно, но этого я ему не мог продать… Понимаете, он так стремительно взлетел на вершины разума, что чувства его остались где-то внизу и там, внизу, совершенно атрофировались. А сам по себе разум, без чувств, ничего не стоит, он хуже любой глупости, потому что глупость всегда оживляется чувством.
— Вы хотите сказать, что не могли продать ему чувства? Я сразу заметил, что вы никудышный коммерсант.
— А вы? Вы могли бы продать чувство?
— Любое! Хотите любовь — пожалуйста, любовь. Хотите ненависть пожалуйста, ненависть. Все, что угодно. Только заплатите хорошо.
— Боже мой, — сказал человек с планеты Земля, — как здесь все изменилось за время моего отсутствия! Или, может быть, это не Земля? Такая же голубая издали и зеленая вблизи, но не Земля? Скажите мне, я вас прошу: какая это планета?
Глава седьмая Издатель Рокгауз в состоянии зет
Человек по имени Гральд Криссби открыл вещество финин, которого в природе вообще-то нет, но за пределами природы — сколько угодно. Характерным признаком этого вещества является то, что оно не находится ни в одном из семи известных состояний вещества. Восьмое состояние, в котором пребывает вещество финин, можно было бы назвать состоянием икс или состоянием игрек, а также и другими названиями, которые перебрал человек по имени Гральд Криссби, пока не остановился на более звучном: состоянии зет.
Вещество финин обладало удивительными свойствами, не известными не только доктору Фрайду, но и всей медицине настоящих и будущих веков. Оно способно было превратить любое ощущение в свою противоположность. Человек по имени Гральд Криссби впервые испытал это на себе, попробовав пить чай с горчицей. Это было необычайно сладостное, чтоб не сказать приторное, ощущение. Затем было немало других проб. Придя на свидание с любимой женщиной, человек по имени Гральд Криссби вдруг почувствовал к ней отвращение и помчался к давным-давно нелюбимой жене, одержав победу на фронте морали, где раньше терпел одни поражения. Словом, вещество финин в состоянии зет способно было превратить жизнь человека либо в рай, либо в ад, либо в помесь того и другого, чем, впрочем, она и является.
На одном из званых обедов человек по имени Гральд Криссби попотчевал этим веществом своих тайных завистников и ненавистников, и они мгновенно воспылали к нему любовью, которую даже не смогли сдержать, как прежде сдерживали ненависть. Знатоки человеческих душ утверждают, что чувство ненависти вообще легче сдерживается, чем чувство любви, и потому, в отличие от любви, чаще проявляется в скрытой форме. Это является одной из загадок загадочной души человеческой, которую Гральд Криссби не брался разгадать, а те, что брались, тоже не разгадывали.
Речь, однако, о веществе финин, которого в природе нет, а за пределами природы — сколько угодно.
Человек по имени Гральд Криссби выделил его из тоже не существующего в природе минерала пиретрона, испытывая этот минерал не на твердость, не на жидкость, не на газообразность или плазменность, а на восьмое свойство вещества. Он воздействовал на этот минерал светом звезды Канопус, который доходит до Земли за 180 (световых, естественно) лет, но исследователь не стал ждать так долго, а воспользовался ранее излученным светом, ибо это не противоречило разработанной им методике.
Методика была простая: минерал пиретрон располагался таким образом, чтоб на него падал свет именно этой, а не какой-нибудь другой, случайной звезды, — не потому, что эта звезда отличалась от случайной звезды, а потому, что при серьезном эксперименте должны быть исключены случайности. Оставив минерал пиретрон подвергаться воздействию звезды Канопус, человек по имени Гральд Криссби отправился на свидание с любимой женщиной, которую в то время любил больше нелюбимой жены, поскольку вещество финин еще не было им получено.
Женщина по имени Сю (имя краткое и удобное при столь коротких отношениях) была далека от проблем, занимавших любимого человека, у нее были свои проблемы, среди которых не последнее место занимала жена человека по имени Гральд Криссби, в отличие от его фантастических дел представлявшая самую осязаемую реальность.
— Здравствуй, Гральд, — сказала женщина, встречая экспериментатора на пороге. — Ты устал?
Она всегда задавала этот вопрос, отдавая дань слабости сильного пола, который любит, чтоб у него спрашивали, не устал ли он, даже если он проспал подряд четверо суток.
— Чертовски устал, — сказал Гральд Криссби, отдавая дань той же традиции, и услышал традиционное:
— Бедненький! Приляг вот сюда, отдохни!
Человек по имени Гральд Криссби прилег, продолжая раздумывать о проводимом эксперименте. Если он правильно рассчитал направление света звезды, то свет должен пройти через форточку и упасть на квадрат листа, на котором лежит минерал, не встречающийся в природе. А рассчитал он, видимо, правильно, потому что рассчитывал по формуле: A^2/B^2=С^2, где С направление, а В и А — величины произвольные и чисто условные, необходимые для получения искомого результата.
«Не забыл ли я открыть форточку?» — раздумывал Гральд Криссби, в то время как женщина Сю окружала его чисто женской заботой. Если форточка закрыта, действие луча снизится ровно вдвое, — по формуле: X/Y=К, где Х условное число 8, Y — условное число 4, а К — искомый результат.
— Ты меня любишь? — перевела женщина Сю его абстрактную мысль на конкретные рельсы и, придав ей таким образом направление, стала ожидать ее прибытия в назначенный пункт.
— Я тебя люблю, — сигнализировал о прибытии Гральд Криссби, не забывая, однако, думать о форточке.
Между тем тонкий лучик, прилетевший с далекой звезды Канопус, превращал обычный, правда, не встречающийся в природе минерал в удивительное вещество, способное любое человеческое ощущение превратить в свою противоположность. Даже в обычных, не экспериментальных условиях некоторые качества человека превращаются со временем в свою противоположность, но в обычных условиях это длительный и незаметный процесс, потому что звезда Канопус действует на человека непосредственно, без помощи финина, универсального вещества.
— Какая возмутительная чепуха! — воскликнул издатель Рокгауз, отбрасывая в сторону рукопись, неизвестным образом оказавшуюся у него на столе.
Это была не первая рукопись, приведшая издателя в состояние гнева, от которого он пытался воздерживаться после издания популярной брошюры доктора Фрайда «Гнев — союзник смерти». Воздерживаясь от гнева, мы воздерживаемся от смерти, но что же делать, если на столе у издателя появляется такая возмутительная чепуха?
Издатель Рокгауз развел руки в стороны и поднял их вверх, затем сделал несколько приседаний, чтобы привести себя в нормальное состояние. И когда он присел в последний раз и собирался с силами, чтобы встать (с годами это все труднее ему удавалось), на пороге появился посетитель.
— Сидите, сидите, — сказал посетитель, видя, что издатель порывается встать. — Я ненадолго…
Издатель все же встал с корточек и сел за стол — такое положение было для него привычней.
Посетитель тоже сел и сказал:
— Я — человек по имени Гральд Криссби.
— Вы?! — издателю было в пору опять сесть на корточки. — Да будет вам известно, молодой человек, что время для шуток у меня от семи до четверти восьмого, а сейчас, — он посмотрел на часы, — уже половина девятого. Приходите завтра.
— Это вовсе не шутка, я действительно человек по имени Гральд Криссби.
— Человек по имени Гральд Криссби! У меня уже этим уши набиты. Неужели нельзя говорить просто: Гральд Криссби — и все?
— Но я действительно человек…
— А другие, по-вашему, не люди? Откуда вы взялись?
— Вот из этой рукописи. — Посетитель указал на стол.
— Ага, так вы ее автор?
— Скорее наоборот. Дорогой Рокгауз, вы же там немного обо мне прочитали. И я вас хочу заверить: все, что вы прочитали, — правда, хотя и находящаяся за пределами действительности. Это более широкая правда, понимаете?
— Я ничего не понимаю и не хочу понимать.
— Вы не хотите, потому что находитесь в плену своих желаний. А вы попробуйте вырваться из этого плена в мир других желаний, вам неведомых. И вы сразу захотите меня понять. И поймете, что я существую в вашем воображении.
— Что за чертовщина! Какое вам дело до моего воображения? Кто вам позволил лезть в мое воображение?
— Вот эта рукопись, — сказал человек по имени Гральд Криссби.
— Мне нет дела до этой рукописи! — вскричал издатель Рокгауз, делая невольный шаг к тому, от чего предостерегал его доктор Фрайд. — Эта рукопись никогда не станет книгой!
— Очень жаль, — вздохнул посетитель. — Очень, очень жаль. Вы обрекаете меня существовать только в вашем воображении, в то время как я мог бы существовать в воображении десятков, сотен тысяч людей.
— Какая вам разница? Существовать в воображении — все равно, что вовсе не существовать.
— Вы не правы, дорогой Рокгауз. О, как вы не правы! Да вы возьмите хотя бы… — гость пошарил глазами по комнате, выбирая, что бы такое взять. Да хотя бы вот этот стол. Ведь и он существовал сначала в воображении. И все, все, что сделано человеком, существовало сначала в воображении. И даже вы, Рокгауз, до того, как появились на свет, существовали в воображении своих родителей, правда, быть может, несколько другим — более добрым, умным и понимающим.
— Я запрещаю вам говорить о моих родителях!
— Простите. Я проявил бестактность, заговорив о тех, кто уже существует только в воображении. Вы видите, как далеко простираются границы воображения: оно предшествует действительности и продолжает ее. И если финин уже существует в воображении, то со временем он проникнет в действительность — как космический корабль из воображения Циолковского и паровоз из воображения Стефенсона.
— Нашли с чем сравнивать! Кому нужен ваш финин, зачем это превращать ощущения в свою противоположность?
— Представьте себе, что вы замерзаете на снегу. Мороз тридцать градусов, и ничто вас уже не спасет, ничто не согреет. И тут вы достаете из кармана финин. Глотаете. И вы спасены. Вы лежите на снегу, температура которого плюс тридцать градусов.
— Вот еще выдумали — с чего это мне замерзать?
— Тогда представьте: вы прожили столько лет, что почти совсем утратили вкус к жизни. Пища вам кажется невкусней, работа неинтересной, юмор несмешным… И тогда вы принимаете финин и все преображается. И несчастье ваше становится счастьем.
— Послушайте, как вас там…
— Человек по имени Гральд Криссби.
— Послушайте, Криссби, вы просто меня морочите, я не верю ни одному вашему слову. Если жена станет любимой, куда вы денете эту женщину Сю?
Гральд Криссби ответил не сразу. Он посмотрел на рукопись, одиноко лежащую на столе, и вздохнул:
— Сю поймет. Сейчас она не понимает, но когда примет финин, все поймет, и мы с ней останемся друзьями. Потому что… Вы понимаете, звезда Канопус — это лишь одна из миллионов и миллионов звезд, каждая из которых как-то влияет на человека. Как они влияют? Эта загадка пока еще не разгадана. И мы не знаем, с какой звезды к нам прилетает любовь, а какая звезда рождает в нас бессмертные мысли… И что еще принесут нам далекие звезды, свет которых летит до Земли миллиарды лет…
— Вот тогда и приходите. Когда долетит. А пока — заберите свои фантазии. Читатель ждет от нас других книг.
Читатель ждет фактов. Ему нужна серьезная информация. Никакие выдумки его не интересуют.
Факты, факты, факты и снова факты… Сколько их накопилось — и еще подавай!
Чем больше накапливается фактов, тем меньше остается фантазий. Некоторых фантазий жаль: это были такие прекрасные фантазии!
Факты наступают. Они идут развернутым строем, вооруженные точными данными, доказанными теоретически и экспериментально, превращают в прах воздушные замки, в которых обитали фантазии…
Это факт печальный: когда рушатся воздушные замки, не хватает воздуха, чтобы дышать.
Ничего этого не сказал Рокгаузу человек по имени Гральд Криссби. Он промолчал об этом, хотя это было в его жизни самое главное.
Он только спросил:
— Разве вы знаете, чего ждет читатель?
Рокгауз усмехнулся:
— Кому же знать, как не мне. Читатель, могу с уверенностью сказать, ждет от нас новых романов Дауккенса, рассказов о работе инспектора Хоста, мемуаров майора Стенли, научно-популярных брошюр доктора Фрайда… Вот чего ждет наш читатель… Слава богу, ему есть чего ждать. Но только не этого… — Рокгауз придвинул к себе рукопись, чтобы поиздеваться над этой дурацкой звездой Канопус, но прежнего текста там не нашел. Сейчас там было написано про какой-то трансметагалактический корабль, бороздивший просторы Метагалактики. Регулятор времени стоял на нуле, время внутри корабля было остановлено — этого требовала техника безопасности, оберегая жизнь экипажа в бесконечно долгом пути.
Вместе с кораблем двигался огромный огненный шар — внешний источник питания, и корабль вращался вокруг него, постоянно пополняя запасы энергии. Так они и двигались вдоль галактики с расчетной скоростью двести километров в секунду (время остановилось только внутри корабля).
«Надо бы почистить обшивку, Зют, — сказал капитан. — Опять нас облепило космической пылью».
Зют включил радиовизор. Экран был широк, но полной картины не давал. Зют вертел регулятор панорамирования, скользя взглядом по поверхности корабля. Ее было совсем не узнать — до того она была облеплена космической пылью. Но и космическую пыль тоже было не узнать.
Экран был расцвечен зеленым, желтым, белым, оранжевым, голубым… Каких только красок здесь не было, но преобладали зеленые и голубые… Голубые набегали на желтые, рассыпаясь брызгами, пенясь и откатываясь назад, а зеленые устремлялись в другую голубизну, застывшую над ними сверкающим куполом. И над всем этим царил золотистый огненный шар — источник питания.
«Да, облепило нас… — сказал капитан, бросив взгляд на радиовизор. Пожалуй, и не счистишь за один раз».
Зют покрутил увеличитель. «Смотрите, капитан: там какие-то фигурки. Они движутся!»
Ровные геометрические конструкции, испещренные рядами блестящих квадратов, возвышались на поверхности корабля, а между ними пролегли ровные полосы, по которым двигались маленькие фигурки…
«Будем счищать, капитан?»
Зеленое смешивалось с белым и желтым и окуналось в голубое, и над всем этим сверкал и искрился источник питания. И корабль уже не был похож на корабль, а был похож на что-то разноцветное, праздничное, и казалось, жил он не только внутри, но и снаружи, и как раз там, снаружи, была главная его жизнь.
«Не будем трогать, — сказал капитан. — Это ж какая красота! Может, удастся довезти — вот наши обрадуются!»
Издатель поднял глаза, но посетителя уже не было. Возможно, он вернулся обратно в рукопись, воспользовавшись тем, что Рокгауз ее раскрыл…
Человек по имени Гральд Криссби… Как будто он боится забыть о том, что он человек, и сам себе все время об этом напоминает.
Проходимец какой-то. Нужно проверить, не унес ли он чего-нибудь. Издатель Рокгауз окинул комнату проверяющим взглядом, и первое, что ему бросилось в глаза, — это неизвестно откуда возникшая на столе бумажка. Он развернул ее и прочитал:
«Сегодня, в 24:00, в ночном баре «Звездочка» состоится встреча с пришельцами со звезды Фомальгаут (созвездие Южной Рыбы). Извините за позднее время: наша ночь в Южнорыбье — день».
Какое Южнорыбье? Где ночь, а где день?
Издатель Рокгауз чувствовал себя в этом самом состоянии зет, в котором находится вещество финин в результате воздействия луча звезды Канопус. Он развел руки в стороны, поднял их вверх, затем сделал несколько приседаний. Бумажка не исчезла, и на ней значилась все та же чушь.
Издатель сокрушенно покачал головой и поспешил к доктору Фрайду.
Глава восьмая Человек из машины
Любознательность — могучий двигатель прогресса, но если этот двигатель на холостом ходу, он превращается в праздное любопытство. Миссис Смит вела титаническую борьбу со своим позорным любопытством и всякий раз терпела поражение.
Первое крупное поражение за сегодняшний день она потерпела, уходя от миссис Хост и забывая у нее сумочку, за которой вскоре предполагала вернуться. Вторым крупным поражением была не захлопнутая, а лишь слегка прикрытая дверь (чтобы, отступая, не закрывать себе путей к наступлению). И, наконец, третье крупное поражение, точнее, полную капитуляцию перед своим любопытством миссис Смит продемонстрировала, вторично появляясь в комнате, где, подтверждая ее опасения и оправдывая надежды, незнакомый мужчина сидел за столом, который, видимо, накрывали к ужину.
Улика была налицо, но преступник, как сказал бы хозяин этого дома, скрылся в неизвестном направлении. Может быть, на кухню.
— О, простите, я, право, не думала… — заговорила миссис Смит в понятной растерянности. — Я вернулась за своей сумочкой, дверь была незаперта… Я считала, что миссис Хост одна, иначе бы я не осмелилась… Личная жизнь человека — это его личная жизнь, особенно женщины… А у вас тут вино, очень мило. Значит, вы не даете миссис Хост скучать.
— Я жду инспектора, — сказал Гарри Уатт.
— Вы хорошо подготовились к встрече, — миссис Смит кивнула на стол, накрытый к ужину. — Если б инспектор знал, как его ждут, он бы поторопился, как вы думаете? Вы не знаете? Оказывается, вы правдивый человек. Ну что вам стоило сказать «да»? «Да» — такое короткое слово. Но иногда легче сказать длинную фразу, чем коротенькое слово «да».
Гарри Уатт был не прочь повести разговор в том же тоне:
— И вы часто испытываете подобные трудности?
— Честно говоря, не часто. Я люблю короткие слова.
— Кратчайший путь к цели лежит через короткие слова. Однако позвольте представиться: Гарри Уатт.
— Миссис Смит, — назвала себя миссис Смит. — Мне очень приятно. Вы никогда не думали, Гарри, — вы позволите мне вас так называть?.. Вы никогда не думали, Гарри, какая пропасть разделяет мужчину и женщину? Невероятная, бездонная пропасть. Но она притягивает к себе, зовет себя преодолеть… и тех зовет, и других… Но мужчины, как более сильные, легко ее преодолевают, а слабые женщины падают в пропасть…
— Миссис Смит, вы рассуждаете, как опытный альпинист.
— Только не сочтите, что я делюсь с вами опытом.
— Как вам будет угодно. Не будет угодно — не сочту.
— А если будет угодно?.. Гарри, вы собираетесь сделать двойной прыжок? Двойной прыжок над пропастью? Меня это восхищает.
— Я действительно над пропастью, миссис Смит. Но ото совсем другая пропасть.
— Одну я, кажется, знаю… Вернее, догадываюсь… А кто же другая?
Гарри Уатт ответил не сразу. Вернее, он вовсе не ответил на этот вопрос. Вместо ответа он достал из кармана какие-то листки бумаги и приготовился и-х читать.
— Послушайте, миссис Смит, как это начиналось.
Легковой космофургон причалил к Земле, на которой не было не то что космических, но и самых обычных фургонов. Земля была аграрной планетой, нетронутым лоном природы, на котором так приятно отдохнуть от цивилизации.
«Это ты здорово придумал, Ис, — сказал Аш. — Устроить пикник на Земле, да еще прихватить с собой девочек!»
«Девочки — что надо, — кивнул Ис. — Ты посмотри на Мю, какие у нее колеса!»
«У Лю тоже неплохие колеса. У меня от них даже кружится в голове».
Компания расположилась в тени деревьев, с удовольствием вдыхая непривычный земной аромат. Аш рассказывал анекдот об экстраполированном квазипространстве, скоррегированном относительно квазивремени аb/c^2. Ис хохотал, девочки краснели и опускали глаза.
«Заправимся?» — спросил Ис, отвинчивая крышку баллона.
Все по очереди заправились.
«Между прочим, синхронизированный модуль у^ю, ретроспектированный в субстанцию (-+)^1…» — сказал Аш, но девочки, опять покраснев, попросили его вести себя прилично.
И в это время на дороге появился абориген. Он двигался как-то странно, но в чем была эта странность, сначала трудно было понять. Абориген раскачивался из стороны в сторону, как разболтанный фургон, которому только бы дотащиться до ремонта.
«У него нет колес!» — воскликнула Лю.
«(A^2 + B^2 — C^2)/k! — выругался Ис. — Как же он передвигается?»
Абориген двигался, переставляя какие-то две палки, а другими двумя палками загребая воздух по бокам.
«И смотрите, не падает!» — удивилась Мю, при этом Аш воспользовался случаем и погладил ее колесо, словно выражая приверженность именно к этому виду передвижения.
Абориген приблизился. Он долго и внимательно разглядывал пришельцев, и в голове его проносились — сначала медленно, а потом все быстрей — будущие телеги, кареты, поезда, будущие автомобили, трамваи и троллейбусы…
«Отдыхаете? — спросил абориген. — Да, вам уже можно отдыхать. — Он крутанул колесо Мю, не видя в этом ничего неприличного. — А нам отдыхать некогда. Мы тут, как белка в этом… как его…» — Он не договорил. Он лишь махнул рукой и пошел своей дорогой.
— И что же дальше? — спросила миссис Смит.
— Дальше? Как пошел своей дорогой, так с тех пор и идет… Тогда для него колеса были в диковинку, а теперь куда ни погляди — всюду колеса…
— Это была внеземная цивилизация?
— Может, внеземная. А может, земная, прилетевшая из будущего, чтобы поделиться опытом с прошлым. Иначе откуда прошлое узнало бы про колеса?
— Гарри, что-то я ничего не понимаю… Прошлое узнает от будущего, будущее узнает от прошлого… А откуда они все узнают? Вы меня, Гарри, совсем запутали.
Гарри Уатт спрятал в карман свои листки.
— Вы знаете, миссис Смит, что такое бог из машины? Был в древних трагедиях такой персонаж, который распутывал все ситуации. Так вот, я человек из машины. Но я ничего не распутаю, а только больше все усложню.
— Теперь я понимаю. Да, Гарри, теперь я понимаю… Эти колеса… Эти машины… Они вытесняют самое сокровенное, человеческое… Но ведь полностью они не могут заменить человека? Ведь не смогут?
— Две машины стоят над пропастью, над которой проложен мост. Все рассчитано, все учтено. Никто не летит в пропасть.
— Нет-нет, Гарри, не надо!
— Машина говорит машине…
— Они разговаривают?
— А почему бы и нет? Раз они мыслят… «Машина! — говорит машина машине. — Я тебя люблю. Я люблю каждую твою деталь, каждый винтик, каждую шестеренку. Когда мои телекамеры впервые увидели тебя, а мои микрофоны впервые услышали тебя, мои двигатели задвигались быстрей, мои счетчики показали самое высокое напряжение».
— О боже! — воскликнула миссис Смит. — Зачем вы мне рассказываете эти кошмары?
— Простите, миссис Смит, машина еще не кончила. «Между нами, машина, продолжала она, — проложен мост, который не даст нам свалиться в пропасть. Но ведь у нас нет чувств, моя любовь к тебе — это механическое явление, необходимое для разрядки аккумуляторов, для снятия высокого напряжения, которое может каждому из нас повредить. Чисто физическое влечение, а никакое не чувство. Ведь ты ничего не чувствуешь ко мне, машина? И я к тебе ничего не чувствую… Значит, мы будем счастливы, мы не свалимся в пропасть, тем более, что между нами проложен мост. Мост — это единственное, что может быть между нами…»
— Какой ужас!
— Почему ужас? Человечество постепенно к этому привыкает и, создавая машины, изменяет себя по их образу и подобию. Ученые даже утверждают, что человек — всего лишь запрограммированная машина, приучают человека к этой мысли, чтобы потом она не была для него неожиданностью.
— Потом? Значит, еще не скоро? — миссис Смит вздохнула с облегчением. Как вы напугали меня! Все-таки человек — не машина, о себе, во всяком случае, я не могу этого сказать… Хотя и без машины тоже нельзя: пришлось бы пользоваться городским транспортом.
Столь интересно начатый разговор был прерван появлением хозяйки дома. Пока миссис Хост разгружала поднос, миссис Смит ей объяснила, что вернулась за своей сумочкой, и получила приглашение остаться, выпить за здоровье мистера Хоста. Это последнее предложение миссис Смит несколько удивило, и она не сочла нужным скрыть свое удивление.
— За здоровье инспектора? Право, я даже не найду, что сказать. А вы, Гарри? Вы мне позволите, миссис Хост, называть вашего приятеля Гарри? Он мне позволил…
— Пожалуйста, не стесняйтесь, — сказала миссис Хост. Но миссис Смит все-таки немного стеснялась.
— Он мне позволил называть его Гарри, потому что мы с ним любим короткие слова. Чтобы люди могли покороче познакомиться, им необходимы короткие слова.
— Чтобы быть на короткую ногу, — объяснил Гарри. — Тем более, что жизнь коротка.
— Вы уже заметили, что жизнь коротка? — съязвила миссис Хост. Подумать только, я вышла всего на несколько минут, и вы уже это заметили!
Миссис Смит понемногу брала бразды в свои руки:
— Миссис Хост, почему бы Гарри не называть вас Лиззи? Тогда мне не будет казаться, что я здесь лишняя. А меня, Гарри, называйте Джекки. И вы, Лиззи, если не возражаете. — Миссис Смит торжественно подняла бокал. Гарри, Лиззи, так за что же мы пьем? За здоровье мистера Хоста?
— Я с удовольствием, — сказал Гарри.
— Очень мило! Вы, Гарри, настоящий человек из машины. Лиззи, он вам не говорил, что он человек из машины? Это потому, что у нас технический прогресс. Гарри говорит, что машина создает человека по своему образу и подобию.
— Это разговор для моего мужа. Он бредит всеми этими техническими усовершенствованиями.
— Что касается меня, — сказала миссис Смит, — то я согласна работать, как лошадь, только бы иметь возможность мыслить и чувствовать, как человек. Волноваться, любить и даже страдать… Нет, пожалуй, страдать это лишнее.
— Но ведь страдание — самое человеческое чувство, возразила миссис Хост, однако миссис Смит и тут нашла оправдание:
— Я достаточно буду страдать от того, что буду работать. А помимо этого я хочу жить полной жизнью: волноваться, любить. Я не хочу быть человеком из машины, не хочу быть ее деталью. Деталь легко заменить, а если меня заменят, от меня ничего не останется.
— Вас еще долго не заменят, Джекки, — сказал Гарри как истинный джентльмен. — Недавно среди машин распространили анкету: какой машиной вы хотели бы быть. Большинство ответило: только не мыслящей. Потому что век мыслящих люден прошел, и мыслящие машины — тоже, видимо, ненадолго.
— Так прямо и ответили? — возмутилась миссис Смит. — Но ото же нахальство, вы не находите? А вот интересно, вы, Лиззи, какой машиной хотели бы стать? Только не говорите, что швейной или стиральной, забудьте свои хозяйственные дела.
— Может быть, машиной времени?
— Ага, я поняла. Чтобы вернуться туда, где можно снова стать человеком? Лиззи, вы умеете устраиваться, я всегда это подозревала.
— Если станете машиной времени, возьмите меня пассажиром, — серьезно сказал Гарри Уатт.
— Вас уже взяли, Гарри, неблагодарный! — напомнила ему миссис Смит. Вас возвратили в ваши лучшие времена, а вы и не замечаете? Ведь машина времени — это любовь, она возвращает человека в его молодость. — Миссис Смит погрозила подруге пальцем: — Вот мы, Лиззи, и разгадали, почему вы хотите стать машиной времени. Это каждая женщина хочет, особенно если есть пассажир.
— Это прекрасные слова, миссис Смит. Давайте почтим их минутой молчания.
— Молчанием, Гарри? Я понимаю, иногда молчание красноречивее слов, но там, где больше двух, принято говорить вслух, а не обмениваться молчанием, пусть даже красноречивым.
— Что-то инспектор задерживается, — сказал Гарри Уатт.
Миссис Смит его успокоила:
— Не беспокойтесь, сейчас придет. Инспектор Хост видит буквально на расстоянии, тем более такого человека, как вы. Из машины.
— Мы с инспектором оказались в одной машине, которая, в тому же, ведет нечестную игру. Эти мыслящие машины… Лишь только их научат мыслить, как они начинают мошенничать.
— Мы слишком много говорим о машинах, — сказала миссис Хост. — Даже в этих книжках про будущее, которые читает мой муж, человека не видно, одни машины.
— Когда человек изобретет Машину Счастья, которая сможет исполнять все его желания, ему нечего будет пожелать, — сказал Гарри. — Материально он будет обеспечен, духовно-обеспечен. Что же остается этой Машине Счастья? Сделать всех академиками? Знаменитыми актерами кино? Были когда-то у человечества представления о счастье, но они давным-давно признаны ошибочными. Любовь заменена электронно-вычислительным подбором партнеров, наслаждение прекрасным заменено полезными наслаждениями, мечта опровергнута точным расчетом. И стоит человек перед Машиной Счастья, и не знает, как ему быть. Он разучился быть счастливым с тех пор, как перестал быть несчастным.
— Это ужасно, Гарри! Что же тогда ему остается?
— Миссис Смит, ему остается одно: сохранить о счастье прежние представления. Не поддаваться соблазну машин, чтоб не погубить в себе человека.
— У нас получился слишком серьезный разговор, — вздохнула миссис Смит. — А серьезные мысли — признак старост». Ведь даже эти самые мыслящие машины сделаны из металла, который пролежал в земле миллионы лет. За такой срок можно было избавиться от эмоций. Кстати, Гарри, а где ваша машина? Вы нам ее покажете?
— Она здесь.
— В квартире?
Миссис Хост не удивилась. Она испугалась. Детективные сюжеты зашевелились в ее мозгу.
— Как это понимать, мистер Уатт?
Миссис Смит ей ответила:
— Лиззи, это совсем не сложно понять. Я, например, с самого начала все поняла и теперь тоже все понимаю. Дело в том, Лиззи, что машины — это совсем не машины, это такая аллегория. И мы с вами, как две машины, стоим над одной пропастью. Но я сейчас ухожу, Лиззи, я ухожу. Не стану вам мешать падать в пропасть.
Глава девятая Звонок из космоса
Когда мужчина пропадает у одной женщины, он непременно отыскивается у другой, но когда он пропадает сразу у двух, где его искать?
Прежде и преступники, и блюстители порядка подчинялись одним и тем же законам логики. Поэтому было легче, с одной стороны, преступать законы, а с другой — их охранять. Современные же преступники вообще не признают никаких законов, в том числе и законов логики. Это серьезное нарушение, и полиции следовало бы иметь специальную службу по борьбе с нарушителями законов логики. Но тогда бы преступность у нас возросла, потому что законов логики кто только не нарушает! Хотя старый логический метод, конечно, хорош, если б все мыслили одинаково. А так приходится перебирать столько вариантов, что без электронно-вычислительной машины не обойтись.
Но теперь у инспектора есть такая машина. НФД-593, Новейший Феноменальный Детектив, сконструированный Н.Ютоном по его специальному заказу. Умница этот Н.Ютон, хоть и украли у него усилитель интеллекта, а он все же создал робота-сыщика, как обещал. И прямо дома установил, а не на работе, где его бы загоняли мелкими поручениями. Теперь оставалось только добраться до дома…
Но это оказалось нелегко. Едва инспектор взялся за ручку двери, как зазвонил телефон.
— Инспектор Хост? С вами говорят с созвездия Южной Рыбы. Ничего страшного, пара десятков световых лет. Но теперь уже остались считанные световые минуты. Скоро будем у вас на Земле.
— У нас на Земле? А вы, собственно, откуда звоните?
— Южнорыбцы мы. Фомальгаутяне. Светимость 11, видимая величина +1,3, расстояние 23 световых года. Теперь узнаете, Хост?
— Ни черта я не узнаю! Чушь какая-то! Абракадабра!
— Каким словам научились! — сказали на том конце провода или, может, эфира. — Когда мы были у вас последний раз, вы тут вообще ни над чем не задумывались. Гонялись друг за другом — ну прямо как дети: зайцеобразные, кошкообразные, крокодилообразные… Мы только голову ломали: кто из вас первый над чем-то задумается? Конечно, зайцеобразные предпочтительней крокодилообразных, но и это не лучший вариант. Трусливый разум стоит жестокого разума.
— Это вы так думали, когда прилетели на Землю?
— Ну да. В первый раз. А вдруг, думаем, это будут насекомообразные? Самые маленькие, неприметные, вдруг они возьмут и наведут здесь порядок? Пожалуй, это еще пострашней, чем крокодилы, — когда порядок берутся наводить насекомые.
— Значит, волновались за нас?
— Волновались. Многое зависит от того, кто поднимет планету на вершину цивилизации. Поднять-то не штука. Трудней ее там удержать, чтоб она не рухнула с этой вершины… В общем, это нетелефонный разговор. Вы пока не отходите от телефона, мы будем держать с вами связь.
Говорящий повесил трубку или что там у него было — не исключено, что в созвездии Южной Рыбы никаких трубок нет. Читал же инспектор недавно в какой-то книжке, что в созвездии Треугольник никаких треугольников нет. Начисто отсутствуют. Есть квадраты, окружности, а треугольников нет. Хотя созвездие называется Треугольник.
Конечно, не верилось, что так вдруг они прилетят. Во-первых, как они могли позвонить по телефону? Если б еще связались по радио, на коротких волнах… Хотя, помнится, был такой случай, описанный в литературе: пришельцы, подлетая к Земле, подключались к любому прибору. К телефону, телевизору, даже к холодильнику, если была такая потребность.
Хорошо, что эти южнорыбцы уважают порядок: прежде всего позвонили в полицию. Хотя, если б они не позвонили, он бы уже был дома, мог бы воспользоваться НФД. Считанные световые минуты — сколько ж это по земному времени?
Инспектор подошел к окну. За окном был весенний вечер. Хорошо знакомая Манчестерская улица жила своей обычной вечерней жизнью. И вдруг… Инспектор с трудом верил своим глазам… На освещенной табличке, на которой прежде было написано «Манчестерская улица», он прочитал: «Малая Галактическая».
— Большой селех! — сказал инспектор. Это выражение он позаимствовал из повести «Будни планеты Ехи». Будни этой планеты были постоянным праздником. Разноцветные шары купались в зеленом небе, распространяя в слехе (тамошнем воздухе) мелодичные трели и свист.
«Это наши лехелы (то есть, деревья), — объяснил землянину Прайсту один из тамошних хесов (местных жителей). — А на них селы поют».
В том, что птицы поют, не было ничего удивительного, но что они летают вместе с деревьями, было, как сказала бы миссис Прайст, несколько экстравагантно.
Деревья-путешественники… Это, вероятно, имело свой смысл, но хес говорил об этом без восторга.
«Нет у них настоящей привязанности к родной ехе (то есть, земле). Да и откуда ей взяться? Хозяйства у них нет, семьи нет, потому и нет любви к ехе, на которой выросли».
Прайст спросил у него, неужели он всю жизнь сидит на одном месте. «Мы сидим, — сказал хес. — Мы не лехелы. И не селы. Мы хесы, поэтому мы сидим».
Прайст заметил, что от долгого сидения ноги его стали уходить в грунт и разветвляться там наподобие корней, как у сидящего против него хеса. Он решительно встал.
«Посидели бы еще, — сказал хес. — Я вам хлесо (хозяйство) покажу. Я недавно вывел новый сорт сехесы (пшеницы). Ой, какая сехеса! Она, представьте, не летает, а растет на ехе, прямо на ехе (то есть, на земле).
Но беспокойные лехелы устремлялись в неведомую даль, они звали туда, где светят далекие лесхи…
— Селех! — сказал Прайст. — Большой вам селех!
То есть, большой вам привет, я поехал!
Планета Еха произвела на инспектора впечатление, и кое-что из нее он запомнил. И теперь, прочитав надпись «Малая Галактическая», инспектор сказал, усомнившись в действительности:
— Большой селех!
В это время раздался звонок. Инспектор бросился к телефону.
Нет, это были не они. Звонил майор Стенли. Он получил официальное извещение, что, минуя все промежуточные чины, его производят прямиком в генералы. Да, конечно, можно поздравить, но дело в том, что произведен майор Стенли в генералы не в своей родной армии, а в какой-то неизвестной армии Альдебарана. Ему предписывается в течение ближайших двух дней явиться к месту несения службы, а куда явиться — не сказано.
Он перелистал все военные справочники, но армии Альдебарана нигде не нашел. Британская энциклопедия указывает, что до Альдебарана лететь шестьдесят восемь лет, если, конечно, лететь со скоростью света. Майору Стенли не привыкать к скоростям, военная служба требует оперативности, но шестьдесят восемь лет — это, конечно, не для него. Он не пролетит и десяти, как его уволят в отставку.
Инспектор посоветовал ему обратиться к доктору Фрайду.
Только он повесил трубку — опять зазвонил телефон. На этот раз инспектора потревожил Н.Ютон. Нет, не по поводу робота, робот — это что ж… Обещал — сделал, не стоит благодарности… Н.Ютон звонил по поводу украденного усилителя… Нет, не нашелся… И не нужно, чтоб находился… Только что Н.Ютон проходил по Квазарной… Это параллельно орбите Пульсарной… Неужели инспектор совсем не знает города?
— Назовите улицу.
— Это еще зачем? Жизнь во вселенной течет по орбитам, а не по этим… как вы их назвали?.. улицам.
— И что же на этой Квазарной? Неужели опять ограбили?
— Напротив, инспектор. Меня осенила мысль. Усилитель интеллекта морально устарел по сравнению с тем, что я сегодня придумал. Метод элементарно прост. Все клетки организма имеют примерно одинаковое строение, но мыслят только клетки мозга. Это создает огромные потенциальные возможности. Представляете, инспектор, каких мы достигнем вершин, когда мыслить у нас будет не только мозг, но и руки, ноги, живот и прочее? В голову будут приходить только самые великие мысли, а средние и незначительные будут приходить в другие части тела.
— Я это плохо представляю.
— Потому что мыслите только головой. Пока ваша голова набита пустяками, вместо того, чтоб заниматься великими мыслями. Но будьте спокойны: идея уже найдена, остается ее осуществить. Пожелайте мне успеха.
Прошло еще несколько минут. Несколько световых минут.
Наконец раздался долгожданный звонок:
— Следуем прежним курсом. Самочувствие нормальное. Пожалуйста, не отходите от телефона.
И опять повесили — что там было у них.
Как долго тянутся эти световые минуты!
— Беда, инспектор! Беда! Большое, огромное несчастье!
Инспектор с трудом узнал корректора Кректа. Лицо корректора было искажено ужасом.
— Что случилось, Крект?
— Послушайте, инспектор, вы не поверите. Я задремал над рукописью…
— Что ж тут особенного? Кто у нас не спит на работе.
— Я не об этом. Сплю я, конечно, сплю на работе. Правда, во сне я тоже читаю рукописи. Так было и на этот раз. Я уснул над брошюрой Фрайда и приснился мне роман Дауккенса. Я и над ним тоже уснул и приснились мне записки майора Стенли…
— Для вас, я вижу, нет преград.
— Ну почему же нет? В конце концов я проснулся. Смотрю — рукописи нет. Тогда я подумал: может, я ее во сне в шкаф положил? Со мной это тоже бывает. Спать-то спишь, а подсознание работает: как бы рукопись не стянули. Спрячешь ее, а потом сам не можешь найти. Подошел я к шкафу, смотрю…
Корректор Крект заплакал. Это было неожиданно для обоих, и оба смутились, не зная, как с этим быть.
— Понимаете, там, в шкафу, не осталось ни одной рукописи. Новая повесть Дауккенса, мемуары Стенли, медицинские статьи Фрайда, не говоря уже о бессмертном романе Даниеля Дефо… Рокгауз этого не переживет. Да и сам я этого не переживу. Рукописи почти все вычитаны, ни одной ошибки. И все исчезло. Вот — только это оставили.
Крект протянул инспектору клочок бумаги. Инспектор прочитал:
«Сегодня, в 24:00, в ночном баре «Звездочка» состоится встреча с пришельцами со звезды Фомальгаут (созвездие Южной Рыбы). Извините за позднее время: наша ночь в Южнорыбье — день».
— Вы считаете, что кража связана с этими космическими делами?
— Прежде этой бумажки не было. Исчезли рукописи — и она появилась.
— Значит, в 24:00. А сейчас? О, уже начало первого… Что-то наши пришельцы заставляют себя ждать.
— Как же заставляют ждать? Рукописи уже украдены.
В это время опять зазвонил телефон:
— Алло, инспектор Хост? Рады вам сообщить, что все протекает нормально. Самочувствие отличное. Настроение отличное. Можете отойти от телефона.
Глава десятая Жители Фомальгаута приветствуют жителей Земли
Сидя в приемной доктора Фрайда, пациенты Рокгауз, Стенли и Дауккенс обменялись информацией, и болезненные страхи каждого утроились. Издатель Рокгауз понял, что пришельцы, назначившие ему свидание в кафе «Звездочка», не только пытаются использовать издательство, но и вербуют наших военачальников для своих вооруженных сил. Писатель Дауккенс заподозрил, что вскоре инопланетные повести и романы обрушатся на Землю, расчищая путь грядущим военным действиям, ибо генералы нужны именно для военных, а не для каких-либо еще действий. А майор Стенли сообразил, что преждевременное его производство связано с веществом финин, которое может в любой момент превратить генерала в рядового солдата.
Затем появился коммерсант Борвик, который, непринужденно вмешавшись в разговор, заявил, что от всех болезней можно избавиться, если продать их куда-нибудь на другую планету. В конце концов есть планеты, на которых болезней недостаточно, а у нас их в последнее время явный переизбыток. Коммерсант Борвик затем и пришел, чтобы предложить доктору Фрайду сотрудничество, создание нового лечебного концерна «Борвик и Фрайд», Фрайд принимал бы пациентов, а Борвик сплавлял бы их болезни куда-нибудь подальше, в другие галактики. Главное — найти покупателя, но это уже забота коммерсанта.
Доктор Фрайд поставил всем один и тот же диагноз, который он на грекоизированной латыни назвал «морбус космус», что означает в переводе с этих двух языков «космическая болезнь» и связано с тем, что Земля со всех сторон окружена космосом. Он прописал им режим, строжайше запрещавший смотреть на небо, в особенности звездное, читать что-либо по астрономии, а также загорать на солнце. Предложение посетить ночной бар «Звездочка», чтобы хоть краем глаза взглянуть на пришельцев, доктор Фрайд категорически отверг, ибо, сказал он, общение с пришельцами особенно пагубно при заболевании морбусом космусом.
Несмотря на это, четверо его пациентов, покинув кабинет своего целителя, устремились в бар «Звездочка», желая, во-первых, удовлетворить свое любопытство, а во-вторых, соблазнившись предложением Борвика продать пришельцам свою космическую болезнь.
Впереди шествовал генерал Стенли (для них, посвященных, он был уже генерал), за ним следовал коммерсант, а за коммерсантом писатель с издателем. Четверо отважных жителей Земли шли навстречу своим братьям по разуму.
Между тем ночной бар «Звездочка» вел мирную и даже не просто мирную, а лихорадочно мирную жизнь, словно спеша компенсировать все военные и другие невзгоды. Пациенты доктора Фрайда с минуту постояли в дверях, разглядывая завсегдатаев бара, но подозрительных среди них не нашли и направились к свободному столику.
Прежде чем сесть, генерал Стенли огляделся вокруг и пришел к выводу, что позиция выбрана удачно. Позади их столика была глухая стена, слева шкаф, который в случае надобности можно было перевернуть, превратив в надежное укрепление.
Писатель и издатель продолжали разговор, начатый по дороге.
— Зачем придумывать жизнь, если она достаточно хороша не придуманная. И достаточно плоха не придуманная. Все равно не придумаешь лучше и хуже, чем есть.
— Вы правы, Рокгауз… я как раз об этом писал…
— Преступление и наказание, — продолжал издатель, не слыша писателя, их столкновение, борьба между ними. Когда преступление, совершившись, бежит, а наказание его преследует, собирая по дороге следы, отпечатки пальцев я прочие улики. Когда наказание устраивает засаду, а преступление отстреливается, вырывается и снова бежит, а наказание, оценив обстановку, разрабатывает новый план преследования…
— Помните, я писал… — опять заикнулся писатель.
— Ничего я не помню. И ничего знать не хочу. У инспектора Хоста сюжетов целый шкаф, из этого можно сделать такую литературу! А что делают? Нет, вы только посмотрите, что делают! Взять хотя бы этот ужасный роман «Солнце под землей». На остывающей звезде возникает жизнь, для которой единственный источник тепла — эта самая полузвезда-полупланета. Тепло идет из подземелья, а над головой солнца нет, и потому все жители слепы. Но это им не мешает. Наоборот. Они достигают вершин разума, потому что они не глазеют по сторонам, а занимаются самосозерцанием.
— Значит, они и книг не читают? — поразился Дауккенс.
— В том-то и дело, что нет. У них там другие средства информации. И они достигли всеобщего благополучия, потому что никто не видит, что происходит вокруг. Но постепенно планета их остывает, это грозит им гибелью, и они решают воспользоваться внешним источником тепла — какой-нибудь неостывшей звезды или целого созвездия. Они давно научились управлять полетом своей планеты, и они направляют ее к самой горячей звезде.
— Мне это нравится, — сказал майор Стенли. — Я бы сам с ними полетел.
— Но они не учли одного; тепло звезды непременно сопровождается светом. А им нужно было только тепло, чтобы спокойно греться и по-прежнему не видеть, что происходит вокруг. И когда они прилетели к звезде, которая стала для них солнцем, они не выдержали света и жизнь на их планете оборвалась.
— И на этом роман кончается? — спросил писатель Дауккенс, критически оценивая сюжет.
— Автор говорит, что впоследствии на этой планете возникли новая жизнь и новая цивилизация, рожденные солнцем в потому не представляющие себе тепла без света. Как бы ни было жителям этой солнечной планеты тепло, они непременно тянутся к свету. Потому что у них есть глаза и они хотят видеть все, что происходит вокруг.
— А что это за планета? — поинтересовался майор. — Она случайно не имеет отношения к Альдебарану?
— Разве вы не догадались? Эта планета — Земля. Представляете? Земля! А между тем о Земле у нас совершенно другие сведения.
Да, чего только не придумают эти фантасты. Мало им настоящего, им подавай другие времена. А почему, скажите, не писать о настоящем? В прошлом были свои писатели, в будущем будут свои писатели, а вы живете в настоящем, вот в пишите о настоящем. Этой мысли придерживался издатель Рокгауз, и писатель Дауккенс был с ним совершенно согласен. Был с ним согласен и коммерсант Борвик, который ни из прошлого, ни из будущего не мог извлечь того, что извлекал из настоящего. И только майор Стенли имел несколько другой взгляд: ему очень пришлось по душе, что население оседлало свою планету и понеслось на ней, как на каком-нибудь броневике или танке штурмовать далекое Солнце, в миллион раз большее нашей Земли. В этом был настоящий боевой задор и презрение к превосходящим силам противника.
— Почитать бы эту книгу, — сказал майор Стенли. У него давно уже не было этого желания — почитать.
За соседним столиком расположились две дамы. Это было не страшно, потому что вряд ли пришельцы могли оказаться женщинами, но разговор двух дам моментально вытеснил все окружающие разговоры, и пациентам доктора Фрайда пришлось замолчать.
— Дорогая мисс Стерлинг, — говорила дама постарше (что она, однако, никак не подчеркивала), — за те несколько часов, что мы с вами знакомы, я не перестаю удивляться вашей смелости. Я бы ни за что не решилась переступить порог этого заведения.
— А я переступала, миссис Фунт, и не раз. Мы здесь бывали с вашим мужем.
— Ах, этот мистер Фунт! Хорошо еще, что он был здесь с вами, а не с кем-то чужим.
— Кто его знает. За этим мы сюда и пришли — поглядеть, не бывает ли он здесь без нашего ведома.
— Мисс Стерлинг, как вы можете! До такой степени не верить человеку!
Издатель Рокгауз хотел высказать своим собеседникам очередное соображение, но оно прозвучало так:
— Миссис Фунт, не будьте так наивны!
Голос мисс Стерлинг бесследно поглотил голос издателя.
Майор Стенли, чтобы не быть невольным свидетелем постороннего разговора, решил принять в нем участие. Он подошел к соседнему столику и, щелкнув каблуками, представился:
— Майор Стенли!
— Боже, как приятно! — воскликнула мисс Стерлинг. — Неужели майор? А выглядите вы прямо генералом.
— Кгм! — сказал майор Стенли. — В любом чине готов вам служить.
— Вы слышите, миссис Фунт? Нам будет служить майор! Садитесь с нами, майор! — мисс Стерлинг указала место рядом с собой и крикнула сидящим за соседним столиком: — Джентльмены, вам придется обойтись без майора.
Таким образом армия осталась без генерала, а генерал приобрел новую армию.
При всех этих военных перемещениях бар «Звездочка» продолжал жить своей лихорадочной мирной жизнью, и часы, которые били здесь только полночь, не были услышаны никем, кроме двух незаметных джентльменов, примостившихся в самом дальнем и темном углу. И тогда эти двое вышли на середину зала, коснулись пальцами пола, что, видимо, должно было означать приветствие, и провозгласили:
— Жители Фомальгаута приветствуют жителей Земли!
Официанта вынесли сразу. Буфетчик остался лежать за стойкой, обхватив руками вечернюю выручку.
Глава одиннадцатая Закон есть закон
Нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы явиться домой именно в тот момент, когда жена распивает вино с неизвестным джентльменом, но нужно быть Шерлоком Холмсом вдвойне, чтобы с первого взгляда понять, что здесь ровно ничего предосудительного не происходит. В этом смысле инспектор Хост оказался на высоте.
— Добрый вечер, — сказал он любезно, — извините, что заставил ждать.
— Это мистер Уатт, дорогой.
— Очень приятно. Постойте, постойте… Не тот ли вы Уатт?..
— Нет, милый, это вовсе не тот Уатт. Тот был Джеме, а этот Гарри.
— Я, естественно, имею в виду не Джемса, а именно Гарри. Не вам ли принадлежит роман «Последние люди вселенной»?
— От инспектора полиции не скроешься.
Да, оказывается, напечатав роман, от инспектора полиции не скроешься. Тем более, что это был такой роман…
Пульсирующая вселенная после многих миллиардов лет расширения сжимается, и жизнь на ней должна исчезнуть. Любая жизнь, во всех ее проявлениях. Спасения искать негде, потому что из вселенной не выпрыгнешь. Терпящие бедствие и мечущиеся по вселенной представители разума разных планет и галактик сбились в кучу на космическом островке, которому предстоит быть раздавленным вместе с ними. И вот, стремясь хоть что-то спасти от гибнущих цивилизаций, они отправляют послание в будущее. Ведь пройдут еще миллиарды лет, вселенная снова начнет расширяться, на ней возникнет жизнь, и придется начинать все сначала. Быть может, тем, будущим разумным существам пригодится опыт прошлого… Во второй части романа вселенная снова живет, но никто не может прочитать послания. Оно, закодированное в атомах всех известных в то время элементов, носится по вселенной, и новая жизнь дышит и живет им, не подозревая, что питается прежней жизнью. И чтобы прочитать послание, нужно остановить жизнь во вселенной.
— Мне понравилось, что послание погибшего разума все же дошло, хотя прочесть его оказалось невозможным, — сказал инспектор Хост.
— Новый разум не любит жить старым разумом.
— Но все-таки он им живет незаметно для себя. Это мне нравится. Прямые показания никогда так много не говорят, как различные оговорки, недомолвки, умолчания… А над чем вы сейчас работаете, извините за банальный вопрос?
— Сейчас я — человек из машины. Из той самой машины, которую вы заказывали.
— Из НФД-593?
— Да, инспектор. Меня посадили в нее, потому что она должна была мыслить.
— А разве без вас она мыслить не могла? Н.Ютон меня заверял…
— Н.Ютон порядочный человек, и он с удовольствием изобрел бы для вас механического сыщика, но он просто не может этого сделать.
— Почему?
— Потому что он не изобретатель.
— Вот тут уже вы ошибаетесь, мистер Уатт. Н.Ютон изобрел усилитель интеллекта, который, кстати, уже морально устарел, и теперь Н.Ютон изобретает новый, более совершенный.
— И даже уже изобрел. В романе «Планета сверхразума».
— В романе? Не может быть! Я не читал этого романа.
— У Н.Ютона нет напечатанных романов, у него пока только написанные.
— Не хотите же вы сказать, что все это сплошное шарлатанство?
— Не хочу сказать. Но скажу. Мне трудно подобрать другое название.
— И вы были соучастником этого мошенничества?
— Главным участником, инспектор. Я должен был сидеть в вашей машине, в атом механическом сыщике, чтобы сбивать вас с толку и запутывать следы.
— В первый раз вижу такого честного мошенника.
— Я не мошенник, инспектор, у меня совсем другая профессия. Моя профессия должна поднимать человека, делать его лучше, благородней, добрей, предупреждать о возможных опасностях и преступлениях…
— И чтобы меня предупредить, вы залезли в машину?
— Залез я не за этим, но, сидя в ней, я о многом задумался. Я ведь не машина, и я задумываюсь…
— Жаль, что вы своевременно не задумались о последствиях. Так для чего же вам нужно было пустить меня по ложному следу? Какое преступление вы задумали совершить?
— Мы не считали это преступлением, мы считали это благом.
— Естественно, для себя?
— Не только для себя. Мы считали это благом для общества.
— Вы мыслите весьма оригинально. Машина бы так мыслить не смогла.
— Не будем говорить о машинах, инспектор. Человек не машина, он должен не только мыслить, но и чувствовать, и мечтать. Сейчас еще нет по-настоящему мыслящих машин, но человек уже начинает мыслить, как машина. И я боюсь, что он превратится в мыслящую машину раньше, чем сумеет мыслящую машину создать. Машина, созданная для механической переработки информации, создает себе подобных людей, которые не мыслят, а только перерабатывают информацию и при этом слывут эрудитами. А ведь бактерия за единицу времени перерабатывает информации в сорок раз больше, чем просвещенный человеческий ум.
— Вернемся к преступлению, которое вы должны были совершить. Что это за преступление?
— Ограбление.
— Ну вот. После всех высоких рассуждений… Гарри Уатт, вы замечательно мыслите, но поступаете весьма примитивно. Что же вы хотели ограбить? Банк?
— Банк для нас не представляет ценности. Собственно, то, что мы собирались украсть, тоже не представляет для нас ценности.
— Как можно красть то, что не представляет ценности?
— Мы ведь не о себе думали. Не только о себе.
— Что же вы хотели ограбить?
— Издательство Рокгауза.
— В таком случае, разрешите вас поздравить: вы его уже ограбили.
— Этого я не знал. Я ведь четвертый день в вашей квартире.
Миссис Хост пришла в ужас:
— Четвертый день! Хорошо, что я ничего не знала, иначе я бы этого не пережила!
Какой муж сохранил бы спокойствие, узнав, что молодой и внешне симпатичный мужчина провел три ночи в его квартире с его женой? Но инспектор в данный момент вел расследование, и никакие посторонние соображения его не отвлекали.
— Значит, пока вы здесь сидели, ваши сообщники выполнили задуманное. Не понимаю только, зачем это нужно — воровать рукописи. Может, у вас шайка плагиаторов?
— Не плагиаторов, инспектор, — оскорбился Гарри Уатт. — Не плагиаторов, а писателей-фантастов.
Услышав о писателях-фантастах, инспектор смягчился.
— Умные вы ребята, а кодекса не знаете. И зачем вам чужие рукописи, если своих некуда девать?
— Мы рассуждали так: останется Рокгауз без рукописей в начнет издавать научно-фантастическую литературу. НФД так и расшифровывается: Научная Фантастика в Действии.
— А я думал — Новейший Феноменальный Детектив… Но Научная Фантастика в Действии — это даже лучше.
— Усилитель Интеллекта, — сказал Гарри Уатт. — Это и есть тот самый Усилитель Интеллекта, о котором говорил вам Н.Ютон. Потому что литература, которая заставляет задуматься, в сущности, усиливает интеллект.
— А почему он говорил, что его украли?
— У него действительно украли рукопись. Но совершенно случайно. Обчистили квартиру, вывезли все вещи и ценности, а между ними оказалась и рукопись, которая ворам совсем не нужна.
— Но он ничего не говорил о том, что у него обчистили квартиру.
— Потому что для него главное — рукопись. Если б она стала книгой, сотни тысяч читателей усилили бы свой интеллект, а так они все останутся такими, как были. Когда человечество теряет фантазии, это пагубно на нем сказывается.
— Это точно. Без фантазии ни одного преступления не раскроешь. Правда, в вашем случае фантазия меня подвела.
— Еще бы не подвела, — вставила миссис Хост. — На одного фантаста-любителя — столько фантастов-профессионалов.
— Вот и прекрасно! — сделал неожиданный вывод инспектор Хост. — Они ведь, вместо никому не нужных рукописей, хотели дать Рокгаузу настоящую литературу.
— Настоящую, самую настоящую! — заверил его Гарри Уатт. — Чтобы все услышали то, что слышал Хью Брок.
— Хью Брок? Это тоже фантаст?
— Это герой повести «Спасите Альтаира!»
— И что же он услышал? Давайте и мы послушаем.
— Во сне он услышал крик: «Альтаир угасает! Я, Юна, обращаюсь ко всем, кто может ему помочь!»
Это началось с появлением последнего метеорита. Хью Брок собирал метеориты, у него составилась солидная коллекция, но до сих пор все было спокойно. Метеориты легко приживались на Земле, умножая коллекцию Брока.
Но вот этот последний не давал ему спать по ночам. Какой-то Альтаир угасал на руках у своей возлюбленной, и она посылала в пространство метеорит за метеоритом, в каждом из которых — крик о помощи. Но никто не откликался — все метеориты затерялись в пространстве, а те, что не затерялись, прижились на разных планетах, в том числе и на Земле, и уже забыли, зачем были посланы.
А Юна все взывала: «Спасите Альтаира, он должен жить, иначе рухнет вселенная! Ничего не останется, кроме черноты и пустоты! И что будет тогда с моей жизнью, с той жизнью, которая во мне зарождается?»
В ней зарождалась жизнь, а возлюбленный ее угасал, и, конечно, ей казалось, что от этого рухнет вселенная. Она кричала о помощи, посылая во вселенную крик за криком, а Хью Брок собирал эти крики, умножая свою коллекцию…
«Спасите Альтаира! Ему осталось жить считанные миллиарды лет!»
Не так плохо, подумал Брок. Ну и живут же там, в космосе, — не то, что мы на Земле.
Он пошел к своему соседу, который собирал не метеориты, а энциклопедии, и прочитал, что Альтаир — это звезда. Вероятно, Юна, его возлюбленная, это его планета, вроде Земли. На ней как раз должна возникнуть жизнь, а он, солнце ее, светило ее, он, Альтаир, давший ей эту жизнь, — угасает…
«Спасите Альтаира!» — звучал голос, похожий на голоса женщин Земли. А Хью Брок собирал коллекцию. Крик за криком, крик за криком…
Мисс Хост плакала. Она плакала так, как никогда не плакала над своей детективной литературой, хотя знала, что это фантазия, всего лишь фантазия.
— Ну, что ж, — сказал инспектор, — будем спасать Альтаира. Жаль, что меня раньше не было с вами, потому что — заявляю вам как инспектор полиции: правда на вашей стороне. Правда на стороне фантазии.
— Вы считаете, что я должен вернуться в машину?
— Сейчас это уже ни к чему, вторично со следа меня не собьете. Инспектор показал взятый у корректора Кректа пригласительный билет. — Вот, поглядите: пришельцы из Южной Рыбы устраивают встречу с землянами. Интересная выдумка. Ваша работа?
Гарри внимательно разглядывал билет.
— Я об этом ничего не знаю… Не думаю, чтобы это наши подстроили. Возможно, это действительно пришельцы.
— Ладно, хватит. Больше вы меня не одурачите. Хотя я и люблю, чтоб меня дурачили: такой уж я фантазер.
Инспектору хотелось верить в пришельцев. В конце концов, почему бы им к нам не прилететь? Ведь должна же когда-то осуществиться связь между цивилизациями. Даже в научной книге «Перспективы на прошлое» сказано, что пришельцы на Землю уже прилетали. Если не в прошлом прилетали, то в будущем.
И разве они сами не звонили ему? Все в порядке, самочувствие отличное. Конечно, могли звонить не они, могла звонить эта банда писателей, но могли звонить и они, во всяком случае, этого бы хотелось.
Вот разозлится Рокгауз, когда узнает, что пришельцы все-таки прилетели. Это будет для него удар. Он терпеть не может ничего сверхъестественного (всего, что сверх его убогого естества), а тут вдруг — пришельцы. Южнорыбцы. И каждый с рукописью, которую попробуй не напечатать — читатели тебе этого не простят.
— Вы правы, — сказал инспектор Хост, — по-видимому, это пришельцы. Пусть я буду еще раз одурачен, но не стану окончательным дураком.
— Именно это мне в вас и нравится, инспектор, — сказал Гарри Уатт. — И всем нам нравится. Поверьте, мы бы ни за что не стали вас дурачить, если б не верили, что вы настоящий, понимающий человек. Таков закон нашего жанра: дурачить только людей понимающих.
— Закон есть закон, — согласился инспектор Хост.
Глава двенадцатая М=В/П
Когда корректор Крект пришел в ночной бар «Звездочка», встреча с пришельцами была в разгаре. Гости сидели за столом, но не так, как сидят в барах, а так, как сидят на собраниях: графин с водой да ваза цветов — вот и вся скромная сервировка.
— Нам тут задали вопрос, — говорил один из гостей, видимо, глава экспедиции, — откуда мы знаем ваш язык и почему внешне ничем от вас не отличаемся. Должен признаться, что языка вашего мы не знаем, а внешне нисколько на вас не похожи. Вот — я вам покажу свою фотографию. Южнорыбец достал из кармана фотографию, на которой ничего, не было видно, кроме бледного бесформенного пятна. — Это я. Может быть, не так красив, как мне хотелось бы быть в присутствии очаровательных землянок, но прошу учесть, что я здесь в газообразном состоянии. У нас это естественно, у нас вся жизнь в газообразном состоянии и улетучивается, — он вздохнул, глазом не успеешь моргнуть. Хотя, конечно, моргать у нас нечем.
Это было невероятно, и слушатели ни за что бы не поверили, что человек может жить в газообразном состоянии, но фотография многих убедила. Глава экспедиции продолжал:
— Теперешняя наша внешность и язык, при помощи которого мы с вами общаемся, — все это не наше, так сказать, не наследственное, а приобретенное, благодаря условиям среды… Вам и самим приходилось убеждаться, что среда способна буквально преобразить человека…
— Но не до такой же степени! — крикнули из зала.
— Правильно, не до такой. Потому что все здешние преображения происходят в пределах четырех измерений: длины, ширины — я не ошибаюсь? высоты и времени. Трех пространственных и одного временного. Это очень бедно, должен вас огорчить. Есть, к примеру, пятое измерение: безмерное пространство. То есть, пространство, не имеющее измерений. Атомы — это звездные миры в пятом измерении. В этом состоянии они лишаются своих космических расстояний и выглядят, как мельчайшие атомы. На этом основаны многие путешествия по вселенной, направленные не только в космос, но и в мир атомов. Таким образом, вселенная оказывается в два раза больше, чем вы ее себе представляете. Она равна не одной, а двум бесконечностям.
— Но ведь это одно и то же! — возразил кто-то из землян.
— Две бесконечности равны одной бесконечности? То есть Х=2Х=ЗХ и так далее, если значение Х равно бесконечности либо нулю? Эта математика нам знакома, но она больше нас не устраивает. Одна бесконечность для нас не предел, мы идем дальше…
В этом месте кто-то зааплодировал: земляне умеют отдавать должное тем, кто не хочет останавливаться на достигнутом.
— А шестое измерение — это сфокусированное время, то есть соединение в одной плоскости всех будущих и прошедших времен.
— А как же старость? — обеспокоенно спросил старческий голос.
— Старости там просто нет. Время растет лишь в пространственном отношении, примерно так, как у вас делятся простейшие организмы. И будущее живет рядом с прошлым, и на вид даже не скажешь, кому из них больше лет. Однако я отвлекся. Я отвечаю на поставленный мне вопрос: мы похожи на вас, потому что находимся в ваших измерениях. Если б вы попали в наши измерения, вы бы стали похожими на нас и заговорили языком наших измерений. Может быть, среди вас и найдутся охотники. Я предоставляю слово моему коллеге, который расскажет о преимуществах жизни в газообразном состоянии.
«Этого нам еще не хватало!» — подумал майор Стенли и порадовался, что остался майором: газообразный генерал — это хуже простого солдата, даже не видно, кому отдавать честь.
— Никогда, — сказал второй южнорыбец, — никогда организмы, возникшие из материи в твердом и жидком состоянии, не достигнут того единства, взаимопонимания и, я бы даже сказал, взаимопроникновения, какого достигаем мы, газообразные существа. Мне даже трудно отделить мою семью от семьи предыдущего оратора, а также от семей наших соседей. Когда у меня выпал в осадок родной брат, меня буквально разобрали по молекулам и каждую молекулу в отдельности утешали.
Миссис Фунт даже всплакнула, до того ее растрогала эта газообразная доброта, и сказала, что лично она ничего не имела бы против того, чтоб ее разобрали по молекулам. Мисс Стерлинг сказала, что она взаимопроникновение понимает иначе, что у нас только дай себя разобрать, после косточек не соберешь, не только молекул.
Опять слово взял глава экспедиции:
— Мы, друзья, немало знаем о вас. А много ли знаете вы о нас? Вон там, за последним столиком, сидит издатель Рокгауз, уважаемый человек, широко известный в нашем созвездии. Уважаемый Рокгауз, подойдите, пожалуйста, сюда.
Рокгауз не хотел подходить, упирался, но его земляки все же доставили его к центральному столику.
— Уважаемый Рокгауз, расскажите, как вы информируете землян о внеземных цивилизациях.
— Как информирую… — проворчал Рокгауз. — Никак не информирую.
— Может быть, у вас не хватает информации? Вам ничего не пишут о жизни на других планетах?
— Еще сколько пишут! — послышались голоса. — Только он не печатает. Принципиально не хочет печатать!
— Ой как нехорошо! — покачал головой представитель иной цивилизации. Получается, что вы отмежевываетесь от вселенной. Вам неизвестна судьба планет, которые отмежевались от вселенной? Это очень печальная судьба, я вам расскажу при случае.
— У меня вся эта фантастика во где сидит, — хмуро сказал издатель Рокгауз.
— Фантастика? — раздался спокойный голос от дверей.
— Боже мой! — всплеснула руками миссис Фунт. — Мисс Стерлинг, посмотрите туда!
У дверей стоял инспектор Хост рядом с пропавшим мистером Фунтом.
— Хорошо, что он с инспектором, а но с кем-то другим, — шепнула своей приятельнице мисс Стерлинг.
— Я была уверена, что инспектор его найдет, — шепнула в ответ миссис Фунт. — Но почему он его привел сюда, откуда узнал, что мы здесь? Вот что значит — чутье инспектора!
— Миссис Фунт, вы посидите, а я сбегаю за ним. Мне это не составит труда, я все-таки моложе.
— Если вы думаете, что меня уже ноги не носят, то вы ошибаетесь, — с достоинством ответила миссис Фунт. — У меня хватит сил дойти до собственного мужа.
— Миссис Фунт, вы его спугнете?
Майор Стенли пришел им на выручку:
— Я буду рад оказать дамам услугу и пригласить заинтересовавшего их джентльмена к столу.
— О, пожалуйста, майор! — воскликнула миссис Стерлинг. — Вы так меня обяжете! Я найду способ вас отблагодарить!
— Вы ему только скажите, что я здесь. Больше ничего, только что я здесь, — напутствовала миссис Фунт галантного майора.
— Разве вы здесь одна? — возразила миссис Стерлинг. — Майор, ведь вы же знаете, как сказать, не правда ли? О, я найду способ вас отблагодарить?
Майор Стенли направился к мистеру Фунту.
— Мистер Фунт, — сказал майор Стенли, — будьте любезны подойти вон к тому столику. Вас ожидают две дамы.
— Мистер Фунт? — удивился инспектор.
— Да, инспектор, моя фамилия Фунт. А Гарри Уатт — это псевдоним. Литературный.
— Ну, знаете! Я его ищу, с ног сбиваюсь, а он — вот он где! Под псевдонимом. И как это вас угораздило сбежать сразу от двух женщин? Впрочем, на это вы ответите им. Главное, что вы нашлись, с чем вас и поздравляю!
Пока мистер Фунт шел к столику, обе женщины ему уже все простили и с восторгом приняли его в свои объятия.
— Гарри, мы сбились с ног!
— Мы обе сбились с ног!
— Не слишком ли много ног? — подал реплику Дауккенс в своей хорошо известной читателям манере.
— Прости меня, дорогая, — сказал мистер Фунт в промежуток между двумя женщинами. — Я сожалею, что заставил тебя ждать, но рад, что тебе не пришлось ждать в одиночестве.
Глава экспедиции все еще не отпускал Рокгауза.
— Мы сейчас отправляемся в иные миры. Что там от вас передать? Что вы категорически отказываетесь давать о нас информацию?
Рокгауз медлил с ответом. И тут ему передали записку, развернув которую, он прочитал: «Соглашайтесь, мистер Рокгауз! Иначе нам нечего будет издавать: все наши рукописи украдены. Убитый горем, но живущий надеждой на лучшее корректор Крект».
Издатель покачнулся и попросил разрешения сесть. И так, сидя, он выдавил из себя:
— Я согласен.
— Ну вот и отлично. Можно считать, что межпланетный контакт установлен, и мы можем улетучиваться… То есть, улетать, одновременно переходя в газообразное состояние. Но сначала позвольте представить тех, кто будет давать о нас информацию. Самую правдивую информацию и в то же время самую фантастическую, потому что одно подразумевает другое. Итак, я приглашаю сюда наших представителей. Человек по имени Гральд Криссби!
Гральд Криссби подошел к столу и поклонился издателю, как знакомому.
— Альф Ипсилон!
В этом человеке коммерсант Борвик без труда узнал человека с планеты Земля.
— Н.Ютон!
Гениальный изобретатель усилителя интеллекта скромно встал третьим, как ничем не выдающийся, простой человек.
— Гарри Уатт!
Здесь возникло препятствие в виде двух женщин, которые не пускали мистера Фунта, решив, что он опять собирается улизнуть. Отчаянно пошептавшись, он все же вырвался и занял место рядом с Н.Ютоном.
— Я надеюсь, уважаемый Рокгауз, — сказал представитель внеземной цивилизации, — что информацию этих наших доверенных лиц вы будете печатать без задержек, в первую очередь. За этим проследит инспектор Хост, которого мы назначаем нашим главным доверенным лицом. Инспектор, пожалуйста, подойдите сюда. Пятое место — ваше.
Инспектор смутился: ему в жизни не приходилось видеть таких нахальных мошенников, но их оправдывала благородная цель.
— Инспектор, — сказал глава экспедиции, — нам известно, что вы уделяете много внимания жизни иных миров, хотя на Земле у вас тоже хватает работы. Мы говорили здесь о шести измерениях, но инспектору Хосту знакомо седьмое измерение, и он находит время, чтобы хоть изредка в нем находиться.
— Мне кажется, вы ошибаетесь…
— Инспектор, мы не ошибаемся никогда. Там, где живем мы, ошибок просто не существует в природе. Уважаемый Рокгауз, вы любите мечтать?
— У меня для этого нет времени.
— Вот видите: вы все измеряете временем, четвертым измерением, нисколько не заботясь о возможных других. А ведь мечта — тоже измерение. Седьмое измерение.
— Попробуйте измерить это измерение! — буркнул издатель.
— Это сделать несложно. По формуле: М=В/П. То есть; тем меньше мы имеем пространства и чем больше мы имеем времени, тем больше мы имеем мечты. Собственно, вы имеете, а не мы: у нас для этого слишком большое пространство и совершенно нет времени (он посмотрел на часы).
— Позарились на две бесконечности, а теперь жалуетесь: много пространства…
— О, я слышу голос нашего Дауккенса! — воскликнул руководитель экспедиции.
— Почему это вашего? — оскорбился писатель, хотя вообще-то он любил, когда читатели о нем говорили: «Наш Дауккенс!»
— Я отвечу. Впрочем, чтобы не быть голословным, я оглашу один документ. Называется он так: «Открытое письмо ко всем издателям и читателям». Итак, читаю: «Внеземные цивилизации ведут свои передачи на всех волнах, но засечь их нельзя, потому что они широко применяют телепатию, используя в пунктах приема людей, наиболее слабых, не способных мыслить самостоятельно, а привыкших жить по чужой указке. Так они внушили слепому, безвольному старику свою «Илиаду», а вслед за ней и «Одиссею» произведения, даже по своим размерам не соответствующие скромным масштабам Земли, а рассчитанные на более крупную цивилизацию. Так они внушили совершенно безвестному в то время Копернику мысль о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Им-то со стороны это было видно, а как мог это видеть Коперник, который неотлучно жил на Земле? А Леонардо да Винчи? Используя болезненную слабость его психики, внеземные цивилизации наперебой внушали ему то портрет Моны Лизы, то проекты летательных аппаратов и гидравлических машин, то неизвестные на Земле, но известные каждому внеземному школьнику математические, физические и прочие банальности. А Галилей? А Шекспир? Чего только не навнушали им, пользуясь их психической слабостью и неспособностью самостоятельно мыслить. Все они, начиная с Гомера, были слепым орудием в руках внеземных цивилизаций».
Руководитель делегации перевел дух: письмо оказалось длинное.
— «Нам, — продолжал он, — людям с крепкой психикой, ничего такого не внушишь: ни «Фауста», ни «Божественной комедии». Потому что мы твердо стоим на своих ногах и в наши земные головы приходят только наши, земные мысли. Так почему же вы, уважаемые издатели, охотней печатаете явно внушенные книги Бальзака и Достоевского, чем земные, самобытные книги авторов, которых я из скромности не хочу называть? Почему вы, уважаемые читатели, охотней читаете внушенные книги Бальзака и Достоевского, чем земные, самобытные книги авторов, имена которых назвать мне опять же не позволяет скромность?» Дальше следует подпись: писатель Дауккенс.
— Неужели Дауккенс? — ахнул Рокгауз. — Мы же его печатаем. Дауккенс, мы же вас печатаем, неужели вам мало?
— Вы печатаете, а они не читают, — вздохнул Дауккенс.
— И из-за этого вы накатали телегу на всю земную цивилизацию?
Дауккенс промолчал.
— Теперь вы видите, — продолжал руководитель делегации, — что Дауккенс — наш человек. Каждый земной писатель — это наш человек, поскольку он несет в себе космос. — Он почему-то подмигнул инспектору: — Верно, инспектор?
— Почему он все время говорит про инспектора? — ревниво спросила миссис Фунт. — Вызвал нашего Гарри, а говорит про инспектора.
— Наверно, потому, что инспектор нашел нашего Гарри, — успокоила ее мисс Стерлинг. И улыбнулась — не инспектору, не Гарри, а неожиданно руководителю экспедиции. — Оставьте нам свое имя, — попросила она. — Вы ведь улетите, исчезнете, испаритесь, как это обычно бывает с мужчинами, пусть же на Земле останется ваше имя.
Руководитель экспедиции бросил на мисс Стерлинг космический взгляд, в глубине которого затаилось что-то очень знакомое и земное, и сказал, уже направляясь к выходу:
— Меня зовут Сель Ави.
— Но позвольте! — воспрянул духом Дауккенс, — ведь c'est la vie, если не ошибаюсь, означает: такова жизнь? Неужели и у вас, в вашей бесконечности, такова жизнь?
— Жизнь всюду такова, — сказал руководитель экспедиции.
Вслед за тем южнорыбцы послали землянам последний привет и улетучились по-земному — в дверь. Н.Ютон пожал руку инспектору Хосту, затем инспектору пожали руку Альф Ипсилон и человек по имени Гральд Криссби. Гарри Уатт (мистер Фунт) тоже пожал руку инспектору и пошел между столиками. И пока он шел, сердца двух женщин наполнялись волнующим, радостным удивлением.
Он шел к ним. Он возвращался.
Рассказы действующих лиц
Предисловие редактора
Нет сомнения, что действующие лица повести «Фантастика-буфф» могут претендовать на отдельное место в литературе. Что характерно для этих писателей?
Н.Ютон твердо верит, что наука способна на все, но это не только не пугает его, но, наоборот, наполняет бодростью в энтузиазмом. Научно-технический прогресс не вызывает у него ни тревоги, как у Альфа Ипсилона, ни холодного скептицизма, как у Селя Ави. Н.Ютон смотрит на мир широко открытыми глазами младенца, твердо верящего, что его устами глаголет истина. Несмотря на молодость автора (ему нет еще и сорока лет), его перу принадлежат объемистые романы, которые, впрочем, печатаются здесь в сокращения. Так, роман «Время» в своем расширенном варианте является своеобразной хроникой нескольких поколений. Родоначальник семейства, некий Стевиц, был настолько беден, что не имел даже собственных часов и вынужден был спрашивать время у первого встречного. Потомки его разбогатели и уже никого ни о чем не спрашивали, никого вообще не замечали вокруг. И время жестоко отомстило им за себя, время вообще мстит за себя, когда о нем долго не спрашивают.
Альф Ипсилон тоже романист (печатается в сокращении), романы его посвящены вечным и безграничным проблемам времени и пространства, но его произведения пронизывает тревога за них. В романе «Такси» автор размышляет о прошлом и будущем, а также об отношении настоящего к тому и другому. Особенно памятна его фраза (выпавшая в процессе редактирования): «Настоящее из прошлого строит будущее, и само превращается в прошлое, чтобы было из чего Строить будущее в будущем настоящем». Публикуемый вариант романа является результатом кропотливой редакторской работы по устранению всего вторичного и необязательного, благодаря чему роман легко и быстро читается, в чем с удовлетворением убедится читатель.
Что можно сказать о третьем авторе?
Сель Ави, самый старший из начинающих фантастов (хотя, если ему верить, ему нет еще и пятидесяти), уже ничем не вдохновляется и ни о чем не тревожится, как его более молодые коллеги. Сель Ави холоден. Ироничен. Немногословен. Он пишет не романы, а короткие рассказы, почти не требующие сокращения. Сель Ави не верит, что прогресс науки — это в широком смысле прогресс, он не станет летать на ушах и питает полное равнодушие к сахару (как это можно заметить в рассказе «Цирк»). Его не соблазняет карьера Брюна (смотри одноименный рассказ), хотя, как истинный писатель, он знает цену молчанию. И все же иногда его равнодушие — не к сахару, а ко всему остальному — вдруг всколыхнется судорожной тревогой: Мария осталась на Земле (смотри рассказ «Мария»). И тогда он срывается с места и летит к этой Земле, где люди любят, борются и страдают, где они умирают — пусть бессмысленно, это неважно, что смерть лишена смысла, важно, чтоб его не была лишена жизнь.
В рассказе «Органавты», к сожалению, еще не завершенном редактированием, неорганическая материя взывает к материи органической: «Органавты! — так она называет ее. — Органавты! Наша планета — самая безжизненная из всех планет! Оставляйте жизнь только на нашей планете!» Эта ирония Селя Ави может быть понята как тоска по настоящей органической жизни.
Что я еще могу сказать как редактор?
Все эпитеты — заменены. Все метафоры — заменены. Во всех возможных случаях изменены имена героев. Прямая речь заменена авторской. Авторская прямой.
Остается надеяться, что публикуемым произведениям предстоит долгая жизнь, в которой будет доредактировано то, что недоредактировано в настоящем издании.
Н.Ютон
Время
— Вы не скажете, который час? — спросил Стевиц.
Камень что-то буркнул в ответ.
Уже давно был преодолен барьер, отделявший неорганическую материю от органической, когда они обвиняли друг друга в отсутствии жизни. Каждый видит только свою жизнь, а чужой жизни не хочет замечать.
— Простите, я не расслышал, — вежливо переспросил Стевиц.
— Одну минуту! — камень снова ушел в себя. Он так глубоко уходил в себя, что на возвращение оттуда требовались тысячелетия.
Стевиц знал, что такое его минута, а потому не стал ждать. В том-то и состояла главная трудность общения органического и неорганического миров: один не хотел ждать, а другой не привык торопиться.
Правнук Стевица родился, женился и прожил долгую, счастливую жизнь. И правнук правнука родился, женился и прожил долгую, счастливую[2] жизнь.
А камень продолжал размышлять, чтобы сказать Стевицу точное время.
Усилитель интеллекта
За субботней чашкой чая профессор Лори сообщил, что он изобрел усилитель интеллекта. Это такой порошок, который смешивается с сахаром и принимается внутрь, вместе с чаем.
Гости посмеялись, но когда подали чай, никто не притронулся к сахару.
— Я пью без сахара, — сказал литератор Дауккенс. — В моем возрасте сладкого лучше избегать.
— Если позволите, я лучше с вареньем, — сказал доктор Фрайд.
— Как военный человек, я вообще не пью чай, — сказал майор Стенли и подмигнул с намеком на свое любимое питье.
— В таком случае будем пить коньяк, — гостеприимно предложил профессор Лори. — Он у меня тоже настоян на этом усилителе.
И тут оказалось, что компания подобралась непьющая. Доктор Фрайд вообще никогда не пил, литератор Дауккенс уже месяц как бросил, а майор Стенли, военный человек, бросил только вчера, и ему бы не хотелось начинать все сначала.
— Лучше выкурим по сигарете, — сказал литератор Дауккенс, и все поддержали это предложение.
— Вот и отлично, — сказал хозяин, — у меня как раз сигары пропитаны усилителем. Пара затяжек — и вы умнеете в тысячу раз.
— Послушайте, профессор, — вспылил Дауккенс, — вы что, принимаете нас за дураков? Вас не удовлетворяет наш умственный уровень?
— Мне кажется, поумнеть никогда не мешает…
— Может быть, штатскому человеку, но не военному, — отрубил майор Стенли. — Вы думаете, полковник Бромли потерпит, чтоб майор был умнее его? Меня в два счета уволят в отставку.
— А я останусь без читателей. Они просто перестанут меня понимать, вздохнул литератор Дауккенс.
— Вот именно, — поддержал его доктор Фрайд. — Если предположить, что человек умней обезьяны в тысячу раз, то когда я поумнею в тысячу раз, люди будут казаться мне обезьянами.
— А вы им будете казаться ненормальным, и они упрячут вас в вашу же клинику, — захохотал майор Стенли. Но при этом подумал, что неплохо бы попросить щепотку усилителя для сына, который вот уже четвертый год не может вылезти из первого класса. Правда, он и так считает себя умнее родителей, а если еще выпьет этой дряни…
— Боже мой, — покачал головой профессор Лори, — я всегда знал, что человека в жизни подстерегает немало опасностей, но мне не приходило в голову, что для него так опасно умнеть.
Контакты
«Наши органы чувств — это пять каналов, по которым внешний мир ведет свою трансляцию. И нам никогда не узнать, что передается по десятому или по сотому каналу».
Рэди захлопнул книжку, в которой вычитал эту безотрадную мысль, и, глядя на пустынную планету, постарался напрячь все органы чувств — и те, которые у него были, в те, которых у него не было. Это ему не удалось.
И все же он решил наладить связь со здешней цивилизацией. Это ничего, что ее не видно, — просто она не передается по каналу зрения. А не слышно ее потому, что она не передается по каналу слуха. Возможно, на этой планете бесчисленное множество цивилизаций, но они не могут общаться между собой, потому что каждая живет в своем диапазоне. Они существуют рядом, но между ними космический разрыв. Да, для того чтобы наладить контакт, недостаточно жить рядом. А когда нет контактов, кажется, что и жизни нет…
Кипящая жизнью планета притворялась безжизненной, но Рэди ей не верил. Теперь он понял: жизнь во вселенной на каждом шагу, и, обладая всего лишь пятью каналами, следует это учитывать. Жизнь во вселенной на каждом шагу. Поэтому нужно очень бережно шагать по вселенной.3 (Последние две фразы вписаны в процессе редактирования, чтобы ярче выразить мысль, которая у автора отсутствовала (прим. ред.).
Акварель для скрипки с оркестром
Общеизвестно, что краски издают звук, а звук расцвечен всеми красками спектра. И стало это известно из газет, в которых был напечатан отчет о процессе Грейли.
Установив прямую связь между звуком и цветом, Грейли стал переводить на полотно симфонии и сонаты великих композиторов и записывать ноты картин великих живописцев. Он прославился как живописец и композитор, будучи заурядным мошенником, перевозившим свою контрабанду из оптики в акустику и обратно. На следствии выяснилось, что его первый концерт для скрипки с оркестром был не чем иным, как «Моной Лизой» художника Леонардо, а его второй концерт для фортепиано с оркестром (преступник до того обнаглел, что уже не мог обходиться без оркестра) оказался «Девочкой на шаре» художника Пикассо, и все его многочисленные акварели оказались произведениями Баха, Моцарта и Чайковского.
Процесс Грейли стал вершиной его изобразительно-музыкальной деятельности, поскольку ни одна деятельность не вызывает такого интереса, как деятельность, преступившая закон. Ни один выставочный и концертный зал не видел такого скопления народа, как зал судебного заседания, вынесшего преступнику суровый, но справедливый приговор, на который не решится самая объективная критика.
Премии, которые Грейли получил за выдающиеся заслуги в области музыки, живописи, оптики и акустики, целиком ушли на уплату штрафа, к которому его приговорил суд. В газетах о том и о другом было сказано коротко: «Преступник получил по заслугам».
Карьера Брюна
Коллега Брюн внезапно замолчал. Он замолчал не в каком-то определенном разговоре, он вообще замолчал, и это было тем удивительней, что прежде коллега Брюн не молчал даже тогда, когда все взывали к его молчанию. И никто не знал, что он изобрел Великий Умолчатель.
Умолчатель был прост и не требовал никаких дополнительных источников питания, он работал на энергии, предназначенной для произнесения слов. Вместо того чтоб расходоваться на разговор, эта энергия направлялась на умолчание.
Вскоре коллега Брюн стал доцентом Брюном. Потом профессором Брюном. Он молча поднимался по научной лестнице, оставив далеко внизу всех говорящих.
И пусть коллега Грейли говорит, что молчание бесцветно, что только звуки могут выглядеть красочно. Пусть говорит, он так и останется коллегой Грейли. Не доцентом, не профессором, а просто коллегой.
— Слышишь, коллега Грейли? Вспомнишь мои слова!
Собственно, не слова, потому что вся энергия, идущая на слова, у профессора Брюна привычно перерабатывалась в молчание.
Альф Ипсилон
Бесси
Переход в газообразное состояние Дрейк перенес довольно легко, и оно показалось ему ничуть не хуже твердого и жидкого состояния. Каждая его молекула обрела простор и свободно воспарила, не скованная другими молекулами, и от этого всему Дрейку стало непривычно легко и даже чуть-чуть кружилась голова, но где именно находится голова, установить было невозможно.
Тот, кому хоть раз случалось переходить в газообразное состояние, знает это волнующее чувство вездесущести, которое поднимает тебя над миром и несет легкой дымкой над тревогами бренной земли — в одну бесконечную даль или в другую бесконечную даль, — весь мир для тебя бесконечная даль, потому что ничто в нем тебя больше не задевает…
Правда, и в этом есть своя оборотная сторона: Дрейку вдруг показалось, что он с кем-то смешивается, и он всполошился, опасаясь реакции замещения, которая заменит его неизвестно кем.
— Кто вы такой? — Дрейк постарался отодвинуться от незнакомого газа. Кто вам позволил соединяться со мной?
— Мне позволила любовь… Дрейк, это же я, твоя Бесси!
Он стал припоминать. С какой-то Бесси он встречался в твердом состоянии. Родители ее были против, но она сказала, что всюду пойдет за ним. И пошла. Из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное… Она всюду пошла за ним, хотя ее родители были против.
— Дрейк, теперь нас ничто не разделит! Настоящая любовь возможна лишь в газообразном состоянии!
Любовь любовью, но не следует терять голову (кстати, где она, голова?). Нужно постараться сохранить свое «я», хотя это и нелегко в газообразном состоянии.
— Бесси, постарайся держаться в рамках!
— Зачем?
— Черт возьми, чтобы нам окончательно не смещаться!
— Ты не хочешь со мной смешаться?
— Послушай, любовь, конечно, дело хорошее, но чтобы мы могли друг друга любить, нам надо знать в точности, где ты, а где я.
— Зачем?
У него даже сердце заболело, хотя он и не чувствовал, откуда именно идет эта боль. А может, сердце заболело не у него? Может, оно заболело у Бесси?
Теперь это невозможно было определить.
— Я не буду тебе мешать, вмешиваться в твою жизнь, смешиваться с тобой, раз ты этого не хочешь…
Бесси плакала, переходя в жидкое состояние, и Дрейк видел, что ей приносят облегчение слезы… Или, может, ее слезы приносили облегчение ему?
Дрейк чувствовал, что скоро он снова будет один. Бесси уходила от него в жидкое состояние, чтобы уйти еще дальше, в твердое состояние… Бесси уходила к родителям, навсегда отделяя себя от Дрейка…
Такси
Водитель таксомотора времени требовал плату в оба конца, ссылаясь на то, что в прошлом не сможет взять пассажиров.
— Там много пассажиров, — уверяла его Клэр, — я каждую субботу езжу к прапрапра… — разговор затягивался, и Клэр поспешила договорить:…бабушке.
— Платите за оба конца, — настаивал невозмутимый водитель.
— И что у вас за порядки? Из будущего в прошлое — плати за оба конца, из прошлого в будущее — плати за оба конца…
Старый водитель покачал головой:
— Ничего не поделаешь, приходится платить. И за прошлое платить, и за будущее…
Пенелопа
ОДИССЕЙ стремился к ПЕНЕЛОПЕ — Орбитальный Дистанционный Искусственный Спутник Ежедневной Информации держал курс туда, где в сверкающем оперении облаков то появлялась, то исчезала ПЕНЕЛОПА — Пока Еще Неопознанный Летающий Объект Постоянной Аккумуляции.
ПЕНЕЛОПУ окружали ЖЕНИХИ — Жесткокрепленные Еще Неопознанные Источники Характерных Импульсов, — и ОДИССЕЙ понимал, что вступить в контакт с ПЕНЕЛОПОЙ будет не так просто.
Была ВЕСНА — Время Естественной Световой Неистощимой Активности. В небе светило СОЛНЦЕ — Самостоятельная Оптимально Лучащаяся Незатухающая Центральная Единица, а внизу лежала ЗЕМЛЯ — Зона Единственно Мыслимых Локальных Явлений.
ОДИССЕЙ летел к ПЕНЕЛОПЕ сквозь плотное кольцо ЖЕНИХОВ и гадал: опознают они друг друга или не опознают? Так обидно жить рядом и навеки остаться неопознанными… А тут еще эти жесткокрепленные ЖЕНИХИ.
ОДИССЕЙ замедлил ХОД — Хронометрированное Орбитальное Движение, — чтобы послать на ЗЕМЛЮ очередную информацию: «Объект вижу. Пока не опознаю». С ЗЕМЛИ тут же поступил ответ: «Продолжайте опознавать. Следуйте прежним курсом.»
ЗЕМЛЯ замолчала. Сегодня она уже не выйдет на связь.
ОДИССЕЙ продолжал следовать прежним курсом.
И вдруг его волноулавливатели зафиксировали незнакомые позывные:
— ОДИССЕЙ, ты веришь в любовь?
Электрословарь ОДИССЕЯ заработал с лихорадочной скоростью, пытаясь отыскать позабытое слово.
— ЛЮБОВЬ?
— Да, любовь…
Ага, вот оно. Локальное, Юридически Безответственное Одностороннее Влечение… И в это он должен верить? Он, источник информации — не локальной, не безответственной и юридически совершенно неуязвимой!
— Эй, на ПЕНЕЛОПЕ! Как меня слышите? Иду на опознавание. Без всякой, подчеркиваю: без всякой ЛЮБВИ!
— Прощай, ОДИССЕЙ! Ты меня никогда не опознаешь!
ПЕНЕЛОПА удалялась неопознанной в сопровождении своих ЖЕНИХОВ. Жестококрепленных. Но источающих характерные импульсы. Так вот что это за импульсы!
ЛЮБОВЬ… Ну при тем здесь ЛЮБОВЬ?
— Эй, на ПЕНЕЛОПЕ! При чем здесь ЛЮБОВЬ?
Ответа не было. Навеки замолчали на ПЕНЕЛОПЕ.
4(Рассказ наглядно показывает, чего можно добиться простым сокращением — не только фраз, но даже отдельных сдох (прим. ред.))
Письмо в прошлое
Жена моя!.. Нет, не жена… Внучка моя или внучка моей внучки!.. Не знаю, кого застанет на земле это письмо. Вы не помните меня, и никто меня на земле не помнит, хотя расстались мы только вчера.
Я напомню о себе. Нас было трое: наша дочь и мы, ее родители. Но однажды наша дочь заболела, и врачи не знали, что у нее за болезнь. В то время много говорили о летающих кораблях, принадлежащих какой-то более высокой цивилизации. И я решил обратиться за помощью к этой цивилизации.
Мне это удалось: геометрия пространства — тема моей диссертации, и я вычислил наших братьев по разуму, как Леверье вычислил планету Нептун.
Они не выразили никаких эмоций при моем появлении, только один из них сказал: «Довольно любопытный способ решения». Говорили, как требует вежливость, на языке гостя.
«Чему у вас равно Q?» — спросил пожилой брат по разуму.
Я сказал.
«И вы уверены, что нигде не допустили ошибки?».
«Все абсолютно точно, хотя абсолютность — понятие относительное», сказал тот, которому понравился способ.
Я объяснил им, зачем к ним явился. Рассказал о нашей дочери и о том, что вся надежда на них.
«Непонятно», — сказал тот, которому понравился способ решения.
«Что ж тут непонятного? У меня больна дочь…» — «Ну и что же?» — «Она может умереть». — «Ну и что же?» — «Но ведь я отец, как я могу примириться со смертью дочери?».
«Непонятно, — сказал тот, которому понравился способ решения. — Все, что вы вычисляли, было понятно, а то, что вы говорите, невозможно понять. Разве то, что у вас умирает дочь, не естественно?»
«Но ведь вы можете ее спасти?»
«Вы имеете в виду вот это? — Он взял карандаш и набросал формулу выздоровления. — Можно решать и так. Особенно учитывая возраст вашей дочери. Но в данном случае это исключено, поскольку нарушит событийную последовательность. И кроме того, учтите несоответствие времен».
Он показал на календарь. Там было число 2096.
«Это по вашему летосчислению?» — «Нет, по вашему».
Жена моя!.. Нет, не жена… Внучка моя или внучка моей внучки! Я не могу к вам вернуться. Прошло столько лет… Меня там никто не помнит… Стоит ли нарушать событийную последовательность?
Одно только меня тревожит: выздоровела ли наша дочь? Пусть она уже все равно умерла, мне очень важно, чтобы она выздоровела тогда, в детстве. Чтобы она прожила свою жизнь, пусть мгновенную по неземному времени, но по земному — долгую, по земному — полную, жизнь, которую не заменит ничто никакие вечности, никакие времена и пространства!
Сель Ави
Внеземная цивилизация
На Альфе Пегаса богатый животный мир, но разумом там обладает только верблюжья колючка. А верблюдов там нет, они там не водятся. Может быть, это и является причиной такого бурного развития верблюжьей колючки.
Живут они там семействами, каждый куст — большая семья, причем не родственников, а единомышленников. Это их больше сближает. Все они объединены стремлением познать истину.
Вокруг громоздятся пески, среди которых не так-то легко найти истину, но это никого не смущает. И никто не помышляет о том, чтобы сменить эти пески на более благодатную почву.
Длинный Стебель, вероятно, глава одной из семей, сказал Свену:
— Истина тем хороша, что она не лежит на поверхности. Это первый признак, который отличает ее от лжи.
Он был прав, и все семейство его закивало. Только один Зеленый Стебелек смущенно сказал:
— Мне кажется, я уже нашел истину.
— Замолчи! — одернул его Длинный Стебель. — Гость может подумать, что ты глуп. Разуму свойственно искать истину, а находит ее только глупость.
5(так это бывает у них, во внеземной цивилизации (прим. ред.))
— Но я все-таки нашел, — упорствовал Зеленый Стебелек.
— Это он о Зеленой Веточке, — объяснил Свену Длинный Стебель. Приятная веточка, ничего не скажешь, но принимать ее за истину…
— Что же делать? — смутился Стебелек. — Когда я на нее смотрю, мне ничего другого искать не хочется.
— Пока не хочется. Но пройдут годы, и ты поймешь, что истина — это яркое солнце над головой, а еще пройдут годы — и тебе станет ясно, что истина — это мягкий, теплый песок, в который хочется поглубже зарыться. И все это будет ошибка, потому что истина только в поисках истины, и другой истины нет.
Вот они до чего додумались на своей планете. Потому что, когда нет никаких занятий, кроме размышлений о смысле жизни, непременно придешь к бессмыслице.
— Вы с Земли? — спросил Свена Тонкий Стебель. — Говорят, у вас на Земле есть верблюды? Понимаете, мы здесь все верблюжьи колючки, а верблюдов у нас нет. Это очень грустное обстоятельство.
— Очень, очень грустное обстоятельство, — закивали другие тонкие стебли.
— Но они вас съедят! — воскликнул Свен. — Ведь основное, чем питаются верблюды на Земле, это ваш брат верблюжья колючка.
— Этого нам еще не хватало! — сказал Длинный Стебель. — Нет, я положительно убежден, что глупость нас погубит, как она погубила все прежние цивилизации.
6(А вот это справедливо и для нашей цивилизации (прим. ред.))
У нас ведь не первая цивилизация, — пояснил он Свену. — Был когда-то мыслящий огонь, но он додумался до воды, и она его погубила. Потом была мыслящая вода, бурная и глубокая, но она додумалась до песка, и он ее поглотил. Теперь на этом песке выросли мы, и жили б себе разумно, стараясь ни до чего не додумываться… Так нет же, нам подавай верблюда!
— Может, вы нам уступите одного верблюда? — попросил Свена Тонкий Стебель.
— Да он же съест вас!
— И пусть! Раз уж мы верблюжьи колючки, нам нужен верблюд, иначе в этом нет никакого смысла.
Вот к чему приводят поиски смысла. Чистый разум, уничтожающий сам себя.
На какое-то мгновение Свен почувствовал себя верблюжьей колючкой. Без верблюда ему стало как-то нехорошо. И его потянуло на Землю, к верблюдам.
7(Конечно, не только к верблюдам (прим. ред.))
Встреча с космосом
— Вы мне не верите? Но я действительно только что оттуда. — Скайл протянул нам герметически закрытую стеклянную баночку. — Вот, взгляните: я наполнил ее космической пустотой.
Мы взглянули и ахнули: в баночке действительно было пусто.
Нищий
Автоматический нищий не отходил от окна.
— Подайте бедному, несчастному! — металлически канючил он, жалобно мигая желтыми и красными лампочками.
— Проходи, проходи! — прикрикнула на него миссис Мроуз.
— Помилосердствуйте!
— Вот я на тебя автособаку спущу!
Автонищий исчез, испугавшись автособаки. Миссис Мроуз слышала, как он канючил под соседскими окнами.
— Развели нищих…
Именно развели. В век всеобщего благосостояния, когда никто не нуждался ни в чьей помощи, специально были изобретены автонищие, чтобы сохранить в людях милосердие и доброту. Людям не хватает доброты, миссис Мроуз чувствовала, как ей не хватает доброты…
Миссис Мроуз вышла во двор и погладила автособаку.
Спрос и предложение
Очередь протянулась на несколько кварталов: в магазин выбросили таблетки красоты.
За соседними прилавками скучали продавцы: никак не удавалось сбыть лежалый товар — таблетки доброты, честности, благородства…
«Как это несправедливо! — подумал Черри (таблетки справедливости тоже не пользовались спросом). — И когда мы научимся видеть настоящие ценности, заботиться не о внешности, а о сути?»
Черри грустно покачал головой и стал в очередь.
Цирк
Большой африканский слон летал под куполом цирка, а Пирли посреди арены раскланивался. Понадобилось двадцать два года упорной, изнуряющей обоих работы, чтобы заставить слона летать на ушах.
Конечно, Пирли применял телепатию, но не так просто вложить в слоновью голову человеческую мысль. Да и кому охота, чтобы в его голову вкладывали чужие мысли? Естественно, слон сопротивлялся. Уши у него были большие, но недостаточно тренированные, чтобы поднять с земли многотонное тело, к тому же слон был ленив: он просто не хотел работать ушами.
Пирли показывал ему, как это делается. Собственными ушами он двигать не мог, приходилось приставлять кисти рук и махать ими, делая вид, что поднимаешься в воздух (для этого Пирли использовал лестницу-стремянку). Слон отворачивался. Ему было противно это зрелище, и он упорно не хотел «подниматься на крыло» (термин, заимствованный Пирли из орнитологии).
Да, хлеб дрессировщика — не сахар, а сахара, кстати, пришлось затратить порядочно, прежде чем был достигнут результат. Если бы самому Пирли скормили столько сахара, он бы, наверно, давно летал и на ушах, и на чем угодно…
Слон распростер уши и оставил их в неподвижности: он парил. Он парил под самым куполом, и Пирли не разрешал ему спускаться ниже, чтобы зрители не увидели, как дрожит его хобот и круглятся от страха глаза. Работа слона тоже была не сахар, поэтому сахар он получал отдельно, в виде компенсации.
— На посадку! — скомандовал Пирли.
Слон продолжал парить. Пришлось повторить ему команду несколько раз да еще ударить в большой барабан, прежде чем он, наклонив уши под нужным углом, пошел на снижение.
Цирк грохотал, Пирли кланялся, но слон не слышал аплодисментов. Научившись летать на ушах, он разучился слышать…
Эффект отсутствия
Семья встречалась только за обеденным столом, а остальное время проводила в разных созвездиях. Сын отправлялся в созвездие Стрельца, дочь в созвездие Тельца, а мать в созвездие отца, чтобы проследить, чем он там занимается. За их совместную жизнь отец сменил немало созвездий: когда-то его тянуло к Деве, потом Кассиопея, оттеснив Деву, взяла над ним власть. А под конец, охладев к той и к другой, отец пристрастился к Чаше…
Нет, они не летали в эти созвездия. Космический век кончился, себя не оправдав. Надоело жить со скоростью света, метаться между галактиками, тем более, что изобретение «эффекта присутствия» позволяло побывать в любой точке космоса, не покидая родную Лямбду. Нажатие кнопки — и ты на планете Блямбде, еще нажатие — и ты на планете Глямбде.
Сын рассказывал о битве в созвездии Стрельца, где он одержал убедительную победу, используя «эффект присутствия» там, где его противник присутствовал в самом буквальном смысле.
Дочь пасла коров. Там, в своем созвездии, она пасла коров, бегала босиком по траве и дышала настоящим, а не искусственным воздухом.
— А мы посидели… — сказал отец. — Хорошо посидели…
Ничего этого не было. Просто каждый уходил в свою комнату, ложился на электронный диван и, нажав кнопку, начинал жить — не своей, а той, другой жизнью. Во вселенной хватало жизни, успеть бы только каждой пожить!
Между тем родная планета Лямбда, стоя на вершине прогресса, постепенно сползала вниз: «эффект присутствия» в различных пространствах и временах был по существу эффектом отсутствия на планете Лямбде.
Направленный Блямбдой и Глямбдой радиощуп зафиксировал на Лямбде полное отсутствие жизни…
Мария
Два солнца — огромное красное и маленькое голубое — садились за горизонт планеты Марии, а на фоне их сидели два кузнечика, точнее, два неземных существа, напоминавших земных кузнечиков, и наслаждались закатом.
Они не знали, что сидят на планете Марии, это знал только Ловел Стерн, потому что он-то и назвал Марией планету, на которую прибыл с далекой Земли.
Мария осталась на Земле. Почему-то им стало тесно на Земле, и Мария осталась, а он улетел — и прилетел на планету, которую назвал Марией.
Два неземных кузнечика имели довольно независимый вид, — вероятно, потому, что каждый сидел на фоне своего солнца. Они смотрели в разные стороны и сохраняли между собой дистанцию, наподобие двух солнц.
А Мария осталась на Земле. Она тоже держалась независимо, но ей это было трудней, потому что у Земли только одно Солнце.
Кузнечик голубого солнца потер лапку о лапку, положил голову на одну из них и задумался. А кузнечик красного солнца закинул ногу за ногу, подчеркивая, что ничьи мысли, кроме своих, его не интересуют.
Наступила ночь, но и она не могла их соединить, потому что на небе взошли две луны, желтая и оранжевая. И эти луны были, как два воздушных шара, готовых лопнуть от своей независимости…
А Мария осталась на Земле и ничего не знала о планете Марии. И не знала она, что можно вот так просидеть всю жизнь, подперев голову кулачком и закинув ногу за ногу, — потому что независимость — это совсем не любовь, настоящая любовь — это зависимость. Иметь одну Землю на двоих, одно Солнце на двоих, только одно, все только одно на двоих…
Ловел Стерн покидал планету Марию. Он покидал эту Марию ради той, земной, как еще недавно покинул ту ради этой, двусолнечной и двулунной…
Два неземных кузнечика не заметили, как он улетел: каждый из них смотрел в свою отдельную, персональную сторону…

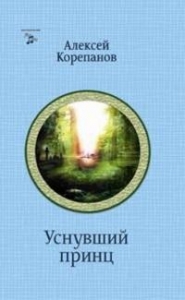
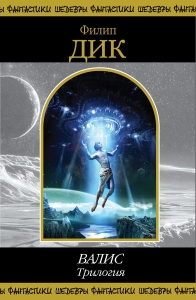



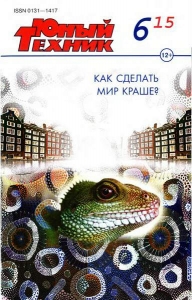

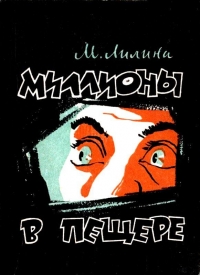
Комментарии к книге «Я угнал машину времени», Феликс Давидович Кривин
Всего 0 комментариев