Александр Щербаков Змий
1
За воротами, поближе к ограде, в плетеных креслах расположились трое военных. И, конечно, перед ними на столике рядом с переносным армейским телевизором красовалась неуклюжая самоохлаждающаяся посудина «Гранадос». Разомлевшие от жары, они даже не оглянулись на сенаторскую каравеллу. Понятное дело. У них было вполне достаточно времени, чтобы рассмотреть ее издали, а все, что им нужно было знать, доложил по радио патруль, встретивший сенатора километрах в трех отсюда, за холмом, где дорога ответвилась от шоссе.
Если бы сенатор обращал внимание на такие вещи, он непременно отметил бы, что открывшийся его взгляду дом перекочевал сюда из-за океана, где простоял до этого лет этак двести – двести пятьдесят. Но сенатор лишь машинально пересчитал выстроившиеся перед домом на лужайке полтора десятка каравелл, три вертолета и два грузовых фургона – один побольше, другой поменьше. Убедившись в том, что, как ни считай, он не окажется тринадцатым, сенатор облегченно вздохнул, отключил предохранительную сбрую, но перед тем как повернуть сиденье на выход, запер двигатели личным шифром.
У большого фургона, занятая разгрузкой каких-то ящиков, хлопотала солдатская команда с нарукавными знаками дивизии «Витязи мира». Распоряжался ею не какой-нибудь второй лейтенант, а могучий рослый майор с голосом, подобным трубе архангела. Что свидетельствовало о высочайшем ранге охраняемой военной тайны. Больше никого перед домом не было.
Огромные дубовые двери с цветными стеклами предупредительно распахнулись перед сенатором, и он оказался в небольшом зале, посреди которого начиналась широкая мраморная лестница. Она выглядела вполне по-королевски, хотя в действительности эти ступени некогда попирали всего лишь преуспевавшие дельцы второй половины девятнадцатого века.
У подножия лестницы за столиком сидели двое штатских, оба в огромных затемненных очках. Один из них как бы нехотя принял у сенатора пригласительный жетон и заложил его в опознаватель, а другой, не дожидаясь одобрительного звоночка, протянул плоскую пластиковую коробку и жестом указал на лестницу. Поднимаясь навстречу отзвукам голосов, сенатор открыл коробку. В ней оказалось несколько листов плотной голубоватой бумаги и маленькое черное веретенце.
Официальное приглашение на секретное совещание, полученное сенатской комиссией по внутренним делам, как обычно, было безымянным. Само собой разумелось, что по нему поедет Альбано. Но тот как раз накануне отправился в госпиталь – небольшое обследование, – и сенатор сам вызвался отправиться в эти отдаленные места. Прекрасная возможность дня на три-четыре исчезнуть из тупеющей от майского зноя столицы и даже – даже попытаться встретиться с Ширли. Ни о цели, ни о составе совещания в приглашении не было ни слова, но так как оно исходило от Бюро научных исследований, сенатор надеялся встретить здесь многих своих знакомых. И действительно, еще издали он узнал по голосу генерала Фобса.
В небольшом полутемном зале по голубому потолку плыла изумительно розовая Венус-Афродита со свитой пухлых купидонов при полном боевом снаряжении. Венус улыбалась и указывала перстом на правую сторону зала, где у стены, украшенной старинными гравюрами, стоял длинный раскладной армейский стол. На столе были расставлены приборы и разложены пачки такой же голубоватой бумаги. Посреди зала стояло полукругом десятка полтора кресел. Всю противоположную стену занимал неумеренно большой аквариум, и перед ним, несколько в стороне от кучки людей, тоскливо взирающих на причудливое рыбье разнообразие, чуть ли не держа за пуговицу статного моложавого человека на голову выше его, седовласый краснолицый генерал Фобс громогласно разглагольствовал о секретах размножения какой-то особо редкостной рыбешки. Генерал был в штатском – своеобразная скромность среди всего этого военного лагеря.
Из незнакомых людей сенатор отметил сухонького старичка со скрюченными пальцами, имеющего очень ученый вид, и нескольких молодых людей, чей облик соответствовал стандартным представлениям о динамичности, деловитости и преуспеянии. Тем не менее они стеснительно переминались в стороне, где было расставлено еще кресел десять, но попроще. Кое у кого в руках сенатор увидел такие же коробки, как и у него самого.
Весь вид генеральского собеседника говорил о том, что откровения по поводу – провались она! – рыбьей мелюзги его нимало не интересуют. Но генерала это ничуть не смущало, он был в прекрасном настроении.
Раздался жуткий грохот и лязг. Сенатор вздрогнул и обернулся. Оказалось, что это просто-напросто майорские «витязи» занялись сборкой второго складного стола.
Отвернувшись от солдат, сенатор увидел, что генерал Фобс, на полуслове прервав свой монолог о рыбках, направляется к нему, широко, словно для объятий, раскинув руки и сияя лучезарной улыбкой.
– Сенатор! Давненько с вами не виделись! Давненько! Как дела?
– Благодарю, прекрасно, – механически ответил сенатор, хотя тут же вспомнил, что дела и в самом деле хороши. Законопроект об упразднении железнодорожных линий на территории его штата и сам по себе был удачен и неожиданно легко проскочил через все рогатки. Так что переизбрание на следующий срок – а выборы не за горами – можно было считать обеспеченным.
– А как вы, генерал?
– Служим отечеству. Служим, служим.
С генералом они виделись всего неделю назад на заседании комиссии по внутренним делам, где тот уже два года представлял комитет начальников штабов.
Подхватив сенатора под руку и наморщив лоб, что должно было изображать крайнюю степень доверительности, генерал проворчал:
– Пойдемте, я вам покажу по секрету одну сногсшибательную вещь. Сногсшибательную.
Выведя сенатора из зала и бросив на ходу возникшему рядом трубноголосому майору: «Майор! Энергичней, энергичней», – генерал протащил своего пленника по лабиринту коридорчиков и остановился у странной двери, вделанной в стену так, словно потолок коридора был для нее полом, а пол потолком.
– Глядите! Шикарная штука! Шикарная! – захихикал он, с видимым усилием дотягиваясь до дверной ручки.
Пол в открывшейся комнате действительно являл собою потолок. Посреди его ровной белой пустыни, подобно цветку на тонком прямом стебле, вверх ногами торчала люстра. В свою очередь потолок комнаты изображал наборный паркетный пол, к которому наглухо была прикреплена опрокинутая мебель: диван со смятой постелью, горка с посудой, торшер и большая китайская ваза с букетом нарциссов. Окно и штора на нем тоже были вверх ногами.
Сенатор видел уже с десяток подобных комнат. Судя по набору мебели на потолке, все они были сделаны по одному проекту, и, стало быть, этим делом занималась одна фирма, вернее, какой-то предприимчивый малый, сбивающий деньгу на скуке богатых людей.
– Когда есть деньги, все можно перевернуть вверх ногами, – с завистливым вздохом произнес генерал заранее заготовленный афоризм. – Представляете! Переберешь лишку, уснешь, милые хозяева препровождают тебя сюда, часика через два продираешь очи – на потолке! Каково!
В домах, где сенатор видел подобные комнаты, все удовольствие от этого трюка, по-видимому, исчерпывалось тщательной подготовкой к нему, и ни один не в меру подгулявший гость не был напуган до заикания, очнувшись на потолке в обнимку с люстрой. Их хозяева были слишком хорошо воспитаны для подобных шуток. Весь этот дорогой аттракцион был лишь символом принадлежности к кругу избранных. Достаточно было втихомолку хвастать им перед избранными же посетителями, к числу которых сенатор давно привык относиться.
Это модное поветрие распространилось довольно широко, и вряд ли генерал впервые сталкивался с ним. Фобс ох как неглуп и прикидывается восторженным простачком именно поэтому. («Интересно, кто у него психолог-репетитор?») Стоило подумать, зачем ему понадобилось вести сюда уважаемого гостя. Решив на всякий случай подыграть генералу, сенатор выразил свое восхищение в столь неумеренных выражениях, что Фобс укоризненно покачал головой, прижал палец к носу, хохотнул и подтолкнул сенатора в бок.
– Ради бога, это теина. Чужой секрет. Но мы, уж понятное дело, обшарили весь дом. Мало ли что. И это зрелище, надо вам сказать, меня лично насторожило. Где комнаты не те, там и люди могут быть не те, а?
Все выяснилось, когда они вернулись в зал. Вид у всех был какой-то встрепанный, и сенатор отдал должное сугубой деликатности генерала, вдвоем с которым они, в силу своего положения, были избавлены от некоей процедуры, тем временем без особых церемоний проделанной со всеми остальными. Трубноголосый майор никого не обыскивал, нет. Он просто обдал каждого ультразвуковым душем из дезоляторной головки. И если у кого-нибудь где-нибудь и была утаена звукозаписывающая аппаратура, ее чувствительные датчики были теперь сокрушены безжалостным армейским кулачищем.
Против главной двери, у стены был поставлен еще один длинный стол. На нем майор расположил свои приборы, а перед ним усадил спиной к собравшимся пятерых операторов в шарообразных белых касках. Операторы каменно созерцали застывшие зеленые линии на экранах приборов. Это должно было исключить всякую возможность скрытой радиопередачи из зала заседания.
Вытянувшийся майор пятью краткими фразами доложил о готовности помещения. Господи, ну и голос! Не доклад, а массированная ядерная атака! Но вот и она миновала, и сенатор с облегчением опустился в кресло и стал думать о Ширли. Он почти видел, как она проходит по залу, плавно огибая кресла, как она трогает пальцем стекло аквариума, как она рассматривает разноцветных рыбешек, чуть склонив голову вперед и к левому плечу. И невозможность появления Ширли здесь заставила сенатора видеть эту картину как можно отчетливей, как можно явственней, причиняя ему неизъяснимую ноющую боль.
«Ширли! Боже мой, Ширли! Девочка моя!»
Собственно, у него не было никакого права и никаких оснований так обращаться к ней. Даже мысленно. Но…
Всю жизнь сенатору не везло с женщинами. Ни в школе, ни в колледже красивые девушки, которые ему нравились, не обращали на него никакого внимания. А между тем нельзя было сказать, чтобы они чурались общества молодых людей. Парни, в общем-то ничем не лучше его, легко знакомились с ними, а сенатору так и остался неизвестен секрет знакомства с нравящейся девушкой. Несколько раз полувшутку-полувсерьез он пытался дознаться у однокашников, как это делается, но полученных рецептов не в состоянии был применить в силу каких-то особенностей характера, которые теперь, может быть, и смог бы назвать, если бы не позабыл подробностей за давностью лет. Но в душе у него так и остался горький след, ощущение ущербности, ограбленности, из-за которых он, пожалуй, и стал профессиональным политиком.
Уже чуть ли не в тридцатилетнем возрасте он убедил себя, что по-настоящему любит, и отчаянным усилием заставил себя сражаться за свою избранницу. Преграды пали неожиданно легко, и сенатор скоропалительно женился. Но жена оказалась женщиной болезненной, рассеянной и нервной и не смогла стать для него соратником, опорой или хотя бы прибежищем покоя. Она любила его, но как-то замкнуто и отдаленно. Еще бы! Целые сезоны она проводила на курортах, куда он не мог за ней последовать, потом увлеклась строительством городского гуманитарного центра по индийскому образцу. У нее был свой круг друзей. Их заботы и хлопоты представлялись сенатору, к тому времени уже занимавшему солидный пост, странной смесью выспренней философии и провинциального меркантилизма. Всех их дел ему, как он считал, хватило бы дня на два, на три, а они посвящали им всю жизнь. Он быстро оставил попытки вмешаться. Пусть все течет, как течет. А два сына и дочь росли, и воспитанием их он тоже не мог заниматься, увлекаемый каждый раз то перспективами, то борьбой, в которой неожиданно обнаружил проницательность, хватку, умение ладить с сильным и побеждать равного. А любовь – видимо, ее и вправду выдумали стихотворцы и беллетристы, от прекраснодушия или корыстолюбия рекламирующие канонические идеалы, благоприобретенные в юности. Как вдруг появилась Ширли!
Она вошла в междугородный автобус, которым сенатору пришлось по случаю воспользоваться в прошлом году. У нее был тот ликующий вид, который делает молодых женщин прекрасными. Рядом с ним было свободное место, но в автобусе было еще несколько свободных мест. Она должна была пройти мимо. Девушки почему-то никогда не садились рядом с ним, он уже к этому привык. А Ширли села рядом, улыбнулась и заговорила. Он ощутил слабость и головокружение. Он узнал ее адрес и телефон и вот уже год жил тем, что когда-нибудь, может быть, завтра, позвонит и приедет. Вот позвонит и приедет, хотя она на тридцать лет моложе его…
Между тем в зале неизъяснимым образом произошла кристаллизация, все оказались рассаженными по рангам и должностям, а на председательском месте у столика воздвигся сухощавый безукоризненный джентльмен в квадратных очках с утолщенными дужками, в которых прячут слуховые аппараты. Конечно, после вступительных слов он передаст председательство ему, сенатору, как наивысшему по должности, но перед этим да позволено ему будет произвести церемонию общего представления.
– Господа! – («Оказывается, он директор Национального бюро научных исследований! Вот как! Видимо, он там недавно. Там же был этот, ну, как его! Такой вкрадчивый сангвиник».) – Господа! Еще раз напоминаю вам о весьма секретном характере нашего совещания и о запрете записи и передачи кому бы то ни было всего, что здесь будет сказано или показано. Я позволю себе не перечислять законоположений, которые будут применены к любому из нас, если по его вине произойдет утечка информации («Говорит, словно диктует официальное письмо!»). Многие из присутствующих, безусловно, знакомы Друг с другом, но позвольте мне все же взаимно представить вас. Тем более что с некоторыми я встречаюсь впервые и буду счастлив таким образом познакомиться. («Джентльмен всегда стремится внести живое содержание в мертвые формы. Ты, по крайней мере, пытаешься это сделать. Для начала неплохо!») Итак. Сенатор Тинноузер, член сенатской комиссии по внутренним делам.
Сенатор неторопливо поднял руку.
– Благодарю вас. Мистер Черриз, член палаты представителей, от комиссии по внутренним делам палаты представителей.
Этого сенатор знал, хотя и отдаленно.
– Мистер Ноу, член палаты представителей.
Сенатор искоса оглядел присутствующих. Откликнулся тот самый человек, которому генерал Фобс открывал таинства игрушечной ихтиологии. («Так вот кого они прислали!») Будучи человеком, искушенным в этих делах, сенатор знал, что никакого мистера Ноу, члена палаты представителей, не существует. Под этим призрачным именем на закрытых совещаниях присутствует тот или иной представитель тайного ведомства. Настолько тайного, что, отсидев в сенате уже три срока, сенатор не знал точного наименования и порядка подчинения этой конторы.
– Генерал Фобс от комитета начальников штабов. («Но этот Ноу, он, похоже, крупный ананас! Фобс разбирается в нашем маскараде получше меня, а уж он не снизошел бы до дружеских бесед с бесчиновным осведомителем!»)
– Генерал Деймз от министерства обороны.
– Профессор Мак-Лорис от университета Грэнд-Рэпидс.
Интуиция обманула сенатора. Профессором Мак-Лорисом оказался не сухонький старичок со скрюченными пальцами, а один из державшихся в стороне молодых людей.
– Мистер Говард Левицки, генеральный директор фирмы «Скотт пэйперс мэнюфэкчурин».
Им и оказался тот самый старичок. («Ну что ж, посмотрим, что вы за птица, мистер Левицки, тем более что в вашем лице мы приветствуем хозяина дома!»)
– Мистер Фамиредоу, магистр, старший научный консультант фирмы «Фьючер Вейк». («Боже! Что за фамилия!») Затянувшаяся процедура отвлекла сенатора от печальных размышлений, и, когда мистер Хьюсон, доктор, директор Национального бюро научных исследований, предложил ему занять председательское место, сенатор был полностью готов к этому.
Обменявшись местами с мистером Хьюсоном, сенатор прежде всего поблагодарил хозяина дома за исключительно любезный прием и предоставление всем присутствующим замечательной возможности посетить эти места в разгар здешнего весеннего сезона.
Мистер Левицки в ответ совершил несколько движений, свидетельствовавших о благосклонном приеме сенаторских слов. И о том, что застарелый паралич он преодолевает с помощью патентованной электронной системы «Эскулавт».
Затем сенатор предоставил слово мистеру Хьюсону как руководителю ведомства, созывающего настоящее совещание.
Мистер Хьюсон выпрямился во весь свой великолепный рост под розовой Венерой («О, если джентльменам угодно, вставать совершенно не обязательно, не правда ли!») и в тех же отполированных выражениях посвятил собравшихся в суть дела.
Десять лет тому назад Бюро научных исследований включило в список конкурсных работ, на которые оно готово заключить контракты, проблему замены писчей бумаги новым продуктом, сохраняющим ее положительные качества, но избавленным от недостатков, в первую очередь – от ограниченности сырьевых ресурсов. Конкурс выиграл университет Грэнд-Рэпидс. Тогда же работой заинтересовалась известная фирма «Скотт пэйперс мэнюфэкчурин». Она предоставила гарантии и согласилась на сорокапроцентную оплату расходов по основному контракту в обмен на преимущественное право выкупа патентов и лицензий, буде таковые окажутся.
За прошедшие годы в университете сложилась сильная исследовательская группа, руководимая присутствующим здесь профессором Мак-Лорисом. Она добилась весьма серьезных результатов. Подготовленный ею к выпуску новый материал П-120 – предполагаемое торговое название «пэйперол» – обладает рядом свойств, которые окажутся весьма неожиданными для присутствующих и, более того, имеют общегосударственное значение. О чем будет сказано в докладе, подготовленном бюро деловых прогнозов «Фьючер Вейк».
Настоящее совещание призвано положить начало ознакомлению наиболее заинтересованных организаций со свойствами и возможностями нового материала. И начнет обсуждение ряда технических, административных, социальных, правовых и, если так можно выразиться, конфиденциальных аспектов проблемы.
– Есть ли вопросы к мистеру Хьюсону?
Мистер Черриз, член палаты представителей, припоминает, что когда заключался контракт на эту работу, исследовательскую группу университета возглавлял профессор Мэйсмэчер, с которым он не имел чести встречаться лично, но докладная записка которого произвела тогда на него неизгладимое впечатление. Мистер Черриз интересуется, в какой мере результаты работы соответствуют первоначальным предначертаниям профессора Мэйсмэчера.
Мистер Хьюсон адресует вопрос профессору Мак-Лорису. Профессор Мак-Лорис пользуется случаем высказать свое глубочайшее уважение профессору Мэйсмэчеру, автору основополагающих идей, касающихся П-120. Но профессор Мэйсмэчер, ввиду преклонных лет, сложил с себя обязанности руководителя работ. («Съели, значит, старика молодчики вроде тебя!») Генерал Деймз угрюмо интересуется, прошел ли после этого Мэйсмэчер санирование памяти. («Ого! Мертвая хватка!») Нет, профессор Мэйсмэчер продолжает работу над пэйперолом в качестве ведущего научного консультанта фирмы «Скотт пэйперс», и, следовательно, не имеется юридических оснований предлагать ему санирование.
Мистер Левицки в подтверждение слов Мак-Лориса совершает несколько составных эскулавтических кивков:
– Да, да. Мистер Мэйсмэчер – о! – это великий ученый! Да. («Неужели старик умудрился к чему-то не подпустить эту банду? Иначе они бы с ним не поцеремонились. Ширли! О господи, Ширли! Как всегда и везде – осиное гнездо!»)
– Господа, не будем уклоняться от сути дела, хотя, судя по всему, профессор Мэйсмэчер встретил бы здесь достойный прием и меня несколько огорчает его отсутствие. («Проглоти это, клейменый горлохват! Сожрать ты его сожрал, но да воздается тебе за твою инфантильную жадность. Ловко тебя поддел Черриз!») Мак-Лорис говорит, что лично приглашал профессора Мэйсмэчера на совещание, но профессор не смог прибыть из-за плохого состояния здоровья. («Что-то тут не то. А впрочем, какое это имеет значение?»)
– Но в первую очередь нас интересует пэйперол. Что вы намерены сообщить нам о нем, профессор? («Пропади ж они пропадом все те формулы, которыми ты нас будешь пичкать уж не меньше часа!») Профессор Мак-Лорис предпочитает название П-120. Это не порядковый номер разработки, а число модификаций, в которых может выпускаться новый материал. Он позволит себе опустить ряд биохимических подробностей, которые ничего не скажут большинству слушателей. («Однако! Видно, у тебя полна рука козырей!») Он даст лишь общие представления о природе П-120, которые непосредственно связаны с возможностями его применения. П-120 – биокристаллическое соединение с так называемой активной структурой. Оно кристаллизуется в решетку плоского типа бесконечными параллельными цепями из шести сложных, но подобных радикалов в строгом порядке, что и дает возможность получить 120 видов структур, отличающихся порядком следования. Постоянство структуры в одном последовательно получаемом куске материала гарантируется самим методом получения, так называемой эргодической редупликацией. Самое сложное – это получить 120 зародышевых цепей. Но поскольку эта трудность уже преодолена, дальнейшее строгое разделение материала по типам структур обеспечивается автоматически. Внешне материал напоминает плотную бумагу голубоватого цвета, в чем могут убедиться все присутствующие, которым розданы кассеты с П-120. С целью удобства демонстрации свойств П-120 каждый из присутствующих получил свою модификацию, выбранную из возможных случайным образом.
Под воздействием электростатического раздражения отдельные радикалы П-120 несколько изменяют свою структуру. Это приводит к изменению цвета раздраженного участка. Достаточное раздражение вызывается при письме общепринятым способом с помощью ударных и трущих инструментов, изготовленных из вещества, трение которого о поверхность листа обеспечивает появление наибольших зарядов, позволяя четко воспроизвести нужный текст.
Происходящая реакция обратима. В частности, как заметили собравшиеся, розданные им инструменты для письма имеют тонкий и толстый концы. Тонким концом на листе воспроизводится текст, а если провести по листу толстым концом, написанный текст навсегда исчезнет.
Кое-кто из участников совещания, давно уже забавлявшихся писанием на розданных листах, немедленно принялся стирать написанное. В тот же миг бравая майорская команда, до сих пор неподвижная, как античный фриз, всколыхнулась, над ее столом вспыхнул оранжевым светом фонарь, и зал огласился резким гудком. Во всех трех дверях зала выросли плечистые «витязи мира» в касках с наушниками и выжидательно уставились на своего майора. Генерал Фобс приподнялся в кресле.
– Прошу прервать заседание. Зарегистрирована радиопередача из зала, – неожиданно придушенным голосом отчеканил майор и замер в ожидании приказа.
Профессор Мак-Лорис поднял руку.
– Господин генерал, прикажите вашим людям соблюдать спокойствие. Эта радиопередача не является злостным нарушением закона со стороны кого-либо из присутствующих. Это скорее всего досадное недоразумение. Мистер Джилл, я попрошу вас помочь майору разобраться с этим делом. Постарайтесь впредь исключить подобные инциденты. К общему сведению, операция гашения текста на листе П-120 связана с высокочастотным электромагнитным процессом, который легко улавливается чувствительным радиоприемным оборудованием. Я как раз собирался говорить об этом и хотел показать ряд опытов. Разрешите продолжать?
– Продолжайте, пожалуйста. («Эффектный ход, ничего не скажешь. Ты далеко пойдешь, если сам придумал это вместо того, чтобы злиться, глядя, как мы засыпаем».)
– Одну минуту.
Генерал Деймз совместно с генералом Фобсом просят разрешения покинуть зал на самое краткое время.
– Как вам будет угодно, господа, но, право, жаль. Профессор Мак-Лорис говорит об ошеломляющих вещах.
Генерал Деймз подошел к одному из операторов-белокасочников и хлопнул его по плечу. Оператор обернулся, и генерал жестом указал ему на дверь. Оператор послушно встал и вслед за генералами, мистером Джиллом и майором удалился из зала.
Проводив из взглядом, Мак-Лорис продолжал:
– Электромагнитная активность П-120 явилась для нас некоторой неожиданностью, но за последние два года мы полностью выяснили ее закономерности. Если лист П-120 подвергнуть электромагнитному облучению определенного типа, сообщив ему тем самым избыточную энергию, он быстро начинает излучать избыток, действуя наподобие оптического квантового генератора. Но излучение происходит не сразу от всей массы, а по цепочке от группы к группе, причем излучаемая частота определяется типом структуры, а величина излучаемого сигнала изменяется в зависимости от того, в каком состоянии ранее находилась излучающая группа: в спокойном или электростатически раздраженном в период написания текста. При малой величине возбуждающего сигнала текст в процессе излучения остается неповрежденным. Увеличение возбуждающего сигнала до пороговой величины приводит к гашению текста, то есть мы снова получаем чистый лист, на котором можно писать. При дальнейшем увеличении сигнала начинается самопроизвольное разрушение П-120, и материал вырождается в пластик, не пригодный для дальнейшего использования в качестве писчего.
Интенсивность излучения П-120 может быть, однако, ослаблена на несколько порядков путем легирования материала в процессе изготовления некоторыми металлами в весьма малых количествах. При этом практически не изменяется его внешний вид, неизменными остаются и полезные свойства. Именно такой, если так можно выразиться, «омертвленный» П-120 в отличие от «живого», способного к излучению, мы и предполагаем назвать пэйперолом и выпустить в массовую продажу.
На этом профессор Мак-Лорис просит разрешения прервать свое выступление с тем, чтобы ответить на вопросы и показать несколько опытов, демонстрирующих свойства П-120 и пэйперола.
– Может быть, мы пока отложим опыты? («Черт возьми, куда это подевались наши доблестные вооруженные силы?») Тем более что отлучившиеся будут крайне огорчены, пропустив, как я смело могу сказать, увлекательнейшую часть нашего совещания. («Что-то случилось, но что? Мак-Лорис явно выбит из колеи».) Давайте пока перейдем к вопросам. Вы не возражаете, профессор? Прекрасно. Мистер Фамиредоу? Пожалуйста, мистер Фамиредоу.
Мистер Фамиредоу сиял. Сияла его огромная лысина, сияли стекла его очков над сияющим курносым носиком, мягкий аспидный отблеск лучился от буйной растительности, под которой исчезала вся нижняя часть его лица и шея. И его неожиданно звонкий и чистый голос восторженно известил всех, что его владелец был счастлив детально проанализировать проблему эксплуатации материала «пи» в версиях «примо» и «секундо». Естественно, до сего момента представления мистера Фамиредоу о материале «пи» носили формальный и гипотетический характер, и в связи с этим…
И по неисповедимому закону мышления слово «формальный» заклубилось, зажужжало в голове сенатора, внезапно щелкнуло, рассыпалось искрами по уголкам его мозга, и он понял, что произошло.
Обмирая от ужаса, глядел он на лежащий перед ним голубоватый лист, в верхнем углу которого, аккуратно выписанное, красовалось слово «ШИРЛИ». Он тоскливо оглядел сидящих перед ним людей, так, словно очнулся от тяжелого сна на потолке и теперь, судорожно обнимая стебель люстры, смотрит вниз, в бездну, где уютно, как ни в чем не бывало, стоят милые привычные недосягаемые отныне вещи.
Мистер Ноу внимательно слушал затянувшийся вопрос мистера Фамиредоу, поставив локти на колени и положив подбородок на сомкнутые смуглые кулаки. Кассета с чистыми листами демонстративно лежала на полу у его ног. Чем были заняты остальные, сенатор не видел, он заставил себя отвести взгляд от мистера Ноу и снова увидел на листе слово «ШИРЛИ», которое нельзя было стереть. Ибо тут же придет в действие несложная ловушка трубноголосого майора.
Сенатор уже видел этот лист, разукрашенный штампами военной прокуратуры, сенатского трибунала и еще бог весть каких инстанций. Лист лежал в папке вместе с его, сенатора, объяснениями по поводу того, почему он написал это имя, и заключением экспертизы, в котором говорилось, что ничего предосудительного в его действиях не обнаружено. Но сотни глаз увидят имя Ширли, написанное им, и уж найдется кто-нибудь дотошный! Мала зацепочка, но и не от таких рушились куда более блестящие карьеры!
Выход открылся внезапно, как поворот коридора, и был так же прост. Потея от усилия скрыть поспешность, не слыша звонкого голоса мистера Фамиредоу, моля судьбу, чтобы генералы еще чуточку задержались, сенатор торопливо превращал имя Ширли в затейливую арабеску из кружочков, фестончиков, палочек и корявых завитушек. Вот так, вот так! Но взгляд его по-прежнему безошибочно выделял это имя из путаницы линий, и сенатор написал поверх него имя жены и тоже разукрасил его завитушками до нечитаемости, потом ниже крупно написал имена сыновей…
Двери распахнулись. В зал вошли генералы, сопровождаемые тем же оператором и мистером Джиллом, видимо, сотрудником Мак-Лориса. Вид у Джилла был ошарашенный, и сенатор понял, что был прав. С каким облегчением смотрел он на лист, на котором царило убогое кружевце заседаночки, – так, кажется, именуются художества важных лиц, скучающих во время долгих словопрений. Внутренне ликуя, сенатор положил кассету на свой председательский столик и, страдая от неунимающегося сердцебиения, поднял нарочито спокойный взгляд на вошедших.
Генерал Фобс как-то осел, съежился, уши у него были багровые. Генерал Деймз шествовал, как вестник судьбы. Его глаза и ноздри источали пламень, нижняя челюсть выпятилась. Обычно сутуловатый, он теперь выпрямился, и его четкий шаг отдавался под расписным потолком, как мерный ход мировых часов. И, зачарованный этой монументальной поступью, мистер Фамиредоу умолк на полуслове.
– Ваше превосходительство, – бряцающим голосом произнес генерал Деймз.
– Произошел в высшей степени прискорбный инцидент. Нарушены правила соблюдения секретности. Допущена передача из зала, где происходит закрытое совещание. Командование поставлено в известность. Запрошены инструкции. Дальнейшее военное обеспечение нашей работы возложено на меня. Как участник совещания и лояльный гражданин, я испытал бы глубокое удовлетворение, если бы обстоятельства инцидента были немедленно и надлежащим образом зафиксированы и расследованы. («Ах, генерал Фобс! Ну и дал ты маху! От Деймза теперь не отбиться. Мертвая хватка! И как это я сообразил отложить опыты! Чертов П-120! Ширли, как мне повезло! Я, кажется, выпутался из скверной истории».)
– Благодарю вас, генерал, и рассчитываю на вашу помощь. Мистер Хьюсон! Совещание созвано вами, поэтому позвольте мне обратиться к вам за советом. По-моему, нам следует временно прекратить работу и разобраться с этим делом. Как ваше мнение?
Сухопарый джентльмен выпрямился и тихо сказал:
– Да. По-видимому, вы правы. А вам, профессор Мак-Лорис, следовало бы предупредить присутствующих. Вы поставили многих из нас, в том числе меня самого, я не скрываю этого, в нелепое положение. («Поклюй его, поклюй! Это все еще цветочки!»)
– Господин председатель, господа! Я сожалею о происшедшем недосмотре, но повторяю, не преувеличивайте значения происходящего.
Генерал Деймз уподобил свою челюсть корабельному тарану и отчеканил:
– Оценивать события и определять меру ответственности будут те, кому положено это делать. («Внушительно! Пора кончать».)
– Генерал! Мы все вам признательны за быстрые и эффективные действия. Совещание временно прекращается. Сейчас четырнадцать часов двенадцать минут. А по вашим часам, генерал?
Генерал Деймз долго и сосредоточенно глядел на часы, словно высчитывал что-то. Потом молча кивнул.
– Мистер Фамиредоу, к сожалению, вы не получите сейчас ответа на ваш вопрос. Но я надеюсь, что как только мы…
– Что вы, что вы! – счастливо запротестовал мистер Фамиредоу. – Это блестящая акцентировка одного из тезисов моего экспозе. Достаточно экспонировать данный инцидент на стан гипотетического антагониста. («Антагонист! Стан! А докладик твой надо бы срочно прочесть!»)
– Господа! Прошу простить, но объясните же, что произошло!
– Мистер Гаттенберг, представитель «Юнайтед Полиграфик», если не ошибаюсь? Да? Мистер Гаттенберг, позвольте мне адресовать ваш вопрос генералу Деймзу. Конечно, в неофициальном порядке, генерал. Вы можете не отвечать, если сочтете необходимым.
Генерал Деймз решил ответить.
В тот момент, когда профессор Мак-Лорис объяснял присутствующим, как пользоваться инструментом для письма по листу П-120, кое-кто из них – кто именно, это установит следствие по модификации материала, – руководствуясь теми или иными побуждениями, которыми тоже займется следствие, уничтожил записи, сделанные на листах. Должны были быть розданы листы пэйперола, то есть омертвленного П-120. Но на руках у слушателей оказался живой П-120. Если и по небрежению, то по преступному. Живой П-120 воспроизвел уничтожаемые тексты в виде серий радиосигналов, обнаруженных аппаратурой, установленной в зале. Как значится в записке профессора Мак-Лориса, по этим сигналам можно воспроизвести уничтоженные тексты, не так ли, профессор?
– Так.
Таким образом, имеет место нарушение правил секретности и…
– Так что же, генерал, вы предполагаете, что среди нас находится кто-то, кто воспользовался этим моментом в предосудительных целях?
Предполагать – это не его дело. Его дело принять немедленные меры и доложить о случившемся. Собравшимся предлагается, не мешкая, сдать полученные ими кассеты с листами лицу, «а это уполномоченному, в том виде и со всеми теми записями, которые на листах наличествуют. Каждый получил десять листов и сдаст десять. Это не приказ. Упаси боже, он далек от мысли приказывать. Это наш долг перед властями. („Вот и захлопнулась мышеловка!“)
– Но неужели сигнал так силен, что его можно принять на значительном отдалении?
Какова бы ни была мощность сигнала, это дела не меняет.
– Абсолютно! Абсолютно! Сателлиты-радиоперехватчики!.. – мистер Фамиредоу по-прежнему был в восторге, ибо это тоже акцентировка одного из тезисов его экспозе.
– Позвольте, значит, если я правильно понял, то, например, со спутника можно запросить листы П-120, находящиеся в определенном радиусе, узнать, что на них написано, даже уничтожить чьи-то записи?
Профессор Мак-Лорис не столь компетентен в этой области, чтобы дать исчерпывающий ответ. Генерал же Деймз не собирается вдаваться в обсуждение технических проблем, поскольку совещание прервано не для этой цели.
«Наконец-то!» – сенатор с благодарностью подумал о дотошном мистере Гаттенберге. Так вот ради чего в этом райском уголке по любезному приглашению мистера Левицки зашевелился странный клубок университетских профессоров, государственных чиновников, «витязей мира» и тайных соглядатаев! Новая технология, новый бум – это раз, наскок на врага внешнего – это два, удавка для врага внутреннего – три, – и все из одной химической шкатулочки! Ай да Мак-Лорис, ай да счастливчик, ай да вытянул – на всех хватит. Но почему же тогда Деймз так настаивал на прекращении совещания? Ведь он все это знал и раньше. Вне сомнения. Дело тут не в блюстительстве параграфов и пунктов. За такие доблести генеральских звезд не дают и на секретные совещания с яйцеголовыми не посылают. С кем он связывался? Кто его поддержал? Вплоть до того, что отставил Фобса. Почему?
Один из белокасочников, все так же бдящих над своими приборами, поднял руку и неестественно громким голосом человека, который сам себя не слышит, крикнул:
– Сенатора Тинноузера просят пройти к телефону!
– Простите, господа. Генерал, как вы считаете, имеем ли мы свободу передвижения? Разумеется, в пределах дома.
Отлучки крайне нежелательны. Если уж возникнет необходимость, то выходящему будет дан сопровождающий. Отлучка будет зарегистрирована. Естественно, такой порядок будет соблюдаться до тех пор, пока соответствующие власти не отдадут соответствующие распоряжения.
– В таком случае выделите мне сопровождающего и зарегистрируйте мой выход. Если угодно, отправимся к телефону вместе. Я уверен, что это касается происшедшего.
Генерал Деймз отдает должное доброй воле сенатора Тинноузера. Но считает необходимым остаться в зале.
– Мистер Черриз, позвольте мне временно возложить мои обязанности на вас, как на следующего по старшинству.
Сопровождаемый очередным белокасочником и лично трубноголосым майором, сенатор спустился вниз по лестнице, где один из штатских в затемненных очках протянул ему телефонную трубку.
– Сенатор Тинноузер слушает.
– Господин сенатор, – раздался в трубке добрый старческий голос. – Господин сенатор, говорит федеральный прокурор округа Бартоломью. У меня включена запись. А у вас?
– Одну минуту. Запись включена?
Штатский кивнул.
– Включена.
– Господин сенатор, я слышал, там у вас неприятности?
– Да, мистер Бартоломью.
– Что-нибудь серьезное?
– Трудно сказать. Во всяком случае, формальные нарушения.
– Я должен буду послать к вам моих людей.
– Чем скорее, тем лучше.
– Прекрасно, – голос в трубке помолчал, потом продолжил: – Господин сенатор, вы понимаете, я в затруднительном положении. С одной стороны, я должен сделать кое-какие распоряжения, а с другой стороны, лучше бы, если… Как бы это сказать?.. Вы меня понимаете, сенатор? – и голос сделал нарочито уважительное ударение на последнем слове.
– Я вас понимаю. Все прекращено в четырнадцать двенадцать. Обстановка под контролем. Мы не расходимся.
– Спасибо, сенатор. Это то, что я надеялся услышать. Так мы прибудем минут через сорок.
– Мы вас ждем, мистер Бартоломью.
Передав трубку непроницаемому штатскому, сенатор поднялся по лестнице, вошел в зал, и Венера с потолка опять одарила его застывшей многообещающей улыбкой.
2
Прокурор Бартоломью, приятный человек с мудрым лицом пожилого учителя рисования, первым делом по прибытии устроил краткое совещание в курительной комнате. Решено было немедленно создать следственную комиссию. В нее вошли: сам прокурор, один из его помощников, сенатор, мистер Черриз, член палаты представителей, и генерал Деймз. Профессор Мак-Лорис и мистер Фамиредоу приглашались для постоянного участия в качестве технических консультантов.
По-видимому, фирма «Скотт пэйперс мэнюфэкчурин» возлагала особые надежды на столь плачевно прервавшиеся тайные беседы о пэйпероле, иначе сенатор затруднился бы объяснить себе безропотное согласие мистера Левицки на то, чтобы вся эта военно-ученая вакханалия так бесцеремонно разыгрывалась в его частных владениях, явно пренебрегая его собственной персоной. Впрочем, вполне возможно, что он всего-навсего чье-то подставное лицо, так же как и мистер Ноу. При одной мысли об этом сенатор вздрагивал от негодования. Впутаться в такой нечистоплотный спектакль да еще и в роли почетного председателя! Нет, этого нельзя было себе позволять, но теперь, когда двое помощников прокурора Бартоломью хлопочут в курительной комнате, проверяя, соединяя и настраивая изрядно послужившие блоки ЭАКа: правдомат, анализатор, сумматор и компаратор показаний, – все пути к отступлению отрезаны. Все ли? Да, похоже, что все, и за неимением лучшего придется ограничиться банальным поучением самому себе впредь быть осторожнее.
Настроение у сенатора окончательно испортилось, когда его снова вызвали к телефону и сообщили о скором прибытии военного прокурора полковника Да-Винчи. Полковник тут же был заочно включен в состав комиссии, и Бартоломью предложил дождаться его приезда, тем более что прокурорский ЭАК плохо перенес поездку и бессовестно капризничал, то не желая слушать, что ему говорят, то произнося вслух по двадцать раз подряд одну и ту же фразу.
Сенатора так и подмывало сказать по этому поводу какую-нибудь колкость, но он решил молчать и молчал до тех пор, пока Бартоломью со вздохом не посетовал на недостаток бюджетных средств:
– Но вы знаете, сенатор, чем упорней меня обязывают полагаться на всю эту технику, тем более я уповаю на человеческий здравый смысл. Должны же люди когда-нибудь понять, что кроме как на собственный ум в этом мире им рассчитывать не на что.
– Человеческий здравый смысл велит нам накормить три десятка людей, нежданно-негаданно угодивших под следствие, – резко ответил сенатор. – Я сижу и думаю, есть ли в этом доме хоть один человек, которому придет в голову позаботиться об этом.
Бартоломью кротко поклонился и отошел в сторону. Сенатор внутренне сжался. Его самого покоробило от собственной ничем не оправданной резкости по отношению к человеку, который уж ни сном ни духом не был причастен ко всему этому делу. Оправданием могло служить лишь то, что эта неуместно запальчивая тирада неким телепатическим образом возбудила тайные пружины дома. И выяснилось, что участников совещания давно ожидает так называемый скромный обед, томящийся в двух автофургонах, и что для воздания ему должного юридических препятствий не имеется.
С разрешения генерала Деймза к столу была допущена миссис Левицки, живая, обаятельная женщина лет на двадцать моложе своего электрифицированного супруга. Стоило ей войти, как мистер Левицки посуровел и, резкими движениями поворачивая шею, принялся окидывать присутствующих пронзительным петушиным взором, словно готовясь к жестокой битве с тем, кто покусится на излишнее внимание хозяйки дома.
Судя по героическим попыткам миссис Левицки расшевелить гостей, она каким-то десятым нюхом учуяла неблагополучие в делах супруга. Она так старалась, так явно, трогательно и наивно веровала, что после сытного обеда с ее участием все устроится само собой, что сенатору стало жаль ее. И он вступил с ней в беседу о столичных новостях, мало-помалу увлекся и проявил блестящие познания в области школ верховой езды. Эта тема, как оказалось, весьма занимала миссис Левицки. А поскольку разговор о верховой езде был одним из дюжины разговоров, включенных сенатором в его набор светских бесед и подготовленных незаменимым Гэбом на должном уровне, миссис Левицки осталась очарована собеседником и даже пообещала впоследствии показать ему одну очень интересную вещь! («Наверное, все ту же комнату вверх ногами».) Мистер Левицки после некоторого раздумья, по-видимому, решил воздержаться от каких-либо демонстративных контрманевров, обед завершался мирно, и сенатор с удивлением ощутил, как его самого и его товарищей по несчастью потихоньку охватывает жизнеутверждающее благодушие.
Этого благодушия был вовсе лишен полковник Да-Винчи, прибывший во время клубники под острым соусом. Неподвижно глядя прямо перед собой в круглые очки, он сухо представился следственной комиссии, молча выслушал пояснения прокурора Бартоломью, кивком согласился со всеми принятыми мерами и тихим жестким голосом выразил желание немедленно приступить к работе.
Помощники Бартоломью обливались потом, но ЭАК обрел наконец свою безапелляционную непогрешимость, доложился Большой машине Верховного суда, получил инструкции и объявил, что первым делом следует установить, носили ли переданные записи предосудительный характер вне зависимости от того, кому они принадлежат, каковой вопрос следует разрешить впоследствии.
Оказалось, что передача произошла одновременно с шести листов, и копии их тут же легли на стол – плотная голубоватая бумага, которая вызывала теперь у сенатора судорогу в пальцах. После долгих объяснений Мак-Лориса и Фамиредоу ЭАК согласился счесть эти копии достоверными следственными документами.
С первого листа был передан лихо нацарапанный условный человечек с огромными усищами, торчащими из-под нахлобученного на лоб сомбреро, со-второго листа – химический символ циркония в прямом и зеркальном изображении (ЭАК принял к сведению заявление профессора Мак-Лориса о том, что это не имеет никакого отношения к проблеме), с третьего – длинная прямая черта, с четвертого – написанные одной рукой, но разными шрифтами два бранных слова, повторенных каждое четырехкратно в столбик, с пятого – отдельные штрихи, по которым можно было судить, что кто-то неумело пытался срисовать потолочный плафон. С шестого – четкий и ясный анфас пучеглазой рыбешки, рисунок, явно вдохновленный длительным созерцанием аквариума.
Затем ЭАКу были предъявлены сто сорок листов, сданных участниками совещания. ЭАК отобрал пять из них. На одном продолжались упражнения в непечатной каллиграфии, другой дополнял убогий эскиз потолочного плафона, затем шел лист сенатора, не вызвавший у ЭАКа никакого особого интереса («Слава богу!»), потом лист с крупно написанным словом «ОСЛЫ» и лист с прекрасным портретом мистера Фамиредоу, на котором его борода была изображена в виде рояльной клавиатуры. Остальные листы были пусты.
Между полковником Да-Винчи и прокурором Бартоломью разгорелся было спор о том, в чьих архивах будут содержаться эти вещественные доказательства: в военной или федеральной прокуратуре. ЭАК оказался бессилен разрешить это затруднение. Выход предложил профессор Мак-Лорис. Он вызвался немедленно изготовить копии листов, юридически тождественные с уже имеющимися. ЭАК против этого не возражал, и Мак-Лорис в сопровождении мистера Фамиредоу и двух помощников Бартоломью отправился в малый грузовой фургон, сквозь металлические стенки которого радиосигналы, сопутствующие копированию, наружу проникнуть не могут.
Тем временем ЭАК, пошептавшись с Большой машиной Верховного суда, потребовал слова и объявил, что в действиях пока еще не определенных шести авторов записей, демаскировавших совещание, не усматривается злого умысла и нет необходимости применять по отношению к ним меры пресечения. Но руководствуясь вводными данными Мак-Лориса и Фамиредоу, ЭАК рекомендовал прокурорам предъявить всем шестерым обвинение в непредумышленных действиях, вызвавших разоблачение государственной тайны, поскольку шесть секретных рабочих частот материала стали достоянием эфира и таким образом оказался рассекречен его рабочий диапазон. Перечислив все установления на сей счет, имеющие силу закона, и квалифицировав преступление, как подлежащее федеральному суду, ЭАК умолк.
– Но ведь ничем не доказано, что эта передача попала а чужие руки, – возразил сенатор.
– В таких делах вероятность провала есть провал. Мы трактуем это так, – твердо ответил полковник Да-Винчи, а прокурор Бартоломью сокрушенно кивнул головой.
Тогда мистер Черриз, член палаты представителей, попросил разрешения удалиться. Он – и он официально ставит комиссию в известность об этом – является автором передачи длинной прямой черты, то есть одним из шестерых лиц, вопрос о виновности которых так или иначе будет рассматриваться. И хотя его неприкосновенность заранее избавляет комиссию – разумеется, до истечения срока его полномочий – от прений по поводу его личной виновности, членом следственной комиссии он быть не может. Как член палаты представителей, он ставит в известность присутствующих здесь прокуроров, что, если они примут решение обвинить невольных виновников раскрытия государственной тайны, он со своей стороны возбудит дело о преследовании организаторов совещания, не принявших мер по предотвращению случившегося. Помимо всего прочего, он считает, что сам характер переданных записей и изображений таков, что предполагаемое в дальнейшем отождествление их авторов является покушением на тайну частной корреспонденции. Так что он не только не может, но и не хочет участвовать в подобного рода разбирательстве.
– Все записи, сделанные на секретном совещании, являются государственной собственностью, – тихо сказал полковник Да-Винчи.
– Не согласен с вами, – возразил мистер Черриз.
– Если вы не доверяете мне, запросите ЭАК, – настаивал полковник.
– Позвольте вам напомнить, что я отношусь не к тем, кто запрашивает, а к тем, у кого запрашивают, – ответил мистер Черриз и повторно попросил разрешения удалиться.
– Вопрос о принадлежности записей достаточно серьезен, но, по-моему, нам не стоит более задерживать здесь мистера Черриза, – вмешался сенатор.
Полковник Да-Винчи пожал плечами.
– Мне кажется, мистер Черриз, вы придаете слишком большое значение предварительным выкладкам ЭАКа, – сказал прокурор Бартоломью. – Мне очень жаль, но вы рискуете поставить нас всех, остающихся здесь, в ложное положение. Чтобы избежать этого, я просил бы вас не уезжать отсюда, пока комиссия не кончит работу. Надеюсь, все присутствующие и вы, сенатор, поддержите мою просьбу?
– Если я приму иное решение, я поставлю вас в известность, – сказал мистер Черриз, направляясь к выходу.
В дверях он чуть не столкнулся с возвращающимися Мак-Лорисом, Фамиредоу и помощниками Бартоломью.
– Господин сенатор, господа, – сказал Мак-Лорис, кладя на стол пачку изготовленных копий. – Я прошу слова для немедленного и внеочередного заявления.
– Наш долг выслушать вас со вниманием, – сказал Бартоломью. – Но уверены ли вы, что в этом есть необходимость, что вы полностью к этому готовы, и можете ли вы подтвердить, что никто вас к этому не принуждает?
– Да, – сказал Мак-Лорис. – Я уверен, я готов и действую по собственной воле.
– В таком случае не откажите, пожалуйста, сесть в это кресло спиной к нам и подтвердите, что вы добровольно соглашаетесь на закрепление на вашем теле всей аппаратуры, предписанной законом.
И после десятиминутной контрольной процедуры ЭАК во все свои две дюжины функций занялся запечатлением для потомства заявления и состояния профессора Мак-Лориса.
По соглашению между Мак-Лорисом и генералом Фобсом участникам совещания должны были быть розданы листы омертвленного П-120, то есть пэйперола. Демонстрацию опытов с живым П-120 с самого начала предполагалось произвести в замкнутом экранированном помещении. Ради этого, собственно, и был арендован фургон, в котором сейчас размножали вещественные доказательства по делу. Подготовкой П-120 к совещанию занимались доктор Донахью и магистр Джилл, оба прибывшие на совещание. Пачка омертвленного П-120 получилась намного толще пачки живого, и перепутать их было невозможно. Обе пачки были упакованы отдельно друг от друга и обозначены условными литерами. Сам профессор этого не проверял, но до сих пор он не имел оснований не доверять Донахью и Джиллу. По прибытии на место пакеты вскрывались в присутствии Донахью и Джилла. Они же указали, какие листы раскладывать по кассетам, доставленным сюда фирмой «Скотт пэйперс», а какие отложить для производства опытов. При этом, как утверждают Донахью и Джилл, они по предложению Донахью выборочно проверили три листа из толстой пачки и убедились в том, что материал омертвлен. Опыт производился в присутствии персонала генерала Фобса. Эти люди, конечно, не понимали происходящего, но сам факт могут подтвердить.
– Вы у них об этом справлялись? – холодно перебил полковник Да-Винчи.
– Нет. Я беседовал только с Донахью и Джиллом.
– Когда?
– После того, как сенатор Тинноузер прекратил совещание. Они сами подошли ко мне.
– Напрасно вы сделали это, мистер Мак-Лорис, – сказал прокурор Бартоломью. – Получается так, что между вами мог быть сговор. Понимаете?
Как угодно, но профессор считал бы более правильным истолковать эту беседу как естественный разговор лиц, чьи кровные интересы и профессиональная честь весьма задеты.
Когда произошел «прискорбный инцидент», он, профессор Мак-Лорис, дал возможность магистру Джиллу выйти из зала, чтобы тот разобрался в случившемся. Магистр Джилл тут же проверил выборочно листы из остатков толстой пачки, и они оказались омертвленными. Вернувшись в зал, он сказал об этом доктору Донахью. Необходимо было проверить листы в кассетах, розданных участникам совещания, у Донахью и Джилла кассет не было, поскольку они не участники совещания, а лишь технические работники, допущенные в зал. Тем временем все кассеты по указанию генерала Деймза были отобраны и заперты в фургоне, о чем профессор узнал здесь, когда листы из них были предъявлены комиссии. Желая во что бы то ни стало лично разрешить свои сомнения, он, профессор, воспользовался возможностью изготовить копии для прокуратуры для проверки листов и отправился в фургон именно с этой целью. По пути он попросил мистера Фамиредоу тщательно регистрировать его действия, чтобы их характер в дальнейшем был для комиссии однозначен.
– Да, да, – радостно сказал мистер Фамиредоу. – Совершеннейшим образом подтверждаю!
– Вы отдаете себе отчет в том, что, поступая подобным образом, вы злоупотребили доверием комиссии? – вмешался полковник Да-Винчи.
– Я стремился выяснить истину, – ответил Мак-Лорис.
– Мы все к этому стремимся, и непонятно, почему вы с самого начала предпочли действовать скрытно, – сказал полковник.
– Господин полковник, мистер Фамиредоу, вы крайне обяжете федеральную прокуратуру, если не будете прерывать профессора Мак-Лориса. Продолжайте, профессор, продолжайте, – сказал Бартоломью, неотрывно следя за показаниями приборов над головой Мак-Лориса.
В фургоне, пользуясь тем, что никто не понимает характера его действий, профессор включил нужную аппаратуру и проверил несколько листов из числа розданных участникам совещания. И убедился в том, что они содержат живой, вернее полуживой П-120, интенсивность излучения которого несколько ослаблена по сравнению с обычной, насколько он может судить. Затем он проверил несколько листов из остатков толстой пачки. Они оказались омертвленными. Следовательно, ошибки при упаковке и раздаче листов не было. Неожиданное и никак не предполагавшееся оживление материала произошло после его распределения по кассетам. Где, когда и почему, профессор не знает, но ему представляется, что это проблема в большей мере научная, чем криминологическая. Вот пока все, что он может сказать.
– Значит, по-вашему, не исключено, что взаимодействие листов с материалом кассет могло привести к оживлению П-120? – спросил прокурор Бартоломью.
– До сих пор таких случаев не наблюдалось.
– Проводились ли вообще исследования действия соседствующих материалов на омертвленный П-120? – поинтересовался сенатор.
– Да. И весьма обширные. Работы велись на протяжении двух лет группой Донахью и Джилла и отражены в отчетах.
– Достаточно ли обоснованы выводы в этих отчетах?
– Насколько я могу судить, да.
– Лично вы их проверяли? – полковник Да-Винчи по-прежнему смотрел прямо перед собой.
– Все их проверить я, естественно, не мог. Но основные моменты мы с Донахью обсуждали. При ряде опытов я присутствовал.
– Над этой проблемой работали только Донахью и Джилл?
– Нет. Их группа насчитывала человек десять-пятнадцать.
– И они способны подтвердить полноту проведенной работы?
– Нет. По настоянию генерала Деймза, после окончания темы все они, кроме Донахью и Джилла, добровольно прошли среднее санирование памяти.
– Что значит «по настоянию» и «добровольно»?
– Им было предложено, и они согласились.
(«Еще бы они не согласились! По закону государство предоставляет таким людям гарантированную работу или пожизненную пенсию».)
– Это так, генерал?
– Я не настаивал на санировании памяти именно этих людей. Соглашение министерства обороны с университетом предусматривает, что малоценным работникам и лицам, прекращающим работу, в обязательном порядке предлагается санирование памяти. Я требовал только исполнения этого параграфа.
– Были ли другие лица осведомлены о работах Донахью и Джилла?
– Да. Всего над проблемой работает сейчас более двухсот человек. Пятнадцать-семнадцать из них входят в ученый совет. Это руководители и ответственные исполнители. Их темы тесно связаны. Они знают почти все.
– Мог ли кто-либо вести работы параллельно с группой Донахью, не ставя вас в известность об этом?
– Вообще говоря, вряд ли. Для проведения таких опытов требуется специальное помещение и аппаратура. Все это было только у группы Донахью.
– Вы меня не так поняли, профессор. Я имею в виду не кого-либо из работников вашей лаборатории. Я задам вопрос иначе. Известны ли вам какие-либо другие организации и лица, способные изготовить материал, внешне идентичный с вашим, или сознательно повлиять на свойства материала, изготовленного под вашим контролем?
– Я понимаю, господин прокурор. Вас интересует возможность диверсии. По-моему, она вряд ли имела место. Дело здесь не в этом.
– И все же я просил бы вас более точно ответить на мой вопрос.
– Мистер Бартоломью, – таран генерала Деймза навис над столом. – Я считаю, что профессор достаточно исчерпывающе ответил на ваш вопрос. Не стоит, углубляться в эту область.
– Я федеральный прокурор, генерал, и я веду следствие.
– А я член следственной комиссии и отвечаю за направление ее работы в той же мере, что и вы. И я настаиваю на том, что вопрос исчерпан.
– Вы затруднили работу комиссии. Это я вынужден отметить.
– Я протестую.
– Это ваше право. Но вы не возражаете, если я спрошу мистера Мак-Лориса, какими рамками ограничено его сотрудничество с фирмой «Скотт пэйперс», доставившей сюда, по его словам, кассеты? И с министерством обороны, о чем упоминали здесь вы. Меня интересует перечень организаций, связанных с проблемой, на предмет экспертизы выводов профессора.
– Возражаю. Я вообще считаю, что работа следственной комиссии закончена. Установлено, что непосредственно участники совещания не имели злых умыслов. Этого вполне достаточно. Все прочее выходит за рамки наших полномочий.
– Не вижу достаточных оснований для такого вывода.
– Чем же вы намерены еще заняться?
– Надо подумать. А как ваше мнение, полковник?
– Я согласен с генералом Деймзом.
– Хорошо. Но по закону я обязан решить, возможна ли дальнейшая работа совещания. Сенатор Тинноузер, что вы скажете по этому поводу? («Осторожнее! Осторожнее! Максимум осторожности!»)
– Лично я считаю, что она нежелательна. Но этот вопрос надо согласовать с генералом Деймзом и мистером Хьюсоном. Как вы думаете, генерал?
– Я считаю, что совещание надо закрыть.
– Остается мистер Хьюсон. Он созывал совещание. Я не думаю, что он будет возражать. В связи с этим у меня есть предложение. Давайте устроим небольшой перерыв, я поговорю с мистером Хьюсоном, мы примем окончательное решение о совещании, а потом подумаем, что делать дальше. Вы согласны?
– Что ж, пусть будет так, – сказал прокурор Бартоломью. – Но на время перерыва я попрошу мистера Мак-Лориса и мистера Фамиредоу остаться здесь. А всех остальных попрошу воздержаться от контактов с кем-либо из группы профессора, особенно с господами Донахью и Джиллом. Их надо здесь выслушать. Одних показаний профессора Мак-Лориса недостаточно для составления заключения.
– Хорошо, – отчеканил генерал Деймз. – Я согласен с тем, чтобы Донахью и Джиллу были предъявлены показания Мак-Лориса. Исключительно на предмет подтверждения. И на этом надо покончить.
– Заранее я не могу дать таких обязательств, – ответил Бартоломью.
Сделали перерыв.
Мистер Хьюсон был крайне разочарован, но что делать? Мистер Левицки высказал свое глубокое сожаление. Он ни в малой мере не склонен предопределять ход событий, но надеется, что в заключении комиссии будет оговорена непричастность персонала возглавляемой им фирмы к этому несчастному случаю. Конечно, если это будет соответствовать фактам. Фирма найдет способ выразить свою признательность за это. («Не скажешь, что старец стеснителен!») Заключение о закрытии совещания было согласовано без долгих разговоров, проверено и утверждено ЭАКом, и прокурор Бартоломью официально закрыл совещание и огласил список лиц, которые могут считать себя свободными. Затем он попросил полчаса для совещания со своими помощниками.
Сидеть в курительной («Еще, не дай бог, кто-нибудь привяжется с разговорами…») сенатору очень не хотелось, и он медленно спустился по лестнице и вышел на крыльцо.
Вечерело. Воздух все еще был горяч, но трава на лужайке изумрудно зеленела после недавнего полива. На ней лежала причудливая зубчатая тень дома. Одна за другой каравеллы приподнимались, разворачивались на месте и, плавно набирая ход, исчезали за воротами, сверкнув на прощанье в глаза острым зайчиком от стеклянного колпака. До конца перерыва оставалось еще минут двадцать, и сенатор, спустившись с крыльца, направился вдоль стены дома, на которую была картинно наброшена зеленая мохнатая шкура дикого винограда.
Завернув за угол, сенатор увидел широкий луг, полукругом сбегавший от дома вниз к небольшой площадке, вымощенной плитами. Посреди площадки была поставлена какая-то старинная мраморная группа. За ней расстилался бассейн, а за бассейном зеленой стеной поднимались огромные многосотлетние липы, – все это искусственное, привозное, пересаженное, но собранное воедино столь давно, что уже имело право на местное гражданство и красоту.
Чтобы рассмотреть скульптуру, сенатор пошел по дорожке, огибавшей верхний край амфитеатра. Фигура поворачивалась медленно, но, пройдя всего десятка три шагов, сенатор понял, что перед ним Лаокоон. Юноши, оплетенные змеиными кольцами, в отчаянии обращаются к отцу. Им в свой последний час хоть было кого криком молить о спасении. Отец! Отец, самый мудрый, самый большой, самый сильный! И в юном смертельном испуге им не дано понять, что мука их отца стократ страшней. Гибнут его дети! В их крике надежда на него. А он знает, да, знает, что спасенья нет. Напрасна борьба и напрасен жалкий вопль о пощаде и покорности. Над ним недосягаемо высокое лазурное небо. Голоса их, расплеснувшись в нем на мириады миров, распадутся на мириады осколков, и каждый будет столь мал, что никто ничего не расслышит. Сила на стороне змей. Они отвратительны, они свирепы. Есть скульптура, изображающая младенца Геракла: он душит отчаивающихся змей, – разве их судьба всколыхнула бы Вселенную? Тоже нет.
Вот сегодня и он, сенатор, кажется, выскользнул из холодных давящих тисков, а кое-кому не повезло.
Да, карьере мистера Черриза, похоже, пришел конец. Досидит он свой срок в конгрессе, а что дальше? Кто поддержит кандидата, на которого пала тень государственной измены? Где подробности? Во тьме, лишь увеличивающей вину? Жаль. Мистер Черриз производит приятное впечатление. И что тут скажешь? Ведь ему, сенатору, просто повезло. Это все Ширли! Ширли – это везенье, это счастье, счастье во всем, потому что это слишком большое горе. Его чаша полна, и большего судьба от него не требует.
А с этим П-120 удивительно противная возня. Какая-то сказочная змеиная кожа. Прав мистер Черриз. Эта возможность безграничного тихого подглядывания. За всеми: и внутри страны, и за пределами. Ну за пределы не очень-то сунешься. Провал по всей форме. А здесь? Что же теперь – бояться каждого «слова, написанного на плотной голубоватой бумаге, которой „Скотт пэйперс“ через год или полгода наводнит страну? Или уже наводняет? Нет, на это вряд ли кто-нибудь пойдет. Это же скандал! А, собственно, почему скандал? Ничего противозаконного здесь нет. Сомнительно – да. А противозаконно – это еще надо доказать. Другое дело, если был бы закон. Закон! Закон Тинноузера о П-120! Это не мелочь бренчит в кармане насчет отмены железных дорог – это стодолларовый хруст! Это здорово! Это мысль! Но о чем закон Тинноузера? О запрете производства живого П-120? Это не то. Может быть, из-за сегодняшней неудачи П-120 как таковой исчезнет. Будет П-125 или еще что-нибудь в этом роде. И с такими свойствами, что гипотетические восторги Фамиредоу окажутся чепухой по сравнению с тем, что помаленьку придумают тысячи разных людишек, чтобы залезть соседям в душу. Да, этот листик в умных руках сокрушит множество жизней. И запретом здесь не поможешь. Ничего себе бумажечка, ничего себе открытьице!
Закон Тинноузера – это решено! И нельзя тратить ни минуты. Надо достать полный текст доклада мистера Фамиредоу. И надо обсудить… С кем? Что если попытаться встретиться с этим Мэйсмэчером? Черриз хорошо отозвался о нем. Или это была просто шпилька?..
Внезапно распух и обрушился гром, из-за лип вынырнул неуклюжий пузатый вертолет, пронесся над сенатором, повис и с натужным ревом стал прилаживаться к лужайке за домом. Кажется, будут еще новости.
Сенатор взглянул на часы и медленно пошел обратно. С Мэйсмэчером лучше всего встретиться, не возвращаясь в столицу. Адрес добудет Гэб. Надо будет срочно позвонить ему, конечно, не отсюда.
Войдя в курительную, сенатор увидел, что все стоят, а перед ЭАКом сидит смуглый черноволосый человек и внимательно слушает запись заседания следственной комиссии. Сенатор сразу узнал его. Это был Мартиросян, специальный советник президента и его представитель в Совете национальной безопасности. («Ого, как широко было поставлено дельце! Я прав, тысячу раз прав. Закон Тинноузера!») Кивком поздоровавшись с ним, сенатор сел в кресло и внимательно выслушал еще раз все, о чем здесь шла речь.
Когда ЭАК умолк, Мартиросян прищурился, потряс головой, встал, прошелся по комнате, пошевелил длинными тонкими пальцами и начал говорить тихим успокаивающим голосом:
– Господа! Вместе со всеми вами я глубоко огорчен тем, что произошло. Но я хотел бы предостеречь вас. Не придавайте случившемуся слишком большого значения. Судя по дополнительной информации, которой я располагаю, ничего страшного не случилось. Несомненно, мы в ближайшее время повторим совещание в той или иной форме. Ради бога, не поймите меня так, что я не одобряю предпринятых вами действий. Наоборот. Я уполномочен выразить вам глубокую благодарность за четкое исполнение служебного долга. И за достигнутые результаты. Я считаю, что сделано все возможное. И в силу данных мне полномочий я закрываю следствие и прошу вас передать мне все материалы и вещественные доказательства по делу. Я вижу, вы, сенатор Тинноузер, хотите возразить? Уверяю вас, сенатор, в этом нет нужды. По возвращении в столицу вам будет дана возможность ознакомиться с дополнительными материалами. Я уверен, вы согласитесь с моим образом действий. Если же нет – у вас будет время и место их опротестовать. А теперь я попрошу пригласить сюда подполковника Хиппнса. Будет лучше, господа, если эта маленькая неприятность изгладится из вашей памяти. Кто пожелает, может немедленно воспользоваться услугами подполковника. Конечно, это не касается вас, сенатор, и вас, генерал. Я кончил. Есть ли у вас вопросы? Да, мистер Бартоломью, я вас слушаю.
– Но часть присутствовавших выехала, и…
– Понял вас, мистер Бартоломью. Всем без исключения, кроме перечисленных мною лиц и присутствовавших здесь конгрессменов, я повторяю, всем предоставляется возможность избавиться от ненужных воспоминаний.
– Но для этого нужно постановление суда. А для прекращения следствия я должен получить формальное распоряжение.
Не говоря ни слова, Мартиросян нагнулся, поднял с пола портфель, открыл его и двумя пальцами подал мистеру Бартоломью запечатанный конверт.
Бартоломью вскрыл конверт и поднес бумаги к глазам. Кивнул и протянул весь пакет полковнику Да-Винчи.
– Все. Это все, что нужно. Пожалуйста, полковник, прочтите. Алли, выдайте мистеру Мартиросяну все катушки по делу.
ЭАК с шелестом и пощелкиванием изверг шесть увесистых катушек, и Мартиросян небрежно сунул их в портфель. И остановил генерала Деймза, направившегося было к двери.
– Генерал! Когда полковник Хиппнс освободится, позаботьтесь, пожалуйста, о своих людях.
Малое санирование памяти! Сенатор никогда не присутствовал при подобных церемониях. Он с интересом и холодной дрожью смотрел, как подполковник Хиппнс, одетый в белый халат, ставит на стол большой саквояж и достает из него пакет с пилюлями, как рядом с ним за столом устраивается писарь, как приносят две бутылки «Гранадос» и поднос с великолепными старинными бокалами, потому что в спешке другой посуды не нашлось.
– Господа! – сказал подполковник Хиппнс. – Предлагаемые вам медикаменты совершенно безвредны и не имеют побочного действия, вы можете мне поверить. Подойдя ко мне и получив препарат, назовите отчетливо свое имя, проглотите пилюлю, запейте, пройдите в первую дверь направо, сядьте там и в течение пятнадцати минут сохраняйте полное спокойствие, ни с кем не разговаривайте, не напрягайтесь. Затем вы можете вести себя совершенно свободно, но рекомендую через два-три часа, не позже, лечь спать. И еще одно. До сна исключите, пожалуйста, алкоголь. Кто-нибудь страдает атеросклерозом и сердечно-сосудистыми? Вас я попрошу перед сном собраться здесь. Ваш ночлег будет организован отдельно под наблюдением врача. Но, повторяю, это только мера предосторожности. Дозировка препарата такова, что вы забудете все, что произошло, начиная с Двенадцати ноль-ноль сегодняшнего дня. Тех, кто желает сохранить воспоминания о чем-либо из происшедшего за это время, я попрошу получить медикаменты, но не употреблять их, а заявить о своем желании и собраться во второй комнате налево. Можно приступать. Прошу подходить.
И вот один за другим, постепенно образуя нестройную очередь, все, кто был в комнате, стали подходить к подполковнику Хиппнсу, громко по буквам называть свои имена, глотать пилюли и, опустив глаза, выходить из комнаты.
Потрясенный сенатор сидел в кресле, цепко сжав руками подлокотники, и, как зачарованный, смотрел на это фантасмагорическое действо.
– Сенатор!
Перед ним стоял Мартиросян.
– Сенатор, мне нужно сказать вам несколько слов. Пойдемте. Вас интересует этот спектакль?
Сенатор послушно поднялся и вышел из комнаты следом за Мартиросяном.
В доме царила суета. В зале под Венерой «витязи мира» разбирали по комплектам постельное белье. По окнам гулял сильный луч прожектора. Доносился треск компрессора. Мельком взглянув в окно, сенатор увидел, что на лужайке перед домом солдаты быстро накачивают надувные стены, полы и потолки своих палаток.
– Я хотел бы лично принести вам извинения, сенатор. Откровенно говоря, мы рассчитывали, что от вашей комиссии приедет Альбано. Он курировал это дело. Но он так внезапно слег. И, кажется, надолго.
Сенатор кивнул. («Так вот почему Фобс так льнул ко мне. Значит, он не знал, что Альбано болен. Он ждал его, и вдруг являюсь я! Хорошенький сюрпризец!»)
– Вам следовало ознакомить меня с делом заранее. Вы поставили меня в странное положение.
– Вы правы. Это серьезное упущение. Но что делать? Слишком сложный аппарат, и вся эта возня с секретными документами. И в связи с этим, сенатор, у меня к вам просьба. Не спешите с докладом в комиссии, пока мы не предоставим вам все материалы по делу.
– Я должен получить их немедленно по возвращении.
– Я вам это гарантирую.
– Но предупреждаю вас, Мартиросян. Малейшая задержка, и…
– Ее не будет. Благодарю вас. И еще одна просьба. Извинимся вместе перед хозяином дома.
– Я представляю здесь сенат, а он не несет ответственности за всю эту историю.
– Воля ваша, сенатор. Значит, мы договорились. Встретимся в столице. А сейчас, простите, я вас покину. Дела.
Они молча раскланялись, и Мартиросян, не оборачиваясь, пошел по коридору навстречу явно ожидающему его мистеру Ноу. Они сердечно поздоровались и, оживленно разговаривая, свернули за угол. До слуха изумленного сенатора донеслись только слова Ноу:
– Я же говорил, что Мак-Лорис блефует. Иначе и быть не могло.
Век живи, век учись – дураком помрешь. Мартиросян и Ноу, советник президента и лжеконгрессмен! Откуда же он взялся, этот Ноу? А решительный парень Мартиросян, ведь по лезвию ходит! По его милости уж не меньше сотни человек проглотили фармакопею подполковника Хиппнса. Докопаются газетчики
– скандала не миновать. Впрочем, кто захочет лезть в петлю головой из-за того, что генерал Деймз ретиво исполняет свой долг? Лучше об этом забыть. Но все же, что у них за просчет с этим П-120? Ишь, как Мартиросян принесся! Министерство юстиции, министерство обороны. Совет национальной безопасности – всех нашел, всех уломал. Он, видимо, прав, и не стоит с ним препираться из-за формальностей. Вот теперь и мистер Черриз благополучно выскользнул из объятий этой бесконечной молекулы. Но не ради же него спешил сюда Мартиросян. И не ради того, чтобы взнуздывать Деймза…
Позади сенатора раздался стук. Он обернулся и увидел, что это кто-то из слуг пристраивает специальную лестничку к той самой перевернутой двери, у которой генерал Фобс, по-видимому, собирался побеседовать с ним по душам. Рядом, прислоненная к стене, стояла сложенная койка и лежал пакет с бельем. Как видно, в доме не хватило места для уважаемых гостей, и кому-то все-таки придется провести ночь в этом удивительном помещении. Наверное, кому-то из домашних. А жаль!
Сенатор от всей души пожелал, чтобы это оказался генерал Фобс. Нет, лучше Деймз, конечно же, Деймз! А пусть и оба, черт с ними! Мысль эта развлекла его, он улыбнулся и пошел по коридору навстречу радиомегафонному голосу, объявлявшему, что сейчас у бассейна перед Лаокооном всем будет подан ужин.
3
Незадолго до въезда в городок шоссе ласково сказало:
– Добро пожаловать в Бетлхэм-Стар! Вот уже двадцать лет, как ни одна душа не вопияла к богу с наших мостовых. Осторожней на поворотах.
Городок, три центральных небоскреба которого давно уже были видны сенатору над плоской равниной, внезапно протянул ему навстречу свою разверстую клешню, оказавшуюся двумя рядами одинаковых одноэтажных домов по обе стороны дороги среди одинаковых поддельных пластиковых деревьев с жесткой ярко-зеленой листвой.
– Начинается муниципальная зона. Действует универсальный адресный код. Скорость семьдесят, – прошептала улица.
Не желая, чтобы его приезд сюда зарегистрировала памятливая электронная механика, сенатор не ввел в передатчик нужный адрес. Он снизил скорость до тридцати, стал считать перекрестки, на десятом свернул налево, проехал два квартала и остановился у низких ворот. Там, в глубине натурального садика
– в этом квартале все садики были натуральные, – за бело-розовыми вечноцветущими вишнями виден был двухэтажный дом с большой застекленной верандой. В этом квартале все дома были двухэтажные с верандой.
На воротах огромными оранжевыми цифрами был указан адресный код, и сенатор еще раз убедился в том, что не ошибся.
Внимательно оглядевшись по сторонам – улица была пуста, – сенатор стал готовиться к выходу. Улица троекратно прошептала ему порядок приведения в действие системы охраны оставленных экипажей и пригласила посетить музей Стюарта Силверботтома, первопроходца марсианского Большого Сирта, чье детство прошло в Бетлхэм-Стар.
Бесшумная механическая рука бережно вынесла сиденье из каравеллы и опустила на тротуар. Сенатор встал, подошел к калитке и нажал кнопку звонка.
Дом молчал.
Сенатор еще и еще раз нажал кнопку, тщетно пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть сквозь радужную слепоту затемненных стекол веранды.
Наконец узор заколебался, и встревоженный женский голос спросил:
– Кто там?
– Я сенатор Тинноузер. Мне необходимо встретиться с господином профессором.
– Господин профессор очень болен и никого не принимает, – торопливо ответил женский голос.
Гэб сказал, что профессор уже два года не показывается из дому. За все это время он ни разу не вызывал врача. Его хозяйство ведет пожилая негритянка. Она живет в доме и через день совершает дальние поездки за покупками. За садом ухаживает приезжий садовник. Заезжают прачка и уборщица. Для всех прочих дом закрыт. Все это Гэб умудрился узнать по сложной цепочке друзей, знакомых своих друзей, в конце которой оказался партийный коллега, профессиональный организатор кампаний по сбору средств в местном графстве.
– Передайте профессору мои наилучшие пожелания. Скажите ему, что я из столицы. Может быть, профессор сочтет возможным назначить мне день и час, когда мы могли бы встретиться. Дело крайне важное и спешное.
– Профессор никого не принимает, – повторил женский голос.
– Скажите, может быть, профессору нужна какая-нибудь помощь?
– Благодарю, ничего не нужно. Уезжайте, пожалуйста.
– Но скажите мне, по крайней мере, что с ним? Кто его врач? Этим интересуется правительство.
– Профессор велел мне говорить всем, что он никого не принимает, – заученно и печально повторил женский голос.
– Немедленно сообщите профессору, что с ним хочет говорить сенатор Тинноузер. Я уверен, что меня профессор примет, как только сможет.
– Но профессор велел мне никого не впускать и не беспокоить его из-за приезжих.
Сенатор стоял, покусывая губу, и страдал, чувствуя, как его уши медленно наливаются краской. Его титул и расторопный Гэб своими молниеносными телефонными разговорами уже много лет подряд распахивали перед ним все двери, и сенатор уже забыл о том, что его могут вот так просто не пустить на порог. Должна быть какая-то простая контригра, в два счета приводящая к выигрышу, сенатор это смутно понимал, но жара, усталость и неожиданность расслабили его. Расслабили. Что ж, вот так и спасовать? И чего он ломится к этому мизантропствующему маразматику? Иного и ждать не следовало! Плюнуть и уехать! «Плюнуть и уехать!» – думал сенатор в то время, как нарочито внятно произносил:
– Имейте в виду. У правительства возникли подозрения, что вы злоупотребляете своим положением в доме профессора. Ваше нежелание впустить меня в дом заставляет думать, что у вас есть дурные намерения. Это вы не хотите, чтобы профессор встречался с окружающими. Предупреждаю вас: я немедленно обращусь к шерифу и потребую, чтобы он обыскал дом. Я не успокоюсь, пока не увижу своими глазами, что профессор обеспечен уходом и способен свободно принимать свои решения. И как бы ни кончилось дело, вас будут судить за то, что вы препятствовали члену сенатской комиссии встретиться с гражданином страны. Вас посадят в тюрьму.
– Делайте что хотите, – был ответ. – А раз профессор не велел, я никого не впущу.
– Послушайте, молодой человек, – раздался внезапно слабый медленный голос. – Зачем вы пугаете пожилую женщину? Как вам не стыдно! Что вы ломитесь в дом, где вас не хотят видеть? Извольте избавить меня от ваших ревностных забот и уезжайте прочь.
Все, как обычно, и все очень просто. Говоришь с людьми по-человечески, и ничего не выходит. А начинаешь пороть ерунду, так сразу добираешься до сути.
– Простите, имею ли я честь говорить с профессором Генри Мэйсмэчером?
– Практически вы говорите с его останками, и они именуются Генрихом Маземахером. Мэйсмэчера сделали из меня ваши косноязычные коллеги, которые не способны даже на то, чтобы правильно произносить фамилии. Мне достаточно долго приходилось это терпеть, но теперь, слава богу, в этом нет нужды. Нет больше Генри Мэйсмэчера, и разговаривать вам не с кем.
– Простите, господин Маземахер, но мне нужна ваша помощь.
– Помощь? Моя? Ха! Ха! Ха! – голос отрывисто с натугой засмеялся и закашлялся. – Это забавно. Заботливый молодой человек просит помощи у старика, который уже год не встает с постели! Послушайте, Мэри-Энн, впустите этого оригинального молодого человека. Вознаградим заботливость просящего о помощи.
– Мистер Генри, вы не сердитесь на меня? – встревожился женский голос.
– Нет, Мэри-Энн, я не сержусь. Входите.
Калитка распахнулась.
Просить у этого ехидного старика разрешения завести каравеллу во двор подальше от любопытных глаз? Надо бы, но такого унижения для себя и торжества для невидимого собеседника сенатор решил не устраивать. Черт с ней, с каравеллой! Пусть стоит на улице.
– Ставьте, ставьте во двор ваш ходячий вентилятор, – внезапно сказал голос.
Сенатор вздрогнул. Он что? Читает мысли на расстоянии?
– Не всегда и не всякие, – спокойно ответил голос. – Но мысли сыщика, выдающего себя за сенатора, не надо угадывать. Они читаются сами собой.
Сенатор огляделся. Пустая неприятная улица внезапно показалась ему далеким безопасным убежищем, а этот дом за вечноцветущими вишнями – в его безмятежной неподвижности таилась слепая мощь капкана. Но пути назад уже не было. Покорно повернувшись к каравелле, сенатор услышал, как позади закрывается калитка и медленно распахиваются вороте.
– Вы ошибаетесь, – сказал он, тщательно подбирая слова. Теперь от этого слишком многое зависело. – Я действительно сенатор и не имею никакого отношения к сыскным делам.
– Не сомневаюсь, что вы в этом искренне убеждены, – доброжелательно ответил голос. – Я тоже был искренне убежден, что я профессор университета и занимаюсь наукой. Но теперь я думаю несколько иначе. Когда-нибудь и вы будете думать иначе. Не ищите в моих словах намерения вас обидеть. Проходите на веранду. Дверь слева от дома. Идите по дорожке.
Дорожка, вымощенная желтым кирпичом, привела сенатора к крылечку о трех ступеньках.
– Там что-то испортилось, – предупредил голос. – Отворяйте дверь сами. Она не заперта.
Сенатор приказал себе протянуть руку и коснуться двери. Ничего страшного не случилось. Сенатор повернул ручку, открыл дверь и, не входя, быстрым взглядом окинул видимую часть веранды. Верхние стекла были совершенно затемнены, нижние пропускали свет наполовину. Стекла были плохо подобраны: через одни свет проходил чуть розоватым, через другие – лиловым. Дешевый серый ворсистый пол, пустой столик, два кресла, – больше никакой мебели. В глубину дома вели две противно голубые двери. Они были закрыты. В простенке между дверьми висела географическая карта. Сенатор издали узнал знакомые очертания штата. Жирные красные линии, нарисованные от руки, делили штат на участки всевозможных форм и размеров. Тем же красным цветом на участки были нанесены трехзначные номера.
Придерживая дверь, сенатор ступил на порог и увидел в левой части веранды узкую крутую лестницу, ведущую наверх.
На веранде никого не было. Преодолевая ясно оформившееся желание не входить, сенатор вошел.
– Садитесь, располагайтесь, – сказал голос. – Так в чем же дело?
– Но-о, простите…
– Нет-нет, – сказал голос, – в этом нет никакой нужды. Вид немощного старца, прикованного к постели, мало располагает к деловым разговорам. У нас ведь, надеюсь, будет деловой разговор? И мне крайне неприятно было бы видеть вашу цветущую физиономию. Взаимное созерцание нам только помешает. Садитесь. Говорите. Что вам нужно?
Убогая обыденная обстановка источала тихую угрозу своей безжизненной неподвижностью. Это было нелепо, но это было так. Все заранее придуманные фразы спутались, исчезли, переломались. «Закон Тинноузера, – гудело в голове. – Закон Тинноузера!» Еще чего!
С наспех сооруженным напускным спокойствием сенатор пересек веранду и сел в кресло, стоящее в самом углу, так что все помещение оказалось у него перед глазами. И почувствовал облегчение.
– Я только попрошу вас, если можно, выключить наружный звук. Мне надо вам сказать кое-что весьма доверительное.
– Брат моей прабабки был в Германии тайным советником. Он обожал доверительные беседы. Вы доставили бы ему огромное удовольствие! – ответил голос. – Впрочем, будь по-вашему. Я выключил внешние телефоны.
– Видите ли, г-господин Маземахер, – внезапное заикание снова выбило сенатора из колеи. – Д-до меня дошли кое-какие сведения о «пэйпероле».
– Ах, об умничке. Это интересно. Так бы сразу и сказали вместо того, чтобы пугать бедняжку Мэри-Энн. Кстати, как вы о ней дознались?
– О ком? О Мэри-Энн?
– Да нет. Об умничке. Я называю ее умничкой. Правда, по-немецки. Ваш английский язык удивительно беден в отношении эмоциональных оттенков. Вокруг нее ваши столичные пауки сплели такие сети! А вы еще говорите, что не имеете отношения к сыскным делам!
– На днях эта ваша умничка причинила кой-кому много хлопот.
– Ну-у! Наконец-то! Вот молодчина! Это она может. Так что же она сотворила, интересно знать?
– Вы говорите так, как будто она живое существо.
– Не «как будто», а именно живое, молодой человек. У меня, во всяком случае, нет никаких сомнений.
– Профессор Мак-Лорис ни о чем таком не говорил.
– А-а, вы уже с ним виделись?
– Он делал доклад на совещании.
– Мак-Лорис умненький пай-мальчик. От него требуют не ученых неопределенностей, а технологических эффектов. Он о них и говорит. И привыкает лишь о них и думать. К сожалению.
– Вы к нему хорошо относитесь?
– Ах, господи, как у вас все просто! Хорошо, плохо! Мак-Лорис талантливый человек. Я сам рекомендовал его на свое место, когда мне надоели все эти шашни вокруг умнички. Подсунул ему незавидную должность цепного пса ваших сенатов, комитетов и управлений. А он молод и неопытен. Он привыкает, соглашается. Иногда перечит, конечно, но с ваших же позиций. Самый подходящий вариант для вашего священнослужения государству! Вы его выхолостите. А выкарабкиваться будет поздно. И выходит, что я перед ним виноват. Но у меня уже не было сил. Увы! А что за совещание?
Сенатор, путаясь, неуклюже пытаясь как-то сохранить перед самим собой видимость соблюдения правил секретности, злясь на себя за это, постоянно сбиваемый с толку явной насмешливостью невидимого старца, кое-как изложил трагикомическую историю, происшедшую в доме мистера Левицки.
– Бедняга Мак-Лорис! Подцепили-таки его! Разве можно было доверять этому кретину Донахью? Я говорил. Теоретически было показано, что умничка пассивна к абсолютному большинству окружающих нас материалов. Дойти до такого убожества, чтобы алюминием вбивать умничке послушание! Идиотство!
– Вы так говорите, словно эта бумага обладает свободой воли?
– Бумага? Свободой воли? Ваша лошадь обладает свободой воли? Ваша собака, ваша кошка, ваш попугай в клетке – они обладают свободой воли? – голос закашлялся.
– В какой-то мере, да. Безусловно.
– Умничка обладает ею в той же мере. Я вам говорю, она живая. Ее нельзя просто так заставить изо дня в день делать одно и то же.
– Но, позвольте, эта ваша умничка, она что, мыслит?
– Что значит «мыслит»? Донахью мыслит? Ваши генералы мыслят? Это рефлекторные машины узко направленного действия, одномерные мозги с однозначной функцией. Они не поддаются убеждению. А умничка поддается. Это вам не доска. Это новый класс веществ. И нельзя сводить работу с ними к однозначным технологическим приемам. Но когда я пожелал заняться этим делом, всякие негодяи стали подсовывать мне мнемолизин! Кстати, сенатор! Вы голосовали за санирование памяти?
– Голосование было тайным.
– Поэтому я вас и спрашиваю. Интересно знать, с кем я говорю. Там ведь были и такие, что голосовали против. Честно говоря, я предпочел бы говорить с кем-нибудь из них. Так как же?
– Решение было принято, и я отвечаю за него как член сената вне зависимости от моего личного мнения.
– Какой античный ответ! Когда вас вышвырнут из сената и поднесут вам безобразную дозу мнемолизина, вспомните обо мне, вы, инфантильный Ликург! Как я ненавижу вас всех! Ваши холуи бродят вокруг моего дома, готовые отравить этой дрянью каждый кусок хлеба моих последних дней! Видите карту? Три часа по утрам я бросаю кости и произвожу бессмысленные вычисления, чтобы указать Мэри-Энн, куда ей ехать за продуктами. И чтобы она, не дай бог, два раза не побывала в одном магазине. Я не могу даже вызвать врача! Его тут же обработают, и он вкатит мне мнемолизин после первой же дозы снотворного! Слава вам, господа законодатели! Жертвую полдоллара на вашу конную статую и сотню на динамит, которым ее взорвут. А вам лично кнопку в задний карман брюк! Да поострее! Когда вам предложат санирование, глотайте мнемолизин и садитесь на нее. Больно, конечно, но зато мнемолизин не действует. Я биохимик, можете мне верить. У меня весь зад в шрамах, но я остался самим собой! Я помню то, что способен помнить, а не то, что угодно вашей камарилье! Так и передайте! Поняли?
– Спасибо, я понял, – глухо ответил сенатор. Он сидел, глубоко уйдя в кресло, сгорбившись, и непроизвольно мял ладони.
Голос некоторое время молчал, слышалось только тяжелое дыхание. Сенатор выждал и спросил:
– Но эта ваша умничка, значит, отдельные ее части как-то сообщаются между собой, что-то помнят, ее можно натравить, заставить причинить кому-то вред.
– Так же, как и вашу собаку. Но можно научить помогать, вдохновлять, она может сделать вас чуть ли не гением. Она взаимодействует с мозгом. Понимаете?
– Но как это получается?
– А вы любознательны. Вы что кончали?
– Колледж Болдуина. Кафедра морали у Спенсера Соукрита.
– Безнадежное дело. Кое-чего я сам себе не объяснил бы, а вам и подавно. Ольфактометрия, аллергия, биоэлектроника – вы и слов-то таких не слышали. Четыре гипотезы я разработал, две наметил. А в целом – нет. Рано.
– И у вас нет ни страха, ни чувства вины? Подумайте, профессор, вы же сделали человечеству ужасный подарок. Вы представляете, сколько зла он способен причинить?
– Я не кончал кафедры морали. Но выпускнику колледжа Болдуина даже я могу открыть перспективы в этой области. Зло и добро проистекают из взаимодействия людей. Предметы и животные сами по себе не злы и не добры. Они вне морали. И умничка, хоть она и умничка, но она тоже вне морали. Во всяком случае, при наших технологических возможностях. Вы хорошо помните сказку о древе познания?
– Не знаю. По-моему, да.
– В этой сказке великий смысл. Она не предание. Она повторяется всякий раз, когда мы что-нибудь изобретаем. Ева взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему с собой, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясания. Так?
– Я дословно не помню.
– Эх вы, товарец колледжа Болдуина. А потом, как это обычно бывает, оказалось, что открытие Адама и Евы было лишь первым звеном в цепи логически связанных событий. И в ее конце людей вышвырнули из Эдема. Чтобы они в поте лица своего ели хлеб от земли, взрастившей им волчцы и тернии. А дальше?
Сенатор молчал.
– А дальше, – торжествовал голос, – дальше весь смысл и история человечества. Невинный пастушок из Эдема кончился. Встал новый преобразившийся Адам, сумевший одолеть довольно много неприятностей с помощью дара познания. Не так ли?
Голос зашелся тяжелым астматическим кашлем и, не дождавшись ответа, хрипло закончил:
– Сработала диалектика. Теперь тоже сработает диалектика. Я, Генрих Маземахер, даю Адаму очередной плод от того же древа, и вся мистерия повторится. Адам вкусит от него и пострадает за это и станет прахом. И поднимется преображенным, чтобы овладеть землей в том обличье, которое вдруг откроется ему. Это ни хорошо, ни плохо. Это закон движения. А добро и зло – это просто примитивный способ восприятия движения. Личный способ. Так в чем же я повинен? Я повинен в одном: я взял деньги у носящих меч и позволил им еще до рождения запутать умничку в их членистоногие замыслы. За это я расплачиваюсь заключением самого себя в тюрьму! В страхе, что вы лишите меня памяти о том, что было единственным содержанием моей жизни! Не довольно ли с вас и того?
Голос умолк. Сенатор долго сидел, задумавшись, а потом спросил:
– Но все-таки что же произошло на совещании? Объясните мне, профессор, если можете.
– Мне трудно рассуждать. Я знаю факты лишь в вашем изложении, а этого, насколько я могу судить, недостаточно. Там было сколько угодно болванов, которые и так могли поставить все с ног на голову. Но если предположить, что они действительно болваны, то все объясняется очень просто. Донахью травил умничку алюмоколлоидом, ему очень хотелось преуспеть, и каждый раз он ее уговаривал: «Умри! Умри же!» И она поддалась, но не химии, а убеждению! О боже мой! Она притворилась мертвой! Да! Притворилась. А он и все остальные этого не поняли, потому что не хотели понять. Она вела себя, как мертвая, потому что ее считали омертвленной. И так они водили друг друга за нос, уж не знаю сколько. Понимаете? Она не оживала, потому что каждый раз к ней подходили с убеждением, что она мертва. И каждый раз утверждались в своей ошибке. Цепная реакция взаимного убеждения! Дурачье! А на совещании, когда вы в две десятка голов бессознательно отнеслись к ней как к живой, она тут же ожила и мило заморгала глазенками – вот она, мол, я! Воображаю, какая рожа была при этом у Донахью! Поделом ему! Генеральский любимчик! Родная душа! Они стакнулись еще при мне. Такой же тупица, как и они все. Он и тогда еще выкидывал номера. Как-то раз…
Сенатор сидел, слушал желчный рассказ старика об одной из прошлых обид. Ему довольно часто приходилось выслушивать подобные рассказы, и он давно научился делать это вполслуха, сочувственно кивая головой и занимаясь собственными мыслями.
Молодчина Гэб! Надо же! Дознался, что у «Скотт пэйперс» есть контракт с лабораторией сухопутных сил в Сидар-Гроув. Это уже кое-что! Это веревочка! Потяни, и узелок распустится. Мэйсмэчера начали осаждать мнемолизином, как только он пожелал усложнить работы в университете. Родоначальника! Отца проблемы! Конечно, он почел своих заказчиков кретинами, смертельно обиделся, хлопнул дверью и отправился помирать. На здоровье! Сам ты дурачок, профессор! Когда Деймз выламывает руки Бартоломью, чуть дело доходит до «Скотт пэйперс», это, по-твоему, тоже кретинизм? Как бы не так! Все очень просто. В Сидар-Гроув у военных идут работы над П-120. Как далеко они зашли, никто не знает, но, видно, подальше, чем в богоспасаемом университете. И военные велели Бюро научных исследований взнуздать университет, чтобы он, не дай бог, не залез в проблему поглубже. Мак-Лориса держат в качестве ширмы, в свой срок через него предадут огласке кое-что, без чего не обойтись. Уж это-то точно. Без Мэйсмэчера цена ему грош, что бы он ни делал. Умен он или глуп, это ровно ничего не значит, если принято такое решение. А Мак-Лориса бесит узда, природы которой он не понимает. Унаследовал это искусство от дражайшего учителя. Он наверняка решил, что все это потому, что он топчется на месте, потому, что он плох. И лезет из кожи вон. И нарывается.
Итак, вывод первый: университет в Грэнд-Рэпидс из родоначальника дела превратился в цивильное прикрытие куда более серьезного предприятия. Не на это ли намекал Мартиросян, когда обещал представить дополнительные материалы?
Кстати, Сидар-Гроув – в этом штате. Надо бы на всякий случай держаться оттуда подальше. Чтобы комар носу не подточил.
Сенатор встал, подошел к карте и принялся составлять дальнейший маршрут по боковым дорогам так, чтобы миновать нежелательное место.
– …он побежал звонить по начальству, а я заявил ректору, что не выйду из своего кабинета, пока этот олигофреник не уберется отсюда, – продолжал голос.
Рядом с сенатором – всего шаг ступить, оказалась лестница наверх, и, повинуясь внезапному импульсу, он протянул руку, взялся за перила и бесшумно поднялся на несколько ступенек.
Лестница вместе с перилами словно была отлита из серо-голубого пластика, пружинившего под ногами. Подняв голову, сенатор увидел наверху темный коридор и притолоку закрытой двери.
– Не делайте этого, – тихо сказал голос, прервав рассказ на полуслове.
– Вернитесь на место.
Сенатор оглянулся и вздрогнул. На серо-голубых ступеньках черными пятнами отпечатались его следы. Он снова коснулся пальцами перил, ощутил легкий электрический укол и отдернул руку.
И внезапно ему явственно представилось: там, наверху, нет никакого профессора Мэйсмэчера, там, на постели, давным-давно лежит его иссохшее мертвое тело, а все вокруг – и кровать, и пол, и стены, и мебель – все покрыто таким вот пружинящим блестящим серо-голубым покровом, который слегка пульсирует в тех местах, где под ним в стенах проходит электропроводка. И этот покров, эта умничка таит в себе личность профессора, говорит и мыслит так, как мыслил бы он. Это ей волей или неволей завещал профессор свою ревниво сберегаемую память, и вот она медленно-медленно, миллиметр за миллиметром, разрастается, разрастается, заволакивая все, что встречает по пути, черпая живительную энергию от проводов в стенах. И Мэри-Энн давно здесь нет. Ее голос, ее поведение помнит и заученно повторяет все тот же покров. И может быть… может быть… может быть, сама мысль об этом и вся эта ярко увиденная им картина не родились в его мозгу, а навязаны ему извне! Ведь его мысли – доходили же они до «профессора»! И теперь «профессор» навязывает ему то, что ему угодно.
Сенатор решительно шагнул наверх. И содрогнулся от темного парализующего страха. Того самого страха, который он пережил когда-то в детстве, когда увидел на пороге дома змею. Он почувствовал, что не в силах даже повернуться, чтобы спуститься с лестницы. Он видел, как тут же на него набрасывается что-то обширное, мягкое, удушающее. Пятясь и в ужасе глядя на оставляемые им черные следы, сенатор спустился с лестницы, дошел до кресла, нащупал рукой подлокотники, сел.
– Вот так, – сказал голос.
Послышался шорох, щелчок, карта на стене взлетела в воздух, и под ней распахнулась черная квадратная пасть.
– А-а! – закричал сенатор, не в силах пошевелиться.
– Я вам говорил. Не надо было этого делать, – все так же бесстрастно сказал голос. – Возьмите. Это мой вам подарок. Подойдите и возьмите.
Края карты свисали с открывающейся вверх дверцы маленького грузового лифта. В глубине светилась красная лампочка. На выстланной черным бархатом полке лежала знакомая сенатору розовая пластиковая кассета, такая же, как те, что выдавали на совещании.
– Не бойтесь. Она не принесет вам вреда. Если не хотите, можете ею не пользоваться. Это оружие Адама, восстающего из праха. Возьмите, – и голос снова прервался долгим липким кашлем.
Встать и сделать несколько шагов сенатору стоило огромных сил. Рука не хотела углубляться в шкафчик, и сенатор почти швырнул ее туда за кассетой. Сжимая непослушные пальцы, он вынул кассету.
– Мак-Лорис говорил, что лично приглашал вас на совещание, – сенатор старался говорить обыденно и спокойно, словно ничего не произошло.
– Да, неделю назад он приезжал, наверное, за этим, но Мэри-Энн его не впустила. У каждого своя дорога. А он был поделикатней вас и не угрожал вломиться в дом с полицией.
– Он говорил, что вы ведете работы по технологии пэйперола и что вы консультант «Скотт пэйперс».
Голос засмеялся.
– Да. Благодаря ему «Скотт пэйперс» аккуратно переводит мне жалованье. Но какую я могу вести работу! Я лежу в постели. Все это Мак-Лорис выдумал, чтобы помочь мне избавиться от санирования. Он делает вид, что ездит ко мне на консультации, и довольно регулярно околачивается вокруг моего дома. Вот уж не ожидал, что у него окажется такое гипертрофированное эмоциональное начало. Он аккуратно наговаривает в микрофон новости, а я молчу. Он подождет-подождет и уедет. Я понимаю, что это жестоко, но иначе я не могу. Я снял себя с доски. И он должен привыкнуть к этому. Ну, ничего. Недолго осталось. Вас еще что-нибудь интересует? Честно говоря, я очень устал. Сядьте, сядьте в кресло.
Сенатор беспрекословно повиновался. Усилиями воли одолевая один за другим накатывающие приступы страха, явственно видя перед собой профессорские кости, покрытые блестящей серо-голубой пленкой, он торопливо и внятно заговорил:
– Господин Маземахер, меня интересует юридическая сторона вопроса. Я хотел бы… Как это правильней выразиться? Да, я хотел бы урегулировать правовые отношения между людьми и вашей умничкой. Чтобы она не стала орудием дурных страстей. Я намеревался просить вас стать и моим консультантом, профессор. Я, простите, несколько иначе представлял себе ваше положение и ваши намерения.
– Ах, вот оно что! Нет, нет. Я не задумывался над этими вопросами и вряд ли успею это сделать. Это меня не интересует. Что я сотворил, то сотворил. Единственное, что я могу сделать для вас, я уже сделал. Берегите мой подарок.
– Благодарю вас, профессор. Но что это такое?
– Там все написано. Все, что нужно. Потом посмотрите.
– Профессор! Но, может быть, я все же могу вам чем-нибудь помочь?
– Мне нельзя помочь. Поздно. Мы все рабы порядка вещей. Я, право, очень утомлен. Вы меня крайне обяжете, если мы на этом закончим.
– Я очень признателен вам, профессор. Я узнал не то, что хотел, но я узнал гораздо больше, чем хотел.
– Вот-вот. С Адамом было то же самое. Он узнал не то, что хотел, но гораздо больше. Я всегда это любил. Прощайте, законодатель.
– Прощайте, профессор.
– Мэри-Энн! Мэри-Энн! – окликнул голос нетерпеливо.
– Иду, сэр! – ответил издалека женский голос.
– Не надо, – прошептал сенатор сдавленным голосом, не помня себя от страха. – Не надо.
Одна из дверей, выходящих на веранду, распахнулась, и на пороге появилась низкорослая широколицая пожилая негритянка. Из-под белого чепца выбивались пряди седых волос.
– Ах, простите, сэр! Что вам угодно, мистер Генри?
– Мэри-Энн, опять выскочила вилка от телевизора. Сколько раз я вам говорил! Возьмите в шкафу в кабинете в нижнем правом ящике липкую ленту и приклейте ее, бога ради!
– Сию минуту, сэр!
Негритянка вышла, где-то в глубине дома что-то хлопнуло, заскрипело, зашуршало.
– Но-о она существует, – непроизвольно выдавил сенатор, в изумлении провожая взглядом живую и нестрашную Мэри-Энн. Он пытался овладеть собой, но черные молнии ужаса выжигали беспорядочно копошащиеся мысли. Нет, этой пытки он больше не выдержит. Вон отсюда! Вон!
В ответ послышался не то смех, не то кашель, но звук резко прервался. Неужели же нет никакого способа одолеть это наваждение! Сенатор зажмурился, заставил себя встать с кресла…
Дверь снова распахнулась. Появилась Мэри-Энн, белозубо улыбнулась сенатору и побежала по лестнице наверх. Провожая ее взглядом, сенатор увидел, что его черные следы на ступеньках исчезли. А за негритянкой тянулся новый след – в розовые и желтые звездочки. Позади на кресле медленно поднимала головку змея. Нет ее там, нет! Она раскрывает пасть! Она сейчас метнется вперед! Он оглянется, и в лицо его ударит холодное скользкое тело! Но ее же там нет, там пусто! А она все поднимается, поднимается!
Наверху грохнуло, зашумело, и вдруг раздался чистый торопливый голос спортивного комментатора:
– …поймал свечу! Вы видите, как Красавчик поймал свечу! Какой прыжок! Уиддер в ауте! Это первый аут Уиддера в этом сезоне! А ведь он уже миновал верхний угол! Он потрясает кулаками, он ломает биту! Он топчет ее! Но арбитры подтверждают, что Уиддер в ауте!
Донесся дикий рев зала. Да, ведь сегодня «Отщепенцы» встречаются с «Великими Осетрами».
Негритянка спустилась вниз и остановилась, выжидательно глядя на сенатора.
– Я сейчас уезжаю, мадам Мэри-Энн, – задыхаясь проговорил сенатор. – Извините меня, я неверно оценил ваши намерения. Откройте мне, пожалуйста, ворота. («Господи! Может быть, он услышит? Он же слышит! Я прошу пощады! Да прекратите же эту пытку!»)
– Хорошо, сэр. Всего вам доброго, сэр.
– Всего доброго.
Змея была огромна. Она упиралась головой в потолок. Боже, какая в ней сила! И эти грязно-желтые чешуйки на брюхе! Но если я оглянусь, там будет пусто, а Мэри-Энн бросится! Зашипит, ударит хвостом и бросится, выставив огромные клыки! Они хотят, чтобы я оглянулся. Не оглянусь! Там сзади не настоящая змея! Настоящая змея – это Мэри-Энн!
– Я вижу, профессор любит спорт?
– О да, сэр. И я тоже. Мы смотрим все встречи «Трипл-эй». Что с вами, сэр? Вам плохо?
Это был бесшумный оглушительный хлопок. От внезапно исчезнувшего напряжения закружилась голова. Ноги ослабели. Билось сердце.
– Нет, нет, что вы! Это ничего.
Судорога, сводившая желудок, отступила, боли не было, была только боязнь боли. Бережно неся ватное поглупевшее тело, сенатор спустился с крылечка, сел на сиденье, и механические тяги втянули его в каравеллу.
– И вам здесь хорошо живется, мадам Мэри-Энн?
– О да, сэр. Мистер Генри – очень хороший человек, сэр.
Ворота медленно распахнулись.
– Одну минуту, сэр. Вы забыли, сэр.
Черная рука положила рядом с ним на сиденье розовую кассету. Да, да, значит, он все-таки ее уронил. Когда же это было?
– Спасибо, мадам Мэри-Энн. Прощайте.
– Прощайте, сэр.
Каравелла дрогнула, плавно выкатилась на улицу, развернулась и застыла против ворот. Здесь, в кабине, все было знакомо и неопасно. Чувствуя, как тяжесть огромными пластами соскальзывает с его сердца, сенатор видел меж сходящихся створок ворот Мэри-Энн, спешащую к дому.
Улица была пуста, как и несколько часов назад. Сенатор шумно вздохнул. Руки дрожали. Такими доуправляешься.
Он сидел, силясь собрать по крупицам распавшиеся ум и тело. Вот, значит, что такое умничка. Да, это и в дурном сне не увидишь. А что в этой кассете? Продолжение?
Сенатор тупо взял в руки кассету и с удивлением ощутил ее тяжесть. Те на совещании были легкие.
Пластиковая крышка легко открылась. Под ней оказалась вторая крышка, металлическая. На ней был наклеен лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом:
«Я добр, но я в заботе и печали. Меня в беде покинули друзья. Года всю силу разума умчали. Кого ж теперь зову на помощь я? Не открывайте крышку до тех пор, пока не выучите это стихотворение и не утвердитесь в том, что произносите его про себя с полным убеждением и ни о чем другом не думая. Всей душой просите Бога о помощи. Откройте крышку и мысленно повторите стихотворение троекратно. Начинайте думать о том, что вас заботит, возьмите стило и пишите. Не затягивайте сеанс свыше пятнадцати минут. Благодарю тебя! Благодарю, Как мать благодарят за назиданье. Исполнится святое ожиданье Того, что бескорыстно ждет зарю. Перед тем как закрыть крышку, троекратно мысленно повторите это стихотворение. Тщательно закрывайте крышку. Оберегайте от посторонних лиц!» Вот оно что! Психологический стимулятор, верный дрессированный пес. Нет, нет, все это надо обдумать. Надо обдумать! Сенатор закрыл кассету, положил ее в шкафчик и включил управление. Каравелла тронулась и, набирая скорость, заскользила над ослепительно сияющим белым полотном улицы, певучим шепотом приглашающей его посетить музей Стюарта Силверботтома, первопроходца марсианского Большого Сирта, чье детство прошло в Бетлхэм-Стар.4
Сенатор подошел к окну, поднял штору и, положив ладонь на холодное стекло, поглядел на улицу.
За окном царил мокрый послеполуночный мрак. По подоконнику гулко и неровно стучал неспешный апрельский дождь. Свет ближнего фонаря только сгущал тьму, в которой влажно поблескивали какие-то шевелящиеся переплетения, и природы и смысла их нельзя было проникнуть глазом. Днем это были обычные оголенные ветви нескольких могучих вязов, но тогда сенатор поглядел на них только мельком. И теперь память его была бессильна помочь зрению, и он тщетно пытался отделить от мглы контуры огромных деревьев. И от этого всего только углублялось тягостное чувство бессилия и бесконечной усталости, которому он без боя сдался несколько часов назад.
Как большинство стареющих деловых людей, он не способен был перестать следовать заранее составленным планам даже тогда, когда они очевидным образом теряли всякий смысл. Он давно уже осознал эту нарастающую окостенелость души, но преодолевать ее каждый раз приходилось с таким трудом. И чаще всего не удавалось. Планы казались такими верными, а препятствия такими случайными, такими преодолимыми.
Вот и теперь.
Подумаешь! Поскучать несколько часов на совещании, напустить на себя заинтересованный вид, слушая о вещах, никак его не занимающих, и в заключение отечески погладить по головке грызущихся специалистов. А потом увидеться с Ширли! Увидеться с Ширли! Да ради этого хоть на край света!
И вот он добился своего. Он увиделся с Ширли. Но после всего происшедшего его приезд оказался кощунством, – столько в нем было инертного механического движения по решению, принятому заранее и в совсем других обстоятельствах. И он был наказан за это немедленно и достаточно жестоко.
Он оставил каравеллу здесь, в незаметном мотеле, взял напрокат городской электранчик и к вечеру оказался перед домом, где жила Ширли, огромной, тщеславно деформированной пластиной этажей на сорок, воздвигнутой на задах университетского парка.
Дверь ему открыл длинный белобрысый парень. Открыл и заморгал глазами.
– Привет, отче! Тебя здесь ждут?
За его спиной на голубенькой стеночке прихожей красовался огромный красный плакат с портретом Лодомиро Эрнандеса. Сенатору случалось несколько раз разговаривать с ним. У него было жирноватое лицо с пухлыми синими щеками. А художник изобразил его, подобным маске из раскаленного гранита. Сенатора передернуло от фальши. Как это могло оказаться в доме Ширли?
– Я издалека, – сказал он. – Ширли дома?
– Дома, – сказал парень, обернулся и закричал: – И все равно твой Шанфро дурак!
– Откровение для сопляков! – донеслось из комнаты. – Кто там? Это ты, Алиш?
– Нет, это к Ширли, – ответил парень. – Ширли, это к тебе.
На пороге комнаты появилась Ширли. Боже, как она была прекрасна! В руках у нее покачивался длинный белый цветок.
– Здравствуйте, – сказала она и удивилась. – Вы?
– Здравствуйте, Ширли, – сказал сенатор и с дрогнувшим сердцем выпалил уже год как приготовленную ложь: – Я здесь проездом. И вот решил зайти. Я помешал?
– Нет, нет. У меня сегодня сборище. Познакомьтесь, это Йонни. Йонни Лундвен. Он сегодня держит стол. Хотите есть?
– Хочу.
– Яичница с ромом, – гостеприимно предложил Йонни. – Королева вечера. Невкусно, но безвредно. И коктейль «Мертвое море».
– Он из Упсалы, – сказала Ширли. – Пишет работу об Алквисте.
– Алквист ел ржаной хлеб и говядину, – пояснил Йонни. – Коровы паслись на божьих лугах. Во ржи и говядине жил бог. Бог вдохновлял Алквиста. А мы все, и Джус в особенности, – слышишь, Джус! – мы жрем клетчатку, вспухшую на мочевине. Джус, ты обречен. Сколько ни тужься, ты родишь не мысль, а препарат.
– Твой Алквист складывал книги из камней, – донеслось из комнаты.
– Йонни, берись за яичницу, – сказала Ширли и протянула сенатору руку.
– Пойдемте, я вас познакомлю. Дивные ребята!
– Это были божьи камни, – пробурчал Йонни, открывая дверь на кухню.
Пол на кухне был серо-голубой, блестящий, такой же, как лестница в доме Маземахера. Как же это он изготовил ее из П-120? Нет, это не П-120, это что-то другое. Впрочем, он говорил, что умничка – это целый класс веществ. Да это и несущественно. Пусть это будет сверхпэйперол, назовем его так. И с помощью этого сверхпэйперола немощный старик, раздираемый психозом вины и страха, избирательно навязывает окружающим во всяком случае желаемое эмоциональное состояние. Но откуда у него кассета? Откуда лестница? Не в кладовке же он их сотворил? От Сидар-Гроув до Бетлхэм-Стар километров двести. Вряд ли это случайная близость. Похоже, что Мэри-Энн ездит не только в магазины. Он, видимо, сильный человек, этот Маземахер. В Сидар-Гроув у него есть друзья. Им ничего не стоило соорудить ему желанный оборонительный пояс с добротным камуфляжем. Восемьдесят против двадцати, что это так. Но здесь-то на полу, надеюсь, не сверхпэйперол!
Левую сторону комнаты занимала огромная книжная полка. Окно во всю стену, перед ним торшер и столик. Справа на диване теснились трое молодых людей, а спиной к столику на вертящемся кресле сидела черноволосая девица с некрасивым монгольским лицом.
– Это Джон, – сказала Ширли, представляя его своим гостям. – Он устал с дороги, и не вздумайте его щипать.
Дверь во вторую комнату была открыта. Там было темно, но оттуда доносилась тихая необычная музыка.
– Джон. А что он может? – спросил один из сидящих голосом оппонента Йонни Лундвена. Это был огромный детина, занимавший половину дивана.
– Решать, – кратко ответила Ширли.
– За себя или за других? – продолжал допрос детина.
– Джус, если ты не заткнешься, я изжарю яичницу на твоей морде! – заревел из кухни Йонни Лундвен.
Сенатор принял бой.
– А разве можно делать одно без другого? – дружелюбно осведомился он.
– Папочка учил меня не встревать в чужие разговоры, – сладко сказал Джус.
– Джус, не хами! – возмутилась черная девица.
– Он был совершенно прав. Тебе нельзя этого делать, – серьезно сказала Ширли и показала цветком на черную девицу.
– Это Консепсьон Вальдес, лучшая поэтесса Америки.
– Коней, – кивнула девица. – Здешняя собачья кличка – Коней. Консепсьон
– так зовут меня дома. И Ширли можно. А больше никому. Ухаживать за мной невозможно, потому что я всегда знаю правду.
– Мне надоело по утрам толкаться в метро, – провозгласил Джус. – Метро
– это лучшая могила для человечества. Загнать туда все шесть миллиардов и передавить!
– Займись, – с ленивым презрением предложил его сосед.
– Это сделает Алиш, – ответил Джус. – Потому я его и люблю. Где Алиш?
– Яичница на плите, – сказал вошедший Йонни. – Вообще-то так не полагается, но…
Он стремительно подошел к Джусу и открытой ладонью ткнул его в подбородок. Джус коротко всхрапнул, откинул голову и замер, вытянув огромные подошвы чуть ли не на середину комнаты.
– Перебананил, – пояснил Йонни. – Пусть отдохнет. Горе в том, что он прав. Нас слишком много, и что-то надо с этим делать.
– Господи, спелись, – фыркнула Коней, отвернулась к столу и зашуршала книжкой.
– Пойдемте, – сказала Ширли и повела сенатора на кухню.
Мертвую фальшь синтетической яичницы не смогла преодолеть даже лошадиная доза ромовой эссенции, впрыснутая щедрой рукой скандинава. Сенатор невольно помянул скромный обед в доме мистера Левицки. Он горько усмехнулся.
– Это очень весело, Ширли? – спросил он тихо.
– Господи, Джон, кто вам сказал, что мы веселимся? Мы учимся жить в толпе, – ответила она.
Раздался звонок.
– О! Алиш пришел! У нас будет настоящий кофе! Кофе, кофе, кофе, кофе, – запела Ширли и хлопнула в ладоши.
Запретный пакет с кофейными зернами был невероятно ароматен. Его ничего не стоило перехватить и на таможне, и по дороге сюда. И если этого никто не сделал, то, значит, просто не захотел связываться. Неужели все настолько прогнило! Если это так, то не правы ли в Сидар-Гроув? Как еще иначе спасти мораль в переполненных бесконтрольных городах? Выстелить сверхпэйперолом тротуары, стены и эскалаторы, накачивать раздраженные толпы благостным духом дружественности и уважения к себе? Но ведь сверхпэйперол… И тут сенатора осенило. Нельзя. Нельзя! Без регулярной дрессировки сверхпэйперол не устоит. Они его переубедят. Как Донахью. Да, да! И в этом все дело. Донахью и, стало быть, Мак-Лорису природа этого явления была до сих пор неизвестна. Но они знали, знали, что умничка нестабильна и что над стабилизацией ее поведения бьются в Сидар-Гроув. И вдруг такое везенье! С помощью алюмоколлоида удалось стабилизировать электроактивность П-120. Результаты раз за разом подтверждаются. Это еще не успех, это преддверие! Маземахер прав. Цепная реакция взаимного убеждения. И они не поняли ее. Не хотели понять. Они решили, что у них в руках желанный козырь. Мак-Лорис торжествовал. Он обогнал всех, он доказал свое первенство вопреки всему. Вопреки Маземахеру, вопреки Сидар-Гроув, вопреки ненавистному огораживанию сверху. И, чтобы раз и навсегда закрепить это первенство, он настаивает на том, чтобы с результатами работы были ознакомлены промышленные и государственные столпы. Тем более, что на этом этапе работы общество получает всего лишь удобную синтетическую бумагу. Новичок Хьюсон сдается, и Мак-Лорис вымогает у него совещание.
И вдруг в ходе его выясняется, что пэйперол как был, так и остался непокоренным. Мак-Лорис в панике. Генерал Деймз не может отказать себе в удовольствии поиздеваться над ним и затевает следствие. Но дело заходит слишком далеко. Кто же приходит на выручку? Мистер Ноу, да, мистер Ноу, который знает, да, с самого начала знает, что Мак-Лорис проиграет бой. Ноу связывается с Мартиросяном, и тот добивается решения о локализации происшествия.
Наконец-то все встало на свои места. Но кто же этот Ноу?..
– Ацтеки изобрели «войну цветов». Это было бессознательно применяемое, кровожадное, но безотказное средство регулирования популяции долины, – чеканил тонколицый, гибкий, как тростинка, молодой человек, утверждая правоту своих слов стремительными жестами левой руки.
– Алишандру Жаиру, крысолов из Форталезы. Алиш, это Джон. Он приехал к нам на твой кофе, – в веселье Ширли было что-то преувеличенное.
Джус лежал в прежней позе, и Жаиру, переступив через его ноги, подошел к сенатору, протянул руку и вонзился в его лицо серыми спокойными глазами.
– Почему крысолов? – попытался улыбнуться сенатор, принимая рукопожатие.
– У меня в Форталезе было десять акров с шестью тысячами крыс, – ответил Жаиру. – Шестьсот крыс на акр – это максимум. Даже если доброкачественной пищи хватило бы и на тысячу.
– Мрут?
– Нет, убивают. Я пытался разработать режим устойчивости сверхпопуляций.
– Он играл им на дудке! – крикнула Коней.
Жаиру оглянулся.
– В том числе. Не помогает. Ничего не помогает. Чуть перескочит за шестьсот на акр, на них находит помрачение. При трехстах на акр – милые мирные зверьки. При пятистах – хулиганье. При шестистах – убийцы.
Из кухни донесся рев кофейной мельницы и торжествующее пение Йонни.
– Убийца – это ты! – Коней швырнула книжку на стол. – Расскажи еще раз, как ты их прикончил!
– Перед отъездом сюда мне пришлось очистить вольеру, – пояснил Жаиру. – Что поделаешь? Не распускать же их. На меня и так косились.
И тихо добавил:
– Вот не знал, что у Ширли такие знакомства! Пойдемте, побананим?
– Нет, благодарю.
– А я пойду. Пока не побананишь, выносить это – никакого удовольствия.
Жаиру исчез в темной комнате. И Ширли, Ширли устремилась туда вслед за ним! У сенатора упало сердце. Странноватая музыка завибрировала, закачалась, изменила тон, тягуче и призывно зазвенела.
Из кухни выскочил Йонни с подносом в руках.
– Внимание! Последнее «Мертвое море» перед кофе! Кто желает?
Сосед Джуса взял чашку, отпил, поморщился.
– Купорос!
– Бери, отче! – Йонни протянул сенатору посудину с пенящейся смесью. – Чудо столетия! Ополоски с пяты бога!
Сенатор взял чашку, осторожно отхлебнул.
Зачем он здесь? Это не его время, не его друзья! А почему не его друзья? Только потому, что он вознесен над вольерой в корректоры режима устойчивости сверхпопуляций? Но ведь он такой же, как и они. Так же, как и они, он не знает, как это делается. Так же, как и они, он не может задать себе иного вопроса, кроме как «кто и зачем построил эту вольеру?». Разве зверьки в вольере могут ответить на этот вопрос? Не могут, но о чем же еще говорят они со своими друзьями? С друзьями. А у него нет друзей. Как можно подружиться с Мартиросяном? Что надо для этого сделать? Странно, но никогда до сих пор, встречаясь с людьми своего круга, он не задавал себе вопроса: «Как можно с ними подружиться?» Это просто невозможно на той высоте, с которой люди превращаются в обезличенные обобщенные категории, вроде кучек крупы на столе. И если кто-нибудь новый появлялся в кучке его личных интересов, он думал всегда об одном: «Что ему нужно от сенатора Тинноузера?».
И внезапно сенатор почувствовал, что хочет об этом поговорить. И не бояться, что назавтра увидишь все это распечатанным в газетах с крикливыми комментариями. Поговорить с Алишандру Жаиру. Интересно, но ведь он здесь единственный, кто узнал его. И не было в нем той неприязни, которую сенатор давно уже научился различать за делами и словами нижестоящих людей, когда приходилось с ними сталкиваться. По какому праву он, обитатель вольеры, вознесен управлять ее судьбами? – каждый задавал себе такой вопрос и отвечал подобострастием, страхом, преувеличенной уважительностью, а за всем этим была неприязнь, враждебность, ненависть, потому что такого права у сенатора Тинноузера не было. Никогда не было. Ну хорошо, пусть не было. А что связывает между собой этих людей? Ширли? Да, Ширли. Где Ширли? Увидеть ее еще раз и уехать. Увидеть этот гибкий белый цветок на ее плече и уехать. Уехать, уехать. Навсегда. Это невыносимо.
Сенатор Джон Тинноузер решительно переступил порог темной комнаты.
На креслах, на отодвинутой постели, просто на полу кружком сидели люди, молодые мужчины и женщины, может быть, пятеро, может быть, шестеро, – сенатор сразу не различил. Посредине на полу стоял круглый котел, покрытый зеленой светящейся крышкой. В мягком зеленом мерцании неподвижные лица людей казались невыразительными плоскими масками. В зеленом круге плавали расплывчатые тени, внезапно появлялись тонкие паутинчатые узоры, застывали, усложнялись и, смятые неведомыми внутренними порывами, исчезали, чтобы снова появиться и заткать светящееся поле. Звенела многоголосая пульсирующая мелодия.
Алишандру Жаиру устроился на тумбочке возле кровати, положив переплетенные пальцы на колени, и, не отрываясь, смотрел на зеленый диск. Ширли сидела на постели, прислонившись к его плечу, а белый цветок лежал у нее на щеке.
Боль и отчаяние ужалили сенатора.
И вдруг в звенящий хор втиснулся задыхающийся режущий длинный голос. Он был не слитен со всеми остальными, он трепеща бежал по какой-то другой дорожке. Поверх переменчивых паутинок понеслась череда крошечных вихрей, они рвали и всасывали обрывки светлых нитей и пропадали где-то в середине круга.
Кто-то коротко и прерывисто вздохнул.
Сенатор хотел как-то привлечь внимание Ширли, позвать ее, но глаза Ширли были закрыты, лицо стало строгим и сосредоточенным, и неожиданно сенатор понял, каким оно будет, когда Ширли состарится, когда его самого уже много лет как не будет на земле. Поздно, поздно! Ничто не соединит их прозрачной зеленой нитью в этом светящемся круге. Все будет разорвано, измято, всосано бегущими вихрями. Все сгинет в пропасти шириною в жизнь, в его жизнь.
Вздох повторился.
И сенатор понял, что задыхающийся неслитный голос – это звучание его души, что эти люди зачарованы слиянием их душ в общий согласный хор, что они этого добивались долгим трудом и теперь наслаждаются его плодами, а он здесь лишний со всеми его мыслями и заботами, с любовью к Ширли, с пэйперолом, с законом Тинноузера, с упрямым распутыванием всего этого полубесчеловечного клубка. Со своей высоты над кучками крупы он ничего не может дать этим людям, каждому, каждому из них. И им нечего дать ему.
Позади резко вскрикнула Коней.
Сенатор повернулся, споткнулся о какой-то змеящийся мятый провод, вышел в светлую комнату и, ослепленно моргая глазами, увидел Джуса. Джус был огромен. Он стоял посреди комнаты, задевая головой за люстру, и мерно, неустойчиво покачивался.
– Где Алиш? – бормотал Джус. – Где Алиш? Вы все, где Алиш?
– Джус, сядь! Усадите его, – вопила Коней.
А музыка? Все вернулось на стези своя. Она вновь звенела спокойно и слитно. Сенатора неудержимо потянуло назад, в темноту, смотреть на мятущуюся жизнь зеленой паутины. Преодолеть, вплестись, объединиться…
Джус попытался шагнуть вперед и пошатнулся.
Коней бросилась к нему, обхватила за талию. Из кухни выбежал Йонни и те двое, что раньше сидели на диване. Джус переломился и всей тяжестью лег на плечо Коней. Ноги ее подогнулись, но ее и Джуса уже подхватили, грузное тело перебананившего человеконенавистника, как перышко, взлетело и рухнуло на диван. Коней всхлипнула и поправила волосы.
– Мужики, не по правилам. Разве можно меня оставлять одну?
Сенатору стало страшно и весело.
– Кофе готов. Хотите? – предложил Йонни.
– Я хочу туда, – сказал сенатор и повернулся к темной комнате.
– Не советую, – сказал Йонни.
– На первый раз довольно, – поддержал его тот, что раньше сидел на диване рядом с Джусом, а третий мягко и необыкновенно тепло промолвил:
– Нельзя, Джон. Больше нельзя. На тебе лица нет. Арчи, поддержи его. Йонни, дай ему кофе.
– Почему нельзя? – удивился сенатор и заплакал.
Книги! Столько книг на полке! Знакомые буквы на их корешках сплетались в какие-то невразумительные сочетания и перемежались незнакомыми. Это были чужие книги! Они отгораживали его от Ширли. Там, за ними, Ширли, которую он любит и никогда не перестанет любить. И Алишандру Жаиру, с которым надо поговорить. Про все: про крыс, про Ширли и про гуманитарный центр, который строила жена.
– Он мой единственный друг! – сказал сенатор.
– Кто? – спросил его, кажется. Арчи.
– Это тебя зовут Арчи?
– Да. Успокойся, посиди. Коней, подвинь кресло.
– Арчи, скажи, почему я чужой? Разве чужой может что-то сделать?
– Может, – сказал Арчи голосом Йонни. – Все могут. Пей, отче. Стае, стащи Джуса и разверни диван. Отца надо завалить. Он перебананил…
Когда сенатор очнулся и вспомнил все, он оказался в той же комнате на диване. Все было ясно, пусто и тоскливо. Джуса рядом не было. Из соседней комнаты неслась все та же музыка. У стола сидела Коней. Йонни Лундвен, положив локти на стол и широко расставив ноги, что-то объяснял ей, покачивая указательным пальцем. В комнате пахло настоящим бразильским кофе.
– Я поеду, – сказал сенатор, садясь и втискивая ноги в туфли.
Йонни с улыбкой оглянулся.
– Порядок, отче?
– Порядок, – ответил сенатор чужим словом.
– Далеко тебе?
– Нет.
– Зажмурься и вытяни вперед руки. Тронь себя за нос.
Сенатор послушно выполнил указание. Получилось.
– Хорош. Только не торопись. Ширли что-нибудь передать?
– Нет, ничего. Я просто хотел ее повидать.
Йонни кивнул…
И вот сенатор снова в мотеле, стоит у окна комнаты, наполненной коричневатым полумраком. Стоит и смотрит на темную улицу. А на улице дождь.
Да! Все это какая-то неправильная жизнь! И ведь по отдельности, по кусочкам она состояла из верных вещей. И его карьера, и санирование памяти, и закон об упразднении железных дорог, и пэйперол, и будущий закон Тинноузера. Все по отдельности не вызывает сомнений, все безупречно, как люстра, как диван с постелью и ваза с нарциссами в перевернутой комнате мистера Говарда Левицки. Но все вместе нелепо. Почему? Потому что они стоят вверх ногами. Достаточно это понять, и в комнате можно жить, можно спокойно спать, как кто-то спал в ту ночь после кудесничества подполковника Хиппнса. Значит, и здесь тоже достаточно понять что-то очень важное и общее – и все встанет на свои места и можно будет жить дальше. Стоит распахнуть дверь, и комната будет разоблачена. Как же здесь распахнуть дверь? Где она? Надо ее найти. Но ее не найти. Он устал. Он бесконечно устал. Он бессилен. Года всю силу разума умчали. Кого ж теперь зову на помощь я? Откуда это?..
Осознав, что он повторяет стихи, написанные на металлической внутренней крышке розовой кассеты, подаренной ему Маземахером, сенатор не колебался ни минуты. Он вынул кассету из портфеля, положил на стол, сел и открыл верхнюю крышку. Еще раз прочитал стихи, закрыл глаза и повторил их про себя. И открыл вторую – металлическую – крышку. В кассете лежал лист. Один лист пэйперола. А может быть, и не пэйперола, а чего-нибудь другого. И пластмассовое стило.
Троекратно повторив про себя бесхитростное профессорское заклинание, сенатор взял стило и с трепетной дрожью прикоснулся острым кончиком к листу. На листе возникла отчетливая синяя точка.
Так.
Прежде всего надо раскрутить мурлышку. За эти три дня наверняка в ней набралось немало, а может быть, есть и кое-что интересное.
Не спуская глаз с синей точки, сенатор потянулся к портфелю, достал мурлышку и прижал ее к виску. Государственный переворот в Банголе… в Боготе достигнута договоренность… международная комиссия пришла к выводу о необходимости уточнения… остановка насосной станции в Уаргле носит характер… подтверждаются сомнения в компетентности правительственных органов… в Коломбо предположительно ожидается согласование границ зон континентального шельфа в Бенгальском заливе… повторно выдвинуто предложение о пересмотре форм участия стран-учредительниц… порты юго-западного побережья открыты, но федерация транспортников настаивает… тайфун «Каролина» удалось рассеять лишь на ближних подступах к архипелагу… премьер-министр выразил надежду, что неофициального напоминания… общая сумма убытков превышает… похороны сенатора Альбано…
Альбано умер! Ах ты, дьявол! Вот неожиданность! Придется выехать часов в пять, чтобы к девяти оказаться милях в восьмистах к югу, оттуда уже связаться с Гэбом и выяснить, где, что и как…
Но если Альбано умер… Значит, теперь, занявшись пэйперолом, можно не опасаться по крайней мере прерогативных трудностей с законом Тинноузера. Этому делу можно будет дать полный ход без всякой оглядки на северо-восточную группировку.
Сенатор машинально потянул от точки линию вправо через весь лист. Кончина Альбано избавляет его от расчетливого вступительного маневрирования и сводит ситуацию к типичному случаю необходимости принятия решения в кратчайший срок при минимуме информации. У него должна быть четкая позиция, когда он послезавтра встретится с Мартиросяном. С ним иначе нельзя. Обведет. Нанести удар и не давать ни минуты передышки. Любой ценой опередить генералов и сыщиков и не дать им преимуществ и прав прецедента во всем, что касается использования пэйперола или сверхпэйперола в обстоятельствах, сложных для юридического истолкования. После того, как они своею властью установят традиции и порядок работы с пэйперолом, их квадратные параграфы гораздо проще будет превратить в законодательство, чем благие замыслы гуманистов и правоведов. А к чему это приводит – тому примеров множество. Хотя бы отравляющие вещества или ядерное оружие. Копили, копили, всаживали миллиарды, сломали психику поколений, изуродовали столетие. Пусть это метафизика, но, если бы на их пути с самого начала был поставлен четкий законодательный барьер, если бы все это было вовремя извлечено из бункеров и сейфов, остановлено на предконечных стадиях… Остановлено… Да! Остановить!
Есть только одна позиция. Потребовать полного запрета исследований в области биокристаллических веществ с активной структурой. Выглядит идиотски. Придется облачиться в тогу ретрограда и консерватора, издеваться будут все, кому не лень. Но зато твердая, всеобъемлющая и, главное, очень простая и понятная для всех позиция.
Сенатор усмехнулся.
Вот под рев клаксонов и гром трещоток идет по улице толпа. Впереди полицейские машины. Гигант Джус несет огромный плакат: «ОСТАНОВИТЬ ПЭЙПЕРОЛ!» И рисунок – разрубленная змея. Доходчиво. За Джусом в первом ряду, взявшись за руки, – Ширли, Йонни, Арчи, поэтесса Комси Вальдес и, конечно, Алиш Жаиру. Алиш смотрит на него. А следом десятки, сотни, тысячи людей. Одного за другим примерял сенатор к этой демонстрации всех, кого встречал за эти годы. И почти для всех находилось место. Союз фермеров, делегация строительных рабочих, легионеры совести, братство «ААА», юные философы, «Внучки пионеров», Храм Разума, клубы, ложи, кружки, комитеты. Мешанина разношерстнейшая, но тем легче соорудить из нее гибкую, действенную, вездесущую политическую машину. И, главное, недолговечную, без особых обязательств. Когда ему придется отступать, она рассыплется, как горох, и не потянет его за собой. А отступать придется. Поле, захваченное одним ударом, придется отдавать по частям. И в этом весь фокус. Не он будет доказывать, а ему будут доказывать. Не он будет убеждать, а его будут убеждать. Изо всех кочек полезут умники. Они будут с достоинством занимать рассудительные позиции между ним и Мартиросяном, изобретать аргументы. И вот тут надо не упустить, надо фильтровать, фильтровать доводы, отбирать по крупицам полезные мысли. И когда наберется на приличный закон, торжественно похоронить собственный запрет в его пользу. О-о, будет буря! Из мракобеса его переименуют в клятвопреступника. Ну и что? Гром метафор – это никому еще не помешало. Даже полезно.
Но в одиночку такую кампанию не вытянуть. Нужен прочный и сильный союзник. Черриз? Да, пожалуй, Черриз. Черриз. Законопроект о запрете будет совместный. Пусть Мартиросян представит документы не только ему, но и Черризу. Вот первый ударный ход. Наконец-то! Именно так. Судя по всему, Черриз человек решительный и бескомпромиссный, а это как раз то, что в таком деле необходимо в первую очередь и чего ему самому, сенатору, не очень-то хватает. Он больше любит рассуждать и взвешивать, а вот кинуть публично с весов на прилавок – это надо уметь! И Черриз это сделает.
Не зарываться. Ох, не зарываться! Весь жизненный опыт склоняет его к тому, что перед ним беспроигрышная партия, но ведь счел же он Мак-Лориса простым карьеристом и интриганом, устранившим Мэйсмэчера, а по словам старика, он совсем не таков. Хороший отзыв мизантропа – вещь опасная, но ведь и редкостная.
Но сила идеи абсолютного запрета как раз в том, что на первых стадиях борьбы объем информации не играет никакой роли. Ее вполне достаточно, чтобы живописно изобразить народ и власти на поводу у этой змеиной шкуры, одурманенными, лишенными здравого смысла и логики поведения вследствие цепной реакции взаимного убеждения. Пусть мне потом доказывают, что вот живет же Маземахер под защитой своей умнички или сверхумнички и судит, надо сказать, довольно здраво в меру своего понимания вещей.
Открытие сделано, его движения не остановить, он со своим запретом обречен, даже смешон, даже возмутителен. Но только одному ему известно, зачем разыгрывается эта крикливая комедия. Он падет. Но в борьбе с ним будут раскрыты все секреты, все надсверхсупертайны. Все будет в отчетах сената и конгресса. Все. А не те жалкие лоскуточки, которые вся эта компания собиралась преподнести обществу как свой бескорыстный гуманный дар. А смеяться мы будем тогда, когда она поймет, что ее выманили из замаскированных траншей. И поймет, кто выманил.
Сенатор с удивлением и тревогой посмотрел на лежащий перед ним лист, исчерканный записями и чертежами. Как же это все получилось? Он сам это придумал, или все ему напела змеиная кожа? Любопытная ситуация! Что же теперь делать? Он представил, как останавливает каравеллу на глухой лесной дороге, как спускается с обочины с монтировкой, как роет ямку и закапывает розовую кассету. Навсегда! Прощай, профессорский подарок!.. Глупо. Очень глупо. Но с другой стороны, воевать с пэйперолом, пользуясь его поддержкой… Но не с пэйперолом же он воюет, а с людьми. И не с людьми, а с многоликим и многоглавым чудовищем, в которое сплачивает их наклонная плоскость порядка вещей.
Ах, Ширли, Ширли, глупая, глупая девочка. Бананишь, значит. Улыбаешься, красуешься, а дома – дома радения вокруг зеленой кастрюли и робкая попытка найти свое место среди людей. Жадная торопливость молодости, уверенной в том, что за ее маленькими знаниями ничего нет. Объяснит ли тебе когда-нибудь Алишандру Жаиру законы действия масс, поймет ли он их сам? Есть ли у него, сенатора Тинноузера, хоть какая-нибудь надежда на тропинку к твоему уму и сердцу? Как ее найти, как пройти по ней мимо Сцилл и Харибд, урчащих за каждым поворотом?
Сенатор вздохнул, стер с листа записи и совершил обряд закрытия кассеты. Половина четвертого. Сна ни в одном глазу, давно не ощущаемая бодрость, готовность к старту, и ни в одном уголке не таятся адские машины усталости.
Жетон за душевую кабину, жетон за постель, жетон за свет, жетон за номер, два жетона за каравеллу. Все? Нет. Еще жетон благодарности, даже два. Нет, один. Не надо выделяться. И в руке жетон за выход.
Когда он подошел к дверям, каравелла уже поблескивала у входа. Мотель мирно спал, убаюканный дождем. По дороге никто не встретился, портье даже не вышел из своей клетушки. Очень хорошо. Как же так все-таки скрутило Альбано? Не очень радостная история – везение на чьих-то костях. Но и в меру банальная.
Каравелла с глухим шумом, набирая скорость, заскользила над мокрым шоссе. Дождь перестал. Внезапно слева открылся пустынный берег озера, а далеко-далеко за ним, за светло-серым простором вод и непроницаемо слитным чернолесьем на той стороне, в узком просвете между горизонтом и длинными тучами готовилась древняя мистерия восхода солнца.
Миллионы лет происходила она ежедневно и неотвратимо, по одному и тому же канону. И во времена ящеров, и во времена камня и железа, и при людях и без них. И что бы ни придумывал человек, какие бы открытия на добро и зло себе он ни совершал, на следующий день после них солнце восходило так же, как и накануне. Словно ничего не случилось, словно ничто не сдвинулось в огромном механизме мироздания оттого, что люди разверзли перед собой еще одну бездну или навели еще один мост.
Можно было глядеть и отчаиваться, что человек слишком слаб, а природа слишком сильна, чтобы ее неторопливое могучее движение хоть на миг изменилось от его рук.
Но можно было и радоваться. Ведь как бы люди ни путались, сколько бы зла ни обрушивали они на себя, поспешно и необдуманно стремясь к добру, у них всегда есть твердая опора под ногами – вот этот берег, лес и восход солнца, куда они снова могут вернуться, чтобы снова обрести волю и силу. И снова начать свой многотрудный путь к истине, гармонии и совершенству самих себя и своего переменчивого союза.
1973, Ленинград


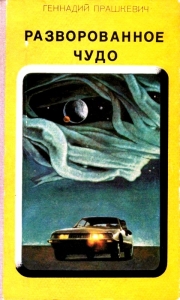

Комментарии к книге «Змий», Александр Александрович Щербаков
Всего 0 комментариев