НФ: Альманах научной фантастики ВЫПУСК №22 (1980)
ПРОВЕРКА ФАНТАСТИКОЙ (От составителя)
Общеизвестно: научно-техническая революция несет немалые блага и дает человеку небывалое могущество. Общеизвестно и другое: молот НТР выковал сокрушительное оружие, а милитаристские устремления не исчезли, как и те социальные условия, которые их порождают. Столь же на виду угроза экологического кризиса. И еще одна, тоже, конечно, не последняя грань прогресса: темп жизненных перемен настолько ускорился, что горизонты будущего уже не близятся — летят нам навстречу!
Перспективы НТР в огромной мере зависят от темпов социального переустройства мира, переустройства, которое наглухо захлопнет дверь перед угнетением и милитаризмом. И от расцвета творческой личности, способности человека дальновидно предвидеть последствия, мудро управлять всеми изменениями жизни.
Отсюда, в частности, вытекает задача заблаговременного духовного освоения тех пространств неведомого, которые скрываются за видимым горизонтом НТР.
Это во многом задача искусства.
Один из секретов появления и быстрого развития научной фантастики, по-моему, вот в чем. Иные виды художественной литературы воспроизводят ситуации, могущие быть в действительности; фантастика же обращается к ситуациям, которые в сегодняшнем дне невозможны. Зачем? Да примерно затем же, зачем физики, исследуя вещество, создают в лаборатории те давления и температуры, каких на Земле не сыщешь.
Главный предмет наблюдения научной фантастики, как вообще всякой художественной литературы, — человек. Только в ее произведениях это человек, оказавшийся в небывалых, невиданных условиях, В них он действует, проявляет себя, раскрывается иначе, чем в обыденной жизни.
НТР все более ускоряет вторжение в жизнь нового, небывалого, в свое время, казалось бы, невозможного. Чем, например, была бы для людей недавнего прошлого атомная энергия? Фантастикой. Космические полеты? Тем же. А реанимация, это «воскрешение из мертвых»? А голографические изображения-призраки? И так далее. Мы и сейчас не всегда можем предвидеть, что именно преподнесет нам НТР завтра, но скорее всего это неведомое будет выглядеть фантастикой.
Так в самой действительности мы проходим «проверку фантастикой» и чем дальше, тем чаще. Литература как раз и стремится максимально воспроизвести эту новую черту реальности, для чего и используются приемы фантастики. Неизбежно научной тогда, когда она пытается заглянуть в то неведомое, что таится в далях прогресса, ибо без обращения к диалектическому материализму, к фактам, методам и прогнозам науки локатор художественной интуиции оказался бы подслеповатым.
Но при этом главенствуют законы литературы, а не науки: писателя волнует не столько сбыточность изображаемого, сколько правда характера и поведения человека в небывалых условиях. А условия можно задавать любые. И наваливать на героя какие угодно перегрузки невероятного. Важно не погрешить против правды характера, достичь художественной убедительности, достоверно представить психологию человека, его действия в мире невероятного. К завтрашнему надо готовиться загодя! В том числе эмоционально.
Конечно, тема «человек перед лицом невероятного» не единственная в научной фантастике. Но в этом сборнике она ведущая. Подобраны были те произведения, которые так или иначе, пусть даже и парадоксально, выносят человека за горизонты научно-технического прогресса. Именно человека. Не общество, не цивилизацию — личность. Выносят и сталкивают ее с отдаленными (в значительной мере, понятно, условными) последствиями НТР. Разных людей, представителей разных общественных систем современного мира.
В сборнике, кто с рассказами и повестями, кто с публицистическими размышлениями, выступают известные, давно работающие советские писатели-фантасты Г.Альтов, В.Журавлева, О.Ларионова, Е.Парнов. Имя американской писательницы Урсулы Ле Гуин (она начала писать сравнительно недавно) у нас пока мало известно, но у себя на родине она разделяет славу Азимова, Шекли и других мастеров. Широкую популярность принесли ей, правда, не рассказы, а романы, но, думается, знакомство с ее новеллистикой также представит интерес, да и любопытно взглянуть, как решает тему сборника представительница прогрессивной части зарубежной фантастики.
Для постоянных читателей НФ не новы имена П.Амнуэля, Ф.Дымова. Одновременно — читатель это мог заметить особенно по последним выпускам НФ — издательство, общественная редколлегия, составители стремятся представить как можно больше начинающих авторов. В нынешнем сборнике это А.Кубатиев, Б.Руденко, А.Силецкий, Е.Филимонов. Трое первых — участники недавно созданного семинара молодых фантастов при Комиссии по научной фантастике Московского отделения Союза писателей. Для А.Кубатиева, Е.Филимонова выступление на страницах этого сборника — их первая книжная публикация.
Нет смысла пересказывать произведения сборника. И давать им оценку: литература — не школа, писатель и читатель — не ученики. Заметим только, что в рассказах и повестях сборника при всей их непохожести друг на друга, при строгом видении отнюдь не только светлых перспектив прогресса все пронизывающей и объединяющей оказалась линия социального оптимизма. Оптимизм же, как, впрочем, и пессимизм, нельзя возбудить в литературе искусственно — результатом такого самонасилия писателя неизбежно окажется ремесленная поделка. Поэтому возникшая тональность сборника — лишнее подтверждение того, что в самой нашей социальной действительности бьют мощные, благотворные для оптимистического видения дальних перспектив НТР источники.
Неожиданным для составителя оказалось то, что несколько авторов, словно сговорившись, хотя это исключено, обратились к одной и той же теме — теме всемогущества, теме человека перед лицом этого всемогущества. Причем П. Амнуэль в повести «Крутизна» даже представил фантастическую, но хорошо, с опорой на новейшие достижения эвристики проработанную схему методологии открытий, конечной целью которой и является достижение всемогущества. В современном, конечно, понимании этого слова, ибо абсолютного всемогущества, само собой, быть не может.
Так вот что видится советским фантастам за летящими в неведомое горизонтами НТР! Причем об их видении никак нельзя сказать, что это розовая, пускающая пузыри маниловщина. Ничуть. Как П.Амнуэль, так и О.Ларионова в повести «Сказка королей» Ф.Дымов в рассказе «Эти солнечные, солнечные зайчики…» различают во всемогуществе не одни светлые стороны. Нет, писателям отнюдь не изменила строгая зоркость диалектического видения проблем. И все же… Обозначить всемогущество как достижимую перспективу!
Почему я обращаю на это такое внимание? Мало ли что можно вообразить — фантастика она и есть фантастика! Верно. Но художественная фантазия не только полигон проверки человека в небывалых обстоятельствах, не только средство духовного освоения пространств неведомого. Фантазия еще и сила творящая (об этом весьма конкретно пишет в своем эссе Г.Альтов, кстати, не только писатель-фантаст, но и известный создатель эффективно работающей методики изобретательства). Кроме того, прогностические свойства присущи не одной науке, но и в какой-то мере искусству, что показывает в своей статье Е.Парнов.
И еще. Зададимся таким вопросом: какова граница мечты и фантазии Жюля Верна? Создание необыкновенных машин, покорение воздуха, проникновение в глубины океана, достижение Луны. Прошло лет сто, и эти горизонты фантазии оказались далеко позади. Теперь же, как это видно из сборника, на том же горизонте обозначилось стремление человека к всемогуществу.
Говорит ли это о чем-нибудь? Тут есть над чем задуматься. Все возникает сначала в воображении и фантазии, хотя и осуществляется не так, как это виделось издали. Но главное обычно сохраняется.
Д. БИЛЕНКИНПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Ольга Ларионова СКАЗКА КОРОЛЕЙ
Дом был самым последним в городе. Дальше начиналось поле, где ничего не успели построить — нейтральная полоса ничьей земли, еще не городской, но уже давным-давно и не деревенской. Поле поросло одним бурьяном, потому что этим летом ему предстояло принять великую муку приобщения к цивилизации и было жалко отдавать на растерзание бесчисленным колесам, гусеницам, ковшам и просто лопатам даже такую немудреную травку, как донник или сурепка. Природа откупалась бурьяном.
На той стороне поля виднелись теплицы или, вернее, то, что ими когда-то было. Опекавший их совхоз получил новые угодья и, хозяйственно вынув застекленные рамы, отбыл в неизвестном направлении, а они остались, словно костяки гигантских сельдей, пропуская сквозь свои подрагивающие ребра раздольный загородный ветер.
По ночам в поле было совсем темно. Зато возле самого дома, где оно, собственно говоря, не было уже полем, а посредством насаждения дюжины полумертвых барбарисовых кустиков было обращено в зону озеленения данного микрорайона — там на него ложились незыблемые световые квадраты попеременно зажигающихся и угасающих окон. Но сверху, с высоты девятого этажа, этой освещенной полоски видно не было, и по ночам Артему казалось, что где-то там, в непроглядной мгле, небо все-таки смыкается с землей, как сходятся в тупиках не сходившиеся доселе рельсы; небо накоротко замыкается на землю, и черный сполох этого замыкания стоячей волной замирает над миром, пока лезвие первого луча снова не разомкнет их, словно створки раковины.
А иногда, когда случалось совсем худо, возникало ощущение абсолютной утраты пространства там, за окном, и не было не только земли и неба — не было ничего, просто первобытный хаос, не разделенный на твердь и хлябь. Сегодня Артему было худо именно в такой степени.
В квартиру он вошел тихо, словно мог кого-то разбудить. Но будить было некого, и, досадуя на никчемную свою осторожность, он демонстративно громко потопал по кухне и грохнул возле холодильника сумку и сетку с консервами. Поддернув брюки на коленях, присел и начал меланхолично переправлять банки, пакеты и свертки в белое, замшелое изморозью нутро. Если уж ты такой кретин, что при всем своем желании не можешь промоделировать простейшую семейную жизнь, то твоих ребят это не должно касаться. Завтра новоселье, и они соберутся на твою прекрасную-распрекрасную квартиру. А ты принимай. И рожу делай соответственную, благодушную. В сторону чужих дам — особливо. Вот и абрикосовый компот на тот же предмет. Ах, смотрите, он догадался купить для нас абрикосы! Ах, льдинка в сиропе! Темка, ты молоток, даром что похож на Алена Делона! И чужие дамы, сажая липкие кляксы на декольте, примутся опохмеляться абрикосовым компотом.
И тогда свои ребята поймут, как ему худо.
— Темка, — скажут свои ребята, — ты отупевший буржуй. Ну разве можно в такой прекрасной-распрекрасной квартире существовать в одиночку? У тебя налицо аперитив и горошек, — скажут начитанные ребята, — но решительно не хватает Зизи. Слава богу, это поправимо. Смотри, сколько прекрасных дам (это над банкой с абрикосовым компотом). Выбирай любую!
А может, и вправду выбрать? Ведь ни одна не откажется. Прекрасные дамы прямо-таки выродились в какие-то самоотдающиеся системы… Баста. Хватит с него.
Артем захлопнул холодильник и направился в комнату. Света он зажигать не стал, а подошел к окну, чуть мерцавшему пепельным ночным светом. Неясное отражение собственного лица появилось на стекле, и Артем посмотрел на него с ненавистью.
Представьте себе, что рядом с вами живет молодой мужик, неотразимый, как Ален Делон. Ну, это еще можно представить. И каково ему живется — тоже вполне представимо. Но вся беда Артема заключалась в том, что он был гораздо красивее и Алена Делона, и вообще всех импортных кинозвезд мужского полу. Сравнение, конечно, не ахти, но что поделаешь — других эталонов на данный момент не имеется. Раньше, говорят, сравнивали с королями (см. Дюма). Сухощавый и темноволосый, он был исполнен той истинно русской красоты, коей славились благородные и невероятные бабы Венецианова, с их чуть тронутыми горбинкой носами, одухотворенными лбами, тяжкой чистотой непорочных рафаэлевских глаз и грешной припухлостью губ божьей матери Казанской. К сожалению, сейчас этот тип красоты вытеснен в нашем сознании другим, былинным новгородским типом, с обязательными соломенными кудрями и бесшабашной ясностью взгляда, который мы почему-то принимаем за тип истинно русский. А между прочим, голубые глаза и светлые волосы считались обязательными для красавиц средневековой Франции, если верить ее кодексу любви XI века.
Так или иначе, но благородная внешность в сочетании с уникальным в наше время именем создавали Артему такой комплекс неотразимости, что при самом горячем желании он не смог к своим двадцати четырем годам создать хоть мало-мальски устойчивую семью. Не везло человеку. Ну был бы хоть артистом или телевизионным диктором на худой конец, — у них, вероятно, вырабатывается профессиональный иммунитет против того, что на тебя постоянно пялят глаза и показывают пальцем. Но он был простым инженером и до сих пор не мог привыкнуть к тому, что на улице женщины систематически оборачиваются ему вслед.
В мутном отражении собственного лица было не разобрать отдельных черт, но Артем смотрел на него с определенной ненавистью.
Пока вдруг не понял, что при незажженном свете никакого даже смутного отражения быть не может.
Оттуда, из черноты первозданного хаоса, на него смотрело чужое неподвижное лицо.
Еще несколько секунд Артем не шевелился. Потом до него дошло, что это, собственно говоря, не окно, а дверь, за которой на балконе и стоит незнакомец. Мысль о том, что это попросту вор, показалась нелепой — вор не стал бы так спокойно разглядывать хозяина квартиры через дверное стекло. Да и что взять у молодого специалиста, только что потратившего все свои сбережения на самую дешевенькую однокомнатную квартиру на последнем этаже?
А лицо все смотрело, не двигаясь, не мигая, не приближаясь. Артем шагнул вперед. Протянул руки, нащупал дверные запоры и с трудом их повернул. Дверь, осевшая за зиму, натужно заскрипела. Вторая подалась легче, и Артем, поеживаясь от упруго ударившего в него ветра, ступил на балкон.
Смутное лицо, повисшее где-то сбоку, стало потихоньку уплывать в темноту, перила балкона вспыхнули фосфорическим пламенем и исчезли; Артем раскинул руки, прижимаясь к шероховатой кирпичной стене, но отыскивать за собою дверь было уже поздно, потому что вся темнота перед ним вдруг ожила, начала двигаться на него, словно громадный черный кот, и Артем уже чувствовал, как бесшумная необъятная лапа подцепила его, понесла, прижала к пушистому теплому брюху, и в этом щекочущем тепле он начал задыхаться, но ни бороться, ни даже кричать у него уже не было сил.
Дальше шел кошмар, удесятеренный своей бесконечностью. Артема переворачивало, мягко швыряло из стороны в сторону, но он никак не мог долететь ни до пола, ни до потолка — каждый раз упругий толчок воздуха изменял его движение, и он продолжал плыть, падать, парить, и самым мучительным было именно это отсутствие хоть какой-нибудь твердой точки, за которую можно было бы зацепиться. Воздух был страшен своей густотой, он распирал изнутри тело, и Артем чувствовал себя глубоководной рыбой, брошенной в лоханку с дистиллированной водой. Жажды и голода он не ощущал, напротив — до самого горла он был переполнен какой-то пряной, приторной дрянью, и все это вместе — пространство вокруг него, воздух, насильственная еда — все было нечеловеческим, непредставимым, НЕ ТАКИМ. По всей вероятности, он поначалу находился в каком-то сне или беспамятстве, но все то, что окружало и переполняло его, было настолько мучительно для его тела, что он постоянно приходил в себя и, не в силах этого выдержать, снова терял сознание. И так без конца.
Щеку свело от холода, и он очнулся. Ай-яй-яй, подумал он, вот как гибнут от переутомления молодые специалисты. Сидя на полу в кухне и обнимая холодильник.
Он рванул на себя ручку холодильника, взял бутылку еще не успевшего подморозиться пива. Рука дрожала так неуемно, что пришлось снова привалиться к холодильнику и высосать пиво, держа бутылку обеими руками, как медвежата держат рожок с молоком. Пустую бутылку он автоматически переправил в сумку и провел рукой по подбородку. Бриться по расписанию следовало бы сегодня, но завтра праздник, завтра и… Рука его остановилась. Он провел по одной щеке, по другой — полуторадневная щетина исчезла. М-да. Может быть, по пути домой он заходил в парикмахерскую?
Артем поднялся и побрел в комнату, все еще недоуменно оглаживая подбородок. В комнате остановился и долго шарил по стене, отыскивая выключатель. На миг его взгляд задержался на пепельном, смутно проступающем квадрате окна. Какое-то жуткое воспоминание зашевелилось в нем, но так и не поднялось, не оформилось. Пальцы нащупали выключатель, раздался щелчок, и Артем сокрушенно понял, что наваждение, — а может быть, и сумасшествие — продолжается.
На его тахте лежала маленькая, как ящерица, женщина.
Она спала. Артем на цыпочках подошел к ней и тихонько, чтобы не разбудить, отодвинул стул и уселся на него верхом, положив на спинку непонятно каким образом побритый подбородок.
Женщина не шевелилась. Гибкое ее тело расположилось так, словно его бросили, и бросили весьма небрежно, как бросают вещь, о которой не надо заботиться. Ни один нормальный человек не стал бы спать в такой неудобной позе. Он бессознательно принял бы более удобное положение… И только тут до Артема дошло, что ей плохо и надо помочь, и эта необходимость помощи была сейчас самым главным, и он бросился к ней и приподнял за тоненькие, до странности покатые плечи. На какую-то долю секунды он замер и ошеломленно глядел на эти плечи, потому что таких не существовало и не должно было существовать в природе, но потом перед ним всплыл акварельный портрет Натальи Гончаровой, и он, поневоле уверившись в правдоподобности этих плеч, отпустил их и, сколь мог поспешно, направился на кухню за водой.
Но вода оказалась ни к чему, потому что он просто не знал, что с ней делать. Побрызгать на голову он постеснялся, влить в рот не было никакой возможности — губы незнакомки были плотно сжаты. Правда, из литературных источников ему было известно, что в таких случаях зубы разжимают острием кинжала. Литература, черт ее дери! Но что делать сейчас, вот тут, с этим вот человеком, что делать? Кричать? Звать на помощь? Звать на помощь. «Скорая помощь». О, черт, если бы хоть где-нибудь поблизости был работающий автомат! Но Артем точно знал, что поблизости его нет. И к тому же уйти, оставив ее тут? Одну? О, беспомощность двадцатичетырехлетнего современного цивилизованного человека! Равик подле умирающей Жоан. Роберт Локамп и Патриция Хольман. Этот, как там у Хема, и евонная Кэтрин. Литература, литература, литература…
И тут он увидел, как оживают ее глаза. Пока еще не ресницы, а только глаза под выпуклыми веками; потом дошла очередь и до ресниц, но они были слишком велики и тяжелы, чтобы приоткрыться. Ну же, торопил он ее, ну, словно в том, что она откроет глаза, было спасенье от всех сегодняшних бед, от всего сегодняшнего неправдоподобия. Женщина была самым невероятным из всего, что приключилось за этот окаянный вечер, — и не ее появление, а именно она сама, ни на кого не похожая, НЕ ТАКАЯ. В чем это выражалось, Артем понять не успел, потому что увидел ее глаза.
— Фу, — сказал он облегченно и присел на край тахты, — а я-то…
Но она уже вскидывала руки, закрывая свое лицо, и там, в тесном промежутке между ладонями и губами, уже бился отчаянный, почти детский крик: «Но, но, но, но, но!..» Он схватил ее за руки — крик уже переполнял комнату, отражался от стен, звучал со всех сторон. И потом оборвался. О, черт, яростно подумал Артем, опять! И руки ледяные и какие-то бесплотные, словно лягушачьи лапки. Не вставая, он потянулся и выдернул из стенного шкафа шерстяное одеяло. Вот так. И давно надо было. Он закутал ее плечи, лилейные плечи Натальи Николаевны. Ну где сейчас найдешь женщину, которая падала бы в обморок при виде красивого мужика? Исключено.
Он наклонился над ней, пристально вглядываясь в ее лицо; потом откинулся назад и тихонечко присвистнул. Вот те на, сказал он себе, перед ним-таки лежала красавица с растрепанною роскошною косою и длинными, как стрелы, ресницами. И как там дальше у Николая Васильевича относительно нагих белых рук? Как же это сразу не бросилось ему в глаза? Наверное, сбил с толку отпечаток долгого, непереставаемого страдания на удивительном этом лице. И потом — сам факт появления этой женщины… Только женщины ли? Он снова вгляделся. И чуть было снова не присвистнул. Ей было никак не больше пятнадцати, совсем девчонка, школьница наверное. Школьница? Виева ведьма, вот она кто. Или агент «Интеллидженс сервис». Ведь кричала же с перепугу «но, но!». Не русская, значит. А может, эстонка или латышка? Там тоже белокурые, и красавица — куда там Вии Артмане!
Виева ведьма, она же агент «Интеллидженс сервис», тихонечко всхлипнула во сне. Артем поправил одеяло. Несчастный, замученный подкидыш, невесть откуда взявшийся. Пригрелась, как мышонок на ладошке, и спит. Горячим бы чаем ее напоить.
Артем поднялся и, все еще чувствуя какую-то ватную неуверенность в ногах, побрел на кухню. После всей этой гофманианы здорово чего-то хотелось — не то есть, не то пить, не то распахнуть окно и свеситься с подоконника. Остановившись на простейшем варианте, он полез в холодильник. Черт с ними, с гостями, хватит им. В крайнем случае, завтра можно будет сгонять в гастроном. Он вытащил ветчину, масло, абрикосовый компот — чтобы нагрелся, не давать же ей, такой умученной, прямо из холодильника. А дамы завтрашние обойдутся.
Он нехотя поел и стал подумывать, как бы устроиться на ночлег. Раскладушкой он еще не обзавелся, хотя давно собирался это сделать на предмет укладывания засидевшихся и не имеющих на такси гостей. Конечно, тахта была достаточно широкой для двоих, но черт ее знает, эту непрошеную, она кажется, с. предрассудками. По всей вероятности, не побывала еще на студенческой стройке или на картошке, где спят вповалку. Придется укладываться на полу. Он направился в комнату и остановился на пороге, потому что с тахты на него глядели немигающие, расширенные ужасом глаза. Сделай он еще хоть шаг — и опять раздастся этот режущий, звенящий крик. Артем прислонился к косяку. Как это ни тяжело, но надо было договариваться. В конце концов, в каждой школе изучают какой-нибудь иностранный язык. «Но». Она кричала «но».
— Спик инглиш?
Глаза даже не моргнули.
— Шпрехен зи дойч?
Ну, слава богу, а то он и сам не шел дальше этой фразы, слышанной где-то в кино. Но что же тогда оставалось? Он выразительно пожал плечами. Она долго смотрела на него из-под своего одеяла, потом неслышно что-то прошептала. Он подался вперед — глаза испуганно заморгали. Она повторила, но так быстро, что ему стало понятно единственное — она говорит по-французски. Тут у него не было в запасе даже дежурной фразы.
— Париж, — сказал он яростно. — Нотр-Дам, интернациональ, метрополь, революцией, марсельеза. Еще Генрих Четвертый. На этом мой словарный запас кончается, дальше придется объясняться мимикой. Марсель Марсо, понятно? Хотя объясняться будем завтра, сегодня только познакомимся, на всякий случай. Придется на манер дикарей тыкать друг в друга пальцами, вот так: Тарзан — Джейн, Джейн — Тарзан, помните такой эпизод?
Ничего себе контакт двух эрудитов, со злостью подумал он. И это в эпоху космических полетов. Мало приятного остаться в памяти такой хорошенькой женщины круглым дураком.
— Меня зовут Артем, — сказал он. — Артем! — И для пущей убедительности постучал кулаком в грудь. Как орангутанг, подумал он сокрушенно.
— Меня зовут Дениз, — послышалось из-под одеяла. — Только я плохо говорю по-русски.
— О, господи! — У него гора упала с плеч. — Вы говорите, как сам царь Соломон, как сам Цицерон, как сам доцент Васильев на лекции по международному положению. Только отложим переговоры до утра, а то у меня голова разламывается, да и у вас, я вижу, слипаются глаза. Спите спокойно, и да приснится вам ваш родной Таллинн.
— Mon Paris natal,[1] — тихо прошептала она.
— Париж так Париж. — Артему было все равно, лишь бы поскорее вытянуть ноги. — Дело вкуса. Хотя, конечно, имеет смысл посмотреть во сне на то, что вряд ли увидишь в оригинале.
— Я оттуда родилась, — медленно проговорила Дениз, с видимым усилием подбирая слова. — Mon Dieu, ie confonds des mots simples[2] — прошептала она уже совсем тихо.
— … Оттуда родом, — машинально поправил ее Артем. И тут только до него дошел смысл сказанного. — Ага, все-таки проклятый «сервис».
— Не понимаю… Сервис — зачем?
— Ничего, это я так. Есть хотите?
— Нет.
— Слишком поспешно для того, чтобы быть правдой. Сейчас я вам кое-что притащу.
Консервный нож куда-то запропастился, и Артем довольно долго провозился на кухне, открывая банку с абрикосами перочинным ножом. Открыв, выплеснул содержимое банки в стеклянную селедочницу и понес к Дениз.
— Вот, — сказал он, подходя, но она уже протягивала руку, заслоняясь от него узкой беззащитной ладошкой.
— О, черт! — он в сердцах поставил селедочницу на стул, оказавшийся между ним и тахтой. Розоватые глянцевые абрикосы с поросячьим самодовольством разлеглись в узкой посудине, красноречиво деля его собственную комнату на территорию Франции и СССР. — Впрочем, как вам будет угодно.
Он вытер лезвие ножика и попытался сложить его, но руки после давешнего наваждения еще подрагивали, я нож, так и не сложившись, выскользнул у Артема из рук и полетел вниз острием. Оба они видели, как лезвие блеснуло в воздухе узкой серебряной рыбкой, коснулось пола и… ушло в него. Целиком. Словно это был не паркет, а густой кисель или глинистый раствор. Едва уловимое кольцо побежало, расширяясь; его слабая тень скользнула под ботинки Артема — и все исчезло.
Артем ошеломленно глядел на пол, на то место, где произошло это очередное чудо. Потом поднял голову и встретился глазами с Дениз. Они смотрели друг на друга так, словно каждый был самой настоящей нечистой силой в образе человеческом, они ненавидели сейчас друг друга за все бессмысленное неправдоподобие сегодняшнего вечера, за кошмар этих ненужных никому чудес, за их непрошеную встречу — и каждому казалось, что тот, другой, и есть виновник всего происходящего.
Артем опомнился первым. Все. Хватит с него этих фокусов, сыт по горло. Он рванулся в переднюю и сдернул с вешалки плащ. Он еще не знал, что будет делать — переночует у кого-нибудь из друзей, проболтается до утра по весенним стылым улицам или попросту найдет работающий автомат и заявит в соответствующие органы, — но терпеть такое издевательство над собственным рассудком он больше не мог.
Будь она хоть капельку не такой, у него не появилось бы мысли обвинить ее во всем происшедшем; но невероятная красота сама по себе делала ее причастной ко всей этой чертовщине. Он распахнул входную дверь, вылетел на лестничную площадку — и увидел вокруг себя серебряный сумеречный сад.
И тогда он успокоился. Черт побери, сказал он себе, не каждый день удается посмотреть такой волшебный, цветной, широкоформатный, стереоскопический и стереофонический сон. Надо этим попользоваться. Попользуйся, брат мой. Нет, надо ж так — двух часов не проспать без цитаты из Хемингуэя. Это его совсем развеселило. Ну что же, рассмотрим сон во всех подробностях.
Черные мультипликационные пирамидки деревьев, равномерно подклеенные к нижней кромке тусклого неживого неба; темная фольга прямых, словно рельсы, дорожек, а между ними — разливы светло-серых жемчужных цветов, казалось, не росших из земли, а перелившихся через край волшебного горшка, который вместо гриммовской манной каши варил и варил бесконечную цветочную массу, пока она не переполнила игрушечный этот мир до такого близкого его конца.
И посреди этого сада, завороженного пепельным мерцающим полусветом, стойким отсутствием каких бы то ни было запахов и особенной, клейкой тишиной, как уже нечто совсем естественное возвышался маленький диснеевский домик. Неправильность формы позволяла угадывать в нем планировку однокомнатной квартиры; сложен он был из традиционного кирпича и накрыт двускатной крышей из соломы. Миленький такой шалаш. Трубы только не было, зато на входной двери трогательно белел квартирный номер. Артем тихо, чуть ли не на цыпочках пошел вокруг дома, все время плечом и ладонью касаясь шершавой стены — отойти даже на полшага было как-то боязно. Поворот — и под его пальцами зашуршали обои. Ну да, в этом месте должна была находиться великолепная квартира соседа Викентьича, беспалого мясника, уже успевшего повадиться к Артему за сигаретами. Но от нее осталась только шершавость унылых обоев, кое-где уже подранных матерым сторожевым кобелем.
А за следующим углом шли окна. Его окна — сперва Кухонное, с перышками зеленого лука на подоконнике там, внутри, а затем освещенное, сдвоенное с балконной дверью. Балкон лежал прямо на земле, и, ухватившись за его безобразненькие чугунные перильца, Артем вдруг отчетливо представил себе, что все наваждение мертвого этого сада вдруг исчезает, и почва расступается под ногами, восстанавливая прежнюю девятиэтажную пропасть между его балконом и настоящей землей. Страх перед этой воображаемой пустотой был так велик, что Артем чуть было не перемахнул через перила и не ворвался обратно в комнату через балконную дверь, но через стекло была видна тахта и на ней — лежащая вниз лицом Дениз. Но-но, прикрикнул он на себя, заставив оторваться от спасительных перил, рысцой промчался вдоль последней стенки и, ударившись всем корпусом о входную дверь, очутился в прихожей.
Дениз не шевельнулась, словно не слышала его шагов. Но пушистый ворс одеяла дышал ровно и нечасто, словно шерстка на спине у спящего котенка. Артем подошел к тахте и тяжело опустился на край.
— Я только что был там, — он ткнул большим пальцем в сторону окна. Этакий висячий сад Семирамиды. Посреди сада — плешь, а на ней наша хибара. Хочешь взглянуть?
Она подняла голову, безучастно посмотрела в окно, потом едва слышно произнесла:
— Mais c'est egal,[3] — и снова опустила голову.
И тут он перепугался уже по-настоящему, как можно бояться не за себя, а за другого человека. Кем бы она ни была, но он-то был мужчиной, он был старшим и сильнейшим. Он не знал ни слова по-французски, но прекрасно ее понял — ей все равно, и в такой степени, что она не будет ни есть, ни пить, а свернется под одеялом в маленький холодный комочек, словно птенец, брошенный в гнезде, и очень даже просто помрет. А он так и не будет знать, что же с ней делать, тем более что теперь не добежишь до автомата и не позвонишь в «неотложку», «скорую» или в соответствующие органы.
— Нет уж, — сказал он решительно, — придется тебе меня слушаться. Сейчас мы поужинаем.
Вода на кухне исправно шла — и горячая, и холодная. Газ исправно горел. Артем согрел чай, почти насильно напоил Дениз. Самому ему после всех этих открытий тоже ничего не хотелось, но положение старшего обязывало, и в качестве наглядного примера он с хорошо скрываемым отвращением запихнул в себя пару марокканских полнотелых сардинок. Совершив сей гастрономический подвиг, Артем почувствовал, что ни на что более он не способен.
— На моих часах половина одиннадцатого… А, черт! Стоят. Придется произвольно отсчитывать время. За окном непроглядная темень, ни огонька на горизонте, и вряд ли удастся что-нибудь выяснить. Посему на правах старшего откладываю все вопросы на завтра и приказываю всем спать. Я лично устал как собака.
Он старательно запер двери и проверил окна, потом вытащил ящик с инструментами и нашел там маленький недавно наточенный топорик. Не ахти какое оружие, но все-таки.
— Подвинься, — сказал он. Дениз отчаянно захлопала ресницами. Подвинься, подвинься. Тебе же все равно.
Она испуганно прижалась к стене. Артем сунул топорик под подушку и блаженно вытянулся подле Дениз.
— Есть у нас такая миленькая приспособленческая пословица, пробормотал он, закрывая глаза, — «с милым рай и в шалаше». Не слыхала? Подушка под щекой шевельнулась, — Дениз не то кивнула, не то покачала головой. — Так вот, рай налицо, шалаш тоже комфортабельный, тебе остается только вообразить, что я — искомый «милый». — Дениз снова испуганно дернулась, но дальше отодвигаться было уже некуда. — Да не бойся ты, глупенькая, я же сказал — вообрази. А шалаш у меня европейский — «с ванной, гостиной, фонтаном и садом…» как там дальше?.. «фонтаном и садом… только смотрите, чтоб не было рядом…» А знаешь, что во всей этой петрушке самое страшное? — Дениз затаила дыхание. — Мне кажется, что мы здесь совсем одни…
Он проснулся.
Было до изумления легко. Воздух щекотал изнутри при каждом вдохе; руки, поднятые для того чтобы закинуть их за голову и потянуться, взлетели сами собой, словно к каждой было привязано по десятку разноцветных воздушных шариков. И вообще все было лучше некуда, трын-трава и море по колено. А если что и не так, то только для того, чтобы преодолеть, Превозмочь, переделать, перестроить. И достичь.
Состояние легкого опьянения. Осторожно, Темка. Пока ты спал, с тобой что-то сделали. А может, не с тобой, а со всем тем, что тебя окружает. С воздухом, например.
Артем нашарил в кармане примятый за ночь коробок, чиркнул спичкой. Вспышка была несколько ярче, чем следовало ожидать. А может, показалось? Он чиркнул еще и тут только вспомнил про Дениз. Вот осел, напугаю ведь спящего человека.
Он осторожно спустил ноги с тахты, встал и, чуть не приплясывая, впрочем, это получалось само собой, а не от избытка радости, — выбрался в прихожую. Ладно, для первого раза определим, где мы сейчас находимся. Он распахнул дверь и вышел в сад. Веселье, неестественное, пришедшее извне, оставалось, но уверенность неуклонно улетучивалась. Да, действительно, где мы находимся? В голову лезла всякая бианковская ерунда вроде лишайников, которые обязаны произрастать только на северной стороне дерева, или муравейника, который, напротив, предпочитает южную сторону. Ни муравейников, ни лишая в райском саду не имелось. Утренний рассветный сумрак стремительно таял, но нигде в равномерных просветах между деревьями не проступало ни мутного пятнышка прячущегося солнца, ни розоватого блика зари. Небо было затянуто легкими, но необыкновенно низкими облаками, они висели неподвижно и за деревьями спускались до самой земли. Казалось, сад с крошечным домиком посередине был покрыт непрозрачным студенистым колпаком. Ни шороха, ни ветерка.
Он вернулся.
— Вставай, — он присел на край тахты, положил руку на одеяло, где угадывалось узенькое покатое плечо. — И только пугаться, как давеча, не вздумай.
Она обернула к нему свое лицо, подрагивающее незабытым вчерашним ужасом, и ему вдруг стало страшно, как может быть страшно только в детстве, когда встречаешь наяву что-то такое, что никак не может быть, чего НЕ БЫВАЕТ, — словно это Серый волк, словно Вий, словно Кощей Бессмертный.
Вот так поразило его нечеловеческое, принадлежащее не природе, а живописи — ее лицо.
— Проспали, — сказал он нарочито громко, разрушая наваждение ее немерцающей, стоячей красы. — По звездам надо было определяться. Север, юг и все такое. Сейчас туман. — Она смотрела на него, видимо не понимая, что он говорит, и он также не слышал и не понимал собственных слов. — Туман. Облака совсем над головой. За деревьями они легли на землю. Только, туман и посередине этого тумана мы. Ты и я.
Он отгораживался от нее словами, словно стоило ему замолчать — и он остался бы беззащитным перед бесовской силищей нерукотворной ее красоты.
— Да вставай же ты, — закричал он с отчаяньем, — вставай, навязалась ты на мою голову…
Она послушно поднялась и пошла в ванную, ступая боязливо и легко, словно пол, так загадочно поглотивший вчера злополучный ножик, мог снова расступиться. На пороге она застыла, удивленно прислушиваясь, но не к внешним звукам, потому что кругом была прежняя стойкая тишина, а к чему-то своему, подкожному, шевелящемуся внутри.
— Странно, — сказала она спокойно, — я вся… legere, легкая. Мне нужно только отдохнуть…
Она не договорила, словно не могла еще определить, что же она сможет после того, как отдохнет.
— И что тогда? — почему-то шепотом спросил Артем.
— Тогда я смогу летать.
— Да, — сказал он, — да… — И даже про себя, не вслух, он не усомнился в том, что она это действительно сможет.
И он представил себе, как она выходит на балкон, наклоняется вниз, через перила… А, черт, он же забыл, что теперь его балкон лежит прямо на земле. Но все равно, все равно. Она встанет на перила, подпрыгнет и, даже не взмахнув руками, начнет легко подыматься вверх, к студенистому серому колоколу, накрывающему весь сад. Контуры ее тела станут смутными, размытыми; вот она… Хлопнула дверь — Дениз исчезла в ванной.
Артем шумно выдохнул воздух и встряхнулся, словно селезень, вылезший из пруда. Положительно, пока он смотрит на Дениз, в голову лезет самая настоящая чушь. Дремучая чушь, как говаривал Гораций. Оказаться невесть где, черт знает с кем и уж совершенно непонятно — для чего, и с утра пораньше пялить глаза на эту куколку… Тьфу. Значит, так: быстро закусить, собраться и идти на разведку. В конце концов не на десятки же километров тянется этот райский сад. Где-то он должен кончиться. Дойти до этого конца, а там будет видно, что дальше.
— Ты готова? — спросил он появившуюся Дениз. — Садись, ешь. Сейчас ты останешься тут, а я хоть немного осмотрю окрестности.
Она отчаянно затрясла головой.
— Ты слушай, когда тебе говорят. Если бы тебя хотели отсюда украсть… Да не делай ты такие страшные глаза! Пойми, раз уж нас с тобой посадили в этот персональный шалашик, значит, кому-то надо, чтобы мы тут сидели вдвоем. И если бы с тобой хотели что-нибудь сделать, то поверь, что у них было на это и время и возможности. Так что сиди тут и никуда от дома не отходи. Топорик на тахте, на всякий случай. И не раскисай.
Он хотел дружески похлопать ее по плечу, чтоб действительно не раскисла, но вовремя остановился. Черт побери, он совсем забыл, что у нее плечи, которые не созданы для того, чтобы по ним дружески похлопывать. Совсем для другого были эти плечи…
Фу, нечистая сила. Пришлось опять встряхнуться.
— Держи хвост морковкой, принцесса, — сказал он неестественно бодрым голосом и шагнул за порог.
Прямо от порога веером разбегались дорожки — добрая дюжина, не меньше. Итак, выберем простейший вариант — идти прямо, чтобы домик все время оставался за спиной.
Он прошел несколько шагов и понял, что идти прямо невозможно. Дорожка змеилась, причудливо меняя направление, и терялась среди бесшумной громады высоченных кустов, намертво переплетшихся между собой трехпалыми, с добрую куриную лапу, колючками. Артем невольно обернулся — соломенная крыша домика уже не просматривалась за поворотом. Хорошо бы капроновую лесочку или на худой конец элементарную катушку десятого номера, комбинат «Красная нить», длина 200 метров. И чтобы Дениз держала ее за кончик, а-ля критская Ариаша.
Он представил себе эту картину со стороны: верзила (метр восемьдесят четыре) на капроновом поводке, словно комнатный песик. Да мы, кажется, трусим? Он решительно зашагал вперед. Узенькая тропочка все петляла, выскальзывая из-под ног; она была усыпана крупным, словно хорошо прожаренная греча, красноватым песком. Артем все не мог понять, что же необычного, НЕ ТАКОГО в этом песке, потом понял: на нем не остается следов. Никаких. Чтобы убедиться в своих наблюдениях, он присел и пальцем вывел большое каллиграфическое «Д». Пока подымал руку — все исчезло, словно было написано на воде. Ни рытвинки, ни бороздки.
Только красный прожорливый песок, в котором можно исчезнуть без следа.
Он побежал назад. Поворот. Еще поворот. Врезался в цепкий, нависающий над тропочкой куст. Выдрался. С мясом. Снова побежал. Скорее. Только скорее. Споткнулся. Корень. Черт, какой корень? Не было никаких корней. И деревьев этих до сих пор не было. Совершенно точно не было. Где-то он свернул. Не заметил, что тропочка разветвляется. Назад!
Назад. А сколько это надо — назад? Он бежит уже больше километра, и никаких развилок, и ничего похожего на прежнюю тропинку. Чаща кругом. Зачем он повернул? Чего испугался? Пройти бы еще немного, ну пес с ними, с деревьями, может, они и были. Он сейчас уже выходил бы к дому. Назад!
Назад. Деревьев все больше и больше. Спокойно. И не бежать. А то и так уже мучительно хочется пить. Идти спокойно. Спокойно идти назад. Вот так. Он уже полчаса идет назад. В который раз он уже поворачивает назад. И где вообще его дом? Сколько раз за это утро он поворачивал? Хоть бы какой-нибудь, самый паршивенький ориентир. О солнце он даже и не мечтал. По солнышку, по солнышку, по травке луговой… Дымчатое брюхо серого мышастого неба провисало над самыми верхушками деревьев. Он медленно побрел вперед. Вперед? Если бы он был в этом уверен…
Прошло около часа, пока он не вспомнил, что надо просто влезть на дерево и оглядеться. Беспомощность цивилизованного хлюпика, еще раз с ожесточением подумал он.
Он выбрал то, что показалось ему повыше остальных, продрался к нему через чащу кустов и сбросил ботинки. Ствол был гладким, добраться до нижних ветвей оказалось чертовски трудным. Но дальше пошло легче, и возле самой вершины Артем высунул голову из ветвей и посмотрел вниз.
То, что называется «девственным лесом». Море зелени, удивительно однотонной зелени, ни пятнышка хоть немного другого оттенка. Словно весь этот лес поливали с вертолета ядовито-изумрудным купоросом. Если бы не тропинка, аккуратно посыпанная крупнозернистым железистым песком, он сказал бы, что в этих краях еще не ступала нога человека.
А точно ли внизу есть тропинка? Его нисколько не удивило бы, если б и она исчезла. Но тропинка оказалась на месте, и, спрыгнув на нее, Артем снова не мог определить, с какой же стороны он подошел к этому дереву. А не все ли равно? Оставалось идти куда глаза глядят. Или вообще никуда не идти. Что толку метаться взад и вперед, если сезам закрылся, навсегда замкнув поляну, подернутую легкой накипью пепельно-серых цветов? Какие новые неестественные красоты уготованы ему на том или другом конце этой тропинки, и главное — с какой целью? С этого проклятого вечера, когда он с грохотом опустил на пол сумку и сетку с консервами в своей милой новенькой квартире, кто-то упорно и методически измывался над его здравым рассудком. Кажется, в одном из концлагерей пытались установить, сколько времени может выдержать человек в разреженном воздухе. Или на морозе.
Не ставят ли над ним какой-то чудовищный опыт, определяя, сколько чудес может вынести обыкновенный человеческий мозг? А если это так, то кем же была Дениз — сообщницей или подопытным белым мышонком?
Как ни странно, но мысль о Дениз не воскресила в его памяти ее лица. Неопределенные воспоминания о чем-то красивом, и только. Да полно, что в ней было особенного? Он с трудом заставил себя припомнить каждую отдельную ее черту — губы, брови, волосы. Все прекрасно, спору нет, но сплошь и рядом такие же вот совершенные составляющие слагались в абсолютно невыразительные, плоские лица. Ничего особенного, и если ему суждено никогда больше ее не увидеть, то особого разочарования он не испытает. А уж искать — и подавно. По доброй воле и своими ногами он с места не двинется. Если кому-то надо — пусть его несут. Хоть волоком, хоть по воздуху. Он плюхнулся на дорожку, взрывая ботинками песок, и в тот же момент услышал близкий, зовущий вскрик: «А-а!» Кричала Дениз, и не в полный голос, как от боли или от страха, а чуть недоуменно, вопрошающе, словно — где ты?
И снова — «а-а!», и теперь это был уже страх.
Он вскочил и, ни о чем не думая, ринулся прямо в заросли, на этот голос. И когда, вконец ободранный, он выбрался на полянку, домик стоял в каких-нибудь десяти шагах от него, и на пороге, поджав под себя ноги и рассыпав на коленях серые цветы, в буколической позе сидела Дениз. Он прекрасно понимал, что вся эта картина чересчур смахивает на рождественскую открытку из старинного бабкиного альбома, не хватает только воркующих голубей, — и одновременно с трезвым этим сознанием чувствовал, как сейчас он схватит ее — только хрупкие лопатки чуть шевельнутся под его ладонями — и вот так, с согнутыми коленками и цветами в подоле, прижмет к себе… какой-то шаг оставался до нее, когда он справился с этим наваждением. Немного помедлил, переводя дыхание, потом сделал этот последний шаг и, поддернув брюки на коленях привычным жестом, присел перед ней на корточки.
— Ну что? — спросил он ее. — Напугалась?
— Да, — с готовностью согласилась Дениз. — Вы так долго были… dans ce fourre[4]… там, — она неопределенно махнула ладошкой. — Я хотела позвать…
Она запнулась и опустила голову. Смутное подозрение снова поднялось в нем: она не хотела отпускать его. Она держала его подле себя. Он ушел, и она тут же подняла переполох.
— Ну, да, — Артем пристально смотрел на нее. — Ты хотела позвать меня. Так что же?
— Я хотела позвать… и тут… Я забыла ваше имя.
Он приготовился не поверить ей. Что бы она ни сказала — он должен был ей не поверить.
Но эти слова, произнесенные с детской беспомощностью, странным образом совпали с его недавним состоянием. Ведь он сам только что не мог припомнить ее лица.
Он ожидал всего, только не этого.
— Артем.
— Артем…
— Повтори еще.
— Мсье Артем.
— Ох, только без этих импортных обращений. Просто — Артем.
— Артем. Артем. Артем.
— Ну вот и умница. Больше тебя ничего не тревожит?
— Я боюсь завтра (не лишено оснований, подумал он, я вот боюсь за сегодня)… боюсь завтра проснуться — и вас нет. И нет память о вас. Ничего нет.
Артем посмотрел на нее ошеломленно, как на восьмое чудо света.
— Тебе же было все равно.
— Это пока вы рядом.
Вот тебе и на!
— Не бойся, больше я не буду тебя бросать. Это, конечно, была глупость, что я пошел один. Если бы ты не позвала меня… Почему ты не спрашиваешь, что я там увидел?
— А это мне все равно.
— Там только сад. Бесконечный, одинокий сад, и, уйдя от нашего домика, мы вряд ли сможем к нему вернуться.
— Зачем тогда уходить?
Он встал и молча прошел в дом. Хотелось бы обойтись без объяснений.
— Собирайся, — коротко велел он.
Дениз растерянно смотрела с порога, как он запихивает в спортивную сумку хлеб и консервы, сворачивает одеяло.
— Это тебе, — кинул он ей свой свитер. — Ночью будет холодно.
Он притворил за собой дверь и даже не оглянулся. Этот игрушечный шалашик не был его домом, чтобы жалеть о нем.
— Иди вперед, — он пропустил ее перед собой на узкой — двоим не разойтись — тропинке. — И пора наконец поговорить.
Она ничего не ответила.
— Ты кто такая?
Несколько шагов она прошла молча, словно обдумывая ответ, потом на ходу обернулась, и он увидел ее спокойное прекрасное лицо; я такая, какая есть, такой уродилась я. Опять литература.
— Ты русская? — Глупый вопрос, русские лица такими не бывают.
— Мама.
— Ясно. Жертва дореволюционных миграций. Как Марина Влади.
— Нет. Последняя война.
— Угнали немцы? Тогда прости.
— Да. Отец и мама встретились в лагере и не смогли расстаться.
Ну, что же, если Дениз пошла в мать, то ее отца понять не трудно. Хотя это может быть всего лишь правдоподобной версией. Версией… А это уже из второсортной литературы. Да кому он нужен — едва оперившийся инженер? Смешно. Городить такой огород, перетаскивать его в эту мертвую долину, да еще подсаживать к нему эдакую фазанью курочку, несовершеннолетнюю Мату Хари?
Чушь, чушь собачья. Девчонка как девчонка, школьница, только чересчур смазливая школьница. Сзади на нее смотришь — и то оторопь берет. Ей бы в актрисы, за границей, говорят, сплошь и рядом непрофессионалки. А может, эта — как раз профессиональная актриса? Давешний испуг, и визги, и бессильные, не свои руки? Если бы она была просто девчонкой — русской ли, француженкой, — давно должна была протянуть ноги от усталости. А эта идет. Спросить ее еще о чем-нибудь? Ответит. И когда родилась, и как зовут эту… как ее… консьержку, и каким камнем вымощен их дворик на улице… Улицу она тоже назовет. Спрашивать, чтобы не поверить?
А она все идет и идет, не оставляя следов на крупном, не хрустящем под ногами песке.
— Может, ты все-таки устала?
Она продолжает идти, не оборачиваясь. Ну да, ведь он не имеет никаких прав на заботу о ней. Никаких прав, пока у нее есть хоть какие-нибудь силы. Когда силы кончатся, права возникнут сами собой. Много прав. Право на заботу. Право на помощь. Право на…
Ох, черт, опять заносит.
— Может быть, я пойду первым?
Это чтобы не видеть ее перед собой. Но она снова не отвечает и продолжает бесшумно двигаться впереди по красной извилистой тропинке, на которой не остается никаких следов.
Они идут, идут, идут, и уже кружится голова от бесчисленных поворотов, и хочется упасть ничком и лежать, как лежала она, когда в первый раз он увидел ее на тахте а своей комнате. Лежать, как будто тебя бросили, и даже не пытаться изменить положение тела.
Дениз остановилась так внезапно, что Артем невольно сделал еще один шаг и обнял ее за-плечи — тропинка сузилась настолько, что встать рядом не было возможности. Дениз подалась назад и запрокинула голову.
— Все, — выдохнула она. — Я кончилась. Все.
Он ждал, что так случится, но теперь вдруг растерялся.
— Еще немного, Дениз, — забормотал он, словно это немногое могло хоть что-нибудь изменить. — Может, впереди будет хотя бы поляна…
Они шли уже несколько часов, и никаких полян не было. Только стена колючих кустов и крупный песок тропинки.
— Я понесу тебя.
Она замотала головой.
— Тогда что ты предлагаешь?
Плечи ее уходили из-под его ладоней; он сжимал их все крепче, но ничего не помогало — она исчезала, вытекала из его рук… Подхватить ее он успел. Поднял. Какое легкое тело, еще легче, чем он себе представлял. Ага, поймал он себя, а ты, оказывается, уже представлял ее у себя на руках. И когда только? Он старался идти широким, размеренным шагом. Как верблюд. А ведь легкость тела обманчива. Даже вот такое, почти невесомое, оно через двести шагов станет невыносимой тяжестью. Это он знал точно. Знал из той, позавчерашней жизни, что осталась по ту сторону от холодильника и сетки с консервами, брякнутыми об пол. Но вот кого он нес тогда? И не вспомнишь теперь, да и неважно это.
— Артем, — сказала она громко в самое ухо, — отпустите мне.
— Что это ты вдруг? — спросил он, осторожно переводя дыхание между словами. Разговаривать, когда несешь кого-нибудь на руках, — это уже совсем пропащее дело. — И потом — меня.
— Отпустите меня. Совсем. — Артем молча шел вперед, стараясь прикрыть рукой ее голые коленки — чтобы не очень ободрать их о сизые лапчатые колючки, вылезшие чуть ли не на самую середину дорожки. — Si vous ne me laisser pas partir aussitot…[5] — крикнула она высоким и злым голосом.
— Не кричи мне в ухо, — попросил Артем.
Она ткнулась носом ему в шею и примолкла.
— Погоди немного, может быть, мы найдем поляну. Отдохнем.
И тогда за поворотом послушно появилась ровная плюшевая полянка.
Он присел и, все еще не отпуская Дениз, провел свободной рукой по траве — она оказалась легкой и сухой, словно сено.
— Ну вот, можно наконец и ноги протянуть.
Дениз промолчала. Он опустил ее на теплую траву, в которой не стрекотал ни один кузнечик, не копошился ни один жучок. Мертвый кустарник, мертвая поляна.
И вконец измученное, осунувшееся лицо Дениз. Вот это уже никак не может быть игрой. Даже если она когда-нибудь и станет знаменитой актрисой, то и тогда ей не удастся сыграть так правдоподобно.
А ведь забавно будет, если через десяток лет он узнает ее в очередной голливудской кинодиве и так небрежно бросит своим ребятам: «Ну и намучился я, когда пришлось эту мамзель тащить на руках, — даром что одни мослы, хоть стюдень вари. Это тогда, когда мы заблудились в…»
Насчет мослов и «стюдня» — это наглый плагиат; услышал в кино по поводу Одри Хепберн и, придя в дикий восторг, взял на вооружение. А что касается «заблудились в…» — то сейчас это было проблемой номер один. Действительно — в Андах, Апалачах, Бирме, Венесуэле, Герцеговине?.. Нужное подчеркнуть. Ха!
А что, если она знает? Застать ее врасплох — если не проговорится, то пусть хотя бы растеряется.
— Где мы находимся? — спросил он быстро.
Она обернула к нему свое спокойное лицо.
— Вы спрашиваете меня?
Она не знала. Не могла она знать и так притворяться.
— Мы не в Европе.
Она не возразила.
— Нас везли, и весьма продолжительное время. Мы не в Африке — здесь не жарко. Да и растительность средних широт. Дальше. К нам не проникают ни звуки, ни ветер. Значит, мы в маленькой долине, окруженной горами. Высокими горами. Есть ли такие горы в Австралии? По-моему, нет. Но мы невысоко в горах — иначе нам было бы трудно дышать? Логично? Теперь, густая облачность указывает на близость воды. Вода рядом, и ее много. Может быть, это океан. Но таких безлюдных гор на побережье Азии я что-то не помню. Черт, а еще имел четверку по географии. Итак, остается Южная Америка — Анды. Ты очень устала?
Дениз молча покачала головой.
— Хорошо, если бы мы к вечеру дошли до этих гор. Долина должна быть крошечной, иначе мы ощущали бы ветер.
Ее рука машинально поднялась, пальцы зашевелились, словно ветер был чем-то осязаемым, что можно поймать. Рука упала.
Ах ты черт, сентиментальность проклятая, дешевое рыцарство. Язык не поворачивается сказать: «Ну пошли!» А ведь надо, надо! Не ждать же здесь, пока с тобой выкинут. очередной фокус.
— Дениз… — это почти виновато.
— А?
— Идем, Дениз.
Она тихонечко вздохнула и поднялась.
Они так и шли до самой темноты — сперва Дениз медленно брела впереди, потом виновато оглядывалась, и Артем брал ее на руки. Потом им попадалась поляна, они лежали рядом и глядели друг на друга, потому что вверху было неподвижное, словно застывшее в какой-то момент падения небо, на которое смотреть было страшно.
Потом они подымались и шли дальше.
Темнота наступила внезапно, даже слишком внезапно, как будто кто-то ввел на полную катушку громадный реостат. Некоторое время они шли в темноте, но больше спасительных полян не появлялось.
— Ничего, — сказал Артем. — И это не самое страшное. Песок на дорожке совсем теплый.
Он стал расстегивать куртку, и тут впереди блеснул огонек. Они не побежали, и не потому, что Дениз едва передвигала ноги, — в этот вечер у них еще сохранилась какая-то осторожность. Они бесшумно крались вперед, пока огонь не стал освещенным окном; цепляясь за перила крошечного палисадничка, Артем приподнялся и, прячась за косяком, заглянул внутрь.
Мятая тахта с клетчатым одеялом, пустая селедочница на стуле посреди комнаты, возле порога на полу — черный свитер, все-таки забытый Дениз.
Он оцепенело рассматривал все это, не понимая, не желая понять, что это тот самый дом, от которого они сегодня утром ушли не оглядываясь, ушли прямо, оставляя его за спиной.
— Кто там? — робко спросила Дениз из-за спины.
Если бы там кто-нибудь был!
— Никого, — сказал Артем, пропуская ее вперед. — Можешь никого не бояться.
Никого, только тот же дом, пустой, ожидающий их возвращения. Как капкан. Дверь за спиной захлопнулась, и Артем невольно протянул назад руку — попробовать, откроется ли она еще раз. Дверь мягко подалась. Вот, значит, как — капкан, из которого можно выйти. Сегодня утром они уже попробовали это сделать. Ну что же — завтра попробуем еще раз.
— Ты только не засыпай, — сказал он Дениз, — я сейчас сварю кофе, а то завтра ты и вовсе с ног свалишься.
Но она уже лежала на тахте, совсем как вчера, словно она не сама легла, а ее бросили, как бросают платье. Он повернулся и на цыпочках, чтоб не разбудить, пошел на кухню. И там все было так, как вчера. Батон в полиэтиленовом мешке, груда консервных банок на дне холодильника. Даже абрикосы. Может, он их не открывал? Да нет, было такое дело, еще и нож… Нож лежал на столе. Перочинный нож за два рубля пятнадцать копеек. Тот самый. А кофе? И кофе в жестянке было ровно столько же, сколько вчера вечером.
Есть почему-то расхотелось.
Он вернулся в комнату, осторожно подвинул Дениз к стенке и улегся рядом. Она приоткрыла глаза.
— Между прочим, — сказал он шепотом, — мы действительно в райском саду. И холодильник в роли скатерти-самобранки.
Она чуть поморщилась — досадливо и безразлично.
— Нет… не сад, — пробормотала она, засыпая. — В саду цветы… А в райском… des pommiers, яблони…
Артем шумно фыркнул и тут же скосил глаза. Нет, ничего, не проснулась. Усмехнулся уже беззвучно — господин учитель, мне бы ваши заботы. Яблонь ей не хватает. Тоже мне Ева. А Ева ли? Он всмотрелся в ее лицо. На кого она похожа? Каждая отдельная черта напоминает что-то, порой вполне определенное — плечи Натальи Гончаровой, волосы Екатерины Второй, подбородок Одри Хепберн… А сама-то — от горшка два вершка. Десятиклашка. Хотя — Елене Прекрасной, когда ее Парис умыкал, было, говорят, десять лет. Джульетте — тринадцать. Ева тоже вряд ли была совершеннолетней, и уж тем более — красавицей. Вон у Жана Эффеля — первозданная дура, которой только дай дорваться до райской антоновки. Не с чего ей было стать такой вот, как эта. Господь бог, когда ее творил, не располагал никакими эталонами, а о промышленной эстетике он и представления не имел по серости своей. Кустарь-одиночка.
Десятки веков должны были пройти, чтобы могло уродиться на земле такое вот чудо. Уродиться-то оно уродилось, да вот на что? Ей-богу, лучше, если бы подкинули ему свою девчонку, он бы хоть знал, как с ней обращаться. Привил бы ей элементарные туристские навыки, чтобы через сотню шагов не просилась на руки, покрикивал бы, время от времени щелкал по носу — для поднятия духа. Топали бы они по этому паршивому раю, распевая песенки Никитиных и Пугачевой, а когда добрались бы до тех, кто все это устроил, — можно было бы не бояться, даже если бы дошло до рукопашной.
А эта? И девчонкой-то ее неудобно называть. В старину говорили лицо, выточенное из алебастра. Ощущение чего-то неземного от этого образа сохранилось, хотя для нашего брата алебастр — это нечто грязноватое и в бочках.
И все-таки — выточенное из алебастра лицо, и никуда от этого не денешься. Капризная складочка в уголке рта. Яблонь ей не хватает.
А когда они наутро проснулись, было совсем светло, и за окном пламенела огромная пятиугольная клумба, какие обычно украшают центральные площади провинциальных городков. Клумбу венчал фантастических размеров зеленый цветок.
Слева и справа от клумбы торчали две виноградные лозы, увешанные рыжими, как помидоры, яблоками.
— Подымайся, принцесса, — Артем старался говорить как можно веселее, чтобы она не заметила его тревоги. — Тутошнего Мерлина дернула нелегкая исполнить твое желание. Пойдем взглянем.
Держась за руки, они подошли к клумбе. Невиданный разгул красок, все оттенки алого и фиолетового, а цветы одинаковые — примитивные пять лепестков, крошечная бутылочка пестика и щетинка черных тычинок. Просто цветок. Не ромашка, не сурепка, даже не куриная слепота. Ботаническая схема. Он попытался припомнить деревья, виденные вчера, — и с ужасом понял, что и это были не тополя или березы, а нечто среднее, безликое, мертвое в своей абсолютной правильности.
Но то, что они приняли за громадный светло-зеленый пион, вообще цветком не было.
В центре клумбы нагло утвердился громадный, пудовый кочан капусты.
— Артем, — проговорила Дениз, поднимая на него спокойные, совсем не испуганные глаза. — Мне страшно. Это сделать мог только… — она не стала подыскивать слово, а помахала растопыренными пальцами возле головы.
Артему и самому было страшно. Он давно уже догадался, что они находятся во власти какого-то безумного всемогущего маньяка, и вопрос заключался теперь в том, как долго это безумие останется в рамках безопасного.
Артем наклонился к ней и быстро приложил палец к ее губам. Потом показал на уши и сделал неопределенный кругообразный жест, должный означать: уши могут быть везде.
Дениз поняла. Еще бы не понять: ведь то, чего она пожелала вчера вечером, было произнесено чуть слышно, в подушку, и все-таки это было услышано.
Их слышат. И, может быть, даже видят. Дениз потянула Артема обратно в дом. Они наскоро поели и собрались, не говоря ни слова. Вышли.
— Вчера мы пошли прямо, — нарушил молчание Артем. — Возьмем другое направление, хотя мне сдается, что домик стоит не на прежнем месте.
Он говорил вслух, потому что это было и так очевидно. Виноградные лозы с помидорообразными плодами вклинились в монотонную зелень кустарника, и дорожек было значительно меньше, чем вчера, — только три. Они выбрали ту, что уходила влево. Они шли медленно и отдыхали чаще, чем вчера, и все-таки уже к полудню стало ясно, что тащить Дениз было бы просто бесчеловечно.
Плюшевая лужайка, испещренная радужными брызгами примитивных пятилепестковых цветов, была к их услугам. Артем вскрыл бессмертную банку с абрикосами, разложил бутерброды. Заставил Дениз поесть. Вообще он только и делал, что заставлял ее — есть, идти, вставать, ложиться. Подчинялась она безропотно. Сейчас он вдруг понял, что это было неслыханным мужеством с ее стороны. Ведь ее, наверное, на руках носили. В буквальном смысле слова. С ложечки кормили. Не просто же так она выросла такой, ни на что не похожей. Принцесса, Принцесса Греза. А ведь точно. Врубель был лопух. Вот такая она, принцесса Греза. Совсем девочка и совсем женщина. Вконец изнеженная и бесконечно стойкая. До обалдения прекрасная и в своей чрезмерной красоте годная только на то, чтобы на нее смотреть во все глаза. И не больше.
Он скосил глаза и осторожно глянул вниз — принцесса Греза лежала на траве, свернувшись в маленький золотистый комочек, словно рыженькая морская свинка.
— Ну что? — спросил он, наперед зная ответ. — Кончилась? Больше не можешь?
— Могу, — послышалось в ответ. — Но не хочу. Зачем идти? Ведь мы не придем… домой. И никогда.
— Но-но! — крикнул он, холодея от сознания ее правоты. — Ты это брось, принцесса… — он нагнулся над ней и просунул руку под голову, где тепло ее волос было неотличимо от человеческой теплоты сухой шелковистой травы.
Уже привычным движением он поднял Дениз на руки.
— Зачем? — Голос у нее был такой, словно было ей по крайней мере пятьдесят лет. — Я прошу, зачем? Останемся здесь.
— Ну, что же, — он медленно опустил ее, — попробуем остаться. Вечер уже недалеко.
Вечер наступил еще раньше, чем они ожидали, и, когда стало совсем темно, в каких-нибудь тринадцати шагах от них призрачно замаячило освещенное окно. Тот же дом, что и вчера, тот же дом и та же банка консервированных абрикосов на холодильнике, словно кусочек сала на крючке мышеловки.
Назавтра они снова пошли, на этот раз уже направо; через день они пошли назад, и еще несколько дней они пытались уйти от своего непрошенного возникавшего перед ними жилища, и каждый день к вечеру они находили освещенное окно и незапертую дверь. Места менялись. Капустные лужайки чередовались с помидорными лозами, берега ручьев с морской зеленой водой уступали место щербатым лазуритовым скалам, поросшим трехметровым вереском; но неизменным был домик, ожидавший их в конце дневного пути.
— Все, — сказал Артем наконец. — Завтра мы никуда не пойдем. Будем тупо сидеть и ждать, что с нами сделают.
Они прождали весь день, и самым страшным было то, что никто не пытался с ними ничего сделать. Они ждали, и ожидание становилось невыносимым.
И тогда Дениз нашла единственный выход.
— C'est assez! Довольно! Здесь все мертвое: трава, небо, мы… Nous sommes au fond.[6] Это наша судьба, понимаете, Артем? Судьба. Мы умрем. Но ждать… C'est insupportable,[7] понимаете? Я прошу, лучше сами! Разве нет?
Артем внимательно посмотрел на нее:
— Решительно сказано.
Он задумчиво почесал подбородок. Дениз, разумеется, брякнула это не от большого ума, а в силу истеричности женской своей натуры. И тем не менее — устами младенца…
А может, и вправду — маленький эксперимент, только немного мужества и выдержки со стороны этой принцессы. Цель? Вынудить противника обнаружить себя, когда он явно этого не желает; заставить его сделать выпад, когда он намерен только наблюдать. Эксперимент, конечно, белыми нитками шит, но ведь условный «противник» — совершенно очевидный псих, может, и сойдет.
— А не струсишь, принцесса?
Дениз вскинула подбородок — ни следов отчаянья, ни мелочной обидчивости, недетская готовность подчиниться его воле и разуму.
— Тогда так. — Артем взял со шкафа несколько старых газет, скомкал их и сложил на полу, возле входной двери.
— Нас затащили сюда, — продолжал он громко и демонстративно, — но, по-видимому, мы оказались не нужны. Возвращать нас не собираются. Я согласен с тобой — лучше сразу умереть, чем жить в неизвестности и безо всякой надежды на возвращение.
Он поджег бумагу и вернулся на тахту. Сел рядом с Дениз, взял ее руки в свои, чтобы не напугалась. Дениз глядела не на огонь, а на него, глаза были внимательные и ничуть не испуганные.
Газеты разгорались, первые высокие языки уже лизали дверной косяк. Что же, это изящный ход. Раз уж их притащили сюда, создали специально для них этот чертов павильон, кормят и поят да еще и стараются исполнять все разумные желания, — значит, они кому-то очень нужны. Так вот пусть теперь этот «кто-то» принимает меры по спасению своих живых экспонатов.
В комнате неожиданно запахло паленым мясом, хотя ни дверь, ни стена упорно не хотели разгораться. По серой плоскости двери пробежала дрожь, словно дунули на поверхность лужи, а потом она потекла, разом, как будто вся была сделана из одного куска масла. Тошнотворный сиреневый дым метнулся в образовавшийся проем, и в полумгле стремительно наступающего вечера они увидели четкую фигуру человека, стоявшего в конце дорожки.
Артем вскочил и, перепрыгнув через тлеющую груду бумаги, вылетел из домика и бросился навстречу незнакомцу. Только бы не исчез, только бы…
И тут же налетел на невидимую упругую стену. Прозрачная поверхность спружинила и отбросила его назад. На руках и лице остался клейкий, раздражающий налет, словно он врезался в тело огромной медузы. Артем невольно вскинул руки к лицу, чтобы стереть эту клейкую слизь, но ощущение оказалось обманчивым — кожа была суха. Стараясь освободиться от этого ощущения, Артем принялся, тереть щеки и лоб, а когда отвел руку, то увидел, что незнакомец стоит уже в шаге от него, по ту сторону прозрачной преграды.
Какую-то секунду они пристально смотрели друг на друга; но незнакомец, по-видимому, уже хорошо изучил Артема, потому что в его глазах не промелькнуло ни тени скрытого любопытства; Артему, в свою очередь, разглядывать было нечего, так как лицо незнакомца представляло собой нечто среднее из всех обычных мужских лиц. Просто лицо. Как у анатомического муляжа.
Незнакомец шевельнул губами, и Артему показалось, что слова, удивительно правильно произносимые, звучат с какой-то задержкой по отношению к движению губ.
— Чего вам не хватает? — с расстановкой произнес незнакомец.
Артем шагнул вперед и оперся ладонями на клейкую поверхность разделявшей их стены.
— Мы хотим знать, где мы и у кого мы. Мы хотим знать, по какому праву вы похитили нас. Мы хотим знать, какого черта вам от нас нужно.
Незнакомец снова зашевелил губами.
— Завтра утром, на рассвете, — донеслось до Артема, — я буду говорить с тобой.
Стена замутилась, подернулась дрожью, как шкура потревоженного животного, стала совсем непрозрачной. Сзади послышались шаги — осторожно подходила Дениз.
— Видела? (Хотя, конечно, видела.) Мне кажется, что именно эта рожа появилась у меня за окном, чтобы выманить на балкон. А когда тебя умыкали — ты никого не заметила?
Дениз наморщила лобик:
— Я спала. Потом открыла глаза — я плыву… как сказать… вот так, между комнаты… Что, нет? Я плыву, все кругом чуть-чуть темно, и человек, я его не знаю, делает руками так… — Дениз выставила вперед ладошки и слегка помахала ими, как машут на облачко дыма, — и я плыву быстрее, быстрее, словно я… как сказать… un duvet de peuplier,[8] дерево, нет тополь, тополиный — так? — а, одуванчик! — она с облегчением вздохнула. Когда ей приходилось составлять простую фразу, все шло гладко, и он даже удивлялся правильности ее речи, но стоило ей пуститься в подробности начиналась такая смесь русского с нижнегароннским, что в ней безнадежно тонул всякий смысл. — Но там, дома, был другой человек. Другое лицо… она быстро глянула на Артема и старательно поправилась: — другая рожа. Как… консервная банка.
— Рожа. Ты делаешь поразительные успехи в русском языке. Впрочем, с кем поведешься… Что только скажут твои Папа с мамой, когда ты возратишься?
— Отец и мама переводят вашу прозу… как сказать… contemporaine, современную. Там и не такие слова… я когда-нибудь вам скажу. Все подряд, вы будете поправлять. Разве нет? А когда я вернусь…
Плечи у нее вдруг совсем опустились, она тихонечко повернулась и побрела к дому. На пороге остановилась и, не оборачиваясь, словно ее совершенно не заботило, услышит Артем или нет, шепотом, очень правильно выговаривая каждое слово, произнесла:
— Я знаю, что никогда не вернусь домой.
Артем скорее угадал, чем расслышал. Бедный маленький подкидыш, стоит спиной и плачет молча, и только старается, чтобы не дрожали, не выдавали ее плечи.
Да не будь ты таким дубом, подойди, сделай что-нибудь, по головке погладь, что ли, — плачет ведь человек…
Подошел. Наклонился над нею…
— А если мы вернемся, — спросила Дениз, подымая на него сухие спокойные глаза, — разве вы не женитесь на мне и не возьмете меня с собой?
— О, господи, ну конечно!
А что еще можно сказать в таком случае?
Дениз тихонечко посапывала, уткнувшись ему в левое плечо.
Надо было освободить руку с часами. Это ему удалось не сразу, потому что больше всего он не хотел бы разбудить Дениз. Разговор предстоял слишком серьезный, чтобы впутывать в него еще и этого ребенка. Ребенок чмокнул губами во сне и тихонечко пробормотал: «Артем…» М-да. Ведь не «мама», а — «Артем». Может, это от постоянных дневных страхов, а может… Ладно. Не время об этом думать. Вот уже слабо проступили стрелки на часах, значит, через каких-нибудь пятнадцать минут мгновенно и неотвратимо наступит рассвет. Надо идти. И постараться стать господином положения.
Артем на носках выбрался в прихожую, с сомнением оглядел брюки — все эти дни он спал не раздеваясь, и это отложило прискорбный отпечаток на его костюм. Не хотелось, конечно, появляться перед представителем иностранной державы в таком непрезентабельном виде, но светало с каждой минутой, и не было речи о том, чтобы задерживаться для наведения лоска.
Он вышел из домика. Утра здесь не бывали свежими — как не было ни дневной жары, ни ночной прохлады. Широкая лужайка была пуста, и Артем медленно побрел между нахальными, аляповатыми клумбами, пока не дошел до кустов. И там, у дальнего поворота, невидимый из окон домика, уже поджидал его вчерашний незнакомец.
— Сядь, — велел он.
Артем покосился — слева от тропинки, действительно, появилась дерновая скамья. Артем сунул руки в карманы и вызывающе качнулся с пяток на носки и обратно. Надо сразу брать быка за рога. Так вот, распоряжаться здесь будет он и задавать вопросы будет тоже он.
— Подойдите ближе, — проговорил он тем тоном, каким обычно разговаривал в штабе народной дружины. — А теперь потрудитесь ответить: где мы находимся?
Незнакомец шевельнул губами, и до Артема явственно донеслось:
— Не на Земле.
Артем задумчиво потрогал подбородок, затем почему-то понюхал ладонь… Не на Земле. Все вопросы разом испарились. Не на Земле. С этим надо было свыкнуться, это надо было принять и переварить, а пока все остальное не имело никакого значения. Правда, в первый момент Артем чуть было не спросил: «А далеко ли до Земли?» — но вовремя понял, что вопрос глупый.
— Что же ты молчишь? — снова раздался приглушенный голос. — Я получил полномочия говорить с тобой и отвечать на любой из твоих вопросов.
— Мы не на Земле. — Артем только пожал плечами. — А все остальное это плешь.
— Это-это идиома?
— Вот именно. Скажите хоть, зачем вы это сделали?
— Вы нужны нам.
— Мы? Я и Дениз?
— Ты и она.
— Два кролика, черненький и беленький… Кровь будете пить или как? Чего от вас ждать, когда вы чуть не убили ее, пока тащили сюда! Вы что, не нашли никого постарше? Зачем вам эта девчонка, я вас спрашиваю?
— Она уже дорога тебе?
— Вот! — Артем выразительно постучал по лбу и потом — по каблуку ботинка. — Корифеи инопланетной цивилизации… Другого вывода вы сделать не могли?
Незнакомец высокомерно промолчал.
— Так вот, на будущее примите, что подобные вопросы к делу не относятся и обсуждению не подлежат. Как у нас, на Земле.
Что-то в лице незнакомца дрогнуло. Было ли это насмешливой гримасой? Этого Артем определить не успел.
— Так что же вам от нас надо, конкретно?
Незнакомец пожевал губами, и разрыв между их движением и возникновением звука еще больше увеличился.
— Когда-то мы были такими же, как вы. Теперь мы хотим знать, в чем заключается различие между вами и нами.
Артем только пожал плечами.
— Вы прилетели на Землю на корабле, который нам и не снился. Вы смогли создать все это — крошечный квазиземельный рай с самым модерновым шалашом. Так неужели вы не могли сконструировать машину, которая вычислила бы разницу между вами и нами с точностью до одного атома?
— Простой количественный анализ нам ничего не давал. Необходимы были непосредственные наблюдения в условиях, максимально приближенных к естественным.
— И вы протянули руку и взяли нас, как взяли бы из террариума двух лягушат. Можете меня поздравить — я уже четко вижу разницу между вами и людьми Земли.
— Да? — сказал незнакомец, и тон его очень не понравился Артему. Между прочим, я некоторое время провел вблизи вашей планеты и наблюдал за жизнью ее обитателей. Некоторые из этих наблюдений убедили меня в том, что перенос двух жителей Земли в условия, наиболее для них благоприятные, будет не самым антигуманным актом из всего, происходящего на вашей планете.
— Хороша же ваша цивилизация, если вы ориентируетесь на далеко не лучших представителей планеты, значительно отставшей от вас по уровню развития.
— Зачем ты пытаешься обвинить нас? Ведь если бы мы предложили тебе добровольно лететь сюда, если бы мы сказали тебе, что нам нужна твоя помощь, — разве ты отказался бы?
— Нет, разумеется. Но вы впутали в это дело Дениз…
Они быстро взглянули друг на друга.
— Круг разговора замкнулся, — заметил незнакомец. — Не хочешь ли спросить еще о чем-нибудь, прежде чем проснется твоя Дениз?
Твоя Дениз. Тактичности у этого супермена хоть отбавляй.
— Да спрашивать еще можно было бы до бесконечности. Но на первый раз хватит. Мы ведь еще увидимся?
— Как ты пожелаешь.
— А если я пожелаю, то как я смогу вас вызвать?
— Позови меня.
— Но вы мне не представились…
— Мое имя непроизносимо для твоего языка. Поэтому условимся, как тебе будет легче меня называть. Как на вашем языке обозначается существо, стоящее на более высоком уровне, чем человек?
Артем пожал плечами:
— Бог, наверное. Один, Зевс, Саваоф, Агуро-Мазда, Юпитер… Если вам действительно все равно, я буду звать вас Юп — это верховное божество у древних римлян.
«А также человекообразная обезьяна у Жюля Верна», — подумал он про себя.
Незнакомец важно склонил голову, в знак согласия.
— Запас продуктов питания будет, как и прежде, обновляться ежедневно. Чего еще вам не хватает?
— Дела.
— О, мы только хотели дать вам отдохнуть после дороги. Чуть подальше по этой дорожке, в двух кабинах, вы найдете звукозаписывающие аппараты. Мы просили бы вас подробно диктовать все, что вам известно о жизни на Земле прежде всего о себе самих, о семье, детстве, воспитании… Не пытайтесь что-либо систематизировать — диктуйте в том порядке, как вам будет легче вспоминать.
— А аппаратуры, записывающей мысли, у вас разве нет?
— Для инопланетных существ — нет.
— Что ж так слабо? Создайте. Построили же вы корабль.
— Этот корабль был создан много тысячелетий тому назад. Мы давно уже ничего не создаем…
Наступила тяжелая пауза. Понемногу становилось ясно, для чего этим «богам» потребовалось отыскивать различие между собой и нормальными людьми.
— Кажется, проснулась Дениз, — проговорил Артем. — До завтра, Юп.
— До завтра.
Прозрачная пленка, о которой до сих пор можно было догадываться только по приглушенности голоса Юпа, стала непрозрачной, лиловатой, лиловой, исчерна-лиловой — и растаяла. Дорожка была пуста.
Он пошел к домику, зная, что Дениз действительно проснулась, но не встает, а свернулась под клетчатым пледом в зябкий комочек и чутко прислушивается. Ей страшно, она одна. Когда он не видел ее перед собой, он мог думать о ней совершенно спокойно, как о девчонке-десятикласснице.
А потом он находил ее каждый раз совершенно не такой, какой помнил, и это выбивало его из колеи. Приходилось делать над собой усилие, чтобы выдавить какую-нибудь нейтральную фразу.
— Еще ты дремлешь, друг прелестный? Пора, красавица, проснись! — Дай бог, чтобы для нее, воспитанной на Лафонтене и Ростане, эти чудесные строки не прозвучали так нестерпимо банально, как для него самого.
Она смотрела на него не мигая, как смотрят на чудо. Наверное, именно так он сам смотрел на нее в первый их вечер.
— Что с тобой? Тебя кто-нибудь напугал?
— Нет. Но я проснулась одна, и вдруг поняла, что вас никогда не было.
— А я есть. Вот беда-то!
— Не беда. Не надо так. Но я теперь должна снова привыкать к вам.
— Тогда начнем с завтрака. Потом приведем себя в порядок. Держала когда-нибудь в руках утюг? Нет? Гм, это хуже. Придется мне все взять на себя: гладить, стирать, носик вытирать…
— Артем, что вы хотите от меня скрыть?
— Ровным счетом ничего. Просто у нас сегодня первый нормальный рабочий день. Садись, ешь. Абрикосы тебе еще не осточер… Кхгм! Не поднадоели?
— Что буду делать я?
— То же, что и я, — вспоминать и диктовать. Тому, кто пригласил будем называть это так — нас сюда, требуются наши интимные воспоминания. Пеленки, детский сад, школа. Как у тебя там было с историей?
— Совсем неплохо.
— Ого, мы недурно друг друга дополняем. Так вот, в наше распоряжение предоставлены звукозаписывающие аппараты. Постараемся вспомнить, с чего начинала наша матушка-Земля. Издалека и поподробнее. Хронология может быть примерной. И постарайся пока ограничиться древнейшими временами. О Карле Великом и Пипине Коротком тоже можно. И кто там еще был в это время в Англии? А, Тюдоры.
— Ох… — сказала Дениз.
— Не давись, я тебя предупредил. Это естественный средний уровень серого инженера. Слушай внимательно. О Бертольде Шварце уже не надо. Это им неинтересно. Поняла меня?
— Да, — кивнула Дениз. — Я хорошо поняла. Их интересует только история.
— Собственно говоря, их интересует все. Но лучше начать с истории это безобиднее. Что касается географии, то они, наверное, догадались сделать несколько снимков Земли, когда прилетали за нами…
Он запнулся, но было уже поздно. Надо было быть последней дурой, чтобы после этих слов не догадаться, что к чему. Но догадалась ли она?
Дениз сидела, не подымая головы.
— Посмотри на меня, Дениз. Пожалуйста. Дело в том, что мы не на Земле.
— Да, — ответила она спокойно, — да, здесь легко, слишком легко, летать можно…
Он ошеломленно уставился на нее.
— Ты что же… догадывалась? С самого начала? Но ты же ничего мне об этом не говорила…
— Тогда мне было все равно.
— А теперь?
— Мне и теперь все равно, где мы есть.
Она умудрялась так строить фразы и делать такие многозначительные паузы, что после каждой из них так и тянуло броситься к ее ногам а-ля полковник Бурмин.
— Помой-ка посуду, — сказал Артем. — Нам пора на работу.
Крытые беседки, обвитые диким виноградом, уже дожидали их по обеим сторонам тропинки, на которой сегодня утром он разговаривал с Юпом. Внутри каждой беседки был установлен прибор, отдаленно напоминающий гелиевый течеискатель. Возле пульта — низкое вращающееся кресло и одноногий столик с неизменной банкой абрикосового компота и пачкой сухих галет.
«Просто счастье, — подумал Артем, устраиваясь в кресле, — что мне достался на воспитание такой мудрый ребенок. Заметить, что тут другая сила тяжести, надо же! Разница ведь едва уловимая. И это царственное спокойствие… Другая ревела бы день и ночь напролет, вспоминая маму, набережную Сены и голубей на площади… как там у Ремарка?.. на площади Согласия. А действительно, почему она ни разу не вспомнила о доме? Вернемся к предположению об «Интеллидженс сервис»… Чушь собачья. Я же не лез к ней с воспоминаниями о своей единственной тетушке Полине Глебовне, в самом деле! А если бы я начал ей петь про гранитные набережные и полированные колонны Исаакия с осколочными щербинами — это был бы сплошной завал. Непрошеная откровенность хуже незваного гостя. Так почему же то, что совершенно естественно для меня самого, кажется мне неестественным в ней? Может быть, это просто интуитивное желание найти в ней какую-то фальшь, за неимением других пороков, — желание, диктуемое элементарным законом самосохранения… от чего? Ну-ну, признавайся, никто не слышит, и эти машины не записывают мыслей — ведь ты боишься ее, правда?..»
Он давно знал, что это правда. И не ее он боялся — себя. Знал, что, если начнет его заносить, — тут уже трезвому инженерному разуму будет делать нечего. Поэтому он не позволял себе смотреть на Дениз иначе, как на девчонку-школьницу. Не время и не место. Делом надо заниматься. Он наклонился над «течеискателем».
— Древнейшим очагом цивилизации на нашей планете был, по-моему, Египет, — начал он, и разноцветные лампочки суетливо замерцали на панели прибора. — Уже в пятом тысячелетии до новой эры… черт, как бы объяснить, что такое новая эра, не забираясь в историю христианства? Ну, ладно, о новой эре после. Высшим правящим лицом был в Древнем Египте фараон…
Единственными фараонами, которых он помнил, были Аменхотеп IV и Эхнатон. Правда, примешивалось сомнение, что это одно и то же лицо. И еще какой-то жрец Херихор. Ну, и, естественно, Нефертити. А, так вот на кого похожа Дениз. Та же спокойная, непробужденная нежность, то же устремление всех черт от выреза верхней губы к вискам, словно по уже вылепленному лицу осторожно провели влажными ладонями, и оно навсегда сохранило это прикосновение сотворивших его рук…
— Правящих династий там насчитывалось, что-то около двадцати, если не больше, — проговорил он, встряхиваясь. Лампочки снова забегали по пульту, словно только и дожидались звука его голоса. — Могущественной силой, противостоящей власти фараона, были жрецы…
В полдень к нему забежала Дениз.
— Я немножечко охрипла, — сообщила она. — А вы?
— Дошел до Эхнатона с Херихором.
На лице Дениз отразился неподдельный ужас:
— Это сразу, вместе, да? А вы не забыли сказать, что жена Эхнатона была королева… нет, не так — царица Савская?
Артем наклонил голову и посмотрел на серьезную рожицу Дениз. У него медленно возникло подозрение, что над ним издеваются.
— Между прочим, жены великих людей к истории не относятся и таковой не делают. Как и сами великие люди. Историю творит народ, пора бы помнить из школьной программы.
Дениз скорчила жалостливую гримасу:
— Бедная история! — Она уселась на пороге, ноги наружу — свешиваются со ступенек, не доставая до земли, голова — вполоборота к Артему; киногеничный такой диалог с репликами через плечо. — Если бы история без женщин — какой ужас! Любое дело без женщин — обязательно гадость. Вот война. Вот пьяно… пьянство. Вот полиция. Вот политика…
— История и политика — вещи разные.
— Ну конечно! Политику делают мужчины, а историю… мужчины делают ее так, — Дениз плавно повела руками вперед, словно изображая медленно текущую реку. — А женщины… — она быстро закрутила кистями рук, как это делают, взбаламучивая воду.
— Ничего себе моделирование исторических процессов! Ну а при чем здесь царица Савская?
— Царица Савская не могла делать историю, у нее ноги были, — о, плюш, как медвежонок. — Дениз оперлась руками о порог и, вытянув вперед маленькие свои ножки, сделала вполне приличный «угол». Спортом она занималась, это несомненно, отсюда и выносливость, а туфельки на босу ногу (и как только держатся — едва-едва кончики пальцев прикрывают) — старые, видно, не очень-то сладко живется семейству средних переводчиков.
— Царица Савская, — продолжала щебетать Дениз, — никто не жена. Даже Соломона…
— Послушай-ка, а тебе никто не говорил, что ты похожа на Нефертити?
— О, конечно. Говорил. Мсье Левэн, вы его не знаете. Это сейчас говорят всем красивым женщинам!
Гм, сколько скромности — «всем красивым женщинам»!
— А Нефертити… — Дениз пожала плечами: ничего, мол, особенного; сложила пальцы щепоточкой и провела вертикально снизу вверх, словно ощупала тоненькую тростинку. — Сушеная рыбка… Вобель, что, не так?
— Вобла, — автоматически подсказал он.
— Плечи — о, так вот, прямо, полотенца сушить. А ноги? Так и так (в воздухе была нарисована кочерга), вот тут (скинута туфелька, на пороге маленькая гибкая ступня. Дениз шлепает по ней ладошкой и потом показывает на пальцах нечто, протяженностью соответствующее сороковому размеру) — тут сухая, плоская деревян… деревяшка.
Просто беда с этими бабами — до чего развита элементарная пошлая зависть! Ведь только из пеленок, а уже шипит на ту, что царствовала три тысячи лет назад, и не потому, что та лучше, — нет, как бы это ни звучало невероятно, Дениз еще прекраснее, и страшно подумать, что еще дальше будет, годам к двадцати пяти; но сейчас ей нестерпимо завидно, потому что Нефертити знает весь мир, а ее — только папа с мамой и еще какой-то мсье Левэн.
— М-да, — произнес он вслух, — у меня вот к ней меньше неприязни и больше сострадания — Эхнатон-то как-никак, ее бросил.
Дениз удивленно вскинула брови, — она часто делала это, словно спрашивая: правильно я говорю? Вопросительные интонации возникали у нее тоже слишком часто и неожиданно — где-нибудь посередине совершенно эпической фразы. она сомневалась в правильности своих слов и одновременно извинялась за возможную ошибку. Это получалось очень мило, но если бы она хоть немного хуже говорила по-русски — эти скачущие интонации делали бы ее речь абсолютно непознаваемой.
— Неприязнь? — Удивление Дениз дошло наконец до выражения вслух. Зачем? (Она всегда путала «почему» и «зачем».) Просто надо смотреть, думать. Вы смотрите (всегда ей не хватает слов, когда она начинает говорить быстро), и это (ладошка взад и вперед, словно пилочка, вдоль выреза платья… Это, вероятно, значит «скульптурный портрет»)… и это неправда, так не бывает, не может быть — вообще, для всех, на самом деле… На самом деле надо смотреть des fresques, рисунки. Это — для всех, понимаете? Рисунки — просто женщина. А это — голова, все молятся, это для одного, понимаете, Артем? Для него. Для не Эхнатона. Нет? Это — Нефертити для одного, единственного…
Он даже не останавливал ее, хотя она уже дошла до предельной скорости, когда одно слово сменяет другое раньше, чем предыдущее, произнесенное полувопросительно, полураздраженно (господи, да как можно не понять таких простых вещей!), не ожидая, когда это будет Артемом осмыслено, заменено другим, более подходящим, а главное, отыщется связь этого слова со всем предыдущим. Дениз продолжала щебетать, а он слушал ее и не мог надивиться — она говорила все это так горячо, словно это касалось ее лично и не было отделено от них тремя тысячелетиями.
«Вот это всплеск!» — думал он. А ведь, в сущности, «что ему Гекуба?». История несчастной жены фараона была им слышана десятки раз, и повторялась она с монотонным однообразием. Дело в том, что когда они с Фимкой Нейманом клеили каких-нибудь эрудированных девочек, которых надо было подавить своим интеллектом, Нейман заводил сагу о неверном фараоне, бросившем такую красавицу ради пышнобедрой густобровой Кайи, дешевой кокотки с Нильской набережной. Едва заслышав каноническое начало: «Кстати, о мужском постоянстве…» — Артем механически выключался, и вдохновенная неймановская брехня ни разу не дошла до его сердца и сознания. Девочкам, правда, хватало — ровно одной байки на двоих. Так продолжалось до начала прошлого года, когда вышел роман «Царь Эхнатон» и свел на нет новизну и сенсационность Фимкиной байки. Но он не растерялся, раздобыл где-то очередную гипотезу о происхождении «Моны Лизы» — что это-де автопортрет Леонардо в женском платье, и с помощью этой изысканной искусствоведческой «утки» продолжал поддерживать репутацию интеллектуала.
И вот теперь нескольких сбивчивых, торопливых слов Дениз оказалось достаточно, чтобы поднадоевшая уже всем история мятежного, но непоследовательного фараона и его неправдоподобно прекрасной супруги вдруг засветилась совершенно новыми красками и впервые стала понятной до конца.
Ну конечно же, Нефертити не была, не могла быть такой, какой изобразил ее безвестный скульптор. Два скульптурных портрета — это та Нефертити, какой она была только для этого художника. А все остальные — да и сам фараон — видели длиннолицую немолодую мать шестерых детей с безобразным отвислым животом, какой изображена она на нескольких настенных рисунках.
— Что же, выходит, Эхнатон не знал, что его придворный скульптор, так сказать, лакирует действительность и изображает его законную половину в виде богини красоты?
— О, как можно: царь — не знал? Знал. Однажды. Пришел в мастерскую и увидел. И стал такой несчастливый… несчастный — так? — фараон. И все, что он делал… есть такие слова, сейчас, сейчас… О, все пошло пеплом.
И пошло прахом все великое дело Эхнатона, ибо искал он ту Нефертити, которую удалось увидеть его придворному художнику, и не мог найти. Где-то рядом прошла она, совсем близко от него, страстная и нежная, царственная, как никогда в юности, и юная, как никогда в зените своей царской власти. И удержал он свои войска, готовые ринуться в сокрушительный набег на сопредельные государства, и остановил он руку свою, готовую истребить под корень непокорных жрецов, и позволил править вместо себя какому-то проходимцу из прежних любимчиков, и, весьма возможно, взял себе крутобедрую пышнобровую Кайю, и хорошо еще, если только одну. Вот как это было, и одна только Дениз догадалась, что все было именно так.
— Сколько тебе лет, Дениз?
— Шестнадцать. Столько, сколько было маме, когда она встретилась с моим отцом.
Такая постановка вопроса, — вернее, ответа — как-то сразу его отрезвила.
— Ну, раз тебе только шестнадцать, то у тебя, как у несовершеннолетней, должен быть укороченный рабочий день. Посему отправляйся-ка домой и свари картошки, она в углу кухни, в коробке из-под торта. Не поленись почистить. А я еще подиктую.
Дениз царственно выплыла из беседки. Нефертити бы да се плечи.
А через час она прибежала, даже не прибежала, а прискакала на одной ноге, и с радостным визгом поволокла его на кухню; поначалу он никак не мог уяснить себе причину ее восторгов и лишь некоторое время спустя понял, что ведь это первая картошка, сваренная ею собственноручно. Дениз становилась маленькой хозяйкой, и Артем с отвращением поймал себя на попытке сравнять ее с Одри Хепберн из «Римских каникул», когда она в роли наследной принцессы неозначенной страны варит свою первую и последнюю в жизни собственноручную чашку кофе.
После обеда они снова разошлись по своим беседкам, а когда начало темнеть, Дениз на рабочем месте не оказалось, вероятно, ей уже надоело и она решила воспользоваться своей привилегией несовершеннолетней. Артем нашел ее на тахте, с поджатыми ногами и иголкой в руках. Его единственная праздничная рубашка из индийского полотна, аккуратно четвертованная, была разложена на столе.
— Ты с ума сошла, Дениз. Что ты сделала с моей рубашкой?
— А? Вам жалко?
— Да нет, но все-таки…
— Вы чересчур любопытны, — и принялась разрезать рукава на длинные полосы.
Она провозилась весь вечер, что-то напевая себе под нос. Наконец торжествующе объявила:
— Конец!
— Премиленький сарафанчик. Узнаю в воланах собственные рукава. Надеюсь, ты не собираешься его сейчас, при мне, примерять?
Дениз покраснела.
— Ох, извини меня, дурака. Наша полуденная беседа напомнила мне, что ты все-таки француженка.
— Я не вижу связи…
— У меня почему-то сложилось представление, что француженка обязательно должна говорить двусмысленности, раздеваться в присутствии посторонних мужчин, целоваться с первым встречным и на все отвечать неизменным «о-ля-ля!».
— Вы насмотрелись дешевых фильмов, — грустно констатировала Дениз. Я даже не сержусь. Но если мы здесь будем жить… м-м… надолго, то я хотела бы иметь des draps, простыни. Это можно?
— Разумеется. А ты что, их тоже будешь резать?
— Зачем? Я буду спать. Провести целую неделю не раздеваясь… Мне просто стыдно.
— Ничего, можешь меня не стесняться.
— Мне стыдно перед собственным платьем. Оно есть мое единственное.
— А это, новое?
— Мой бог, это платье для ночи!
Теперь настала очередь смутиться Артему. Чтобы скрыть это, он ткнулся носом в шкаф.
— Держи наволочки… и это… и это… не надушено, ты уж извини… Я кретин! — радостно объявил он. — У меня же лежит Фимкин надувной матрац. Всю жизнь мечтал спать на балконе.
— Разве один — не страшно?
— Глупышка, нас тут берегут как зеницу ока. А дверь я закрою неплотно, если что — крикнешь меня.
Он вылез на балкон, и было слышно, как он там возится с матрацем и велосипедным насосом. Через некоторое время его окликнули.
— Что тебе, детка?
Дениз не ответила, и он догадался, что надо к ней подойти.
Она уже устроилась на ночь, и Артем невольно улыбнулся, увидев свою рубашку, с отрезанными рукавами и воротом, непомерно широким для Дениз.
— Нефертити в мужской сорочке. Картина!
Она подняла на него глаза, не принимая его шутки:
— Доброй ночи.
— Спи, детка.
Он наклонился и поцеловал ее в лоб.
На балконе было совсем не холодно. Артем перекинул свои вещи через перила, блаженно вытянулся и стал глядеть вверх. Чернота подземелья нависла над ним.
— Юп! — позвал он шепотом.
Слева, за перилами, что-то мелькнуло.
— Вы довольны нами, Юп?
— Да, — так же тихо донеслось из темноты. — А вы?
— Вполне. Хотя вспоминать — это не такое уж легкое дело, как можно было ожидать.
— Ты жалуешься?
— Нет.
— Тебе еще что-нибудь нужно?
— Мне — нет. Но я боюсь, что для Дениз всего этого будет мало.
— Что же ей нужно еще?
— Игрушки.
— Хорошо.
Он заснул незаметно для самого себя и проснулся только тогда, когда рассвело. Он потихонечку оделся и перелез через перила на землю. Он уже собирался обогнуть дом и войти в него через дверь, чтобы таким образом бесшумно проникнуть в кухню, но в этот момент до него донесся приглушенный вскрик Дениз. Одним прыжком он перемахнул обратно через перила и ворвался в комнату.
Стопка плоских разноцветных коробок высилась от пола до самого потолка, а возле нее, голыми коленками на полу, стояла Дениз. Вся комната была затоплена какой-то золотистой пеной, и Дениз подымала эту пену и прижимала к своему лицу. При виде Артема она вскочила и, крикнув что-то на своем языке, подняла над головой столько этого прозрачного пенного золота, сколько могло удержаться у нее на ладонях; потом она закружилась, и медовые невесомые струи с шелестом обвились вокруг нее. Артем подошел, потрогал пальцами, — гибкая синтетическая пленка, усеянная бесчисленными блестящими пузырьками.
— Получила-таки игрушку, — добродушно проворчал он.
— Мой бог, «игрушку»! Вы знаете, что мне хочется сказать при виде всего этого?
— Знаю: о-ля-ля!
— Вот именно. О-ля-ля!
— Сказала бы лучше спасибо.
— О, это мне в голову не пришло. Я… un cochen de lait, свинка. Кто мне все это подарил?
— По всей вероятности, Юп.
— Откуда здесь негр?
— Почему «негр»? Это наш хозяин.
— Юп — имя для прислуги, а не для хозяина, разве нет? Но все равно. Она бросилась к балконной двери, распахнула ее и крикнула: — Мерси, мсье Юп!
— Ну вот ты и ведешь себя, как француженка из дешевого фильма: вопишь «о-ля-ля» и выбегаешь полураздетая на балкон.
Дениз только пожала плечами:
— А мсье Юп не очень стар?
— Кажется, не очень. Но хватит восторгов. Завтракать и — на работу.
— А когда будет… м-м… воскресенье?
— Считай сама, вчера был понедельник.
Дениз надула губки.
— Но, учитывая твой детский возраст и заботы по дому, я устанавливаю тебе рабочий день до обеда.
— О-ля-ля! — закричала Дениз. — Да здравствует безработа!
— Во-первых, безработица. Во-вторых, только частичная, а, в-третьих, ты с этим «о-ля-ля» уже пересаливаешь. Смотри, как бы я не поверил, что до сих пор ты притворялась и только при виде этих тряпок стала самой собой.
Дениз шевельнула ноздрями, как маленькая антилопа, и сердито заявила:
— Я буду одеваться.
— Понятно. Это значит, что я должен варить кофе. Но учти, что с завтрашнего дня ты будешь делать это сама — не в целях ликвидации безработицы, а на предмет привития трудовых навыков.
За завтраком Артему пришло в голову захватить с собой в беседку стопку бумаги. Рисовал он недурно, и дело пошло веселее.
— Среди древних наскальных рисунков центральной Африки встречалось изображение человека в прозрачном шлеме, см. рис. номер двадцать три. Правда, дальнейшие исследования показали, что это всего-навсего тыква, см, рис. номер двадцать четыре.
И все в таком роде.
А вечером, вернувшись в свой домик, он испытал легкое головокружение. Все стены, окна и двери были задрапированы серебристо-серыми, кремовыми и вишневыми тканями, на столе — хрустящее полотно, достойное банкета в Версале.
— Мсье Артем, я приглашаю вас на прощальный ужин в честь моего старого платья. Завтра я пойду на работу в туалете времен Империи.
— Тебе кто-нибудь говорил, что ты похожа на мадам Рекамье?
— Естественно. Все тот же мсье Левэн.
— Знаешь что, сварила бы лучше суп.
— А вы сердитесь, разве нет?
— Разве нет.
Она пожала плечами, потому что он действительно сердился.
— Лучше нарисуйте мне платье. В котором вы хотели бы меня видеть.
«Я хотел бы видеть тебя на Земле», — подумал он.
А потом она устраивалась на ночь, а он, сидя на кухонном столе, послушно набрасывал эскиз платья Натальи Гончаровой. Дениз позвала его.
— Что тебе, детка?
— Хочу сказать «доброй ночи».
Ее постель была застелена черным шелком.
— Тебе что, кто-нибудь сказал, что ты похожа на Маргариту Валуа?
— Естественно. Все тот же…
— Мсье Левэн. Смотри, свалишься. Шелк-то скользкий.
— Доброй ночи.
— Желаю увидеть во сне мсье Левэна.
Он повернулся и пошел к балкону.
— Артем!
Пришлось вернуться.
— Доброй ночи, — повторила Дениз.
— Спи спокойно, детка.
Он наклонился и поцеловал ее.
Потом вышел в темноту и остановился, прислонившись к шершавой стене дома.
— Юп, — позвал он, — а сегодня вы довольны нами?
Наступила пауза. Артем уже решил, что ответа не последует, но тут рядом с ним прозвучало сухое и не совсем уверенное:
— Да.
Было так темно, что даже если бы Юп и стоял в двух шагах от него, как это можно было предположить по звуку, — все равно рассмотреть выражение его лица было бы невозможно. Не было видно даже смутных очертаний его фигуры. Но он был рядом.
— Юп, ответьте мне, если можете: почему все-таки из миллионов людей Земли вы выбрали именно нас?
— Смотри, — послышалось в ответ, и тут же в каких-нибудь десяти шагах перед ним вспыхнул экран. Две неподвижные фигуры появились на нем, и Артему не надо было всматриваться, чтобы узнать себя и Дениз.
Когда, в какую счастливую минуту увидели их пришельцы такими? Оба бежали вперед, он — с теннисной ракеткой, она — придерживая на груди пушистый купальный халатик; сами того не зная, они бежали, чтобы встретиться друг с другом, и лучше бы кто-нибудь из них остановился в своем легком и бездумном беге, ибо этой встрече было суждено произойти не на Земле. Но они летели вперед, через все миры и пространства, и если бы Артем не был одним из них, он подтвердил бы, что выбор пришельцев правилен, потому что эти двое и есть самые прекрасные люди Земли.
— Так что же вы все-таки хотите от нас? — тихо спросил Артем.
— Будьте такими, какие вы есть, — был такой же тихий ответ.
Двое, бегущие к своей неизбежной встрече, неслышно растаяли в темноте. Артем протянул руку вдоль стены, нащупал дверь и толкнул ее.
Тусклые блики не погашенного где-то света едва проникали в комнату. Артем остановился над спящей Дениз. Как это страшно — черная постель. Чуть запрокинутое лицо, кажется, парит в пустоте и в любой миг может исчезнуть в ней. Сейчас я разбужу тебя, Дениз, но будет ли твое лицо таким, как в тот день, когда ты бежала, обеими руками удерживая разлетающийся халатик? Будешь ли ты так бежать мне навстречу, как бежала, еще не зная меня?
И тут ему показалось, что глаза Дениз открыты. Видит ли она его в темноте? Может быть, и нет; но она знает, что он здесь. «Зачем ты здесь, Артем?» — «Я видел нас обоих, и знаю теперь, что для меня можешь быть только ты, а для тебя — только я». — «А может, просто здесь никого нет, кроме меня?» — «Нет, Дениз». — «Этот райский сад, наш милый шалашик, и нет хотя бы телефона, чтобы перекинуться парой слов с друзьями?» — «Не знаю, Дениз». — «И я так близко, и никто не видит, не слышит, и завтра у меня даже не будет заплаканных глаз, потому что я сама каждый вечер зову тебя?» — «Не знаю, не знаю, Дениз…» — «И мне уже столько, сколько было моей матери, когда она встретилась с отцом; и мы уже смотрим друг на друга так долго, что ты уже не можешь просто так повернуться и уйти…»
Он стремительно наклонился над ней — и замер: глаза ее были закрыты. Хрупкое равновесие сна охраняло ее усталое лицо, и казалось, достаточно одним прикосновением нарушить этот покой — и расколется мир.
Он закусил губы, чтобы его дыхание не коснулось ее. Только не проснись, Дениз, заклинаю тебя всем, что есть святого у тебя и меня, только не проснись в эту минуту!
Он осторожно выбрался из домика, обошел его и, перевалившись через перила балкона, плюхнулся на свой матрац. Будьте такими, какие вы есть, а? Сукин сын он есть. Так вот.
А утром, поднявшись, он не посмел войти в дом. Он боялся, что Дениз еще не проснулась, боялся ее спящего лица. Он бродил по хрустящим дорожкам, пока дверь не распахнулась и на пороге не показалась закутанная в белое Дениз.
— Ау, где вы? — крикнула она и помахала ему рукой. — Ванна свободна.
Он не двинулся с места.
И тогда она побежала к нему, придерживая на груди свою самодельную хламиду, и уже издалека он узнал это лицо, вчерашнее счастливое лицо, и понял, что какие бы стены он ни воздвиг между собой и Дениз, какие бы запреты он ни наложил на себя и на нее, — все будет бесполезно.
Странные, сказочные дни наступили для них. Часы работы, неутомительной и порой даже забавной, пролетали незаметно; все же остальное время было заполнено одной Дениз. Знала и помнила она невероятно много, и каждый вечер, надев фантастический восточный наряд, она усаживалась на тахте, поджав ноги, и начинала так, как он ее научил: «Дошло до меня, о великий царь…» Дни Дениз. Дни, как соты, золотые и тяжелые своей переполненностью. Дни, бесшумно восходящие к ночи, к долгому шелесту причудливых нарядов, примеряемых перед сном, к бесконечной нежности, которую всю нужно было уместить в два коротеньких слова — «спи, детка»; но это не было еще концом дня.
Потому что самым последним было черное ночное небо, нависшее над балконом на расстоянии вытянутой руки, и — тихим шепотом, чтобы не услыхала засыпающая Дениз: «Вы довольны нами, Юп?» И в ответ такое же тихое, чуточку неуверенное «да». И только с каждым днем все больше и больше пауза между вопросом и ответом.
И вот, наконец:
— Вы довольны нами, Юп?
Долгое, очень долгое молчание.
— Нет.
Давно уже надо было этого ожидать, но все равно как-то чертовски тоскливо, и не хотелось бы вдаваться в объяснения. Сами ведь виноваты. Из трех миллиардов людей выбрали две смазливые мордашки. Уперли бы двух каких-нибудь академиков, вот те и нарисовали бы им полную картину жизни на Земле.
— Слишком много хотите, — сухо проговорил Артем, закидывая руки за голову. — Школьная программа у меня давным-давно из головы вылетела, а что касается работы, то о ней, я вам ничего рассказывать не собираюсь. Ну, а Дениз способна продемонстрировать вам моды всех времен и народов, но не более. Вы ошиблись с выбором, Юп, а теперь пытаетесь получить из морковки апельсиновый сок.
— Мы не ошибаемся, — был бесстрастный ответ. — Нам нужны были именно вы, и мы вас взяли.
— Черт вас подери, да по какому праву?
— Праву? — Голос умолк, словно Юп старался припомнить значение этого слова. — Право… Как будто обоснование нашего поступка может хоть что-то изменить в вашей судьбе. Но раз тебе кажется, что я должен оправдаться перед тобой, я сделаю это для тебя, и как можно убедительнее.
Голос его приблизился и звучал немножечко сверху, словно Юп стоял у самых перил балкона. Артем не удержался и тихонечко просунул руку между прутьями, но пальцы его наткнулись на привычную клейкую поверхность защитного колпака. Боится, гад. А может, и не гад, просто другой состав атмосферы. Послушаем.
— Много десятков тысяч лет назад, — зазвучал из темноты голос Юпа, мы были такими же, как вы. Впрочем, мы, вероятно, и тогда были мудрее и осторожнее вас. Мы достигли предела человеческих знаний — в нашем распоряжении были корабли, которые могли доставить нас в любую точку галактики, и даже за ее пределы. Мы сумели продлить свою жизнь на неограниченный срок, победив все болезни и даже старость, мы смогли… впрочем, ты даже не поймешь меня, если я буду дальше перечислять все то, что мы познали, открыли и сумели. Так вот, в своем жадном стремлении все увидеть, все понять и все познать мы прилетели однажды на третью планету одной непримечательной периферийной звездочки. Невероятно, но мы обнаружили там условия, аналогичные нашим в момент появления на нашей планете разумного существа… И мы встретили такое первичное существо. Полуобезьяну. Дикаря. И с тех пор мы стали пристально следить за вашей планетой. Мы уничтожали диких зверей, грозящих первым человеческим стаям, мы учили ваших дикарей пользоваться огнем и орудиями труда, мы подарили им сведения, до которых они не смогли бы сами додуматься, и они начали развиваться быстрее, запоминая наши уроки и забывая нас самих. Мы помогали вам на заре вашего человечества, мы были вашими няньками и учителями… Ну что, тебя устраивает такое объяснение?
Артем только пожал плечами.
— Никакая кормилица, не говоря уже о няньках и учителях, не имеет права посягать на свободу своего воспитанника. А что касается передачи знаний, то судя по тому, как вы изволили обойтись со мной и Дениз, вы вероятно, учили первобытных людей добру, справедливости и уважению к ближнему.
Бесстрастное лицо Юпа не выразило ни досады, ни смущения. Лишь снова зашевелились губы, и спустя секунду зазвучал его монотонный голос:
— Тогда я предложу тебе второй вариант. Мы нашли на вашей планете условия, в которых мог развиваться разум. Но разумного существа мы не нашли. И тогда группа наших людей… хотя бы беглецов, покинувших нашу планету по политическим соображениям, решила обосноваться на вашей Земле. К сожалению, они не рассчитали своих возможностей и через несколько поколений одичали. Четыре группы беглецов, прибывшие в разное время на вашу планету, создали четыре земные расы. Разве не правдоподобно?
— Но не более. И уж совершенно не объясняет, почему вы позволяете себе распоряжаться нами, как своей собственностью.
— Вы несколько раз пытались уйти из своего домика и каждый раз находили тот же самый дом, только на другом месте. И в конце концов вы перестали покидать его и остались в нем. Что ж, придется мне и на этот раз предлагать одну гипотезу за другой, пока ты не пожелаешь остановиться на какой-нибудь из них. Только теперь гипотезы будут разные, но все — на одном и том же месте. Вот тебе еще одна: мы не оставили на Земле людей. Но, вернувшись на родину, мы предположили, что когда-нибудь нам могут понадобиться существа, подобные нам. Мы не могли предвидеть всего, что ждало нас в будущем, но нас грызла смутная тревога. Мы находились на вершине знаний и возможностей, и вдобавок мы были очень осторожны. И тогда мы создали биороботов, да, саморазвивающихся биороботов, взяв за основу ваших обезьян. Потому-то вы и не можете найти переходное звено между последней обезьяной и первым человеком. Мы высадили вас на каждом континенте в надежде, что выживет хотя бы одна группа. Выжили все. Выжили и развились. Развились и начали задавать себе вопрос: а для чего живет человек? Для чего существует все человечество? Разве нет?
Артем сделал неопределенный жест — в общем-то, да. Скрывать это не имело смысла.
— Так вот, — голос Юпа зазвучал патетически, — вы существуете только для того, чтобы мы в любой момент могли вернуться к своему прошлому, к своей молодости. Наше человечество одряхлело. Мы все знаем, все можем, но ничего не хотим. Кто бы мы ни были для вас — повитухи, стоявшие у вашей колыбели, старшие братья, отцы или даже боги, создавшие вас из праха, — мы сейчас требуем от вас только свое, и, по сути, мы требуем немногого. Около ста миллиардов людей прошло по Земле, а мы взяли только двоих, тебя и Дениз. Это наше право. Богу богово!
— Но кесарю — только кесарево. И даже если принять, что вы боги, то, черт вас подери, боги, как вы дошли до такой жизни?
Некоторое время Юп молчал, потом послышалось что-то, похожее на человеческий вздох.
— Мы очень берегли себя. Слишком берегли. И чтобы лучше беречь каждого человека, мы до предела ограничили рождаемость. Прошли десятки лет, сотни, на нашей планете остались одни старики. Мы перестали летать в космос, спускаться в глубины океана и в кратеры вулканов. Мы так боялись за себя! Но один за другим гибли наши товарищи, гибли из-за нелепых, непредугадываемых случайностей. И тогда мы сделали последнюю ошибку: вместо того чтобы попытаться родить новое поколение — может быть, это нам бы и удалось, потому что наша медицина стояла, да и сейчас стоит на недосягаемом уровне — мы решили восполнить недостаток людей путем создания подобных себе биороботов.
«Рожи, словно консервные банки», — вспомнились Артему слова Дениз.
— Прошло сотни и тысячи лет, и на всей планете остался всего лишь один человек, рожденный женщиной, — это я. Впрочем, я ли это? Мое тело многократно обновлялось и даже полностью заменялось, переносился только мозг. Внешне я точно таков, как и все жители нашей планеты. Но я один чувствую, что мы гибнем. Огромных усилий мне стоило убедить моих товарищей (это слово он произнес с запинкой) послать к Земле последний уцелевший звездолет. Пользуясь своей способностью становиться невидимым — ты не поймешь, как мы этого достигли, — я провел возле Земли некоторое время, познакомился с ее прошлым и настоящим и главное — выбрал вас. Остальное тебе известно.
— М-да, — проговорил Артем. — В древности, говорят, некоторые полусумасшедшие цари пытались вернуть молодость, переливая себе кровь младенцев. Уж не таким ли способом вы собираетесь омолаживаться?
— Мы — люди, — высокомерно произнес Юп.
— Вы — консервные банки, извините. Мне, честное слово, жаль вас, и все, что только можно, мы для вас сделаем. Кесарю — кесарево. Спокойной ночи.
Юп не ответил. Обиделся и исчез. Хотя нет, обижаться он давно уже должен был разучиться. Просто счел разговор законченным. А ничего себе был разговор! Еще бы полчаса таких откровений, и можно было бы без всякой симуляции по праву вице-короля Индии требовать своего любимого слона.
Только бы Дениз ни о чем не узнала. Не на Земле — это еще полбеды. Но то, что не у людей… И тут он почувствовал, что балконная дверь медленно открывается. И не увидел, а догадался, что там, на полу, сидит Дениз, прислонившись к дверному косяку и обхватив коленки руками.
Надо что-то сказать, надо что-то соврать, чтобы успокоить, чтоб уснула, только быстро, ну же, ну, быстро, мы же договорились, что ты, сукин сын, так используй свой богатый опыт, вспомни, что ты говорил тем, прежним, вспомни и повтори, и эта поверит, глупенькая еще, детеныш, только вспомни, вытащи из своей памяти такие слова, после которых ничего не страшно, после которых ни о чем другом уже просто не помнишь, ну давай, дубина, давай…
— Дениз!..
Невидимая в темноте рука находит его лицо. Рука легкая, точно маленькая летучая мышь. Что за ерунда — мышь. Откуда? А, окаменелый воздух фараоновой гробницы. И здесь такая же неподвижность. Крошечные сгустки серого небытия, оживающие от людского дыхания, от шороха человеческих губ. А это откуда, про сгустки? Вероятно, из самого детства, когда верил, что утром вся ночная темнота собирается в плафонах уличных фонарей и весь день прячется там, и если присмотреться, то видно, что внутри белых пломбирных шаров затаился студенистый тяжелый туман, и не дай бог такой шар сорвется, тогда темнота вырвется наружу, словно джинн из бутылки в «Багдадском воре», и среди бела дня затопит город, как это бывает только вечером, когда фонари зажигают, и темнота, испугавшись, сама вылетает на улицы… Господи, да о чем это он, о чем?
— Дениз…
Это было уже не детство, хотя нет, детство, конечно, только не самое-самое, когда фонари, а попозже, когда Лариска Салова, и только бы вспомнить, что он говорил тогда, хотя и вспоминать нечего, он сказал: «Я из твоего вшивого кадета рыбную котлету сделаю». И она засмеялась, потому что это было так шикарно сказано, вшивый-то кадет был нахимовцем, на голову выше, и пояс с бляхой, и она перестала смеяться, чтобы ему было удобнее поцеловать ее, и он сказал: «И Лымарю твоему я в рожу дам», — и снова поцеловал ее, и она сказала: «Бабушка мусор несет», — потому что было в парадной, и он ответил: «Я твоей бабушке в стекло зафингалю», — и в третий раз поцеловал ее, а больше не стал, — надоело, и вроде стало незачем…
— Дениз…
А вот это было уже совсем не детство, это было в самый последний раз, все расходились, а он мог остаться, так что ж ему было отказываться, он и остался, пьян был здорово, да и хозяйка была хороша. И он молча раздел ее, и она то ли рассмотрела его получше, то ли решила поскромничать, только вдруг завела: «Ты у меня первый настоящий…» — «Ну-ну, не завирайся», сказал он ей, и так было в последний раз.
— Дениз. Дениз. Дениз… — Это как спасенье, как заклинание, как мелом по полу — круг, отсекающий все то, что было и как было.
— Я здесь, — прозвучал из темноты ее неправдоподобно спокойный голос. — Протяни руку — я здесь.
У него похолодело внутри от ее слов, простых и ничего не значащих в обычном номинальном значении, но сейчас обернувшихся к нему всей жуткой обнаженностью единственного своего смысла. И не он ей, а она ему первая предлагала единственное средство от страха перед окружившей их тупой и бессмертной нелюдью, и это «протяни руку» — первое, что она сказала ему как равная равному, значило только одно: «протяни руку к возьми».
Он медленно поднялся, царапая щеку о кирпичный наружный косяк, и переступил порог комнаты. Где-то внизу, у его ног, сидела на полу невидимая Дениз.
Вот так. И не мучайся, все равно ведь это неизбежно. Быть тебе сукиным сыном. Судьба.
— Ты словно боишься? — проклятый голос, обиженный, совсем детский. Никто же не видит. Темно.
Так бы и убил сейчас. На месте.
— Может быть, я для тебя недостаточно хороша? Мсье Левэн говорил…
— Замолчи!!!
Бесшумно шевельнулся воздух, и Артем угадал, как поднялась, выпрямившись и чуточку запрокинув голову, Дениз. Из темноты лёгкими толчками поднималось и долетало до его лица ее дыханье. Ближе протянутой руки была теперь она от него.
— Зачем «замолчи»? Я люблю тебя, Артем.
Господи, да разве может быть, чтобы это «я люблю тебя» звучало так медленно, так правильно, так спокойно?
— Нет, Дениз, нет! Просто так вышло, что здесь только мы, ты и я, никого, кроме меня. Вот тебе и показалось… Почему бы и нет? Девочки рассказывают, мама запрещает, мсье твой плешивый травит про Нефертити… В первый раз верят не только другим, Дениз. Верят себе. Что с первого взгляда и на всю жизнь. Вот и тебе кажется. Мсье для этой роли не подошел, стар, и девочки засмеют. А тут — молодой русский, и на совсем другой планете, О-ля-ля! Пока никто не видит…
— Здесь темно, я не могу тебя ударить.
— А хорошо бы. Я даже прощенья просить не буду. Это завтра. Когда я буду способен соображать, что я говорю.
— Ты говоришь и не слышишь? Каждое твое слово — как crapaud (жаба), я не знаю по-русски, холодное, противное, мокрое! Зачем так? Зачем? Зачем?
Дениз, горе ты мое горькое, не «зачем», а «почему».
— Потому что не смей говорить: «Темно, и никто не видит». Не смей говорить: «Протяни руку». И не смей в этой темноте стоять так близко, что я действительно могу протянуть руку и взять.
Шорох шагов. Дальше. Еще дальше. Четыре шага темноты между ними. Одного его шага будет довольно, если сейчас позовет. Не смей звать меня, Дениз. Я люблю тебя. Где тебе знать, что любят именно так!
Тишина. Долгая тишина, в которой не спит и не уснет Дениз. Значит, еще не все. Еще подойти, отыскать в темноте спокойный лоб, и это — «спи, детка». Сможешь? Уже смогу.
А лицо мокрое. Все. Даже брови. И руки. Узкие холодные ладошки.
— Ну что ты, глупенькая, что ты, солнышко мое, девочка моя, — все слова, все имена, только бы ласковые, а какие — неважно, важно — нежность в них, вся нежность белого света, нежность всех мужчин, целовавших женские лица от Нефертити до Аэлиты. — Маленькая моя, рыженькая моя, единственная…
О, последовательность всех мужчин мира!
Уснула Дениз, зацелованная, счастливая, и руку его продолжает сжимать, словно это любимая игрушка. Как мало тебе было надо — согреть, убаюкать. А туда же — «протяни и возьми». Глупенькая ты моя. А теперь спишь спокойно и только носом посапываешь — наревелась, а я просижу всю ночь здесь, на полу, как последний дурак, положив голову на край твоей постели только затем, чтобы увидеть твое лицо, когда начнет светать.
Видел бы Юп эту картину!
— Ну что, Юп, старая консервная банка, доволен ты нами сегодня?
Темнота. И совсем близкое, отчетливое:
— Да.
Был какой-то отрезок времени, когда Артем чуть было не рассмеялся. Бывает у человека такое состояние, когда первой реакцией на все является счастливый смех. Но так продолжалось всего несколько секунд. Потом недоумение: неужели подслушивал? Скотина.
Он осторожно высвободил свою руку из ладошек Дениз и на цыпочках выскользнул из дома. Темень. Непроглядная, тяжелолиственная, августовская.
— Юп!
— Я слушаю тебя.
— Юп, вы… вы довольны нами сегодня?
— Да. Вы поняли, что от вас требуется, и я доволен.
— Вы слышали… все?
— Разумеется. С первого же момента вашего пребывания на нашей планете мы видели и слышали абсолютно все.
— Даже в темноте?
— Для нас не существует ни темноты, ни стен дома, ни вашей одежды. Мы видим все, что хотим.
Может ли двадцатичетырехлетний землянин дать в морду инопланетному подонку, пусть даже тысячелетнего возраста? Впрочем, они сами уже решили этот вопрос положительно, иначе сейчас между Юпом и Артемом не было-бы защитной стенки, и тогда…
— Юп, но ты же человек, пусть они все — консервные банки, но ты?..
— Во-первых, не вполне строго называть меня человеком, ибо ты сам считаешь себя таковым, а мы стоим на слишком различных ступенях развития. Во-вторых… — Бесстрастный машинный голос, и слово за словом капает на череп и расплывается по нему, не проникая в глубину сознания и не обнаруживая своего сокровенного и старательно ускользающего смысла. Во-вторых, разница в этих уровнях — в нашу пользу, за исключением одного-единственного вопроса. Информацию по этому вопросу мы и намерены получить от вас. Вы, наконец, поняли, что от вас требуется, и я доволен вами.
— Послушайте, Юп, вы можете простым русским языком объяснить мне, о чем идет речь? Я слушаю вас — и не понимаю, мой человеческий разум не в состоянии проэкстраполировать вашу естественную — для вас — и, вероятно, очень простую мысль. Ну о чем вы, о чем, о чем, черт вас подери?!
— Пожалуйста. Мы имеем множество самообновляющихся биороботов различных типов, причем одни копируют людей, другие много совершеннее их… И все-таки жизнь нашего человечества неуклонно стремится к закату. Развитие остановилось. Нам незачем больше развиваться. Ведь для этого нужно любить знание. Нам незачем больше летать в космос. Для этого нужно любить звезды. Мы практически бессмертны, нам не надо продолжать свой род, равно как и заботиться друг о друге. Каждый и так занят самим собой. Только собой. Ведь для того чтобы помогать другому, нужно его любить. Но мы давным-давно утратили представление о том, что это такое. Мы забыли, как это — любить…
— А ты, ты сам, Юп?
— Это было так давно… Я не знаю, я не помню, любил ли я когда-нибудь…
— Но ты же хочешь им помочь, — значит, не все потеряно, старина. Не понимаю только, что мы-то можем для тебя сделать?
— Я дал тебе райский сад, привычный, родной дом. Я дал тебе самую красивую девушку Земли. Вам все условия созданы. Любите друг друга!
Удар. В темноту. На голос. Упругая поверхность отбрасывает Артема обратно, на порог дома. Бессильная, дикая ярость…
— Если бы я с самого начала знал, что вам нужно, я бы предпочел сдохнуть под одной из ваших райских яблонь!
Постой, а Дениз? Никому не возбраняется подыхать под яблоней, но что она будет делать одна с этими консервными банками? Об зтом ты подумал? Одна она им будет не нужна, и… Здесь не хранят ненужные вещи. Информация ли, человек ли. Неэкономно. И снова невидимый звездолет помчится к Земле, чтобы подобрать еще одну пару молодых симпатичных кроликов, и — все условия созданы, любите друг друга!
Зверская эта затея пойдет по второму кругу…
— Почему ты молчишь? — раздается из темноты. — О чем ты думаешь?
Я думаю о том, что вы — машинная сволочь, бессмертные выродки, возомнившие себя богами и бессильные заставить меня делать то, что угодно вам. Одного вы добились — Дениз у меня вы все-таки отняли…
А перед глазами, как проклятие, как наваждение — белый купальный халатик.
Беспечная маленькая Дениз, упоенная неземными синтетическими тряпками. Нежная стремительная Дениз, бегущая ему навстречу по ненастоящим цветам их персонального рая.
Любите друг друга, вам все условия созданы!
А вы посмотрите?
…вы посмотрите.
— Ты не ответил. О чем ты думаешь?
Я думаю, не кончить ли эту комедию прямо сейчас, не сказать ли тебе на хорошем русском языке, что я о вас всех думаю, и не уйти ли в темноту, в лабиринт безвозвратных дорожек — уйти, чтобы с рассветом не увидеть пробуждающегося лица Дениз. Никогда больше не увидеть. А потом?
А потом — старый вариант: вы признаете эксперимент неудачным, и нет ни малейшей надежды на то, что в вас взыграют совесть и гуманизм. На землю вы нас не вернете. Здесь мы вам будем не нужны.
И так бессчетное количество выходов, и все ведут к одному: к еще одной паре кроликов, которая займет освободившееся место в райском саду.
В райском саду, из которого бесследно исчезнет Дениз…
— О чем ты думаешь?
— Я… я думаю о том, как мы будем счастливы в этом райском саду.
Эта ложь — цена тех нескольких дней, за которые необходимо найти какой-нибудь выход. Найти, прежде чем вы догадаетесь, что не будет вам ни богова, ни кесарева.
А легче всего оказалось обмануть Дениз.
— Дорогая, ты теперь моя невеста, и я должен заботиться о нашем будущем. Ты разумная девочка и понимаешь, что пожениться мы сможем только на Земле — если, естественно, ты сама не раздумаешь. Поэтому я должен как можно скорее сообщить нашим гостеприимным хозяевам все те сведения, которые их интересуют. Будь умницей и не мешай мне. Чем скорее я кончу, тем раньше мы вернемся домой.
— А мы вернемся?
Господи, Дениз, да если бы я смел спросить их об этом!
— Как ты можешь в этом сомневаться? Они же люди.
Она легко и беззаботно приняла его сдержанность, как принимают условия новой забавной игры. Если бы она знала, как он был благодарен ей за это согласие. Если бы она знала, как горька была ему легкость этого согласия!
И потом — каждая игра ограничена в своих временных пределах. Рано или поздно наступает момент, когда один из играющих говорит: «Мне чурики» — и игра кончается.
На сколько же дней хватит этой игры, Дениз? Потому что время идет, а выхода — нет.
Нет выхода.
Дни, прозрачные и бесцветные, один меньше другого — словно стеклянные яички на бабкином комоде. Дни, мизерные и бессильные, каждый из которых мог бы уместиться в старушечьем кулачке. Проклятая литература, приучившая к феерическим деяниям земных суперменов, вырвавшихся на просторы космоса! Если бы кто-нибудь мог предположить, что первые люди, попавшие на другую планету, вовсе не будут образовывать Великие Кольца, лихо рубить пространственно-временные связи или во главе инопланетных масс неотлагательно вершить галактические революции.
Наверное, так и будет. Когда-нибудь. Не сейчас. Потому что сейчас единственное, что должен делать он — это НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ.
И только чувствовать — ежеминутно, ежесекундно, как все то, чего еще не было между ним и Дениз, становится тем, чего никогда между ними не будет.
И дни, которые должны были принадлежать им вместе, принадлежали каждому в отдельности.
Знаешь ли, Дениз, что день вместе — это два дня? Мы чураемся прописных истин, мы высокомерно, по-щенячьи презираем цитаты классиков, вбитые в наши головы на ненавидимых уроках литературы. За эти цитаты заплачено сполна, чеки — «четверки» и «пятерки» в сданных на макулатуру дневниках, и мы квиты, мы вправе вышвыривать и вытравливать из своих голов все ясное и элементарное, не сдобренное мускусным душком парадоксальности. Попробуй сейчас сказать за столом, где собралось трепливое инженерье, что умирать надо агитационно. Или что самое дорогое у человека — это жизнь. Засмеют!
А ведь это так, Дениз, и самое дорогое у человека — это действительно жизнь. Только вот в чем подкачал классик: она дается не один раз. Потому что если любишь — проживаешь две жизни: за себя — и за того, другого. Вот почему это так здорово, когда тебе повезет и ты по-настоящему полюбишь. Если бы я не встретил тебя, Дениз, я бы этого так никогда и не узнал, потому что до сих пор, выходит, все у меня было понарошке. От Лариски Саловой до той, что в самый «последний раз…»
Так что же делать, что делать, чтобы вырваться из цепких лап этих, с позволения сказать, богов? Что делать, чтобы каждый мой день был твоим днем, чтобы каждый твой миг был моим мигом? Я ведь хочу так мало: просто быть вместе, до седых-преседых волос, как эти легендарные греки… как их? Мы еще потешались над ними… А, Филемон и Бавкида. Что мы понимали, сопляки, д'Артаньяны? Безнадежное щенячество, могущее длиться до самой старости, до потери способности чувствовать вообще, если не вмешается что-то страшное, если не выдернут землю из-под ног, как сейчас, когда висишь в безвоздушном пространстве и даже нельзя дергаться и разевать рот от ужаса — смотрят ведь!
А ведь все было, Дениз, все было, лежало у меня на ладони, все было, было, было…
Откинуться всем корпусом назад, и — со всего размаха головой о мигающий пульт, чтобы вдребезги.
Да? А невидимый звездолет, снова бесшумно крадущийся к Земле? А еще двое заключенных в этом раю?
И потом — если эти двое, по незнанию ли, по недогадливости или даже просто потому, что наплевать, пусть смотрят, — что, если эти двое отдадут этим консервным банкам то, чего они добиваются? Если они покажут, если они научат этих дуболомов любить?
Смех сквозь слезы. Вот уж единственное, чего можно совсем не бояться. Уж если Юп ничего не помнит — об остальных консервных банках и беспокоиться нечего.
А может…
Воспоминания всплывают неожиданно, нередко против воли. А вдруг Юп все-таки вспомнит, как он был человеком? Вдруг он вспомнит — что это такое: любить?..
Может, это и есть тот единственный шанс на возвращение, который нужно было найти?
— Юп!
И впервые за все это время — никакого ответа.
— Юп! Ты слышишь меня? Юп!
Вот так. Заварил всю эту кашу, затеял этот гестаповский эксперимент, притащил их сюда — а теперь в кусты? Подонок.
— Юп!!!
А может, его просто не пускают сюда? Сказал же он в самый первый раз: «Я получил полномочия отвечать на любые твои вопросы». Или что-то в этом роде. Может быть, теперь его лишили этих полномочий? По случаю прекращения эксперимента, например.
Тогда не остается ни одного шанса. Что же дальше? Дальше, — как ни смешно, но именно то, чего хотел от них Юп: просто быть людьми. Оставаться людьми до самого конца. А в сущности, что он делал, кроме этого? Ничего. Просто был человеком. И все.
Но этого оказалось так мало.
— …Я надоела, разве нет? Тридцать дней одна женщина рядом — тебе скучно, разве нет? Только не говори: ты невеста. Я невеста — о-ля-ля! Смотри сюда — мой туалет… под венок. Разве нет? Белое-белое. Снег. Мертвый снег. Я — невеста!
— Дениз, успокойся…
— Я невеста деревянного… как сказать? Дерево, Пиноккьо. Но зачем так? Зачем?
— Ты хочешь сказать — почему? (А действительно, не все ли равно несколькими часами раньше или позже их уберут отсюда…) Мы очень мало рассказывали друг другу о себе, о своем детстве. Но не так давно мне вдруг вспомнилась одна забавная вещь, и, если хочешь, я расскажу тебе.
Ну вот — капризно скривила губы, боится, что это просто увертка, чтобы уйти от ответа.
— Я был совсем маленьким, когда мы с мамой уехали на лето куда-то в Прибалтику. Берег Балтийского моря, понимаешь? Так вот, в нашей комнатке, которую мы сняли, висела на стене странная картина: загадочный лес — не настоящий лес, а такой, как в доброй — обязательно доброй, Дениз! волшебной сказке. А в этом лесу — два старых короля — черный и белый — с пепельными бородами и тусклыми коронами. И на ладонях у этих старцев лежит маленький сказочный мир. Ты понимаешь, Дениз? Целый мир, а может быть, только одно королевство. Крошечный, но самый настоящий город, а кругом лес, ниже новорожденной травки, а люди, наверное, такие малюсенькие, что разглядеть их могут только зоркие и добрые глаза мудрых королей. Осенью мы уехали, и я никогда больше не видел этой картины — это, конечно, была только репродукция; но все детство свое я мечтал о том, чтобы иметь такое же игрушечное королевство, крошечный живой мир, который можно рассматривать без конца, и никогда не надоест…
— А как называется? — неожиданно спросила Дениз.
— Эта картина называлась «Сказка королей».
— И это тебя грустит? — она засмеялась. — Тебе тоже нужна игрушка. Но это так просто. Надо просить мсье Юпа. Он подарит тебе сказку. Мы — два короля. Мсье Юп! Две бороды, две короны!
Глупенькая ты моя, ничего ты не поняла. Ведь это мы копошимся в игрушечном саду, но не на добрых руках лежит наш ненастоящий мирок.
Впрочем, когда любишь в первый раз, простительно быть дурой. Он вдруг вскинул голову и внимательно всмотрелся в ее лицо. Заплаканная осунувшаяся рожица, круги под глазами, да еще зелененькая оттого, что умудрилась облачиться в неимоверно алую, словно лоскут гриновского паруса, переливчатую тряпку.
— Рыбка-зеленушка…
Дернулся подбородок, глаза стали узенькими и гадкими:
— Еще одна сказка? Про рыбку?
Когда любишь в первый раз… А с чего это он взял, что она любит его? Ах, да, — условия были созданы… И еще это спокойное, удивительно правильно выговоренное:»Я люблю тебя» — той ночью, последней; непонятно только — от любопытства или со страху? Да и он хорош — самонадеянный красавчик. Поверил.
Странная сказка, ей тысяча лет: он любит ее, а она его — нет… А она его — нет. Опять литература.
А ведь ничего еще не потеряно, Дениз, и только подойти, и взять в руки твое лицо, и целовать, и тихонечко дуть на ресницы, и чуть слышно гладить начало волос на висках — и ведь будет все, ведь полюбишь, ведь никого еще не любила, не уйти тебе от этого, никуда не уйти, только и нужно-то — губы мои и лицо твое.
А у самого окна — небо, тускло-серое, словно огромный оловянный глаз.
Я люблю тебя, Дениз, я люблю тебя больше света белого, больше солнца красного. Я люблю тебя, но если бы у меня сейчас была граната, которой можно было бы взорвать к чертям собачьим весь этот мир, эту планету, — я швырнул бы эту гранату нам под ноги, Дениз. Говорят, любовь — чувство созидающее. Есть такая прописная истина. Но сколько бы я сейчас отдал, чтобы моя любовь стала адским запалом, тысячекратной водородной бомбой, способной разнести в клочья всю эту сверхразумную цивилизацию! Я не знаю, гуманно это или не гуманно — уничтожить целое человечество, ибо разум землянина не в состоянии решать такую проблему, от такой проблемы разум землянина просто-напросто свихнется. Но за такую гранату, за такую бомбу я, не рассуждая и не мудрствуя, отдал бы свою жизнь. И твою жизнь, Дениз.
Потому что мир, разучившийся любить, не может, не смеет, не должен существовать во Вселенной!
Индикаторный пульт диктофона. Лампочки — плотно одна к другой, словно оловянные солдатики. Сколько их? Сто на сто, не меньше. На звук шагов они отозвались голубоватым мерцанием, словно язык синего тусклого пламени лизнул пульт. Вот так. И сиди здесь до самого конца, ибо есть в столь любимой твоей мировой литературе четкий такой штамп, что настоящий человек умирает на боевом посту. Или на рабочем месте, на худой конец. Агитационно.
А на самом деле — чтобы не видеть злое и равнодушное лицо.
«Лицо твое и губы мои…»
Лампочки на пульте диктофона послушно мигнули. Синее, фиолетовое, лимонное.
Сколько еще бесконечных дней перед этим пультом, сколько еще лекций, рассказов, стихов, преданий, сколько еще просто вранья?
— У попа была собака.
Синее, фиолетовое, оранжевое.
Артем протянул руку и выдернул из гнезда одну лампочку. Бесцветный остренький колпачок, вроде тех, что идут на елочные гирлянды.
— И он ее таки любил.
Лампочка в его руках мигнула лиловым, потом — изумрудным. Вот оно что, реагирует на звук. И обходится без питания. Артем обошел сзади коробку диктофона, отыскал дверцу, поддел ножом — распахнулась. А внутри ничего.
Бутафория. «Вам нужно дело…» Примитивное приспособление, с помощью которого создавалась иллюзия занятости делом. Хватит с него дешевых иллюзий!
Тоненький удивленный звон. Осколки лампочек щекочут руки, даже не. царапая кожу. А в дверях беседки — бесстрастный розовый лик анатомического муляжа. Явился-таки, гад. Явился как ни в чем не бывало.
А может, брякнуться перед ним на колени и плаката, просить, молить? Испокон веков боги любили, чтобы перед ними унижались, ползали на брюхе.
Ради Дениз можно вынести и это.
— Юп, я прошу тебя… У каждого эксперимента должны быть свои пределы. Границы разумного. Границы человечного. Вы же мудрые, добрые боги, Юп (ох!), и если в вас есть хоть капля благодарности за все, что мы для вас делали, — помогите нам вернуться домой.
Этого он боялся больше всего. Этой крошечной паузы…
— Ты просишь невозможного.
Стало даже как будто бы легче.
— Если вам необходим человек для дальнейших исследований — оставьте меня. Но верните на Землю Дениз.
— Вы получите все, что только сможете себе представить. Все, чего никогда не имели бы на Земле.
— Но здесь не будет Земли.
Юп не отвечал.
— Юп, я прошу тебя, поверь мне: у нас есть книги, Шекспир, Пушкин, Гете…
— Информация неполная и в большинстве случаев — заведомо ложная. Один эксперимент на живых людях даст нам больше, чем все литературные данные по вопросу человеческих эмоций. И, потом, не забывай, что я один доставил вас сюда, но не я один распоряжаюсь теперь вашей судьбой.
Не он один… Значит ли это, что, будь на то только его воля, он вернул бы их на Землю?
— Юп, старина, ты же был космолетчиком, ты должен помнить, что такое хотеть к себе домой. У тебя есть корабль, Юп. Насколько я понял, ты управляешь им один. Я прошу не о себе…
— Ты находишься на палубе этого корабля.
Артем судорожно раскрыл рот и хлебнул стерильного кондиционированного воздуха.
— Это прогулочная палуба нашего последнего космического корабля. Моего корабля. Как ты видишь, здесь можно создать любые условия, любую обстановку. Невозможно только одно: дойти до конца этого помещения, хотя оно сравнительно небольших размеров. Когда много веков тому назад этот корабль совершал регулярные рейсы к другим звездам, мы предпринимали целые путешествия… практически не сходя с места.
Ну да, белка в колесе. А как это выполнено практически — «этого вы не поймете».
— Тысячи лет назад, когда цивилизация на Земле только еще зарождалась, состав наших атмосфер был почти одинаков. Мы не рассчитывали, что сейчас расхождение будет столь большим, что вас придется содержать в специальной барокамере. На корабле легко можно было создать любые необходимые условия, но на поверхности планеты пришлось бы возводить специальное здание с комплексом сложного оборудования.
Юп видимо замялся.
— Для вас, всемогущих, это было плевым делом, — не удержался Артем.
— Это было бы действительно несложно… но никто не захотел за него браться. Мы МОГЛИ — и НЕ ХОТЕЛИ. Мы разучились создавать, в лучшем случае мы могли только воспроизводить. Тогда я предложил оставить вас на корабле.
— Значит, мы в космосе? На орбите?
— Нет. Корабль, правда, не был приспособлен для посадки на поверхность планеты, но он ведь был нам больше не нужен, и я использовал самые мощные антигравитационные установки, чтобы спустить его на одном из безлюдных плоскогорий нашей планеты. Последний наш корабль встал на мертвый якорь.
Ау, где ты, находчивый супермен? Все условия созданы — ты на чужом корабле, остановка только за тем, чтобы проникнуть в рубку, за каких-нибудь пару часов постичь принцип управления, затем нажать кнопку и ты летишь к Земле.
— А… если снова поднять его? — Господи, каким идиотским, наверное, кажется ему этот вопрос!
— Поднять? Но мы не располагаем столь мощным антигравитатором, который смог бы вынести на орбиту такую массу.
— А стартовать с поверхности?
— Ты даже не представляешь, что говоришь. Старт звездолета крейсерского типа сорвет атмосферу с поверхности планеты и уничтожит на ней все живое.
Значит — все. Может быть, выход и есть, но, чтобы найти его, надо быть не тупым заурядным инженером. Слесарю — слесарево. Теперь одно протянуть еще столько, сколько выдержит человеческий разум, а потом подохнуть, не агитационно — куда уж там! — а хотя бы пристойно.
И теперь уже можно не бояться второго невидимого корабля, хищно подбирающегося к Земле, и не мучиться за тех двоих, которым пришлось бы занять Место в этом раю при повторении эксперимента.
Им выпало быть первыми — и последними. Знать бы это раньше! Он стоял, бездумно глядя перед собой, и только повторял это «знать бы раньше…» Розовомордый бог, осененный ажурной арочкой беседки, казался ожившим рисунком старинного и очень примитивного итальянского мастера. Жили, впрочем, только губы — они забавно шевелились совершенно несинхронно звучанию слов, словно каждая фраза на пути от этих губ до ушей Артема проходила бесчисленные фильтры и поэтому безнадежно запаздывала.
— Постарайтесь начать вашу совместную жизнь… — благодушно бубнил Юп.
— Нам нечего начинать, — с трудом разжимая губы, проговорил Артем. И вообще нам ничего не осталось. Разве что — терять.
Губы на розовом лице замерли на полуслове.
— Нам осталось только терять… — повторил Артем.
И тогда где-то совсем близко, возле самого его лица, прозвучал крик:
— Замолчи! — крик доносился отовсюду, словно кричали одновременно в каждое его ухо. — ВЕДЬ НЕ Я ОДИН СЛЫШУ ТЕБЯ!
Он смотрел на неподвижную маску лица, не понимая, что же такого страшного он произнес; но потом вдруг лицо исказилось, и в полной тишине зашевелились губы, бесшумно повторяя только что отзвучавшие слова.
Артем бросился к выходу. Фигура на пороге не шевельнулась, не отклонилась в сторону, и Артем, инстинктивно ожидавший встретить привычную клейкую преграду и так и не наткнувшийся на нее, по инерции проскочил сквозь Юпа, как пробегают через световой луч. Но ни раздумывать над этим, ни даже оглянуться он не смел. Он мчался к домику, зная, что своими словами, которым он не придал значения, он спустил какую-то адскую пружину. «Нам осталось…»
Дениз лежала ничком, и алые языки ее невесомых одежд, словно искусственное пламя бутафорского камина, колебались над ней. Руки, успевшие удивиться, — ладонями вверх.
«Нам осталось только терять…»
Если бы на лице ее отразилась хоть тень ужаса или страдания, он не посмел бы коснуться ее; но только удивление, терпеливое удивление и ожидание, словно к ней подплывало что-то медленное и совсем на страшное.
Так вот оно что — боги решили досмотреть спектакль до конца. И он сам подсказал им содержание последнего акта. Им было ровным счетом наплевать на то, что такое «любить». Но зато как интересно, наверное, показалось им, бессмертным, что это такое — «терять».
Что же они сделали с ней?..
Он поднял ее на руки, перенес на тахту. Никаких следов. Мир, где все — «просто». Просто деревья, просто цветы, просто лица.
Просто смерть.
Нет, не просто. Смерть театрализованная, смерть на котурнах, в пурпурном синтетическом хитоне.
Артем достал нож и разрезал скользкий, точно рыбьи внутренности, алый шелк. Тихо, словно боясь разбудить, он раздевал Дениз, сбрасывая на пол обрывки ее фантастического наряда. Святотатство? Нет. Очищение.
Обыкновенная простыня с черным семизначным номером на уголке и земным запахом механической прачечной. Мама говорила, что тетю Пашу завернули в простыню и на маленьких саночках отвезли на Смоленское кладбище. Но ров был вырыт не на Смоленском, а чуть подальше, через речку, но у мамы уже не было сил идти туда, и она присела возле бывшей трамвайной остановки и сидела так, пока не подошел военный с такими же саночками, только у него было завернуто в хорошее одеяло, и он молча привязал мамины саночки к своим и тихо пошел через мост, и мама смотрела, пока он не прошел бывшее трамвайное кольцо, где начиналось еще одно кладбище, маленькое и, кажется, не православное, и ров был за этим вторым кладбищем, а потом мама спохватилась, что саночки она отдала напрасно, их ведь оставалось еще две сестры…
Он знал об этом понаслышке, как знают о тысячах распятых вдоль Аппиевой дороги, о десятках тысяч сожженных инквизицией, о сотнях тысяч замученных в концлагерях, о миллионах убитых на войне. Знал тем легким, забывчивым знанием современного молодого балбеса, которое позволяет не седеть от ужаса, не сходить с ума, не разбивать себе голову об стену.
Это были те минуты, когда он еще в состоянии был мыслить, мучиться, вспоминать, — может быть, не минуты, а часы. Потому что когда он взял руки Дениз в свои, они были уже такими тяжелыми, словно несли на себе муку восьмидесяти миллиардов смертей, пережитых Землей.
Он попытался сложить эти руки на груди — они не сгибались.
И не стало ничего, кроме бесконечного ужаса перед этими негнущимися руками. Не было больше Дениз.
Не было Дениз.
Он целовал ее тело, как не целуют живых. Святотатство? А, пусть это тысячи раз святотатство, да разве это может вообще быть чем-нибудь? Нет больше зла и добра, нет больше ночи и дня, нет ни тебя, ни меня.
Нет Дениз.
Он завернул ее тело, как девочки заворачивают кукол. Он взял ее на руки и вышел в ослепительное сияние дня, которое не сменилось сегодня ночной темнотой.
Купоросная зелень не колышимых ветром деревьев, петли узкой тропинки, плешины лилейных полян. Он уносил ее в чащу, как звери уносят добычу, но чащи не было, и некуда было скрыться от развратных мясистых роз, от воняющих амброй ручьев, от сахарной приторности беломраморных беседок. Он шел напролом, задыхаясь от непомерной тяжести, от слепой ярости, от бессилия найти в этом сверкающем, радужном мире хоть один темный уголок, в котором можно было бы укрыть Дениз.
Он уже перестал понимать, что творится вокруг, и только ноги, вязнущие по щиколотку, дали ему знать, что это уже не сад.
Кругом был песок. Изжелта-серый, тусклый. Бесконечный. Артем опустил свою ношу и несколько минут сидел, пытаясь унять дрожь обессилевших, ставших чужими рук. Потом, не подымаясь с колен, принялся разгребать песок. Тонкая струящаяся масса не слушалась, ссыпаясь обратно в узкую, продолговатую ямку. Еще немного. Вот и довольно.
Полные горсти песка. Огромные, тяжелые горсти. Его уже столько, что хватило бы на целый город, сказочный город с пирамидами и лабиринтами, щедрый город с куличами и караваями, расставленными прямо посреди улиц. На песочке у реки испекли мы пирожки… У реки, у реки… Прежде чем умереть от жажды, сходят с ума… испекли мы…
Он действительно умирал не от любви и не от горя — от этого умирают гораздо медленнее, — а от жажды, но не было на свете силы, которая заставила бы его принять хотя бы глоток воды от этого проклятого мира. На песочке у реки… Раскаленный песок набился под черепную коробку, и достаточно было крошечной, чуть шевельнувшейся мысли, чтобы острые горячие кристаллики впились в мозг, и тогда наступала краткая прохлада беспамятства. А потом снова небо, набухшее серым перегретым паром, и сыпучее изголовье, и спокойное лицо Дениз, обращенное к этому небу.
Проходили часы, и дни, и года, а он не мог поднять две горсти песка, чтобы засыпать это лицо. Он лежал и смотрел, пока было сил смотреть, и ее смерть была его смертью. Это все, что досталось ему от Дениз.
А потом прошли тысячи лет, и не стало сил смотреть, и он не увидел, как справа и слева, круша этот игрушечный мир, вздыбились лиловые смерчи. И только грохот, пульсирующий; нарастающий и остающийся где-то позади, заставил его на мгновенье прийти в себя, и он понял, что Юп, которому так и не дано было вспомнить, что значит «любить», вспомнил другое.
Он вспомнил, что значит «терять», и, движимый горестной и справедливой силой этой памяти, врубил смертоносные фотонные двигатели исполинского корабля, сметая со своей усталой планеты зажившихся богов и всей мощью стартового удара воздавая им богово.
Первое, что он почувствовал, был ветер, настоящий, мокрый и хлесткий; потом — сырость земли, кое-где прикрытой померзшей куцей лебедой, и возле самой щеки — ледяная кафельная мозаика облицовочной плиты.
Артем приподнялся. Шагах в десяти высился его дом, невероятно громадный, уходящий своими антеннами в утреннее осеннее небо. Но дом уже не был последним в городе. Прямо под его окнами, нахально залезая на узенькую полоску газона, раскинулась строительная площадка, с непременными грудами битого кирпича, щебенки и песка, с заляпанными известью и обреченными на сожжение досками, с понурым экскаватором, издали похожим на динозавра с перебитой шеей, с провинциальным торчком уличного крана и пронзительной ржавой капелью.
Капли цокали о кусок жести, словно били серебряными копытцами, и Артем поднялся на ноги и с трудом двинулся на этот звук. Что-то странное с ним творилось, а что, он не мог понять и не мог бы даже связно описать свое состояние, потому что так бывало только в детстве, когда плачешь безудержно и долго-долго, так долго, что засыпаешь, а потом просыпаешься весь легкий и горький, и в первые мгновения не можешь вспомнить, о чем ты плакал.
Он шел по кафельным осколкам, счастливый этим незнанием, этим отрешением от чего-то мучительного и чудом позабытого, шел и молился только бы не вспомнить, только бы не вспомнить; но страх был напрасен, и все, что лежало между преддверьем весеннего праздника и этим вот сентябрьским утром, было заперто семью вратами и замкнуто семью замками, чтобы никакое усилие памяти не могло этого отомкнуть.
Он шел по кирпичной крошке, поддавая носком ботинка чертовы пальцы обломанных угольных электродов, оскальзываясь на льдинках еще не вставленного, но уже разбитого стекла, и каждый шаг по этому захламленному кусочку земли, рождающему дом, которому суждено будет на недолгое время стать последним в городе — каждый такой шаг был новой бесконечностью, отделявшей его от черного провала как будто бы навсегда исчезнувшего лета.
А потом он остановился.
Потому что там, за цокающим жестяным краном, был песок, тонкий, изжелта-серый, сыпучий холмик, и спокойное лицо Дениз, обращенное к осеннему ленинградскому небу.
Цепкая боль памяти коснулась его, и стиснула, и сжимала все сильнее и сильнее, пока не стала такой нестерпимой, что дальше уже некуда, чтобы такой вот и остаться на всю его жизнь. И тогда он сказал:
— Спасибо, Юп.
Никто не ответил ему, и он понял, что последний из «бессмертных» воздал по справедливости и самому себе.
Павел Амнуэль КРУТИЗНА
Вольф-359 — красный карлик позднего спектрального класса М8. Расстояние от Солнца 7,7 светового года. Светимость в две тысячи раз меньше солнечной. Время полета от Земли на звездолетах класса «Каскад» — 89 суток.
Реста — вторая планета системы. Радиус равен лунному, атмосферы нет. Средняя температура минус 140 по Цельсию. Оборот вокруг оси 37 часов, звездный год 56 суток. Расстояние от светила 20 миллионов километров.
Из «Справочника астронавигатора», 2110 годПРИБЫТИЕ
Сначала я не понял. Не могло этого быть. Нелепо. Сеанс связи давно закончился, а я все повторял про себя: «Астахова нет. Игорь Константинович Астахов погиб две недели назад…»
Я так надеялся на эту встречу! Представлялось: я выбираюсь из посадочной капсулы, Астахов стоит у кромки поля. Мы долго смотрим друг на друга, не решаясь сказать ненужные, в общем, слова приветствия. Мы не простились пятнадцать лет назад и теперь продолжим старый незаконченный разговор.
Я был тогда мальчишкой, не способным принять какие-то научные или бытовые условности. Может быть, это и сблизило нас с Игорем Константиновичем? Школьный учитель физики, он в свои сорок лет тоже выглядел мальчишкой. У него была цель — красивая на словах и недостижимая на деле. Он шел к ней с упорством, которое и возможно только в детстве, когда не знаешь, чем грозит крутизна дорог. Пешком к звездам — в этих словах было для меня больше содержания, чем в сотне учебников. Он хотел достичь звезд — без ракет, без генераторов Кедрина. Я тоже мечтал об этом: кто не летает во сне в двенадцать лет!
Я стал космонавтом — вопреки Астахову или благодаря ему. Несбывшуюся мечту моего учителя я запрятал глубоко, и она давала знать о себе только тем, что иногда, на Земле, на Базе или в полете работа вдруг утрачивала для меня смысл. Звезды обретали призрачность далеких маяков, и тогда я кидался, как говорили ребята, в «шабаш воображения», выдумывая и решая самые несусветные задачи, не имевшие к астронавигации ни малейшего отношения. Они обладали единственной прелестью: были красивы, как мечта Астахова — пешком к звездам. И так же нереальны. Хотя каждая из них казалась мне потенциальным открытием.
«Как делаются открытия? — думал я. — Ткнул пальцем в небо и попал в журавля. А мог попасть в пустоту. Работают люди, изводят тонны мыслительной руды, а открытие — как журавль в небе. Летает себе, а потом, будто решив покинуть на время непрочную синеву, садится вам на плечо и смотрит в глаза — вот я…»
В архивах Института футурологии я нашел два письма Астахова. Сродство характеров сказалось: мы шли к одной цели. Судя по письмам, методика открытий занимала и его. Игорь Константинович работал, как я выяснил, на строительстве ПИМПа — Полигона исследования мировых постоянных, далеко от Земли, и в этом смысле мечта его сбылась, он достиг звезд. Конечно, не пешком, да и что это за фраза: «Пешком к звездам»? Повзрослев, я перестал воспринимать ее поэтический смысл, а реального содержания в ней, естественно, не было.
Я пришел в Комитет Полигона и сказал: «Нужно на Ресту». Пришлось долго объяснять, чего я хочу. А я и сам толком не знал. Казалось, я непременно должен увидеть Астахова, потому что в поиске алгоритма открытий он ушел гораздо дальше меня.
Пассажирские корабли шли на Ресту раз в два года — отвозили смену строителей. Грузовые контейнеры отправлялись еженедельно, и я полетел на грузовозе «Экватор», исполняя по дороге обязанности сменного навигатора. Обратно мне предстояло лететь неделю спустя вместе с очередной сменой.
ПИМП строился уже десять лет, и конца этому не было. Слишком грандиозно сооружение, и слишком велико расстояние. Заботы о безопасности привели к тому, что стройку вынесли на один из дальних форпостов, работы автоматизировали до того предела, когда человек перестает понимать детали, ограничиваясь общим наблюдением. Для наблюдения же и контроля достаточно смены из пяти человек. Одним из пяти и был Астахов.
Был? Отчего он погиб? Я не спросил об этом во время сеанса связи. Да и не все ли равно? Астахов не встретит меня, и старый наш разговор прерван навсегда…
Спицу я увидел еще в полете, когда «Экватор» пронизывал систему Вольфа и в сторону Ресты один за другим стартовали автоматы с оборудованием. Реста находилась в очень выигрышном для наблюдения ракурсе: казалось, в небе плавает ржавая сковорода с ручкой. Приходилось убеждать себя, что «сковорода» — это планета, а «ручка» имеет в длину добрую тысячу километров. И что в официальных документах «ручка» эта зовется Первым зональным вариатором постоянной Планка, в просторечии — Спицей.
Мою капсулу вели автопилоты Полигона, я только посматривал на курсовод, а в остальное время следил, как Спица выходит из-за диска планеты на черное небо, растет, приближаясь. Так и хотелось схватиться за Спицу, словно за рукоять, и закрутить Ресту, зашвырнуть ее подальше. Должно быть, такую точку опоры и имел в виду Архимед…
Капсула опустилась на самом краю поля, я защелкнул шлем и выбрался наружу. Над пейзажем доминировала та же Спица — было просто невозможно сосредоточиться на чем-нибудь другом. На верхушке ее, в самом зените, примостился, весь в оспинах пятен, багровый диск Вольфа.
Я опустил взгляд и разглядел у края поля легкий двухместный кар, а рядом с ним — одинокую фигуру. Человек молчал, смотрел в мою сторону — наверняка, он наблюдал за мной.
— Здравствуйте, Ким.
Голос высокий, ломкий. Казалось, говорит мальчишка лет пятнадцати. Услышав этот чужой голос, я окончательно понял, что учителя нет. Пружина, натянувшаяся в момент, когда я узнал о его гибели, неожиданно лопнула, и космодром этот, и Спица, и человек у кара показались мне настолько чужими, что захотелось вернуться в капсулу и немедленно стартовать, догонять разгрузившийся и уже, наверное, уходящий «Экватор». Что мне делать здесь теперь?
— Огренич, Борис. Инженер систем защиты, — представился незнакомец. Я увидел длинное лицо, остроносое, с выпирающими скулами, некрасивое лицо, на котором отчетливо выделялись глаза. Глаза были с другого лица — ярко-голубые, улыбчивые.
Мы взгромоздились на тележку, сели рядом, машина развернулась и поехала навстречу Спице по узкой бетонной дороге.
— Астахов, — сказал я. — Как он погиб?
— Случайность, — ответил Огренич, помедлив. — Игорь Константинович был в зоне контроля. Недалеко — четыре километра от станции. Обычные профилактические работы. Во время проверки не вышел на связь… Потом выяснилось: система гравиизлучателей неожиданно выдала импульс мощностью до миллиона единиц.
Миллион единиц! Все произошло мгновенно…
Кар въехал под козырек гаража, и Огренич оставил машину в длинном тоннеле шлюза. Низкий переходный коридор соединял гараж с домиком станции. Мы вошли в первую же дверь. Это был клуб. Световая доска во всю стену, книготека, широкое окно с навсегда застывшим пейзажем: пустыня, изможденная, уставшая от миллиарда лет неподвижности. Как лицо старца — серое, с неживыми морщинами трещин. Густые тени, будто пролитая тушь.
У круглого стола сидели двое. Одного я узнал, он выходил на связь с «Экватором». Внушительная фигура — рост около двух тридцати. Второй — мужчина средних лет, о котором с первого взгляда можно было сказать: вот человек, который знает свою жизнь наперед. Не в смысле фактов, а психологически. Любой факт он представит как следствие собственного плана. Наверняка это Тюдор — Лидер смены.
— Евгений Патанэ, — сказал детина рокочущим басом, — инженер систем обеспечения.
— Рен Тюдор, кибернетик-монтажник, — наклонил голову Лидер.
— Станислав Игин, — голос был тихим, и я не сразу увидел его обладателя. Небольшой экран открылся в стене, на меня смотрело немолодое, очень широкое лицо — щеки даже как-то странно отвисали, будто у бульдога.
— Глава теоретической мысли на дежурстве, — пояснил Огренич.
Я сел, стараясь остаться в поле зрения телекамеры, и Игин благодарно улыбнулся.
— Борис, вероятно, рассказал вам о том, что случилось, — утвердительно сказал Тюдор.
Я кивнул.
— Нелепый случай, — продолжал Тюдор. — Я виноват. Ошибка родилась в блоках памяти, моя прямая обязанность — ее заметить.
— Не нужно об этом, — попросил я. — Не для того я сюда летел. Мысли, идеи Астахова — вот, что мне нужно. Игорь Константинович занимался методикой прогнозирования открытий. Что он успел?
— Есть какая-то закономерность в том, что это случилось именно с Астаховым, — сказал Огренич. — Такой он был человек… неудачник.
— Это ваше личное мнение, Борис, — мягко сказал Игин.
— Именно личные мнения мне и нужны, — пояснил я.
Тюдор поднялся и пошел к двери.
— Не могу кривить душой, — сказал он, стоя на пороге. — Если вы летели сюда только для того, чтобы понять, чем занимался Астахов, то напрасно тратили время. Извините.
Он вышел, и дверь тихо щелкнула.
ПРИТЧИ
Первое впечатление — в этой комнате никогда не жили. Нервами, а вовсе не глазами, я ощущал первозданную аккуратность, созданную наверняка не самим Астаховым. После его гибели здесь прибрали, навели порядок, и этот порядок не давал теперь сосредоточиться.
Я обошел комнату, не особенно приглядываясь, просто стараясь почувствовать себя дома. Не получалось — возникло желание расшвырять по полу бумаги, выставить со стеллажей десяток книгофильмов, в общем, создать ту чуточку хаоса, которая и придает вещам приемлемый для человеческого сознания порядок.
Я сел за стол и увидел белый листок, приклеенный к стене. Это было нечто вроде стихов, две строчки:
Крутизна дорог ведет к вершинам гор, Но гораздо круче пропасти обрыв…Не знаю, хорошие ли это стихи, в поэзии я разбираюсь плохо. Убежден, что и Игорь Константинович повесил перед глазами двустишие вовсе не оттого, что увидел в нем красоты стиля или тайный поэтический подтекст.
Я отошел к стеллажам и заставил себя не думать об этих стихах. Я запомнил их и знал, что, едва возникнет нужная ассоциация, они непременно всплывут в памяти.
Книгофильмы стояли в алфавитном порядке, и я понял: это и есть знаменитый астаховский каталог. Знаменитый… Несколько писем, в которых этот каталог упоминался, я отыскал в архивах Института футурологии. Игорь Константинович писал, что ведет работу по прогнозированию открытий. Начальная фаза естественно включает в себя системологию — всеобщее обозрение открытий человечества.
Я взял крайнюю левую капсулу. «Аарон. Описание к патенту на открытие. Эффект Аарона при низких температурах». Аарон открыл эффект Аарона. Очень понятно. Следующая капсула. «Абель. Математические труды».
Прогудел вызов, и я нажал клавишу подтверждения. Игин остановился на пороге, покачиваясь, будто шарик на ветру. «Тренировался бы, — подумал я. — Разве можно быть таким толстым?» Шарик вплыл в комнату, заворочался в кресле.
Разговор начинался медленно. Игин выдавливал слова, будто под прессом. Я чувствовал, что это не от нежелания говорить, просто у него манера такая.
— Я представлял вас иначе, — сказал Игин. — Думал, Яворский такой… худенький… не очень уверенный в себе… руки прячет за спину.
— Вам рассказывал Игорь Константинович? — догадался я.
Игин кивнул.
— Два года сближают людей… обычно, — медленно сказал он, заполняя паузы громким дыханием. — Совместная работа… А вышло наоборот. Астахов нас встретил. Показал станцию. Возил к Спице. Она была тогда поменьше, километров семьсот… Вы знаете, почему он оставался?
— В общих чертах, — уклончиво ответил я. — Знаю, что была авария. Астахова ранило, и он не мог лететь на Землю. Все возвращались, а он оставался.
— Да… В конце первой смены, девять лет назад… Был только фундамент. И отношение было другое. Автоматики тогда было поменьше, людей побольше. Летали над фундаментом. В корабль ударил разряд. Астахову сломало позвоночник, сожгло кожу на лице. Еле выходили…
— Позвоночник… Я не знал.
— Но он мог лететь. Потом, с третьей сменой. Не захотел. Работал. Прогнозирование открытий — тогда это началось. Характер у него был… не очень. Все же болезнь. Столько лет без Земли. Конечно, трудно. Тяжелый характер… Так и получилось. Он с людьми — как одноименные заряды, все дальше и дальше…
Я показал Игину стихотворение.
— Крутизна дорог, — продекламировал теоретик нараспев. — Знаю. Есть такая поэма…
— Раньше Игорь Константинович не любил стихов, — сказал я.
— Да, его больше привлекала мифология, — кивнул Игин.
— Притчи! Игорь Константинович рассказывал их на каждом уроке.
— Притчи, аллегории, как хотите… О каждом из нас. Притчи о планетах…
Я молчал выжидающе.
— Люди-планеты, — продолжал Игин. Он, верно, не привык к долгим речам, паузы между словами все удлинялись, слушать его было мучением. — У каждого своя орбита. Есть массивные планеты. Влияют на судьбу других. Иные очень малы. Действие их неощутимо. Небесная механика в судьбах людей…
— Расскажите хоть одну, — попросил я. Представил, как рассказывает притчи Астахов: в его голосе не было таких тягучих интонаций, многие детали он опускал, приходилось дополнять рассказ воображением — один из методов воспитания ассоциативного мышления.
— Расскажу о себе, — подумав, сказал Игин. — Планета-скиталец. Сегодня под одним солнцем, завтра под другим. Сегодня ее притягивает Сириус. Завтра — далекий Денеб. Планета летит к нему. Потом — дальше…
Планета-скиталец. Если так, лучше я поговорю об Астахове с кем-нибудь другим. Услышу более определенное мнение.
В тонкостях настроений Игин, однако, разбирался.
— Пойду, — сказал он. — Время позднее. Собственно, я зашел, чтобы… Игорь Константинович рассказывал о вас, и я хотел… — он смущенно повел плечами. — А помощь… Вряд ли я смогу…
Он обвел взглядом стеллажи. Встал, потоптался у порога, будто ждал какого-то вопроса.
— Картотека на первых полках, слева… Мы пробовали разбирать. Потом бросили. Нет времени. В столе — текущая информация. В красной капсуле акт экспертизы. Спокойной ночи…
ФЛУКТУАЦИЯ
Я сидел за столом и думал. О статистике открытий. Об учителе. О его жизни и гибели.
Путь, которым шел Астахов, казался на редкость нерациональным. Лишь имея неограниченное время и безмерное терпение, можно было задумать такую работу.
«В каждом открытии есть элемент случайности», — утверждал Астахов. Разделив открытия на девять классов, он разграничил их по степени случайности. Открытия первого класса делаются повседневно — открывается не новый принцип, а некая неучтенная закономерность в давно известных явлениях.
С этой тривиальной ступеньки начинается путь наверх. Открытия второго уровня — в предгорьях трудностей. Это тоже непринципиальные достижения, но для них еще нет экспериментальной базы. Появляется элемент случайности, который растет от класса к классу.
Девятый уровень высится как недостижимая вершина. Открытия, которые принципиально нельзя предвидеть, — царство чистой случайности.
Я начал понимать, для чего нужно было подробное разделение открытий на классы, прогнозирование в каждом классе предполагалось вести различными способами, и, естественно, Астахов начал снизу.
Он применил метод, который сам назвал поисками иголки в стоге сена. Астахов приспособил для прогноза морфологический анализ — модернизированный в двадцатом веке древний метод проб и ошибок. Нужно, допустим, придумать новый тип двигателя. Составляешь «морфологический ящик»: таблицу, в которую заносишь все мыслимые характеристики двигателей, все возможные изменения. Огромную таблицу с десятками тысяч клеток. Ни одна возможность, ни один принципиально осуществимый тип двигателя не могут быть упущены. Но сколько же нужно времени и сил, чтобы разобраться во всех сочетаниях клеток таблицы, во всех возможных и невозможных двигателях!
Как-то грустно все это, непохоже на Астахова… Заболела голова — не от усталости, мозг всегда странно реагировал на информацию, которую не мог сразу переварить. Я вспомнил об акте экспертизы, вставил в проектор красную капсулу.
…Тот день был обычным. Вахта Тюдора, начавшаяся утром, заканчивалась в тринадцать часов. Тюдор сдавал смену Игину, когда сигнал внешней тревоги заставил всех бросить работу и помчаться к шлюзовой.
Не было Астахова, который ушел к Спице в девять двадцать. Сигнал тревоги выдали автоматы, когда в тринадцать ноль-ноль проверочный импульс не получил отклика от радиомаяка Астахова. Вызовы по личной связи оказались безуспешными.
— На выход! — приказывает Тюдор.
Они выводят большой кар-лягушку и мчатся к первой мачте будущего Полигона, мимо лабораторного корпуса, мимо ССЛ — сверхсветового лазера. Непрерывно верещит приемник — автоматические наблюдательные системы на трассе докладывают: нет, не видели, не проходил…
Что было потом? Они вернулись. Патанэ с Огреничем вылетели в поиск на космолете, хотя отрицательные ответы автоматики не давали надежды на успех. Двое оставшихся начали контроль пультового управления. Все приборы, роботы, автоматы, агрегаты, датчики в шестой зоне, куда должен был пойти Астахов, оказались в порядке, да и в соседних зонах тоже. Космолет облетел основание Спицы и вернулся ни с чем. А Тюдор с Игиным перешли к исследованию командно-операционного блока.
Тогда все и обнаружилось.
В акте экспертизы было написано: при контроле командной перфоленты на ней была обнаружена внепрограммная группа сигналов, прошедшая на Полигон в одиннадцать тридцать две. По этим сигналам включались гравитаторы шестой и седьмой зон.
У меня при чтении этого отрывка возникло жуткое ощущение нереальности. Откуда мог появиться на ленте внепрограммный сигнал? Оператор никак не мог его упустить — перед вводом лента сверяется со стандартом, а Тюдор не ребенок.
Как это называется? Мистика… Они, правда, отыскали другое слово: флуктуация. Смысл один — случилось то, что происходит раз в тысячу лет и может не случиться никогда. Вероятность случайного включения тут же подсчитал Игин: получилось что-то около одного шанса на миллион.
На этом экспертиза кончалась — на вероятностях. Странный вывод. Нужно найти причину, а здесь ее будто и не искали. Внешнее описание. Хронометраж. И не было остановлено строительство, не демонтированы злосчастные гравитаторы, не заменена печатающая система. Будто с гибелью Астахова примирились, едва она стала фактом.
Я подумал, что невольно разделил экипаж на «них» и «него». Они — четверо — стояли по другую сторону барьера. Они — четверо — не очень понимали Астахова. Они дорожили каждой минутой. Астахов не берег часы, размышлял над методикой открытий. Они строили Спицу, Астахов же был занят чем-то сугубо теоретическим. «Характер у него тяжелый», — сказал Игин. «Неудачник», — голос Огренича.
Неудачник. Так бывает: слово прилипнет и безотносительно к тому, что оно означает, начинает играть главную роль в рассуждениях.
Крутизна дорог… Но гораздо круче пропасти обрыв… Неудачник. Пропасть, в которую падаешь, когда не удается главное дело жизни. Дороги к вершине могут оказаться слишком крутыми, сама вершина — на недосягаемой высоте… Предсказание открытий — взял ли Астахов эту вершину? Если нет? Если убедился, что неприступные скалы непроходимы для разведчика-одиночки?
…Наверно, с этой мыслью я уснул, потому что сон, который мне приснился, был на редкость противоестественным. Я не хотел просыпаться, знал: проснусь, придется додумывать этот глупейший сон до конца. Но даже во сне я знал, что все равно проверю эту идею, несмотря на ее глупость. Потому что она объясняла все.
СПИЦА
Выехали с рассветом. Утро на Ресте начиналось с невнятного шепота пустыни. Остывшая за ночь почва быстро прогревалась и тихо шелестела, вспучиваясь и заполняя трещины в скальной породе. Высокий коэффициент объемного расширения — только и всего. Но когда просыпаешься от непривычного гула, ощущаешь под ногами вибрацию массы, как-то не думается о физической стороне явления.
Тюдор молчал, пока автоматика проверяла моторы и системы управления. Кар, напоминавший по форме раскоряченную лягушку, подпрыгнул и ринулся в пустыню. Автоматы заложили крутой вираж, и я увидел Спицу. Вольф освещал ее в лоб, теней не было, и Спица казалась далекой, как звезды. Предки сравнили бы ее с гигантской — увеличенной в тысячи раз — телевизионной башней… Кар взбирался в небо, как в гору — давало себя знать автономное поле тяжести Спицы.
— Я слышал, вы учились у Астахова, — сказал Тюдор. — Это чувствуется. Я знаком с вашими работами. Планета-лазер. Динамичные ландшафты… В ваших идеях нет системы. Интуиция, возведенная в абсолют. В работах Астахова — тоже. Разница в том, что вы не пытаетесь — и справедливо — подводить псевдонаучную базу под свой талант.
— Вы слишком хорошо обо мне думаете, — сказал я с кислой улыбкой. — Я хотел видеть Игоря Константиновича, потому что и сам занялся подобным делом…
Взгляд Тюдора был откровенно неодобрителен. У него исчезло желание разговаривать. Перейдя на ручное управление, Тюдор повел кар на посадку. Площадка, на которой мы сели, была ровной металлической поверхностью с едва различимыми стыками между отдельными листами конструкций. Неподалеку возвышался ряд монтажных башен, окружавших бесформенное сооружение с красной надписью «Планк-31». Это был один из внешних выводов вариатора постоянной Планка. Неказистый на вид, никакой внушительности. Остальные девяносто девять тянулись вдоль горизонтального пояса Спицы на высоте двухсот тридцати километров над Рестой. Лишь подумав об этом, я понял, что и сам нахожусь сейчас на этой высоте и стою вовсе не на планете, а на вертикальной поверхности Спицы. Вольф висел над головой — на самом деле он недавно взошел, и на планете еще не укоротились тени.
Рано я прилетел сюда. Прилететь бы года через три, когда первые эксперименты по изменению мировых постоянных взорвут окрестный космос. Возникнет особый мир, со своими законами природы… Но через три года меня здесь не будет — Ресту объявят запретной зоной.
Мы подошли к одной из монтажных башен. Откинув крышку приборного отсека, Тюдор начал контроль систем. Он молчал, и мне казалось, что он просто не хочет говорить со мной, — Тюдор разочарован, не ожидал, что встретит в Яворском сторонника идей этого странного человека, так нелепо ушедшего из жизни.
Я подумал, что не смог вчера отыскать систему в записях Астахова, потому что ее и не было. Четверо. Умные люди. Современные ученые. Глупо думать, что они не смогли бы преодолеть сопротивление характера, если бы видели в работе Игоря Константиновича хоть какое-то рациональное зерно.
— Не обижайтесь, Ким, за «псевдонаучную базу», — сказал Тюдор, закончив осмотр. — Говорю, что думаю.
— Вы откровенны, — согласился я. — Тогда скажите, что вы думаете об Астахове.
— За два года я изучил его, — сказал Тюдор, когда мы стартовали. — Он неудачник. И по причине личной неудачливости — скверный характер, подозрительность, стремление превознести собственные, не очень значительные успехи. Не оправдываю себя, я виноват. Думаю, вы заметили, в чем слабость экспертизы. Все мы смалодушничали, не захотели прямо сказать: Астахов не выдержал.
Та же мысль, что в моем чудовищном сне! Тюдор-то не спал, когда думал об этом.
— Убежден: каждый из нас тогда решил, что Астахов сделал это сам… добровольно. Флуктуация слишком нелепа. Но никто не сказал вслух. Чтобы утверждать такое, нужны доказательства. Их нет. Есть только наши впечатления. Все мы знали, что Астахов подавлен. Особенно в последнее время, когда не получилось с методикой…
Тюдор замедлил движение кара, и мы повисли под каким-то немыслимым углом к горизонту, почти вниз головой — гравитаторы Спицы создавали поле, удобное для монтажных работ.
— Наверное, каждый думал: человек ушел, он был несчастлив, зачем копаться в этом? Пусть будет случайность…
Видимо, решив, что мы уже достаточно повисели вниз головой, Тюдор повел кар к станции — я видел черную тень сверхсветового лазера, напоминавшую очертания старинного радиотелескопа. Мы сели в нескольких метрах от гаража, и машина поползла к своему дому, на ходу втягивая двигатели. Крыша нависла над нами, после Спицы все казалось мне игрушечным, я на минуту как-то оробел, в памяти все еще я видел Ресту с высоты двухсот километров — планету, вставшую дыбом, нарисованную пустыню внутри иссиня-черной рамки неба.
Тюдор не обратил внимания на мое состояние. Должно быть, он сказал уже все, что хотел, и теперь торопился в пультовую. Я едва нагнал его у входа в пост управления и скороговоркой выложил свои вопросы. Допустим, произошел срыв, Астахов решился на крайний шаг. Как все случилось? Почему именно сейчас? Отчего не сработала система безопасности?
— Вы не обратили внимания, Ким, — сказал Тюдор. — В экспертизе указано: в комнате Астахова обнаружен диктофон с лентой, подключенный к коммутатору Мозга. Это нормально — чтобы не прерывать работы, все мы обычно пишем команды с голоса, а сами занимаемся более продуктивным делом. Мозг обрабатывает эти команды и выдает на Спицу, если допускают строительные нормы и техника безопасности. Лента в диктофоне Астахова была пустой, и мы не стали проверять, есть ли на ней стертая запись команды включения гравитаторов.
— Погодите, Рен, при чем здесь лента? Придя в зону, Игорь Константинович мог дать команду на включение…
— Нет, — отрезал Тюдор. — Команды на Спицу идут только через Мозг.
— Значит, находясь вне станции, вы не можете вносить исправлений в работу механизмов?
— Разумеется, нет. Сигналы управления сложны, в монтаже сейчас участвует до миллиона агрегатов. Если исправления необходимы, их нужно записать кодом на диктофон. Мозг включит вашу программу в общий цикл, если это будет возможно. Запись стирается, а на ленте в посту появляется ее копия. Поэтому, если Астахов хотел… если он решился на крайний шаг, то был лишь один способ. Надиктовать внеплановые, значит, внеконтрольные команды включения гравитаторов и прийти в зону к моменту, когда команды будут выданы на исполнение.
Тюдор начал было подниматься по короткой лестнице в пультовую, но что-то в моем лице заставило его остановиться. Недоверие? Нет, все могло быть так, как он говорил.
— Думайте, — сказал Тюдор. — Впечатлений у вас теперь достаточно, Ким.
— Да, Рен… Только одно. Игин говорил мне о притчах…
— Ах, это, — Тюдор усмехнулся. — Психологические этюды, не больше. Хотите знать, что он говорил обо мне? Будто бы есть такая планета… Живут на ней люди. Умирают. Их хоронят — раньше закапывали умерших в землю. И все, что они знали, что любили, короче — вся информация переходит в почву, записывается в ее структуре. Память земли. Планета помнит все… Но кому от этого польза?
НЕУДАЧНИК
Плохой я все-таки психолог. Никудышный. Психологическая аномалия — то, что произошло на Ресте. И разбираться в ней — не мне. Архивом мне нужно заниматься, методикой открытий, а не психологией. Астахова нет, и ничем не поможешь.
На нижних полках книгофильмы стояли особенно тесно, и на некоторых оказались звуковые дорожки. Я услышал голос Астахова. Все, о чем я думал сегодня, показалось мне нелепым. Голос был прежний, астаховский, будто я впервые в его классе, учитель поднимает мой подбородок и говорит: «А ты, Ким, хочешь к звездам?» Прежний голос и чужой характер.
На нижних полках была не картотека открытий, а астаховские разработки — то, зачем я прилетел на Ресту. Содержанием капсул была все та же морфология — десятки, сотни идей, добываемых из неисчерпаемого колодца проб и ошибок. Я начал уставать — прошло несколько часов, я смотрел все подряд, не пропуская ни одного кадра, это оказалось невероятно утомительно и малопродуктивно. До обеда я просмотрел меньше одного стеллажа и решил перейти к выборочному методу — изучать каждую десятую капсулу. У Астахова накопился огромный материал, сразу разобраться просто невозможно.
С таким намерением я и поставил в проектор одну из капсул нижнего ряда. Содержание я понял не сразу, потому что ждал совсем другого. Это вовсе не были предварительные разработки, речь шла об открытии пятого уровня в биологии. Я заглянул в конец книгофильма. На последних кадрах перекатывались, ломая низкорослые деревья, камни чужой планеты, среди них спокойно стоял довольно тщедушный гражданин и легонько поднимал одной рукой внушительных размеров вездеход-ползун. Внешне гражданин чем-то напоминал Огренича. Голос Астахова сказал:
— В чем оптимальное состояние человеческого организма? Каждый скажет — это состояние идеального здоровья. Но пошлите по-земному идеально здорового человека на Марс. Он не протянет в разреженной атмосфере и минуты… На голограмме — планета Динора системы Росс-113. Здоровый человек проживет секунду — не больше. Наступит конец. Потому что идеалом на Диноре является малый газообмен и увеличение белых телец в крови. Так пошлите на Динору больного лейкемией. Не нужно его лечить, пусть хотя бы не умрет по дороге. На Диноре он проживет двести лет!
Астахов не мог знать о работах Коренева, они были опубликованы за месяц до моего отлета на Ресту. Диплом на открытие, с формулировкой, почти не отличающейся от астаховской, вручили Кореневу в день, когда стартовал «Экватор».
Может, Астахова просто осенило?.. Но при такой великолепной интуиции не стоило и заниматься морфологическим анализом, рисовать длиннющие оси с сотнями клеток.
А может, я нахожусь в плену собственной работы, собственного интуитивного метода? Подсознательно не допускаю, что способ Астахова может быть верен? «Морфология, — пренебрежительно думаю я. — Пробы и ошибки… Огренич с Тюдором в голос твердили «неудачник». Это перекликалось с моим впечатлением, и я тоже повторил «неудачник». А если нет?»
Я наугад выбирал книгофильмы, просматривал их, ставил на место. Морфология. Перебор вариантов… Стоп! Открытие пятого уровня! Зарождение жизни в межгалактической среде… Опять морфология. И снова — открытие. Четвертый класс — создание молекулярного письма.
Похоже, что изредка Астахова осеняло. Примерно один раз из десяти. Цепь догадок — она нравилась мне не больше, чем случайное включение гравитаторов…
ПАТАНЭ
Патанэ крутил «солнце» в гимнастическом зале, и я забрался к нему под потолок. Мы выделывали друг перед другом акробатические пируэты, тело постепенно охватывала приятная усталость. Беседу поддерживал Патанэ:
— Час назад роботы подняли на верхотуру шпиль-излучатель! Махина, скажу я вам! Жаль, что не видели! — кричал он.
— Жаль, — соглашался я.
— Завтра поднимем второй, поглядите обязательно!
— Непременно! — кричал я.
Патанэ соскользнул по канату на пол, задрал голову.
— Расскажите об Астахове, — попросил он. — Каким он был раньше?
Я подтянулся, спрыгнул, стал перед ним. Отдышался.
— Неделю не тренировался, — сказал я, — и вот результат.
Мы сели на пористый губчатый пол. О чем ему рассказать? Как учитель водил нас на космодром? Или как показывал свою коллекцию научных ошибок?
— С ним, наверно, и раньше было непросто?
— Не в том смысле, о котором вы думаете, Евгений.
— Откуда вы знаете, о чем я подумал?
— О сложности отношений, естественно…
— Верно. Но для того чтобы возникли сложности, нужны отношения. А с Астаховым мы почти и не контактировали. Он здесь десять лет робинзонил, пять смен.
— Что значит — робинзонил? На станции люди, экипаж.
Патанэ махнул рукой.
— Люди сюда работать приезжают. Смены очень тщательно подбираются. Между нами не может быть никаких противоречий, кроме научных. Видимся не часто, дежурства по скользящему графику. Видите, даже тренируемся врозь, побоксировать не с кем.
Он вскочил на ноги и меня поднял. Мы почти бежали по коридору, судя по направлению — в лабораторию связи.
— А теперь представьте, — кричал Патанэ на ходу, — механизм отлажен, как ходики с кукушкой, и тут появляется лишний винтик. Лучше уж тогда узнавать время по солнцу. Прошу сюда. Посидите, это не дыба, обыкновенный табурет… Ага, и получается, что все его почти ненавидят.
Он усадил меня на неудобную крутящуюся скамью, сам забрался по локти в зеленые квазибиологические схемы, что-то захныкало внутри, будто генератору драли больной зуб.
— Я и сам его первое время терпеть не мог, — голос Патанэ звучал глухо и невнятно. — Астахов всем мешал. Как привидение — бродит и бродит.
Патанэ вызвали по селектору, и он минут пять шептался с передатчиком. Что-то происходило на Спице, дрожал пол, метались огоньки индикаторов, антенна ССЛ за окном стреляла в небо оранжевыми молниями, которые тут же меркли, переходя в сверхсветовой режим. Я сидел, как неприкаянный, и чувствовал себя отвратительно. Представлял, как Астахов так же высиживал в лабораториях, дожидаясь, чтобы его послушали. Или просто заставлял слушать себя, что ему оставалось?
— Бывает же такое, — осуждающе сказал Патанэ, закончив передачу. — Хорошо, не каждый день… Представляете, Ким, метеорная атака. Прямо в Спицу. Так о чем мы говорили?
— Об открытиях, — сказал я.
Патанэ нахмурился. Он не помнил, чтобы мы говорили об открытиях.
— Вы тоже считаете, Евгений, что прогнозировать открытия бессмысленно?
— Конечно! Открытие, по-моему, как пришелец. Прилетел, рассказал, улетел. А мы послушали и не поняли. Так и здесь. Если серьезно: по-моему, гениальное открытие обязательно формулируется в несуществующих ныне терминах. Придите к питекантропу и скажите: «Знаете, дядя, странность лямбда-гиперонов может флуктуировать при возмущении метрики». Получите дубиной по лбу, вот и все. Как можно прогнозировать открытие тридцатого века, если в нашем языке и слов таких пока нет?
— По-моему, важнее не язык, в психология, — возразил я. — С середины двадцатого века ученые довольно спокойно воспринимают самые необычные вещи. С того же времени и стало возможно прогнозировать дальние открытия.
— Вроде последней астаховской идеи? — насмешливо сказал Патанэ. — Тюдор как-то сделал отличную работу. О критической массе информации. На обсуждении были обычные ругательства — я имею в виду выступление Астахова…
— Погодите, Евгений, — прервал я. — В чем была суть спора?
— Тюдор открыл, что невозможно накопление информации в заданном объеме больше определенного предела. Начинается искажение. Ну, скажем, колоссальная библиотека. Взяли сто Спиц и набили до отказа книгофильмами. Через день посмотрели, и что же? Рожки да ножки от вашей книготеки! В каждом книгофильме, — а у вас там и научные труды, и любовные романы, — произошли какие-то изменения. Да не просто какие-то, а со смыслом! Может, даже возник сам по себе новый рассказ. Например, история о капитане Киме Яворском. Без программы — таково свойство самой информации. Тюдор утверждает, что аналогично действует и мозг. Количество информации в нем всегда надкритическое. Это и позволяет мозгу иногда действовать в режиме ясновидения. И эвристическое мышление оттуда же… Так вот, Астахов на семинаре сказал, что все это бред. Вы, говорит, не учли, что возможны иные формы информации, о которых мы не знаем, потому что есть формы материи вне пространства-времени. Мол, пространство-время — форма существования материи. Но ведь не единственная! Как ваше материалистическое мышление выдерживает подобную идею?
— Скажите, — прервал я его, должно быть, не очень вежливо. Мне пришла в голову довольно странная мысль, и я почти не слушал Евгения. — Скажите, у вас тоже были стычки с Астаховым?
— У кого их не было? — недовольно сказал Патанэ. — Разве что у Игина, так ведь он и не создал ничего нового за два года…
— Вы хотите сказать, что с Игорем Константиновичем не могли поладить лишь те, кто здесь, на стройке, выдвигал новые гипотезы, предположения…
— Можно и так, — согласился Патанэ. — Начиналось всегда с этого, любая ссора.
Загудел селектор, и Патанэ тут же отключился. Руки его опять были в беспрестанном движении, он шептался с машинами, это было интересно, но не сейчас.
Я знал, что нащупал нить, возможно, совершенно неверную. Патанэ не обращал на меня внимания, и я позволил себе бестактность. Я подошел к хранилищу — узкому шкафу, где складывались книгофильмы обо всех наиболее важных событиях, происходивших на стройке. Сменный пенал лежал на обычном месте — в первом верхнем ящичке.
Сначала я увидел их всех — первых строителей Спицы, экипаж звездолетов «Орест» и «Пилад». Тридцать восемь человек. Низкий голос, слегка картавя, называл имена и рассказывал краткие биографии. Голос, очевидно, принадлежал командиру, известному космическому строителю Седову… Астахов был восьмым.
Я нажал на клавишу — смена-2. Теперь я увидел четверых. Астахова среди них не было. Кибернетик Даль. Инженеры Вольский, Диксон, Капличный. Об Астахове сказали — остался на ПИМПе по состоянию здоровья, выполняет обязанности сменного инженера. Я не знал никого из этих четверых. Хотя… Диксон. Расхожая фамилия. То ли Джон, то ли Марк… Нет, Лайнус! Семь лет назад, наверное, вскоре после возвращения с Ресты, он предсказал полимерные планеты. Шум был большой, расчеты показывали, что такие планеты неспособны образоваться. Диксон стоял на своем. А совсем недавно полимерные планеты открыли в системе Беги. Облака полимерных цепей, сквозь которые пришлось пробиваться лазерами, нити снова срастались, и «Гея», захваченная ими, две недели не могла вырваться в открытый космос. Удивительная система, и если я хоть наполовину прав… Не нужно увлекаться. Диксон только один из четырех.
Смена-З. Отличная голограмма на фоне сверхсветового лазера. Я не стал слушать объяснений — я знал этих людей. Никогда не думал, что они работали на Ресте. Морозов, Вахин, Дейч и Краузе. Открытие Вахина — мезонный лазерный эффект. Морозов и Дейч — сенсационное доказательство возможности движения вспять во времени. И Краузе — тихий Краузе, как о нем говорили. Открытие системы общественного подсознания.
Смена-4. Я не удивился уже — знал, чего ждать. Басов, Леруа, Ку-Ира и Сандрелли. Совсем «свежие» открытия, сделанные не больше двух лет назад.
Я поймал себя на том, что бессмысленно улыбаюсь. Видел бы Патанэ. А впрочем, чему я радуюсь? Я нашел косвенное доказательство того, что Астахову удалось взобраться на вершину по крутизне дорог. Косвенное доказательство — не более. И еще: если Игорь Константинович вовсе не был неудачником, то что означает его гибель? Случайность?
— Изучаете историю? — сказал Патанэ. Он стоял за моей спиной и рассматривал последний кадр: пятая смена после прибытия на станцию.
— Как будто… — неопределенно ответил я, попрощался и ушел. Патанэ остался недоумевать — отчего это Яворский вдруг сник?
ПЛАНЕТА-ПАМЯТЬ
Было о чем подумать. На каком-то этапе рассуждений, еще вчера, я перестал верить Астахову, верить в его талант. Слово «неудачник», сон, версия самоубийства загипнотизировали меня, и я прошел мимо очевидных фактов. Если случайной могла быть гибель человека, то нельзя объяснить случаем, что все, кто работал на Ресте, делали впоследствии выдающиеся открытия. Именно впоследствии, а не до.
Я плохой психолог, но даже мне известно о существовании трансверсии. Любая мысль преобразовывается подсознанием по определенным законам. Сначала вы интуитивно выворачиваете мысль наизнанку. Вам говорят «белое», а вы начинаете думать о черном. Потом вступают в действие принципы увеличения и уменьшения — вторые по силе.
Допустим теперь, что у меня есть отличная идея — открытие, подсказанное интуицией или методикой, неважно. Я хочу, чтобы аналогичное открытие сделал, например, Тюдор, и главное — чтобы он воспринял открытие как свое. В разговорах с Тюдором я должен все время высказывать одну и ту же бредовую — или тривиальную? — но хорошо продуманную мысль, высказывать упорно, чтобы она вызвала у Тюдора внутреннее сопротивление, раздражение, чтобы она засела в его сознании. Нужные ассоциации родятся непременно. Настанет момент, и Тюдора осенит. Может быть, это случится уже на Земле. Будет он знать, почему все время думал именно а этом направлении? Вряд ли.
Что ж, как рабочая гипотеза это сойдет. Понятно, почему не было идей у Игина — он слишком мягкотел, трансверсия рассчитана на непременное внутреннее сопротивление слушателя.
Верить Астахову! Вот, что я должен был делать с самого начала. Не поддаваться словам-ярлыкам. Верить всему — людям и фактам! Но я знал, что в чем-то и кому-то верить не должен. Мучительная мысль — я не знал, в чем и кому. Сидел, думал, вспоминал — это было очень важно: вспомнить, в чем противоречие.
Да, вот оно! Притчи. Если действительно верить Астахову — притчи схватывают наиболее существенную сторону характера. Тюдор. Планета-память. Он должен все замечать и помнить. Любую мелочь. «Как я мог пропустить этот лишний сигнал?» Действительно — как?
— Прошу Тюдора, — сказал я в селектор. Вопрос придумал на ходу: — Скажите, Рен, какая программа шла на Спицу… четырнадцатого декабря? — это было полгода назад, но Тюдор сделал вид, что не удивился вопросу.
— Укладывали растяжные плиты на девятисотом километре, — медленно, припоминая, сказал он. — Начали в одиннадцать, была смена Игина. В конце дня заступил Борис.
— В полдень не произошло ничего интересного?
Тюдор смотрел на меня с экрана, будто хотел сквозь несколько стен прочесть мои мысли.
— Нет… Работали циркулярные монтажники. Потом двадцатисекундная заминка — смена программ. Евгений у себя в лаборатории. Борис наблюдал из обсерватории. Астахов… Он плохо себя чувствовал, не выходил из своей комнаты. Я был в пультовой вместе с Игиным. Что еще?
— Ничего, — сказал я. — Спасибо, Рен.
Отличная память! Если только четырнадцатое декабря не было выделено каким-то памятным Тюдору событием. Вряд ли. Так что же? Две флуктуации сразу — включаются гравитаторы (сами по себе?), а Лидер, отличающийся редкой наблюдательностью и памятью, упускает экспресс-сигнал на ленте программы. И то, и другое в принципе возможно, но поверить в это я не мог. Не верилось уже в добровольную смерть Астахова…
Позвонил Игин. Он долго осматривал комнату, будто с вечера здесь что-то могло измениться. Наконец сказал:
— Скоро сутки, как мы не виделись, Ким… — я успел отвыкнуть от его тягучего голоса и мысленно опережал его фразы. Он начинал предложение, а я уже додумывал, чем оно кончится. — Сутки — много или мало?
— Много вопросов, мало ответов, — сказал я, вздохнув. — Правда, мне начинает казаться, что Игорь Константинович успел все же создать методику поиска открытий. Я решил верить Астахову. Во всем. Даже в том, что открытия можно предсказывать с помощью перебора вариантов, хотя и не понимаю — как.
— Да… — протянул Игин и без видимой связи с предыдущим спросил: — Вы говорили с Борисом?
— Нет, — сказал я. — Не успел.
— Да… — еще раз сказал Игин, и я только теперь заметил, что он взволнован. Сильно взволнован — правда, это выражалось лишь в том, что едва заметно дрожал его двойной подбородок, и пальцы перед камерой стереовизора бесцельно сцеплялись и расцеплялись.
— Борис наблюдал интересное явление, — сказал Игин. — Сначала метеорный поток — странный поток узкой направленности. А потом вспышки в атмосфере Вольфа. В линиях кислорода… Там вроде бы нечему излучать в этих линиях…
Я кивнул. Вспышки и метеоры меня сейчас не интересовали.
— Собственно, я позвонил вам, чтобы… — начал Игин и не закончил фразу. Опять, как минуту назад, внимательно оглядел комнату, о чем-то подумал, сказал: — Вы говорите — верить Астахову. Но тогда не забывайте главного. Вспомните странника…
Он отключил аппарат, прежде чем я успел ответить. Несколько мгновений я выбирался из его многоточии и недоговорок, и, когда выбрался, стало ясно, что я с самого начала думал не о том и не так. Потому что сразу решил — Астахов забыл о том, о чем мечтал когда-то. Тогда, в школе, он думал об одном — пешком к звездам. На Ресту он явился обычным способом — прилетел с экспедицией строителей. Понял, что мечта Нереальна, что нет в ней ничего, кроме красивого сочетания слов. На этом я поставил точку, будто отрезал, будто никогда и не было еще одной астаховской притчи — притчи о страннике.
МЕТОДИКА
Жил-был странник. Он обошел всю Землю — в стоптанных башмаках, с киноаппаратом на ремне. Он пил ледяную воду из горных ручьев, просеивал сквозь пальцы жгучий песок Сахары, охотился на кальмаров в подводных лесах Фиджи. Ему было мало. Что он видел — одну планету из мириад, заселяющих космос!
И странник ушел к звездам. Так и ушел — в стоптанных ботинках, с неизменным киноаппаратом. Серебристая лунная дорожка повела его в путь без возврата. Он шел, и звезды улыбались ему, планеты давали ему приют, и впереди его ждали неисчислимые и невероятные приключения, потому что был он — Странник. Странный человек, не похожий на других…
Астахов остался прежним. Он не был сломлен неудачами — их не было, потому что он создал методику открытий. Он не был язвителен по натуре — он намеренно выбрал такую линию поведения. Тюдор и остальные путают причину со следствием. Методика открытий вовсе не была для него самоцелью, — вот где я всегда останавливался и вот в чем ошибался.
Нужно было открыть нечто новое в самом принципе межзвездных путешествий, — чтобы сдать в переплавку звездолеты, чтобы исчезли космодромы и генераторы Кедрина. Чтобы люди перестали зависеть от громоздкой и неуклюжей техники. Кто знает, когда такое открытие будет сделано? Астахов не хотел ждать. Звезды манили его, и он занялся тем единственным, чем по логике вещей и должен был заняться: он учился делать открытия, и среди них искал свое. Пешком пройти по голубой стремнине Млечного Пути, зачерпнуть воды из бурного потока на планетах Антареса, любоваться игрой теней в мире трех солнц Альбирео… Астахов не придавал методике значения, потому что ждал главного открытия.
Значит, основа методики — морфология? Колоссальный винегрет из всего, что известно науке. Нужно было по-новому взглянуть на старое. Как в идее Тюдора.
Я с размаху остановился в своих рассуждениях, будто на стену налетел. Как у Тюдора? Нет, это у Тюдора — как у Астахова! У Тюдора: идея надкритической информации. Астахов: метод проб и ошибок, возведенный на высшую ступень.
А если объединить?
Любое открытие — выход в надкритический режим. Верить Астахову? Ну и поверю. Что он делал прежде, работая в школе? Собирал безумные идеи. Объединял их. И что же? Оказалось, что «псевдонаучная шелуха», собранная воедино, способна создавать новые — и правильные! — идеи.
Почему же я, ученик Астахова, не допускал и мысли, что знание, накопленное наукой двадцать второго века, так велико, что само по себе способно рождать принципиально новую — и верную! — информацию? Морфологический анализ — это способ обработки всего, что известно науке. «Взяли сто Спиц и набили до отказа книгофильмами». А дальше?
Нужно, чтобы все клеточки этого колоссального морфологического ящика могли изменяться, взаимодействовать. Но с чего бы им меняться? Правда, в памяти машины вместо слов — импульсы. Можно придать им разную силу, и тогда…
Я взял со стеллажа капсулу: квази-Огренич на квази-Диноре. Есть ответ, будет с чем сверять решение. Начать не мог. Все-таки — чистейшая интуиция. Машина наплюет на мои догадки с позиций своего высоковразумительного эвристического анализа.
— Прошу Игина, — сказал я.
Он оказался в обсерватории. Огренич склонился над пультом рентген-телескопа, а Игин ходил под куполом, переваливаясь, как пингвин. Вероятно, мое лицо было достаточно красноречиво. Игин кивнул и сказал Огреничу:
— Продолжай сам…
Я отключил селектор и ждал, чувствуя себя, будто перед стартом в бесконечность.
— Кажется, понял, — объявил я, когда Игин появился на пороге. Он молча прошел к креслу, заворочался, устраиваясь поудобнее. Сказал тихо:
— Что поняли, Ким?
— Метод, если он вообще существовал…
Я не был уверен в том, что прав, но нужно было говорить, убеждать Игина. Прежде всего Игина, хотя он-то в убеждении вовсе не нуждался.
— Вот книгофильм с открытием. Пятый класс. Оптимальность болезни в космических условиях. Сначала, как обычно, идет морфология. Больше миллиона комбинаций, какое сочетание приведет к открытию — я не знаю.
Я подключил микропленку к коммутатору, указав, что читать нужно половину — до описания открытия. Пленка перемоталась и скатилась в приемный пакет.
— Пожалуйста, Стан… В памяти машины наверняка есть программа. Примерно такая: сначала снабдить асе клеточки на осях морфологического ящика электрическим потенциалом. Потом замкнуть эту систему токов. Что произойдет? Клетки начнут взаимодействовать, потенциалы — взаимно гасить и усиливать друг друга. В результате какая-то одна клетка из миллиона выдаст наиболее сильный ток. Эта клетка, то, что в ней окажется, и будет описанием открытия…
Игин кивнул, но не пошевелился.
— Станислав!
Игин вздрогнул.
— Конечно… Я попробую. Но нет одной детали… Если пустить такую программу… Машина отберет наиболее перспективные направления современной биологии.
— Знаю, — сказал я. — Должна быть еще программа изменения осей. Примерно так, как работает человеческое подсознание: увеличить, уменьшить, сделать наоборот и так далее… Блок преобразований.
Игин заговорил. Он диктовал медленно, однако очень внятно произнося слова и на удивление четко заканчивая предложения. «Умеет, когда нужно, — подумал я. — Интересно, часто ли Игорь Константинович поручал Игину эту операцию? Если нет, то во всяком случае сейчас Игин занят делом, которое не раз наблюдал».
Щелкнул коммутатор, вспыхнул кубик голоскопического экрана, и… это была вовсе не квази-Динора. То есть планета была, но какая! Она ворвалась в комнату всеми своими ураганами, в рыжем хаосе туч носились тени, и я не понимал — существа это или вывернутые ветром камни. В расплавленной жиже, от которой поднимались клубы пара, плавали создания, которые я не смог бы описать — описания статичны, а каждое из этих созданий ежесекундно меняло облик. Я ждал объяснений, и машина заговорила:
— Класс пятый, — сказал голос. — Содержание открытия: абсолютный ген, в котором записана информация о строении и развитии целого класса разумных существ. Структура гена такова, что он может стать «родителем» человека, или проционовой змейки, или рептилии Дориона. Все зависит от условий размножения. Открытие будет сделано после того, как изменится восемнадцатое правило запрета для ДНК.
— Стан, это другое открытие, — сказал я. — У меня есть ответ к этой задаче, и он не сходится!
— Другое? — Игин наклонил голову. — Я думаю… Неоднозначность свойственна. Приходится ведь выбирать из миллиона… А сила сигнала не абсолютна. Возможно новое… Каждую задачу можно решить по-разному…
— Да, — согласился я. — А главную?
— Главную?
— Пешком к звездам, — сказал я. — Странник Астахов. Все знания, все силы для одного — чтобы сбылась мечта. Вы сами подсказали мне это.
— Значит, вы поняли? — вопрос был скорее утверждением. Игин даже головой закивал, так ему хотелось, чтобы я сказал «да». Чтобы ему не пришлось самому что-то объяснять, произносить длинные фразы, конец которых пропадет в нежелании договаривать.
Разве я понял все? Почти ничего — кроме главного. Но мне стало жаль Игина.
ОТКРЫТИЕ
— Вы сами подсказали мне, — повторил я. — Вероятно, не без умысла. Притча о страннике. Мечта Астахова — пешком к звездам. Думаю, все было так… Болезнь оставила его на Ресте. Среди звезд, которых он достиг, но к которым так и не пришел. Он уже тогда решил уйти отсюда, но — именно уйти. Это очень похоже на Игоря Константиновича: сказать — я уйду отсюда только тогда, когда смогу сделать это сам. Без звездолетов, без скафандров, без генераторов Кедрина. Встать и пойти. По лунной ли дорожке или по тропинке, протоптанной в межзвездной плазме… Потому он и оставался здесь, даже когда появилась возможность лететь: еще не было сделано его открытие. Были другие открытия, они приближали Астахова к мечте, но не были тем, единственным. Игорь Константинович давал людям ниточки к открытиям, наталкивал — так, что они не догадывались, откуда все исходит. Будто Астахов лишь мешает, будто он — блуждающий ток в отлаженной системе… Зачем он поступал так? Почему не сказал — вот методика, давайте открывать вместе?
Я замолчал на мгновение, на Игина не смотрел, все было очень тонко в моих рассуждениях, самый незначительный жест мог убить их.
— Крутизна дорог ведет к вершинам гор… А на вершине вовсе не методика открытий, напротив, методика — только крутая дорога, а среди вечных снегов — недоступное: главное открытие. Игорь Константинович не считал работу законченной до тех пор, пока не найдет ту единственную идею, из-за которой все начинал. До тех пор и методику считал недоказанной. Молчал. И вот — представьте, что он достиг цели. Он знает, что сможет бродить среди звезд. Но он знает еще, что люди считают его человеком с тяжелым, неуживчивым характером — редкий случай в наше время. Ему не место на Ресте, он мешает. Наверно, и Патанэ, и все предыдущие смены сообщали на базу об этом, и Астахов считал, что в конце концов последует не просьба, а приказ — вернуться на Землю. Как он хотел вернуться! Он решил сделать это прежде, чем его принудят. Он был уже готов. Но… Ему стал очень нужен один человек. Помощник. Вы, Станислав.
Теперь я мог посмотреть на него. Игин сидел, расслабившись, возведя очи горе. Он пошевелился и вопросительно посмотрел на меня: почему замолчали, интересная история, продолжайте.
— Вы, Станислав, — повторил я. — Вы идеальный помощник, потому что не имеете своего мнения. Астахов просто не позволил бы другому иметь свое суждение… Приближается конец смены. Если и не будет приказа вернуться, он во всяком случае потеряет вас. И он решается. Тогда, две недели назад Игорь Константинович сказал вам: опыт будет проведен в шестой зоне. Думаю, что включение гравитаторов не просто убийственно. Оно, по вашим. Стан, расчетам, должно обеспечить нужную перестройку организма. Игорь Константинович хотел, чтобы именно вы дали из пультовой сигнал на включение. И вы. Стан, впервые отказались. Для вас это было все равно, что намеренно лишить человека жизни. Вы не были уверены в успехе! И сказали «нет». Тогда Астахов записал команды на ленте диктофона и попросил вас уже потом… заменить пленку. Вы отлично знали, что экспертиза сумеет реставрировать стертую запись. И вы заменили… И стали ждать. Было невероятно трудно — ждать, когда на станции идут такие разговоры. Тюдор думает — самоубийство. Впервые в жизни он мнется в экспертной оценке. Он обвиняет себя… Правда, было трудно. Стан?
Игин повел плечами. Едва заметно усмехнулся.
— Вы упрощаете, Ким, — сказал он тихо.
— Конечно, — немедленно согласился я. — Многое мне неясно. И даже главное: какое открытие сделал Игорь Константинович?
— Могу сказать. Вы правы — труднее всего ждать. Если бы знал, сколько намучаюсь, ни за что не согласился бы…
— Но почему? — не выдержал я. — Для чего скрывать эксперимент? Хорошо, он опасен. Тюдор не разрешил бы. Но…
— Так хотел Игорь Константинович, — торжественно сказал Игин, и столько уверенного спокойствия было в его словах, что я невольно стушевался. Так хотел Астахов — и все.
— Ну подумайте, Ким. К кому он мог обратиться? Он сам, своими руками, — Игин даже протянул вперед руки, растопырив толстые пальцы, — создавал недоброжелателей. Кому он мог сказать? Рену? Тот докажет, что методика бред. Евгению? Патанэ не делает ничего без согласия всех. Борис и слушать не станет… А я… Лидер просит: Стан, сделайте съемки Спицы. Хорошо. Борис говорит: Стан, просчитайте параметры. Пожалуйста… А знаете, как я здесь-то очутился? О, это история… Я ведь домосед. У меня группа в Тибетском теоретическом. Мы занимались там одной маленькой проблемкой… Приезжает Глазов, ну, знаете… Говорит: «Игин, у нас тройка на Ресту, вас рекомендовали четвертым». Но я не строитель! Я и Спица — несовместимо. А он: «Вы психологически идеально подходите к группе». Убеждал долго. Я слушал и думал: «Зачем зря толковать? Знает, что соглашусь…» А здесь Астахов. Он сразу раскусил. Он всех понимал. Когда дошло до опыта, он все хитро обставил. Сказал: «Стан, я могу погибнуть. Но все равно сделаю это. Я шел к этому тридцать лет. Вы знаете. Стан, на Спице проще всего поставить такой опыт. И никогда — на Земле. Я нетерпелив. Стан… Хочу все сам. Методика останется людям. А мне нужно малое: звезды». Он говорил, убеждал, а мог просто сказать: «Надо». Я бы все сделал, и он это знал. Но он хотел, чтобы я точно знал, на что иду. Ведь открытие-то было девятого класса. Девятого, Ким!
— Какое? — только и смог сказать я.
Игин промолчал и опять оглядел комнату. Теперь я понял, что он высматривает. Последняя капсула Астахова была где-то на стеллажах, и Игин смотрел: добрался ли я до нее.
— Какое? — повторил Игин. — В двух словах: человек всемогущ. Не фраза. Не сказка. На самом деле… Всемогущество не в том, чтобы строить звездолеты, раскалывать планеты, перемещать галактики. Это — техника. А я говорю: человек. Сам. Знаете, что говорил Игорь Константинович? Познание мира — это одновременно и осознание собственного бессилия. О любой вещи наше знание неполно. Абсолютное знание — как скорость света. Приближаешься к нему, затрачивая все больше сил. Но остается самая малость, и перешагнуть ее нельзя. Релятивистская истина. Имя ей — законы природы. Кедрин выбил первый камень — доказал, что скорость света можно изменить. Мы начали снимать второй слой. Строим Спицу, хотим понять, по каким законам можно менять законы природы. Но мы в начале пути. Астахов смотрел глубже. Как-то он прочитал мне из Грина: «Он посягает на законы природы, и сам он — прямое отрицание их». Это «Блистающий мир». Мечта о левитации. Захотел — и в воздух. Детский сон. А сон правдив. Подсознание выталкивает на поверхность мысль о всемогуществе. Но в сознании фильтр. Он вдолблен веками — человек слаб, нужна техника… А знаете, в конце двадцатого века появилась работа: мозг человека вызвал сомнения с точки зрения термодинамики. Не соблюдалось второе начало. Вопрос даже ставился: либо человек не может мыслить, либо второе начало неверно. Тогда от сомнений быстро избавились. Хитрая математическая теория — и все ясно. И все наоборот. А ведь рядом с гениальным открытием! Работа мозга действительно нарушает законы природы. Но в то время кощунством было говорить об этом. Утверждали: в нашей области Вселенной одни законы, в другой могут быть иные. И не шли дальше: если могут быть иные, значит, и наши изменяемы… А чем мы лучше? Строим полигон размером с планету. Боимся новых открытий. Как бы чего не вышло. А у самих вот эта штука, — Игин хотел постучать ладонью по макушке, но устыдился этого жеста и пригладил волосы, будто ребенок, говорящий «ах, какой я хороший», — а сами ежесекундно меняем в своем воображении мир и только поэтому можем мыслить, созидать…
Он встал, будто пузырь вылетел из кипящей жидкости, он и сам весь кипел, надувался и опадал, вот-вот лопнет. Игин встал передо мною, смотрел сверху вниз, будто, падая с высоты, слова приобретали инерцию и с большей силой входили в сознание, разрушая привычные стереотипы. Слова Астахова.
— Вот открытие: законы природы, которые мы познали, — это законы неразумной материи. Глубокие же законы работы мозга — тайна до сих пор. Поэтому и не удается создать мыслящих и чувствующих роботов. Вот так, Ким, — сказал Игин неожиданно спокойно, почти равнодушно. — Что, между прочим, мы всегда делали? Мы меняли и меняем окружающий мир. Сначала мысленно, затем на деле. Медленно, на ощупь мы с самого начала двигались к всемогуществу — в нашем, конечно, понимании. Подсознательно мы всегда знали, что Вселенная в нашей власти. Отсюда сказки и мифы, те грезы о всемогуществе, которые шаг за шагом и все быстрее — нужны ли примеры? — стали сбываться в частностях. Вот мы уже замахиваемся на переделку законов природы… И все это, еще толком не познав законы своего мышления! А если… если изменить, переделать сами эти законы? Все необычайно сложно, смысл открытия едва постижим, но у Астахова вы все найдете. Нужно необычное воздействие на мозг. Это возможно только здесь, на Спице. Игорь Константинович убедил меня в этом.
Убедил. Хитрит теоретик — Астахов мог придумать идею, принцип, а все остальное, несомненно, работа Игина. Расчеты. Программа. Но…
Всемогущество. Захотел — и смешал в кучу звезды. Для чего оно нужно? Имеет ли человек право на всемогущество?
— Стан, — сказал я. — Всемогущество не бомба, оно гораздо опаснее. Идеального человека нет, а всемогущество — идеальное качество. Вот вы. Стан, уверены ли, что, став всемогущим, никогда, пусть подсознательно, не сделаете людям ничего такого, что принесет вред? Я очень уважал Игоря Константиновича, но до идеального ему было далеко…
— Ким, открытию не скажешь: повремени! Когда Игорь Константинович рассказал мне… Я испугался. Потому что мир должен измениться. Весь, сразу. Знаете, Ким, у меня на Земле жена и двое ребятишек. Старшему двенадцать… Я подумал: а как же любовь? Я сказал Игорю Константиновичу: не время. «Открытие девятого класса всегда не ко времени, — ответил он. — Люди любят потрясения, ну так это будет самым сильным». Ким, я был в панике… Мне представился хаос… Кто будет всемогущ? Любой? Есть ведь и эгоисты, и грубияны, и безумцы… «Любой, — сказал Игорь Константинович, — иначе мы окажемся хуже предков. Успокойтесь, Стан, — сказал он. — Безумцы не смогут стать всемогущими. Нельзя сделать всемогущей собаку. Или пещерного человека. Даже Галилея — нельзя. Не тот уровень развития мозга. Не бойтесь за людей. Стан. Вы же видите — я не боюсь…»
— И вы сдались, — сказал я осуждающе. — Астахов выбрал для вас орбиту и вывел на нее. И вы включили гравитаторы, когда Астахову понадобилось…
— Гравитаторы? — Игин недоуменно посмотрел на меня, слетая с высот на землю и обнаружив, что должен объяснять еще что-то, кроме самого открытия. — Нет, Ким, не включал я гравитаторов. Никто их не включал…
— Флуктуация?
Игин не ответил, я сказал глупость и сам понимал это. Никакие гравитаторы в тот день не включались — я понял это еще тогда, когда поверил в притчу о планете-памяти, когда говорил с Тюдором. Сигнала не было — естественно, что Тюдор ничего не видел.
— В такой ситуации нелегко быть на высоте, — сказал Игин. — Открытие для будущих веков, а сделано сегодняшним Астаховым. Он ведь хотел немногого: новый способ звездных путешествий. А нашел Вселенную. И не одну. Сотни… Мы сидели здесь, когда были готовы расчеты…
ИГИН
Они сидели и рассуждали. У Астахова блестели глаза — он не отдыхал пять суток. Игин был подавлен — объяснение свалилось на него неожиданно.
— Можно изменить энергетику организма, — сказал Астахов. — Это означает бессмертие. Хотите быть бессмертным. Стан?
Игин молчал.
— Хотите, но не признаетесь. Раньше-то разговоры о бессмертии велись в полной уверенности, что оно невозможно. Говорили «да», а думали «нет». Это «нет» и диктовало доводы. Говорили: зачем бессмертие? Развитие вида, изменчивость… Старцы с застывшими идеями…
Астахов вскочил, забегал по комнате.
— Знаете, Стан, природа мудрее, чем мы думаем. Бессмертие действительно невозможно без всемогущества. Природа не терпит нецелесообразности. Получив всемогущество, человек получит право на бессмертие, потому что даже за бесконечную жизнь он не сумеет до конца осознать свою бесконечную силу! Смысл! Стан, вы понимаете, что в этом и есть смысл жизни! Сколько его искали и не находили. Естественно. Попробуйте отыскать смысл, если он лежит вне ваших представлений о Вселенной. Вы ищете в запертой комнате, а он далеко — в другой галактике. Расшевелитесь, Стан, скажите хоть слово!
— Вы так долго говорите сегодня, — слабо улыбнулся Игин.
— Нервное, — махнул рукой Астахов. Он сел перед Игиным на пол, будто упал, смотрел ему в глаза, долго молчал.
— Это слишком много для одного человека, — наконец сказал он. — Я не хочу быть всемогущим, не хочу бессмертия. За годы, проведенные в этой пустыне, я стал эгоистом. Это порок, но он вполне естествен для человека, которого считают лишним колесом в телеге. Стан, мне нужно немногое, микроскопическая доля этого всемогущества.
Игин кивнул. Конечно, пешком к звездам — небольшое желание.
— Все остальное будет принадлежать людям. Лет через сто. Или раньше. А я хочу звезды — и сейчас. Это неплохо и чисто методологически, — схитрил Астахов. — Мне скорее поверят, если будет прецедент. Плохой или хороший. Теоретикам не всегда верят, тем более если речь идет о вечном двигателе…
«Я слабый человек», — подумал Игин. Он знал — Астахов хочет эксперимента. Сейчас, немедленно. Потому что завтра придется сказать: «Никогда». Его могут отозвать на Землю, и начнутся теоретические проверки. Месяцы раздумий. Годы строительства полигонов. Десятилетия опытов. А Астахов — индивидуалист и романтик. В нем еще живо первобытное желание — пощупать все своими руками. Даже звезды — погрузить руки в раскаленную плазму… Но ведь это не опыт врача, прививающего себе бациллы чумы. Даже не мечта безумного атомщика — забраться в сердце реактора… Нужно отказаться. Рассказать всем. Есть, наконец, правиле, инструкции. Он, Игин, никогда не нарушал их.
— Подумайте, Стан, — сказал Астахов. Он отлично знал, что Игин, не привыкший отказывать, мечется в своих сомнениях, как в лабиринте. — Вы не сможете и не захотите мешать мне. Стан. Я все обдумал и проведу опыт. Но вы — вы сами рассчитывали параметры, неужели вам…
Игин не выдерживал, когда на него наседали.
— Мы не успеем. И риск…
Астахов улыбнулся, он решил, что Игин боится за себя.
— Нет, Стан. Опыт ставлю я. И не позволю вам рисковать. От вас нужно одно — пассивная поддержка. Если опыт удастся, я дам знать. Как — не знаю пока. Хотите, зажгу для вас новую звезду? А если не получится… Пусть думают: случайная гибель. Нарушение техники безопасности. Пусть все идет своим чередом. Венец мученика — кому он нужен? Записи мои пойдут в Институт футурологии, там рано или поздно докопаются до сути. Машина все равно заработает, разве что скрип будет больше.
«Он убьет себя, — думал Игин. — Удержать. Не позволить. Да нет, это Игин убьет его. Уверен ли он в расчетах? Нет, не уверен, не так делаются эпохальные открытия и эксперименты. А как?»
— Что мне делать? — тихо сказал Игин.
— Ничего, — быстро ответил Астахов. — Ровно ничего. Стан. Команды включения аппаратуры Спицы я уже записал на ленту. Вы должны уничтожить ее: стертую запись экспертиза обнаружит. Только это. Стан. Когда я просигналю вам — говорите всем, кричите! Но если не удается… Пусть никто не знает о вашей помощи. Я так хочу. Пусть скажут: «Погиб из-за собственной неосторожности».
— Но дежурный обнаружит неплановый сигнал на ленте в посту, — слабо запротестовал Игин. — Какой смысл уничтожать ленту с командами, если в посту будет ее копия?
— Я выйду к Спице с таким расчетом, чтобы быть на месте в момент смены программ. Между старой и новой программами интервал в сорок секунд, когда на Спицу вообще не идут команды Мозга, и на ленте оператора в посту ничего не может зафиксироваться просто потому, что самой ленты еще нет в считывающем устройстве. Попасть в этот интервал. Мы успеем — нам нужно всего двадцать три секунды.
Игин молчал. Планета-скиталец. Будет ли такой момент в жизни, когда он кому-нибудь скажет «нет»? Игин смотрел на Астахова, видел его лицо, ставшее восково-бледным, дергающееся пятно на щеке, глаза усталые, без надежды. Подумал, что этот человек ждал тридцать лет. Подумал, что всемогущество, которое Астахов дает людям, требует и от людей чего-то для этого человека, у которого лишь одно желание — идти по Вселенной невидимыми космическими дорогами. И еще подумал, что долго тянет с ответом. На мгновение мелькнула мысль о жене, об Андрее и Наташе, о том, что теперь он всегда будет с ними, потому что в космос его, конечно, больше не пустят. И что в его размеренной жизни останется хотя бы одно воспоминание о минуте, когда решение зависело от него.
Игин молча встал и пошел к двери.
ЭКСПЕРИМЕНТ
— Вот и все, Ким, — сказал Игин бесцветным голосом. — Судите меня. Никто не включал гравитаторов в одиннадцать тридцать две, потому что все кончилось на час раньше, когда менялись программы. Гравитаторы просто убили бы… Нужно гораздо более сложное воздействие. Я покажу вам ленту, я ее не уничтожил. Включение последовательно нескольких систем. И не шестой зоне, а ближе к основанию Спицы. И даже на самой Спице. Менялись постоянная Планка и постоянная тяготения. Мы впервые дали на Спицу такую большую мощность. Доказали, кроме всего прочего, что, изменяя условия, можно менять и мировые постоянные… Законы мышления стали иными… Не подумайте, что я бы молчал. Я ждал. Ждал, когда Игорь Константинович позовет меня. Не знаю, как закончился опыт. Не знаю, Ким, вот что хуже всего! Жду чего-то. Даже на звезды смотрю иначе. Недавно прошел странный метеорный поток… Вольф дал необычное излучение. И я уже подумал… Я не оправдываю себя. Но вы, Ким… Что сделали бы вы? Кроме человечества, есть ведь еще и человек. Человечество может подождать сто лет, а человек?
Игин опоздал к завтраку. Огренич и Астахов сидели у разных концов стола. Борис кивнул Игину. Астахов продолжал молча жевать. За два часа до опыта он был таким же, как обычно: в меру сосредоточен, в меру резок.
Не доев, Игин убежал к себе в лабораторию. Только здесь, под жужжание вычислителя, напоминавшее бесконечное повторение первых тактов «Лунной сонаты», он немного успокоился. Ввел в машину новые данные для Огренича, попробовал разобраться во вчерашних расчетах Тюдора. Включил селектор комнаты Астахова. Игорь Константинович махнул рукой, сказал:
— Порядок, Стан. Код проверен, реле времени на десять двадцать шесть. Прошу вас, проследите… Не паникуйте. Стан. Все в порядке.
Игин впервые увидел, что Астахов может искренне и широко улыбаться. Эта улыбка будто разрядила в нем невидимые аккумуляторы. Игин тоже попробовал улыбнуться и представил, как это выглядит со стороны.
— Я все понимаю, Игорь Константинович, — сказал он. — Желаю…
— Не надо, — быстро сказал Астахов. — Я, если хотите, немного суеверен. До встречи. Стан. Ждите вестей.
Он отключил селектор, оставив Игина наедине с мыслями. Игин сидел и представлял: Астахов ставит запись, прослушивает ее на дешифраторе. Сначала круговое упреждение, потом подключение трех Планк-вариаторов с нижнего пояса Спицы. Мозг готовится к перестройке, и сразу — всплеск Планка с резким уменьшением постоянной тяготения. Три микросекунды. И все… Лента в аппарате. Астахов включает реле — пора!
Астахов выходит в коридор. Прозрачным туннелем — Вольф в зените, скалы желты, как золото, — переходит в лабораторный корпус, сейчас он пройдет мимо. Войдет или нет? Игин ждет и, не выдержав, распахивает дверь. Он успевает увидеть спину Астахова почти у самого поворота коридора. Захлопывает дверь, считает мысленно. Надет скафандр. Короткий диалог с Тюдором. «Прошу выход». — «Цель и маршрут?» — «Снятие характеристик, зона шесть». — «Готовность?» — «Полная». — «Время выхода?» — «Девять двадцать». — «Время возвращения?» — «Тринадцать ноль». — «Системы?» — «В порядке». — «Кислород?» — «Полная». — «Разрешаю». — «Принято».
Дверь тамбура, короткая заминка, выход.
Под каблуками шебуршится песок, шаги уверенные. Астахов лучше других ходит по Ресте, несмотря на легкую хромоту. Шаг, еще шаг. Игин почти физически ощущает эти шаги, каждый из них вдавливает его в кресло.
А ведь он счастлив, этот Астахов. Он идет в свое звездное странствие, и совершенно неважно, возвратится он или нет.
Рубиновый сигнал — конец нулевой зоны. В первой зоне все покорежено, оплавлено, здесь вгрызались в почву кроты, рыли трехкилометровые шахты для подземных Планк-вариаторов. Камни застыли фантастическими изваяниями. Стартовая площадка. Куда? В будущее? В бесконечность? В бессмертие? Или — в небытие?
У Игина стучит в висках, будто неслышный голос ведет обратный отсчет. Сто. Девяносто девять. Есть время. Игин с ходу врубает клавишу селектора пультовой. Тюдор сосредоточен, на вызов не отвечает, идет смена программ, ответственная операция.
— Рен! — кричит Игин беззвучно. Что-то надвигается, холодное, тяжелое, забирается в сердце, рвет, давит. Должно быть, так чувствуется чужая боль. Или радость. Астахов стоит, подняв руки и весь он — как звездолет на старте. Тридцать пять. Тридцать четыре…
— Рен… — шепчет Игин и пугается. Он не должен. Сейчас прав Астахов. Кто сказал это: «Правы не миллионы, а один, если он впереди»… Не тебе, Станислав, мешать этому.
Десять, девять…
Программа сошла, идет контроль, в комнате Астахова шуршит лента и, притаившись, будто тигр перед броском, ждет своего мгновения реле времени.
Восемь, семь…
Странник уходит в свое странствие.
Шесть, пять…
Нужно ли человеку всемогущество?
Четыре, три…
Может, это — катастрофа?
Два…
Будут ли всемогущие любить?
Один…
Всемогущий Игин. Смешно.
Ноль.
Ничего не изменилось. Только волна боли прошла под сердцем. А где-то на полигоне ушел человек. Мир стал другим. Это он, Игин, изменил его. «На месте Астахова, — подумал он, — я полетел бы к Земле. Только к Земле…» Он ждет, прислушиваясь. Тюдор с Огреничем — что заметят они? Тишина. Может, аппаратура не сработала? Нелепая надежда — отсрочка операции. Игин встает и, тяжело ступая на ватных ногах, бредет в комнату Астахова менять ленту.
Только здесь он понимает, что опыт прошел. Лента, свернутая, лежит в приемном пакете, реле отключилось. Все. Он стоит и повторяет: «Все». Мир изменился. Что бы ни случилось, Игин никогда не сможет относиться к людям по-старому. Будет смотреть на человека и думать: «Он всемогущ. Что сделает он со своей силой?»
СТРАННИК
Мы сидели и молчали. Нет — разговаривали, не вслух, но глазами. Игин рассказывал, как трудно ему было эти две недели, все время ждал он чего-то, и хорошо, что конец смены, работы по горло, иначе было бы совсем плохо. Я понимающе улыбался. Я не спрашивал его, что делал он в тот день, приняв от Тюдора смену и оставшись один в пультовой. Я и сам знал это.
Тревога. Тюдор бежит. Кар, взревывая на виражах, мчится к Спице. Игин один — ждет, слушает радио с кара, но все молчат, и Игин не решается спрашивать. Он знает, что они ничего не найдут. И экспертиза ничего не покажет. Так и исчезнет Астахов — бесследно, будто и не было человека. Даже если он действительно ушел к звездам, что оставил он в памяти этих людей — Тюдора, Патанэ, Огренича? Нерешенную загадку? Нечто мистическое — таинственное исчезновение сотрудника Полигона?
Кар возвращается, слышен голос Тюдора, и Игин, не размышляя, бьет по клавише возврата ленты. Шурша, перематывается назад широкая лента, вся в оспинах команд. Где? Не все ли равно? Пусть здесь. Игин включает перфоратор, и на отметке времени 11:32 рождается сигнал: включение гравитаторов зоны номер шесть. Лента течет в обратном направлении, и Игин, неожиданно успокоившись, ждет, когда вернется Тюдор…
А впрочем, я плохой психолог. Все могло быть иначе. Может быть, Игин думал в тот момент о своем спокойствии, а не о спокойствии товарищей? Если появится уверенность, что гибель Астахова — случайность, флуктуация, никто не станет копаться в архиве, а на Земле откроется дорога к всемогуществу, и трагедия на Ресте — а подсознательно Игин убежден, что произошла трагедия, — отойдет на второй план. И вовсе не в том дело, что его, Игина, обвинят. Он обвиняет себя сам — в том, что согласился. И теперь, убеждая всех, что произошла случайность, он как бы снимает с себя часть вины, дает отсрочку.
А может, и не об этом думал Игин. Я никогда не спрошу его…
Я вызвал лабораторию связи. Игин следил за мной настороженно, предупреждал: не время рассказывать. Патанэ оглянулся на нас из-за своего Кедрин-генератора, взглядом спросил: что случилось?
— Евгений, — сказал я. — Передайте на Землю, вне программы: «Методика есть». Только два слова. Хорошо?
Патанэ внимательно смотрел на нас — не понял или не поверил. Будто что-то толкнуло меня:
— Евгений, — сказал я. — Хотите стать всемогущим?
Патанэ опешил. «Шутите?» — говорил его взгляд. Я молчал, Игин пыхтел за моей спиной.
— Спросите о чем-нибудь полегче, — сказал Патанэ. — Например, о третьей вариации постоянной Больцмана с модулированным профилем. Что?
— Ничего, — я вздохнул и отключил селектор.
«Видите, — сказал мне Игин глазами, — люди не готовы к этому. И я не готов. Потому и сигнал ложный поставил. Пусть будет случайность. Пусть все идет постепенно. Пусть люди — сами. Пусть останется методика без этого… последнего».
Вольф зашел, наконец. Пустыня только этого и ждала — тусклое солнышко отнимало у нее единственную меру самостоятельности. Камни засветились зеленоватым светом. Будто фотопластинка, проявилась дорога к космодрому, а за черной чашей ССЛ, обрамленной сигнальными розовыми шнурами, забегали, засуетились огоньки на невидимой Спице, словно светящиеся насекомые вели свою многотрудную ночную работу.
Я поднялся в обсерваторию. Свет здесь был погашен, и все казалось знакомым, как на поисковом корабле: небо, звезды, и ты среди них выбираешь свой маршрут, ищешь свою звезду. Я внимательно оглядел небо, не знаю уж, каких перемен я искал. Просто я знал: мир изменился. И если бы сейчас взметнулось пламя, разверзлась земля и предстало передо мной диво дивное, я бы не удивился.
Игин, должно быть, ворочается сейчас в своей постели, думает об Астахове, о всемогуществе, о себе. Правильно ли он поступил? Я проводил его, прежде чем подняться к звездам. У порога сказал:
— Одна ошибка. Стан. Вы были уверены, что это последняя смена Астахова… Думаю, нет. Иначе вряд ли мне разрешили бы полет. Мог дождаться его на Земле, верно?
Игин поднял брови, пожал плечами, ничего не ответил. «Какая разница, — казалось, говорил он, — все кончилось».
— И еще, — поставил я точку. — Экипаж… Игорь Константинович говорил: лишнее колесо… Неверно. Группа формировалась с учетом, что на Ресте ее ждал домовой, как говорит Евгений — фамильное привидение. С тяжелым характером. Со странными идеями. Отборочная комиссия должна была это учитывать. Не будь здесь Астахова, может, и вас. Стан, не послали бы?
Я так и думал, что Игин вскинется. Он молчал, но весь подобрался, обдумывая эту мысль. «А ведь этот пухленький мягкий человек не вернется в свою тихую лабораторию, — подумал я. — Планета-скиталец вышла на стационарную орбиту».
Я думал об этом, стоя под звездами. Немигающие глаза становились все ближе, будто шар неба сжимался, как лопнувший мяч. Я ждал сигнала. Звезды смотрели спокойно и рассудительно — они тоже ждали.
Где-то своим путем идет странник. Впереди крутые дороги, высочайшие вершины, глубочайшие пропасти. Странник — первый из всемогущих — идет к звездам.
«Зачем людям всемогущество?» — сказал Игин. Патанэ: «Спросите о чем-нибудь полегче…»
А зачем полегче? Мир изменился, и легче вопросов не будет. Во всемогущество нужно поверить, и это трудно. Всемогущими нам предстоит стать — это еще труднее. И самое трудное — распорядиться своим даром. Мы сможем все: остановим галактики, зажжем вселенные, волей своей изменим законы природы.
Одного мы не сможем никогда: чтобы было легче.
И захотим ли?
Валентина Журавлева НЕКИЙ МОРГАН РОБЕРТСОН
1
— Придется тебя выгнать, — грустно сказал шеф. — Вчера ты был с Анной в «Золотой рыбке», не отпирайся. Ты рассказывал о своих подвигах… Год назад тебя видели в «Золотой рыбке» с Джейн, тогда ты тоже расписывал свои подвиги, а потом она взяла расчет и уехала куда-то. Вот что, мой дорогой: я не намерен терять секретарш. В нашем деле хорошая секретарша в сто раз полезнее такого бездарного детектива, как ты.
— У Джейн были агрессивные намерения, — возразил я. — Она решила выйти за меня замуж, а я не готов к такому серьезному шагу. Я для этого слишком молод.
— Малютка, — усмехнулся шеф, — тридцать два года. В твоем возрасте я открыл эту контору.
— Вы великий человек, — поспешно сказал я. — Не каждому это дано, что поделаешь. Я стараюсь.
— Ты стараешься, как же, — вздохнул шеф. — Если бы твой отец видел, как ты стараешься…
В войну Хокинз служил с моим отцом в коммандос, шесть лет они были в одной группе, к маю сорок пятого никого, кроме них, в этой группе не осталось. Отец и Хокинз ни разу не были ранены, только в Нормандии, в ночном прыжке, Хокинз вывихнул ногу. Отец дотащил его до полуразрушенного бункера, надо было выждать, пока придут свои. Под утро на бункер наткнулось ошалевшее от бесконечных бомбежек стадо овец; отец и Хокинз принялись палить в темноту, овцы прямиком понеслись на минное поле. Переполох был страшный, и немцы, державшие оборону в полутора милях позади, поспешно отступили, решив, что их обошли… В этой истории меня всегда занимал один вопрос: как отец тащил Хокинза, который был вдвое тяжелее его?..
Моему шефу Вальтеру Хокинзу, владельцу частной детективной конторы, шестьдесят пять, но выглядит он весьма внушительно. Рост шесть футов три дюйма, вес двести фунтов или чуть меньше, благородный профиль римского императора, свежий загар (ультрафиолетовые ванны в косметическом кабинете), аккуратно подстриженные седые волосы. С таким человеком клиент чувствует себя, как за каменной стеной.
— Если бы твой отец видел, как ты стараешься, — сказал Хокинз. — Он надеялся, что ты станешь ученым. А ты едва-едва закончил университет, последним в своем выпуске, подумать только — самым последним!
— У меня не было времени на зубрежку, — терпеливо объяснил я. — Два года я играл в университетской команде, вы же знаете. На мне все держалось. Потом я занялся автогонками и получил «Хрустальное колесо». Потом… ну, мало ли что было потом! Мне всегда не хватало времени: авиационный клуб, гребля, студия Шольца… Готов признать, что не следовало отвлекаться на живопись, это не мое призвание. Но остальное получалось неплохо.
— Ты не отличишь серной кислоты от соляной, — грустно сказал шеф. — Такой ты химик. Да и вообще, что ты делал после университета? Оставим знаменитые подвиги в морях и океанах. Что ты делал, вот о чем я спрашиваю. Служил репортером в какой-то сингапурской газетке, подходящее место для дипломированного химика! Был шофером в этой злополучной экспедиции Шликкерта. Занимался контрабандой в Африке…
Я возил оружие партизанам, шеф это прекрасно знал. Какая ж это контрабанда!.. Возил без всякой платы, сделал шесть рейсов, а потом «фантомы» сожгли мою стрекозу на лесном аэродроме.
— Ладно, — нехотя произнес Хокинз. — Я дам тебе дело. Обыкновенное дело, требующее добросовестной работы, не больше. И если ты не справишься с этим делом, можешь идти на все четыре стороны, у меня не благотворительная контора. Ты работаешь у меня больше года, а что ты сделал? Ну, поймал этого чокнутого Гейера. Могучий подвиг, как же… Вот, получай, — он передал мне пухлую папку. — Надо провернуть дня за три. Бен и Поль заняты, у меня нет выбора, бери это дело.
— А что там? — спросил я, не чувствуя ни малейшего энтузиазма.
Шеф был прав: детектив из меня получился никудышный. Меня охватывала тоска при одной только мысли, что надо копаться в чужих делах. Я и в своих не мог толком разобраться.
— У нас контракт со страховой компанией Дикшайта. Иногда им надо что-то выяснить о клиентах. У Дикшайта есть и свои агенты, но для перепроверки они обращаются к нам. Так вот, какой-то тип из Вудгрейва застраховался от несчастного случая, а через год отдал концы. Ребята Дикшайта копались в этой истории и не нашли ни малейшей зацепки. Компания выплатила страховку. А потом появились слухи, что это самоубийство. Страховка на сорок тысяч, в компании всполошились. Они считают, что нужен свежий взгляд на дело. Познакомься с материалами и езжай в Вудгрейв. В папке удостоверение — если надо, действуй от имени компании. Нужен толковый и убедительный отчет. Ясно?
— Всю жизнь мечтал о таком деле, — сказал я.
Хокинз вздохнул.
— Ладно, двигай.
— Послушайте, шеф, — спросил я, вставая. — Вы что, установили микрофоны в «Золотой рыбке»?
— Проваливай, — вяло произнес Хокинз.
2
Когда я вышел от Хокинза, Анна, естественно, начала расспрашивать, и мне пришлось пересказать наш разговор. Каждая женщина — прирожденный детектив. Я пытался подправить некоторые детали, но Анна быстро разобралась в ситуации.
— Если ты завалишь это дело, шеф тебя выгонит, — констатировала она. — Ты бы постарался, а?
Я заверил ее, что все будет прекрасно.
— У меня свой метод, — объяснил я. — И на этот раз я его использую.
Она с сомнением покачала головой.
— Метод? Какой же?
— Пытки, — кротко ответил я.
В маленькой комнатушке, считавшейся моим кабинетом, было холодно и темно. Контора Хокинза занимала второй этаж старого дома, построенного в начале века. Этот солидный и, я бы сказал, консервативно мыслящий дом всячески сопротивлялся модернистским нововведениям Хокинза. Шеф считал, что контраст между старомодной респектабельностью фасада и ультрамодерным интерьером должен производить благоприятное впечатление на клиентов. Возможно, так оно и было. Но зимой мы мерзли, потому что скрытый под пластиковой облицовкой стен электрообогрев ничуть не грел, а летом изнывали от жары, потому что барахлили кондиционеры. Лампы дневного света назойливо жужжали, кнопочное управление шторами вечно отказывало, а раздвигающиеся в стороны двери время от времени намертво заедало.
Разумеется, у нас был свой информационно-вычислительный центр: разве могла такая солидная фирма обойтись без компьютера! Стеклянная перегородка делила некогда просторный холл на две части. Посетители, ожидавшие в одной части холла, видели сквозь матовое стекло, как моргают лампы на панели компьютера, слышали, как что-то щелкает и жужжит. Шеф считал, что это придает фирме респектабельность. Компьютер хранил массу ненужных сведений — расписание движения всех поездов в стране и так далее. Иногда по просьбе шефа я подсчитывал налоги, которые должна была платить наша контора.
Ультрамодерный интерьер, конечно, включал и соответствующую живопись. В моей комнате висело подписанное неким Клодом Леманном «Осмысленное пространство N_17». Подпись Леманна была единственным действительно осмысленным элементом картины: очень четкая, прямо-таки каллиграфическая подпись. Остальное пространство было небрежно заполнено хаотическим сплетением красных и желтых линий. Впрочем, мне еще повезло, поскольку в соседней комнате, где работал Поль, висело нечто грязно-серое, накрест перечеркнутое двумя фиолетовыми полосами и именуемое «Воспоминанием в полдень».
Шел дождь, один из тех бесконечных дождей, когда кажется, что мельчайшие капли воды возникают из ничего, прямо в воздухе. Я стоял у окна и смотрел на плотный поток автомобилей. Машины двигались медленно, с зажженными фарами. Я подумал, что в Вудгрейве сейчас наверняка безоблачное небо. По шоссе от Теронсвилла до Вудгрейва чуть больше ста миль, но в Вудгрейве, как утверждает реклама, двести солнечных дней в году. Что ж, поездка в Вудгрейв — это совсем неплохо…
Два года назад, в такой же бесконечный дождь я торчал на спасательном плоту в море Фиджи, милях в ста от островов Тонго. Движок был в полном порядке, но я не мог идти к островам в такую погоду: там полным-полно рифов, они моментально разделались бы с надувным плотом. Я понимал, что раз испытания затеяны именно в это время, дождь и туман обеспечены надолго. Приходилось ждать, и я терпеливо ждал. С едой было сносно, хотя я на всякий случай вдвое урезал дневной рацион. Меня донимала сырость. Приличная молекула воды обязана иметь какие-то размеры, но тот дождь состоял не из молекул, а из чего-то значительно более мелкого, просачивающегося во все щели и проходящего сквозь любую упаковку. Четырехместная палатка, выглядевшая вполне сносно, когда инженеры показывали мне плот на палубе «Олдборо», сразу промокла насквозь, и каждые три часа я вычерпывал воду. Приемник скис в первый же день; сигареты, хранившиеся в двойной пластиковой упаковке, размокли; я открывал консервы, и, хотите верьте, хотите нет, там тоже была вода…
До сих пор помню странный шум этого дождя. Ветра не было, и в абсолютной тишине мельчайшие капли оседали на крышу палатки, на плот, на темно-серую поверхность моря, создавая монотонный шипящий звук, что-то вроде бесконечного «ш… ш… ш…». Звук был приглушенный и настолько ровный, что он не нарушал тишины. Он существовал сам по себе, отдельно от тишины. Первые дни было муторно от этого бесконечного «ш… ш… ш…». Потом плот начал оседать: вода просачивалась внутрь баллонов, она плескалась внутри плота, и я слышал только этот зловещий плеск. Дождь прекратился на восьмой день. Я с трудом запустил движок, и мир наполнился его веселым тарахтеньем — ах, как это было здорово!
Дядюшка Хокинз напрасно упрекает меня в том, что я ничего не делал. Когда ничего не делаешь на спасательном плоту, это тоже работа. Я испытывал спасательные плоты, шлюпки, катера — словом, все то, что официально называется аварийно-спасательными плавательными средствами. Началось это, когда я учился в университете: случайно прочитал объявление, решил подзаработать на каникулах… Профессионалов-испытателей не существовало, компании каждый раз подбирали новых людей; редко кто соглашался вторично подписать контракт. Для испытаний выбирали отвратительную погоду, специально создавали аварийные ситуации, а экипажи комплектовали по принципу наименьшего соответствия.
Я плавал на сорокаместных катерах, по комфорту не уступавших реактивным лайнерам. Впрочем, к чему этот комфорт, если пятиметровые волны бросают катер как щепку… Плавал на индивидуальных плотиках, заливаемых водой при малейшем ветре. Плавал на классических шлюпках, конструкция которых не менялась уже триста лет, и на наиновейших сооружениях из стеклопласта и бериллия. Бывали спокойные испытания: сидишь на плоту в ста ярдах от обеспечивающего судна и день за днем жуешь какую-то патентованную дрянь, а врачи с интересом наблюдают, что из этого получится… Бывали испытания бурные: по морю разливают нефть, поджигают, образуется нечто невообразимое из пара, дыма и огня, и ты должен пройти сквозь это на катере, обмазанном сомнительным защитным составом… Чаще всего программа испытаний предусматривала все удовольствия: спуск на воду с горящего корабля, три-четыре дня шторма, а потом пару недель тихого дрейфа с почти пустым питьевым бачком…
Каждый раз наступал момент, когда я торжественно клялся: ну все, хватит с меня, если удастся выкарабкаться, больше меня сюда не заманишь! А потом все забывалось. В памяти оставались огромное звездное небо, торжественная тишина и волнующее чувство близости к океану.
Полтора года назад мне крепко досталось в Саргассовом море. В тот раз испытывались фильтры-опреснители, и сволочная фирма, изготовившая эту пакость, настояла ради рекламы, чтобы на плоту не было резервного бачка с водой. Разумеется, фильтры вышли из строя. Аварийная рация не сработала, и, пока меня искали, налетел циклон, началась крепкая заварушка. Обеспечивающее судно затонуло, надо же случиться такому! Обо мне вообще забыли… Я вылез из этой истории на пятьдесят второй день и потом долго отлеживался в госпитале. Времени было достаточно, я вдоволь наговорился с репортерами. Их интересовали приключения, но нашелся парень, который согласился раскрыть аферу с фильтрами. Фирма пыталась приписать мое спасение именно этим дерьмовым фильтрам, мы выступили с опровержением. У фирмы погорели контракты, и мне досталось покрепче, чем в Саргассовом море. За мной устроили настоящую охоту, как в гангстерских фильмах. Из Штатов я удрал чудом. Вернулся в Лондон, пошел к дядюшке Хокинзу. Что оставалось делать?..
3
Я сел за стол, придвинул к себе папку и включил настольную лампу (старую лампу с бронзовой подставкой и зеленым абажуром; мне удалось отстоять ее, доказав, что настольная лампа является рабочим инструментом, а не частью интерьера). Папка была набита бумагами, агенты Дикшайта поработали основательно. Эти ищейки, конечно, все уже разнюхали. Я-то что могу сделать после них? В одиночку и за три дня…
Вообще меня нисколько не воодушевляла перспектива отстаивать интересы страховой компании Дикшайта. Ну, допустим, человек застраховался от несчастного случая, а потом покончил жизнь самоубийством. Черт побери, разве жизнь — в обоих случаях — не стоит тех денег, что выплатила компания? Вдова остается вдовой независимо от того, как именно погиб ее муж. Почему я должен стараться, чтобы деньги, полученные вдовой, были возвращены в кассу компании? Кому от этого будет лучше?
Итак, Клиффорд Весси. Точнее: Клиффорд Робертсон. Весси — это литературный псевдоним. Что ж, звучит неплохо: Весси, Кристи… Что еще? Автор детективных рассказов, повестей и сценариев, пятьдесят два года, женат, двое детей.
Когда-то я охотно читал крими, и этим отчасти объясняется, почему я оказался в конторе Хокинза, хотя мог поехать на Аляску (мне предлагали место второго пилота в танкерной авиакомпании). Клиффорд Весси и его коллеги в какой-то мере виноваты в том, что я застрял в дождливом Теронсвилле. «А раз так, — подумал я, — у меня нет причин сочувствовать этому писаке. Ну держись, Клиффорд Весси…»
Я перелистал несколько страниц и укрепился в этой мысли. Преуспевающий литератор, взрослые дети, вполне обеспеченная семья, состоятельные родственники, собственный дом в модном курортном городке… Нет, здесь не было ничего похожего на первоначально рисовавшуюся мне ситуацию: ни бедной вдовы, ни сирот.
Впрочем, очень быстро я перестал об этом думать. Я впервые держал в руках досье страховой компании, и меня поразило, как много эти люди знают о своих клиентах. Клиффорд Весси и не думал еще обращаться в компанию Дикшайта, а на него уже была заведена учетная карточка. Он попал в число возможных клиентов, а к таким людям компания планомерно подбирала ключи. Идеальное здоровье, за пять лет ни одного нарушения правил уличного движения, спокойный образ жизни… Компания искала людей, которых выгодно страховать, и это был как раз такой случай. Возможным клиентам регулярно посылали рекламные проспекты, их потихоньку обрабатывали неофициальные агенты компании. Ловко это было организовано! Человек беседует со своим приятелем, разговор случайно касается страховки, две-три фразы — и зерно брошено… В один прекрасный день Весси сам пришел к Дикшайту. Вот тут за него взялись всерьез. За неделю о нем собрали кучу сведений: как он водит машину (наблюдения агента), в каком состоянии машина и как соблюдаются сроки профилактики (сведения из мастерской, которой пользовался Весси), как он переходит улицу (наблюдения агента-психолога), данные психоанализа (заключение психоаналитика), сведения о поездках за последние десять лет (по данным картотеки), прогноз по алкоголизму (заключение врача), участие в уличных шествиях и демонстрациях (данные картотеки) и далее в том же духе. Плотный рентген, ничего не скажешь. Компания хотела играть наверняка: под рентген попал не только Клиффорд Весси, но и его жена, дети, родственники, даже литературный агент Весси и некоторые соседи. Собранные сведения поступили программистам, и ЭВМ установила, что у Весси все шансы (вероятность 0,97) дожить до глубокой старости и спокойно умереть в своей постели, успев к этому времени выплатить компании более семи тысяч… Прекрасная перспектива.
Однако не прошло и года, как Клиффорд Весси погиб в результате несчастного случая. Отказали тормоза машины (во всяком случае такова была версия полиции), и новенький «кадиллак», шедший по шоссе в пяти милях от Вудгрейва, упал с обрыва на прибрежные скалы. В папке были снимки разбитой машины и места происшествия. Дорога там круто поворачивает, с одной стороны почти отвесная бетонная стена, подпирающая холм, с другой — частокол из бетонных столбиков. «Кадиллак» начисто снес два столбика и свалился с высоты десятиэтажного дома. Катастрофа произошла в три часа дня, дождя не было, июльское солнце светило вовсю. Последними видели Клиффорда Весси владелец книжного магазина в Лондоне и рабочий с бензоколонки в тридцати милях от Вудгрейва. По их словам, Весси был в хорошем настроении, шутил. Экспертиза установила: в тот день Весси не выпил ни капли спиртного.
«Кадиллак» еще лежал на скалах, а ищейки Дикшайта уже рыскали по Вудгрейву. И ничего не обнаружили, ни малейшей зацепки, ничего такого, что давало бы повод заподозрить самоубийство.
Был в папке и снимок Весси, сделанный за год до катастрофы. Полное бритое лицо, маленькие глазки, аккуратно причесанные редкие волосы… Бесцветная физиономия лавочника.
И вот этот дядя, ухоженный, самодовольный, вполне обеспеченный, трезвый как стеклышко, солнечным утром садится в «кадиллак» и отправляется в Лондон. А на обратном пути авария — и «кадиллак» лежит на скалах.
…Только теперь, закрыв папку, я понял, какое безнадежное депо подсунул мне шеф. Не было ни малейшей зацепки.
4
У каждого великого детектива должен быть свой метод. Так принято считать. На самом деле в наше время есть только один метод, и состоит он в том, чтобы терпеливо собирать сведения, относящиеся к расследуемым событиям. Посмотрите, например, как работает комиссар Мегрэ.
«Жанвье, поройтесь в картотеке… Мадам, что вы видели из окна?.. Скажите, хозяин, часто сюда заходил этот парень?.. Лапуэнт, расспросите таксистов…»
Рано или поздно выплывает нужный факт, и это значит, что след найден.
Хороший метод, но не для меня. Мне нужно нечто другое: чтобы я сидел у себя, нисколько не думая о расследовании, или болтал с Анной, а дело прояснилось само собой. Или как тогда с этим свихнувшимся кассиром Гейером: банк не хотел поднимать шум, надо было перехватить Гейера до отлета из Девера, я рванул на своем «ариэле». Славная была гонка: я гнался за «фордом» Гейера, а за мной на «гепардах» гналась дорожная полиция… Ну а что делать сейчас? За кем гнаться?
Поразмышляв, я позвонил Анне и предложил пообедать вместе.
— Шеф уже справлялся, где ты, — сказала она. — Не советую околачиваться здесь до обеда.
Я посмотрел в окно; в такой занудный дождь мог работать только неутомимый комиссар Мегрэ.
— У меня по горло работы, — с негодованием возразил я. — Поройся в нашей библиотеке и принеси мне сочинения Клиффорда Весси. Все, что найдешь. А если будет спрашивать шеф, скажи, что я изучаю писанину Весси.
Это была гениальная идея, и я бросил трубку, чувствуя, что попал в точку. Раз Клиффорд Весси писал детективные сочинения, никто не может меня упрекнуть в том, что я начал с них.
У нас были два шкафа, битком набитых крими. Дядюшка Хокинз полагал, что мы должны следить за такой литературой. Иногда я брал журнал или книгу — почитать перед сном. Что ж, шеф будет доволен, что крими пригодились.
Через полчаса (пока я со спокойной совестью читал газеты) Анна принесла полдюжины книг и охапку журналов.
— Как насчет обеда? — спросил я.
Она покачала головой.
— Ничего не выйдет. Масса работы, шеф свирепствует.
Я взял наугад одну книгу. На глянцевой обложке мрачный верзила, сжимая в лапах два пистолета, преследовал симпатичную блондинку. Черт его знает, зачем для этого нужны два пистолета… Полистав книгу, я припомнил, что когда-то читал ее, во всяком случае начинал читать. Сюжет был самый стандартный (полицейский ведет расследование, хотя его начальник, подкупленный бандой, всячески ему мешает), герои тоже стандартные (до идиотизма честный сыщик Дон Роберт Брайстоу, легкомысленная певичка Китти, которая под благотворным влиянием Брайстоу возвращается на праведный путь, и гангстеры, множество гангстеров, поминутно хватающихся за пистолеты).
«Пронзительным взглядом Брайстоу прошил гангстера, тот побледнел, пистолет в его руке дрогнул, и этого было достаточно, чтобы Брайстоу великолепным прыжком перемахнул через ограду». Такие красоты были на каждой странице. «Сжимая рукоятку пистолета, Брайстоу неслышными шагами…»
Я взглянул на часы и отложил книгу. Слишком уж пространно писал Весси. Похоже, что у него была норма — двести страниц на каждую повесть о Доне Роберте Брайстоу.
На обратной стороне обложки был портрет автора. Ничего похожего на лавочника, вот что значит искусство фотографа! Клиффорд Весси смотрел исподлобья, прищурившись, и это придавало ему проницательность и таинственную значительность.
В журнальных рассказах действовал все тот же Брайстоу. Я прочитал один рассказ, второй, третий… Добросовестная посредственность. Работа ремесленника, обладающего необходимыми навыками и достаточно трудолюбивого, но начисто лишенного воображения. Едва взглянув на начало четвертого рассказа, я уже знал, что произойдет дальше и чем это кончится.
Почему люди читают такую чепуху? Впрочем, я сам увлекался крими, пока не поплавал на плотах.
Надо написать мемуары — вот какая мысль появилась у меня, когда я просматривал четвертый рассказ о неутомимом Брайстоу. Простая и гениальная идея: записки испытателя аварийно-спасательных плавательных средств — такого еще не было, это будет бестселлером. Первая гениальная мысль, которая появилась у меня в дождливую погоду; обычно гениальные идеи приходят ко мне в солнечные дни. Дядюшке Хокинзу не нравится, как я работаю? Прекрасно! Я уйду и напишу книгу.
Тут я подумал о Весси: ему не о чем было писать, он высасывал все из пальца — и все-таки прекрасно зарабатывал. У Весси был литературный агент, которому он сдавал свою продукцию. Вот кто мне нужен. Я еду к литературному агенту — раз, расспрашиваю его о Весси — два, попутно закидываю удочку насчет своей книги — три.
Книгу я представлял вполне отчетливо. Двести страниц. Суперобложка. Горящий корабль. Крупно:
Ричард Уайкофф «Уходить от смерти — мое ремесло».
5
Офис литературного агента Ольбрахта Збраниборски находился в Теронсвилле, в десяти минутах ходьбы от нашей конторы. Но я поехал на машине: пусть этот Збраниборски увидит, какая у меня машина. Я выложил за нее все монеты, заработанные в Саргассах. Спортивные «ариэли» выпускались только по заказам, фирма обчистила меня до дна, но я не жалею, машина того стоит.
Ехать пришлось минут двадцать, вкруговую. У меня было время поразмыслить, я решил вывернуть план наизнанку. Если я появлюсь у Збраниборски как детектив, потом трудно будет говорить о моей книге. Надо действовать иначе: начать о книге, а потом, если представится случай, перевести разговор на Весси.
У старого четырехэтажного дома стояли две машины: потрепанный «форд» и древний «олдсмобиль». На фоне этих стариков мой «ариэль» выглядел, как стюардесса «Эйр Франс», случайно заглянувшая в пансион для престарелых.
Ольбрахт Збраниборски оказался маленьким, толстеньким, говорливым и очень подвижным человеком лет сорока пяти. Разговаривая со мной, он бегал по своему кабинету — наглядная модель броунова движения, — бегал вроде бы совершенно беспорядочно, подходил к книжным полкам, брал книги, переставлял, снова начинал двигаться, ловко обходя лежавшие на полу связки книг. Но когда его вынесло к окну, он задержался на несколько секунд, молча рассматривая «ариэль», и после этого стал бегать с еще большим энтузиазмом.
Не претендуя на лавры Мегрэ, я давно перестал строить силлогизмы и полагался в основном на непосредственное впечатление. Збраниборски и его берлога мне сразу понравились. В комнате не было ничего показного, здесь все предназначалось для работы: книжные шкафы, книжные полки, стеллажи для журналов и рукописей, картотеки, огромный стол, заваленный почтой — книгами, журналами, какими-то пакетами.
Я сидел в массивном кожаном кресле, на столике передо мной была бутылка шотландского виски, а Збраниборски бегал из угла в угол, жестикулируя и восторгаясь моей идеей. Впрочем, я был начеку и твердо помнил, что моя норма — три глотка, иначе я не поведу машину, особенно в такую скверную погоду.
— Писать вы, конечно, не умеете, — говорил Збраниборски, всплескивая руками, — нет, нет не возражайте! Вы и не должны уметь писать. Писателей, умеющих писать, слишком много. Но кто из них испытал в жизни хотя бы одну десятую того, что испытали вы?.. Сто лет назад писатель знал то, чего не знали его читатели. Он был Учителем, вы меня понимаете? Нынешние писатели ничуть не выше своих читателей, поверьте мне, я хорошо знаю тех и других. Скажите, какие романы могут соперничать с книгами Тура Хейердала? Хейердал, Бомбар, Тенцинг, Гарун Тазиев — вот настоящие книги. Боже мой, я мог бы привести вам статистику, сколько угодно статистики. Книги Хейердала переведены на 89 языков, вы понимаете, что это значит? Сочинения всем надоели, люди сами знают все то, что знает сочинитель, они хотят прикоснуться к чему-то новому и настоящему. Мы сделаем потрясающую книгу, если вы ничего не будете сочинять и сумеете писать так, как вы сейчас рассказывали мне. И никаких горящих кораблей на обложке, это дешевка.
Он остановился и внимательно посмотрел на меня.
— Не знаю, надо ли вообще писать. Вы могли бы рассказывать мне; если есть хороший слушатель, дело идет легче, Будем записывать на диктофон. Хотите, начнем прямо сейчас?
К этому времени, несмотря на удобное кресло и виски, я отчетливо чувствовал некоторый дискомфорт. Это была совесть, черт бы ее побрал, совесть умеет создавать дискомфорт, у меня уже были подобные случаи. Збраниборски слишком серьезно отнесся к моей идее, в этом все дело. Литературный агент, в сущности, только маклер, торговый посредник. Но Збраниборски просто загорелся этой идеей, и у меня не хватало духу темнить.
— Вы уверены, что книга получится? — пробормотал я, стараясь выиграть время. Иногда мне удавалось уломать совесть.
Збраниборски посмотрел на меня светлыми детскими глазами.
— Я всю жизнь ждал такого случая, — тихо сказал он. — Вы не поверите, сколько дерьма прошло через мои руки. Сначала я вел любые дела, чтобы основать контору. Потом, чтобы ее поддерживать. Нужно было как-то жить, — он пожал плечами, — банальный довод…
— У меня тоже контора, — сказал я. — Частная детективная контора Хокинза.
6
— Детективная контора? — растерянно переспросил Збраниборски. — При чем тут детективная контора?
Я попытался вкратце обрисовать ситуацию, Збраниборски нетерпеливо бегал по комнате, негодующе пофыркивал и всплескивал руками.
— Бросьте все это! — воскликнул он, так и не дослушав меня. — Надо сделать книгу, вы получите кучу денег, ручаюсь.
Он снова начал говорить о книге, но тут уж я его перебил. В конце концов я не мог так просто бросить контору Хокинза. Хокинз взял меня, когда я был на мели. Хокинз полтора года держал меня, хотя я не приносил никакой пользы, и было бы просто свинством уйти, не выполнив порученного дела.
— Какое дело? — возмутился Збраниборски. — Нет никакого дела, я-то знал Клиффорда. Тут все чисто, можете не сомневаться. Несчастный случай — и ничего больше. Я вел его дела четверть века, понимаете? Боже мой! Клиффорд Весси… Ни малейшего проблеска таланта. Это был аккуратный литературный клерк. Размеренная жизнь, трудолюбие… Он писал авторучкой, он не диктовал свои сочинения. Чтобы диктовать, надо больше воображения. Он писал авторучкой, знаете, таким ровным канцелярским почерком. Потом отдавал секретарше, слегка правил перепечатанный текст, два-три слова на странице, не больше, и привозил это мне.
— Представляю.
«Сжимая рукоятку пистолета. Дон Роберт Брайстоу неслышными шагами крался по темному коридору»…
И все-таки мог же ремесленник испытывать чувство зависти к мастерам. Сначала зависть, потом появляется комплекс неполноценности…
Збраниборски расхохотался. Смеялся он по-детски, нисколько не скрывая, что смеется надо мной.
— Извините, но вы ничего не понимаете в людях, — сказал он. — Ремесленника абсолютно не беспокоит мастерство настоящих писателей. Он живет в другом измерении. Как бы вам объяснить… Ну вот, стали бы вы завидовать Геркулесу, его силе, его подвигам? Нет, потому что Геркулес — это миф. Так вот, для Клиффорда настоящий писатель — это тоже миф, что-то несуществующее. Я уж не говорю о Толстом или Фолкнере, для мистера Весси мифом были даже Агата Кристи и Джон Ле Карре.
— И что же, у него не было никаких стремлений, никаких огорчений?
— Книги Клиффорда Весси вышли общим тиражом в двенадцать миллионов. Да, да, это много меньше, чем у Поля Кени или Клода Ранка, но все-таки — двенадцать миллионов! Что касается огорчений… Однажды он проиграл на скачках триста фунтов и ныл потом полгода. Далее. Он быстро лысел, это его огорчало, он хватался за разные средства… Что еще? Лет восемь назад его не приняли в один аристократический клуб, иногда он вспоминал об этом… Вот и все. Литературных неудач не было. Клиффорд с его неотразимым Доном Робертом Брайстоу — как раз то, что нужно неискушенному читателю. Месяца за три до смерти он принес небольшой фантастический рассказ, это была нелепая затея — перейти к фантастике, я отказался взять рассказ. Единственный случай, когда мы поспорили. Обычно я брал его стряпню безоговорочно.
— Серьезная ссора? — спросил я. Вопрос был идиотский, но надо было что-то спросить.
Збраниборски протестующе взмахнул руками.
— Что вы! Разве это ссора… Автору детективных романов нельзя браться за фантастику. Читатели любят верить в подлинность всех этих полицейских историй. Читателю кажется, что автор участвовал в расследовании или во всяком случае копался в материалах. Рекламируя книгу, мы стремимся поддерживать эту иллюзию. И вдруг фантазия, игра воображения… Тогда и похождения Брайстоу покажутся выдумкой. И потом — какой из Клиффорда фантаст? Я открыл рукопись, увидел набивших оскомину космических пришельцев, мне стало тошно. Я посоветовал Клиффорду подписать рассказ псевдонимом и отдать в журнал научной фантастики. В конце концов почему не позволить себе такую блажь, если она не мешает делу?.. Он побывал в двух или трех редакциях, несколько раз переделывал рассказ… Не знаю, может быть, ему хотелось что-то доказать мне или себе… Рассказ не брали. Понимаете, это другой жанр. Весси пришлось бы осваивать ремесло почти с самого начала. Нужны годы, чтобы выйти на приемлемый уровень.
Збраниборски достал из нижнего ящика письменного стола зеленую папку и протянул ее мне.
— Пожалуйста, — сказал он, — можете убедиться. Сейчас у меня все бумаги Клиффорда. Кое-что я пристрою, хотя семья не нуждается в деньгах. Но этот рассказ никому не нужен.
Папка была увесистая, я сказал об этом Збраниборски.
— Там все варианты рассказа, — ответил он. — Все варианты и черновые наброски. У Клиффорда не пропадал ни один листок.
Я подумал, что есть хотя бы одна новая деталь, о которой можно будет упомянуть в отчете. Пусть дядюшка Хокинз видит, как я старался.
— Объясните вашему шефу, что здесь все чисто, — сказал Збраниборски. — Незачем терять время. Берите расчет, будем работать над книгой.
Я глотнул виски; к сожалению, это был уже третий глоток. Хокинзу не нужны мои объяснения, ему нужны новые факты, новые сведения, придется ехать в Вудгрейв. Я стал втолковывать это Збраниборски и едва не упустил важную мысль.
— Насчет книги, — сказал я. — Тут есть один скользкий момент, вы должны быть в курсе. Появится книга, а потом за нас возьмутся. Будьте уверены, за нас крепко возьмутся.
Збраниборски удивленно уставился на меня.
— То есть как? В каком смысле?
Можно прочитать тысячи детективных романов и нисколько не разбираться в жизни. Испытания, в которых я участвовал, кому-то приносили прибыль, кому-то убыток. Фирмы, производящие спасательное оборудование, отчаянно конкурируют. В двух случаях из трех те, кто тебя нанимает, готовы на все, лишь бы отчет об испытаниях выглядел оптимистично. Промышленный шпионаж, дезинформация, подкупы, преступления — что угодно, лишь бы обойти конкурента. Восемь лет назад у Канарских островов я отчаянно вычерпывал воду из полузатопленной шлюпки, и когда увидел вертолет, просто взвыл от радости. Но вертолет медленно прошел надо мной, его колеса были метрах в трех от меня. Воздушный поток раскачивал лодку, вода лилась через проломленный борт, я ничего не мог сделать. Вертолет трижды прошел надо мной, меня хладнокровно топили… В тот раз я спасся чудом: вертолет ушел, его спугнула рыбачья шхуна. Год спустя у Цейлона мой спасательный плот обстреляли с самолета…
— Великолепно! — воскликнул Збраниборски. — Вы обязаны все это рассказать. Надо сделать мужественную и честную книгу.
«Нет уж, — подумал я. — Один раз я вышел живым из этой игры, с меня хватит».
7
Милях в двадцати от Теронсвилла туман стал плотнее, белая стена начиналась прямо за ветровым стеклом автомобиля и, поскольку окончание разговора со Збраниборски ознаменовалось двумя лишними глотками, я свернул к мотелю, благоразумно решив немного переждать.
В пустом баре я выбрал столик поближе к окну (скорее это была стеклянная стена; при современной архитектуре не поймешь — где окно, а где стеклянная стена). Я заказал двойной кофе и открыл зеленую папку с рассказом Клиффорда Весси. Впрочем, на первой странице был другой псевдоним — Джон Кинг. Это звучало совсем неплохо: Джон Кинг «Голубая лента». Но прочитав две страницы, я понял, что Збраниборски прав. Летающая тарелка опустилась на лужайку перед домом Моргана Робертсона… Еще один — какой по счету? — рассказ о летающих тарелках. Я захлопнул папку и стал думать о своих делах.
Действительно, мне есть о чем написать, я знаю, насколько плохи спасательные средства даже на лучших лайнерах, и хорошо понимаю, чем это вызвано. Могу назвать фирмы, привести десятки примеров, могу показать этот жестокий механизм, сознательно жертвующий тысячами человеческих жизней во имя прибыли. А потом? Такую книгу мне не простят, это уж точно.
Если ваша фирма продает пылесосы, телевизоры или подъемные краны, нужно, чтобы ваш товар работал. Чуть лучше или чуть хуже, но такой товар должен работать, иначе вам его завтра же вернут. А спасательные средства не работают, они просто находятся на корабле. В девятнадцати случаях из двадцати их вообще не используют и через положенный срок заменяют новыми. Тут огромный соблазн продать что-то дешевое, но кажущееся дорогим и надежным. И не меньший соблазн купить эту бутафорию, потому что ее охотно отдадут на самых льготных условиях. Прибыль в таких сделках много больше, чем даже в нефтяном бизнесе. И страсти накаляются соответственно ставкам…
Я машинально открыл зеленую папку, вновь прочитал первую страницу и остановился, почувствовав какую-то странность. Пожалуй, не следовало делать двух лишних глотков. Соображал я хуже, чем обычно. Но соображать было не о чем. Тривиальное начало плохого фантастического рассказа. Действие происходит в конце прошлого века. Летающая тарелка опускается перед домом некоего Робертсона, молодого репортера, пытающегося по вечерам сочинять фантастические романы. Фантазия у Джона Кинга была небогатая, и я не удивился, прочитав, что экипаж летающей тарелки состоял из маленьких зеленых человечков. Разумеется, они нуждаются в помощи, эти зеленые человечки, что-то у них сломалось. Существует приказ не вступать в контакты с людьми, но положение безвыходное, зеленые человечки вынуждены открыться Робертсону: они рассчитывают, что писатель-фантаст лучше поймет их, чем кто-либо другой. Разумеется, мистер Робертсон оправдывает эти надежды. Летающую тарелку прячут в сарай. Зеленые человечки принимаются разбирать ее, а Робертсон отправляется в Лондон за материалами, необходимыми для ремонта…
Все это было изложено бесцветным и занудным протокольным стилем, но без присущей протоколу достоверности. Я продолжал читать только потому, что за стеклянной стеной туман стал темно-серым, даже черно-серым. Иногда в глубине тумана появлялись багровые пятна автомобильных фар, и тогда возникало нечто вроде «Воспоминания в полдень» — мазни, висевшей в кабинете Поля.
Читал я не очень внимательно, меня все время преследовало ощущение какой-то странности. Не было ни малейшего сомнения, что рассказ — бездарное подражание, примитив. И все-таки… В конце концов я вернулся к первой странице и стал вчитываться в каждое слово. Итак, летающая тарелка опустилась на лужайку перед домом мистера Робертсона… Джон Кинг (он же Клиффорд Весси) дал герою свою фамилию, вот в чем была странность! Рассказ велся от третьего лица, но героем был Робертсон. Дед или прадед Клиффорда Робертсона, живший в конце прошлого века, некий мистер Морган Робертсон.
Заметьте, не просто Робертсон, а Морган Робертсон. Робертсонов тысячи, возможно, даже десятки тысяч. Но Морган Робертсон, живший в конце прошлого века, это совсем особый случай…
8
Ибо Морган Робертсон, журналист, пытавшийся писать фантастические романы, существовал на самом деле.
Сколько людей помнят сейчас об этом. Двадцать? Сто?.. Не знаю. Во всяком случае я один из них.
Было время, когда о Моргане Робертсоне знал каждый мальчишка. Робертсон нашел издателя, и в 1898 году на прилавках книжных магазинов появился роман «Тщетность». Роман о морской катастрофе. В Англии построен огромный корабль — «Титан». Самый большой, самый роскошный, самый быстроходный… Билеты на первый рейс через Атлантику доступны только очень богатым людям. На борту «Титана» собирается высшее общество, корабль должен поставить рекорд скорости и завоевать «Голубую ленту», приз самому быстроходному лайнеру. В Северной Атлантике поздняя и холодная весна, но, стремясь в кратчайший срок преодолеть расстояние до берегов Америки, «Титан» идет полным ходом — и темной апрельской ночью сталкивается с айсбергом. Насосы не успевают откачивать воду, спасательных шлюпок не хватает, большая часть пассажиров и команды обречена на гибель… Морган Робертсон не был великим писателем. Он не был даже просто профессионалом. Но в книге — я читал ее дважды — немало сильных страниц. Катастрофа меняет людей. Точнее: заставляет показать свое подлинное лицо. Один из героев романа, молодой финансист, отнимает у своей возлюбленной спасательный пояс. Ее спасает старый врач, уступающий ей место в шлюпке…
На книгу Робертсона не обратили никакого внимания. Но через четырнадцать лет, в 1912 году, погиб «Титаник». Погиб при обстоятельствах, поразительно совпадающих с теми, что описаны в романе «Тщетность». В том же месте, в такую же апрельскую ночь «Титаник», вышедший в свой первый рейс и пытавшийся завоевать «Голубую ленту», столкнулся с ледяной горой… Вот тут-то и вспомнили о романе «Тщетность»! Да и как было не вспомнить, если совпали даже мельчайшие детали. Взять хотя бы описание «Титана»: длина 260 метров, водоизмещение 70 тысяч тонн, мощность двигателей 50 тысяч лошадиных сил, скорость 25 узлов, четыре трубы, три винта. Реальный «Титаник»: 268 метров, 66 тысяч тонн, 55 тысяч лошадиных сил, 25 узлов, четыре трубы, три винта… Никогда до этого и никогда после этого литературное произведение не оказывалось таким точным и мрачным пророчеством.
По-видимому, нет ничего неблагодарнее подобных пророчеств, Сначала на роман не обратили ни малейшего внимания, а после гибели «Титаника» поднялся страшный вой, на Робертсона посыпались обвинения — словно это он был виноват в катастрофе. Массовой психологией уже тогда недурно умели управлять. Кому-то было выгодно хотя бы частично отвлечь внимание от подлинных причин катастрофы, и Робертсона травили вполне профессионально. Идиотизм аргументации в таких случаях ничего не значит, лишь бы крик был погромче. Почему, зная об опасности, не предупредил в серьезной форме? Почему сам остался на берегу? Не подстроена ли катастрофа желающим прославиться романистом? В таком духе… В «Тайме» какой-то профессор пространно рассуждал о влиянии злой воли на ход событий. В других газетах религиозные фанатики прямо призывали к расправе над Робертсоном. Он получал сотни писем, ему угрожали, его проклинали. В конце концов он вынужден был бежать. Никто не поинтересовался, как же удалось получить столь точный прогноз. Роман ни разу не был переиздан, о нем быстро забыли…
В рассказе все было так и не так. Зеленые человечки хотят как-то отблагодарить Робертсона, но у них строгий приказ не нарушать естественного хода событий: зеленые человечки опасаются, что вмешательство в земные дела принесет людям вред. После долгой дискуссии старый зеленый человечек О-а-о (у него ярко-рыжие волосы, что соответствует седине) предлагает дать Робертсону сведения о какой-то грядущей катастрофе; такие сведения, утверждает рыже-зеленый О-а-о, несомненно помогут предотвратить катастрофу и принесут только пользу. Робертсон по роду своей репортерской службы постоянно околачивается в компании Ллойда, ему ничего не стоит получить статистику, необходимую зеленым человечкам для прогнозирования катастрофы. Там, откуда прилетели зеленые человечки, существует наука под названием «исчисление будущего», а на летающей тарелке, разумеется, есть ЭВМ, поэтому на расчеты уходит менее двадцати минут. Морган Робертсон получает точный прогноз о корабле, который будет спущен на воду через пятнадцать лет и потерпит катастрофу в первом же рейсе…
Ну а дальше — отлет зеленых человечков и тщетные попытки Робертсона предупредить кого-то о грядущей катастрофе. На Робертсона смотрят как на афериста или сумасшедшего. В конце концов он пишет роман «Тщетность», но и это ничего не дает: на роман просто не обращают внимания. Проходят годы. Робертсон все реже вспоминает о зеленых человечках, встреча с ними кажется ему далеким сном. Рассказ заканчивается проводами «Титаника». Морган Робертсон, вновь безуспешно пытавшийся что-то предпринять, стоит в веселой и нарядной толпе провожающих. Единственный человек, твердо знающий, что «Титанику» не суждено вернуться…
9
Пожалуй, в моем пересказе все это звучит интереснее, чем в рукописи Робертсона. Я излагаю самую суть, идею рассказа, а у Робертсона отличная идея тонет в унылых описаниях и вялых диалогах.
«Странно, — подумал я, — ведь это первая попытка хоть как-то объяснить феномен Робертсона. Пусть объяснение нельзя принять всерьез, но черт побери, рассказ возвращает нас к нераскрытой тайне: а как все-таки Морган Робертсон сумел с такой точностью спрогнозировать гибель «Титаника»?
И еще. Я почувствовал некоторую симпатию к Клиффорду Робертсону. Человек хочет восстановить доброе имя своего предка. В наше время это почти трогательно. В конце концов нельзя судить о Клиффорде Робертсоне по сочинениям Клиффорда Весси. Работа есть работа: иногда она не нравится, но ее все равно приходится выполнять. Важно другое — то, что человек делает по своей воле. Здесь-то и проявляется его характер.
10
Второй вариант рассказа назывался «Хроноклазма не будет». Над заголовком было написано: К.Робертсон-младший. «Браво, — подумал я, — Клиффорд Робертсон набрался смелости и решил выступать без псевдонима…»
Итак, на лужайке перед домом мистера Моргана Робертсона внезапно возник странный аппарат — хрустальный шар, обмотанный спиралью из белого металла. Из аппарата вышел молодой человек, одетый в черный фрак, брюки для гольфа и розовые туфли. Оказывается, молодой человек прибыл из 25-го века. Оу Аон (так зовут молодого человека) собирает материалы для диссертации, ему нужно поставить эксперимент — тут он надеется на помощь мистера Робертсона. Ведь мистер Робертсон пробует свои силы в фантастике и потому, несомненно, обладает богатым воображением. Оу Аон уже был у мистера Уэллса («Как, мистер Робертсон ничего не знает о мистере Уэллсе?! Ах, да, сейчас девяносто третий год, первое произведение мистера Уэллса появится только через два года…»), прославленный фантаст, автор «Машины времени», не поверил Оу Аону и выставил его за дверь. Такой досадный парадокс!
Впервые в рукописи Робертсона промелькнула неплохая деталь, я это отметил. Понравился мне и парень из 25-го века, он был более занятным, чем зеленые пришельцы. Путешествия в прошлое, объясняет Оу Аон, считаются крайне рискованными: все боятся, что путешественник начнет предсказывать будущее — и тогда изменится история, возникнут хроноклазмы, последствия которых невозможно представить. Так вот, лично он, Оу Аон, выдвинул противоположную гипотезу и хочет доказать ее экспериментально. Он уже побывал в Трое, рассказал Кассандре, как кончится троянская война, — и что же вы думаете? — предсказаниям Кассандры никто не поверил, все осталось неизменным. Люди глухи к предупреждениям. Теперь нужен еще один эксперимент: допустим, заранее станет известно о судьбе «Титаника»; повлияет ли это на ход событий?..
Второй вариант рассказа показался мне более удачным. Сцена отлета Оу Аона вообще получилась эффектной. Морган Робертсон помогает вытащить из сарая спрятанную там машину времени. Прощальное рукопожатие. Робертсон желает Оу Аону счастливо вернуться в 25-й век. Оу Аон отвечает, что возвращаться еще рано: надо побывать в 20-м веке и договориться с неким Клиффордом Робертсоном, чтобы тот написал о гибели гигантского танкера «Торри каньон» в Ла-Манше (это случится в марте 1967 года) и о катастрофе, которая произойдет в марте 1978 года у берегов Бретани, — погибнет еще более огромный танкер «Амоко Кадис». Морган Робертсон потрясен: неужели и через сто лет будут катастрофы? И что это такое «танкер»? Оу Аон торопится, надо стартовать, пока никто не увидел стоящую на лужайке машину. Но он все же успевает объяснить Робертсону, что такое танкер. И уже из кабины добавляет: самая большая катастрофа произойдет в январе 1988 года, когда близ полуострова Корнуолл пассажирский атомоход столкнется с супербалкером; от радиоактивного загрязнения погибнет около четырех тысяч человек… Машина времени исчезает, оставив ошеломленного и ничего не понимающего Моргана Робертсона. Что такое «атомоход»? Что такое «балкер»? Что означают слова «радиоактивное загрязнение»? Кто такой Клиффорд Робертсон?..
Далее все идет, как в первом варианте: Морган Робертсон безуспешно пытается что-то предпринять, потом пишет роман «Тщетность». Проходят годы, спущен на воду «Титаник», и вот Робертсон стоит в толпе провожающих…
Я читал не очень внимательно. Меня преследовала назойливая мысль: откуда у Клиффорда Робертсона данные о катастрофе 1988 года? Ну, «Титаник» — это история. Катастрофы с «Торри каньон» и «Амоко Кадис» известны каждому англичанину, тут тоже нет загадки. А вот столкновение атомохода с супербалкером — что это: художественный вымысел или прогноз? Я знал; проектируется первый пассажирский атомоход для атлантических линий. Скорость что-то около 50 узлов, свыше четырех тысяч пассажиров. Уже существуют балкеры, корабли для перевозки насыпных грузов водоизмещением в миллион тонн. У Клиффорда Робертсона просто не хватило бы фантазии выстроить такую впечатляющую линию: реальный роман — реальная гибель «Титаника» — реальные катастрофы танкеров — грядущая катастрофа атомохода. Никакими художественными средствами нельзя было бы достичь большей убедительности, чем достиг Клиффорд Робертсон, обладающий весьма скромным литературным даром. Появись такой рассказ — и на атомоход не продали бы ни одного билета. Подумать только: Робертсон снова предупреждает о катастрофе корабля! На этот раз глухих бы не оказалось…
«Игра выходит за пределы литературы, — подумал я, — не мог Клиффорд Робертсон решиться на такой шаг только из желания замолвить доброе слово о своем предке или из желания опубликовать рассказ. Клиффорд Робертсон знал, что катастрофа должна произойти. Это единственное объяснение».
Быстро перелистав наброски неоконченного третьего варианта (рассказ теперь назывался «Тщетность-2»; нетрудно представить себе взрывчатую силу этого названия в сочетании с фамилией Робертсона), я нашел в папке то, что ожидал найти: пожелтевшие листы, исписанные мелким почерком. Цифры, формулы, расчеты. Бумаги Моргана Робертсона.
11
Позже я провел долгие часы и дни с этими бумагами, пытаясь разобраться в исчислении будущего — науке, созданной Морганом Робертсоном. Но тогда, в баре, я быстро перелистывал хрупкие желтые страницы, отыскивая выводы, итоги расчетов. Листов было сто восемь. На семьдесят втором я нашел прогноз по «Титанику»; на восемьдесят седьмом — по «Торри каньон», на восемьдесят восьмом — по «Амоко Кадис». А еще через семь страниц кратко описывалась «катастрофа 1988 года».
Несколько пояснений. Бумаги Моргана Робертсона относятся к 1912 году и представляют собой черновик книги. По-видимому, Робертсон начал писать эту книгу сразу после гибели «Титаника», собираясь отвести от себя вздорные и невежественные обвинения. Но книгу он не закончил. Помешало нервное потрясение. Потом Робертсон уехал в Канаду. Последние страницы книги почти бессвязны. Вообще в рукописи множество уточнений, изменений, вставок. Читать эти листы трудно. Расчет по «Титанику» приведен полностью, а другие прогнозы даны только в виде конечных выводов. Они не так точны, как прогноз гибели «Титаника». Робертсон не приводит названий кораблей, даты указаны приближенно: 1967 год, 1978 год, конец 1987 года или 1988 год… Нет слов «танкер» и «балкер»; Робертсон пишет о «кораблях, везущих жидкий или пескообразный груз». Нет и слова «атомоход», речь идет о «двигателях, использующих внутренние силы материи». Ничего нет о последствиях гибели танкеров, когда сотни и тысячи тонн нефти погубили побережье Бретани и пляжи Корнуолла. Не упоминается и «радиоактивное загрязнение». Робертсон не думал о деталях и тонкостях терминологии. Он с лихорадочной поспешностью писал книгу-оправдание…
Повторяю, детальное изучение бумаг Моргана Робертсона я начал позже. Пока для меня были важны только две вещи: существуют ли вообще эти бумаги и есть ли в них прогноз катастрофы 1988 года. Я увидел, что бумаги существуют и что прогноз есть. Теперь я знал, что Клиффорда Робертсона убили.
Я ехал в сторону Вудгрейва, ехал осторожно, хотя туман почти рассеялся, и думал о странной судьбе Моргана Робертсона, гениального математика, опередившего свое время на столетие, а может быть, и больше.
В школьные годы и потом, работая репортером, Морган Робертсон не очень думал о математике. Это был молодой человек с изрядным зарядом честолюбия, что встречается весьма часто, и колоссальным воображением, что, наоборот, встречается чрезвычайно редко. От избытка воображения он пытался писать фантастические романы, хотя литературного дара у него не было. А по службе этому молодому человеку приходилось слоняться по залам компании Ллойда и добывать информацию для газет. И вот здесь, в один из обычных дней, у Моргана Робертсона появилась мысль о том, что будущие события можно вычислять с математической точностью. В этом храме наживы, где все думали о деньгах, Морган Робертсон сформулировал основные постулаты науки, которой нет и по нынешний день, ибо то, что мы называем прогнозированием, футурологией, — лишь жалкие намеки на стройное здание науки об исчислении будущего.
У Ллойда, еще со времен царствования Якова II, скапливалась информация о кораблях, грузах, рейсах, катастрофах. Морган Робертсон понял, что в сотнях томов годовых отчетов Ллойда спрятаны закономерности, знание которых позволит управлять будущим. Он принес домой (это было осенью 1891 года) первые десять томов и углубился в их изучение. Вот здесь-то и обнаружились математические способности Моргана Робертсона, он сам пишет о них с некоторым удивлением. В бесконечном океане цифр Робертсон с потрясающей интуицией улавливал странности, выделял их, анализировал — и появлялись первые теоремы исчисления будущего. Нередко оказывалось, что нет математического аппарата для обработки информации; тогда Морган Робертсон создавал свои математические методы. Мне трудно о них судить, но результаты применения этих методов говорят сами за себя.
Морган Робертсон работал неистово: каждый день, до глубокой ночи. Он сам пишет, что засыпал от усталости прямо за письменным столом. Через три года он вывел формулы морских катастроф. Будь у Робертсона иной исходный материал, не отчеты Ллойда, а, скажем, медицинская статистика, он пришел бы к исчислению будущего как-то иначе. В конце концов формулы морских катастроф — лишь одно из многих приложений исчисления будущего. Но в те времена не существовало другого, выражаясь современным языком, массива информации, равного по объему отчетам и регистрационным книгам компании Ллойда.
Итак, Морган Робертсон, перемолов бездну информации, вывел формулы морских катастроф. Еще два года ушло на то, чтобы произвести расчет конкретной катастрофы. Формулы были громоздкими, и Робертсону пришлось проделать колоссальную вычислительную работу, умножая, деля, возводя в степень, извлекая корни. Сегодня такие расчеты можно легко сделать на карманной ЭВМ, но у Робертсона были только карандаш и бумага. И все-таки кропотливый расчет по «Титанику» он проделал трижды, каждый раз точнее и точнее…
А теперь представьте себе Моргана Робертсона летом 1896 года. Это был уже не тот честолюбивый молодой человек, который искал случая выдвинуться. Работа меняет человека — тут действие а полной мере равно противодействию. Пять лет работы, потребовавшей огромного напряжения ума и фантазии, долгие дни и ночи, в течение которых Робертсон открывал и осмысливал то, что еще никому не было известно, — все это сформировало человека с иным характером, перестроило мировоззрение и мышление, дало иной жизненный опыт. Морган Робертсон сумел подняться над своим временем, и с этой высоты ничтожными казались былые мечты о карьере и богатстве. Я бы сказал так: Робертсон — как личность — стал неизмеримо значительнее. Обострились ум и чувства, изменилось самое главное, то, что определяет суть человека — представление о ценностях, целях, добре и зле. Быть может, другой талантливый математик, имея информацию Ллойда, тоже смог бы вывести формулы катастроф и теоремы исчисления будущего. Но Робертсон, превращая информацию в абстрактные и бесстрастные формулы, ни на минуту не забывал о тех, кто погиб в море. Его могучее воображение работало не только на математику, оно с ужасающей ясностью рисовало картины кораблекрушений, заставляя искать их глубинные причины и вызывая непроходящую душевную боль.
Так вот, представьте себе этого человека, занятого своими расчетами, гипотезами, сомнениями; представьте, как он вглядывается в возникающие за формулами мрачные картины бесчисленных морских трагедий. Временами работа кажется непосильно тяжелой. И вот, наконец, поставлен решающий эксперимент: вычислена гигантская морская катастрофа: если она произойдет, теория доказана! 1912 год, Северная Атлантика, столкновение пассажирского парохода с айсбергом, гибель полутора тысяч человек…
Робертсон ошеломлен. Подумать только, полторы тысячи человек!.. Нужно что-то предпринять, нельзя допустить, чтобы совершилось такое. Нужно самому перечеркнуть свой решающий эксперимент, вмешаться в ход событий, сделать так, чтобы предсказанной катастрофы не произошло… Драма, достойная пера Шекспира. Не случайно Клиффорд Робертсон хотел отделаться пустяковыми рассказами о космических пришельцах и путешественнике, прибывшем из 25-го века. Только в третьем варианте рассказа он попытался показать все так, как было… и не смог.
Не существовало никаких зеленых человечков, никаких молодых людей из машины времени. Был великий ученый, заложивший основы математического исчисления будущего и впервые столкнувшийся с ситуацией, с которой еще никогда никому не приходилось сталкиваться. Доказательства верности теории можно получить лишь в том случае, если события будут идти своим чередом и произойдет предсказанная катастрофа. Надо сдать запечатанный пакет с прогнозом нотариусу, а потом — после гибели корабля — объявить, что все обстоятельства катастрофы были вычислены заранее. Вот тут теорию признают безоговорочно! А полторы тысячи человек… Что ж, потом формулы катастроф позволят спасти сотни тысяч людей, простая арифметика. Прекрасный довод для успокоения совести, не так ли?.. И другой путь, всеми силами мешать катастрофе, кричать, доказывать, драться, суметь изменить ход событий. Теория и формулы останутся верными, но никаких доказательств не будет, исчисление будущего признают на двадцать или пятьдесят лет позже, и человечество дорого заплатит за эту задержку.
Я подчеркиваю: в 1896 году Морган Робертсон абсолютно не принимал в расчет личные интересы, хотя по справедливости следует признать, что он имел право учесть их. Однако проблема была и без того предельно острой: с одной стороны — гибель пассажиров и экипажа «Титаника», но признание теории и возможность в будущем предотвратить многие вычисленные катастрофы, а с другой стороны — сохранение полутора тысяч жизней, но отказ от решающего эксперимента и многие катастрофы, которые нельзя будет предотвратить, потому что теория получит признание значительно позже…
Беру на себя смелость утверждать: чтобы правильно решать такие проблемы, нужно учитывать еще один фактор. Каждый наш поступок служит кому-то примером — положительным или отрицательным, быстро забываемым или вечным. Каждый наш поступок в той или иной мере отражается на поступках других людей, и этот суммарный резонанс — самая высшая мера добра и зла.
Морган Робертсон принял решение сделать все, чтобы предотвратить гибель корабля. В рукописи Робертсона подробно и точно перечислены все предпринятые им попытки повлиять на ход событий. Чтобы избежать катастрофы, достаточно было проложить курс корабля немного южнее. Или идти с меньшей скоростью. Но Робертсона просто не слушали: никого не интересовала какая-то опасность, якобы грозящая какому-то еще непостроенному кораблю. Математики, к которым обращался Робертсон, пожимали плечами: для проверки формул, на основании которых предсказана катастрофа, нужно повторить всю работу, проделанную Робертсоном, и заново проанализировать сотни томов с материалами Ллойда…
Роман «Тщетность» был лишь одной из многих попыток привлечь внимание к опасности. Фантазия подсказала Робертсону многие яркие детали, вычисленное перемешалось с придуманным, и (такова была сила фантазии этого человека!) прогноз в целом стал еще точнее.
Я думаю, Робертсон понимал, что ему не удастся предотвратить гибель «Титаника». Не случайно роман назван «Тщетность». Но Робертсон честно сражался с судьбой (или с косностью общества — так будет точнее). Он писал в Королевское общество, дважды обращался в парламент, обивал пороги компании «Уайт стар», которой принадлежал «Титаник». За три недели до отплытия «Титаника» Робертсон говорил с Эндрюсом, конструктором корабля. Эндрюс рассмеялся: «Титаник» непотопляем, катастрофы не может быть, это просто вздор. «Дай нам бог, — сказал Эндрюс, — прожить еще столько, сколько предстоит прожить «Титанику». Приходите ко мне после возвращения корабля, мы продолжим этот разговор…» Что ж, пожелание Эндрюса наполовину сбылось: конструктор «Титаника» погиб вместе со своим кораблем. Один из спасшихся моряков видел Эндрюса в курительном салоне. «Титаник» уже уходил под воду, оставались считанные минуты; конструктор, отшвырнув спасательный пояс, сидел в кресле, отрешенно глядя в пространство…
Морган Робертсон прожил на четыре года больше. Он погиб на войне, не успев опубликовать свои работы и новые прогнозы.
12
В восьми милях от Вудгрейва дорога поднялась над туманом, в ветровое стекло «ариэля» ударило яркое солнце, мир приобрел краски.
Через несколько минут я остановил машину у крутого поворота — там, где сорвался «кадиллак» Клиффорда Робертсона. Разумеется, дорога была давно отремонтирована: все столбики на своих местах. Я осмотрел эти столбики и прошел по дороге в обход холма. Метрах в ста от поворота начиналась тропинка, по которой можно было подняться на холм.
Я, конечно, плохой детектив. Вообще я никакой не детектив. Но одно дело я все-таки распутал, причем такое дело, которое вряд ли распутал бы кто-нибудь другой. Вечером я доложу шефу обо всем — о Моргане Робертсоне, о «Титанике», о папке, переданной мне Ольбрахтом Збраниборски. И об убийстве Клиффорда Робертсона. Полиция искала доказательства несчастного случая, страховая компания думала о возможном самоубийстве, никому в голову не пришла версия об убийстве. Еще днем, знакомясь с обстоятельствами дела, я подумал, что Клиффорд Робертсон ехал из Лондона со скоростью не более тридцати пяти миль. На такой скорости просто невозможно сбить прочные железобетонные столбики. Кто-то подтолкнул «кадиллак»…
С вершины холма мне пришлось спуститься всего на несколько метров, и я сразу нашел то, что искал. В боковом свете заходящего солнца на серой почве холма не очень отчетливо, но все-таки просматривался след — ложбина, вмятина, круто идущая вниз. Отсюда столкнули что-то тяжелое, скорее всего металлический шар. Так можно выбить за дорогу и неподвижную машину…
Наверное, Клиффорд Робертсон кому-то что-то сказал о катастрофе 1988 года. Он был неосторожен, этот автор выдуманных криминальных историй. Он плохо знал реальный мир и, сам того не понимая, привел в действие могучие силы. Выступить против проекта, в который уже вложены колоссальные средства, — это примерно то же самое, что стать на пути бешено мчащегося экспресса. Нравы теперь более крутые, чем в патриархальные времена Моргана Робертсона: Клиффорд Робертсон не успел даже дописать «Тщетность-2»…
«Что ж, — думал я, спускаясь с холма, — дядюшка Хокинз не станет ввязываться в эту историю. Нет доказательств убийств, таких доказательств, которые можно было бы предъявить. Да и какой смысл искать мелких фигурантов, слепых исполнителей, которые наверняка не знали, зачем нужно было убрать Клиффорда Робертсона. Нет, действовать придется в одиночку, во всяком случае на первых порах. Может быть, потом чем-то помогут и дядюшка Хокинз и Ольбрахт Збраниборски. Но дебют придется разыгрывать одному. Это — моя война. Тут не отойдешь в сторону и не спрячешься за чью-то спину. Я издам рукопись Моргана Робертсона, расскажу о смерти Клиффорда Робертсона, приведу десять, двадцать, сотню новых прогнозов и раскрою закулисную механику катастроф, тут я кое-что понимаю…»
Это — моя война.
Феликс Дымов ЭТИ СОЛНЕЧНЫЕ, СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ…
Вчера из экспедиции к Альционе возвратился космокрейсер «Ветреный» корабль экзохронного класса, стартовавший месяц назад со второго симметричного спутника Солнца. Командир корабля Антон Ремезов сообщил у нас в редакции, что Альциона внезапно перестала светиться. Прокомментировать эту весть, сославшись на недостаток информации, он отказался.
Заканчивается подготовка новой аварийной экспедиции к месту катастрофы. Интересно, что астрономы, занимающиеся оптическими методами исследования, смогут подтвердить слова Ремезова только через 192 года — именно тогда дойдет до нас сигнал из звездного скопления Плеяд, которое потеряет одно из прекраснейших светил. Ученые пока не могут найти разгадки странного явления.
Из выпуска вечерних теленовостей «Все обо всем»Сквозь сон Оля услыхала Тошкин плач. Скорее всего парень раскрылся и не догадается натянуть на себя одеяло. Надо было встать к нему, успокоить, дать попить, но проснуться не хватало сил. Оля не подпускала к Тошке электронных нянь и потому последние ночи не досыпала. Ничего, ничего, она все сделает, потерпи, сынок… Только бы от подушки отлепиться…
Она, наконец, уговорила себя, с трудом поднялась, потрясла тяжелой головой. Постель рядом была пуста, и, значит, Ант еще даже не ложился. Оля привычно попала ногами в тапки, поднырнула под удобно распяленный в воздухе халатик, который тотчас же сам и застегнулся у шеи, пересекла комнату. К ее удивлению, Тошка затих. Но не спал: стоял в кровати у стены и, восторженно пыхтя, ловил пухлой ладошкой солнечный зайчик. Тот даже не особенно отпрыгивал: суетился себе на одном месте да ласково поклевывал преследующие его неловкие пальчики.
До сих пор Оля действовала автоматически, с полузакрытыми глазами, и только теперь, пожалуй, пробудилась окончательно: ведь солнечный зайчик ни за что ни про что совсем разгуляет ей ребенка! Да и неоткуда взяться ему тут в два часа ночи… Сначала она еще погрешила на своего маленького приятеля по двору Шуру Зямчикова, который считал долгом развлекать их с Антошкой чуть ли не в любое время дня и ночи. Но потом сообразила, что ночь — это все-таки ночь, и Шуркина квартира находится вовсе не со стороны их окон, и вообще зайчик — это не заводная картинка и не кино на ниточке…
Оля огляделась в поисках линзы, зеркала, какого-нибудь маломощного лазера, но ничего такого не нашла. А потом и искать перестала, осознав некоторую странность происходящего: когда малыш накрывал солнечный зайчик, светлое пятно не перескакивало на руку, а оставалось на стене и то медленно выползало из-под ладони, то, дразня, пряталось обратно. Тошкины пальцы делались розово-прозрачными, нежно-раскаленными, просвечивающими насквозь, кроме темных подушечек на фалангах, как бывает, если заслонить рукой лампу.
Оля перехватила зайчик — бесплотный, неощутимо твердый, — повела взглядом по комнате, но источника света не обнаружила. Она раздвинула руки — осторожно, боясь услышать ломкий и звонкий звук бьющегося стекла. Зайчик поспешно шмыгнул под дверь.
Оля уложила сына, подоткнула одеяло, на ходу сменила халат на домашний комбинезончик, провела пальцами снизу вверх, проверяя клейкую молнию, и выскочила в коридор. Зайчик будто только этого и дожидался: потанцевал на пороге и медленно пополз вперед, как бы зовя за собой. Оля скинула тапочку, попыталась босой ногой отскрести от пола золотой след. Зайчик мгновенно одолел всю длину коридора, поднялся по двери и через замочную скважину втянулся в кабинет Анта.
Оля рассердилась.
— Ант, в чем дело? — спросила она, распахивая тяжелую дверь. И зажмурилась.
Стены кабинета были пятнистыми от зайчиков. А посреди комнаты кружком восседали четверо космонавтов с «Ветреного» — собственно, весь экипаж, целиком. Подумать только, еще не до смерти надоели друг другу за месяц полета!
Оля кивнула сразу всем, но это вышло неловко, угловато, — потому что она боялась отвести глаза от ставших растерянными лиц друзей.
Лучше других, кроме, конечно, Анта, Оля знала здесь старшего Зямчикова, Шуркиного отца, благо детство они провели в одном дворе. Он был толст и малоподвижен, но это не мешало ему протискиваться в любую щель корабля. Леша Зямчиков сидел по правую руку от командира и, не поднимая глаз, размашисто рисовал что-то в планшетке неоновым карандашом. Еще правее сидел долговязый голландец-штурман Гийом Лакро, усиленно разминая длинными пальцами нюхательную палочку. Тонкая волна тонизирующего запаха расплывалась по кабинету.
Четвертого члена экипажа или, точнее, четвертую, замыкающую круг, Оля видела со спины. Форменка внакидку, дотемна загорелая шея, короткая стрижка да округлый краешек щеки с прозрачной и в то же время смуглой кожей. Айя суховата, недоступна и выглядит куда старше, чем это есть на самом деле. Впрочем, суховатость ее скорее всего от застенчивости. Она последней пришла на «Ветреный», и за два года Анту, кажется, не пришлось желать ей замены.
Оля мгновенно оценила обстановку. И ни на секунду не усомнилась в том, что разговор идет серьезный. Она не подала виду, что обиделась, и первая часть ее фразы почти естественно перешла во вторую:
— Ты не предупредил. У нас гости?
— Заметный прогресс — нас уже начали считать гостями! — пробурчал Леша Зямчиков, отрываясь от планшетки только для того, чтобы профессионально прицелиться и отмерить большим пальцем Олин рост на карандаше, после чего одним лихим росчерком изобразил себя перед хозяйкой в изящном поклоне.
— Что ты пе… пе-редергиваешь? Хо… хозяйка в… всегда нам рада! Ведь так, О-Оленька? Здравствуй! — с трудом завершил фразу заикающийся штурман. Странное дело, предельно лаконичный и терпимо красноречивый у штурманской стенки, Гийом терял дар речи, едва от нее удалялся. Притом любил поболтать и своего заикания нисколько не стеснялся.
— Здравствуй, Оля. Не обращай внимания на мужиков, у них, как всегда, режутся зубки остроумия! — Айя подбежала и поцеловала подругу в щеку.
— Здравствуйте, здравствуйте, ветреники! — Оля привычно вошла в общий тон, адресуясь ко всем, но главным образом — к мужу, который все еще отмалчивался за столом. Не нравилась ей эта беседа заполночь, откровенно не нравилась. С каких пор у них появились от нее секреты? Значит, все же совсем не случайно Ант ничего не рассказал об Альционе? На его глазах гаснет звезда, а у него, видите ли, «недостаток информации»! Так она ему и поверила!
Оля тронула одно светящееся пятнышко на стене, неодобрительно покачала головой.
— Кофе приготовить?
— Лучше чай… С этими… — Гийом щелкнул пальцами. — С курниками…
— Прекрасная мысль! — Оля набрала в сигнальной нише шифр-заказ кухонному автомату и, смеясь, добавила: — Выгонят тебя из штурманов — иди в кулинары. Кулинария — еще одна область, где язык отлично тебе повинуется!
Она старалась не замечать паузы, вызванной ее приходом. А заодно не замечала и Анта, который обдумывает сейчас не как от нее отделаться, а как попроще выложить, о чем речь. Ничего, пусть помучается, раз решил от нее скрыть! Или, думаешь, я поверила, что не захотел будить?!!
Но начал как раз не Ант. Поднялась присевшая было за стол Айя, дернула плечиком, что означало без сомнения: «В такое время — такие пустяки!», подошла к неровно светящейся стенке, исподлобья посмотрела на пятна. Потом локтями и ладонями принялась сгонять их в кучу. Зайчики не сопротивлялись: наползали друг на друга, складывались, расслаивались, поворачивались ребром. То, что насобиралось, девушка в горсти принесла и ссыпала в жестяной коробок на столе.
— Чего мы тянем, командир? Пора решать!
— Тут ночь подошла к концу, и Шехерезада прекратила дозволенные речи, потому что ничего придумать больше не могла! — дурашливым речитативом пропел Зямчиков, откидываясь на стуле.
Гийом, подолгу застревая на гласных, умеренной скороговоркой подхватил:
— Каково же было ее удивление, когда солнце не взошло ни в это утро, ни в следующее! И собрались тогда великие мудрецы и звездочеты решать, что делать!
Поддразнивания не пришлись Айе по вкусу, к тому же она и сама почувствовала некоторый мелодраматический перегиб в своем поведении, и поэтому переменила тон:
— Можете утешиться, о несравненные зубоскалы! Мы оценили ваш редкий дар. Кто бы еще научил вас самовыключаться…
Айя взглянула на Олю, приглашая присоединиться к дружеской пикировке, но Оля не приняла ее тона: что-что, а неприятности она улавливала сразу! Оля отодвинула вместе со стулом Лешу Зямчикова, оказавшегося на пути, и стала перед мужем:
— Я не понимаю, Ант. Вы что, виноваты с Альционой?
— Виноваты? С Альционой? Нет. С Альционой — нет! — Ант словно очнулся, поднял голову, и ей вдруг показалось, что на лице его вместо глаз горят два аккуратных солнечных зайчика. — Но я не хочу, чтоб такое случилось с Солнцем!
— Неужели — эти? — Оля сглотнула образовавшийся в горле комок, подбородком повела в сторону островка мрака на светящейся стене. Неточно разгадав Олин жест, Гийом услужливо подставил стул, и Оля машинально села.
— Хорошая, понимаешь, была звездочка! — Леша порылся в планшетке и, любуясь, отодвинул на длину вытянутой руки рисунок ослепительно голубого светила. Даже с листа оно резало глаз неоновой яркостью. — Самое сильное солнышко Плеяд. Теперь, вероятно, придется созвездие переименовывать: кому нужны Плеяды с дыркой?!!
— Уймись, балагур! — оборвал его командир, взвешивая в руке жестянку. И вдруг выкрикнул короткое приказание, Зайчики одновременно снялись со стен, перелетели комнату, ссыпались в коробку, и она оказалась для них безмерно просторной, потому что они не заняли в ней объема — так, одно какое-то пятнышко на дне. Ант потряс коробкой возле уха, будто надеялся услышать дребезг и звон. Оля поймала себя на мысли, что ожидает того же самого.
— Они… воспринимают звук? — спросила она, с трудом подбирая слова.
Ант не сразу ответил. Постоял, прислушиваясь. И пошел кругами по кабинету, встряхивая на ходу коробку, словно копилку, и монотонно выговаривая:
— Мы так с самого начала условились. Пока действует. Я имею в виду, до сих пор не спорили. А дальше посмотрим…
— И с нами они могут общаться? По своему желанию?
Оля в принципе понимала, что спрашивает сейчас совсем не о том, о чем бы нужно спросить, она словно отстранялась от того необычного, что было связано с зайчиками.
— С этим делом хуже, — ответил Ант. — Их собственную речь без тонкой электроники не уловить. А связаться, если захотят, они могут с любым человеком. Из мозга в мозг…
— Странно; мозг в теле, не имеющем толщины…
— На этой планете многое странно. И их новая форма в том числе.
— Новая? Погоди… А старая?
— Самые обыкновенные люди, Олюшка. Даже похожие на нас! — Зямчиков, не глядя, запустил пальцы в планшетку, достал несколько листков.
Если бы можно было поверить в розыгрыш, до которых все Зямчиковы великие охотники! На рисунках были действительно изображены люди. Земные люди. Только одеты, может быть, необычно. Да здания для фона выбраны слишком отвлекающие. Но не могли же все сейчас, и ее муж тоже, принимать участие в розыгрыше! А кроме того, детскость лиц, непонятная и беспричинная — такую не сразу придумаешь. Не та уродливая, которую и в старости сохраняют лица лилипутов, а другая — смелая, гениально-совершенная, как у вундеркиндов. Несмотря на морщины и серебряный пушок над ушами, свидетельствующие о преклонном возрасте…
— Удивительные существа. Точно пожилые дети? — осторожно поинтересовалась Оля, возвращая рисунки.
— Да. Вроде, — нехотя согласился Зямчиков. — Вот этому красавчику, например, в пересчете на наш век триста одиннадцать лет, Ты, кстати, его знаешь. Он недавно развлекал твоего Тошку.
— Ничего не понимаю. Расскажи, Ант. Ведь вокруг Альционы до вас не обнаруживали жизни?
Она опять обращалась к мужу, ждала ответа от него одного. Потому что в свои слова вкладывала еще множество вопросов, понятных только ему и не очень для него легких. Отчего он все скрыл от нее? Какое имел право привезти таких гостей на Землю? Зачем пустил по квартире? И что, главное, за ученый совет в третьем часу ночи, до утра нельзя было потерпеть, что ли?
— Ты оговорилась: вокруг Альционы никто жизни и не искал. А напрасно! Ант перестал маячить, круто затормозил перед ее стулом и теперь нависал сверху, мощный и непривычно медлительный. — И мы, и другие до нас ограничивались планетами. И замечали лишь руины цивилизации. А они, — Ант потряс коробкой, — они выросли из старой оболочки, сбросили ее. И искать, как выяснилось, следовало прямо в пространстве. Я весь рейс над этим сокровищем дрожал!
Леша издали показал на листке контур Анта, по-паучьи растопорщившего острые локти и колени над жестяным коробком. Относилось ли изображение ко времени полета или было набросано сию минуту, Оля выяснять не стала. Слова мужа тоже были неоднозначны, несли для нее особый смысл. Она явственно поняла, что он очень устал, и знает, как она соскучилась, и хотел бы сейчас быть только с ней. Но время идет. Необходимо во что бы то ни стало до утра решить вопрос с проклятыми зайчиками!
Распахнулась дверь, в кабинет въехала низкая тележка с пятью подносами, прикрытыми пирамидками салфеток. Все зашевелились, теснее сдвинули стулья. Гийом сдернул салфетку и блаженно затих, упиваясь запахом чая по-пижонски, как называла это семейное изобретение Ольга. Подогретый стакан с широким листом карельского чая. Крутой кипяток в фаянсовом петухе. Строганный соломкой сыр. Горошины сахара в розетке. И украшение застолья — горка оренбургских курников. Зямчиков торопливо застегнул планшетку, плотоядно потер руки.
Пили по-разному. Леша доверху начинил стакан сахаром и шумно отхлебывал с ложечки. Айя макала в кипяток сыр. Ант остужал стакан долгим помешиванием и потом опрокидывал в себя залпом, Гийому чай откровенно служил поводом пожевать. Оля же, плеснув себе на треть, задумчиво крутила граненое стекло между ладонями и не столько пила, сколько вдыхала терпкий черемуховый аромат.
— Ант, я жду, — тихо попросила Оля. — Может, извини, другим неинтересно?
— Нам тоже не вредно лишний раз послушать и осмыслить, — просто сказала Айя.
— Не век же здесь сидеть! — непримиримо закончил ее мысль Зямчиков. Понять его было нетрудно: дружеские рауты заполночь, да еще после месячной разлуки, мало нравятся женам космонавтов!
Командир взял из пачки Гийома пахучку, хотя никогда их раньше не употреблял, размял, вдохнул острую нежную струю.
— Жила-была веселая планета с интересными и сильными людьми. Разум там развивался гладко. Хватало энергии. Хватало сырья. Хватало даже благоразумия не калечить природы из-за того и другого. Никто ни в чем не имел отказа. А зло уничтожалось с корнем, едва его распознавали. Мечта! На световые годы вокруг не было счастливее общества!
Ант обвел глазами слушателей, но никто не проронил ни слова.
— Особое внимание уделялось детям — хороший, между прочим, обычай! Над детьми трепетали люди и механизмы. Целый город ходил ходуном, порежь какой-нибудь малыш пальчик. А уж если — невероятный случай! — умирал ребенок, планета объявляла траур. Для охраны детства были разбужены такие силы, которые нам на Земле даже и не снились! Дети не должны были знать ни страха, ни боли…
— Прекрасно! — не удержавшись, прошептала Оля, но Ант услышал ее:
— Еще бы! Только, видишь ли, сапиенсы Альционы проморгали важный момент: у ребят все позже наступало взросление. Обезболенное существование и беззаботность не мешали, разумеется, умственному развитию подростков. Зато у них не возникало потребности думать об обществе в целом. Какое общество? Зачем? Разве ребенок способен думать об обществе? Да еще в целом? Вот вам наука и спорт. Вот — вечность и молодость. Единственная непреходящая ценность — культ тела и культ ума. И все — каждому! И все безвозмездно! Живи — не хочу! — Ант налил себе еще чаю, в два глотка осушил стакан. — Раскованное изобилием творчество кричало только о здоровом веселье. Все было разрешено, кроме, может быть, причинения другим активного зла. Впрочем, какое там зло! Все же стали добрыми. Добренькими. Планета стремительно омолаживалась: ведь и в тридцать лет и в триста каждый оставался ребенком. Рождаемость прекратилась. Не сразу, конечно. Потихонечку. За долгие годы. Но к этому времени уже некому было обеспокоиться всерьез: период детства практически превысил отпущенный природой срок жизни, хотя смерть тоже заметно уступала рубежи. Представляешь, Олюшка? Целая планета детей. Бессмертных детей. Не знающих ограничений, вооруженных тончайшей техникой, имеющих выход в Космос детей! По нашим масштабам — младенцев, которым вместо погремушки подсунули в несмышленые ручонки атомную бомбу!
— Я не очень поняла, почему все же так получилось? — спросила Ольга.
Ант спохватился, что какое-то время рассуждал вслух, лишь по инерции обращаясь к жене, поморщился и хмуро пояснил:
— Детство кончается тогда, когда приходится бороться за существование, думать о жизни близких, о чужих бедах и судьбах. Недаром так много примеров раннего взросления во время войн. Быт же, защищенный от трудностей, не приводит к такой необходимости. Какая беда, что и костер, и солнце (надо бы сказать, Альциона!) могут обжечь! Организмам аборигенов ничто не причиняло вреда. Никогда. Во веки веков. Заниматься исследованиями в таких условиях — любо-дорого! Не нужно заботиться о мерах безопасности, о них позаботятся машины. И машины заботились… О других машинах. И о бедных альционцах заодно, между прочим. Да, кстати: если социальные науки, для которых требуется жизненный опыт, не пользовались популярностью, отставали, то физика и биология выдвинулись на первый план. Они и более эффектны, и конкретны тоже, и результат дают непосредственный, который можно пощупать руками.
Гийом, забывшись, звякнул ложкой о стакан, покраснел, принялся усиленно жевать. Но Ант не повернул в его сторону головы:
— В моей модели лишь одно слабое звено: почему последние взрослые допустили катастрофу? Придется, пожалуй, пуститься в область догадок. Видимо, слишком быстро вырвался из-под контроля процесс. Да и не было внешних признаков опасности: никто бы не рассмотрел ребенка в дряхлом старичке, тело ведь не подчиняется графикам человеческой инфантильности! Таким образом, детство растягивалось, период общественной бесполезности удлинялся, создавался возрастной разрыв между широкими возможностями, с одной стороны, и крохотной необходимостью, с другой. «Я могу!» побеждало «Нужно ли?» и «Нужно другим». Планета забыла слова «нельзя» и «ради чего?» Увы, некому стало отмечать, что все население Альционы — подростки от пятнадцати до трехсот с лишним лет. Подростки, несмотря на внешние признаки старости. Вот смотри: здесь у меня их двести. Двести мальчиков и девочек!
Ант ожесточенно поддел ногтем крышку коробки, распахнул. Оттуда высунулись живые гладыши света с тугими переливами бахромчатых краев. Командир дал выйти одному, остальных прихлопнул. Солнечный зайчик пробежался по его рукаву, пристроился на плече, заглянул в лицо. Оля могла бы поручиться, что он улыбается.
— Вот смотри! — повторил Ант. — Я уже различаю их. Это Пти. Полное имя воспроизвести не пытаюсь, не наша система звуков. Но он позволил называть его Пти. Только вдумайся: сапиенсу триста одиннадцать годиков, а он ребенок! Да вот пример: услышал Тошкин плач и кинулся утешать его, правда, на свой лад. А разве наш земной парень не побежал бы делать козу младшему братишке, а? То-то же! Между прочим, двести ребятишек, к которым мы даже привязались за время полета, да-да привязались, не считают, что их надо было спасать, и что по их вине погибла Альциона. Они всего-навсего надели новые платья! Подумаешь, сменили гуманоидный облик на субпространственный блик!
Оля прислушалась, не возится ли в спальне Тошка, и сказала:
— Ну хорошо, хорошо. Чего же ты нервничаешь?
Ант резко остановился. Если бы можно было криком помочь делу! Но разве объяснишь, что у них уже просто не хватает фантазии, что им нечего предложить людям в защиту этого чужого несчастного народца, несчастного вдвойне, потому что он не осознает своего несчастья? Восьмые сутки со времени отлета с Альционы они ломают себе головы, а проблема, по сути, на том же месте. В тревожном отблеске гаснущей звезды рассуждать было недосуг. Когда подвернулись двести мечущихся аборигенов, экипаж посчитал великим благом спасти осколок братской цивилизации. Впрочем, нет. И это пришло позже. А в тот момент была единственная мысль: оказать посильную помощь терпящим бедствие сапиенсам. И что солнечные зайчики! Экипаж «Ветреного» ринулся бы с дружескими объятиями в пекло Альционы, покажись она им тогда разумной! Как ни говори, взаимовыручка с молоком матери впитывается в кровь и жизнь землян…
Потом уже разобрались во всем. Когда заговорили «зайчики», впервые испытавшие страх, и экзохронные бездны отделили корабль от Альционы. Волосы встали дыбом от того, что они сгоряча напороли!
Ант провел рукой по лицу, как бы снимая раздражение, и бесстрастно сказал:
— Предлагаю каждому повторить для Оли наши аргументы. Начни ты, Айя.
— Хорошо. Но придется для связности закончить недосказанное вами, командир.
— Не возражаю.
Айя, как чуть раньше командир, молча покружилась по кабинету, пристроилась у стенки, выпрямилась, оттягивая двумя руками форменку за уголки воротника. Она изо всех сил старалась произвести впечатление, даже голос сделала бесцветным и монотонным, так что Оле на секунду показалось, будто Айя говорит на латыни — на языке рецептов и историй болезней.
— В искусстве альционцев был очень развит мотив свободы. Особенно свободы тела. Мечты о полете воплощались медленно. Катание с гор парашютные прыжки — парение в гравистатах. После выхода в Космос родился новый лозунг: «Пространство без звездолетов!» И на Земле многие недовольны крылатыми хижинами — самолетами, которые не дают иллюзии свободного плавания в воздухе. У альционцев эти мечты выросли в манию. Даже межпланетные скафандры с длительной автономией перестали удовлетворять жадное до ощущений человечество Альционы. Ну, а если есть спрос, рано или поздно появится предложение. Дошли до идеи граничных пучков, существующих одновременно в обычном и двухмерном пространствах, пучков, которым подвластны скорость и Время. Ну, тут и началось. Космическая эра! Беспредельные возможности путешествий! Покорение Вселенной! Короче, повальный переход в этих самых «зайчиков». Подростков привлекла новая игрушка, а сказать «Остановитесь!» оказалось, естественно, некому.
— Ну и?.. — Оля нахмурилась, медленно перевела взгляд с Айи на Анта, с Анта на Лешу. Леша вздохнул, глядя на догорающий неоновый карандаш, захлопнул планшетку:
— Жуткая картина! Это скорее по моей специальности, хотя точных предположений мы делать не смеем. И все-таки, если уж кому заниматься разгадкой, так, конечно, теоретикам Времени. Потому что поголовное перерождение всполошило всю Альционову околицу. Обычное пространство, сопряженное с двухмерным, временно деформировалось в пятимерное, чтобы сбросить излишки энергии. При этом их звездочка ухитрилась вывернуться наизнанку, и основная масса ее осталась там, в пятимерном. Тут уж стало не до свечения, лишь бы из астрономических тел не разжаловали! Такое пошло космотрясение — плакало их солнышко вместе с восемнадцатью миллиардами населения! Мы, правда, подоспели и пару сотен аборигенов запихнули в коробочку. А вот где сейчас остальные — сам Эйнштейн не разберется!
Айя покосилась на хрономеханика, она терпеть не могла его неожиданных ассоциаций, но возражать не решилась. А Леша достал из планшетки очередной листок, пустил его по кругу и закончил:
— Теперь у нас одна забота — куда их деть? Отправить обратно? Жалко. Подружились. Поселить на Земле? Но какая гарантия, что со временем они и наше светило не вывернут? Кому охота пережить наяву сказочку Корнея Чуковского?
Именно в этот момент Лешин рисунок из рук в руки приплыл к Гийому, и Оля наклонилась, рассматривая через плечо штурмана раздутого, светящегося изнутри крокодила. Крокодил бочком отступал от медведя, в котором без натяжки можно было узнать Анта. Для убедительности из уст лесного рыцаря вилась надпись: «Говорю тебе, злодей, выплюнь солнышко скорей!» В точности, как в старой детской книжке «Краденое солнце». Пока Оля рассматривала рисунок, на листок спрыгнул Пти и острым насмешливым пятнышком сосредоточился в уголке крокодильей пасти. У Оли создалось впечатление, будто пресмыкающееся показало им всем язык. Она подняла голову проверить, заметили ли остальные. Но все были невозмутимы.
— У тебя все, Зяма? Ничего больше не добавишь? — спросил Ант.
«Зяма» в его устах означало сейчас больше, чем просто детское прозвище. Ант намекал, что не одобряет Лешиного ухарства — легкомысленной его реакции на все случаи жизни, в том числе и весьма драматические. Ант как бы подчеркивал: что бы ни случилось, жизнь продолжается. Хватит отделываться шуточками. Никакие художества и выверты не помогут, когда приходит пора решать. По одному слову и интонации Оля безошибочно выявляла эти натянутые между ними тремя пружинки, которые иногда вообще позволяли им обходиться без слов.
— А что тут добавишь? — Леша пожал плечами. — Мне не улыбается спать в одной комнате с младенцем, играющим атомной погремушкой. Могу поручиться в том же за любого жителя Земли. Так что выносить вопрос на суд человечества — мертвый номер. Результат окажется единственный; вернуть гостей на то место, откуда их взяли, и попросить забыть к нам дорогу. Надо сказать, это будет еще достаточно мягкий приговор. А что делать? Изобиженные «зайчики» могут ведь и отомстить. Или, допустим, пошутить…
— Но ты же знаешь, это не так! Они добрые! — возмутилась Айя.
— Я-то безусловно знаю. Как и ты. Но рассуждаю от лица остальных землян, которые их не знают. К сожалению, кроме нас четверых, их не знает больше никто. А нам истину может затмить привязанность. Если хочешь, жалость. Но решать, милая, все равно нам…
— Дети. Надо же, дети! — протянула Оля. И все. И больше ничего. И подумала вдруг, могла бы она, мать, рискнуть Тошкиной жизнью ради чужих детей? И вопрос был не из тех, на которые можно ответить сразу.
— Да, дети! — подтвердил Ант. — Дети-боги. Двести прекрасных, всесильных и бездумных богов, чужих на нашей Земле. Со знаниями, до которых нам еще ой как далеко! Нет, это совсем-совсем не подарочек!
— Надо выпустить их! — перебила Айя. — В гуманоидном виде.
— Мы разве можем? — переспросила Ольга.
— Легче, чем ты превращаешь электронный сигнал в легкий ужин, — вполне сносно произнес Гийом.
— Тогда почему нам не позаботиться о том, чтоб Земля перестала быть им чужой?
— Да. А как?
— Надо подумать. — Оля встала, и тележка, восприняв это как сигнал к отъезду, укатила. Молодой женщине очень хотелось найти выход. Назло тугодумам-мужчинам, занятым больше физикой вопроса, чем психологией. Назло Айе, у которой нет и не может быть собственного мнения, пока она не испытает счастливой боли материнства. Даже назло себе, своим попыткам сходу разрубить узел. — По-моему, тут дело в том, чтобы каждому из них вернуть настоящее детство. Повторить новое детство на Земле. И чтоб обязательно с мамой. В семье…
Она покраснела. Судя по тому, как потеплели глаза Анта, истина лежала где-то близко.
— Мы подбирались к этой мысли, — тихо сказал Ант. — Разные семьи на всех материках. И матери тоже разные.
— Хорошие, — упрямилась Оля.
— Конечно же, хорошие. Но главное — разные!
Ант подошел к Оле, крепко обнял за плечи. И это опять значило много больше, чем он сделал и сказал. По крайней мере одно наверняка: вот у их Тошки мама вполне-вполне на уровне!
— Значит, все? Вопрос решен?
— Маленькая деталь, — Гийом поерзал на стуле. — Нам нужно моральное оправдание, почему мы вынуждены скрыть свой эксперимент от человечества?
Оля вопросительно взглянула на мужа.
— Штурман прав, — пояснил командир. — Какая же мать согласится воспитывать подкидыша наравне с собственными детьми? Либо не сможет до конца скрыть — не брезгливость, нет, — настороженность к чужеродному малышу. Либо заласкает хуже, чем на его родной планете. И уж, разумеется, не шлепнет лишний раз, даже если ребеночек по земным меркам этого сильно заслуживает. Иными словами, возникнет проблема доброй мачехи. А мы должны заведомо исключить исключительность. Не беречь их от малых горестей — от ожогов, заноз, падений и шлепков. То есть от того, чем обделила их Альциона. Напрашивается вывод: матери не должны знать об их происхождении. Соседи любой степени отдаленности тоже. Следовательно, никто-никто на Земле…
— А сами они? — не выдержала Айя.
— Тем более! — жестко ответил командир. — Им хватит забот с теми генетическими особенностями, которыми они несомненно отличаются от землян. Но тут, я полагаю, найдется достаточно желающих объяснить отклонения мутациями. А к совершеннолетию мы предоставим им информацию, которую имеют сегодня «солнечные зайчики». Но она належится на сформировавшуюся, общественно полезную личность. За ними останется право выбора: отдать новой родине знания и неизвестные нам таланты или вернуться в Плеяды искать соплеменников. Сегодняшняя субпространственная одежка и тогда будет им впору, и, может быть, им суждено будет заново организовать свой разбросанный по Вселенной народ. Во всяком случае «зайчики» уйдут друзьями, оставив у нас на Земле сердца.
— А они согласятся? — Оля робко взяла в руки коробочку — ненадежное жилище для двух сотен богов, принятое ими в качестве добровольного и совершенно условного места обитания.
— Попросим ответить гостя! — Гийом озорно подмигнул Ольге. — Пти! Эй, Пти!
Пти войти в контакт не соизволил. Прикорнув на потолке, он по всем признакам дремал.
— Тут такая петрушка получается! — Леша с сожалением отложил потускневший карандаш. Он разучился говорить, не рисуя, но коли начал, приходилось заканчивать. — Когда мы их нашли, они были почти без сознания от страха. И очень обрадовались, что кто-то примет за них решение, к чему они природной склонности не имеют. Переложив на нас ответственность, они снова поуспокоились и могут без зазрения совести резвиться.
Зямчиков хотел еще кое-что добавить, но вдруг зажал рот обеими руками, покраснел и несколько раз взглянул на потолок.
— Не в то горлышко попало? — Айя заботливо стукнула его ладонью по спине.
— Фу, черт! Он говорит, что доверяет нашему разуму. Что еще один такой приступ страха попросту сведет их с ума. Они вынуждены изгнать страх из диапазона своих чувств. Кроме того, им больше не хочется быть детьми.
— Ты о ком, Леша?
Зямчиков повернулся к Оле и сердито пояснил:
— О Пти. О ком же еще?
— Это н-называется из м-мозга в мозг? А почему он не э-захотел с-сказать всем? — язвительно спросил штурман.
— А п-потому, — передразнил Леша, — что мой мозг ему больше подходит!
— Насколько я понял, что бы мы ни предложили, все им придется по душе? — уточнил Ант.
— Если, разумеется, в т-таком т-тельце есть д-душа! — мстительно проворчал Гийом.
Все давно стояли кружком и ждали последней точки, завершающего спор штриха. Ант, все еще сгорбившийся, несвободный, внутренне закрученный вдруг потер указательным пальцем переносицу и медленно произнес:
— Надеюсь, мы поступаем верно. А иначе какие права у нас пятерых распоряжаться судьбами двух цивилизаций?
Никому не хотелось снова начинать разговор, и взгляд его натыкался на одинаковые чуть виноватые улыбки друзей. Мысли как-то сразу разбежались. Оля поймала себя на том, что Айя слишком пристально смотрит на командира; конечно, не дело это — такая вот симпатичная девочка уже два года летает с Антом, а за такой срок мало ли что может быть между ними! Но вдруг сама себя устыдилась и громче, чем это вызывалось необходимостью, сказала:
— Что же, разве-мы здесь — не человечество? Каждый человек — атом человечества. И все, что полагается целому, он должен носить в себе всегда!
— Лучше, пожалуй, не скажешь! — Командир выпрямился, и все облегченно вздохнули.
Дело было не в том, что Оля заново открыла кому-то глаза на мир. Каждый в принципе думал так же. Но важно, чтобы кто-нибудь рядом вслух повторил твои собственные мысли.
Ант открыл коробку и выпустил зайчиков пастись по стенам кабинета. Пти радостно прыгнул им навстречу.
* * *
По середине мостовой брела девушка с сумкой на длинном ремне. Транспорта было еще мало, и ей никто не мешал.
— Нонка! — окликнули ее.
Девушка подняла голову, долго всматривалась и вдруг заулыбалась:
— А, Оля! Я так задумалась, никого не вижу. На работу?
— Конечно. А тебя уж я не спрашиваю…
— И напрасно. Это мое вечернее дежурство так затянулось…
— Что случилось?
— И не говори! Ужасная ночь. Вся Снегиревка буквально спятила.
— Да в чем дело, наконец?
— Устала я смертельно. С ног валюсь. Представляешь, двадцать четыре пары близнецов принять! Причем ни у одной мамочки врачи не предсказывали второго ребеночка!
— Невероятно!
— Что ты! Аркадий Иванович, когда его из постели вытащили, рвал и метал. Я, говорит, этого так не оставлю. Добьюсь, говорит, чтобы всех послали на переквалификацию!
— А малыши? В порядке?
— Здоровые розовые сосунки! И знаешь, смешно просто: в каждой паре один обязательно синеглазый. Да еще такой, с нестерпимым блеском — будто неоновые солнышки. Я прямо иззавидовалась!
— Ой, неужели и у меня сегодня такое случится?
— Оля, я тебя не узнаю. Врач-межзвездник — и вдруг близнецов испугалась!
— Да не испугалась я вовсе. Просто так… Пока, Нонка!
Они разошлись. Нонка задумчиво понесла дальше свою сумку, качая ее на длинном ремне. Но вдруг обернулась:
— Да, забыла спросить: уходишь скоро?
— В следующий рейс. Ант сказал, на этот раз — обязательно!
— Счастливая ты. Опять будете вместе. Ну, всего тебе!
— Спасибо. Береги малышей.
— Чего?
— Близнецов, говорю, не забывай. И их мамочек тоже.
СЛОВО — МОЛОДЫМ
Евгений Филимонов В ПУТИ
Мать как следует закутала малыша, и они вышли в темноту. Пригород замолкал к ночи, лишь в непроглядном отдалении без устали лаял какой-то сверхбдительный пес. Они прошли по ступеням из плитняка. Впереди в слабом свете одиноких фонарей брезжил длинный тротуар вдоль широкой грунтовой дороги. Малыш, как всегда, шел впереди: задрав голову, он всматривался в черное небо.
— А на той картинке не так. — Он внезапно обернулся к матери, и та чуть не споткнулась о маленькую фигурку. — Там нарисованы такие точечки. С такими острыми иголками.
— А-а, вот ты о чем. Это очень старая книжка. Так изображали звезды. С лучиками.
— Звезды? — Малыш не понял, он даже остановился. — Ты мне никогда об этом не рассказывала.
Женщине не хотелось пускаться в длинные объяснения.
— Еще расскажу. Завтра, когда включат день.
— В той книжке написано, что день не включался, а наступал.
— Это почти одно и то же. Вообще зачем ты взял эту книжку? Папа ее очень бережет, он будет недоволен, когда узнает.
— Я сам ему скажу. Пускай он расскажет, раз ты не хочешь…
Некоторое время шагали молча вдоль хмурых спящих домов, еле угадываемых в окружающем мраке. Но малыш не мог долго безмолвствовать.
— И они — светились?
— Кто — они? — Мать уже потеряла нить разговора, углубившись в свое. Ах, звезды! Да, конечно же. Только света давали очень мало.
— Меньше, чем эти фонари?
— Гораздо.
— Меньше, чем лампы в теплицах?
— Куда там.
— Меньше, чем дневные светильники?
— Ни в какое сравнение не идет.
Малыш задумался.
— И от них не было никакой пользы?
Он привык к тому, что все вокруг так или иначе служило полезной цели, было на строжайшем учете — тепло и свет особенно.
— Никакой, сынок, — рассеянно отозвалась мать.
— Все равно… — малыш вздохнул. — Это, наверное, было красиво.
— Не знаю. Уже давно нет тех людей, которые их видели. Там их было много.
Она неопределенно махнула рукой в сторону тусклого зарева над горизонтом, в котором льдисто обозначались бессчетные прозрачные остовы теплиц. От светящегося облака уходил в зенит тонкий, еле различимый лучик. Слегка журчала вода — в теплицах включили дождь.
— А что это? — Малыш спросил о лучике.
— Это наш инверсионный след, — ответила мать механически.
— Инве… инне..?
— Этот след мы оставляем за собой, когда летим в пустоте.
— Но мы же никуда не летим!
Малыш рассердился. Он подумал, что его дурачат, такое случалось.
— Тебе так кажется, малыш. На самом деле мы летим. С ужасной, огромной скоростью. Мы на это тратим почти всю свою энергию. И все, наверное, зря.
В голосе ее малыш уловил привычную, сдерживаемую горечь — горечь взрослого человека.
— Почему — зря? И зачем нам лететь? Нам ведь и так хорошо.
— Нет, маленький. Мы улетели, чтобы спастись. Там, где мы были раньше, все должно было погибнуть — солнце, звезды, весь мир, все-все.
— О-о! Мы вовремя убежали?
— Да, малыш. Но теперь у нас на исходе энергия. А нужно добраться во-он до того пятнышка. Оно называется Вторая метасистема.
Мальчик увидел над кровлей дома бесплотное струение света.
— Мы на полпути туда. Вся наша энергия уходит на движение — вот почему вокруг так холодно и темно. И теперь некоторые люди думают, — а может, не надо вообще лететь?
Женщина вдруг поймала себя на том, что рассказывает сыну о серьезных, малопонятных вещах.
— Они говорят — давайте прекратим ускорение, нам все равно не достичь светового порога. Давайте сделаем небольшое солнце, вроде того, что взорвалось там. Его хватит на тысячи лет. Поживем как люди, а не как кроты.
— Солнце? Это, наверное, хорошо?
— Хорошо, сынок, но тогда мы не долетим. То есть долетим, но слишком поздно. Солнце выгорит, и здесь, на Земле, тоже все остынет. И туда долетит одна лишь мертвая ледышка.
Светлое пятнышко все так же неотступно стояло в высоте.
— А там?
— А там прекрасно, малыш. Это молодая вселенная, полная ослепительных, горячих звезд. Мы выберем себе хорошее солнце, с привольными зелеными планетами, будем жить там, позади останутся эти столетия тьмы. Мы не погибнем…
Голос матери прервался. Вдали, в смутном проеме надземной станции показалась мужская фигура. Мальчик припустил к ней и повис на шее.
— Пап, мама мне все рассказала! Ты, наверное, ничего не знаешь, Мы все летим! К звездам! Энергии не хватает!
Отец посадил мальчика на плечи и улыбнулся жене.
— Не забивай голову ребенку. В семье достаточно одного сторонника движения.
Но малыш был переполнен только что узнанным.
— А когда мы долетим, па? Когда?
— Когда ты станешь большим. — Шум дождя в теплицах резко прекратился. Если только хватит пороху. Если придумаем, как из всего этого выкрутиться.
— Придумаете. — Малыш свято верил в отца и его товарищей. Муж и жена невесело улыбнулись.
— Не уверен. И тогда вся надежда на тебя, малыш. Уж ты-то не подведешь!
Отец шутил, как всегда. Но мальчик уловил что-то, — а может, ему показалось, — что-то вроде отчаянной, глубоко запрятанной надежды в голосе сильного, большого человека. И посмотрел на пятнышко света новым взглядом, как бы оценивая расстояние, которое еще надо пройти.
Только не останавливаться на полпути! Не теряться, не растрачивать сил впустую! Дальше, к звездам!
Алан Кубатиев ШТРУДЕЛЬ ПО-ВЕНСКИ
Сразу оговорюсь — я не стесняюсь ничего.
В конце концов если женщины вторглись чуть ли не во все области жизнедеятельности, испокон веков принадлежащие мужчине, то почему бы и нам не попробовать?
Разумеется, речь идет не о платьях с оборками. Речь идет о другом…
В нем нет ничего необычного. Мало ли мужчин занимается этим вполне профессионально. Даже Александр Дюма не подпустил своих «негров» только к одной книге.
Но я созидаю не так.
Только для себя.
В крайнем случае для двух-трех избранных друзей, которые сумеют оценить и дерзкий взлет авторской фантазии, и тончайшее соблюдение древних традиций.
Я творю вдохновенно.
Творчество проходит три стадии: созидание, сервировка и вкушение. Еда! — варварское, грубое слово! Урчание кишок, сопение, чавканье…
Фу!..
Нет, именно вкушение. Наслаждение произведением искусства, более земного и сложного и более необходимого, чем все искусства мира.
Я один из немногих, кто сознает это.
У меня мало единомышленников даже среди тех, кого объединяют прославленные своей кухней светские клубы. Их связывает скорее снобизм, чем истинная страсть.
Даже Брийя-Саварен вряд ли понял бы меня до конца. Как общественный деятель, он скорее пытался проанализировать социальное значение гастрономии, чем ее духовное содержание, то богатство ощущений, ту симфонию чувств, которую способен познать лишь человек, чей интеллект и эмоции находятся в радостной и спокойной гармонии.
Мало кто знает мир с той стороны, с какой знаю его я. Он открывается мне через сытную тяжесть итальянской пиццы и плывущую сладость редчайшей дыни «волчья голова», через тонкую маслянистость икры морских ежей и нежное японское сасими, через варварскую пышность и остроту французского буйябеса, через филистерскую, грубую вещность сосисок с капустой, через непередаваемый вкус бульона из ласточкиных гнезд, который готовят в Катоне. О, как много сумела бы дать нам восточная кухня, если бы мы захотели у нее учиться!
Именно поэтому я и принял приглашение на прием в честь какого-то там посла, которое мне прислал Герре. Он, видимо, надеялся, что в ответ на эту любезность я проконсультирую его повара. Но ему пора бы усвоить, что я не едок, а знаток.
Прием был невыразимо скучен, лишь стол доставил мне веселую минуту. Более омерзительного салата с цветами «хуа-хуцзин» и ростками бамбука я еще не пробовал. Всего-навсего чуть больше перца и… Ужаснее всего, что остальные поедали эту мерзость!
Моя душа прямо-таки рванулась к человеку, стоявшему возле колонны. Мне показалось, что на лице у него было то выражение, которое я тщательно маскировал улыбкой. Лишь подойдя поближе, я понял, как я ошибался, — ему просто было скучно.
Слэу заметил меня, когда я повернулся, чтобы уйти, и узнал меня, потому что я не успел скрыть, что тоже узнал его. Поставив тарелку — о боже, и он жевал этот салат! — он дотронулся до моего локтя.
— Весь вечер пытался вспомнить, где мы могли встречаться. Ну конечно же, Танжер!
Пришлось протянуть ему руку. Увы, но раз его тогда пригласили к Герре… Скрыться мне уже не удалось, и я с большой неохотой припомнил его.
Мы столкнулись в Танжере, когда я путешествовал по Африке. Одна из самых неудачных моих поездок — при любом напоминании о любой из африканских стран во рту появляется непереносимый привкус пальмового масла… В отеле мы жили в смежных номерах, и он то и дело попадал ко мне а самые неподходящие минуты, совсем как сейчас — ключи были одинаковые. Человек он достаточно известный, но поразительно не интересный. Удивительно, что я запомнил его имя.
Я с грустью вспоминал мавританскую кухню, которая совершенно выродилась, пропитавшись консервативными европейскими традициями, и делал вид, что с интересом выслушиваю Слэу.
Подали сладкое: но я отсюда видел, что сливки плохо взбиты, а для бисквита с земляничным кремом выбрана самая неподходящая мука. Усмехнувшись в душе, я взял с подноса бокал сносного шерри и вдруг услышал:
— …Решил, что лучшего эксперта, чем вы, мне не найти.
— Простите, о чем вы? Я на секунду отвлекся, — пришлось сказать мне с любезной улыбкой.
Он хихикнул и потер ладонь о ладонь.
— Я очень хорошо помню, как мы случайно встретились с вами в «Гранаде». Вашу вдохновенную речь о культуре еды, истинной и мнимой… — Слэу вкрадчиво заглянул мне в глаза.
Хотя его уровень стал мне совершенно ясен, после того как он сказал «еда», но то, что он помнил мои слова, было довольно лестно. Сам он что-то говорил тогда о химизме и механизме вкусового восприятия и тому подобную чепуху. Конечно, с колокольни его… биохимии, кажется, мир для него сведен к комбинациям органических молекул.
Я уклончиво ответил:
— Видите ли, господин Слэу, я всего лишь дилетант, и полагаться на мои советы…
— О нет, — перебил он меня, всплеснув руками, — вы недооцениваете себя и свои качества! Во-первых, насколько мне известно, слово «дилетант» происходит от итальянского «дилетто», что значит «удовольствие». Что плохого в том, чтобы получать удовольствие от своих занятий? Это стимулирует деятельность человека в любой сфере! Во-вторых, такой дегустационный аппарат, каким наделила вас природа и опыт, сродни гениальному дарованию. Это правда, что вы различаете до девятисот оттенков любого вкуса?..
— Девятьсот двадцать, — поправил я с должной скромностью. Теперь Слэу интересовал меня чуть больше, чем в начале нашей встречи.
Расстегнув пиджак, он сунул большие пальцы за брючный ремень, как ораторствующий политикан. Фи!
— Вы знаете, господин Тримл, — доверительно нагнулся он ко мне, — ваша речь сделала для меня больше, чем все речи, которые я когда-либо слышал, много больше — она нажала кнопку… — говорил он, тараща глаза и обдавая меня запахом этого ужасного салата и риса с тушеными осьминогами. — Едва ли не единственное, что нужно для ученого моего типа, — чтобы кто-то или что-то нажало кнопку…
— Боюсь, что я не очень ясно представляю, о чем идет речь, неприступно сказал я, стараясь чуть отодвинуться в сторону.
Слэу непонимающе посмотрел на меня:
— А разве я не сказал вам?
Я пожал плечами.
— Это даже интереснее, — внезапно сказал он, махнув рукой. — Вы разрешите мне пригласить вас к себе домой? Мне хотелось бы кое-что вам показать…
У него был вид человека, которому можно поверить, но я все же заколебался — любое доверие в наши дни должно иметь четкие границы.
— Это отнимет совсем немного времени, — настаивал он. — Для вас это может оказаться очень интересно, а для меня это крайне важно!
В нерешительности я оглядел зал. Гости уже собрались тесными кучками, обсуждая те дела, которые вершатся на подобных приемах. Мне пора было уходить, и когда я увидел, что пьяный доктор Арто, увы, мой родственник, сидевший пригорюнившись около эстрады, раскачиваясь, направляется в мою сторону, то сказал Слэу:
— Хорошо. Я согласен.
Слэу просиял и хлопнул меня по плечу. Фи!
— У меня внизу машина, пойдемте скорее…
Увернувшись от проспиртованной туши доктора, которого мне в противном случае пришлось бы везти домой, я пошел за Слэу.
Когда швейцар назвал в уоки-токи мою фамилию и подкатил мой «Астор», я велел Бенвенуто ехать домой, а сам уселся в довольно потрепанный «Мормон» профессора Слэу. Вряд ли ему было не по средствам нанять человекошофера: видимо, некий культурный демократизм заставлял его обходиться автоматом.
Дом его был двухэтажным кошмаром, стилизованным под альпийскую хижину. Внутри он выглядел несколько уютнее и элегантнее, и я даже почувствовал нечто вроде симпатии к хозяину, когда увидел в старинном дубовом шкафу английский столовый сервиз прекрасного серебра и очень тонкой работы. Супница была просто чудо; изящной и строгой формы, с литыми подчерненными медальонами по бокам. Но хозяин тут же разрушил очарование минуты. Проследив мой взгляд, он ухмыльнулся и сказал:
— Проклятие для прислуги. Ее нужно поднимать вдвоем, если не втроем. Причуды моей бывшей жены. Почти все в этом доме ее причуды…
Фи! Я тут же спросил его:
— Так о чем же вы хотели говорить со мной, господин Слэу?..
— Видите ли, господин Тримл, — ответил он, доставая из бара плебейского вида графин с виски и пару стаканов, — сначала я попрошу вас… э-ээ… отведать несколько блюд и сказать, насколько они соответствуют нормам высокого кулинарного искусства…
Я не сдержал все же ядовитой реплики:
— Тогда вам не следует угощать меня этой водкой. Она обжигает вкусовые сосочки, и после нее можно посчитать лакомством даже опилки!
Не уловив, очевидно, всей иронии, доктор Слэу тут же встал:
— Прошу извинения, но я оставлю вас на несколько минут. В доме никого нет, так что все придется сделать мне самому.
Он стремительно удалился, и я не успел спросить, чего же конкретно он ждет от меня.
Кто он такой? Кулинар-маньяк или маньяк-кулинар? Непохоже. Неумный шутник? Не думаю. Он говорил совершенно серьезно, даже с извиняющейся улыбкой. Соломенный вдовец, изнемогающий от одиночества?
Слэу вернулся, не дав мне прийти к какому-либо выводу. В руках он держал поднос, накрытый сверху марлей. Я ужаснулся, но когда он откинул ее и стали видны блюда, я ужаснулся еще больше.
Судя по виду, в первом было прекрасное свежее мясо, неумело и грубо затушенное в винном соусе. Во втором дымился пивной суп с клецками, морковью и горошком. И в нем, бог мой, в пивном супе, плавал лавровый лист!.. Что лежало в третьей тарелке, я не видел — она была накрыта сверху металлическим колпаком, — но среди запахов отчетливо различался аромат горячего яблочного пирога, в котором в чудесной пропорции было смешано нужное количество ванили, корицы, сахара и — замечательно — несколько капель рома. Я восторженно обонял, и это благоухание помогло мне увидеть теплое, пушистое, как тельце цыпленочка, бисквитное тесто, желеобразную, разомлевшую в жару начинку…
Усевшись напротив, Слэу наблюдал за выражением моего лица. Затем решив, что увертюра сыграна, он сделал рукой горделиво-приглашающий жест:
— Прошу вас, господин Тримл. Попробуйте, вот ложки, и скажите, что вы об этом думаете.
Больше для приличия попробовал я весь этот натюрморт, не считая нужным на сей раз скрывать выражение своего лица: я имел на это право. Мое первое впечатление тут же подтвердилось. Мясо было неплохое, но совершенно испорченный гарнир и дикарское приготовление… Пивной суп вполне годился бы для непритязательного гастронома, но лавровый лист!
И только штрудель, восхитительный штрудель, штрудель по-венски, был прекрасен, свеж и чист, как поцелуй ребенка. В нем не было ни одного изъяна.
— И вы сами создали это? — несколько бестактно спросил я.
Доктор Слэу, вздохнув, улыбнулся и непонятно сказал:
— Вы и не представляете, как верны ваши слова…
Муза кулинарии внушила ему идею достать из бара бутылку сухого мозельвейна. Не удержавшись, я просмаковал еще ломтиках, штрудель!
Хозяин же долил себе виски, сжал стакан в руке и принялся кружить по обширной гостиной, то и дело спотыкаясь о ковер. В этом прекрасном доме он казался совершенно чужим.
Он ходил и ходил, и вдруг из него прямо-таки хлынули слова.
— Знаете, господин Тримл, считается, что время ученых-одиночек прошло. Верно — и неверно, как любая истина, которую пытаются утвердить в качестве абсолютной. Есть мысли, гипотезы, идеи, стремления, способные вдохновить человека настолько, что он обретает невероятную целеустремленность, которая, в свою очередь, дает невероятные силы…
Теперь он был настолько мне приятен, что я согласен был выслушать все, что бы он ни сказал. Огромные часы в футляре из резного дуба мягко и басовито пробили одиннадцать.
Грустно покачав головой, Слэу сказал:
— Именно так они звонили в тот вечер, когда я наконец понял, чего хочу от себя… Не помню, как и почему, но в тот раз я заехал на самую окраину Цеховых Кварталов, к Печной Трубе.
«Брр-рр!» — я вздрогнул и налил себе еще мозельвейна.
— Среди этих… домов из жести, старых ящиков, будок из горбыля и мешковины я петлял около часа и уже отчаялся выехать к реке, когда еще машина отказала. Промучившись с ней полчаса, я наконец догадался взглянуть на счетчик. Оказалось, что всего-навсего кончился бензин! Неподалеку стоял фургон Департамента Трудовых Ресурсов, и шофер продал мне пять литров, чтобы хватило докатить до бензоколонки. То, что я не спросил сдачу, сделало его разговорчивым и доброжелательным, и он сказал мне, кивнув на длинную очередь, стоявшую за его фургоном: «Во, гляньте! Тоже заправки дожидаются!» Я часто видел в городе эти серебряные гиганты с красно-белой эмблемой «ДТР», но никогда не интересовался, для чего они предназначены. Видите ли, в них развозят еду и одежду в районы с низким жизненным уровнем. Для многих это единственный источник существования от рождения до смерти, которой не всегда приходится долго ждать, — пища омерзительна. Шофер с кладбищенским юмором поведал мне, что среди этих «ГИ», государственных иждивенцев, смертность от желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений достигает сорока процентов…
Этому надо было положить конец.
— Простите, — перебил я с легкой досадой, — а зачем вы мне это рассказываете? Я тоже не знал об этом и не желаю знать!
— Простите, господин Тримл, — упрямо сказал он, — но эти вещи знать необходимо. Иначе вам будет нелегко понять…
Для сохранения душевного равновесия мне пришлось отведать еще ломтик штруделя и выпить глоточек мозельвейна.
Слэу продолжал, устало погрузив лицо в ладони:
— Когда я вернулся домой, мне пришлось воспользоваться снотворным, потому что уснуть я не мог. На меня неотвязно глядели серые лица, я видел истощенных детей с кривыми ножками, вспоминал голодающих в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, мимо которых прошел, отделавшись подачкой… И на следующий день я вдруг вспомнил вашу речь, тогда, в Танжере. Вы говорили о том, что уровень истинной культуры можно распознать только по отношению к еде, не так ли?
— Не совсем так. Я говорил, что избыточность и грубость еды есть признак недостаточной духовной культуры нации, на каком бы этапе развития материальной культуры она ни находилась.
— Да, вот именно, — кивнул он и замолчал, съежившись в кресле напротив меня.
Через несколько секунд он снова поднял глаза. Красные, отчаянные и горестные, они так не вязались с его респектабельным видом!
— Но о какой культуре, духовной ли, материальной, может идти речь, если человек просто подыхает с голоду, если он вынужден жевать отбросы, траву, а в двухстах метрах от него магазины ломятся от жратвы? — пронзительно выкрикнул он, ударив кулаком по столу. Фи!..
— И тогда, — продолжал он уже спокойнее, — я начал работу, которая потребовала четырех лет жизни и половины моего состояния, а могла забрать все…
Он вдруг начал рыться в карманах, нашел футляр с ключами и выбрал один — причудливое бронзовое кольцо, массивный стальной стержень со сложной бородкой. Поднявшись, он пошел к шкафу с сервизом.
Я не старался подсматривать, но все, что он делал, отражалось в темном экране огромного стереона, стоявшего передо мной.
На панелях шкафа была тонкая резьба из стилизованных цветов. Нажав левой рукой на лепесток деревянного тюльпана, он вставил правой ключ в сердцевину огромного георгина в центре орнамента и повернул его три раза вправо и один раз влево.
Черный дубовый шкаф, полный металла и фарфора, вещь неподъемной тяжести, обернулся вокруг оси легко и точно, как балерина. И на меня ощутимо задуло холодным ветерком.
— Это готическое подземелье, — сказал Слэу, посмеиваясь, — досталось мне в наследство от прежнего владельца. В этом бывшем бомбоубежище есть вентиляция, вода, освещение и некоторая меблировка. Все это мне весьма пригодилось, когда я покинул университет…
Не знаю почему, но я не испугался даже тогда. Видимо, потому, что Слэу — как я сейчас понимаю, большая редкость в наше время — с доверием относился к любому человеку, особенно в начале знакомства. Он уже считал меня давним другом… И если я рисковал, то не больше, чем в Японии, когда меня угощали сасими из рыбы, которая иногда оказывается смертельно ядовитой. Только смельчака вознаграждало нежнейшее мясо.
Спускаясь вслед за хозяином по винтовой лестнице, я испытывал то же самое ощущение.
Но там меня ждало невыразимо скучное зрелище. Толстые полки, заставленные уродливой лабораторной посудой и банками с химикалиями, какая-то аппаратура, штативы, циферблаты, стрелки, змеевики, провода… Подземелье было достаточно просторным, а всего этого было так много, что я сперва не заметил «Фелисити», стоявшую подле вытяжного шкафа, и целую полку справочников.
Но моя уверенность была непоколебима; даже на «Фелисити», прекрасной электронной плите с блоком автоматического и ручного управления, набором программ и памятью, нельзя было создать такой шедевр, какой я вкушал минуту назад. Для этого, кроме первоклассных исходных материалов и высокого мастерства, необходимо было то отношение к кулинарии, которым наделен я. А справочники… Рецептов гениальности там нет.
— Первое время она была мне помощницей, — сказал Слэу, ласково похлопывая «Фелисити» по корпусу. — Мои лаборанты наверху были уверены, что я слегка помешан на почве гастрономии, но исправно пожирали все, что она делала…
С дружеской фамильярностью он взял меня за локоть:
— Скажите, дорогой Тримл, вы в самом деле уверены, что съели, то есть попробовали, неплохой обед?
— А что же еще? — саркастически спросил я. В подвале было прохладно, пронзительно пахло чем-то кислым, и мне хотелось поскорее уйти. Я не понимал, зачем он приволок меня сюда.
— Дело в том, что теперь я несколько более уверен в успехе своей работы, — довольно сказал он, глядя на плиту, — если даже вы ничего не заметили.
— А что я, по-вашему, должен был заметить? — насторожившись, спросил я.
— За двадцать четыре часа я могу изготовить сто сорок таких обедов из пятидесяти трех разнообразных блюд, — так же довольно сказал Слэу. — Для этого мне нужно только от полутора до двух тонн городского мусора без металлических и стеклянных включении, или восемь тонн древесных отходов, или… Ну, а общем, это уже детали. Гораздо важнее другое — что я провожу этот синтез не в громоздких реакторах, а в сравнительно компактной установке, и не через двести прогнозированных лет, а сейчас, сию минуту, ту самую минуту, когда на земле умирает от голода два человека!..
Я почти не сознавал, о чем он говорит. Это был удар.
Если в «Марокко» узнают, что я, Леонард Тримл, вкушал синтетическую пищу!.. Боже мой!.. Весь клуб отвернется от меня. И что самое ужасное, в том числе три моих лучших друга, с которыми меня спаяла общая, давняя и чистая страсть. Они не простят мне осквернения наших идеалов! А когда писаки пронюхают, что мне не удалось отличить лжепищу от истинной, да еще раструбят об этом в своих мерзких газетах, можно будет умереть. Больше мне ничего не останется…
А Слэу, этот мошенник, этот подлец, хлопал меня по плечу своей ошпаренной кислотами лапой и разглагольствовал вовсю:
— Конечно это было трудно, и сейчас полно крепких задачек, но главное достигнуто, а те я добью, будьте уверены, вот запущу машинку на полный ход — вы представьте, сколько проблем будет сразу решено, а чтоб эти чинуши немного пошевелились, завтра же созову пресс-конференцию — в свое время газетчиков очень заинтересовало, почему нобелевский лауреат оставил кафедру, — когда покажу им, почему, они взовьются, обе всем я, конечно, не расскажу…
— Постойте! — жалко вскрикнул я, не желая расставаться с последней иллюзией. — Неужели даже штрудель, великолепный, нежный и прекрасный штрудель, был всего лишь подделкой?..
Слэу засмеялся. О, как я ненавидел его в эту минуту!
— Мой бедный Тримл, — протянул он с отвратительной фамильярностью, — я понимаю, вам грустно, хоть вы и удивлены. И да, и нет! В нем есть еще некоторые примеси, которых нет в природных материалах, но они безвредны и обнаруживаются только лабораторным путем. Вот пойдемте-ка со мной…
В полной уверенности, что я покорно следую за ним, он энергично помчался к «Фелисити». Когда он снял переднюю стенку, я увидел, что вместо пульта управления и диска набора программ под ней было грубо и поспешно смонтировано что-то хаотичное, незнакомое и дико сложное.
И это надругательство над беззащитным и полезным аппаратом переполнило чашу моего терпения.
Меж тем Слэу отворил выкрашенный синей краской люк, расположенный слева от машины. Справа от нее был такой же люк, но замазанный красным суриком. Сняв пиджак, он защелкал переключателями. За стеной, в которую была вделана бедная «Фелисити», возникло ровное густое гудение.
Взяв совковую лопату, Слэу открыл дощатый ларь и принялся с ухватками заправского кочегара швырять в синий люк… опилки! Лопату за лопатой! С него капал пот, но он все время говорил:
— Тут одна из… главных загвоздок… по части механики… Уфф! Ну ничего, при поточном процессе наладим конвейеры…
Гудение стало тише… За стеной возник лязг и жужжание, потом раздался звонок, на панели вспыхнула красная лампочка, и Слэу проворно бросился к красному люку, схватив поднос.
Люк поднялся вверх, скрипнув петлями, но я уже не мог смотреть. Раздались мягкие удары и новый скрип и лязг. По запаху я догадался, что это штрудели.
Но теперь их аромат казался мне тошнотворным.
— Вы можете попробовать любой! — торжественно провозгласил Слэу. Ручаюсь, что не отличите от того, который вы уже…
— Нет-нет, — поспешно забормотал я. — Это потрясающе, но я… Мне что-то плохо…
Посерьезнев, Слэу взял меня под руку и повел к лестнице:
— Не волнуйтесь, дорогой Тримл, вас, наверное, сморило в подвале. Требуется некоторая привычка, чтобы долго пробыть здесь.
Наверху в гостиной он усадил меня в кресло, налил мне бокал и вытащил откуда-то флакон таблеток «Гип-Гип».
Когда мне стало лучше, я сел прямее и сказал:
— Доктор Слэу, но это же преступление.
Кажется, он не поверил своим ушам. Мотнув головой, будто его ударили по щеке, он сдавленно спросил:
— Преступление, сказали вы?..
— Да, преступление, — непоколебимо подтвердил я, глядя ему прямо в глаза. — Вы навсегда закрываете человеку один из путей к совершенствованию — возможность стать над грубой сытостью и радоваться тому прекрасному, что можно извлечь из примитивного процесса насыщения, возвеличить свой дух. Вы уничтожаете искусство, заменяя его штамповкой!..
Он выслушал меня до конца, и когда я остановился, чтобы освежить пересохший от гнева рот глотком вина, спросил:
— Господин Тримл, это правда, что с прошлого месяца вы стали одним из Сотни?..
— Какое это имеет значение? — холодно спросил я.
— Большое, — так же холодно ответил он и усмехнулся. — В Сотню входят семейства, насчитывающие одиннадцать поколений бизнесменов, ведущие свой род от первопоселенцев и обладающие состоянием не меньше трех миллионов. Вы никогда не голодали, Тримл, разве что в лечебных целях. Я вырос в семье, где было семеро детей и не было отца. Первый раз я наелся досыта в пятнадцать лет.
Я попытался перебить его, но он удержал меня резким, повелительным жестом:
— Вы маскируете свое стремление к постоянной сытости, Тримл. Вы рядите его под любовь к искусству!..
Он вскочил, не в силах больше оставаться на месте, и подошел к окну, за которым клубилась ночь.
— Боже, — сказал он с неожиданной тоской, — почему всегда было и есть столько людей, которые живут, только чтоб жрать, спать, надевать на себя тряпки? Неужели это испытание, призванное отсеивать тех, кто не сможет всем этим пожертвовать? Нет, я поломаю…
Откуда у меня взялись силы и почему я поступил именно так — не знаю.
Но это я взлетел с кресла, схватил за ручки серебряную супницу, взметнул ее и с незнакомой силой обрушил на залысый, ненавистный затылок…
При всей моей хрупкости я выгляжу внешне крепким и румяным — это такое же следствие моего увлечения, как ожоги от паяльника на руках радиолюбителей; и я не понимаю, как мне удалось стащить его вниз, по лестнице, поднять и сунуть в синий люк, в гудение и звякание.
Пока я стоял, пытаясь отдышаться, и вытирал руки носовым платком, знакомо взвизгнул звонок, сверкнула красная вспышка, и из люка, рассыпаясь на бетонном полу, один за другим повалились яблочные пироги.
В последнем торчал ключ. Красивое бронзовое кольцо на стальном стержне с причудливой бородкой.
На улице я почти сразу увидел автомат для вызова роботакси. Когда машина подъехала, набрал шифр своего квартала, растянулся на сиденье и устало закрыл глаза.
Есть вещи, о которых здравомыслящий человек никогда не пожалеет, даже если они дорого ему стоили.
Я никогда не пожалею о докторе Слэу, но штрудель! Прекрасный, сладостный, упоительный штрудель!..
Александр Силецкий ЦВЕТОЧНАЯ ЧУМА
Спроси его кто-нибудь: почему так случилось? — он вряд ли бы толком ответил. Но факт оставался фактом — Старший Инспектор Боярский с первого дня невзлюбил эту планету. Беспричинно, вопреки, казалось бы, всему. Больше того, присутствие на ней угнетало его настолько, что он вдруг покорно, утратив привычный контроль над собой, отдался во власть смутных подозрений, тупого беспокойства и прочей чепухи. И потому, когда настало время делать запись в вахтенном журнале, он, не задумываясь, вывел: «Система типа Солнечной. Масса планеты, состав и плотность атмосферы, температура, химический состав почв напоминают Землю. Наличие жизни в первый день высадки не обнаружено. С общего согласия планете присвоено имя Одра, что зафиксировано в официальном протоколе, форма 713-5А8». Старший Инспектор Боярский написал неправду, поскольку никакого общего согласия не было в помине — название планеты изобрел он сам, но безотчетно к этому приплел весь экипаж, чего в другое время никогда бы сделать не посмел. А если бы кто поинтересовался, что хотел он выразить таким названием, он, вероятно, только бы пожал плечами и неуверенно сказал: «Одно расстройство». На самом деле так оно и было. Свое смятенное состояние он благополучно запечатлел в официальном Формуляре Первооткрывателей. И отныне унылое «Одно расстройство» сократилось до безликого, но не без кокетства — Одра.
Ночь прошла спокойно. Экипаж был доволен, ощутив под ногами наконец-то реальную твердую почву, и мирно, без волнений, почивал. Чуткие приборы не регистрировали никаких изменений в окружающей среде. Как и люди, в эту ночь приборы спали. Где-то над планетой поднимались ветры, проносились тучи, шли дожди, но почва оставалась всюду неподвижной, будто огромное безжизненное тело, и ничто в ее структуре не говорило о присутствии даже микроорганизмов. Одра была стерильна, нетронута, пуста… И невозможно было с точностью сказать: существовала ли когда-то жизнь на Одре, со временем исчезнув, или, напротив, еще не зародилась, чтобы в грядущих миллиардах лет явить себя во всем своем великолепии. Одра была древней Земли. Но как узнать наверняка, когда и где должна возникнуть жизнь? Космос так капризен, неприручен… Во всяком случае в своем движении вперед Земля покуда жизни не встречала.
Однако болезненное беспокойство, пришедшее вчера, и наутро не покинуло Боярского. Сколько уж на своем веку повидал он этих миров, не пригодных для жилья!.. Инспекция Поиска и Безопасности в каждый полет направляла своего представителя: он был обязан наблюдать, чтобы везде неукоснительно следовали букве Инструкции, где заранее оговаривалось, как вести себя в определенных ситуациях — безжизненна планета, или на ней замечены простейшие организмы, или есть даже шанс подозревать, что налицо следы иного, чуждого землянам разума. Пока роль Старшего Инспектора Боярского сводилась к минимуму — руководство экспедицией, и только. До сих пор не возникало нужды ни в напряженной деятельности, ни в принятии каких-либо сверхважных решений. Все шло по плану. Вселенная словно упрямо пыталась доказать, что не нуждается ни а чьей заботе и опеке. И в человеческом присутствии — тоже. А это, пожалуй, угнетало более всего.
Утром, как обычно, экипаж собрался на верхней палубе, и руководители исследовательских групп по очереди доложили результаты окончательных проверок.
Это была удача! Тем более необыкновенная, что все мечтали о ней давным-давно. Данные, полученные вчера, по прилете, подтвердились.
В принципе Боярскому впору было ликовать — он все-таки добился своего! Нашел… И тем не менее чувство странной, беспричинной неприязни к Одре оставалось. Оно мешало ощутить восторг сполна. И эта раздвоенность тоже раздражала, не позволяя воспринять происходящее как подобает. Поэтому Боярский, вопреки моменту, лишь улыбнулся и ободряюще тряхнул головой:
— Все отлично, друзья! Поздравляю! Наконец-то планета, пригодная для жилья!.. Что же, будем строить Станцию, базовую, на долгий срок. И еще… — он запнулся, словно отгоняя навязчивую мысль, и затем скороговоркой произнес: — Я настаиваю на усиленном защитном поясе. Не типовом, как устанавливали в прежних мирах…
Да, там человек не собирался жить. Прилетали, обследовали и улетали риск минимальный… А здесь будет первая Станция в Дальнем Космосе. И сюда полетят с Земли работать, жить, полетят тысячи людей — и не на месяц, не на год. Кто даст гарантию, что эта планета во всем безвредна для человека?
— Здесь все чужое, — добавил Боярский. — Может статься, враждебное…
— Ну, если гак рассуждать, — пожал плечами эколог Росси, — то где гарантия, что и мы совершенно безвредны для этой планеты?
— Верно. И это тоже придется со временем учесть, — кивнул Боярский. Придется учитывать множество факторов, от которых мы давным-давно отвыкли.
Он молча прошелся вдоль стены с иллюминаторами. Конечно, спорить нелепо, да и не о чем — мы прекрасно научились понимать друг друга с полуслова еще на Земле, когда формировался экипаж. Мы привыкли, что на Земле все хорошо. Мы это знаем. Но при всем при том какие-то чувства у нас, похоже, притупились. Они попросту не нужны там, на Земле. Ну, скажем, страх, тревога, чувство неуверенности, предвидение возможной опасности. В нас исчез элемент неадекватности в восприятии мира. С одной стороны, это прекрасно, но… Ведь есть же такое понятие: эффект теплицы… Пусть в чем-то жертвуя, в чем-то рискуя, мы, однако, знаем — на Земле всегда придут на выручку. Мы отвыкли стоять лицом к лицу с неизвестным, вот что. А здесь как раз тот самый случай.
— Ну что в итоге даст усиленная линия защиты? — настаивал Росси. — Я не вижу связи…
— Что даст? — поднял брови Боярский. — Только одно. Чувство полной безопасности. Как и на Земле. Это очень важно — особенно для первых поселенцев.
Ведь уже пора, в который раз подумал он. Нам уже тесно а Солнечной системе, нужна вторая Земля. Так вот она! И это мы, Поисковики, еще можем реально рисковать. А другие…
— К сожалению, реакция Одры на нашу деятельность пока непредсказуема. Так что лучше проявим разумную осторожность. Готовьтесь к выходу из звездолета.
Солнце поднималось к зениту. Миллиарды лет оно всходило и заходило, знойно-дымное небо висело, запрокидываясь за горизонт, а по ночам оно чернело, и солнце сменяли слепо мерцающие звезды, и стояла в мире тишина, прерываемая лишь воем ветра, да шуршанием песков, да монотонным плеском речных вод, да сухим стуком капель дождя, — блаженная, но неживая тишина, о которой даже некому было сказать, что она такое…
И вдруг мир изнутри взорвался. Возник и новый звук, и новое движение. Планета Одра ожила.
Станция росла на глазах. Всего за каких-то полдня поднялись прочные коттеджи, соединенные между собой пластиковыми галереями, взметнулись к небу стены, замкнувшие в четырехугольник изрядную площадь, — слабое напоминание о далекой Земле. А по периметру в несколько рядов тянулись аннигиляторы, плазмотроны и силовые установки, способные в случае крайней необходимости моментально окружить Станцию непроницаемым извне защитным полем. Увы, простой поселок, тихий, безобидный, уютный по-земному оставался лишь в проекте. Когда-нибудь, конечно, непременно… Не сейчас. Люди это понимали. Хотя и без особого восторга. Никто и никогда не обживал чужих миров. Здесь все было впервые, и с этим приходилось считаться постоянно.
А рядом, в сотне метров от Станции, высился гигантский звездолет. Кораблю предстояло снова улететь к Земле, чтобы принять на борт первую партию поселенцев и доставить их на Одру, где временно оставшаяся часть экипажа подготовит Станцию для благополучного житья.
Боярский не спеша прохаживался вдоль стен, наблюдая, как продвигается работа.
— Силовые установки отладьте в первую очередь, — заметил он, подойдя к центральному энергопункту. Под пластиковым навесом уже мигал и тихонько позванивал, переваривая заложенную программу, медно-огненный куб линейного компьютера.
— Уж постараемся! — весело откликнулся долговязый Юханссон, старший программист.
— И тщательнейшим образом обследуйте линию защиты. Звено за звеном, каждый блок… Даже, знаете что, — Боярский задумчиво поскреб подбородок, — может, есть резон ее опробовать в действии. Чтоб не было потом никаких накладок.
— В действии так в действии, — расцвел в улыбке Юханссон. — И впрямь не помешает. Значит, даем сигнал «проверка»?
Боярский чуть медлил. А что, если… «Проверка» — тоже неплохо. Но уж лучше знать наверняка. На холостом режиме всех нюансов можно не заметить. А ведь он, Боярский, должен обеспечить безопасность — по всем параметрам строящейся Станции. И если что, он будет после отвечать. Да не в ответе дело. Люди! Их он не смеет подвести!
— Я думаю, — с расстановкой произнес он, — стоит даже провести активную проверку. Так оно будет верней. По форме «тревога-один». И сразу слабые места — как на ладони! И сообщите о проверке во все службы звездолета.
— А не будет ли слишком?
— Надеюсь, что нет.
Мы в сложном положении сейчас, с внезапным раздражением подумал Боярский. Неужто вы не чувствуете? Прислушайтесь к себе, поглядите вокруг, вспомните Землю… Мы, как и там когда-то, начинаем с нуля. Вроде, мертвая планета — пока, а мы выставляем линию защиты… Нам кажется, что так необходимо. Оно и понятно! Чтоб доверять, нужно знать до конца… Как Землю, например. А здесь — нет… Мы здесь чужие. В этом вся беда.
Юханссона такое распоряжение Боярского даже обрадовало. И на то была причина. Он давно работал программистом при силовых установках, но о том, как действует линия защиты по форме «тревога-один», знал лишь по книгам да учебным голофильмам. За всю свою жизнь подобную программу он в компьютеры не запускал. Не было повода. Зато теперь… Случай редкий, небывалый!
— Не беспокойтесь, — ободряюще улыбнулся он Боярскому. — Уж мы все сделаем как надо!
Тот на прощанье кивнул программисту и двинулся дальше. Иногда он останавливался перед распахнутыми воротами и задумчиво глядел вдаль на мертвый ландшафт, простиравшийся вокруг этого крошечного обжитого уголка. Даже не обжитого, а всего лишь занятого временно под жизнь. Надолго ли? Мы арендаторы, подумал вдруг Боярский. Мы никого не спрашиваем, но принимаем в расчет законы, которые впоследствии, быть может, доведется чтить. И по этим законам платить сполна. Мы арендаторы без срока. Потому что он может кончиться для нас в любой момент. Мы об этом стараемся не думать и уповаем на что-то, надеемся, верим, мечтаем… А в принципе, если разобраться, мы уповаем только на себя. На свой рассудок.
Закончив обход, он вернулся на звездолет. В отличие от остальных его не тянуло долго оставаться снаружи. Чистейший воздух, ласкающие ветерки, благодатное тепло, мир, которому словно на роду написано стать со временем второй Землей, — как это прекрасно! Умом Боярский это видел, принимал. Но тревога все не проходила. Напротив, странная антипатия ко всему, что было здесь, только глубже пускала губительные корни. Особенно теперь, когда он распорядился произвести проверку линии защиты. Откуда это чувство? Может, оттого, что этот мир действительно чужой, как ни старались увидать в нем черты — пусть пока очень смутные — Новой Земли? И никогда родным не станет?..
Боярский силился понять, разобраться, и в какой-то момент ему показалось, что он нашел ответ. Новая Земля… Второй дом во Вселенной… Ведь еще никто и никогда не отправлялся жить в Далекий Космос, Одра будет первым поселением вне обжитого мира. Форпост… Сумеют ли люди сохранить здесь в неприкосновенности все то, чем одарила их Земля? Ведь для себя и одарила! Иное постигается лишь в непосредственном контакте с ним. Вот здесь — иное. Как себя люди поведут? Столкнувшись с неизвестным, почувствовав себя незваными, полезут напролом и искромсают Одру, безумно впихнут а энтропийную ловушку, сами силясь выжить?.. Да, жить на далеких рубежах… Там все другое. Сохранит ли человек себя? Или — все гораздо проще, и нечего голову ломать? Обживать-то будут мертвый мир! А он беззащитен, не то что живой. Кто осудит, если воспользоваться правом сильного? Разве может быть какая-то мораль по отношению к камням, к воде, ветрам?! К ним — нет. Но по отношению к себе, желающему все очеловечить, есть она! Никто не в силах точно указать: вот день и час, начальные, и с этих пор нам позволительно не только изучать, но заселять и изменять… По образу своему и своей приспособленности. Никто не скажет: мы готовы, все. В пределах дома, может, и готовы. А вне его? Как точно знать, чтобы потом не ошибиться?
Раздался гудок внутренней связи, и экран видеофона засветился. Боярский увидел встревоженное лицо Панкова, молодого стажера из группы биологов.
— Я не помешал?
— Нисколько. Что-нибудь случилось?
Несколько секунд Панков напряженно молчал, как бы подыскивая верные слова. Или просто пытался побороть волнение?
— Видите ли… Я бы хотел вам кое-что показать…
— Так за чем же дело? — подбодрил его Боярский.
— По видеофону нельзя… Ну, словом, не то будет впечатление.
Боярский сокрушенно хмыкнул. Ох уж эти стажеры! Вечно у них какие-то сенсации, невероятные открытия… Славный народ, только уж слишком шустрый… А может, это я старею?
— Ладно, заходите. Прямо сейчас. Если, конечно, срочно…
— Не то слово! Бегу! — выпалил с экрана стажер и отключил свой аппарат.
Минуты через три дверь в тамбуре щелкнула, и на пороге возник Панков. В руках бережно, точно хрупкую бумажную игрушку, вошедший держал маленький букетик цветов. Небесно-синих, похожих на фиалки.
Панков проследил за взглядом Боярского и утвердительно кивнул.
— Вот это я и хотел вам показать.
За этим крылся какой-то подвох, Боярский чувствовал. Но что же именно? Ведь цветы как цветы. Такие щемяще земные…
— Где вы их взяли? — спросил он тихо. — И почему именно ко мне?
— Я их нашел здесь. Возле звездолета. Выходил со Станции и вдруг смотрю…
— Ну-ка, расскажите все по порядку. Да не стойте посреди комнаты, садитесь!
Панков послушно сел, положив букетик к себе на колени. Мало-помалу его возбуждение начало передаваться и Боярскому.
— Ну! — не выдержал он. — Говорите же что-нибудь! Как эти цветы попали на Станцию?
— Не знаю, — пожал плечами Панков. — Они просто росли… Я сначала глазам своим не поверил, а потом подумал: ведь планета мертва и никаких цветов на ней не может быть.
— Естественно, — криво усмехнулся Боярский. — И все же…
— Да, — просто, как-то буднично ответил Панков. — Невозможно, а есть. Представляете?! Тут я к вам и побежал.
— Ничего себе сюрприз, — прошептал Боярский. — Или это сенсация, приятная во всех отношениях, или…
— Скорей всего — второе, — невесело поддержал стажер.
— Где именно они росли?
— В распределителе одного из аннигиляторов. Я не стал в других местах смотреть — может, они где-нибудь еще росли… Но эти просто нельзя было не заметить!..
В каюте повисло тяжкое молчание.
— Вот так, — наконец, без всякого выражения произнес Боярский. Что-то, значит, изменилось… Может, почва настолько восприимчива к земным микробам? Хотя, да, ведь вы же нашли их в распределителе…
— К тому же мы прошли полнейшую стерилизацию, прежде чем покинуть звездолет… Откуда быть микробам?
— Либо планете нужен был всего крошечный толчок… — как бы рассуждая сам с собой, продолжал Боярский. — Но причем тут защитная система? М-да, ситуация…
— Что с этим делать? — Панков бережно приподнял букетик цветов.
— Что? — Боярский словно очнулся. — Действительно, что?.. А ну-ка, точно покажите, где нашли!
Он вскочил и бросился вон из каюты, увлекая за собой стажера, который от растерянности лишь крепко прижал к груди цветы, точно те, не согреваемые человеческим теплом, могли вдруг увянуть и пропасть…
Голова шла крУгом. Цветы и в самом деле были! И не один, не два, а тысячи — по меньшей мере. За то время, пока Панков пробыл у Боярского, цветы проросли во всех аннигиляторах, во всех плазмотронах, покрывая постепенно мягкой, колышущейся на ветру попоной кожухи генераторов, блоков питания, тяжелые лапы станин. Очень скоро они появились и на линейном компьютере. Тот работал еще несколько минут, беспомощно мигая индикаторными огнями, и наконец отказал. Система защиты разваливалась на глазах.
Дело принимало скверный оборот. Приказав, всем оставаться на рабочих местах, Боярский в сопровождении вызванного на место происшествия дежурного инженера Мвонги и начавшего тихо паниковать стажера устремился к пультовой центрального энергопункта.
Посреди площадки у входа в пультовую стоял Юханссон. Случившееся его явно обескуражило и потрясло.
— Когда это началось? — с ходу спросил Боярский.
— После активной проверки все работало отменно — просто загляденье, а минут через пятнадцать-двадцать полезла эта нечисть… И главное, до чего на земные похожи! Красивые, не спорю. Но ведь они… жрут… все подряд!
— Компьютер окончательно вышел из строя?
— Сейчас. Я мигом! — с готовностью сорвался с места Юханссон.
Он откинул аварийную крышку и, путаясь руками в длинных тонких стеблях, попытался добраться до электронных блоков машины. Тщетно!
— Проклятие! — простонал он. — Они всюду! Глядите! Вот! Машины не существует! Вместо блоков и соединений — одни цветочки!
— Вижу, — хмуро кивнул Боярский. — Может, еще успеем что-нибудь спасти?
— Хотя бы основное, — вставил Панков.
— Помилуйте, как? — искренне удивился программист. — Они ведь жрут материал! Все металлические части, пластики…
Он демонстративно сунул руку по локоть в недра компьютера, с тягучим хрустом разрывая цветочные стебли, выдернул оттуда какую-то деталь и, чуть надавливая пальцами, принялся крошить ее себе под ноги. Будто ломоть зачерствелого хлеба…
— Видите, видите, как! Попробуйте сами!
Боярский приблизился к устройству, но вместо того чтобы последовать примеру Юханссона, сорвал с крышки цветок и долго разглядывал его.
— Как ни странно, внешне ничего особенного, — задумчиво проговорил он, вертя цветок и так и сяк. — На Земле бы он ничем не отличался от остальных… Удивительно другое: феноменальная скорость размножения. И только там, где металл или пластик… Пожалуйста, — подозвал он одного из техников энергоцентра, — отнесите это в звездолет, в лабораторию. Да не рвите их двумя пальчиками! Берите побольше!
Техник с опасливой брезгливостью нарвал цветов и, смешно отставляя руку с букетом, быстро засеменил к кораблю.
— Еще час, — тоскливо заметил Юханссон, — и у нас ничего не останется. Ни одного прибора. Если только не случится чуда…
Да нет, подумал Боярский, откуда ему, этому чуду, взяться, если уж одно произошло? Двух подряд не бывает, разве что в сказке… Но тогда выходит, что не так уж и мертва планета? И я был прав, потребовав для Станции усиленной защиты? Вероятно. Только в чем же наш просчет? Ведь сработай вовремя защитная система… Хотя, когда же это — вовремя? Час назад, два? Чепуха! Именно после активной проверки, когда защитная система продемонстрировала всю свою мощь, планета перешла в наступление. Значит, все-же был изъян, нашлась лазейка? Странно…
В дальние ворота была видна выжженная бесплодная равнина, среди которой там и тут торчали истрескавшиеся на солнце обветренные камни, принявшие, как нередко случалось и на Земле, черты каких-то непонятных изваянии, фантастических руин исчезнувших построек. Точно недвижимое каменное воинство окружило Станцию и выжидало, готовое принять неравный бой… Теперь — неравный. Люди были безоружны.
Боярский старался отогнать невесть откуда набежавший страх. Нет-нет, чушь все это, подумал он, нам никто, никто не может угрожать. Никто и ничто. Но ведь мы действительно теперь беспомощны, вспыхнула отчаянная мысль. И противопоставить ничего не в силах… Да, но где он, этот враг? Реальный, беспощадный. Чем он в состоянии бороться с нами? Этими цветочками? Жалкая нежная плоть против неодолимых плазмотронов, аннигиляторов, силовых полей?.. Такое просто невозможно! Планета мертва! Цветы мы сами занесли… Ну, может быть, не так уж тщательно стерилизовались перед выходом из звездолета. А теперь вот… Но почему именно цветы? Уж что-что, а микробов и прочей грязи завезли с собой достаточно. На десять миров, как этот, хватит, чтоб все полетело кувырком!..
— Что говорят строители? — вдруг спохватился Боярский. — У них — то же?
— Насколько можно судить, у них пока все в порядке, — подал голос дежурный инженер. — Никаких жалоб не поступало.
— Значит, только здесь, на линии защиты, — несколько успокоенно проговорил Боярский. — Как вы думаете, почему? В чем наша промашка?
Юханссон только пожал плечами. Он скорбно глядел на цветущие нежно-голубые холмики, будто степные могильники, возникшие на месте могучей хитроумнейшей аппаратуры. Кучки металлического, пластикового праха, на которых прихоть неведомого разбила свои цветники. Как будто других объектов мало! Чем вон тот пакгауз, тоже, кстати, цельнометаллический, хуже его линейного компьютера?!
К собравшимся торопливо приближался кто-то из строителей. В руке он торжествующе, даже с каким-то вызовом, зажимал знакомые всем цветы.
Итак, ловушка захлопнулась. Конечно же, нелепо было уповать, что эта цветочная чума затронет только линию защиты, обойдя стороной главные постройки. Просто с чего-то все должно было начаться. А может, здесь была своя, неявная закономерность. Скажем, аннигиляторы и прочие силовые агрегаты стояли по периметру, и потому, естественно, первая волна, пришедшая извне, со стороны нетронутой равнины, сначала поразила их и уж затем начала продвигаться внутрь Станции. А может, все произошло иначе, другая была причина — теперь-то не суть важно, какая… Слишком поздно спохватились. Хотя по-другому быть и не могло. Никто не ждал. И подозревать поэтому не смел. Все так внезапно изменилось…
Рисковать не имело смысла. Боярский отвечал за судьбу всей экспедиции. Благородная, но до чего же тяжкая ноша руководителя!.. Ведь он понимал, что всякое может случиться. И был внутренне к этому готов. Еще там, на Земле…
— До особого распоряжения все работы приказываю прекратить! — после минутного колебания решился он. — Экипажу укрыться в звездолете! Со Станции ничего с собой не брать! И — строжайше соблюдать дисциплину!
А сам с неожиданной болью подумал: когда я еще дам это особое распоряжение?.. И дам ли его вообще? Какие-то жалкие, никчемные цветочки, перед которыми мы, люди, пасуем — так бездарно, сразу, безнадежно!.. И вся наша вековечная сила, вся наша мощь оборачивается прахом, именно прахом. Венец природы просчитался. В чем?
Двумя часами позже из лаборатории поступили результаты экспертизы.
Точно определить, что это такое, не смогли. Местный вирус? Нет. Микробы, занесенные с Земли? Никаких следов. Планета абсолютно мертва, подтвердила экспертиза. Но и людей винить нельзя. Тут что-то другое, неуловимое, непонятное… Заразная болезнь? И да, и нет. Да, потому что факты налицо. Нет, потому что переносчика болезни в принципе не существует. Ясно пока лишь одно: цветы каким-то образом перерабатывают металл и пластики, образуя из них питательную для себя среду. Словно в самом материале заключены споры этих удивительных растений… Хотя по своей структуре от земных они не отличаются. Вот только эта их невероятная способность…
Боярский глядел в иллюминатор на опустевшую, заброшенную Станцию. Яркий, до неправдоподобия живой островок среди мертвого мира. Цветы буйствовали всюду. Лишь останки отдельных строений, как части обглоданных скелетов, еще торчали, нелепо возвышаясь над синей, волнующейся на ветру поверхностью. Все остальное цветы перемололи, сожрали, превратили в труху.
Пройдет еще полдня, от силы день, подумал Боярский, и от Станции не останется вообще никаких следов. Будто нас тут и не было никогда. Впрочем, цветы, наверное, сохранятся? И тогда, может, с них-то и начнется великая цепь живого, которого недоставало этой планете. И это живое породит в итоге разум… Цветочный разум. Из цветочной чумы… Чушь собачья! Ничего не будет. Цветы погибнут, и все вернется на круги своя. Им попросту нечем будет питаться. А вдруг?.. У Боярского нехорошо захолонуло сердце.
— Так, — резко повернулся он к собравшимся на верхней палубе членам экипажа. — Ситуация крайне запутанная, необходимо ее обсудить. Мне кажется, дальнейшее пребывание здесь не только теряет смысл, но и просто опасно. Вы видите, бороться с цветами невозможно. У кого какие предложения?
— А если все-таки попробовать найти противоядие? — выступил вперед инженер Мвонги. — В конце концов специалистов на борту хватает. И если объединить усилия…
Боярский бросил на него испытующий взгляд.
— Допустим, — согласился он. — Попробовать, конечно, можно. Но как по-вашему, сколько времени придется это противоядие искать? Ну, хотя бы примерно.
— Видите ли, — замялся Мвонги, — с ходу я вам вряд ли скажу… Я не биолог, и методика поисков мне не очень ясна. Но, думаю, времени уйдет немного. От силы — неделя.
— От силы неделя, — эхом отозвался Боярский. — Ладно, давайте прикинем… Разумеется, рано или поздно мы найдем ответ. Обязаны найти. Но не кажется ли вам, что если даже на поиски уйдет всего неделя, для нас это может обернуться полным крахом? Да за эту неделю цветы просто-напросто сожрут наш корабль! Сначала Станция — ее, что называется, легче укусить. Но цветам нужна прикормка! И звездолет — блюдо, для этого дела самое подходящее. Я бы сказал, деликатес!.. Мы столкнулись с хищником, со страшным хищником, поймите!
— Корабль необходимо перенести в другое место! И не строить новой Станции, пока не разрешим проблему! — выпалил скороговоркой Панков.
Боярский с сомнением покачал головой.
— Если бы все сводилось только к этому!.. Перенести, не строить… Где гарантия, что цветочная чума не подстерегает нас в любой точке планеты? Что вообще присутствие нашего корабля не вызывает ее к жизни?
Никто не нашелся, что ответить.
— Поэтому все разговоры о разных исследованиях пока прекратим, — устало подытожил Боярский. — Время тянуть нечего. Мы только подвергаемся ненужному риску. Вот мое мнение как руководителя экспедиции: надо немедленно стартовать на Землю! Нельзя, чтобы сюда отравляли экспедицию за экспедицией и дело оборачивалось… ничем, как у нас. Нам никогда не обжить эту планету, пока там, на Земле, не решат ее проблему. Так что будем готовиться к отлету.
В иллюминаторе синий островок гляделся приветливо и безобидно. Возможно, он и был таким на самом деле. Для тех, кто не видит в нем врага. Но в нем видели только врага… Оттого, вероятно, что сами его породили. Неважно — как. Был результат, осмыслять который никто бы сейчас не решился. Ибо любой труд энтропиен. В том смысле, что дает отходы. И всего учесть и распознать заранее, — наверное, нельзя.
Звездолет гасил скорость, идя к Земле на вспомогательных моторах. Теперь до родной планеты оставалось лету сутки с небольшим.
В рубке управления на стереоэкране точно по центру, будто кружочек конфетти, увеличенный для всеобщего обозрения, висел знакомый с детства дымчато-зелено-синий диск — Земля. Все свободное от дежурств время люди проводили в рубке, с удовлетворением наблюдая, как медленно, но неуклонно растет изображение родного мира.
О сутках, страшных, непонятных, проведенных на далекой Одре, вспоминать не хотелось. Мысли были заняты скорым возвращением домой. Дальний Космос, пустой и враждебный, остался позади.
Именно в эти безмятежно-радостные часы полета и было сделано открытие.
Когда Боярский вернулся из навигационной рубки к себе в каюту, его внимание сразу привлек словно возникший из дурного сна голубой букетик в вазе на столе. Какой шутник преподнес этот бедственный подарок, Боярский так и не узнал. Да и ни к чему было стараться. Поскольку в ту же минуту он с отчаянием понял: катастрофа, которой они, казалось бы, счастливо избежали, на самом деле притаилась рядом, здесь, на корабле. Наверняка, цветы были не из лаборатории. Там они надежно изолированы, спрятаны, и унести их просто невозможно. Да и кто рискнет? Значит… Вывод напрашивался сам собой. Значит, кто-то сорвал их внутри звездолета. Ну, а если так…
Экстренное совещание было тягостным. Долго объяснять не пришлось — все и так слишком ясно понимали, что им грозит.
— Что будем делать? — подчеркнуто спокойно произнес Боярский. — Ваши предложения, друзья?
Члены экипажа зашевелились, но никто не отважился выступить первым. Они сознавали, что сейчас, быть может, решается судьба корабля. Действовать надо наверняка, ошибаться нельзя. Каждый искал спасения, цепляясь за соломинку сомнительных предположений и одновременно чувствуя, что это ничего не даст. Выход был, но язык не поворачивался произнести хотя бы слово… Ибо все знали: тогда отступать уже нельзя. Никому.
— К сожалению, цветы успели проникнуть на звездолет, — вновь заговорил Боярский, как бы тормоша товарищей и вместе с тем подготавливая их к неизбежному выводу. — Обшивка пока цела, потому что условия полета и вакуум за бортом мешали цветам размножаться. Но даже один цветок говорил бы о заразе на корабле. А их десятки, если не сотни. И число их растет с каждой минутой…
— Может, срочно запросить Землю об аварийной посадке? — решительно сказал Ананда, главный навигатор.
И тотчас плотину всеобщей сдержанности словно прорвало.
— Это безумие! — воскликнул эколог Росси. — Доставить на Землю такой очаг заражения!..
— Да нет, можно высадиться на Луне, — возразил Панков. — Или причалить к одной из космических станций. На худой конец, проще всего вызвать легкую ракету, перебраться на нее, а звездолет взорвать. А перед высадкой на Землю пройти строжайшую стерилизацию.
— Боюсь, и это не поможет, — грустно заметил Боярский. — Любой контакт с нашим кораблем чреват опасностью. Во всех конструкциях, во всех механизмах есть металлические детали. Либо пластики. Одного прикосновения достаточно, чтобы зараза, как по цепочке, перекинулась дальше. А итог один. Рано или поздно она достигнет Земли, дотянется до всех поселений в Солнечной системе. Вы представляете себе: вместо городов, зон отдыха, вместо предприятий, транспорта, космодромов — всюду только холмики трухи, покрытые безобидными с виду, хрупкими цветами. Это конец. Всему конец. И только море голубых цветов…
— Ну, это уж, положим, вы сгущаете краски! — подал голос Юханссон. Если что и случится, то не в таком масштабе. Я убежден, Земля успеет разобраться, что к чему, и найдет противоядие. История красноречива Земля еще никогда не оказывалась в тупике. Или вы не верите в человеческий разум?
— Нет, в человеческий разум я верю, — холодно отозвался Боярский. Земля и на сей раз не окажется в тупике. Только для этого нужно проявить особенную осторожность. Учтите, цветы размножаются с поразительной быстротой. Ученые могут просто не успеть. Физически не успеть… А что тогда?
— Хорошо, что предлагаете вы?
У Боярского ответ, в сущности, был готов давно. Он не торопился выступать со своими выводами лишь потому, что надеялся, глупо, безрассудно, как азартный мальчишка, что это совещание еще что-нибудь даст, вдруг родит какую-то оригинальную идею… Если бы так!.. Выход только один, и второго нет. Во всяком случае сейчас им найти его не под силу, что бы они там ни изобретали. Смешно: как ученики на уроке решение-то есть, но без учительской подсказки боязно назвать — вдруг все-таки не так?..
— Необходимо срочно связаться с Землей, — сказал Боярский тоном, не признающим возражений. — Мы обязаны предупредить. Нельзя, чтобы нас встречали. И — никаких повторных экспедиций. Мы — первые и последние. Ясно?
— Рубка связи готова. Операторы ждут выхода в эфир, — мигом откликнулся Мвонги и пододвинул Боярскому цифровой щиток видеофона.
Спокойно, будто ничего и не случилось, Боярский набрал нужный код. Вспыхнул экран. Лицо дежурного радиста было бледно и выражало полную растерянность.
— Я только что собирался вам звонить, — сдавленным голосом сообщил радист.
— А что такое?
— Рация дальней связи не работает. Тока нет. Они сожрали генератор!
Итак, связаться с Землей звездолет не мог. И в условленный час дать пеленг — тоже. Но на планете все равно будет зафиксировано их появление в Солнечной системе, и, несмотря ни на что, будут высланы навстречу посадочные буксиры. На Земле отреагируют по-своему верно: раз звездолет молчит, значит, что-то случилось и нужно срочно принимать спасательные меры. А именно этого сейчас и нельзя допустить! Их корабль подобен чудовищной бомбе, способной разнести в щепы все, уничтожить цивилизацию до основания.
— Я требую, — тихо, но отчетливо произнес Боярский, — никакой паники на борту!
— Но что же делать теперь? Нам всем? — спросил с экрана радист, глядя с ужасом на командира.
Палуба погрузилась в ледяное молчание.
В эти секунды каждый мысленно читал себе приговор, беспощадный, не подлежащий обжалованию ни перед кем и никогда. И это была высшая человеческая награда каждому из них…
— Мы не имеем права возвращаться! — прозвучал громкий, ясный голос Старшего Инспектора Боярского. — Приказываю: развернуть корабль и на полной тяге идти за пределы Солнечной системы! Мы обязаны унести чуму вместе с собой! Это счастье, что нас еще не обнаружили с Земли…
На темном экране, уменьшаясь, неудержимо смещался к краю голубоватый диск.
— До чего нелепо получилось! — сидя за пультом, вздохнул Ананда. — Ведь на Земле не знают ничего! И не подозревают даже. Ну ладно, мы исчезнем. Но они снова и снова будут посылать экспедиции на эту планету. И каждый раз…
— Да, — сухо отозвался Боярский. — Каждый раз. Пока не поймут, что пора менять тактику. Мы все сейчас, как котята, которые тычутся носом в стенку в надежде найти выход… И нас нельзя лишать этого права — быть котятами. Наличие разумности лишь подтверждает силу метода проб и ошибок. Всякий раз на новом уровне.
Он неотрывно смотрел, как удаляется, растворяясь в темноте, родная планета. Странное дело, он не испытывал ужаса и смертной тоски от того, что уже больше туда не вернется, что не побродит по лесам и лугам, не искупается в море, не увидит городов, знакомых лиц, не проведет хотя бы сутки дома… Он силился разобраться в себе самом и неожиданно понял, будто вспыхнуло что-то в его мозгу, — не то, отчего он так холоден и спокоен сейчас, а то, что должен был понять еще давно, гораздо раньше… Эффект теплицы. Они несли его с собой, в себе. Отсюда — линия защиты. Ни от кого. На всякий случай, просто так… Чтоб сохранить иллюзию. Зачем? И эта нелепая активная проверка… Она все и решила, подвела итог. Вне Земли земное кончается. А они об этом думать не хотели. Боялись, что ли. Тоже своего рода линия защиты…
— Когда люди наконец поймут, — пробормотал Боярский тихо, не обращаясь ни к кому, — что земное — Земле, а Вселенной — совсем другое, они избегнут многих неприятностей, вроде нашей.
— Я что-то не улавливаю вашу мысль, — откликнулся из своего кресла Ананда.
— Когда люди сообразят, что Космосу нужен не их разум, подкрепленный исключительной тягой к земному — всегда и во всем, а просто — разум, добрый, светлый, ищущий, лишенный ничтожных земных предрассудков, — вот тогда люди смогут прилететь на Одру, и никакая цветочная чума не будет им страшна, потому что это — не чума, а обыкновенная красота. И красота страшна не человеку, а отходам его трудов, его антропоцентричных иллюзий.
Методом проб и ошибок… Как котята… Чтобы вырасти в сильное, прекрасное существо. Которому ведомо, как дальше ступать.
Может быть, нужен толчок? Подсказка? Будто на уроке… Кто-то ведь должен помочь поначалу. Ободрить. Хотя бы первым сделать осмысленный шаг. И тем самым увлечь остальных за собой…
И тогда сознание Боярского наполнила ликующая мысль, точно он единым махом вдруг одолел почти неразрешимую задачу.
— Навигатор, курс на Одру! Теперь у нас все должно получиться! Если, конечно, успеем долететь…
— Отчего же? Как-нибудь дотянем, — еще ничего не понимая, пожал плечами Ананда.
А Боярский подумал: если и вправду доберемся, надо будет планету по-другому назвать!..
Борис Руденко ОЗЕРО
Прыгун не выслеживает и не выбирает. Он нападает в тот момент, когда дремлющий мозг получает от органов чувств сигнал, что добыча находится в пределах досягаемости. Единственный бросок прыгуна всегда нацелен на ближайшую к нему жертву. Поэтому для идущего впереди прыгун наиболее опасен, идущим следом не опасен вовсе.
После броска прыгун пожирает добычу. Сожрав, впадает в спячку и готовится к новому броску. Эта подготовка занимает не менее недели только за такое время животному удается создать в движительных полостях давление воздуха, достаточное чтобы послать тяжелое тело в двадцатиметровый прыжок. Теоретически прыгун способен на четыре прыжка в месяц, но так часто ему прыгать не надо. Прыгун совершает за год от двух до десяти бросков. Два — если добычи вокруг совсем мало, десять — при ее изобилии.
Образ жизни прыгуна предельно прост: прыжок — пожирание — спячка. Когда прыгун «заряжен», он совершенно неподвижен, дыхание его медленно и редко. Обмен вещества сведен до минимума.
Прыгун — на редкость примитивная форма, но чрезвычайно жизнестойкая, благодаря чему этот вид сохранился на планете в течение миллионов лет, практически не эволюционируя. Плоть его ядовита, и у него нет естественных врагов. Он обладает острым обонянием, высокой чувствительностью к тепловому излучению, но лишен зрения и слуха. Поэтому появление в пустыне двух живых существ осталось для него незамеченным…
На исходе третьего дня они достигли гряды песчаных холмов, тех, что накануне выросли на горизонте из пыльно-раскаленного марева. Если везение не оставило их окончательно, с вершины гряды они должны были увидеть Станцию.
Эта мысль, кажется, одновременно промелькнула у обоих. Они молча переглянулись и двинулись вверх, немного наискось по песчаному склону, скупо покрытому пучками жесткой растительности. Они шли — Парра впереди, а за ним Круглов, — экономными осторожными шагами, бережно расходуя силы, которых так мало оставалось теперь. Еще меньше было воды, но об этом оба старались не думать.
Роль лидера по молчаливому согласию взял на себя Парра. Сухой и жилистый, он намного легче переносил нехватку воды и зной пустыни, чем Круглов — мощный, но грузный. Круглов устал гораздо больше и перестал скрывать свою усталость, когда понял, что на это тоже уходят силы. Они не разговаривали от усталости. Они вообще очень мало разговаривали последние двое суток, но на коротких привалах Парра теперь задерживался чуть-чуть дольше, чем требовалось для отдыха ему самому. И немного чаще оглядывался теперь в пути на Круглова.
Перед каменной россыпью Парра немного помедлил. Лучше всего было ее обойти, но справа склон был слишком крут, а слева из песчаного основания перстом торчала скала, обогнуть которую можно было, лишь спустившись вниз, что удлинило бы путь не менее чем на километр.
И Парра и Круглов знали, как опасны такие россыпи, но усталость и лишения трех последних дней притупили чувство осторожности. К тому же за все время пути они ни разу не видели ни одного прыгуна.
Через каждые несколько шагов Парра останавливался и напряженно вглядывался в обломки скал, оглаженные и иссеченные ветром и песком. Круглов шел точно вслед, метрах в трех позади. Он тоже внимательно осматривал валуны, хотя это было уже не так важно.
Парра шел первым и, как ни странно, именно это спасло ему жизнь. Прыгун здесь все-таки был. Может быть, месяц, а может, и больше, он терпеливо ждал своей минуты — неподвижный и безмолвный, закамуфлированный под огромный рыжий валун. Парра скорей почувствовал, чем услышал характерный свист сжатого воздуха, и в то же мгновение с хриплым криком «берегись!» бросился навзничь. А Круглов не успел.
Прыгун находился на одной прямой с обоими людьми и прыгнул прямо в лоб. Перелетев через упавшего Парру, врезался массивным телом со всей силой реактивной отдачи выброшенной воздушной струи Круглову в левое плечо, отшвырнув его как пушинку на камни. Круглов не был убит сразу потому, что бросок прыгуна был рассчитан на Парру, а не на него.
Вскочивший на ноги Парра увидел Круглова, неподвижно застывшего в неловкой позе, и неспешно ползущего к нему прыгуна. Торопясь, сорвал с пояса последнюю сигнальную ракету и, направив на животное, дернул за спусковой шнурок. Ракета с шипеньем ударила в песок, оставляя след, светящийся и дымный, юркнула вниз по склону. Вслед за ней, вяло перебирая лапами, медленно съехал испуганный прыгун, чтобы где-то там, внизу, замереть и начать готовиться к новому прыжку за добычей, которая неосторожно появится рано или поздно возле его лежки. Целую неделю он будет поглощать и сдавливать мощными брюшными мышцами маленькие порции воздуха. Целую неделю этот прыгун теперь будет неопасен, но от того людям не было легче.
У Круглова было разодрано плечо и, вероятно, сломана ключица. Из-под шлема по щеке сбегала струйка крови. Когда Парра подбежал к нему, он был еще в сознании и, обозначив пересохшими губами улыбку, попытался что-то сказать, но тут же опустил веки и как-то сразу обмяк всем своим большим телом. Нащупав редкий пульс, Парра попробовал влить ему в рот остатки сока, но влага стекла по сомкнутым губам на землю, мешаясь с лужицей густеющей крови.
Уже потом Парра вспоминал, что в эти минуты он почти не волновался верно на эмоции уже не было сил. Он вдруг отчетливо и спокойно осознал, что если они все же ошиблись в выборе направления и за холмами не окажется Станции, это означает скорую смерть Круглова, а затем и его собственную.
Он не ужаснулся мысли о том, что если бы Круглов умер сразу, то это значительно повысило бы его собственные шансы на спасение. Он отметил это, словно решающий автомат, не фиксируя и не заостряя внимания, потому что ничего не искал, а просто знал, что поступит так, как единственно должен.
Кое-как перебинтовав обрывком рубашки огромную рану, он поднял Круглова и побрел слепыми, мелкими шагами, покачиваясь от страшного напряжения. Заходящее светило растянуло по склону хрустально-ломкую тень невиданного двухголового и двуногого существа, зрящего лишь на два шага вперед, но упорно карабкающегося вверх.
Иногда Парре казалось, что пришла ночь, но в следующий миг тьма отступала, он снова ощущал свет и делал очередной шаг. Он не заметил, когда окончился подъем. Лишь почувствовав, что тяжесть словно уменьшилась и даже подталкивает вперед, Парра остановился.
Холмы были справа и слева. Холмы были далеко впереди. Тени уходящего дня темным пухом покрывали половину долины, лежащей перед Паррой, но того, что он видел ясно, было вполне достаточно.
В этой долине Станции не было.
Станции не было, но зато Парра увидел то, что во сто крат было нужней. Медленным вечерним блеском внизу мерцала вода.
Он смутно помнил, что было потом. Кажется, он опустил Круглова на землю и побежал к воде. Кажется, что, пробежав немного, он вернулся обратно, поднял и снова потащил Круглова вниз по склону.
Провал. И словно яркая вспышка в сознании — удивительный вкус влаги.
Он ощущал воду губами, языком, кожей лица и рук, и пил, пил бесконечно долго из этого небольшого, почти круглого озерца, всего шагов пятьдесят в диаметре.
Он почувствовал себя посвежевшим и отдохнувшим. К нему вернулась способность размышлять и оценивать. Парра набрал воды в пустой баллончик из-под сока и подошел к Круглову, лежащему в невысоком, но густом кустарнике, который рос по берегу вокруг озера, питаясь его водами. Почти вся вода пролилась, стекая, как и раньше, по резко обозначившимся складкам в уголках рта. Затем губы Круглова разомкнулись. Медленно-медленно раскрылись глаза.
«Дошли…» — скорей угадал, чем услышал, Парра в шелесте дыхания товарища. Он еще думал над тем, стоит ли объяснять Круглову, что они не на Станции, что это только короткая отсрочка, а Круглов уже снова потерян сознание. Он дышал теперь спокойней и глубже, будто спал, но Парра не обольщался. Красная полоска кожи по границе наскоро наложенной повязки подтверждала, что Круглов обречен. Без сыворотки и антибиотиков яд прыгуна закончит начатое за десять — двенадцать часов.
Было невероятной беспечностью вылетать на двухместном флаере без индивидуальных комплектов. Собственно, это был даже не полет, а просто двухкилометровый прыжок от Станции к лагерю геологов. Просто и обычно, как ежедневная пробежка перед завтраком. Они оба забыли, всего на минуту, что планета пока еще не прощает человеку беспечности.
Смерч ударил по машине в верхней точке полетной траектории. Он начинался в верхних слоях атмосферы, невидимый и оттого нежданный.
Джинн из бутылки, бесплотный всесильный колдун рубанул мягким мощным кулаком по плоскостям, за одну секунду скрутил и сорвал рули. В следующий миг основание смерча коснулось почвы и втянуло в воронку массы песка. Верх и низ смешались без меры, небо и поверхность планеты утратили различия, а звуки потеряли определенность. На отчаянном форсаже Круглов вывел флаер из тела смерча. Парра успел заметить удаляющийся фронт бури и стремительно набегающую поверхность земли. Лишенный управления и энергии в борьбе со шквалом, флаер падал.
Они с Кругловым, в общем-то, не пострадали. Сработала катапульта и посадочные гравиблоки. Но чуть раньше они увидели вспышку и столб поднятого в воздух песка. Взорвался упавший флаер. На двоих у них осталось три ракеты и два баллончика сока. Они не знали, в какой стороне Станция и далеко ли занесла их буря. Они не знали, куда идти.
«Ничего, — сказал тогда Круглов, — флаер так бабахнул — не то что на Станции, на Земле услышат. И ракеты не понадобятся».
Их, конечно же, искали. Остаток дня и первую ночь они провели у обломков флаера, выпустив в звездное ясное небо две ракеты. Дождавшись утра, решили идти.
Круглов умирал и уже не чувствовал этого. В наступившей темноте Парра не видел, как далеко распространилось заражение, но ясно представлял, что увидит, когда наступит рассвет.
В оазисе они были не одни. Парра угадывал в чаще кустарника осторожное движение ночных обитателей планеты. Все они здесь были, по-видимому, малы и безобидны, потому что сами опасались людей и не подходили к ним близко. Парра не возражал против такого соседства. Присутствие всех этих мелких тварей говорило о том, что настоящие хищники далеко отсюда. Очень кстати. Любой из настоящих хищников планеты справился бы с человеком, не успев даже оцарапаться об обломок породы, что был подобран Паррой засветло на берегу. Но хищники в долине все же были.
Парра вздрогнул и напрягся. Воздух разорвал свирепый звериный вопль, слившийся с криком жертвы. Где-то у подножия песчаной гряды шла схватка. С хриплым рычанием сталкивались в борьбе тела.
Хищник опять взвыл. Разочарование, ярость и боль угадал Парра в этом крике. Вой вибрировал на самой высокой ноте, удаляясь, и затих вдалеке. В этот раз хищнику, по-видимому, не повезло.
Парра неподвижно сидел, сжимая в руке бесполезный обломок камня, до боли в висках вслушиваясь в окружавшую людей чужую и опасную ночь.
Тяжко захрустел кустарник. Кто-то тяжелый и мощный шел к озеру, поднимая слабые стебли, всего метрах в двадцати от того места, где находились люди. Парра отчетливо слышал трудное дыхание и неуверенные шаги зверя. Остро запахла свежая кровь. Всплеснула потревоженная вода. Раненое животное погрузилось в озеро и затихло, словно совсем пропало. Больше ничего не услышал Парра, как ни прислушивался к ночной тишине.
Под утро он забылся. Не выпуская каменного обломка из рук, покачиваясь, сидел у неподвижного тела Круглова в зыбкой дреме, пока не пришел рассвет. И снова шум воды заставил его очнуться. Сквозь ветки кустарника Парра увидел, как из озера выбирается на берег вчерашний зверь.
Животное шумно отряхнулось и тяжелой уверенной рысцой побежало прочь. Парра машинально проводил его взглядом и повернулся к Круглову. Он хорошо знал, что должен увидеть, но все-таки посмотрел. Посмотрел и замер, охваченный вспыхнувшей сумасшедшей надеждой. Круглое был жив. Багровый цвет за ночь распространился дальше по его телу, но совсем не так далеко, как ожидал Парра, как должно было быть спустя полсуток после атаки прыгуна. Круглов обречен был умереть до рассвета, но он жил. Парра ощущал его пульс, слабый, но ясный и ритмичный.
И вдруг внезапная догадка пронзила его мозг. Такая невероятная и неожиданная, что он тут же ее отбросил, но помимо воли вновь вернулся к ней. Он поднялся и пошел вдоль берега, раздвигая кустарник. Далеко идти не пришлось. Он увидел уходящий в воду след, промятый грузным телом в траве. След тяжко раненного животного, весь в больших пятнах почерневшей, засохшей крови.
Вряд ли он до конца верил в успех. Но надежда, отчаянная и яркая, заставила его забыть о сомнении.
Он разодрал и осторожно стянул с Круглова рубашку. Развязал и снял заскорузлую от крови повязку, усилием воли заставляя себя не отворачиваться от страшной багровой раны со следами начавшегося разложения. Поднял Круглова и отнес в озеро. Сейчас Парра совсем иначе, чем вчера, ощущал эту воду. Он стоял на коленях на мелком мягком дне, поддерживая над поверхностью, похожей на черное стекло, голову Круглова. Теплая темная вода делала смутными очертания тела товарища, но Парре уже не нужно было что-либо видеть. Постепенно, но неуклонно надежда сменялась уверенностью.
Через час Круглов слабо шевельнулся и открыл глаза. Его удивленный взгляд скользнул вокруг и остановился на лице Парры.
— Пить, — тихо попросил он, и тут Парра не выдержал.
Он расхохотался истеричным, диким смехом, весь сотрясаясь в крупной дрожи. Он хотел объяснить Круглову, как это смешно: сидеть по шею в воде и просить пить, но не мог ничего произнести кроме одного только слова:
— Пей!.. Пей!.. Пей!.. — и продолжал смеяться до тех пор, пока не понял, что уже не может остановиться.
Он с силой ударил себя мокрым кулаком по лицу. Боль в разбитых губах вернула его к действительности.
— Ничего, — ответил он на испуганный взгляд Круглова, — ничего. Все в порядке.
Волны смеха еще дважды вырывались наружу, но он подавлял их отчаянным усилием воли.
Красный диск светила поднялся над холмами на два своих диаметра, когда Круглое смог самостоятельно повернуться в воде. С этого момента дело пошло гораздо быстрей. Скоро Круглов шевелил раненой рукой — сначала в воде, потом уже на воздухе. Рана затягивалась, багровая опухоль опадала, рассасывалась почти на глазах. В полдень они вышли из озера совсем.
И Парра и сам Круглов недоверчиво разглядывали неровный шрам на тонкой белой коже плеча, еще не узнавшей ни солнца, ни ветра, сразу начавшей краснеть под прямыми отвесными лучами Нерима-2, такого же жаркого, как Солнце.
— Рубашка-то где? — забеспокоился Круглов. — Сгорю ведь к чертям!
Парра торжественно протянул ему окровавленные лохмотья.
— Носи на здоровье.
— Скажи пожалуйста! — удивился Круглов. — Сберег! По-твоему это рубашка? Ты не помнишь, где тут был воротник?
— Ты слишком требователен ко мне, — сказал Парра. — Не помню.
И великодушно предложил:
— Если ты без воротника не обойдешься, могу отдать тебе свой. Он у меня сравнительно чистый, правда, неглаженый. Только, пожалуйста, поскорей. Мы можем опоздать к ленчу.
Они становились такими, какими их знали все на Станции, какими они давно знали друг друга.
— В самом деле пора, — сказал Круглов уже серьезно. — Неизвестно, сколько нам еще топать. Ракет больше не осталось?
— Нет, — помотал головой Парра.
— Жаль, — озабоченно сдвинул брови Круглов. — Неплохо было бы… Хотя бы на крайний случай… А, наплевать. И так дойдем.
— Дойдем, — подтвердил Парра.
Они шагнули в кустарник, но Круглов вдруг остановился.
— Подожди! Слушай, как бы нам это озеро не потерять. Нам же никто не поверит на слово. Живое озеро, подумать только!
— Не бойся, — сказал Парра, — никуда оно не денется. Разыщем. Дойдем до Станции и вернемся на вездеходах.
— Была такая примета, — мечтательно сказал Круглов, — в море, в реку, в фонтан бросали на память монеты, чтобы когда-нибудь вернуться. Ты веришь в приметы?
— Кто его знает! — честно ответил Парра. — Не верю, наверное. А у тебя монеты есть?
— Откуда у меня монета? Я не нумизмат. Да и где их теперь достанешь, монеты? Разве что на Земле… У меня вот что есть. Смотри!
Расстегнув чудом уцелевший карман рубашки, Круглов извлек блестящее стальное колечко.
— Что это?
— Кольцо от ремня безопасности. Подобрал, сам не знаю зачем, там, возле воронки от флаера.
Парра повертел колечко в пальцах и вернул Круглову.
— Чушь, суеверие, — сказал он. — Все равно бросай. Если бы не это озеро…
— Если бы не озеро… — эхом повторил Круглов и швырнул колечко на середину.
Блеснув в последний раз, колечко скрылось в темной воде. Люди постояли еще с минуту и зашагали выбранной дорогой.
Они еще раз перевалили через гряду холмов и вновь вышли в пустыню. На следующий день они встретили вездеход со спасателями.
На мягком илистом дне лежал кусочек железа, брошенный в озеро Кругловым. Всплеск воды, рожденный его падением, давно затих. Темная гладь была неподвижна, как прежде, но под ее поверхностью родилась новая волна невидимая губительная волна уничтожения. Колечко еще не начало ржаветь, но мириады животворных бактерий, уникальная культура которых тысячелетиями эволюционировала в замкнутом объеме озера, погибали, разрушаясь в контакте с металлом. Их останки, отравляя воду вокруг себя, сами становились причиной гибели миллионов других, а те, в свою очередь, следующих.
Все кончилось очень быстро и незаметно.
…Дорога пересекала пустыню почти по прямой и лишь у холмов делала крутой поворот, уходя в тоннель, пробитый в мягком песчанике. Перед поворотом автомобиль затормозил, и мужчина, отвлекшись от своих мыслей, впервые за последние два часа взглянул на дорогу.
— Где мы? — спросил он.
— Долина Живого озера, — ответила женщина за рулем. — Я еще ни разу здесь не бывала. Говорят, очень красивое место. Остановимся?
«Все-таки нужно было уговорить ее лететь флаером», — подумал мужчина, но вслух произнес:
— Конечно, если тебе хочется.
Машина пошла совсем медленно и после еще одного поворота остановилась на обзорной площадке.
— Какая черная вода, — сказала женщина, — даже жутко.
— Толстый слой ила на дне, — флегматично объяснил мужчина, — само озерцо неглубокое. Поэтому такое впечатление. В сущности, почти болото.
— А почему называется Долина Живого озера? Ты знаешь?
Мужчина с легким нетерпением повел плечом.
— Среди разведчиков планеты ходила такая легенда. Будто озеро почти мгновенно излечивает раны, воскрешает из мертвых и так далее… Довольно обычное суеверие в среде десантников. Здешние грязи, конечно, имеют определенные целебные свойства, но особого интереса не представляют.
— А я слышала по-другому, — сказала женщина. — Что в долине когда-то били теплые источники, богатые минеральными солями. Вода из них собиралась в озерца. Не в это, конечно… Источники стимулировали регенерацию живых тканей. Только после землетрясения источники иссякли. Говорят, это было давно, еще до появления на планете первых людей. Еще до первого десанта.
— Может быть, — равнодушно согласился мужчина. — Все-таки нужно было лететь на флаере.
— Да, да, поехали, — заторопилась женщина.
— Живое озеро, — повторила она уже в машине, — красивая мечта!
— Сказка, — пробурчал мужчина, погружаясь в дремоту.
ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА
Урсула Ле Гуин МАСТЕРА
Нагой, он стоял один, во тьме, и обеими руками держал над головой горящий факел, от которого густыми клубами валил дым. В красном свете факела землю под ногами было видно всего на несколько шагов вперед; дальше простирался мрак. Время от времени налетал порыв ветра; вдруг становился виден (или это только ему мерещилось?) блеск чьих-то глаз, становилось слышно подобно далекому грому бормотанье: «держи его выше!» Он тянул факел выше, хотя руки дрожали и факел в них дрожал тоже. Бормочущая тьма, обступив его, закрывала все пути к бегству.
Красное пламя заплясало сильней, ветер стал холоднее. Онемевшие руки задрожали снова, факел начал клониться то в одну сторону, то в другую; по лицу стекал липкий пот; уши уже почти не воспринимали тихого, но все вокруг заполняющего рокота: «Выше, выше держи!»… Время остановилось, но рокот разрастался, вот он уже стал воем, но почему-то (и это было страшно) в круге света по-прежнему не появлялся никто.
— Теперь иди! — бурей провыл могучий голос. — Иди вперед! Не опуская факела, он шагнул вперед. Земли под ногой у него не оказалось. С воплем о помощи он упал в тьму и гул. Впереди не было ничего, только языки пламени метнулись к его глазам — падая, он не выпустил из рук факела.
Время… время, и свет, и боль, все началось снова. Он стоял на четвереньках в канаве, в грязи. Лицо саднило, а глаза, хотя было светло, видели все (мир), как сквозь пелену тумана. Он оторвал взгляд от своей запятнанной грязью наготы и обратил его к стоящей над ним светлой, но неясной фигуре. Казалось, что свет исходит и от ее белых волос, и от складок белого плаща. Глаза смотрели на Ганиля, голос говорил:
— Ты лежишь в Могиле. Ты лежишь в Могиле Знания. Там же лежат и больше не поднимутся никогда из-под пепла от Адского Огня твои предки.
Голос стал тверже:
— Встань, падший Человек!
Ганиль, пошатываясь, встал на ноги. Белая фигура продолжала, показывая на факел:
— Это Свет Человеческого Разума. Это он привел тебя в могилу. Брось его.
Оказывается, рука его до сих пор сжимает облепленную грязью черную обугленную палку; он разжал руку.
— Теперь, восстав из мрака, — почти пропела, торжественно и ликующе, лучезарная фигура, — иди в Свет Обычного дня!
К Ганилю, чтобы поддержать его, потянулось множество рук. Рядом уже стояли тазы с теплой водой, кто то уже мыл его и тер губками; потом его вытерли досуха. И вот он стоит чистый, и ему очень тепло в сером плаще, заботливо накинутом на его плечи, а вокруг, в большом светлом зале, повсюду слышатся веселая болтовня и смех, Какой-то лысый человек хлопнул его по плечу:
— Пошли, уже пора давать Клятву.
— Все… все сделал правильно?
— Абсолютно! Только слишком долго держал над головой этот дурацкий факел, Мы уже думали, что нам весь день придется рычать в темноте. Идем.
Потолок, лежащий на белых балках, был очень высокий; пол под ногами был черный; с потолка до пола (высота стен была, футов в тридцать) ниспадал сверкающий белизной занавес, и к нему повели Ганиля.
— Завеса Тайны, — совсем буднично пояснил ему кто-то.
Говор и смех оборвались; теперь все молча и неподвижно стояли вокруг него. В этом безмолвии белый занавес раздвинулся. По-прежнему, как сквозь туман, Ганиль увидел высокий алтарь, длинный стол, старика в белом, облачении.
— Поклянешься ли ты вместе нашей Клятвой?
Кто-то, слегка толкнув Ганиля, подсказал ему шепотом: «Поклянусь».
— Поклянусь, — запинаясь, проговорил Ганиль.
— Клянитесь же, давшие Клятву! — и старик поднял над головой железный стержень, на конце которого был укреплен серебряный «икс», — «Под Крестом Обычного Дня клянусь не разглашать обряды и тайны моей Ложи».
— «Под Крестом… клянусь… обряды…» — забормотали вокруг: Ганиля опять толкнули, и он забормотал вместе с остальными:
— «…Хорошо поступать, хорошо работать, хорошо думать…»
Когда Ганиль повторил эти слова, кто-то шепнул ему на ухо: «Не клянись».
— «…Бежать всех ересей, предавать всех чернокнижников Судам Коллегии и повиноваться Высшим Мастерам моей Ложи от, ныне и до самой смерти…»
Бормотанье, бормотанье… Одни вроде бы действительно повторяли длинную фразу, другие, похоже, нет; Ганиль, совсем растерявшись, не зная, как ему быть, пробормотал слово или два, потом умолк.
— «…и клянусь не посвящать в Тайну Машин тех, кому не надлежит ее знать. Я призываю в свидетели моей клятвы Солнце».
Голоса потонули в оглушительном скрежету, часть потолка вместе с кровлей медленно, рывками, начала подниматься, и за ней показалось желто-серое, затянутое облаками летнее небо.
— Смотрите же на Свет Обычного Дня! — вдохновенно возгласил старик.
Ганиль поднял голову и уставился вверх. Поднимавшаяся на оси часть крыши остановилась на полпути — по-видимому, в механизме что-то заело; раздалось громкое лязганье, потом наступила тишина. Очень медленно старик подошел к Ганилю, поцеловал его в обе щеки и сказал:
— Добро пожаловать, Мастер Ганиль, отныне и ты причастен обрядам Тайны Машин.
Посвящение совершилось, Ганиль был теперь одним из Мастеров своей Ложи.
— Ну и ожог же у тебя! — сказал лысый.
Все они уже шли по коридору назад, Ганиль ощупал лицо рукой, кожа на левой стороне, на щеке и у виска, была ободрана, и дотрагиваться было больно.
— Тебе здорово повезло, что уцелел глаз, — продолжал лысый.
— Чуть было не ослеп от Света Разума, а? — сказал тихий голос.
Обернувшись, Ганиль увидел человека со светлой кожей и голубыми глазами — голубыми по-настоящему, как у кота-альбиноса или у слепой лошади, Ганиль, чтобы не смотреть на уродство, сразу отвел глаза в сторону, но светлокожий продолжал тихим голосом (что был тот же самый голос, который во время принесения Клятвы прошептал: «Не клянись»):
— Я Миид Светлокожий, мы с тобой будем работать вместе в Мастерской Ли. Как насчет пива, когда мы отсюда выберемся?
Было очень странно после всех потрясений и торжественных церемоний этого дня очутиться в сыром, пахнущем пивом тепле харчевни. Голова у Ганиля закружилась, Миид Светлокожий выпил полкружки, с видимым удовольствием стер с губ пену и спросил:
— Ну, что ты скажешь о посвящении?
— Оно… оно…
— Подавляет?
— Да, — обрадовался Ганиль, — лучше не скажешь — именно подавляет.
— И даже… унижает? — подсказал Светлокожий.
— Да, великое… великое таинство.
Ганиль сокрушенно уставился в кружку с пивом, Миид улыбнулся и сказал тем же своим тихим голосом:
— Знаю, а теперь допивай скорей. Пожалуй, тебе следует показать этот ожог Аптекарю.
Ганиль послушно вышел за ним следом на вечерние узкие улочки, забитые пешеходами и повозками — как на лошадиной и воловьей тяге, так и пыхтящими самодвижущимися. На Торговой площади ремесленники сейчас запирали на ночь свои будки, и уже были закрыты на крепкие засовы огромные двери Мастерских и Лож на Высокой улице. То там, то здесь, словно растолкав нависающие над улицей, налезающие один на другой дома, появлялся гадкий, без окон, желтый фасад храма, украшенный лишь полированным медным кругом. В темных, недолгих летних сумерках под неподвижной пеленой облаков темноволосые, бронзовокожие люди Обычного дня собирались группами, стояли без дела, толкались и разговаривали, переругивались и смеялись, и Ганиль, у которого от усталости, боли и крепкого пива кружилась голова, старался держаться поближе к Мииду; хоть он и был теперь Мастером, чувство у Ганиля было такое, как будто только этот голубоглазый незнакомец знает путь, которым ему, Ганилю, следует идти.
— XVI плюс XIX, — раздраженно сказал Ганиль. — Что за чушь, юноша, ты что, складывать не умеешь?
Ученик густо покраснел.
— Так, значит, не получается, Мастер Ганиль? — неуверенно спросил он.
Вместо ответа Ганиль вогнал до отказа металлический прут в его гнездо в паровом двигателе, который юноша чинил; прут оказался на дюйм длиннее, чем нужно.
— Что из-за того, Мастер, что большой палец у меня слишком длинный, — сказал юноша, показывая свои руки с узловатыми пальцами. Расстояние между первым и вторым суставами большого пальца было и в самом деле необычно велико.
— Да, это правда, — сказал Ганиль, его темное лицо стало еще темнее.
— Очень интересно. Но не важно, короткая или длинная у тебя мерка — важно только, чтобы ты применял ее последовательно. И что еще важно, запомни, ты, тупица, так это то, что если сложить XVI и XIX, XXXVI не получается, не получалось и, пока стоит мир, не получится никогда — а ты невежда и непосвященный!
— Да, Мастер, очень трудно запомнить.
— А это, Уонно Ученик, нарочно так сделано, — послышался низкий голос Ли, Главного, Мастера, широкоплечего толстяка с блестящими черными глазами. — На одну минутку, Ганиль.
У он повел его в дальний угол огромной Мастерской, едва они отошли от ученика на несколько шагов, Ли весело сказал:
— Вам, Мастер Ганиль, немножко не хватает терпения.
— Таблицы сложения Уонно должен бы уже знать.
— Иногда даже Мастера забывают что-то из этих таблиц, — Ли отечески похлопал Ганиля по плечу, — знаешь, ты, говорил так, будто ожидал, что он это вычислит! — Он захохотал звучным басом, из-за завесы этого хохота поблескивали его глаза, веселые и бесконечно умные, — Тише едешь, дальше будешь… Если я не ошибаюсь, накануне ближайшего Дня Отдыха ты у нас обедаешь?
— Я взял на себя смелость…
— Превосходно, превосходно! Желаю успехе! Вот хорошо будет, если у нее появится такой положительный парень, как ты! Но предупреждаю честно, моя дочь своенравная девчонка, — и Главный Мастер снова захохотал.
Ганиль заулыбался, немного растерянный, Лани, дочь Главного вертела, как хотела, не только работавшими в мастерской юношами, но, и собственным своим отцом. Сперва этой девушки, смышленой, живой как ртуть, Ганиль даже побаивался. Только потом он заметил, что, когда она разговаривает с ним, в поведении ее появляется какая-то робость, а в голосе начинают звучать просительные нотки. Наконец, он набрался духу и попросил у ее матери, чтобы та пригласила его на обед, то есть совершил первый официальный шаг в ухаживании.
Ли уже ушел, а он все стоял на том же месте и думал об улыбке Лани.
— Ганиль, ты когда-нибудь видел Солнце?
Тихий голос, бесстрастный и уверенный, он повернулся, и его глаза встретились с голубыми глазами друга.
— Солнце? Да, конечно.
— Когда это было в последний раз?
— Сейчас скажу. Мне тогда было двадцать шесть; значит, четыре года тому назад. А ты тогда разве не был здесь, в Идане? Оно показалось к концу дня, о потом, ночью, были видны звезды. Помню, я насчитал восемьдесят одну, и после этого небо закрылось снова.
— Я в это время был севернее, в Келинге; меня тогда как раз посвятили в Мастера.
Миид говорил, опираясь на деревянный Барьер вокруг Образца большой паровой машины, светлые глаза его смотрели не в глубь мастерской, где вовсю кипела работа, а на окна, за которыми упорно моросил мелкий дождь поздней осени.
— Слышал, как ты сейчас отчитывал юношу Уонно. «Важно то, что если сложить XVI и XIX, XXXVI не получается»… А потом: «Мне тогда было двадцать шесть; значит, четыре года тому назад… Я насчитал восемьдесят одну… Еще немного, Ганиль, и ты бы начал вычислять.
Ганиль нахмурился, и рука его, непроизвольно поднявшись потерла шрам, светлевший у него на виске.
— Да ну тебя, Миид! Даже непосвященные различают IV и XXX!
Миид чуть заметно улыбнулся. Он уже держал в руке свою палку для Измерений и рисовал ею на пыльном полу Окружность.
— Что это такое? — спросил он.
— Солнце.
— Правильно. Но это также и… знак, знак, который обозначает. Ничто.
— Ничто?..
— Да. Его можно использовать, например, в таблицах вычитания. От II отнять I будет I, не так ли. Но что останется, если от II отнять II? — Он помолчал. Потом постучал палкой по нарисованному на полу кругу. — Останется это.
— Да, конечно, — Ганиль не отрываясь глядел на круг, священный образ Солнца, Скрытого Света, Лица Бога. — Кто хозяева этого знания? Священнослужители?
— Нет, — Миид перечеркнул круг «Иксом». — Вот этого — да, они.
— Тогда чье… кто хозяева знания о… знаке, который обозначает Ничто?
— Да нет у него хозяина — или, скорей, хозяева все. Это не Тайна.
Ганиль изумленно сдвинул брови, Они говорили вполголоса, стоя почти вплотную друг к другу, словно обсуждая промер, сделанный Палкой для Измерений.
— Почему ты считал звезды, Ганиль?
— Мне… мне хотелось знать, Я всегда любил счет, числа, таблицы действий. Поэтому я и стал Механиком.
— Да. Теперь: тебе ведь уже тридцать, и уже четыре месяца как ты Мастер. Задумывался ты когда-нибудь — Ганиль, что если ты стал Мастером, это значит: в своей профессии ты знаешь все? Отныне до самой смерти тебе уже не узнать ничего больше. Больше просто ничего нет.
— Но Главные…
— …знают еще несколько тайных знаков и паролей, — перебил, его Миид тихим и ровным голосом, — и, конечно, у них есть власть. Но в своей профессии они знают не больше, чем ты… Ты, может, думал, что им разрешено вычислять? Нет, не разрешено.
Ганиль молчал.
— И однако, Ганиль, кое-что еще узнать можно.
— Где?
— По ту сторону городских стен.
Прошло немало времени, прежде чем Ганиль заговорил снова: — Я не могу слушать такое, Миид. Больше не говори со мной об этом. Предавать тебя я не стану.
Ганиль повернулся и зашагал прочь. Лицо его искажала ярость. Но огромное усилие воли понадобилось для того, чтобы обратить эту ярость, казалось бы, беспричинную, против Миида, человека столь же уродливого духом, сколь и телом, дурного советчика и прежнего, ныне утраченного друга.
Вечер оказался очень приятным: веселье било из Ли ключом его толстая жена обращалась с Ганилем как с родным сыном, а Лани была совсем кроткой и сияла от радости. Юношеская неуклюжесть Ганиля по-прежнему вызывала в ней непреодолимое желание его поддразнивать, но, даже поддразнивая, она как будто просила его о чем-то и еду уступала; казалось, еще немного — и весь ее задор превратится в нежность. В какой-то миг, когда она передавала блюдо, рука ее коснулась его руки. Вот здесь, на ребре правой ладони, около запястья, одно легкое прикосновенье — он помнил это так ясно! Сейчас, лежа в постели в своей комнате над мастерской, в кромешной темноте городской ночи, он застонал от переполнявших его чувств, ухаживанье — дело долгое, протянется месяцев восемь, самое меньшее, и все будет развиваться очень медленно и постепенно — ведь речь, как-никак, идет о дочери Главного. Нет, думать о Лани просто непереносимо! Не надо про нее думать… думай… про Ничто, и он стал думать про Ничто. О круге. О пустом кольце, сколько будет 0, умноженное на I? Столько же, сколько 0, умноженное на II. А если поставить I и 0 рядом… что будет означать I0?
Миид Светлокожий приподнялся и сел в постели; каштановые волосы, падая на лицо, закрывали его голубые глаза, и он, откинув их назад, попытался разглядеть, кто мечется по его комнате. Сквозь окно пробивался грязно-желтый свет раннего утра.
— Сегодня День Отдыха, — проворчал Миид, — уходи, дай мне спать.
Неясная фигура воплотилась в Ганиля, метание по комнате — в шепот. Ганиль шептал:
— Миид, посмотри!
Он сунул Мииду под нос грифельную доску:
— Посмотри, посмотри, что можно делать этим знаком, который обозначает Ничто!
— А, это, — сказал Миид.
Он оттолкнул Ганиля с его грифельной доской, спрыгнул с постели, окунул голову в ледяную воду в тазу, стоявшем на сундуке с одеждой, и там ее подержал. Потом, роняя капли воды, он вернулся к кровати и сел.
— Давай посмотрим.
— Смотри, за основу можно принять любое число — я взял XII, потому что оно удобное. Вместо XII, посмотри, мы пишем 1–0, а вместо ХIII — 1–1, а когда доходим до XХIV, то…
— Ш-ш!
Миид внимательно перечитал написанное. Потом спросил:
— Хорошо все запомнил?
Ганиль кивнул, и тогда Миид рукавом стер с доски наполнявшие ее красиво выписанные знаки.
— Мне не приходило в голову, — заговорил он опять, — что основой может стать любое число, Но посмотри: прими за основу Х — через минуту я объясню тебе почему — и вот способ сделать, все легче. Вместо Х будет писаться 10, а вместо XX — 20, но вместо XXII напиши вот что, — и он написал на доске «22».
Ганиль глядел на эти два знака, как зачарованный, Наконец, он заговорил каким-то не своим, срывающимся голосом:
— Ведь это… одно из черных, чисел?
— Да, ты, Ганиль, пришел к черным числам сам, но как бы через заднюю дверь.
Ганиль, сидевший рядом, молчал.
— Сколько будет CXX, умноженное на МСС? — спросил Миид.
— Таблицы так далеко не идут.
— Тогда смотри.
И Миид написал на доске:
1200 Х 120 -
а потом -
0000
2400 1200 -
144000
Опять долгое молчание.
— Три Ничто, умноженные на XII… — забормотал Ганиль. — Дай мне доску.
Слышались только монотонный стук падающих капель за окном и поскрипывание мела. Потом:
— Каким черным числом обозначается VIII?
К концу этого холодного Дня Отдыха они ушли так далеко, как только Миид смог увести за собой Ганиля. Правильней даже было бы сказать, что Ганиль перегнал Миида и под конец тот уже не мог за ним поспевать.
— Тебе нужно познакомиться с Йином, — сказал Миид, — Он может научить тебя тому, что тебя, интересует, Йин работает с углами, треугольниками, измерениями. Он своими треугольниками может измерить расстояние между любыми двумя точками, даже если до этих точек нельзя добраться, Он замечательный догадчик, числа — самое сердце его знания, язык, на котором оно говорит.
— И мой тоже.
— Да, я это вижу. Но не мой, я люблю числа не ради них самих. Мне они нужны как средство, чтобы с их помощью объяснять… Вот если, например, ты бросаешь мяч, отчего он летит?
— Оттого, что, ты его бросил, — и лицо у Ганиля расплылось в широкой улыбке.
Он был бледен, а в голове у него звенело, как в пустом бочонке, от шестнадцати — минус короткие перерывы для еды и сна, часов чистой математики; и он уже потерял весь свой страх, все смирение. Он улыбался как властитель, вернувшийся из долгого изгнания к себе домой.
— Прекрасно, — сказал Миид, — Но почему он летит и не падает?
— Потому, что… его поддерживает воздух?
— Тогда почему потом он все же падает? Почему он движется по кривой? Что это за кривая. Видишь, зачем нужны мне твои числа?
Теперь на властителя был похож Миид, но не на довольного, а рассерженного, чьи владения огромны, и поэтому ими слишком трудно управлять.
— И они, в своих тесных Мастерских за ставнями, — презрительно фыркнул он, — могут еще говорить о Тайнах! Ну ладно, давай пообедаем — и к Йину.
Высокий старый дом, пристроенный вплотную к городской стене, глядел освинцованными окнами на двух молодых Мастеров внизу на улице. Над крутыми черепичными крышами, блестевшими от дождя, нависли зеленовато-желтые сумерки поздней осени.
— Йин был, как мы, Мастером-Механиком, — сказал Миид, пока они ждали у обитой железными полосами двери, — Теперь он больше не работает, сам увидишь почему. К нему приходят люди из всех Лож — Аптекари, Ткачи, Каменщики, ходят даже несколько ремесленников и мясник — он разрезает и рассматривает мертвых кошек.
Последние слова Миид произнес добродушно, но чуть насмешливо. Наконец, дверь открылась, и слуга провел их наверх, в комнату, где в огромном камине пылали поленья; с дубового кресла с высокой спинкой поднялся навстречу им человек и их приветствовал.
Ганилю, когда он его увидел, сразу вспомнился один из Высших Мастеров его Ложи — тот, что кричал ему, когда он лежал в Могиле: «Встань!» Йин тоже был старый и высокий, и на нем тоже был белый плащ Высшего Мастера. Только Йин, в отличие от того, сутулился, и лицом, морщинистым и усталым, был похож на старую гончую. Здороваясь, он протянул Мииду и Ганилю левую руку — у правой руки кисти не было, она оканчивалась у запястья давно залеченной блестящей культей.
— Это Ганиль, — уже знакомил их Миид. — Вчера вечером он додумался до двенадцатиричной системы счисления. Добейтесь от него, Мастер Йин, чтобы он занялся для меня математикой кривых.
Йин засмеялся тихим и коротким старческим смехом.
— Добро пожаловать, Ганиль. Можешь приходить сюда, когда захочешь. Мы все здесь чернокнижники, все занимаемся ведьмовством — или пытаемся заниматься… Приходи, когда захочешь, в любое время — днем, ночью. И уходи, когда захочешь, если нас предадут, так тому и быть. Мы должны доверять друг другу. Любой человек имеет право знать все; мы не храним Тайну, а ее разыскиваем. Понятно тебе, о чем я говорю?
Ганиль кивнул. Находить нужные слова ему всегда было нелегко; вот с числами обстояло совсем иначе. Слова Йина его очень тронули, и от этого он смутился еще больше, И ведь никого здесь не посвящали торжественно, никаких клятв не требовали — просто говорил, спокойно и негромко, незнакомый старик.
— Ну, вот и хорошо, — сказал Йин, как будто кивка Ганиля было вполне достаточно, — Немножко вина, молодые Мастера, или пива? Темное пиво удалось мне на славу в этом году, Так, значит, Ганиль, ты любишь числа?
Была ранняя весна, и Ганиль стоял в мастерской и следил за тем, как, ученик Уонно снимает своей Палкой для Измерений размеры с образца двигателя самодвижущейся повозки. Лицо у Ганиля было мрачным. Он изменился за эти месяцы, выглядел теперь старше, жестче, решительней, да и немудрено
— четыре часа сна в сутки и изобретение алгебры не прошли бы ни для него бесследно.
— Мастер Ганиль… — робко сказал нежный голосок у него за спиной.
— Измерь снова, — приказал он ученику и удивленно повернулся к девушке.
Лани тоже стала другой, Лицо у нее было напряженным, глаза тоскливыми, и говорила она теперь с Ганилем как-то испуганно, Он совершил второй шаг ухаживанья и нанес три вечерних визита, и на этом вдруг остановился, не стал предпринимать дальнейших шагов. Такое произошло с Лани впервые, до сих пор никто еще не смотрел на нее невидящим взглядом — так, как сейчас смотрел Ганиль. Что же такое, интересно, видит его невидящий взгляд? Если бы только она могла узнать его тайну! Каким-то непонятным ему самому образом Ганиль чувствовал, что происходит в душе у Лани, и он жалел ее и немного ее боялся.
Она наблюдала за Уонно.
— Меняют ли… меняете вы хоть иногда эти размеры? — спросила она, чтобы как-то завязать разговор.
— Изменить Образец — значит впасть в Ересь Изобретательства.
На это Лани сказать было нечего.
— Отец просил — передать вам всем, что завтра Мастерская будет закрыта.
— Закрыта? Почему?
— Коллегия объявила, что начинает дуть западный ветер и, может быть, завтра мы увидим Солнце.
— Хорошо! Хорошее начало для весны, правда? Спасибо, — сказал Ганиль.
И он снова повернулся к Образцу двигателя.
Священнослужители Коллегии на этот раз оказались правы. Вообще предсказание погоды, которому они отдавали почти все свое время, было делом неблагодарным, но примерно один раз из десяти они предсказывали правильно, и именно сегодняшний день оказался для них удачным. К полудню дождь кончился, и теперь облачный покров бледнел — казалось, что он кипит и медленно течет на восток. Во второй половине дня все жители города были уже на улицах; некоторые взобрались на трубы домов, другие на деревья, третьи на городскую стену, и даже на полях, по ту сторону стены, стояли и смотрели, задрав головы, люди. На огромном внешнем дворе Коллегии ряды священнослужителей, начавшие свой ритуальный танец, сходились и расходились с поклонами, сплетались и расплетались. Священнослужитель стоял уже и в каждом храме, готовый в любой момент, потянув за цепь, раздвинуть крышу, что, бы лучи Солнца могли упасть на камни алтаря. И наконец, уже перед самым вечером, небо открылось. Желто-серая пелена разорвалась, и между клубящимися краями разрыва показалась полоска голубизны. И с улиц, площадей, окон, крыш, стен города — единый вздох, а потом глухой гул:
— Небеса, Небеса…
Разрыв в небе расширялся. На город посыпались капли, свежий ветер сносил их в сторону, и они падали не отвесно, а наискосок; и вдруг капли засверкали, словно при свете факелов ночью — но только свет, который они отражали теперь, был светом Солнца. Ослепительное, оно стояло в Небесах, и ничего, кроме него, там не было.
Как и у всех, лицо у Ганиля было обращено к небу. На этом лице, на шраме, оставшемся после ожога, он чувствовал тепло Солнца. Он не отрываясь глядел, до тех пор, пока глаза не заволокло слезами, на Огненный Круг, Лицо Бога.
«Что такое Солнце?»
Это зазвучал в его памяти тихий голос Миида. Холодная ночь в середине зимы, и они разговаривают у Йина в доме, перед камином — он, Миид, Йин и остальные, «Круг это или шар? Почему оно проходит по небу? Какой оно на самом деле величины — насколько оно от нас далеко? И ведь подумать только: когда-то, чтобы посмотреть на Солнце, достаточно было поднять голову…»
Вдалеке, где-то внутри Коллегии, раздавались лихорадочный барабанный бой и пение флейт — веселые, но чуть слышные звуки. Время от времени на непереносимо яркий лик наплывали клочья облаков, и в мире опять все становилось серым и холодным, и флейты умолкали; но западный ветер уносил облако, и Солнце показывалось снова, чуть ниже чем прежде. Перед тем как спуститься в тяжелые облака на Западе, оно покраснело, и на него уже стало можно смотреть. В эти последние мгновенья оно казалось глазам Ганиля не диском, а огромным, подернутым дымкой, медленно падающим шаром.
Шар упал, исчез.
В разрывах облаков над головой все еще видны были Небеса, бездонные, синевато-зеленые. Потом на западе, недалеко от места, где исчезло Солнце, засияла яркая точка — вечерняя звезда.
— Смотрите! — закричал Ганиль.
Но на призыв его обернулись только один или два человека: Солнце ушло, так, что может быть интересного после него — какие-то звезды? Желтоватый туман, часть савана из облаков, после Адского Огня четырнадцать поколений тому назад облекшего своим покровом из дождя и пыли всю землю, наполз на звезду и ее стер. Ганиль вздохнул — потер затекшую шею и зашагал домой, как все остальные.
Арестовали его тем же вечером. От стражников и товарищей по несчастью (за исключением Главного Мастера Ли, в тюрьме оказалась вся Мастерская) он узнал: его преступление заключается в том, что он был знаком с Миидом Светлокожим. Сам Миид обвинялся в ереси. Его видели на поле, он направлял на Солнце какой-то инструмент — как говорили, прибор для измерения расстояний. Он пытался измерить расстояние между землей и Богом.
Учеников скоро отпустили. На третий день в камеру, где был Ганиль, пришли стражники и под тихим редким дождиком ранней весны провели его в один из внутренних дворов Коллегии. Почти вся жизнь священнослужителей проходила под открытым небом, и огромный квартал, который занимала Коллегия, состоял из приземистых строений, а между ними были дворы-спальни, дворы-канцелярии, дворы, молельни, дворы-трапезные и дворы закона. В один из последних и привели Ганиля. Ему пришлось пройти между рядами заполнявших весь двор людей в белых и желтых облачениях. И, наконец, он оказался на таком месте, с которого был хорошо виден всем. Он стоял теперь на открытой площадке, перед длинным, блестящим от дождя столом, а за столом сидел священнослужитель в золотом облачении Хранителя Высокой Тайны. В дальнем конце стола сидел другой человек; по сторонам его, как и Ганиля, стояли стражники. Этот человек смотрел на Ганиля, и его взгляд, прямой и холодный, ничего не выражал; глаза у него были голубые, того же цвета, что и Небеса над облаками.
— Ганиль Калсон из Идана, вас подозревают как знакомого Миида Светлокожего, обвиняемого в Ересях Изобретательства и Вычисления. Вы были другом этого человека?
— Мы оба были Мастерами в…
— Да. Говорил он вам хоть раз об измерении без Палок для Измерения?
— Нет.
— О черных числах?
— Нет.
— О ведьмовстве?
— Нет.
— Мастер Ганиль, вы произнесли «нет» три раза. Известен ли вам Приказ Священнослужителей-Мастеров Тайны Закона, касающийся подозреваемых в ереси?
— Нет, неизв…
— Приказ гласит:
«Если подозреваемый ответит на вопросы отрицательно четыре раза, вопросы могут повторяться с применением пресса до тех пор, пока не будет дан другой ответ».
Сейчас я начну их повторять, если только вы не захотите изменить какой, нибудь из ваших ответов сразу.
— Нет, — растерянно сказал Ганиль, оглядывая бесчисленные пустые лица и высокие стены вокруг двора.
Когда вынесли какую-то невысокую деревянную машину и защелкнули в ней кисть правой его руки, он все еще был больше растерян, чем испуган. Что значит вся эта чушь? Похоже на посвящение, когда они так старались его напугать; тогда им это удалось.
— Как Механик, — говорил между тем священнослужитель в золотом, — вы, мастер Ганиль, знаете действие рычага; берете вы назад свой ответ?
— Нет, — сказал, немного сдвинув брови, Ганиль.
Только сейчас он заметил: вид у его правой руки такой, как будто она кончается у запястья, как рука Йина.
— Прекрасно.
Один из стражников положил руки на рычаг, торчавший из деревянной коробки, и священнослужитель в золотом спросил:
— Вы были другом Миида Светлокожего?
— Нет, — ответил Ганиль.
И он отвечал «нет» на каждый из вопросов даже после того, как перестал слышать голос священнослужителя; все говорил и говорил «нет», и под конец уже не мог отличить собственного своего голоса от эха, хлопками отлетающего от стен двора: «Нет, нет, нет, нет!»
Свет вспыхивал и гас, холодный дождь падал на его лицо и переставал идти, и кто-то снова и снова подхватывал его, не давая ему упасть. От его серого плаща дурно пахло — от боли Ганиля вырвало. Он подумал об этом, и его вырвало опять.
— Ну-ну, теперь уже все, — прошептал ему на ухо один из стражников.
Неподвижные белые и желтые ряды по-прежнему обступали его, лица у всех были такие же каменные, глаза смотрели так же пристально, но уже не на него.
— Еретик, ты знаешь этого человека?
— Мы работали вместе с ним в Мастерской.
— Ты говорил с ним о ведьмовстве?
— Да.
— Ты учил его ведьмовству?
— Нет. Я пытался его учить, — Голос звучал очень тихо и немного срывался; даже в окружающем безмолвии, где сейчас был слышен только шепот дождя, разобрать слова Миида было почти невозможно. — Он был слишком глуп. Он не смел и не мог учиться. Из него выйдет прекрасный Главный Мастер.
Холодные голубые глаза смотрели прямо на Ганиля, и ни мольбы, ни жалости в них не было.
Священнослужитель в золотом повернулся к бело-желтым рядам:
— Против подозреваемого Ганиля улик нет, можете идти, подозреваемый. Вы должны явиться сюда завтра в полдень, чтобы присутствовать при торжестве правосудия. Отсутствие будет сочтено признанием собственной вины.
Смысл этих слов дошел до Ганиля, когда стражники уже вывели его из двора. Оставили его они снаружи, у одного из боковых входов Коллегии; дверь за спиной у него закрылась, громко лязгнул засов. Он постоял немного, потом опустился, почти упал на землю, прижимая под плащом к туловищу посеревшую, в запекшейся крови руку. Вокруг тихо бормотал дождь. Не было видно ни души. Только когда наступили сумерки, он поднялся, шатаясь, на ноги и поплелся через весь город к дому Йина.
В полумраке около входной двери дома шевельнулась тень, окликнула его:
— Ганиль!
Он замер.
— Мне все равно, что тебя подозревают, пусть. Пойдем к нам домой. Отец снова примет тебя в Мастерскую, я попрошу — и примет.
Ганиль молчал.
— Пойдем со мной! Я тебя здесь ждала, я знала, что ты придешь сюда, я ходила сюда за тобой раньше.
Она засмеялась, но ее деланно-веселый смех почти сразу оборвался.
— Дай мне пройти, Лани.
— Не дам, зачем ты ходишь в дом старого Йина? Кто здесь живет? Кто она? Пойдем со мной, ничего другого тебе не остается — отец не возьмет подозреваемого назад в Мастерскую, если только я не…
Не дослушав, Ганиль проскользнул в дверь и плотно закрыл ее за собой. Внутри было темно, царила мертвая тишина, значит, их взяли, всех догадчиков, их всех будут допрашивать и пытать, а потом убьют.
— Кто там?
Наверху, на площадке лестницы, стоял Йин, волосы его ярко блестели в свете лампы. Он спустился к Ганилю и помог ему подняться по лестнице, Ганиль заговорил торопливо:
— Меня выследили, девушка из Мастерской, дочь Ли. Если она ему скажет, он сразу вспомнит тебя, пошлет стражников…
— Я услал остальных отсюда три дня назад.
Ганиль остановился, пожирая глазами спокойное морщинистое лицо, потом как-то по-детски сказал:
— Смотри, — и он протянул Йину свою правую руку, — смотри, как твоя.
— Да. Пойдем, Ганиль, тебе лучше сесть.
— Они приговорили его. Не меня — меня они отпустили. Он сказал, что я глуп и ничему не мог научиться. Сказал это, чтобы спасти меня…
— И твою математику. Иди сюда, сядь.
Ганиль овладел собой и сел. Йин уложил его, обмыл, ему как, мог и забинтовал руку. Потом, сев между мин и камином, где пылали жарко дрова, Йин вздохнул; воздух выходил из его груди с громким свистом.
— Что же, — сказал он, теперь и ты стал подозреваемым в ереси. А я подозреваемый вот уже двадцать лет. К этому привыкаешь… О наших друзьях не тревожься. Но если девушка скажет Ли, и твое имя окажется связанным с моим… Лучше нам уйти из Идана. Не вместе. И сегодня же вечером.
Ганиль молчал. Уход из Мастерской без разрешения твоего Главного означало отлучение, потерю звания Мастера. Он не сможет больше заниматься делом, которое знает. Что ему делать тогда с его искалеченной рукой, куда идти? Он еще ни разу в жизни не бывал за стенами Идана?
Казалось, тишина в доме становится гуще и плотней. Он все время прислушивался: не раздается ли на улице топот стражников, которые снова идут за ним? Надо уходить, спасаться, сегодня же вечером — пока не поздно…
— Не могу, — сказал он резко. — Я должен… быть в коллегии завтра в полдень.
Йин сразу понял. Снова вокруг сомкнулось молчание. Когда, наконец, старик заговорил, голос его звучал сухо и устало:
— Ведь на этом условии тебя и отпустили? Хорошо, пойди — совсем ни к чему, чтобы они осудили тебя как еретика и начали охотиться за тобой по всем Сорока Городам. За подозреваемым не охотятся, он просто становится изгоем. Это предпочтительней. Постарайтесь теперь поспать хоть немного. Перед уходом я скажу тебе, где мы сможем встретится. Отправляйся в путь как можно раньше — и налегке…
Когда поздним утром следующего дня Ганиль вышел из дома Йина, он уносил под плащом сверток бумаги. Каждый лист был весь исписан четким почерком Миида Светлокожего: «Траектории», «Скорость падающих тел», «Природа движения»… Йин уехал перед рассветом верхом на неторопливо трусящем сером ослике. «Встретимся в Келинге», — только это он и сказал Ганилю, отправляясь в свой путь.
Никого из Догадчиков во внешнем дворе Коллегии Ганиль не увидел. Только рабы, слуги, нищие, школьники, прогуливающие уроки, да женщины с хнычущими детьми стояли с ним вместе в сером свете полудня. Только чернь и бездельники пришли смотреть, как будет умирать еретик. Какой-то священнослужитель приказал Ганилю выйти вперед. Ганиль стоял один в своем плаще Мастера и чувствовал, как отовсюду из толпы на него устремляются любопытные взгляды.
На другой стороне площади он увидел в толпе девушку в фиолетовом платье, Лони это или другая? Похожа на Лани, зачем она пришла? Она не знает, что она ненавидит, и не знает, что любит. Как страшна любовь, которая стремится только обладать, владеть! Да, она любит его, и сейчас их отделяет друг от друга вроде бы только эта площадь. Но она никогда не захочет понять, что на самом деле разделили их, разлучили навсегда невежество, изгнание, смерть.
Миида вывели перед самым полднем, Ганиль увидел его лицо, сейчас белое-белое; уродство его было теперь открыто взглядам всех — светлые глаза, кожа, волосы. Медлить особенно не стали; священнослужитель в золотом облачении скрестил над головой руки, призывая в свидетели Солнце, находящееся в зените, но невидимое за пеленой облаков; и в миг, когда он их опустил, к поленьям костра поднесли горящие факелы, заклубился дым, такой же серо-желтый, как облака. Ганиль стоял, под плащом прижимая к себе рукой на перевязи сверток бумаги, и молча повторял: «Только бы он задохнулся сразу от дыма»… Но дрова были сухие и быстро воспламенились, Ганиль чувствовал жар костра на своем лице, на виске, где огонь уже поставил свою печать. Рядом какой-то молодой священнослужитель попятился от жара назад, но толпа, которая смотрела, вздыхала, давила сзади, отодвинуться ему не дала, и теперь он слегка покачивался и судорожно дышал, дым стал густым, за ним уже не видно было языков пламени и человеческой фигуры, вокруг которой это пламя плясало, зато стал слышен голос Миида, на тихий теперь, а громкий, очень громкий. Ганиль слышал его, он заставлял себя его слышать, но одновременно прислушивался к тихому, уверенному голосу, звучащему только для него: — Что такое Солнце? Почему оно проходит по небу?.. Видишь, зачем нужны мне твои числа?.. Вместо XII напиши 12… Это тоже знак, он обозначает Ничто».
Вопли оборвались, но тихий голос не смолк.
Ганиль поднял голову. Люди расходились; молодой священнослужитель, стоявший возле него, опустился на колени и молился, рыдая, Ганиль посмотрел на тяжелое небо над головой, повернулся и, один, отправился в путь, сперва по улицам города, а потом, через городские ворота, на север — в изгнание и домой.
Перевел с английского Ростислав РЫБКИН.
СТАТЬИ
Парнов Еремей В УВЕЛИЧИТЕЛЬНОМ ЗЕРКАЛЕ ФАНТАСТИКИ
Зеркало памяти и вогнутое, укрупняющее масштабы, зеркало фантазии… Мне показалось весьма интересным, что известный футуролог Роберт Юнг отдал пальму первенства в разработке прогнозов не логическому мышлению и даже не критическому исследованию имеющихся данных, а творческому воображению.
«Оно характеризует эпоху, — говорит он в работе «Роль воображения в исследовании будущего», — и очень часто выводит ум за пределы противоречий, которые характеризовали прошлое и представлялись неразрешимыми».
В этом определении содержится характеристика научной фантастики как метода исследования.
«Я отлично представляю себе, что такое время, — говаривал Блаженный Августин, — пока не просят пояснить, что это такое, и совершенно перестаю понимать, как только пытаюсь объяснить».
Многие современные физики признавались, что испытывают нечто подобное, когда их просят понятно и «в двух словах» рассказать о времени, пространстве или начальном моменте нашего мироздания, который космологи поэтически называют «большим взрывом». Во всяком случае парадоксальное изречение средневекового философа прекрасно иллюстрирует ситуацию, сложившуюся в научной фантастике. Все — писатели, критики, читатели — прекрасно понимают, что представляет собой эта удивительная муза, рожденная научно-технической революцией. Но понимают внутренне — для себя. Как тот студент из анекдота, который знал, что такое электричество, и вдруг забыл на экзамене.
Парадокс объясняется просто. Чудесный сплав искусства и точного знания, которым, собственно, и является фантастика, не вмещается в узкие рамки определений. Быть может, по той простой причине, что составляющие его начала знание и крылатый вымысел — всякий раз берутся в самых различных дозах. От чистого эликсира до гомеопатических капель прогноза ближайшего развития техники.
Питаясь живительным соком научных идей, фантастика не перестает быть искусством. В отличие от науки, которая неудержимо ветвится, образуя все новые ячейки узкой специализации, научная фантастика всякий раз стремится создать целостную картину мира.
Полигон научных идей, исследование социальных моделей, блистающие солнца утопических миров и мрачные пророчества грядущих опасностей — все это лики изменчивой музы. Мгновенные черты, по которым едва ли возможно судить о всем облике. В утопическом зеркале радостных предчувствий, в сумеречном зеркале тревог и сомнений грозного мира антиутопий лишь случайно проскальзывают отблески неоткрытого будущего, потому что параболические антенны фантастики призваны лоцировать настоящее. В них всегда отражается, пусть и гипертрофированно, современный писателю мир.
Что же касается пророчеств — поразительных предвосхищений или случайных угадываний, то они возникают как своего рода побочный продукт. Аналитическое исследование прорастающих зерен будущего — именно этим и занимается фантастика — неизбежно дает некий неожиданный результат, который очень часто «сбывается». Здесь нет никакого чуда, если не считать чудом самое искусство. Потому что именно искусству присущ тот обобщенный мгновенный синтез, который наука достигает кропотливым и долгим путем.
Широко мыслящий и компетентный в вопросах науки художник вольно или невольно приходит к научной фантастике.
Вот пример, ставший чуть ли не хрестоматийным:
Мир — рвался в опытах Кюри Атомной, лопнувшею бомбой На электронные струи Невоплощенной гекатомбой.Эти строки Андрей Белый, получивший солидное физико-математическое образование, написал в 1921 году. За четверть века до того, как предсказанная им гекатомба воплотилась горами сожженных тел в Хиросиме и Нагасаки. Здесь в чистом классическом виде реализовался прыжок художника, отталкивающегося от твердой почвы достоверных фактов. Это великолепный пример именно синтеза, а не захватывающего дух пророчества новой Кассандры.
По свидетельству К. Н. Бугаевой, поэт «любил факты, опыт и точное знание. Физика, химия, их достижения интересовали его до конца. Он говорил о Боре и Резерфорде, когда о них знали еще только узкие специалисты».
Вот, собственно, и весь «секрет технологии», рождающей пророчества: знание и воображение, которое часто является синонимом таланта.
Промышленные революции, как и революции социальные, не возникают мгновенно. Они подготавливаются всем ходом исторического развития. Наступление атомной эры чуткие нервы художника ощутили задолго до того, как это стало ясно самим ученым. Пожалуй, ни в какой другой области не проявилось столь полно присущее научной фантастике свойство улавливать тревоги и ожидания общества, как в атомной проблеме. В жизненно важной для всего человечества проблеме, которая усугубилась ныне нейтронной бомбой.
Летом сорок четвертого года в редакцию журнала научной фантастики «Эстаундинг сайенс фикшн» («Поразительная научная фантастика»), который издавал знаменитый Джон Кемпбелл, нанесли визит агенты ФБР. Они не скрывали своего крайнего беспокойства по поводу только что опубликованного рассказа малоизвестного в то время фантаста К. Картмилла. Речь шла не более и не менее, как о разглашении сведений высочайшей категории секретности, затрагивающих суть «Манхеттенского проекта». Картмилл ухитрился «выболтать» самые страшные тайны, причем такие, о которых еще не могли знать до конца лучшие умы Лос-Аламоса. В своем рассказе он раскрыл возможный (для фантаста он был уже реальным) тротиловый эквивалент, силу ударной волны, радиус теплового и радиационного поражения. Короче говоря, все факторы атомного взрыва.
«К описываемому моменту, — так и ложатся сюда слова Лесли Гровса, хоть атомный генерал произнес их по иному поводу, — мы были уверены, что сможем испытать «Толстяка» — бомбу взрывного типа — примерно в середине июля. Планирование операции по испытанию «Толстяка», получившей кодовое название «Троица», началось весной 1944 года, после того как мы с Оппенгеймером решили, что с точки зрения проверки сложной теории взрывной бомбы, правильности ее конструкции, изготовления и сборки, в общем, ее действенности, такое испытание весьма целесообразно».
Ученые особенно рьяно любят фантастику. И взрыв, произведенный рассказом Картмилла «Линия смерти», в тиши секретных лабораторий был воистину подобен атомному. Ярости секретной службы во всяком случае не было предела.
Напрасно издатель лепетал что-то насчет веяния времени и характерной для фантастов привычки забегать вперед. Факт чудовищного нарушения атомного моратория представлялся бесспорным, хотя ни сам Кемпбелл, ни агенты ФБР не догадывались, что «пророчество» Картмилла сбудется через считанные месяцы.
Строжайшее расследование, однако, показало, что писатель не имел ни малейшего касательства к проекту, который возглавляли доктор Оппенгеймер и генерал Гровс. В своих прогнозах он пользовался лишь открытыми научными сообщениями довоенных времен. Представил доказательства своего «алиби» и сам Кемпбелл. Он не только показал агентам рассказ Хайнлайна «Неудовлетворительное решение», датированный сорок первым годом и повествующий об атомной войне и послевоенной гонке вооружений (!), но и сослался на «Освобожденный мир» Уэллса. Этот роман, вышедший в 1914 году, уж никак нельзя было заподозрить в причастности к «Манхеттенскому проекту». В год начала первой мировой войны прославленный фантаст писал о войне атомной, о тотальном истреблении сотен тысяч людей и почти полном разрушении городов.
Это был, в полном смысле слова, роман-предупреждение, заглянувший в будущее на целых четыре десятилетия. При желании Кемпбелл мог бы сослаться еще на одно литературное произведение — на роман В. Орловского «Бунт атомов», увидевший свет в 1928 году. Тем более, что его мгновенно перевели на английский и опубликовали в американском журнале научной фантастики. Как в свое время спешно перевели уэллсовский «Освобожденный мир» в охваченной пожаром империалистической войны России.
Очевидно, писатели чутко уловили неясные ожидания и вполне конкретные тревоги мира. Не слишком ошибся В. Орловский и в выборе места, где, по его убеждению, было создано новое испепеляющее оружие, В романе превосходно передана атмосфера шовинизма и оголтелого милитаризма, которая пышным цветом расцветала в те годы в некоторых кругах Веймарской республики. Та самая атмосфера, которая, собственно, и породила немецкий «урановый проект».
«Дело» против Кемпбелла и Картмилла, таким образом, не состоялось, хотя опасения, что даже такая, казалось бы, невинная публикация, как научно-фантастический рассказ, может о многом поведать противной стороне, остались.
К счастью, физиков третьего рейха, застрявших на самых начальных ступенях «уранового проекта» (это вскоре выяснила специальная разведывательная миссия «Алсос»), фантастика не интересовала. Впрочем, журнал «Поразительная научная фантастика», кроме действительно «поразительных» эмоций, едва ли мог им что-нибудь дать. Не было уже в мире силы, способной спасти гитлеризм от заслуженной кары.
«К описываемому моменту», как это говорится у Гровса, победоносная Советская Армия громила захватчиков на территориях сопредельных стран, освобождала народы Европы от нацистской чумы.
Но оставим на время реальную атомную проблему и продолжим рассказ о том, как она преломлялась в параболических антеннах научной фантастики. Точнее, в гиперболических, потому что логика повествования подводит нас к популярнейшему роману Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».
Алексей Толстой зорко подмечал мельчайшие ростки нового. «Аэлиту» от «Гиперболоида инженера Гарина» отделяют каких-нибудь три с небольшим года. Но как не схож научный колорит этих книг! Да и Петроград Лося и Гусева существенно отличен от Ленинграда Тарашкина и Шельги. Не менее чем сам Лось от молодого ученого Хлынова. Это тоже было знамением времени. Страна перестала быть полем сражения, она превращалась в исполинскую строительную площадку. На повестке дня стояло создание каналов, железных дорог, шахт, металлургических гигантов, электростанций. Такому грандиозному строительству должна была отвечать и соответствующая научно-техническая база. Создавалась та особая научная атмосфера, без которой уже немыслим современный мир.
А. Толстой был по образованию инженером. В разработке научно-фантастических идей он не отступал от научного метода отбора и переработки информации. В «Гиперболоиде инженера Гарина» — роман начал печататься в 1925 году в «Красной нови» — мы найдем даже обстоятельный чертеж грозного аппарата. Пусть мы знаем теперь, что никакого гиперболоида построить по этим эскизам нельзя, так как по законам линейной оптики нерасходящийся луч не имеет права на существование, это ничего не значит. Рисунок не только не разрушает нашу читательскую веру, но и сообщает ей необходимую опору, придает осязаемую конкретность. И все потому, что научная логика неотрывна у А. Толстого от поэзии. Той самой невыразимой поэзии, которая всегда волнует нас близостью откровений.
Устами инженера Хлынова Толстой высказал свое глубокое убеждение в том, что «от кабинета физика до мастерской завода шаг невелик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост».
И далее:
«Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром…»
В те годы, когда газеты кричали о шарлатанской чепухе, вроде «лучей смерти» Гриндель — Матьюза, писатель не ограничивался приключениями с гиперболоидом, а сумел разглядеть рождение совершенно новой — атомной эры! Конечно, он вносил в роман постоянные поправки, слегка подновлял его в соответствии с новейшими достижениями науки. Но ведь основа-то была! А Толстой определенно предвосхитил тот «невеликий шаг», который был сделан участниками «Манхеттенского проекта» и «лабораторией № 2», которую возглавил И. В. Курчатов.
Ясно понял он и то, что именно в растоптанной Версальским договором Веймарской республике зреют зерна грядущей коричневой чумы. И не ошибся в социальной природе этого явления, как не ошибся в своем герое, объединившем в довольно-таки жалкой эклектичной доктрине идейки наивной еще технократии с практикой откровенного фашиста.
Лихорадочной ночью, накануне первого массового убийства в гостинице «Черный дрозд», Гарин выскажет Зое Монроз свое кредо:
«Но — власть! Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингисхана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках…»
А в шахте, вгрызающейся в оливиновый пояс, Шельга внесет свою поправку:
«— Гарин и его предприятие — не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда: насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных — «царей жизни», — остановка хода цивилизации».
Объяснит рабочим, поклявшимся взорвать себя вместе с шахтой, классовую природу явления:
«Империализм упирается в систему Гарина».
Квантовая электроника, создавшая лазер и нелинейную оптику, перечеркнула идею гиперболоида, а «Маринер», опустившийся среди красных песков Марса, отснял его пресловутые каналы и не обнаружил ни их, ни покинутых городов, ни следов какой-либо органической жизни. Только разве в этом дело? История полностью подтвердила прогнозы А. Толстого-футуролога. На обломках Веймарской республики, как мы знаем, вырос третий рейх. Его заправилы тоже не избежали своеобразного столкновения с научной фантастикой. Речь идет о двух фильмах режиссера Фрица Ланга «Метрополис» (1926 г.) и «Женщина на Луне» (1928 г.).
«Метрополис» — первая социальная утопия в мировом кинематографе, побила все тогдашние рекорды постановочной стоимости. Шестьдесят тысяч метров пленки, из которых Ланг смонтировал потом, двухчасовую ленту, обошлись студии УФА в четыре миллиона марок.
Фильм начинался титрами: «Мы живем в мире материальных достижений, небывалого развития науки. Но что происходит с нашими сердцами и нашим разумом? Будет ли наше будущее таким, как в этом фантастическом городе?» И словно в ответ на вопрос, в последних частях фильма была показана апокалиптическая сцена тотального вандализма, когда обыватели поверженного города будущего открывают шлюзы и подземный бушующий поток сметает с лица земли последние убогие лачуги, затягивая в водовороты отчаянно барахтающихся ребятишек. Как знать, может быть, именно эта сцена пришла на память мечущемуся в бункере имперской канцелярии Гитлеру, когда он отдал последний чудовищный приказ — пустить воды Шпрее в туннель метро, где укрылись от бомбежки тысячи берлинцев: женщин, стариков, детей. Гиммлеру «Метрополис» подсказал контуры будущего «государства СС», которое обер-палач планировал создать в Бургундии, а молодому Вернеру фон Брауну «Женщина на Луне» подбросила кое-какие идейки насчет оформления ракетодромов.
Консультантом фильма «Женщина на Луне» был, кстати, один из пионеров ракетной техники — профессор Оберт, нарисовавший эскизы пусковых установок и баллистических ракет. Конструкция стартовых платформ, которую разработал потом фон Браун для своих «фау», оказалась настолько похожей на «киношную», что нацистские бонзы забеспокоились, и гестапо на всякий случай наложило свою лапу на все копии фильма. Потом их обнаружили в подвалах управления имперской безопасности на Принц Альберхштрассе, 8.
Но вернемся к событиям куда более значимым, оставившим неизгладимый отпечаток на всей послевоенной истории. Речь идет об истоках интересующей нас проблемы, которая, как это будет вскоре показано, оказалась самым тесным образом связана с фантастикой не только извне, но и изнутри, не только прямой связью, но и обратной.
Доктор Лиза Мейтнер навсегда покинула Германию, когда большая работа над синтезом трансурановых элементов была, казалось, завершена. Однако связь ее с Ганом и Штрассманом не прервалась. Они продолжали переписываться. Ган коротко сообщал о наиболее важных результатах, а Мейтнер комментировала их. Цель виделась близкой. Бомбардировка урана нейтронами как будто бы обещала подарить несуществующие в природе трансурановые элементы. Следовало торопиться. Ведь аналогичные работы велись Ирэн Жолио-Кюри и Савичем во Франции, а несколькими годами ранее бомбардировку урана нейтронами осуществил в Риме Энрико Ферми. В Советском Союзе пристальное внимание этому процессу уделяли Флеров и Петржак. Широкую известность получили работы Вернадского, Бродского, статья Зельдовича и Харитона о возможности цепной самоподдерживающейся реакции.
Но пока речь шла «всего лишь» о новых элементах, ни о чем более…
Ган и Штрассман первые убедились в том, что мишень не содержит новых сверхтяжелых элементов. Напротив, они обнаружили осколки деления. Уран под давлением нейтрона расщеплялся на более легкие элементы. 22 декабря 1938 года они направили сообщение о проведенных работах в научный еженедельник «Ди Натюрвиссеншафт». Директор издательства клятвенно заверил Отто Гана, что статья появится в ближайшем выпуске, ровно через две недели — 6 января 1939 года.
На карту была поставлена безупречная репутация Гана. Либо это ошибка, либо… Он написал обо всем в Стокгольм Лизе Мейтнер.
Письмо нашло ее в небольшой уютной гостинице чистенького, почти игрушечного городка Кунгельв. Доктор Мейтнер приехала сюда на рождественские каникулы вместе с племянником Отто Фришем. Как и его прославленная тетка, он тоже был физиком и беженцем из третьего рейха. Она получила должность в Стокгольмском физическом институте, он — у Нильса Бора, в Копенгагене.
Лиза Мейтнер слишком хорошо знала Гана, чтобы допустить возможность ошибки в химической идентификации элементов. Сомнений быть не могло: уран действительно расщепляется на барий и криптон, хотя это и представлялось невероятным.
Отто Фриш так и сказал: «Невероятно». Он даже слышать не хотел о подобной версии. Схватил лыжи, открыл балконную дверь и выпрыгнул из лоджии на снег.
Но пока он застегивал крепления, Мейтнер тоже успела сбежать вниз. И они пошли вместе по бескрайнему заснеженному полю, над которым качались от ветра колючие верхушки сухого репейника. Она шла, задыхаясь, по его лыжне и что-то кричала ему, одинокая, пожилая женщина, затерянная среди чужой белой равнины.
Потом Отто Фриш писал:
«Ей потребовалось довольно много усилий, чтобы заставить меня слушать, но в конце концов мы начали спорить о природе открытия, сделанного Ганом… Самой поразительной чертой этой новой формы ядерной реакции было высвобождение огромной энергии».
Он был совершенно растерян. В письме к матери он признался: «Я чувствую себя как человек, который, пробираясь сквозь джунгли, не желая этого, поймал за хвост слона и сейчас не знает, что с ним делать».
В день выхода из печати статьи Гана и Штрассмана Фриш возвратился в Копенгаген и рассказал обо всем Бору.
«Как мы могли не замечать этого так долго!» — взволновался Бор.
Через несколько часов он был уже на борту парохода, отправлявшегося в шведский порт Гетеборг. А ровно через сутки огромный шведско-американский лайнер «Дроттнинг-холм» уносил его за океан.
Так начала раскручиваться бешеная пружина беспримерной атомной эпопеи.
Судно Бора еще болталось в Атлантике, когда Отто Фриш провел классический по простоте эксперимент. «Атомный термометр» Фриша показал энергию, в 50 миллионов раз превышавшую сжигание водорода в кислороде. 15 января 1939 года стал отсчитывать первые секунды грозный атомный век. Английский «Нейчур» в рекордный срок опубликовал статью Мейтнер и Фриша «Деление урана с помощью нейтронов — новый тип ядерной реакции». Джинн был выпущен из бутылки.
А Нильс Бор, прибыв в Нью-Йорк, не торопился в Принстонский институт перспективных исследований, где его ожидал Эйнштейн. Абстрактные проблемы космоса и статистической природы причинности отступили на задний план. Обсудив открытие Гана с Уилером, Бор встретился с лучшими физиками Америки, в числе которых к тому времени был уже и Ферми, навсегда покинувший фашистскую Италию.
Но пропустим ряд исторических и хорошо известных теперь вех, которые привели в конце концов к взрыву в пустыне Аламогордо и к взрыву над Хиросимой…
3 марта 1939 года бежавший из хортистской Венгрии в США Лео Сциллард совместно с Уолтером Зинном поставили опыт, который должен был воспроизвести деление урана.
«Появление вспышек света на экране, — писал Сциллард, — могло означать, что в процессе деления урана излучались нейтроны, а это, в свою очередь, означало, что освобождение атомной энергии в больших масштабах было не за горами.
Мы повернули выключатель и увидели вспышки.
Некоторое время мы наблюдали за ними, а затем все выключили и пошли домой.
В ту ночь у меня почти не оставалось сомнений, что мир ждет беда».
Вспышки на экране осциллографа, которые шепотом подсчитывал Сциллард, были гирляндами фонарей вдоль дороги, ведущей к пропасти, имя которой «цепная реакция». Космическая сила, запрятанная в уране, могла быть высвобождена не только в реакторе, но и в бомбе.
А в Германии в это время уже вовсю велись работы по расщеплению урана. Нацисты тянулись к чешским рудникам, к норвежским заводам тяжелой воды. Гитлер мог получить атомную бомбу.
Приехавший в Америку профессор Петер Дебай подтвердил самые худшие ожидания.
В 1945 году, отвечая на вопросы сенатской комиссии, Лео Сциллард скажет:
«Они (немцы. — Е. П.) могли бы начать работы по созданию атомного оружия в 1940 году, а приложив максимум усилий, успешно завершили бы их к весне 1944 г. Они победили бы прежде, чем у нас появилась возможность осуществить вторжение в Европу».
Жизнь показала, что немецкие физики были гораздо дальше от создания атомной бомбы, чем это казалось в 1940 году. Сокрушительные удары Советской Армии решили судьбу войны задолго до операции «Оверлорд». Битва на Волге, а не высадка в Нормандии, явилась поворотным пунктом в истории.
Но в начале войны у ученых-антифашистов были самые реальные опасения, что Гитлер сможет получить атомную бомбу. По предложению Сцилларда, они приняли решение обратиться к Рузвельту.
Кто мог рассчитывать на самое внимательное отношение президента? Только Эйнштейн. И они обратились к великому творцу теории относительности.
— Я не знаком с президентом, и президент не знает меня, — ответил Эйнштейн.
— Он знает и уважает вас. Вы — единственный человек, которого он выслушает. Для Америки и всего мира крайне необходимо что-либо предпринять. Нельзя терять ни минуты.
2 августа 1939 года Сциллард и Геллер повезли в канцелярию президента историческое письмо Эйнштейна.
Так началась беспрецедентная гонка за бомбу, которой не суждено было сокрушить нацизм, которая взорвалась потом над Хиросимой, сброшенная «летающей крепостью» Б-29, поднявшейся в роковое утро с секретной базы на острове Тиниан.
Я привел эти эпизоды не только для того, чтобы напомнить о том, кто такие Сциллард и Фриш. Причастные к величайшей эпопее века, они вновь встретились на куда более скромной ниве научной фантастики. И мне хочется проанализировать, почему это произошло.
Обратимся теперь к произведениям Фриша (новелла «О возможности создания электростанций на угле») и Сцилларда (рассказ «К вопросу о центральном вокзале»). Словно сговорившись, оба они выбрали почти одинаковую форму изложения. В первом случае — это стилизация под научную статью, во втором своего рода обзор, как принято говорить, «современного состояния проблемы». Даже заголовки и те удивительно похожи! Но если вспомнить, что названия доброй половины научных публикаций начинаются со слов «К вопросу о…» или «О возможности (невозможности)…», то все становится на свои места. Поэтому речь пойдет не о случайном сходстве, а о сходстве, обусловленном близостью поставленных задач. В научно-фантастической литературе, где исходные параметры обычно задаются весьма жестко, это бывает часто.
Наверное, если бы это только было возможно, овладей человек атомной энергией до начала эры тепловых электростанций, новелла Фриша могла бы быть зарегистрирована в реестре открытий. Примерно так мог бы описать инженер-атомщик только что изобретенную им угольную топку. Зачем понадобилась Фришу такая временная инверсия? Может быть, просто ради шутки? Недаром ведь эта новелла была включена в сборник «Физики шутят». Обратимся, однако, к заключительным словам новеллы:
«Существует возможность, хотя и весьма маловероятная, что подача окислителя выйдет из-под контроля. Это приведет к выделению огромного количества ядовитых газов. Последнее обстоятельство является главным аргументом против угля и в пользу ядерных реакторов, которые за последние несколько лет доказали свою безопасность».
Какой жестокой иронией звучат они на фоне газетных сообщений о крушениях атомных бомбардировщиков над испанским селением Паламарес и над гренландскими ледниками, о захоронении контейнеров с радиоактивными отходами в океане, что поставило под вопрос саму возможность сохранения жизни на планете. Нет, не ради шутки взялся за перо член Королевского общества и профессор Кембриджского Тринити-колледжа Отто Фриш, который был в числе тех первых, шагнувших к атомному веку.
Сотрудники Лос-Аламосской лаборатории, где был осуществлен «Манхеттенский проект», пытались, когда уже дымился поверженный Берлин, остановить роковые шаги к бездне. Сциллард был одним из наиболее активных участников «Манхеттенского проекта» и одним из наиболее яростных противников бомбардировки японских городов. Он знал, что бомба уже находится в руках генералов, что цели намечены: Хиросима, Кокура, Нагасаки и Ниигата. Жестокая шутка судьбы. Он отдал свои руки, свой мозг, всего себя одной задаче — спасти мир от угрозы тотального уничтожения. И детище рук его грозит теперь миру новой, неслыханной катастрофой.
И вновь Лео Сциллард отправляется к Эйнштейну. Цикл замыкается, все возвращается на круги своя. Стремясь остановить чудовищную колесницу, Эйнштейн и Сциллард направляют письмо Рузвельту. Но президент умер, так и не прочитав его.
«Весь 1943 и отчасти 1944 г.,- писал потом Сциллард, — нас преследовал страх, что немцам удастся сделать атомную бомбу раньше… Но когда в 1945 году нас избавили от этого страха, мы с ужасом стали думать, какие же еще опасные планы строит американское правительство, планы, направленные против других стран».
Точно в 2.45 по марианскому времени в понедельник 6 августа 1945 года с трех параллельных дорожек взлетели три Б-29. Новый президент Трумэн прочел письмо. Это был ответ.
«Не трудно вообразить, как мы были потрясены, когда, совершив посадку в этом городе, обнаружили, что он необитаем…» Так начинается рассказ Сцилларда «К вопросу о центральном вокзале». Чужие ученые чужой далекой цивилизации проводят раскопки на совершившей атомное самоубийство Земле. Рассказ ведется от лица исследователя, олицетворяющего «здравый смысл». Он полемизирует с оппонентом, выдвинувшим гипотезу о том, что «между обитателями двух континентов шла война, в которой побеждали обе стороны». Это юмор с оттенком самоубийства, немой крик, почти истерика. Для Сцилларда картина испепеленной Земли — не досужая фантазия, а неотступное апокалипсическое видение. Он был одним из тех, кто освободил джинна и не сумел потом загнать его обратно в бутылку. Он был драматургом и жертвой трагедии, которая разыгралась вокруг него. Казалось, что за гранью смерти пепел живых, еще беззаботно смеющихся людей будет стучать в его большое сердце.
Этот «здравый смысл», неумение видеть дальше собственного носа заставляет героев его рассказа подменить трагедию фарсом, копаться вокруг проблемы загадочных для инопланетян укромных помещений с буквами «Ж» и «М» на дверях. Мертвая, навсегда мертвая Земля! А если на секунду вернуться к истории, может быть, это его «здравый смысл» поставил теперь человечество на острие ножа? Нет, очевидно, это не так… Не «здравый смысл» вел его в то пасмурное утро к Эйнштейну, а эмбарго, наложенное немцами на чешский уран, и пущенные на полную мощность электролизные батареи завода «Норск Хайдро» в Веморке.
Так тем страшнее роковые шаги, чем менее они случайны, чем жестче предопределены.
Лео Сциллард до самых последних дней жизни продолжал бороться за мир. Все было подчинено этой сверхзадаче, как он ее называл. В том числе и литературное творчество. Кошмары оживали на бумаге, чтобы никогда не стать явью. Сциллард был гениальным физиком. Но после Хиросимы физика отошла для него на второй план. Вот почему рассказы Сцилларда-фантаста нельзя рассматривать просто как хобби ученого. Он относился к ним очень серьезно. Он верил, что мир на Земле зависит от воли каждого человека.
В декабре 1960 года, уже тяжело больной, он прилетел в Москву на очередную Пагуошскую конференцию. На аэродроме ему сообщили, что его дожидается посылка — тяжелая каменная пепельница в виде взлетающего на гребне волны дельфина.
Тихий седой человек снял очки, недоуменно прищурился, потом вдруг улыбнулся:
— Это, наверное, к моему докладу!
Сциллард построил доклад на выдержках из своей фантастической книги «Голос дельфина», где показал, что дружбе всегда предшествует взаимопонимание.
Так фантастическое произведение, созданное крупнейшим физиком, оказалось причастным к борьбе за мир на Земле. Может быть, это был закономерный финал пути, начатого в Лос-Аламосе.
Первые фантастические фильмы-предупреждения, сфокусированные на атомных кошмарах, появились в 1951 году, в эпоху усиленных разработок сверхбомбы. Действие фильма «Ракетный корабль X-М» Курта Ньюмана развертывается на Марсе, где после атомной бомбардировки сумела выжить лишь горстка одичавших, забывших все достижения своей высокой цивилизации полуидиотов. С первых же эпизодов зритель мог легко догадаться, что на самом деле имеют в виду создатели кинокартины.
В фильме «Пять» режиссера Оболера не нужно было разгадывать даже такую столь поверхностную аллегорию. С откровенной публицистичностью демонстрировал он обезображенные, отравленные радиоактивной пылью ландшафты нашей планеты, где смогли уцелеть только пять человек, которым предстояло вновь возродить разумную жизнь.
Наиболее ярким явлением того времени стала лента Роберта Уайза «День, когда остановилась Земля». Она выгодно отличалась от бесчисленных поделок «масс-культуры», где многократно варьировались всевозможные космические чудовища, изрыгающие атомное пламя, порожденные радиоактивным заражением уродливые мутанты и доисторические ящеры, пробужденные громом атомных испытаний («Годзила», «Чудовище с глубины 20 тысяч сажен», «Смертельные кузнечики», «Паук» и т. п.).
В отличие от всех этих киноподелок «День, когда остановилась Земля» показывал реальную ситуацию, потому что истинная фантастика всегда отталкивается от наиболее жизненных в данную историческую эпоху проблем. Приземлившийся в центре Вашингтона космический корабль привез людям призыв к разоружению и всеобщему миру. Призыв от имени миллионов погибших обитателей далекой планеты, чью роковую ошибку повторяет теперь Земля. И то, что звездный посланец, случайно уцелевший в ходе молниеносной термоядерной войны, не может преодолеть стены недоверия (ученые оказались бессильными что-либо сделать, чиновники продемонстрировали превосходный образец бюрократической волокиты, а агенты ФБР тут же принялись «прояснять связи» космического гостя), исчерпывающе характеризует американское общество временї «холодной войны».
Можно лишь согласиться с мыслью Олвина Тоффлера, высказанной в его книге «Шок будущего»:
«Если научную фантастику рассматривать скорее как своего рода социологию будущего, чем как литературу, то она приобретает огромную ценность… Научную фантастику следует сделать обязательным чтением для самоориентации в будущем».
Во всяком случае мгновенный стереоснимок современного художнику общества она дает безупречный. Убийственный, надо добавить, коль скоро речь идет о фильме «День, когда остановилась Земля».
Подобных «дней» у кинофантастики будет достаточно. «День, когда всплыла рыба» греческого режиссера Михаила Какояниса покажет потом, каким кошмаром обернется упавшая в Средиземное море бомба, которую «случайно потерял» американский патрульный самолет. Но это будет уже фильм (1967 г.) о другой эпохе. Фильм, поставленный после знаменитого «На берегу» и, разумеется, после реальных случаев с бомбами, которые «случайно» обронили где-то в Гренландии и у испанского берега.
Годы, наступившие за испытанием атомной, а затем и водородной бомбы в СССР, когда были развеяны иллюзии периода атомного шантажа, по своему историческому значению действительно равнозначны целой эпохе.
Чувствительный барометр искусства сразу уловил изменение мирового психологического климата. Однако сам факт, что советские ученые вопреки распространенным прогнозам (типа: «Россия сможет иметь бомбу через десять, а то и через двадцать лет») решили урановую проблему уже к 1949 году, не отрезвил наиболее рьяных рыцарей атомного шантажа. Несмотря на заявление Советского правительства о готовности запретить и уничтожить ядерное оружие, если США и их союзники последуют этому примеру, гонка над пропастью продолжалась. Эдвард Теллер не только подстегнул программу водородной «Эйч-бомб», но и некоторое время спустя в комнате 2022, где собралась комиссия по делу Оппенгеймера, дал показания против бывшего шефа «Манхеттенского проекта», обвинив его чуть ли не в саботаже. Прямым результатом этого явился пресловутый «пункт три», который гласил:
«Поведение доктора Оппенгеймера по вопросу о водородной бомбе весьма сомнительно, чтобы разрешить ему в будущем участвовать в правительственных программах…»
Гонка вооружения, таким образом, продолжалась. И пока в эпигонских антиутопиях всячески варьировались атомные кошмары, человечество на крыльях «холодной войны» летело навстречу реальным ужасам, которые несла ему супербомба.
Теоретически принцип термоядерного оружия секрета не составлял. Еще за месяц до открытия деления урана профессор Ганс Бете из Корнельского университета разработал первую схему синтеза водорода в гелий. И когда атомный заряд стал реальностью, ни у кого не осталось сомнений, что именно он и послужит запалом для термоядерного устройства. Не дожидаясь очередного опробования, опережая события, американские ядерщики буквально фонтанировали опасными своим безумием идеями. Словно одержимые горячечным бредом, соревновались друг с другом в разработке все более смертоносных образцов нового оружия.
Но 8 августа 1953 года Советское правительство заявило о том, что «Соединенные Штаты не обладают монополией и на производство водородной бомбы». Через четыре дня после этого самолеты-разведчики обнаружили в небе над Азией следы термоядерного взрыва.
«Правительственная программа», в которой уже не было места людям вроде Оппенгеймера или Сцилларда, между тем продолжала катиться по накатанной дорожке. На сцену вышла кобальтовая бомба — порождение поистине дьявольского ума. Тем более что от идеи до воплощения было рукой подать. Никаких технических трудностей для изготовления кобальтового чудовища не существовало. При желании можно было в любой момент поместить термоядерное устройство в кобальтовую оболочку, которая при взрыве способна образовать радиоактивное облако в 320 раз более смертоносное, чем чистый радий.
Людоедская одержимость далеко превзошла на сей раз самые мрачные прогнозы писателей и сценаристов антиутопического жанра. Речь шла, по сути, о самоубийстве во всемирном масштабе.
Радиохимики из Калифорнийского технологического института подсчитали, что кобальтовая бомба с одной тонной дейтерия способна создать полосу абсолютно выжженной земли протяженностью до 5000 и шириной до 2300 километров.
Четыреста таких бомб, по мнению Сцилларда, способны испустить радиацию, достаточную для уничтожения жизни уже во всепланетном масштабе.
Дальше, как говорится, ехать было некуда. Но даже такая, поистине убийственная арифметика не отрезвила атомных маньяков. Сверхмощная по тем временам машина «МАНИАК» — игра слов, которую не могли предвидеть даже авторы «черного юмора», — полностью подтвердила выкладки специалистов.
Синтезируясь в гелий, тонна дейтерия дает 113 килограммов свободных нейтронов, которые сделают радиоактивными 7500 килограммов кобальта, что эквивалентно 2,3 миллиона килограммов радия. Количество людей на планете известно, смертельная человеко-доза — тоже. Казалось бы, любой школьник справится с подобной задачей. Рекордный по лаконичности научно-фантастический рассказ по крайней мере решил бы ее однозначно: «Мелькнула невероятная вспышка света, пронесся оглушительный гул… В эту минуту началась и закончилась третья мировая война».
Но нужен был порыв ветра (в прямом смысле слова), чтобы хоть как-то остудить горячие головы. Сейчас, когда проблемы экологии начинают решаться действительно во всемирном масштабе, такое покажется невероятным, но тогда, в разгар «холодной войны», стратеги Пентагона не приняли в расчет именно ветер. Планируя молниеносный упреждающий удар, упустили из виду, что в атомный век следует считаться с капризом стихий, непредсказуемым, своенравным.
Прогноз погоды на 1 марта 1954 года предсказывал направление ветра к северу от атолла Бикини. Но вопреки ожиданиям задуло в противоположном направлении, к югу, на острова Ронгерик и Утерик.
Снежный заряд, который принес с собой этот «незапланированный» шквал, обрушился посреди океана, накрыв случайно оказавшийся в том районе японский траулер «Счастливый дракон». За какие-нибудь минуты все вокруг: море, палуба, роканы рыбаков — сделалось белым. Обычное, казалось бы, происшествие на море, но через две недели о нем с ужасом узнал весь мир. Потому что белые хлопья, усеявшие палубу, не хотели таять, а японских рыбаков, которые еле-еле добрались до порта Яидзу, пришлось срочно госпитализировать.
Крупинки «снега», обнаруженные японскими учеными в швах корабельной обшивки, показали высокую радиоактивность. Это был пепел, выпавший после очередного испытания на далеких коралловых островах. Вскоре следы испытания под кодовым названием «Майк» обнаружились в дождях над Японией, в смазочном масле самолета индийской авиакомпании, в небе над Австралией, Северной Америкой и даже Европой.
Призрак смерти витал без виз, не тревожа ни радары противовоздушной обороны, ни мирный сон детей. Но там, где выпали дожди, невидимый яд проник в травы, в молоко, затаился в человеческом теле. Генетические мутанты готовы были шагнуть с экрана в жизнь. И шагнули, когда стали известны случаи внезапных заболеваний детей, рожденных после Хиросимы.
Какой же вывод сделали для себя атомные стратеги? Адмирал Рэдфорд, предлагавший использовать «тактическую атомную бомбу» в Индокитае, где вот-вот должна была тогда пасть крепость Дьен-Бьен-Фу, с воодушевлением ухватился за идею… «чистой бомбы». «Самые последние испытания, — заявил позднее Эйзенхауэр, — дают нам возможность обуздать и дисциплинировать наше оружие, резко сокращая выпадение осадков и позволяя более точно направить его на военную цель, если в этом будет необходимость».
Вот зерно, из которого выросла нейтронная бомба, омрачившая ныне политический горизонт. Она пришла к нам как динозавр, переживший породившую его эру «холодной войны». Именно тогда, в разгар дискуссий о кобальтовой бомбе, появились абсурдные, кощунственные в применении к оружию прилагательные «чистое», «гуманное». Принципиальная же идея была высказана еще раньше, в период Лос-Аламоса.
«Является ли нейтронная бомба новым оружием, — задается вопросом Э. Бурон, член Королевского общества, президент Всемирной федерации научных работников, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», разработка которого в других странах маловероятна? Нет, не является. В принципе здесь нет ничего очень сложного. Впервые я услышал о нем еще в 1944 г., когда работал над Манхеттенским проектом…»
Да, это лишь иная ипостась чудовища, новая голова пережившей самое себя атомной гидры, особенно опасной, когда яростным атакам реакционных сил подвергаются завоевания международной разрядки. Той самой жизненно важной для человечества разрядки, которая ознаменовалась прекращением атомных испытаний а трех средах и отодвинула опасность ядерной войны.
Фильм Стэнли Креймера «На берегу» вышел на мировой экран в 1959 году, когда еще только закладывались первые кирпичи новых взаимоотношений между ядерными державами. Премьера состоялась одновременно в восемнадцати странах и оказала колоссальное воздействие на мировое общественное мнение.
Зрителю дано было взглянуть на мир после глобальной ядерной войны, в которой погибли Америка и Европа и лишь Австралия доживала последние недели болезненно-изломанной надрывной жизни, ожидая, когда ветры и течения донесут до нее смертоносное эхо. (Вспомним радиоактивный пепел в австралийском небе после операции «Майк»). «Это история, которая не произошла и не произойдет, если люди объединятся», — оповещали всех и каждого начальные титры.
«История» — в фильме фигурирует календарь с датой 1964 — действительно не произошла. Усилиями традиционно мирной политики Советского Союза, всех социалистических стран, всех миролюбивых правительств именно в шестидесятые годы наметился решительный поворот от конфронтации к разрядке и взаимопониманию.
Разумеется, путь к всеобщему миру не был столь прям и безоблачен, как этого можно было желать. Тишина, наступившая за прекращением ядерных взрывов в атмосфере, на море и на земле, неоднократно нарушалась, а противники разрядки на Западе осложняли международный климат различными безответственными акциями.
Именно в этот период были преданы огласке и различного рода проекты атомного оружия «нового поколения»: гамма-бомбы, нейтронной и т. д.
В научно-фантастической повести «Возвратите любовь», опубликованной в середине шестидесятых годов, мы с М. Емцевым описали действие нейтронной бомбы на живой организм и показали секретный полигон, в котором легко угадывается гипертрофированный аналог Лос-Аламоса. Грустная ирония видится в том, что за какие-нибудь двенадцать-тринадцать лет эта повесть из фантастической превратилась в простой политический памфлет. Вполне, впрочем, злободневный.
Да и могло ли быть иначе, если речь шла о реальных коллизиях века? Идея, как принято говорить, носилась в воздухе, да и в бредовых планах по части очередного сверхоружия недостатка никогда не ощущалось.
Внимания заслуживает лишь быстрота, с какой все свершилось. Поразительный темп, когда на глазах одного поколения стали явью величественнейшие свершения разума и его же постыдные падения. Слишком уж тонкая эта судьбоносная линия, разделившая жизнь и смерть. Не успели ядерщики получить первый антипротон, как проскользнули идейки насчет бомбы из антивещества, способной разом взорвать уже всю Землю. До такого, к счастью, еще далеко, и вообще овчинка не стоит выделки, потому как суммарный запас мегатонн и без того достаточен для превращения нашей планеты в необитаемое небесное тело.
Уповать на то, что нейтронный детонатор не пробудит весь этот затаившийся яд, могли только люди, лишенные даже зачаточной способности предвидеть. Лишь роботы, решающие все жизненные вопросы над ящиком с песком, способны жонглировать иллюзиями насчет «оружия устрашения» или «локального тактического использования». Достаточно представить себе, в чьи руки могли попасть размещенные где-нибудь по берегам Рейна нейтронные боеголовки к ракетам «Лэнс», чтобы домыслить остальное.
Среди ста сорока генералов бундесвера только трое не служили в гитлеровском вермахте. Передача нового оружия в арсеналы НАТО означала допуск к «чистой» бомбе людей, в той или иной мере причастных к невиданной в истории индустрии смерти. Сами собой напрашиваются исторические аналоги.
Античеловечная идея обезлюженных, хотя и не тронутых разрушением, городов под стать преступной цели: уничтожить человека и завладеть его имуществом, будь то нехитрый скарб, средства производства, творения искусства или даже оружие. Впервые за много лет о таких вещах говорят совершенно открыто. Как о преимуществах новой бомбы над старой. От таких речей попахивает крематорием Освенцима. Что-то очень знакомое проскальзывает в вывернутой наизнанку логике. Газовые камеры тоже гримировались под душевые, что не мешало процветающей фирме «Топф и сыновья» ставить фабричные клейма на образцовых печах.
Доводы, с помощью которых милитаристы пытались оправдать создание нового ужасного оружия, неоригинальны. Во всяком случае за последние тридцать лет мы узнали слишком много о гонке вооружений, чтобы поверить, что еще одно «супероружие» даст кому-либо постоянное преимущество. Его появление приведет лишь к новой эскалации.
В докладе, посвященном 60-й годовщине Октябрьской революции, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев сказал: «Сегодня мы предлагаем сделать радикальный шаг: договориться об одновременном прекращении всеми государствами производства ядерного оружия. Любого такого оружия — будь то атомные, водородные или нейтронные бомбы или снаряды. Одновременно ядерные державы могли бы взять обязательство приступить к постепенному сокращению уже накопленных его запасов, продвигаясь вперед вплоть до полной, «стопроцентной» их ликвидации. Энергия атома — только для мирных целей — с таким призывом обращается к правительствам и народам в год своего шестидесятилетия Советское государство». Другого пути у человечества не было и нет. Об этом свидетельствует короткая, в масштабах цивилизации, но поразительная по напряженности атомная эпопея.
Фантасты обычно не задаются целью во что бы то ни стало предвосхитить будущее. Они только очень чутко прислушиваются к биению пульса современного мира и еще стараются не забывать о прошлом.
Генрих Альтов ЭТЮДЫ О ФАНТАЗИИ
ЧТО ТАКОЕ ФАНТАЗИЯ?
Увы, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, что такое фантазия. Этого никто не знает, хотя в формулировках недостатка нет. Скажем, в словаре Даля фантазия характеризуется как «изобретательная сила ума, творческая сила художника, самобытная сила созидания». А что такое «самобытная сила созидания»? Видимо, «самобытность» — когда много фантазии… Получается так: продукт маслянист, когда в нем много масла, а масла много в том случае, когда продукт маслянист.
Есть и другие определения. Психолог А. П. Нечаев писал в двадцатые годы (и это часто повторяют до сих пор), что воображение «обозначает состояние сознания, аналогичное восприятию, но не соответствующее действующим раздражителям». Беда, однако, в том, что за редчайшими исключениями невозможно установить, что соответствует действию раздражителя, а что не соответствует. Два человека смотрят на картину Пиросманишвили — и воспринимают ее по-разному. «Какое спокойствие и достоинство, — взволнованно думает один. — Они сидят за столом и не спешат, не суетятся… Вот так надо жить…» «Какой примитив, — с раздражением думает другой, — нелепые фигуры, безжизненные лица… Все должно быть иначе…» У кого из них больше фантазии, если оценивать по А. П. Нечаеву?
Мы судим о фантазии примерно так, как судили о природе теплоты в конце восемнадцатого века. Теплота — это когда в теле много теплорода. А что такое теплород? Это, знаете ли, такая невесомая, незримая, неосязаемая субстанция, которая является носителем тепла… Впрочем, рассуждения о теплороде не мешали объективно и точно измерять температуру. А вот «градусы фантазии» мы совершенно не умеем определять.
Существует знаменитый тест Роршаха. Возьмем лист бумаги и посадим на него чернильную кляксу. Перегнем листок пополам так, чтобы линия сгиба прошла через кляксу. Получится симметричное чернильное пятно с причудливыми очертаниями. Надо посмотреть и сказать — на что похоже это пятно. Чем оригинальнее сравнение — тем, считается, сильнее фантазия. К сожалению, в самой идее теста заложено неустранимое противоречие. Испытуемый не знает, чего от него хотят, и потому не «включает» фантазию. А если знает, ничего не стоит получить высокие показатели.
Однажды на курсах по изобретательству ко мне подошел слушатель и протянул бумажку с чернильной кляксой: «На что это похоже?» Я сделал вид, что внимательно рассматриваю бумажку, и сказал фразу, не имеющую никакого отношения к кляксе:
— Это белый медведь, идущий в полдень по раскаленным пескам Каракума. Он в тапочках, но они ему жмут.
— Почему белый медведь и в пустыне? — спросил ошарашенный слушатель. Почему белый медведь, ведь клякса темно-синяя!
— Белый медведь, — твердо повторил я. — Он потемнел от загара. В пустыне сильное солнце.
— А тапочки? — с отчаянием произнес слушатель. — Где вы увидели тапочки?!
Я наугад ткнул пальцем в кляксу:
— Здесь.
— Но тут две сходящиеся линии…
— Это две ноги в одной тапочке. Поэтому и жмет.
Слушатель долго разглядывал кляксу, потом вздохнул и сказал:
— У вас потрясающая фантазия… Я показывал эту кляксу нашим ребятам, они говорили банальные вещи: бабочка, дерево, куст…
«ПРЕКРАСНОЕ ПЛАМЯ ОСЕНИ»
Мы не знаем, что такое фантазия, но это не мешает использовать ее в творчестве. Огнем тоже пользовались, не имея понятия об окислении, плазме и т. д. Правда, огонь фантазии намного капризнее и таинственнее обычного огня…
«Свидетельских показаний» о том, как именно работает фантазия, чрезвычайно мало. К тому же, не все показания достоверны. Рассказывая о ходе творческого процесса, человек — вольно или невольно — вносит поправки, что-то выделяя и что-то, наоборот, оставляя в тени.
Одно из наиболее интересных «показаний» — воспоминания шведского изобретателя Платена о том, как появилась идея пресса для получения алмазов. Вот что рассказывает Платен:
«Был прекрасный осенний день. Я только что поступил в университет города Лунда. Проходя мимо факультета ботаники, я увидел, что одна из стен здания покрыта виргинским плющом. Его листья были замечательного красного цвета. Каждая осень сопровождается переходом от зеленого к красному, и прохожие останавливаются от внезапного восторга при виде прекрасной игры цвета. Я был одним из этих прохожих и не мог себе представить, что позднее это явление укажет мне путь к созданию установки, производящей алмазы…»
Какова же связь между восторженным восприятием красных листьев и созданием пресса?
Два года спустя знакомый ботаник так объяснил Платену происхождение красного цвета листьев:
«Листья осенью становятся красными не потому, что они умирают, а потому, что они не хотят умирать. Мертвый лист отличается от живого тем, что некоторые вещества в нем разрушились, и такое разрушение должно произойти рано или поздно, до смерти листа или после нее. Листья выбирают первую возможность. Они предпочитают, чтобы эти вещества разрушились при их жизни, а не после того, как они умрут. Такое разрушение молекул, сопровождающееся изменением цвета, начинается осенью в живых еще листьях, и пока длится этот процесс, листья продолжают жить. Как бы устремляясь навстречу смерти, листья получают больше двух недель жизни и дарят нам прекрасное пламя осени».
Сейчас нам не важно — так ли на самом деле. Важно другое — как это воспринял Платен. Он понял это так: допустим, есть десять молекул, они могут все разрушаться постепенно; но молекулы действуют иначе — две из них принимают на себя всю «дозу» разрушения, а остальные по-прежнему живут в полную силу.
Мысль ботаника запомнилась Платену. И когда в начале 1930 года физик Тэндберг в разговоре с Платеном выразил сомнение в том, что сталь сможет выдержать давление, необходимое для синтеза алмазов, Платена осенило: «Внезапно я понял, каким образом принцип, продлевающий жизнь листьев, может быть применен и в установке для изготовления алмазов…»
Действие равно противодействию: рабочие части пресса, давящие на сжимаемое вещество, должны на что-то опираться. Это давление воспринимает кольцевая станина пресса. На каждую частицу трубы действуют две силы: радиальная сжимающая и тангенциальная растягивающая. При этом наибольшие силы действуют на внутренние участки трубы. Платен решил заранее пойти навстречу разрушению металла. Он разделил станину на отдельные полосы, слои (кольцевые). Внутренние слои разрезал («умертвил»), они стали воспринимать только сжимающие усилия. А наружные слои стали воспринимать только растягивающие усилия. Внутренние слои сделали из металла, хорошо работающего на сжатие, а наружные — из металла, хорошо работающего на растяжение: металлические секторы обмотали рояльными струнами…[9]
Итак, цепочка: прекрасное пламя осени — принцип «пусть часть погибнет во имя целого» — применение этого принципа для решения изобретательской задачи. Когда я впервые прочитал эту историю, два последних звена цепочки не произвели на меня никакого впечатления. Принцип «пусть часть погибнет во имя целого» хорошо известен в современной теории решения изобретательских задач. К использованию этого принципа теперь ведут точные правила и формулы. Но прекрасное пламя осени… Я живу в Баку, у нас нет этого пламени. Зеленые листья сохраняются до ноября — декабря, блекнут, чуть-чуть желтеют и постепенно опадают. Настоящее пламя осени я впервые увидел в Подмосковье и в Ленинграде, и впечатление было очень сильное. Читая историю Платена, я вспомнил об этом, и несколько дней перед глазами у меня стояли огненные деревья…
А потом я подумал, что при переносе в технику сохранился принцип, но потерялась красота. И сразу возникла идея: перенесем «прекрасное пламя осени» не в технику, а в литературу, в фантастику. Предположим, создан способ увеличения длительности жизни: человеческий организм ведет себя подобно листу. Человек не чувствует наступления старости, собственно, старость исчезает: часть молекул гибнет, принимая на себя удары времени, но организм в целом остается молодым… И только цвет кожи меняется — появляется «прекрасное пламя осени». Как бронзовый загар, но ярче и неизмеримо богаче оттенками.
Для литературы не имеет значения научная достоверность. Важны только две вещи: видимая, кажущаяся достоверность (она тут на все 100 %) и яркость образа, которая в данном случае достигает потрясающей силы. Человек с годами «пламенеет», становится красивее, прекраснее… Одна эта идея способна украсить фантастический роман, создавая неповторимый колорит фантастического мира, прекрасного и в чем-то трагического…
Я несколько раз пробовал ввести эту идею в повесть «Третье тысячелетие» и каждый раз отступал, чувствуя, что получается не так, как надо. Идея еще не перебродила…
Впрочем, это уже не относится к делу. Важно другое: на этом примере хорошо видно, насколько близки и взаимосвязаны фантазия техническая и фантазия художественная. А если так, то техническую фантазию можно развивать, используя фантазию художественную, воплощенную в научно-фантастических произведениях. Когда я высказал эту мысль в одной из статей, к величайшему моему удивлению, она отнюдь не показалась очевидной. «Прочитаешь такое, — писал литературовед Ал. Горловский, — и сразу хочется всех членов секции научной фантастики зачислить пожизненными членами Госкомитета по изобретательству или в Президиум АН СССР».[10] Лет сорок назад, когда появились первые работы по технической эстетике, их встретили с тем же весельем непонимания: что же, зачислить художников и скульпторов в научно-исследовательские институты?! Ныне Государственный комитет по делам изобретений и открытий выдает авторские свидетельства на образцы художественного оформления машин, механизмов, приборов. Участие художника-дизайнера в принятии инженерных решений стало повседневной практикой. Но ведь не зря была высказана ироничная и горькая мысль: единственный урок истории заключается в том, что мы не извлекаем уроков из истории…
Научная фантастика — прежде всего художественная литература. Поэтому главной функцией НФЛ, бесспорно, является человековедение. Однако НФЛ многогранна. Одна из таких граней — способность ее развивать воображение. А развитое воображение необходимо для творчества в науке, технике, искусстве, словом, в любой области человеческой деятельности. Использование НФЛ для «утилитарной» цели развития воображения отнюдь не мешает хорошим фантастическим произведениям оставаться художественной литературой.
СНЕГОПАД ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА
Я пришел к изобретательству от фантастики, случай нередкий. Прочитал в пятом классе «Двадцать тысяч лье под водой» и начал придумывать скафандры. В десятом классе получил первое авторское свидетельство на водолазный дыхательный аппарат. Особого значения этому событию я не придавал: меня манил океан, глубоководные спуски. Скафандры были только средством. Год за годом я возился со скафандрами, росло число авторских свидетельств, но кислородные дыхательные аппараты в принципе годились только для глубин до двадцати метров. И однажды я взбунтовался. Капитан Немо ходил по дну океана, вот какой нужен скафандр!..
Разумеется, мое начальство не выразило восторга. Представьте себе, что авиационный инженер приходит в свое конструкторское бюро и со ссылкой на фантастический роман заявляет: надоело возиться с самолетами, давайте проектировать межгалактический корабль для перелетов дальностью в миллионы световых лет… Примерно такая ситуация была и в моем случае: никто еще серьезно не задумывался о спуске на глубины в 5-10 километров.
Человек на дне океана… Достаточно было поставить такую задачу, как на меня обрушился град вопросов: выдержит ли человек давление в 500-1000 атмосфер? Сможет ли он дышать в таких условиях? Сохранит ли способность видеть, слышать, двигаться? Как перенесет возвращение к нормальным условиям?.. Воображение перенесло меня в мир, не менее фантастический, чем мир планеты Месклин из повести Хола Клемента «Экспедиция «Тяготение». Или мир, спрятанный под облачным покровом Венеры. Обыкновенный воздух под давлением, царящим на дне океана, приобретает плотность жидкости; как дышать таким воздухом, если дыхательные мышцы не осилят и десятка вдохов?..
Наверное, можно написать книгу о приключениях мысли при решении подобных задач. Я ограничусь здесь только одним эпизодом. Он позволяет увидеть причудливое переплетение фантазии и трезвого расчета, образующее единую ткань творчества.
Кислород, азот, гелий, водород на любых глубинах остаются газами. У них очень низкие критические температуры: без охлаждения их никаким давлением не переведешь в жидкость. Однако, вдохнув, скажем, смесь кислорода и гелия, человек выдохнет ту же смесь, но с примесью нескольких процентов углекислого газа. А углекислый газ очень легко сжижается и даже превращается в твердую углекислоту. Критическое давление составляет для углекислого газа всего 73 атмосферы. С таким давлением океанавт встретится на глубине 730 метров.
До этого я думал только об обеспечении человека кислородом; все, связанное с углекислым газом, не попадало в поле зрения. Потом переключился на обдумывание «выдыхательной части» — и сразу замаячил новый факт: при погружении углекислый газ перестанет быть газом.
Я был ошеломлен. Поскольку океанавт находится под давлением, равным наружному, конденсация углекислого газа должна произойти прямо в организме! Возник углекислый газ в тканях тела, в кровеносных сосудах — и тут же выпал в виде снега… Снегопад внутри человека!..
Этот снегопад я увидел с предельной отчетливостью. Как в мультфильме: фигура человека, а внутри фигуры, медленно кружась, падают хлопья снега…
Было жаркое бакинское лето. После работы, втискиваясь в раскаленный, переполненный трамвай, я закрывал глаза и видел: человек в маске идет по дну в прохладной и чистой воде океана… Бывали и другие видения. Затонул батискаф, никто не может его спасти — и вот я ныряю, нахожу лодку, закрепляю тросы… Глупые фантазии? Конечно. Но ведь они стимулировали работу над «Задачей из XXI века». Какие могли быть другие стимулы, если задача была явно преждевременной?..
При быстром всплытии газы, растворенные в крови, выделяются в виде пузырьков. Это давно известная кессонная болезнь. А тут — «снежная болезнь», в чем-то обратная кессонной: газы превращаются в снежинки… Получается, что сама природа поставила предел глубоководным погружениям человека.
Я вспомнил, однако, что критическая температура для углекислого газа равна 31+-, Вспомнил и вздохнул с облегчением: в теле человека температура с гарантией выше 31+-, Углекислый газ внутри организма останется газом, дыхательные процессы не нарушатся! Природа очень разумно подобрала константы для веществ, из которых устроен мир…
Удивительное дело: когда выяснилось, что океанавту не угрожает «снежная болезнь», мне было жаль расставаться со «снегопадом внутри человека». Я продолжал разглядывать эту странную и по-своему поэтичную картину. Без всякого энтузиазма я перешел к идее «снегопада вне человека», в этом не было ничего необычного. Но именно здесь блеснула находка: выдохнутая газовая смесь, содержащая несколько процентов углекислого газа, охладится (кругом сколько угодно холодной воды), и углекислый газ станет жидким или твердым. Смесь очистится, ее можно будет снова использовать для дыхания!
Дыхательный прибор, грубо говоря, состоит из двух подсистем: одна дает кислород, другая убирает углекислый газ. В аквалангах только первая подсистема, выдыхаемый воздух выбрасывается (а в нем всего 4 % углекислоты), поэтому акваланги рассчитаны на непродолжительную работу — быстро расходуется запас воздуха. В дыхательных приборах с замкнутым циклом выдыхаемый воздух идет в поглотительный патрон, наполненный зернами щелочи или тетраокиси калия. Патроны тяжелы, громоздки, дороги, их работу трудно контролировать. А тут полная возможность удалять углекислый газ «без ничего», только за счет давления! Еще одна трогательная забота природы об изобретателях глубоководных скафандров…
Воздух в скафандре надо очищать не только от углекислого, но и от небольших количеств других газов. Я стал листать справочники, уточняя критические температуры и критические давления этих газов, и вдруг напоролся (иначе не скажешь) на потрясающую идею: у каждого газа есть критическая глубина, выше которой он — газ, а ниже — жидкость. Выше критической глубины пузырек газа остается пузырьком и всплывает, а ниже — превращается в жидкость и тонет. Например, у инертного газа ксенона критическое давление всего 50 атмосфер. Значит, ниже 500 метров ксенон станет жидкостью. Плотность у этой жидкости больше, чем у воды: жидкий ксенон должен тонуть…
На суше ксенон выделяется из трещин земной коры. Почему бы этим трещинам не быть на дне океана?.. Тут фантазия заработала на полную мощность: я представил себе ксеноновые подводные озера на океанском дне. И не обязательно ксеноновые. Есть сорта нефти, имеющие плотность чуть ниже единицы. Такая нефть может плавать на поверхности воды. Но на глубине в несколько сот метров давление воды уплотнит нефть (сама вода, напоминаю, почти несжимаема) — и нефть утонет…
Я сидел в опустевшем читальном зале, передо мной лежал скучнейший справочник по свойствам жидкостей и газов (цифры, одни только цифры), я лихорадочно подсчитывал сжимаемость очередного газа и открывал подводные озера, которые могли быть где-нибудь на дне Тихого океана… Читальный зал кончал работу в десять вечера, я успел найти полдюжины веществ, теоретически вполне пригодных для образования подводных озер. Потом я шел по ночным улицам города, и воображение рисовало удивительные картины: вот какая-то сила (землетрясение?) подтолкнула подводное озеро ксенона, лежащее около критической глубины. Озеро начало всплывать и, достигнув критической глубины, превратилось в газ, поток бурлящего газа, стремительно рвущийся вверх…
(Позже я встретил в «Золотой розе» Паустовского такую фразу: «Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию». Я не раз вспоминал эту мысль, читая «подводную» фантастику. Ах, если бы авторы знали мир, о котором они пишут…)
Идеи, возникшие при работе над фантастическим глубоководным скафандром, я использовал несколько лет спустя, проектируя первый в мире, но вполне реальный газотеплозащитный скафандр для горноспасателей, спускающихся в охваченные огнем шахты.
«СВЕРХКАТИМОСТЬ»
Шла скучная лекция. Что-то такое об электронных оболочках атомов. Передо мной лежала раскрытая книга — курс общей химии Глинки (кажется, этот учебник в ходу и поныне). Там был изображен атом водорода — ядро, а вокруг него бегает электрон:
Я дорисовал глаза и рот. Вот так:
Атом ухмылялся, его не одолевала скука и не смущала мысль об угрожающе близком экзамене. На той же странице были еще два рисунка — атомы лития и бериллия:
Они походили на колеса, эти атомы с двойными электронными оболочками. Пришлось немного подрисовать, и сходство получилось полное:
Такие прекрасные колеса просто жаль было не использовать. Я провел несколько линий, появился гоночный автомобиль:
Почему бы, подумал я, и в самом деле не использовать атомы вместо колес? Очень естественная мысль для человека, воспитанного на фантастике… Вот на столе лежит книга, ее переплет состоит из множества атомов. Книга опирается на стол этими атомами. Как будто лежит на колесиках. И самое главное: колесики вращаются. Они все время крутятся с бешеной скоростью. Книга неподвижна, потому что атомы-колесики крутятся в разные стороны. Если бы атомы согласованно крутились в одну сторону, книга рванулась бы с места — да еще как!..
Несколько дней я размышлял: а не взяться ли за эту проблему? У меня не было ни малейших сомнений в том, что удастся закрутить атомы в одну сторону. Промелькнула, правда, мысль о затруднениях, возникающих, если рассматривать проблему с позиций квантовой физики: все электроны должны быть в одном и том же квантовом состоянии, а на этот счет существует запрет Паули. Но подобные мелочи меня не смущали. Загвоздка была в другом. Придется отдать этой проблеме всю жизнь, а выбор уже давно сделан, я занимаюсь подводной техникой…
Вот тут я впервые ощутил ужасающую несправедливость того, что человеку дана только одна жизнь. Какой бы путь я ни выбрал, это будет один путь, одна дорога, и никуда не денешься от мысли, что там, на другой дороге, осталось нечто несбывшееся. Человеку нужны десятки жизней, чтобы быть художником, изобретателем, музыкантом, летчиком, революционером, физиком, артистом, моряком, хирургом, писателем, биологом, путешественником, воином, педагогом, историком, строителем… и везде на уровне Мастера или Гроссмейстера, а это требует всей жизни.
У таких идей огромная сила притяжения. Все чаще и чаще я возвращался к мысли о том, что человек должен все знать и все уметь. Эта проблема не решалась механическим наращиванием освоенных специальностей. Нужна была Общая Теория Сильного Мышления: как решать трудные задачи, как развивать талантливое, творческое мышление. Для начала — как решать творческие задачи в технике. Это уже была конкретная и реальная (по моим представлениям) постановка проблемы. Я оставил скафандры и занялся теорией творчества.
Об атомах-колесиках я вспомнил через много лет, когда появились первые сообщения о лазерах. В квантовых генераторах электронные оболочки атомов «раздуваются», а потом «опадают» — и происходит это согласованно, по команде. Ну а если согласовать вращение атомов?..
Встречи со старыми идеями похожи на встречи со старым знакомым: несколько лет не видишь человека, забываешь даже о его существовании, а потом неожиданно сталкиваешься с ним, прежним и в чем-то изменившимся. С годами число таких знакомых идей увеличивается, они живут сами по себе и вместе с тем где-то рядом, в твоем мире.
Однажды мне пришлось копаться в литературе по сверхпроводимости. И снова замаячила идея атомов-колесиков: «сверхкатимость» по своей природе должна быть таким же макроскопическим квантовым эффектом, как сверхпроводимость и сверхтекучесть.
А еще через несколько лет я натолкнулся на стихи Сергея Орлова:
Кто был изобретатель колеса? Никто не знает. Все о нем забыли…Меня поразили эти стихи, Орлов писал о том, что в природе существовали только рычаги — ноги, крылья, — а колеса не было. Чтобы изобрести колесо, понадобился взрыв фантазии:
Крыло в природе человек узрел И рычагов машинных сочлененье, А он на мир не так, как все, смотрел, Без подражанья мыслил, без сравненья. Он смастерил однажды колесо, И покатилось колесо по свету, А он свернул, должно быть, сигарету И сам себе воскликнул: «Хорошо!»Если бы фантазии потребовалась эмблема, такой эмблемой могло бы послужить колесо. Созданное силой воображения в незапамятные времена, колесо и по сей день является основой нашей цивилизации. Меняются материалы и двигатели, осваиваются новые виды энергии, возникают все более сложные машины, неизменным остается только использование колеса.
Я перечитывал стихи Сергея Орлова и думал, что воображение, создавшее колесо, не остановится на этом и неизбежно придет к отрицанию колеса и замене колес «сверхкатимостью». Найдется человек, который осилит эту проблему, и в один прекрасный день какая-нибудь тяжелая свинцовая плита, спрятанная в недрах экспериментальной установки, впервые сдвинется на микрон или сразу на два миллиметра, и это будет началом новой эры. А «закрыватель колеса» закурит сигарету и сам себе скажет: «Хорошо».
«ФАНТАЗИИ НЕ НАДО…»
Преодолев черную бездну космоса, «Поиск», звездолет дальней разведки, вынырнул у планеты Искра, одной из двенадцати планет желтой звезды Гамма Геркулеса. В отличие от других одиннадцати планет, огромных газовых гигантов, Искра была похожа на Землю. Такая же атмосфера, такие же горы, леса, моря, растения, животные. Необычными оказались только некоторые насекомые (космонавты назвали их «мухами») — они летали со сверхзвуковой скоростью. Воздух был наполнен живыми пулями… С «Поиска» высадили двух космонавтов (разумеется, в скафандрах высшей защиты) — и едва удалось их спасти. Даже закрытый вездеход был быстро выведен из строя «мухами». Возник вопрос: что делать в этой ситуации?..
Такую задачу предложила своим читателям «Пионерская правда». Редакция получила 1103 письма, в основном от учащихся 5-8-х классов. Вот спектр идей, содержащихся в этих письмах:
1. Уничтожить «мух» 451(41 %) 2. Спрятаться от «мух» под землей, в лесу, под водой и т. д. 187(17 %) 3. Снабдить вездеход броневой защитой 161(14,5 %) 4. Использовать для ограждения от «мух» силовое поле 48(4,4 %) 5. Отказаться от разведки планеты из-за опасности 56(5,1 %) 6. Отказаться от разведки планеты из-за недопустимости вторжения в чужой мир 36(3,3 %) 7. Выяснить, почему «мухи» не сталкиваются с животными и растениями; использовать этот способ для защиты космонавтов 62(5,6 %) 8. Прочие идеи 102(9,1 %)
Задача входила в «Изобретательское многоборье» и называлась «Проверьте свою фантазию». Одно из писем начиналось так: «Фантазии не надо. Обработать «мух» хлорофосом и дустом…» Необходимо подчеркнуть, что газета много и регулярно пишет об охране природы, о проблемах экологии и т. д. Об опасности бездумного вмешательства в равновесие природы говорят сейчас все — школа, кино, телевидение, журналы. Но мысль эта, видимо, воспринимается в частной форме («Если уничтожить волков, начнутся эпидемии среди оленей») и применительно к нашей планете. И вот — 41 % «уничтожительных» ответов! Фактически даже больше: «мухи» будут разбиваться о броню вездехода, о силовое поле. Да, есть над чем задуматься…
Ответы на задачу можно разделить на три слоя. Первые пять ответов составляют самый низший слой: есть враг, надо его уничтожить или спрятаться от него, чтобы не быть уничтоженным. Один «ход» мысли, очевидный по условиям задачи. Природа опасности не исследована. «Мухи» рассматриваются изолированно от биосферы планеты. Второй слой — ответ № 6. Тут уже два «хода» мысли. Первый «ход»: есть система («мухи»), входящая в обширную надсистему («чужой мир»), и любое изменение системы может пагубно отразиться на надсистеме. Второй «ход»: нельзя нарушать экологическое равновесие на чужой планете, исследование невозможно, придется вернуться. В письмах, содержащих ответ № 7 и составляющих третий слой, сделан еще один ход: растения и животные в «чужом мире» каким-то образом сосуществуют с «мухами»; надо выяснить, как им это удается, — и использовать этот способ.
Вот, как выглядит распределение писем по слоям:
Поступило писем. всего. в том числе. Ссылки в письмах на научно-фантастическую литературу.
3-5-й классы. 6-й класс. 7-й класс. 8-10-й классы
1-й слой
451 87 126 107 131 18(4 %)
2-й слой
36 2 7 15 12 12(33 %)
3-й слой
62 11 39 12 16(26 %)
В конце XIX века французский психолог Рибо установил, что фантазия достигает максимума где-то в районе 15 лет, а потом идет на спад. На первый взгляд таблица подтверждает вывод Рибо: наиболее благоприятное соотношение сильных (2-й и 3-й слой) и слабых (1-й слой) ответов — у семиклассников.
Решение задач, конечно, зависит не только от фантазии. На фантазию приходится лишь часть работы, и оценка этой части поневоле субъективна. Но за пять лет через «Пионерскую правду» прошло около 100 задач и упражнений. Я просмотрел десятки тысяч писем, и у меня сложилось впечатление, что «пик фантазии» в наше время сместился к 11–12 годам. Это впечатление укрепляется при анализе ответов на задачи, решение которых требует почти чистой фантазии. Например: «Художник задумал нарисовать время. Подскажите, как это сделать?» Или: «Придумайте фантастическое природное явление». При публикации таких задач в «Пионерской правде» резко уменьшилось число писем от старшеклассников; в основном отвечали учащиеся 5-6-х классов. «Пик фантазии» отчетливо смещался к 5-му классу, а в некоторых случаях — даже к 4-му. Фантазия современного ребенка быстрее достигает максимума и быстрее идет на спад. Да и сам «пик фантазии», по-видимому, становится ниже. Стресс точных знаний, испытываемый школьником, приглушает фантазию. В письмах нередко чувствуется нежелание «фантазировать». Задача о «мухах» была дана с пояснением, что ситуация взята из фантастического рассказа, но многие письма первого слоя начинались с упрека: так не может быть, в плотной атмосфере «мухи» не смогут развивать сверхзвуковую скорость. Сказку убивали обстоятельно, со ссылками на физику и примерами из авиации и космонавтики. А потом следовало беглое указание, как уничтожить «мух».
Без точных представлений о природе фантазии рискованно делать категорические выводы. Единственное, что можно констатировать без колебаний: противодействует спаду фантазии только обильное чтение научной фантастики. В ответах на задачу о «мухах» много ссылок на рассказ Р. Брэдбери «И грянул гром», упоминаются рассказы «Спасти декабра!» С. Гансовского и «Срубить дерево» Р. Янга. В таких письмах не только хорошие ответы. Радует, а порой просто поражает, готовность принять «игру» и умение войти в нее. В одном из писем такая деталь. Место высадки оградили силовым полем. «Мухи» разбивались о «стенки» этого ограждения. И вот «стенки» быстро почернели, не стало видно солнца… Может быть, чуть-чуть наивно, но, право же, иным писателям-фантастам не мешало бы с такой же ясностью представлять то, о чем они пишут.
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Представьте себе встречу двух футбольных команд, состоящих из спортсменов-невидимок. По полю «сам по себе» носится мяч — перемещается по замысловатой траектории, резко меняя направление движения. Иногда мяч взмывает высоко вверх, иногда замирает на месте, и невозможно сказать, что будет с ним в следующий миг. Представьте далее, что все это видит человек, ничего не знающий о футболе. Интересно было бы послушать его предположения и догадки, не правда ли?.. Суждения о фантазии во многом похожи на высказывания по поводу мяча, который бегает «сам по себе». Поэтому мы оставим на некоторое время фантазию и посмотрим, как вообще работает мышление при решении творческих задач.
Предположим, задача связана с необходимостью увеличить скорость корабля. Получив задачу, человек представляет себе то, что есть, — обычный корабль. Вспыхивает мысленный экран, и на нем возникает изображение корабля. Потом в этом изображении что-то меняется: корабль удлиняется и укорачивается, появляются и исчезают подводные крылья, корпус сдваивается — корабль становится катамараном… У слабого изобретателя этот фильм бывает коротким и не очень оригинальным. Повторяются одни и те же кадры, лента часто рвется, сеанс быстро кончается. У сильного изобретателя мысленное кино идет круглосуточно, день за днем; сначала проходят тривиальные кадры, а потом все чаще и чаще начинают появляться изображения необычные, дикие. Вот на экране корабль… в тигровой шкуре. Странное зрелище, не правда ли? Но мех (разумеется, искусственный) уменьшает сопротивление движению: меньше возникает вихрей, можно повысить скорость. Недавно такое изобретение и в самом деле было зарегистрировано. (Кстати, у этой идеи богатые художественные возможности. Представьте себе порт с такими кораблями. Подтянутые лайнеры в искусственных гепардовых мехах, тяжелый танкер в медвежьей шкуре, стройные яхты в горностаевых шубках… Казалось бы, идея чисто техническая. Но как легко она превращается в краску на палитре художника! Машины, обтянутые мехом, приобретают живые черты. Всего лишь деталь будущего мира, но как не хватает фантастике таких деталей…)
Ну а если задачу решает не просто сильный изобретатель, а человек исключительно талантливый, даже гениальный? Как работает его мысленное кино в тот звездный час, когда рождается великая идея?
Мир устроен системно. В системах целое зависит от частей, а части зависят от целого. Автомобиль, дома, заводы, электрическое освещение — это системы. И человеческий организм — система. Книги, деревья, звезды — тоже системы. Две важнейшие особенности систем: системы развиваются — это раз, системы образуют иерархию — это два. Мышление должно отражать эту фундаментальную особенность мира. Хорошо мыслить — значит прежде всего хорошо представлять системную картину мира. Поэтому над обычным экраном, на котором идет мысленный фильм о системе (в нашем примере системой является корабль), должен быть экран для фильма о надсистеме (флот). А под обычным экраном — еще один экран для фильма о подсистемах (части корабля). Более того, на каждом этаже должны быть три экрана — для прошлого, настоящего и будущего, — чтобы все видеть в развитии. Это как минимум. Гений просматривает задачу на несколько этажей вверх от системы и на несколько этажей вниз. Видит не только прошлое, но и далекое прошлое. Не только будущее, но и далекое будущее. Сложный кинозал, не так ли?..
Но еще сложнее фильмы, которые идут в этом зале. Меняются размеры объекта, меняются темпы действия. Одновременно с фильмом идет антифильм: видна, например, не только система, но и антисистема. Корабль и антикорабль. Корабль плавает, это его главное свойство. Антикорабль тонет. А почему он тонет? Перегружен? Чем? Чем надо перегрузить корабль, чтобы он умел развивать большую скорость? Двигателями. И вот возникает новая идея: давайте построим корабль, до предела заполненный двигателями. Такой корабль не будет держаться на воде… пока он неподвижен. Что ж, неподвижный самолет тоже не держится в воздухе. Обычные корабли подобны тихоходным, громоздким дирижаблям. Корпус корабля всегда рассчитывают так, чтобы он держался на плаву. И расплачиваются за это колоссальным сопротивлением громоздкого корпуса. Даже поднятый над водой корабль испытывает огромное сопротивление воздуха. Антикораблю, способному держаться на воде только в движении, не нужен большой корпус.
Впрочем, антикорабль — это только так, для примера. Важно другое: структура гениального мышления. Много экранов, фильм и антифильм. И другие трюки. Скажем, постоянное изменение размеров объекта на каждом экране. Как выглядит корабль, если его размеры превышают размеры океана? Как выглядит корабль, если он меньше молекулы?..
Теперь, когда хотя бы в первом приближении вырисовывается кинотеатр гениального мышления, можно вернуться к вопросу о фантазии. Какую роль она играет во всем этом?
Во-первых, фантазия разворачивает экраны, помогает перейти от одного экрана к системе многих экранов. Во-вторых, фантазия осуществляет все кинотрюки (сочетание фильма и антифильма, изменение размеров изображения, смена темпов действия и т. д.). В-третьих, фантазия улавливает в этом сложном кинодействии необычное, даже если оно лишь промелькнуло на одном из экранов. Фантазия помогает вцепиться в Необычное, не поддаваться страху (а Необычное всегда страшит), не отбросить Необычное из-за того, что оно необычно…
Этому можно учить. Хотя и очень нелегко. Современную теорию решения изобретательских задач осваивают, в общем, все инженеры. Это точная наука как физика или химия. Законы, правила, формулы, таблицы… А вот курс РТВ (развитие творческого воображения), входящий в учебные программы многих школ и институтов технического творчества, идет тяжело. Воображение надо развивать еще в раннем детстве, инженеры — даже молодые — уже староваты для таких занятий. И все-таки игра стоит свеч: занятия трудны, но в конце концов курс РТВ делает мышление ярче, талантливее.
На таких занятиях я часто задавал вопрос: «В чем смысл жизни?» Разумеется, я не ожидал исчерпывающего ответа по существу. Меня интересовал подход к решению задачи: сколько экранов зажглось и что на них показывают. До обучения и на начальных этапах обучения вопрос оказался непосильно тяжелым. Воспринимали вопрос узко: в чем смысл жизни человека? Загорался один экран, и начинался вялый перебор вариантов. Часто пытались отделываться шутками типичный для второй половины XX века прием ухода от серьезных размышлений.
Однажды я задал этот вопрос хорошо подготовленной группе. Отличная была группа: молодые инженеры и студенты, занимавшиеся уже два года и прошедшие не только курс РТВ, но и факультативный курс научно-фантастической литературы. Вопрос я задал в коварной форме, нарочно сужая задачу: «В чем смысл жизни человека?» Но с этой группой такие номера не проходили. Мне снисходительно объяснили, что к подобным проблемам нужен системный подход. Кто-то нарисовал на доске девять экранов:
Прошлое
Настоящее
Будущее
Общество
Человек
Клетка
«Экранную» схему мы проходили, группа обязана была так сработать. А вот как пойдет дело дальше?.. В аудитории был галдеж. У доски толпились пять или шесть человек. В схему внесли поправки, и я увидел нечто новое:
— Это же очевидно, — пояснили мне. — Общество возникло сравнительно недавно. Человек («И вообще организмы», — вставил кто-то) древнее общества. А клетки древнее организмов.
— Ну и что? — спросил я, уже догадываясь, в чем тут дело. Стоявшие у доски снова загалдели, удивляясь моей недогадливости, и нарисовали для ясности стрелку:
— Развитие идет на уровне клеток. Потом переходит на уровень организма, а клетки перестают развиваться. Далее идет развитие организмов — от амебы до человека. А потом новый переход — на уровень общества. Развивается общество, биологическая эволюция человека прекращается или во всяком случае сильно замедляется.
— Ну и что? — вновь спросил я.
На этот раз вопрос был задан впустую. Почти вся группа собралась у доски. Схему подправляли и развивали. Появился этаж ниже «клеточного» — развитие органического вещества. И еще ниже — развитие неорганического вещества. Сверху пристроили этаж «Надобщество». И вот тут кто-то решительно стер схему и нарисовал ее заново: чем выше этаж, тем короче путь к следующему этажу. Эволюция неорганической материи началась тринадцать миллиардов лет назад. Органическое вещество появилось на Земле два миллиарда лет назад. Одиннадцать миллиардов лет на переход с этажа на этаж. А потом — за каких-нибудь два миллиарда лет — сразу два этажа (организмы и общество). Скорость эволюции по вертикали нарастает. И если эта закономерность, действовавшая тринадцать миллиардов лет, сохранится хотя бы еще миллион лет, возникнут пять или десять новых этажей…
Ребята действовали отлично, и я подумал, что сегодня и впрямь можно докопаться до смысла жизни. Но в это время кто-то резко изменил задачу:
— Послушайте, а ведь теперь понятно, почему нет сигналов от внеземных цивилизаций. Мы думаем, что развитие цивилизации идет на этаже «Общество», а сверхцивилизации должны быть на несколько этажей выше. Мы относимся к ним так, как амеба относится к нам. А разве наша цивилизация посылает сигналы амебам? Зачем ей это?..
Наступило молчание.
Вот и Необычное, подумал я. Нечто такое, чего не заметили профессионалы и по сей день спорящие о том, на какой волне ловить радиосигналы далеких сверхцивилизаций и как расшифровывать эти сигналы. Сколько средств и усилий потрачено на поиски этих сигналов!.. А на очереди проекты еще более сложные. Отсутствие фантазии обходится дорого, очень дорого…
Возможен ли контакт по вертикали — через несколько этажей? А может быть, наша цивилизация уже входит в состав какой-то сверхцивилизации, как клетка входит, не подозревая об этом, в состав организма?
Молчали долго. И только перед самым звонком кто-то вполголоса сказал:
— Нет, если мы понимаем ситуацию, мы уже не амебы. Что ж, все верно: если мы умеем мыслить, мы всесильны. Если умеем мыслить.
МЕРИДИАНЫ ФАНТАСТИКИ Хроника событий в мире научной фантастики Зима — весна 1979 г
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
3—7 апреля в Ереване состоялось региональное совещание, организованное Советом по приключенческой и научно-фантастической литературе Союза писателей СССР. На совещании присутствовали известные писатели-фантасты Д. Биленкин, Е. Войскунский, Г. Гуревич, Р. Подольный (Москва), А. Шалимов (Ленинград), А. Громов (Кишинев), критики Е. Брандис (Ленинград), Вл. Гаков (Москва), А. Манукян (Ереван), молодой фантаст из Москвы В. Бабенко, а также представители редакций журналов и издательств, ВААП, работники аппаратов Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР. Гостей тепло встречали фантасты Армении (Р. Сагабалян, Х. Дадаян, С. Диланян, Г. Арутюнян и другие) во главе с известными писателями П. Зейтунцяном и К. Симоняном. На совещании обсуждались вопросы развития национальных научно-фантастических литератур советских республик Закавказья. Участники совещания с воодушевлением отметили большую работу редакции журнала «Литературная Армения» (главный редактор К. Симонян) по созданию современной национальной армянской научной фантастики. Состоялись встречи участников совещания с сотрудниками высокогорной Бюроканской обсерватории, учащимися музыкального училища, журналистами.
13—15 апреля в Киеве состоялось совместное заседание Совета по работе с молодыми и Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе Союза писателей Украины. В рамках заседания был проведен семинар молодых писателей, на котором, в частности, были представлены 28 молодых украинских писателей-фантастов. Некоторые из них уже известны широкому кругу читателей (харьковчанин Ю. Никитин, В. Головачев из Днепропетровска и другие).
22—25 мая в Новосибирске состоялось региональное совещание, организованное Советом по приключенческой и научно-фантастической литературе Союза писателей СССР и комиссией по приключенческой и научно-фантастической литературе Союза писателей РСФСР. Среди участников совещания были известные фантасты Д. Биленкин, Е. Войскунский, Г. Гуревич (Москва), С. Снегов (Калининград), Б. Лапин (Иркутск), М. Михеев (Новосибирск), молодые авторы Ш. Алимбаев (Алма-Ата), М. Клименко (Челябинск), Г. Прашкевич (Новосибирск), Г. Угаров (Якутск), А. Шепиловский (Чита), критики Е. Брандис (Ленинград) и Т. Чернышева (Иркутск), представители редакций журналов и издательств, работники аппаратов Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР. Обсуждался круг вопросов, касающихся развития национальных научно-фантастических литератур в республиках, а также научно-фантастической литературы в Сибири. Участники совещания выступили на заводах, в местном университете, в Доме ученых Академгородка.
10 февраля исполнилось 70 лет со дня рождения известного советского писателя-фантаста Ильи Иосифовича Варшавского (1909–1974), автора сборников «Молекулярное кафе», «Человек, который видел антимир», «Солнце заходит в Дономаге», «Лавка сновидений», «Тревожных симптомов нет». Несмотря на сравнительно короткий срок работы в литературе, Илья Варшавский остается одним из признанных классиков советского научно-фантастического рассказа.
ЗА РУБЕЖОМ
Болгария
Летом по инициативе болгарских клубов фантастики и прогностики при Центральном институте культуры создана авторитетная комиссия по научной фантастике, в состав которой вошли ученые, представители всех творческих союзов (литераторы, художники, композиторы, архитекторы, артисты и кинематографисты) и клубов. Комиссия, возглавляемая директором института, будет координировать деятельность клубов, издательств и редакций журналов, в которых печатается научная фантастика.
США
Исполнилось 65 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Генри Каттнера (1914–1958), творчество которого хорошо известно в СССР (сборник «Робот-зазнайка» и несколько десятков рассказов в периодике и в антологиях). Генри Каттнер (многие произведения написаны им в соавторстве с женой, Кэтрин Мур) — автор нескольких романов («Ярость», «Колодец миров» и др.), но наибольшую популярность ему принесли юмористические, искрометные рассказы, среди которых выделяются циклы о семействе мутантов, Хогбенах и изобретателе Галлагере.
В первых числах марта группа писателей-фантастов (известные советскому читателю Альфред Ван-Вогт, Пол Андерсон, Гордон Диксон и Ларри Нивен, а также молодые авторы) посетила один из центров космонавтики США, Лабораторию реактивных двигателей в г. Пасадена, чтобы присутствовать при знаменательном событии: в эти дни были расшифрованы и отпечатаны первые снимки Юпитера, снятые с близкого расстояния космической станцией «Вояджер-1». Молодой фантаст и ученый-астрофизик Грегори Бенфорд выразил общее настроение фразой: «Глядя на снимки, лишний раз убеждаешься, что у Создателя было больше воображения, чем у всей Ассоциации Научных Фантастов США…»
Популярная научно-фантастическая газета «Локус», издающаяся в Сан-Франциско, опубликовала суммарные данные об издании научно-фантастической литературы в США в 1978 году. За этот год 104 издательства выпустили в общей сложности 1189 книг (из них 528 — оригинальные произведения). В это число входят иллюстрированные издания, альбомы научно-фантастической живописи, критико-библиографическая литература. За последние пять лет общее количество выпускаемых книг неуклонно увеличивается, и сейчас даже среди самых рьяных поклонников жанра в Америке растет паника: все же не перечитаешь!..
В феврале издательство «Даблдэй» выпустило двухсотую книгу одного из популярнейших писателей-фантастов в мире Айзека Азимова, которому в 1980 году исполняется 60 лет. Книга названа «Пока память зелена…» Это автобиография писателя, охватывающая период жизни с 1920 по 1952 год. Интересно, что, уступая настойчивым пожеланиям другого издательства, «Хоутон Миффлин», Азимов и ему направил свою… двухсотую книгу, озаглавленную «Опус 200». Следующая книга Азимова, по его собственным словам, будет иметь порядковый номер «202», а «201-й», как таковой, не будет вообще.
Ассоциация поэтов-научных фантастов США (существует и такая) объявила зимой об учреждении ежегодной премии за лучшую поэтическую работу в жанре НФ. Премия названа именем слепого «космического барда» Райслинга — героя известного рассказа Роберта Хайнлайна «Зеленые холмы Земли», переведенного и в СССР.
Япония
На ежегодном съезде любителей фантастики, состоявшемся в курортном месте Хаконэ близ Токио, подведены итоги года. Лучшей книгой назван роман Масаки Ямадо «Запись психоаналитика: Земля», премию за лучший рассказ получил хорошо известный советскому читателю Саке Комацу, а за лучший научно-фантастический фильм — лента советского режиссера А. Тарковского «Солярис».
Материал подготовлен Вл. ГаковымNotes
1
Мой родной Париж (франц.).
(обратно)2
Боже мой, я путаю простые слова (франц.).
(обратно)3
Мне все равно (франц.).
(обратно)4
В этой чаще (франц.).
(обратно)5
Если вы меня сейчас же отпустите… (франц.).
(обратно)6
Мы на дне (фр.).
(обратно)7
Невыносимо (фр.).
(обратно)8
Тополиный пух (франц.).
(обратно)9
Подробнее о прессе см. в статье: В. Смирнов. Роль ботаники в физике высоких давлений.- («Техника-молодежи», 1977, № 9).
(обратно)10
«Детская литература», 1976, № 7, с. 6.
(обратно)

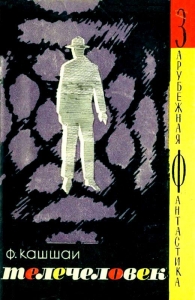
Комментарии к книге «НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 22», Валентина Николаевна Журавлева
Всего 0 комментариев