НФ: Альманах научной фантастики ВЫПУСК №18 (1977)
Владимир Михановский МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ ЗАМЕТКИ О НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ
Научная фантастика отнюдь не является детищем нашего беспокойного XX века, хотя нельзя отрицать, что именно в наше время она получила наибольшее распространение. Может быть, вернее всего будет сказать, что фантастика в наши дни стала могучей и полноправной ветвью художественной литературы.
С давних времен человек стремился провидеть, мечтал узнать, чем встретит его «день грядущий». Возникла «литература мечты», которая призвана была удовлетворить эту насущнейшую из человеческих потребностей. Вспомним в этой связи, например, Лукиана Самосатского или Гомера, чьи герои совершали не только земные, но и межпланетные путешествия, отправляясь на Луну.
Фантастика и есть тот магический кристалл, через который люди во все века пытались разглядеть туманное будущее.
Популярность научной фантастики в наше время объясняется многими причинами. Это и рост научных знаний, и соответственно — числа ученых в современном обществе. И все большее ускорение научно-технического прогресса.
Каждый день приносит новое открытие, имеющее не только сиюминутное значение, но и способное, как правило, оказать влияние на наше завтра. То есть сама жизнь постоянно поставляет материал для научно-фантастической литературы.
И как сама жизнь, «литература мечты» отнюдь неоднородна. Она сложна и противоречива, в ней множество течений и рукавов.
Однако при всем многообразии тематики, проблем, направлений со всей определенностью можно говорить о двух отчетливо выраженных тенденциях в современной мировой фантастике.
Писатели, представляющие литературу стран социалистического содружества, видят грядущее оптимистически. Социальные модели будущего, строящиеся ими, несут в своей основе жизнеутверждающее начало, веру в торжество гуманизма. Иной взгляд характерен для писателей Запада. Бытующие сегодня в капиталистическом мире правопорядки, нравы, мораль они переносят в будущее. Суммируя, можно сказать коротко два мира — две фантастик.
Представляемый сборник НФ состоит из произведений писателей-фантастов Польши, Венгрии, Болгарии, ГДР.
Он ни в коем случае не претендует на сколько-нибудь полное отражение процессов, происходящих в фантастике социалистических стран. Однако мы пытались отобрать те произведения, которые по своим тематическим и жанровым признакам в какой-то степени характерны для этого вида литературы.
Одной из наиболее популярных у фантастов является сегодня тема космоса. И одной только модой дело едва ли объяснишь корни «космизма» в научной фантастике (как, впрочем, и в поэзии, и в прочих, всех без исключения литературных жанрах) уходят гораздо глубже.
Мода преходяща, космос вечен.
И этот вечный космос — грядущее человечества, потому что, по пророческому слову К. Э. Циолковского, Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели!..
К осознанию этой истины люди пришли не сразу, а преодолев тернистый путь длиною не в одно тысячелетие. Но наверняка смутное предчувствие кровной связи со звездами, чувство органической причастности к ним зародилось на заре человечества. Нет, не о том речь, что мы «родом со звезд», гипотеза эта и поныне достаточно спорна. И не о том даже, что Земля наша — частичка космоса, кровяное тельце Вселенной, и потому нет и не может быть на нашей планете ничего, что не было бы в той или иной мере подвержено влиянию космических сил.
Потоки нейтрино — мельчайших частичек, «вечных странников» Вселенной — каждый миг пронизывают не только нашу Землю, но и все небесные тела, как бы подтверждая тем самым единство всего мироздания.
А чего стоит такой, например, факт «сродства космических сил» некоторые виды муравьев, ничтожных по размерам земных насекомых, в своих перемещениях по поверхности земли ориентируются по звездам! Именно по ним, как это теперь неопровержимо доказано, находят они свой путь, особенно в зоне степей и великих пустынь. По свидетельству И. Халифмана, «…тунисский мирмеколог Ф. Санчес написал целую философскую поэму о крохотном муравье, заставляющем человека поднять глаза от земли к великим мирам, проплывающим в небе; о ничтожном муравье, что в яркий полдень находит для себя в глубине небосвода дальнюю звезду, оказавшуюся его проводником, о слабом муравье, что подобно мудрецам Земли путешествует с надежным компасом; о скромном муравье, что всегда привязан ниткой света к золотой звезде и идет к своей цели». Кстати, эта поэма — великолепный пример «стыковки» поэзии и фантастики.
Речь сейчас, повторяю, о гораздо большем — о том, что «единожды начавшись», разумная жизнь — таковы ее внутренние законы — не может не распространяться вширь, не захватывать все новых планет, вплоть до самых дальних. Дело, впрочем, не исчерпывается чисто пространственной экспансией: речь идет в первую голову о качественных изменениях во всех сферах нашей жизни, к которым приведут дальнейшие шаги человечества в бесконечности.
Выход человечества в космос, помимо всего прочего, имеет и принципиальное философское значение. Ведь все человеческие представления в течение долгих тысячелетий вырабатывались в масштабах нашей планеты — перешагнуть земной порог, казалось тогда, никому не дано. Ныне же, когда человек научился побеждать земное тяготение, положение коренным образом переменилось. Вот тут-то и интересно проследить, как по-разному подходят к этой ломке земных представлений, к их экстраполяции на космос западные фантасты, с одной стороны, и фантасты социалистических стран — с другой.
Первые, как уже говорилось, считают, что и в космосе неизбежно применение силы, использование мощнейшего оружия. Надо ли говорить, что такая точка зрения принципиально неверна? Она порождена представлениями прошлого, которые безнадежно устарели. А это, в свою очередь, произошло потому, что научно-технический потенциал человечества неизмеримо вырос, и, следовательно, насилие как метод решения спорных проблем становится абсолютно неприемлемым ведь речь идет не больше не меньше как о жизни всего человечества.
Фантасты социалистических стран в полном соответствии с марксистско-ленинской философией в своих произведениях исходят из всеохватывающей идеи «мирного космоса».
Идея эта разными художниками претворяется по-разному.
Один из ее аспектов отражен в помещенном в настоящем сборнике рассказе «Два молодых человека», принадлежащем перу известного польского писателя-фантаста Станислава Лема.
С Лема едва ли следует особо представлять советскому читателю. Почти все его научно-фантастические произведения переведены на русский язык. Может быть, не все знают только, что Лем начинал как реалист — романом «Непотерянное время» — о пережитом в годы немецкой оккупации (Лем родился в 1921 году во Львове). В произведениях, включенных в настоящий сборник, Лем снова предстает перед нами как вдумчивый художник, тяготеющий к серьезным философским проблемам их контуры явственно угадываются под внешне привлекательной, подчас даже детективной фабулой.
Итак, о рассказе «Два молодых человека».
…Первые племена людей, бродившие по дикой земле, были разобщены. Общение между ними носило случайный, эпизодический характер. С течением времени связи налаживались, улучшалось качество всякого рода коммуникаций — люди сближались.
Что касается нашего беспокойного века, то его именуют по-разному он и атомный, и космический, и биокибернетический, и даже век удобств. И впрямь, в каждом из этих определений есть доля истины. Каждый из приведенных выше эпитетов можно разумно и строго обосновать. Но мне кажется, имеется не меньше оснований назвать XX век, несмотря на разговоры о пресловутой некоммуникабельности, веком коммуникаций.
К этому понятию следует отнести не только дороги — шоссейные, железные, воздушные. Добавим сюда еще и коммуникации, так сказать, «эфирные».
Со времени изобретения Александром Поповым знаменитого «грозоотметчика» мир, сам того поначалу не осознавая, вступил в новую фазу — люди научились общаться, минуя огромные, тысячекилометровые расстояния, не пользуясь для этого, как прежде, гонцами и почтой. Сигнал, посланный по радио, распространяется со скоростью электромагнитных волн — 300 тысяч километров в секунду. Для наших земных масштабов — о космических пока говорить не будем — эту скорость принято считать бесконечно большой.
Можно ли переоценить значение изобретения радио? Ведь радиоприемником сегодня пользуется практически все население планеты.
Интересно задаться вопросом а какова будет эфирная связь в будущем? Если брать, так сказать, обозримый отрезок времени, то тут, опираясь на прогнозы инженеров-радистов, можно, конечно, кое-что предположить с достаточной долей достоверности. Это, например, миниатюризация радиоприемников и передатчиков до размеров спичечной или сигаретной коробки, использование принципиально новых радиосхем, привлечение новых синтетических материалов для штамповки корпусов — да мало ли что еще.
Ну а если попытаться заглянуть вперед не на пять или десять, а на пятьдесят, на сотню лет, как то делают фантасты? Инженерная мысль тут бессильна. И отнюдь не потому, что она в силу исторических условий ограничена. Дело в другом: с течением времени могут появиться (и, как подтверждает весь многотысячелетний опыт человечества, обязательно появятся) принципиально новые открытия, о которых мы ныне и представления не имеем. Эти-то открытия и направят инженерную мысль в новое русло, приведут к таким решениям, которые нам и не снятся
Научная фантастика своими средствами пытается приоткрыть нам эту завесу. Каждый читатель этого жанра без труда припомнит не один способ, с помощью которого связываются между собой, побеждая огромные расстояния, персонажи научно-фантастических повестей и рассказов.
Вспомним по этому поводу роман Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Там героиня — помните? — вставляет в ухо крохотный радиоприемничек в виде горошины и слушает эфирный хаос, постоянно пребывая в царстве грез.
«Он приоткрыл дверь спальни.
Прислушался.
Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.
Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена с застывшими глазами. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берег ее бодрствующего мозга.
Нет, комната была пуста!
Каждую ночь сюда врывался океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз…»
В произведении Брэдбери, как видим, великолепное средство связи служит не единению, а, наоборот, разъединению героев с себе подобными, помогает им отгородиться от окружающей действительности.
Однако, несмотря на то, что процесс, описанный Брэдбери, имеет место, более ощутима — и более нам близка — противоположная тенденция.
Фантасты уже изобрели приемопередатчики сугубо индивидуального действия, которыми в обязательном порядке будет снабжен каждый человек будущего. Этот микроаппаратик — фантасты предлагают вживлять его каждому человеку при рождении — не даст, скажем, путешественнику затеряться, пропасть без вести, если он отправится куда-нибудь в опасную экспедицию, в горы или пустыни того же Марса или Венеры.
Но как быть в том случае, когда людей будут разделять космические расстояния, равные десяткам и сотням световых лет? В этом случае обычная радиосвязь едва ли подойдет смогут ли общаться собеседники, если реплика одного «летит» к другому сотню лет?
Любопытно, что литература — и не только научная фантастика, как традиционно принято считать, — давно жила предчувствием безумных космических расстояний, которые человеку придется побеждать. Прекрасно выразил, например, связь человека с космосом Шарль Бодлер.
…Паскаль носил в душе водоворот без дна. Все пропасть алчная слова, мечты, желанья. Мне тайну ужаса открыла тишина, И холодею я от черного молчанья. …Сквозь каждое окно — бездонность предо мною. Мой дух с отрадой бы в ничтожестве пропал, Чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья. Но никогда не быть вне Чисел, вне Сознанья![1]Писатели и поэты начали обживать космос давно, задолго до исторического полета Юрия Гагарина. Вместе с человеком туда «переселились» и все его страсти.
В поэтическом рассказе «Два молодых человека» Станислав Лем рисует космонавта, заброшенного в бездонные просторы космоса. Перед его глазами развертываются грозные, неведомые, чужие картины звезд, пылающих в вечной ночи… Но его поддерживает и направляет постоянная связь с другим человеком, который все это время находится на Земле и которому через межзвездные просторы передается все, что видит и ощущает отважный звездопроходчик.
Совсем под другим углом зрения решает «коммуникационную задачу» болгарский фантаст Станислав Славчев в рассказе «Загадка Белой долины».
Герои Славчева в некой экзотической местности на нашей планете открывают вещество, обладающее удивительными свойствами. Человек, принявший его, на короткое время вступает в телепатическую связь со всем остальным миром людей. Он получает возможность обмениваться мыслями с каждым из миллиардов людей, которые населяют нашу планету! Такое, если можно так сказать, сверхобщение не под силу человеку — после короткой вспышки прозрения он гибнет.
Однако нетрудно понять, какие огромные перспективы могло бы дать людям открытие такого вещества, если бы его воздействие удалось как-то дозировать, ввести в определенные «рамки». Отметим, что науке уже теперь известен целый спектр препаратов, которые способны обострять и усиливать многократно человеческие чувства, повышать умственный потенциал, способность к усвоению чужих мыслей.
С каждым годом все чаще в научно-фантастических произведениях появляются странные создания, с легкой руки Карела Чапека именуемые роботами. Искушенному в фантастике читателю нет нужды объяснять, о чем идет речь. Достаточно полный обзор темы «Роботы в научной фантастике» можно найти, например, в книге Ю.Кагарлицкого «Что такое фантастика?» (М, «Художественная литература», 1974).
Робот — искусственное существо — может быть как механического, так и биологического происхождения. Суть не в том, каким способом он получен, а в другом как соотносится «племя роботов» с человечеством. Другими словами, робот человеку — друг или враг?
Ответ на этот вопрос неоднозначен, да и не может быть однозначным. Точно так же бессмысленно ставить, например, такой вопрос открытие атомной энергии, расщепление ядра — зло или благо? Все зависит от того, в какие руки попадает изобретение. В добрые — и атомная энергия используется в мирных целях, для проходческих работ, пробивки тоннелей, выработки электроэнергии, а в будущем, если основываться на авторитетном мнении фантастов и ученых, — для ускорения в межзвездном пространстве космических кораблей. В злые руки попадет расщепляющийся материал — и ужас парализует мир, и вырастут над разрушенными городами зловещие грибы, и прольется радиоактивный дождь на селения, отстоящие на тысячи километров от эпицентра взрыва, вызывая у тех, кто попал под него, незаживающие язвы, лучевую болезнь. И десятилетия спустя все новые и новые поколения людей будут испытывать на себе последствия ядерного взрыва.
Так что же ждет нас в связи с появлением и совершенствованием роботов?
Большинство прогрессивно мыслящих писателей-фантастов решает этот вопрос достаточно оптимистически. Они считают, что разум в конечном счете восторжествует над темными силами.
Проблеме робота посвящено несколько произведений в данном сборнике, хотя каждый автор решает ее по-разному.
Белковый робот является, если можно так выразиться, главным героем повести писателя из ГДР Карла-Хайнца Тушеля «Неприметный мистер Макхайн», которая публикуется в настоящем сборнике.
В данном случае мы имеем дело с боевой, остросоциальной повестью, остроумно критикующей западный образ жизни. Уродливые стороны его автор экстраполирует в недалекое будущее.
Карл-Хайнц Тушель принадлежит к среднему поколению немецких писателей. Он родился в 1928 году в Лейпциге. После разгрома гитлеровской Германии, еще подростком начал трудовую жизнь. С двадцати двух лет состоит членом Социалистической единой партии Германии.
Как писатель Тушель работает в разных жанрах. К научной фантастике впервые обратился в 1967 году.
Острая социальная определенность и устойчивость мировоззренческой позиции, хорошее знание психологии человеческого поведения, неизменное чувство юмора проявляются в произведениях Тушеля, к какому бы жанру они ни относились.
В написанной в 1970 году повести «Неприметный мистер Макхайн» автор берется за тему весьма злободневную — как распорядятся люди совершенством собственных знаний, в чьих руках окажутся завтра или послезавтра фантастические (на сегодняшний день!) достижения научно-технического прогресса у сил созидания и мира или у сил слепого разрушения и деградации.
Не буду пересказывать всех детективных перипетий повести — читатель сам познакомится с ней. Мне хочется остановиться на основной идее произведения, на ее, так сказать, сверхзадаче.
Действие происходит в небольшом провинциальном городе одной заокеанской державы. Выдающемуся ученому-физику, пострадавшему в период печально известной «охоты за ведьмами», удается создать робота, которого он наделяет в высшей степени заурядными внешностью и интеллектом.
Поначалу сознание робота представляло собой «табула раса» — чистый лист, на котором можно записать все, что угодно. А кругом — комиксы, детективные романы, газетный материал, телепередачи, на все лады смакующие садизм и насилие. Так мудрено ли, что чуткий робот, впитав и усвоив сию обильную и красочную информацию, и сам становится гангстером?
Повесть Тушеля зло и остроумно высмеивает американский образ жизни. В финале автор приводит читателя к выводу современное капиталистическое общество еще не доросло до использования такого рода изобретений А раз так, значит, его нельзя пока давать этому обществу в руки…
В заслугу писателю следует поставить то, что он сумел найти свой поворот в теме роботов, которую, как отмечалось, давно и широко разрабатывают фантасты.[2]
Еще более неожиданно эта тема повернута в повести Станислава Лема «Маска».
По авторской воле действие происходит в некой условной стране, да к тому же в средние века.
Согласно крылатому определению того же Лема, любая фантастика решает проблемы сегодняшнего дня, но только рядит их в галактические одежды.
…При дворе короля объявляется некий вольнодумец. Он решается противоречить монаршей воле, поддерживает королевскую оппозицию и даже, по слухам, «воскрешает» казненных правителем крамольников, настолько искусен он во врачевании, настолько познал тайны человеческого организма.
Терпение короля наконец истощается, и он решает погубить дерзкого своего противника. Сделать это можно было бы, разумеется, разными способами — история человечества дает много тому примеров.
Король, однако, с помощью Лема избирает способ довольно своеобразный он велит создать робота, который был бы запрограммирован на то, чтобы физически уничтожить, лишить жизни вольнодумца.
Писатель не касается вопроса о том, каким образом могла средневековая наука создать такую сложную систему, как робот. Да и не это в конце концов главное в лемовской повести. Суть ее в другом. Внешне детективная оболочка имеет ядро, которое несет насыщенный философский заряд. Речь идет об извечной проблеме добра и зла.
Королевский робот создан в виде прекрасной женщины. Едва она появляется на балу, как все в нее влюбляются. Робот-женщина тут же начинает испытывать неизъяснимое влечение к своей будущей жертве, хотя еще и не может осознать заложенной в ней роковой программы. В свою очередь, и обреченный обращает внимание на ослепительную красавицу. Опять-таки, оставим в стороне приключенческую фабулу, хотя она и захватывающа сама по себе.
Умная машина, автономный робот обладает самостоятельностью, как и его создатель — человек. (Недаром именно эту мысль подчеркивает один из героев повести.) С одной стороны, в роботе заложена программа, конечная цель которой — настичь и уничтожить неугодного королю человека. С другой же — робот-женщина полюбила этого человека. Сталкиваются две полярные силы — добро и зло.
Ситуация усугубляется тем, что через некоторое время после знакомства на балу женщина-робот лишается своей прекрасной оболочки, сбрасывает ее, словно гусеница кокон, и превращается, с человеческой точки зрения, в чудовище — в нечто вроде серебристой сороконожки. Уж такое-то существо человек полюбить никогда не сможет, и робот прекрасно понимает это.
Лем мастерски разрубает драматический узел. Робот в конечном счете побеждает негативную программу, заложенную в нем Добро побеждает. Добро сильнее зла, каким бы несокрушимым ни казалось последнее Таков глубинный смысл повести «Маска».
В рассказе «Остров страха» Гюнтера Крупчата, писателя из ГДР, представлен еще один аспект темы роботов. Здесь кибернетические создания на время выходят из-под власти человека, что приводит к печальным последствиям. Однако, как утверждает автор рассказа, это может произойти лишь в результате ошибки в расчетах — как только ошибка устранена, механический разум вновь оказывается усмиренным разумом человеческим.
И еще один рассказ на ту же тему — «Одни неприятности с персоналом» Зигберта Гюнцеля. На этот раз разговор о роботах ведется в юмористическом плане.
Современный немецкий писатель Зигберт Гюнцель работает в русле так называемой традиционной фантастики. Он стремится открыть новые нюансы в темах, которые, казалось бы, уже достаточно полно и широко разработаны другими фантастами. Нужно признать, это ему удается. Уж сколько раз использовалась классиками жанра тема роботов. Но и здесь Гюнцель сумел найти свой поворот! В рассказе «Одни неприятности с персоналом» роботы выступают как бы объектами, на которые проецируются эмоции хозяев-людей с их симпатиями и антипатиями. Благодаря этому возникают комические коллизии, вызывающие у читателя улыбку.
Венгерский фантаст Дюла Хернади достаточно широко известен в своей стране. Писатель тяготеет в своих произведениях к острым, подчас парадоксальным ситуациям. Включенный в сборник рассказ «РНС» в этом смысле характерен для Хернади.
Часто бывает, что писатель — и не обязательно писатель-фантаст — бросает мысль, которая представляется его современникам совершенно невероятной и нереализуемой. Проходит, однако, небольшое время, и мы поражаемся уже силе прозрения писателя.
Возьмем шиллеровские строки:
Мимо пространства в ничто устремился, Солнечный луч не быстрее носился, Всюду нетленный и вечный, Вечности дух бесконечный Миру прядет бесконечный покров, Звезды в ночи — мириады миров![3]Каждая мысль здесь — зародыш целой научной теории, которой суждено родиться гораздо позже. Например, Шиллер — обратим внимание! — рассказывая о фантастическом перемещении в космическом пространстве, отнюдь не утверждает, что превзошел в скорости «солнечный луч». А ведь лишь много десятилетий спустя, в 1905 году, люди узнают, что в природе не бывает скорости большей, чем световая, — это один из краеугольных камней специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, которая ныне подтверждена многочисленными экспериментами. Слова о звездах, каждая из которых — «мириады миров», стоит сопоставить с выводами современной астрофизики. Говоря о беспредельности, бесконечности Вселенной, поэт также предвосхищает известную космогоническую теорию, которая появилась значительно позже.
В истории нередко случалось, что на штурм неведомого отважно устремлялись фантасты и поэты, и лишь потом уже, расширяя плацдарм, завоеванный дерзким прозрением, в бой вступала оснащенная техникой наука Шиллер здесь — далеко не единственный пример Вспомним в этом же ряду ломоносовское
…Там (в космосе. — В.М.) разных множество светов, Несчетны солнца там горят, Народы там и круг веков. …Скажите ж, сколь пространен свет? И что малейших дале звезд?Тот же Михайло Ломоносов умел ставить такие вопросы в своих «космических» стихах, ответить на которые в состоянии лишь наше время: «Я долго размышлял и долго был в сомненье, — что есть ли на землю от высоты смотренье?» — пытливо вопрошает он. Исчерпывающий ответ на этот вопрос был получен только 12 апреля 1961 года… Нужно ли говорить о том, сколь принципиально важна была сама постановка вопроса? Ведь она заставляла стремиться к познанию, будила мысль. А, как заметил Хамза Ниязи, «наука — путь к любой заветной цели. Будь знанья — мы б и к звездам взмыть сумели!»
А чего стоит, скажем, классификация звезд по Редьярду Киплингу: «Одни как молоко белы, другие красны как кровь, иным от черного греха не загореться вновь». Любой астрофизик подведет ныне под эту классификацию строгую научную базу. Итак, и наука, и поэзия стремятся познать мир, но только различными способами, чтобы, говоря словами Вильяма Блейка, «в одном мгновенье видеть вечность, огромный мир — в зерне песка, в единой горсти — бесконечность, и небо — в чашечке цветка». Поистине здесь заключена целая философия, являющаяся Ариадниной нитью в работе ученого.
Литература во все времена утверждала единство человека с космосом, с мирозданием.
«Ночь, тайн созданья не тая гласит, что с нами рядом — смежность других миров, что там — края, где тоже есть любовь и нежность, и смерть и жизнь — кто знает, чья?» — утверждает фантаст в поэзии Валерий Брюсов. Как знать, не ускорилось ли бы в чем-то колесо прогресса, если бы в свое время математики и астрономы более внимательно вчитывались в его строки: «Бедный бред, что везде — скреп Эвклидовых тверд устой: столп, пошатнуть нельзя!».
Характерно, что тема фантастики, космоса, грядущих научных свершений поначалу, в глубине веков, едва прослушивается, но уже по мере приближения к нашим дням звучит все громче и громче. Что ж, все закономерно. По слову Н. Г. Чернышевского, искусство — учебник жизни. И поскольку жизнь беспредельно расширилась и углубилась, могут ли учебники оставаться на прежнем уровне?…
Стремление к звездам, не будем забывать об этом, вырастает из земли. Земля для нас — единственный причал, начало всех начал. Проникновенно сказал об этом Александр Твардовский в стихотворении «Космонавту». Речь идет здесь о первых днях войны, когда с «аэродромов отступленья» берут старт новички, отправляясь на смертельно опасное задание, в чем и подобны «разведчикам мирозданья».
Чуткий ко всему актуальному в поэзии и в жизни, А.Твардовский сумел уловить «космизм» и отметить его как весьма важное и современное явление в литературе — и не только в научной фантастике.
Эти примеры можно было бы длить и длить. Их немало и в творчестве писателей из социалистических стран. Вот строки из стихотворения венгерского поэта Дюлы Ийеша:
…Еще наступит час, Когда и время, так высокомерно И свысока глядящее на нас, Мы так же просто подчиним себе, Как подчинен был нами дикий конь, И пустошь, и пустыня, и огонь.Что это — фантастика поэзии или поэзия фантастики? Не будем спорить о терминах. Согласимся только, что в этих строках — сюжет целого научно-фантастического романа.
На примерах, приведенных выше, мы могли убедиться, что понятие «научная фантастика» охватывает гораздо больше жанров, чем это традиционно принято считать. И именно сейчас, в эпоху величайшей научно-технической революции, НФ все более интенсивно расширяет завоеванный плацдарм. Элементы научной фантастики мы находим и в поэзии, и в живописи как прошлого, так и настоящего. А в будущем? Мне кажется, именно «на стыке» жанров, в процессе их синтеза мы вправе ожидать в грядущем наиболее впечатляющих художественных открытий и свершений. Подобная стыковка жанров — явление закономерное, отображающее аналогичный процесс в науке достаточно сослаться, скажем, на проникновение молекулярной химии в биофизику, внедрение математики в науки, прежде от нее весьма далекие, и т. д. Этот процесс, в свою очередь, диалектически связан с ломкой привычных канонов мышления, разрушением устоявшихся представлений.
Весь этот процесс неизбежно ставит и будет ставить перед нами, наряду с прочим, все новые проблемы этики и морали.
Эту сторону технического прогресса чутко уловил Ежи Валлих в рассказе «Эксперимент». Действие происходит в довольно близком будущем — в самом начале 90-х гг. нашего века. Усилиями ученых разных специальностей — стыковка наук! — далеко вперед продвинулась медицина, познание тайн человеческого организма. Так, например, мы с самого начала узнаем, что для героя не составляет труда самолично проделать для себя «все необходимые анализы», самому составить программу для электронно-вычислительной машины и определить дату собственной смерти «где-то между 10 и 15 мая». Не в этом, однако, главное. Писателя интересует изменение психологии людей будущего. Именно на этом сосредоточивает он интерес читателя, несмотря на необходимый интерьер из «колб с культурами тканей», «препаратов, обработанных нейтронами при частоте электромагнитного поля 12886 мегагерц», «распределительных щитов видеофона» и прочих аксессуаров научной фантастики.
Итак, умирает тело героя в соответствии с прогнозом, о котором упоминалось, однако есть возможность сохранить его сознание, мысль, ощущения, короче — отпечаток личности. Искушенный читатель воскликнет, что идея рассказа не нова, и в доказательство приведет первый попавшийся пример. Например, роман соотечественника Е.Валлиха Кшиштофа Боруня «Грань бессмертия». Но не будем торопиться с выводами, проследим лучше, как дальше разворачивается действие. Главный персонаж знакомится со сценарием своих похорон, которые «решено провести с подобающей торжественностью». Через положенное время герой, благодаря титаническим усилиям людей разных специальностей, возрождается в новом качестве — эдакая модифицированная голова профессора Доуэля. Жив мозг, действуют слух, зрение, обоняние, есть даже возможность — с помощью обычной речи, в которую переводится работа мысли, — общаться с окружающими. А еще немного времени спустя герой может читать — и читает — лекции в университете, устраивает у себя на прежней квартире приемы. В последнем ему соглашается помогать его студентка Аня. Все хорошо, казалось бы. Полная идиллия живи — не хочу! Ведь все лучше, чем смерть, не так ли? Но… Внимание! Перед нами — новый этап в разработке темы, и в самом деле успевшей стать в научной фантастике традиционной. Ученые рассудили, обессмертив героя, упрятав его сознание, интеллект в «ящичек»: а почему, собственно, этот ящичек должен существовать в единственном числе? Почему нельзя сделать с него две, три и вообще сколько угодно копий, на манер того, как с одного негатива печатают фотографии-двойники? Медики так и поступают, и в результате герою становится жить еще лучше, еще веселее, поскольку это значительно расширяет его возможности. Так, например, он может «путешествовать» по самым романтичным и одновременно опасным уголкам планеты. Нет, это не суррогат, не имитация, а самое настоящее путешествие «ящичек», способный вбирать в себя впечатления и реагировать на них, берут с собой отважны землепроходцы. Тут есть, однако, существенный нюанс путешественники могут погибнуть, сорвавшись в пропасть, став добычей хищников. «Ящичку» же гибель не страшна — ведь у него имеется сколько угодно копий…
Наш герой между тем продолжает общаться с Анной. И совершается неизбежное — они влюбляются друг в друга. После целого ряда перипетий рассказ приходит к трагическому финалу, глубоко мотивированному. Главный персонаж, лишенный естественной телесной оболочки, решается — вместе с Анной, которая стала его невестой, — покончить с собой. Делает он это с помощью динамита и бикфордова шнура Выяснение причин, приведших к этому, и составляет психологический стержень произведения.
Одной из излюбленных фантастами и широко разрабатываемых тем — межгалактическому контакту цивилизаций — посвящен рассказ Рышарда Саввы «Полет дальнего действия».
Ныне ученые еще только посылают в космос сигналы, тщетно пока ожидая ответа от разумных существ, а писатели уже разрабатывают различные «варианты» таких встреч. Эти контакты, само собой разумеется, отнюдь не обязательно должны носить дружеский характер…
Предлагаемый читателю рассказ опубликован в альманахе «Шаги в неизвестность», выпущенном варшавским издательством «Искры» в 1970 г. Рышард Савва принадлежит к молодым, но уже достаточно известным польским писателям. Творчество его, особенно поначалу, развивалось не без влияния Станислава Лема. Р.Савва часто выступает на страницах польского журнала «Молодой техник».
Советскому читателю этот автор известен по рассказу «Третий параграф», опубликованному в 1973 г. в журнале «Техника — молодежи».
«Полет дальнего действия» рисует нам один из бесконечного множества «вариантов» взаимопонимания двух цивилизаций — нашей и инопланетной.
Еще Джордано Бруно, изрекая еретическую мысль о множественности обитаемых миров, не мог не задуматься как же мы поймем друг друга, если когда-нибудь встретимся с жителями других планет? Сумеем ли мы, люди, найти общий язык с существами, которые бесконечно отличаются от нас? Ведь даже и друг с другом мы, люди, не всегда можем договориться. Что уж тут толковать о «братьях наших меньших» — живых существах Земли, у которых предполагается разум С дельфинами, например, мы тоже никак не можем понять друг друга. (Здесь я оставляю в стороне изощреннейшую дрессировку дельфинов, которая достигла небывалых высот. Во-первых, это тема отдельной статьи. Во-вторых, к проблемам взаимопонимания и контакта двух разумов дрессировка, очевидно, отношения не имеет). Свои раздумья по этому поводу я попытался выразить в стихотворении «Аквариум»:
Билет выбрасывает касса — И вход в аквариум открыт. За узкой пленкой плексигласа Плавник изогнутый дрожит. И жабры движутся, мерцая. Блестит настороженный глаз. Их собрала рука людская И заперла под плексиглас. Макрель… Кефаль… Везде таблички, Они вам честно разъяснят Все рыбьи вкусы и привычки Посредством разных цифр и дат. Тесны в аквариуме воды! Бедны придонные пески. Полны иллюзии свободы, Гоняют взапуски мальки. Но стынут у морской границы, За неподвижною стеной, Медлительные вереницы, Следя за странной пустотой. И это там от века длится: Плывут — то тише, то живей — Давно приевшиеся лица Непостигаемых людей.…Наша планета, как известно, находится на окраине Галактики. Поэтому, считают герои Рышарда Саввы, у них немного шансов на установление контактов с другими цивилизациями сигналы, посыпаемые с Земли, подвергаются слишком сильным искажениям. Астрофизики из «Полета дальнего действия» разрабатывают остроумную методику, чтобы обойти эту трудность. Герои рассказа решают логические сигналы, рассчитанные на прием и расшифровку их гипотетическими разумными существами, «наложить» на сигналы хаотические. «Изюминка» проекта в том, что эти последние должны быть порождены специально вызванным учеными «эхом радиозвезд», которые сосредоточены вне нашей звездной системы. Этот грандиозный проект, масштабы которого трудно себе представить, не может не поразить воображение.
Астрономы у Р. Саввы обнаруживают, что автоматическая станция «Информатор», посланная людьми с целью установления контактов с неведомыми цивилизациями, вдруг сошла с заданного курса и устремилась в сторону нашей Галактики. Чтобы исправить положение и необходимо произвести «полет дальнего действия», пронзить с гиперсветовой скоростью немыслимую толщу пространства. Дело в том, что возникла грозная опасность попадания ценной информации о землянах в руки чужой цивилизации «с враждебными группировками и широко разветвленным военным аппаратом». Этого допустить нельзя — станцию необходимо нейтрализовать.
Пилот Альф пошел на таран «Информатора» и, спасая землян, погиб — другого пути у него не оказалось.
К темам научной фантастики все более приобщаются многие виды искусства. В частности — живопись. Об этих новых мотивах в творчестве художников рассказывает содержательная статья Петера Куцки «Не с марсиан все начиналось», публикуемая в настоящем сборнике П. Куцка — один из ведущих теоретиков жанра фантастики в Венгрии, широко известный и за пределами своей страны.
Наконец, общие размышления о фантастике, как советской, так и зарубежной, читатель найдет в статье Ивана Валентинова «Моделирование будущего».
Представляемый сборник НФ — капля из моря научной фантастики — в какой-то мере отражает сложный и противоречивый лик жанра, а лучше сказать — его многоликость.
Станислав Лем МАСКА
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОВЕСТИ
«Маска», одна из последних моих повестей, удивила меня самого, и, может быть, поэтому она требует предисловия, хотя бы краткого разъяснения обстоятельств своего появления на свет.
Главный мотив этой странной истории преследовал меня уже с тех дней, как был написан «Солярис». Поскольку для меня было очевидно, что в прежней повести, в «Солярисе», он уже прозвучал — этот мотив существа, которое НЕ человек, а создание искусственное, как и героиня «Соляриса» Хари, — то, казалось бы, не стоит посвящать ему нового произведения, ибо в «Солярисе» эта проблема мной уже отражена.
И все-таки в конце концов я поддался искушению написать эту историю, и тогда оказалось, что столь ясное для меня сходство темы «Маски» с темой «Солярис» вовсе не очевидно для читателей! Причина, мне кажется, в совершенно другом стиле этой повести и еще в особых, непохожих декорациях, которыми обставлено ее действие.
О чем я хотел сказать в «Маске»? Пожалуй, о нескольких проблемах одновременно.
Во-первых, о чисто рациональной проблеме, которую можно назвать проблемой классической философии, известной как «проблема свободной воли», с той, однако, оговоркой, что она смоделирована в аспекте кибернетическом. Вопрос, который поставлен в повести на воображаемой модели, можно сформулировать следующим образом если искусственное существо сконструировано так, чтобы выполнять определенное задание, к которому принуждает его программа, введенная в его мозг, то может ли оно полностью осознать свое назначение как вынужденное действие, обусловленное программой, и может ли оно взбунтоваться против этой программы? Вопрос этот вполне практический, поскольку он касается поведения кибернетических устройств, которые несомненно будут созданы людьми в будущем. И знания о том, в какой степени допустимо полагаться на такие устройства, наделенные тактической и даже стратегической инициативой и автономией для выполнения порученных им заданий, должны быть знаниями в той же степени рациональными, в какой они являются необходимыми для такого рода деятельности. Этот вопрос я решаю в духе указаний кибернетики, согласно которым любое устройство, способное к активным действиям по определенной программе, не в состоянии достигнуть полного самоосознания в вопросах о том, с какой целью и с какими ограничениями оно может действовать.
Если выразиться точнее, речь идет о так называемой «проблеме автодескрипции конечного автомата», то есть, пользуясь традиционным языком, полного самопознания им своих психических процессов. (Кстати, человеческий мозг и любые другие устройства, функционально ему равноценные, — это именно такие, то есть конечные автоматы).
Можно доказать, что полная, то есть исчерпывающая, автодескрипция для автомата такого типа — задача, в одиночку невыполнимая. Такая автодескрипция может быть достигнута только благодаря фундаментальным исследованиям, только вследствие коллективных усилий всей науки, но это уже другой, совершенно отдельный вопрос. В одиночку же автодескрипции может достигнуть лишь бесконечный автомат, который, однако, является только математической абстракцией, поскольку все, что реально можно сконструировать, должно иметь конечный характер.
Учитывая сказанное, можно заключить, что иллюзии и ложные суждения о собственных решениях и намерениях, которые строит странная героиня «Маски», представляют собой неизбежные явления при создании автоматов, в такой степени, как она, наделенных весьма далеко простирающейся автономией деятельности.
Во-вторых, «Маска» — это попытка художественного моделирования упомянутой ситуации в условиях, нетипичных для научной фантастики, а именно в условиях полностью фантастических. Разумеется, невероятно, чтобы в каком-то королевстве, причем с феодальным строем и культурным уровнем, близким к средневековому, мог быть успешно создан автомат, абсолютно подобный человеку. В этом произведении для меня была важна скорее не рациональная, познавательная, гносеологическая сторона, а художественный, литературный эффект: собственно, я захотел обратиться к старой традиции романтической повести. Романтические по форме обстановка и атмосфера должны были показать, каким образом новое рациональное содержание можно вложить в форму старой таинственной, как ее называли, «готической» новеллы. При этом я воспользовался несколькими мотивами этой классической повести — мотивом «роковой» любви, любви с первого взгляда, ревности, но при этом добивался, чтобы у каждого из таких мотивов было еще и нелитературное обоснование, а именно, чтобы его можно было и ввести, и объяснить, опираясь на наши кибернетические знания. Так, например, «роковая» любовь с первого взгляда, которая охватывает героиню при виде Арродеса на придворном балу, мотивируется известным явлением импринтинга. Только импринтинг, изучаемый у животных экспериментальной психологией, обусловлен биологически, эволюционно, а у «Маски» — этот «импринтинг» вызван умышленно, путем определенного программирования мозга искусственного существа.
Наконец, в-третьих, к мотиву готико-романтическому я хотел присоединить мотив уже типично сказочного происхождения, а именно — мотив необычайного или «страшного и ужасного» превращения героини Но и этот сюжетный момент объяснен рационально, ведь происходящая неожиданная перемена не требует вмешательства никаких чудесных, сказочных сил — чар, заклинаний и т. п., ибо она тоже вызвана заранее заложенной программой преобразования, программой, которую героиня повести пытается познать интроспективным усилием — попросту говоря, исследуя свою душу.
Из таких разнородных посылок и сложился замысел «Маски», а в итоге и сама эта повесть с ее нефантастической моралью. Ведь она в конце концов рассказывает всего лишь о том, что искусство кибернетического конструирования в определенных условиях может быть употреблено во зло — в целях безнравственных, как и любое другое достижение научного познания; и в итоге в фантастической обстановке «Маски» затронута проблема, которая уже не является фантастической или по меньшей мере не останется навсегда и до конца чистой фантазией.
Ст. ЛЕМ Краков, декабрь 1975 г.Вначале была тьма, и холодное пламя, и протяжный гул; и многочленистые, обвитые длинными шнурами искр, дочерна опаленные крючья передавали меня все дальше, и металлические извивающиеся змеи тыкались в меня плоскими рыльцами, и каждое такое прикосновение пробуждало молниеносную, резкую и почти сладостную дрожь.
Безмерно глубокий, неподвижный взгляд, который смотрел на меня сквозь круглые стекла, постепенно удалялся, а может быть, это я передвигалось дальше и входило в круг следующего взгляда, вызывавшего такое же оцепенение, почтение и страх. Неизвестно, сколько продолжалось это мое путешествие, но по мере того, как я продвигалось, лежа навзничь, я увеличивалось и распознавало себя, ища свои пределы, хотя мне трудно точно определить, когда я уже смогло объять всю свою форму, различить каждое место, где я прекращалось и где начинался мир, гудящий, темный, пронизанный пламенем. Потом движение остановилось и исчезли суставчатые щупальца, которые передавали меня друг другу, легко поднимали вверх, уступали зажимам клещей, подсовывали плоским ртам, окруженным венчиками искр; и хоть я было уже способно к самостоятельному движению, но лежало еще неподвижно, ибо хорошо сознавало, что еще не время. И в этом оцепенелом наклоне — а я лежало тогда на наклонной плоскости — последний разряд, бездыханное касание, вибрирующий поцелуй заставил меня напрячься: то был знак, чтобы двинуться и вползти в темное круглое отверстие, и уже без всякого понуждения я коснулось холодных гладких вогнутых плит, чтобы улечься на них с каменной удовлетворенностью. Но может быть, все это был сон?
О пробуждении я не знаю ничего. Помню только непонятный шорох вокруг меня и холодный полумрак. Мир открылся в блеске и свете, раздробленном на цвета, и еще так много удивления было в моем шаге, которым я переступало порог. Сильный свет лился сверху на красочный вихрь вертикальных тел, я видело насаженные на них шары, которые обратили ко мне пары блестящих влажных кнопок. Общий шум замер, и в наступившей тишине я сделало еще один маленький шаг. И тогда в неслышном еле ощутимом звуке будто лопнувшей во мне струны я почувствовало наплыв своего пола, такой внезапный, что у меня закружилась голова, и я прикрыла веки. И пока я стояла так с закрытыми глазами, до меня со всех сторон стали долетать слова, потому что вместе с полом я обрела язык. Я открыла глаза, и улыбнулась, и двинулась вперед, и мое платье зашелестело. Я шла величественно, окруженная кринолином, не зная куда, но шла все дальше, потому что это был придворный бал, и воспоминание о моей ошибке — о том, как минуту назад я приняла головы за шары, а глаза за мокрые пуговицы, — забавляло меня ее ребяческой наивностью, поэтому я улыбнулась, но улыбка эта была предназначена только мне самой. Слух мой был обострен, и я издалека различала ропот изысканного признания, затаенные вздохи кавалеров и завистливые вздохи дам: «Откуда эта девочка, виконт?». А я шла через гигантскую залу под хрустальной паутиной жирандолей, и лепестки роз капали на меня с сетки, подвешенной к потолку, и я видела свое отражение в похотливых глазах худощавых пэров и в неприязни, выползающей на раскрашенные лица женщин.
В окнах от потолка до паркета зияла ночь, в парке горели смоляные бочки, а между окнами, в нише у подножья мраморной статуи, стоял человек, ростом ниже других, окруженный придворными в черно-желтых полосатых одеждах. Все они словно бы стремились к нему, но не переступали пустого круга, а этот человек, один из всех, когда я приблизилась, даже не посмотрел в мою сторону.
Поравнявшись с ним, я приостановилась и, хотя он даже отвернулся от меня, взяла слабыми кончиками пальцев кринолин и опустила глаза, будто хотела отдать ему глубокий поклон, но только глянула на свои руки, тонкие и белые, и, не знаю почему, их белизна, засиявшая на голубом атласе платья, показалась мне чем-то ужасным. Он же, этот низенький господин или пэр, за спиной которого возвышался бледный мраморный рыцарь в латном полудоспехе с обнаженной белой головой и с маленьким, будто игрушечным трехгранным мизерикордом, «кинжалом милосердия»,[4] в руке, не соизволил даже взглянуть на меня, он говорил что-то низким, как бы сдавленным скукой голосом, глядя прямо перед собой и ни к кому не обращаясь. А я, так и не поклонившись ему, только посмотрела на него быстро и пристально, чтобы навсегда запомнить лицо со слегка перекошенным ртом, угол которого был стянут белым шрамиком в гримасу вечной скуки.
Впиваясь глазами в этот рот, я повернулась на каблуке так, что зашумел кринолин, и пошла дальше. Только тогда он посмотрел на меня, и я сразу почувствовала этот взгляд — быстрый, холодный и такой пронзительный, словно бы к его щеке прижат приклад, а мушка невидимой фузеи нацелена на мою шею между завитками золотых буклей, — и это было вторым началом. Я не хотела оборачиваться, и все же повернулась к нему и, приподняв обеими руками кринолин, склонилась в низком, очень низком реверансе, как бы погружаясь в сверкающую гладь паркета, ибо то был король. Потом я медленно отошла, размышляя над тем, отчего, зная все это так твердо и наверняка, я чуть было не совершила ужасной оплошности: должно быть, потому что раз я не могла знать, но узнавала все каким-то навязчивым и безоговорочным путем, то чуть было не приняла все за сон, — однако что стоит во сне, к примеру, схватить кого-нибудь за нос? Я даже испугалась, что не могу совершать промахи оттого, что во мне возникает как бы невидимая граница. Так я и шла между сном и явью, не зная куда и зачем, и при каждом шаге в меня вливалось знание, волна за волной, как на песке оставляя новые имена и титулы, будто сплетенные из кружев, и на середине залы, под сияющим канделябром, который плыл в дыму, как пылающий корабль, я уже знала всех этих дам, искусно прячущих свою изношенность под слоями грима.
Я знала уже столько, сколько знал бы человек, который вполне очнулся от кошмара, но помнит его почти ощутимо, а то, что еще было для меня недоступным, рисовалось в моем сознании, как два затмения: откуда я и кто я — ибо я все еще ни капельки не знала себя самое. Правда, я уже ощущала свою наготу, укрытую богатым нарядом: грудь, живот, бедра, шею, руки, ступни. Я прикоснулась к топазу, оправленному в золото, который светлячком пульсировал в ложбинке на груди, и тотчас почувствовала, какое у меня выражение лица — неуловимое выражение, которое должно было изумлять, потому что каждому, кто смотрел на меня, казалось, что я улыбаюсь, но если он внимательно присматривался к моим губам, глазам, бровям, то замечал, что в них нет и следа веселости, даже вежливой, и снова искал улыбку в моих глазах, а они были совершенно спокойны, он переводил взгляд на щеки, на подбородок, но там не было трепетных ямочек: мои щеки были гладки и белы, подбородок серьезен, спокоен, деловит и так же безупречен, как и шея, которая тоже ничего не выражала. Тогда смотревший впадал в недоумение, не понимая, как ему пришло в голову, что я улыбаюсь, и, ошеломленный своей растерянностью и моей красотой, отступал в глубь толпы или отвешивал мне глубокий поклон, чтобы хоть этим жестом укрыться от меня. А я все еще не знала двух вещей, хотя и понимала, что они самые важные. Я не могла понять, почему король не посмотрел на меня, когда я проходила мимо, почему он не хотел смотреть мне в глаза, хоть и не боялся моей красоты и не желал ее; я же чувствовала, что по-настоящему ценна для него, но ценна каким-то невыразимым образом, так, будто бы я сама была для него ничем, вернее, кем-то как бы потусторонним в этой искрящейся зале и что я была создана не для танца на зеркальном паркете, уложенном многокрасочной мозаикой под литыми из бронзы гербами, украшающими высокие притолоки; однако, когда я прошла мимо него, в нем не возникло ни одной мысли, по которой я могла бы догадаться о его королевской воле, а когда он послал мне вдогонку взгляд, мимолетный и небрежный, но как бы поверх воображаемого дула, я поняла еще и то, что не в меня целились эти белесые глаза, которые стоило бы скрыть за темными стеклами, потому что лицо его хранило благовоспитанность, а глаза не притворялись и среди всей этой изысканности выглядели как остатки грязной воды в медном тазу. Пуще того, его глаза были словно подобраны в мусорной куче — их не следовало бы выставлять напоказ.
Кажется, он чего-то от меня хотел, но чего? Я не могла тогда об этом думать, ибо должна была сосредоточиться на другом. Я знала здесь всех, но меня не знал никто. Разве только он, король. Теперь, когда во мне стало возникать знание и о себе, странное ощущение овладело мною, и, когда, пройдя три четверти зала, я замедлила шаг, в разноцветной массе лиц окостенелых и лиц в серебряном инее бакенбардов, лиц искривленных и одутловатых, вспотевших под скатавшейся пудрой, меж орденских лент и галунов, открылся коридор, чтобы я могла проследовать, словно королева, по этой узкой тропинке сквозь паутину взглядов, чтобы я прошла — куда?
К кому-то.
А кем была я сама? Мысли мои неслись с невероятной быстротой, и я в секунду поняла, сколь необычно различие между мною и этим светским сбродом, потому что у каждого из них были свои дела, семья, всяческие отличия, полученные путем интриг и подлостей, каждый носился со своею торбой никчемной гордости, волоча за собой свое прошлое, как повозка в пустыне тянет сзади длинный хвост поднятой пыли. Я же была из таких далеких краев, что, казалось, имела не одно прошлое, а множество, и поэтому моя судьба могла стать понятной для них только в частичном переводе на здешние нравы, но по тем определениям, которые удалось бы подобрать, я все равно осталась бы для них чуждым существом. А может быть, и для себя тоже? Нет… а впрочем, пожалуй, да — у меня ведь не было никаких знаний, кроме тех, что ворвались в меня на пороге залы, как вода, которая, прорвав плотину, бурля заливает пустоту. Ища в этих знаниях логику, я спрашивала себя, можно ли быть сразу множеством? Происходить сразу из многих покинутых прошлых? Моя собственная логика, отделенная от бормочущих воспоминаний, говорила мне, что нельзя, что прошлое может быть лишь одно, а если я одновременно графиня Тленикс, дуэнья Зореннэй, юная Виргиния — сирота, у которой родню истребил валандский род в заморской стране Лангодотов, если я не могу отличить вымысла от действительности, докопаться до истинной памяти о себе, то, может быть, я сплю? Но уже загремел оркестр; бал напирал, словно каменная лавина, и трудно было поверить в другую, еще более реальную действительность. Я шла в неприятном ошеломлении, следя за каждым своим шагом, потому что снова началось головокружение, которое я почему-то назвала «vertigo».[5] Я ни на миг не сбилась в своей королевской поступи, хотя это потребовало огромного напряжения, незаметного внешне, и ради этой незаметности — еще больших усилий, пока я не почувствовала поддержку извне: то был взгляд мужчины, который сидел в низком проеме приоткрытого окна, — на его плечо свесилась складка парчовой занавеси, расшитой красно-седыми коронованными львами, страшно старыми, поднимавшими в лапах скипетры и яблоки держав — райские, отравленные яблоки. Этот человек, уединившийся среди львов, одетый во все черное, прилично, но с долею естественной небрежности, в которой нет ничего общего с искусственным дамским беспорядком, этот чужой, не денди, не чичисбей,[6] не придворный и вовсе не красавчик, но и не старик, смотрел на меня из своего укрытия, такой же одинокий в этом всеобщем гомоне, как и я. Вокруг толпились те, кто раскуривает cigarillo свернутым банкнотом на глазах партнеров по tarocco[7] и бросает золотые дукаты на зеленое сукно так, как швыряют в пруд лебедям мускатные орехи, — люди, которые не могут совершить ничего глупого или позорного, ибо их знатность облекает благородством любой поступок. А этот мужчина в высшей степени не подходил к такому окружению, и снисходительность, с которой он как бы нечаянно позволял жесткой парче в королевских львах перевешиваться через плечо и бросать на его лицо отблеск тронного пурпура, выглядела тихим издевательством. Он был немолод, но юность все еще жила в его темных, нервно прищуренных глазах, он слушал, а возможно, и не слышал своего собеседника, маленького лысого толстяка, похожего на доброго закормленного пса. Когда незнакомец встал, занавесь соскользнула с его плеча — ненужная отброшенная мишура, и наши глаза встретились в упор, и мои сразу же скользнули прочь, будто обратились в бегство — могу поклясться! Но его лицо осталось на дне моих глаз — я как бы ослепла и оглохла на мгновенье, так что вместо оркестра некоторое время слышала только стук своего сердца. Не знаю почему. Уверяю вас, лицо у него было совершенно обыкновенное. В его неправильных чертах была та привлекательная некрасивость, что нередко свойственна высоким умам; но, казалось, он уже устал от собственного интеллекта, излишне проницательного, который мало-помалу подтачивал его в самоубийственных ночных бдениях, — видно было, что ему приходится тяжко и в иные часы он рад бы избавиться от своей мудрости, уже не привилегии и дара, но увечья, ибо неустанная работа мысли начала ему досаждать, особенно когда он оказывался наедине с собой, что случалось с ним часто — почти всегда и везде, а значит, и здесь. У меня вдруг возникло желание увидеть его тело, спрятанное под добротной, чуть мешковатой одеждой, сшитой так, будто он сам сдерживал старания портного. Довольно печальной должна, наверное, быть эта нагота, почти отталкивающе мужественная, с атлетической мускулатурой, перекатывающейся узлами вздутий и выпуклостей, со струнами сухожилий, способная вызвать страсть разве что у стареющих женщин, которые упорно не желают от всего навсегда отказаться и шалеют, как нерестящиеся рыбы. Зато голова его была так по-мужски прекрасна — гениальным рисунком рта, гневливой запальчивостью бровей, как бы разрезанных морщинкой посредине; его крупный, жирно лоснящийся нос даже чувствовал себя смешным в такой компании. Ох, не был красив этот мужчина, и даже некрасивость его не искушала, попросту он был другой, но если бы я внутренне не расслабилась, когда мы столкнулись взглядами, то, наверное, могла бы пройти мимо. Правда, если бы я так поступила, если бы мне удалось вырваться из сферы его притяжения, всемилостивейший король тотчас же занялся бы мною — дрожанием перстня, уголком выцветших глаз, зрачками, острыми, как булавки, — и я вернулась бы туда, откуда пришла. Но в тот миг и на том месте я не могла еще этого знать, я не понимала, что та, словно случайная встреча взглядов, мимолетное совпадение черных отверстий зрачков — а они же: в конце концов, всего-навсего дырочки в круглых приборах, проворно скользящих в глазницах черепа, — что это все заранее предопределено, но откуда мне это было знать тогда!..
Я уже прошла мимо, когда он встал, сбросил с рукава зацепившийся край парчи и, как бы давая понять, что комедия окончена, двинулся за мной. Сделав два шага, он остановился, вдруг осознав, каким пошлым ротозейством выглядела эта его отчаянная решимость плестись за незнакомой красавицей, как зазевавшийся дурачок за оркестром. Он остановился, и тогда, сложив кисть руки лодочкой, я другой рукой сдвинула с запястья петельку веера. Чтобы упал. И он, конечно, тут же… Мы рассматривали друг друга уже совсем вблизи, между нами была только перламутровая ручка веера. Это была прекрасная и страшная минута — смертный холод перехватил мне горло, и, чувствуя, что вместо голоса могу выдавить из себя только слабый хрип, я лишь кивнула ему, и этот мой кивок был таким же неуверенным, как тот недавний реверанс перед королем, не удостоившим меня взглядом. Он не ответил на мой поклон — он был растерян и изумлен тем, что происходило в нем самом, ибо такого он от себя не ожидал. Я знаю это точно, он позже сам сказал об этом, но, если бы и не сказал, я все равно бы знала. Ему нужно было что-то говорить, чтобы не стоять столбом, как болван, каким он выглядел тогда, отлично это сознавая. «Сударыня, — произнес он, прихрюкивая, как поросенок, — сударыня, вот веер». Я уже давно держала в руках и веер, и, кстати, себя тоже. «Сударь, — отозвалась я, и голос мой прозвучал чуть-чуть приглушенно, как чужой, и он мог подумать, что это мой обычный голос, ведь раньше он никогда его не слышал, — может быть, мне уронить веер еще раз?» И улыбнулась — нет, не искушающе, не соблазнительно, не лучезарно. Улыбнулась только потому, что почувствовала, как краснею. Однако тот румянец был не моим: он вспыхнул да моих щеках, разлился по лицу, окрасил мочки ушей — я все это прекрасно ощущала, но я вовсе не испытывала ни изумления, ни восхищения, ни замешательства перед этим чужим человеком, в сущности, одним из многих, как он, затерянных в толпе придворных; скажу точнее: этот румянец не имел ничего общего со мной, он возник из того же источника, что и знание, которое вошло в меня на пороге залы с первым моим шагом на ее зеркальную гладь, тот румянец был как бы частью придворного этикета — всего, что принято, как веер, кринолин, топазы и прическа. И чтоб он не посмел истолковать всего превратно, чтобы показать, как мало значит мой румянец, я улыбнулась, но не ему, а поверх его головы, отмерив как раз такое расстояние, какое отделяет любезность от насмешки. И он захохотал тогда почти беззвучно, как бы про себя, точь-в-точь мальчишка, который знает, что строже всего на свете ему запрещено смеяться, и именно поэтому не в силах удержаться. И от этого смеха мгновенно помолодел.
— Если бы ты дала мне минуту отсрочки, — сказал он, вдруг перестав смеяться, словно протрезвел от новой мысли, — я бы смог придумать ответ, достойный твоих слов, то есть в высшей степени остроумный, но лучшие мысли всегда приходят мне в голову уже на лестнице.
— Неужели ты столь не находчив? — спросила я, сосредоточивая все усилия воли на своем лице и ушах, потому что меня уже злил тот неуступчивый румянец, который мешал мне чувствовать себя независимой, ведь я догадывалась, что и он был частью того же замысла, с которым король отдавал меня моему предназначению.
— Может быть, мне следует добавить: «Нет ли средства этому помочь?» — продолжала я, — а ты ответишь, что все бессильно перед лицом красоты, чье совершенство способно подтвердить существование Абсолюта. Тогда бы мы посерьезнели на два такта оркестра и с надлежащей ловкостью выбрались бы на обычную придворную почву. Но она, мне кажется, тебе чужда, и, пожалуй, нам лучше так не разговаривать…
Только теперь, когда он услышал эти слова, он меня испугался — и по-настоящему и теперь вправду не знал, что сказать. У него были такие глаза, будто нас обоих подхватило вихрем и несет из этой залы неведомо куда — в пустоту.
— Кто ты? — спросил он жестко. От игры, от волокитства не осталось ни следа — только страх. А я совсем — вот ни капельки — его не боялась, хотя, собственно, должна бы испугаться ощущения, что его лицо, эта угреватая кожа, строптиво взъерошенные брови, большие оттопыренные уши сверяются с каким-то заключенным во мне ожиданием; накладываясь, совпадают словно бы с негативом, который я носила в себе непроявленным и который сейчас вдруг начал пропечатываться. Я не боялась его — даже если в нем был мой приговор. Ни себя, ни его. Однако сила, которую это совпадение освободило во мне, заставила меня вздрогнуть. И я вздрогнула, но не как человек, а как часы, когда их стрелки сошлись и пружина стронулась, чтобы пробить полночь, но первый удар еще не раздался. Этой дрожи не мог заметить никто.
— Кто я, ты узнаешь чуть позднее, — ответила я очень спокойно, раскрыла веер и улыбнулась легкой бледной улыбкой, какими ободряют больных и слабых. — Я бы выпила вина, а ты?
Он кивнул, силясь напялить на себя светскую оболочку, которая была ему не по нутру и не по плечу, и мы пошли по паркету, забрызганному перламутровыми потеками воска, стекавшего с люстры, словно капель, через всю залу, рука об руку — туда, где у стены лакеи разливали вино в бокалы.
В ту ночь я не сказала ему, кто я, потому что не хотела лгать, а истины не знала сама. Истина может быть лишь одна, а я была и дуэнья, и графиня, и сирота — все эти судьбы кружились во мне, и каждая могла бы стать истинной, признай я ее своей; я уже понимала, что в конце концов мою истину предопределит мой каприз и та, которую я выберу, сдунет остальные, но я продолжала колебаться между этими образами, потому что мне мерещился в них какой-то сбой памяти. Скорее всего, я была молодой особой, страдавшей расщеплением личности, и мне на время удалось вырваться из-под заботливой опеки близких. Продолжая разговор, я думала, что если я и вправду сумасшедшая, то все кончится благополучно, ведь из помешательства можно выйти, как из сна, — и тут, и там есть надежда. В поздний час, когда мы вместе (а он не отступал от меня ни на шаг) прошли рядом с его величеством за минуту до того, как король вознамерился удалиться в свои апартаменты, я обнаружила, что повелитель даже не взглянул в нашу сторону, и это было страшное открытие. Он не проверял, так ли я держу себя с Арродесом, видимо, это было не нужно, видимо, он не сомневался, что может полностью мне доверять, как доверяют подосланным тайным убийцам, зная, что они не отступят до последнего своего вздоха, ибо их судьба всецело в руке пославшего. Но могло быть и так, что королевское равнодушие должно стереть мои подозрения — раз он не смотрит в мою сторону, значит, я действительно ничего для него не значу, и оттого мои навязчивые домыслы опять склонялись к мысли о сумасшествии. И вот я, безумная и ангельски прекрасная, попиваю вино и улыбаюсь Арродесу, которого король ненавидит как никого другого, — однако он поклялся матери в ее смертный час, что если злая участь и постигнет этого мудреца, то только по собственной его воле. Не знаю. рассказал ли мне это кто-нибудь во время танца, или я это узнала от себя самой, ведь ночь была такая длинная II шумная, огромная толпа то и дело нас разлучала, а мы вновь находили друг друга, неумышленно, словно все здесь были замешаны в этом заговоре, — очевидный бред: не кружились же мы среди механически танцующих манекенов! Я разговаривала со старцами и девицами, завидовавшими г. юей красоте, различала бесчисленные оттенки благоглупости, столь скорой на зло. Я рассекала и прошивала этих ничтожных честолюбцев и этих девчонок с такой легкостью, что мне даже становилось их жаль.
Казалось, я была воплощением отточенного разума — я блистала остроумием, и оно добавляло блеска моим глазам, хотя из-за тревоги, которая росла во мне, я охотно притворилась бы дурочкой, чтобы спасти Арродеса, но именно этого я как раз и не могла. Увы, я была не столь всесильна. Был ли мой разум, сама его безупречность подвластны лжи? Вот над чем билась я во время танца, выделывая фигуры менуэта, пока Арродес, который не танцевал, смотрел на меня издали, черный и худой на фоне пурпурной, расшитой львами парчи занавесей. Король удалился, а вскоре распростились и мы. Я не позволила ему ни о чем спрашивать, а он все пытался что-то сказать и бледнел, когда я повторяла «нет» сначала губами, потом, только сложенным веером. Выходя из дворца, я не знала, ни где живу, ни откуда пришла, ни куда направляюсь, — знала только, что этого мне не дано, — все мои попытки что-то узнать были напрасны: каждому известно, что нельзя повернуть глазное яблоко так, чтобы зрачок заглянул внутрь черепа. Я позволила Арродесу проводить меня до дворцовых ворот: позади круга все еще пылавших бочек со смолой был парк, будто высеченный из угля, а в холодном воздухе носился далекий нечеловеческий смех — то ли эти жемчужные звуки издавали фонтаны работы южных мастеров, то ли болтающие статуи, похожие на белесые маски, подвешенные над клумбами. Королевские соловьи тоже пели, хотя слушать их было некому, вблизи оранжереи один из них чернел на огромном диске луны, словно нарисованный. Гравий хрустел у нас под ногами, и золоченые острия ограды шеренгой торчали из мокрой листвы. Он торопливо и зло схватил меня за руку, которую я не успела вырвать, рядом засияли белые полосы на эполетах гренадеров его величества, кто-то вызывал мой выезд, кони били копытами, фиолетовые отсветы фонариков блеснули на дверце кареты, упала ступенька. Это не могло быть сном.
— Когда и где? — спросил он.
— Лучше никогда и нигде, — сказала я свою главную правду и тут же быстро и беспомощно добавила: — Я не шучу, приди в себя, мудрец, и ты поймешь, что я даю тебе добрый совет.
То, что я хотела произнести дальше, мне уже не удалось выговорить. Это было так странно: думать я могла все, что угодно, но голос не выходил из меня, я никак не могла добраться до тех слов. Хрип, немота — будто ключ повернулся в замке и засов задвинулся между нами.
— Слишком поздно, — тихо сказал он, опустив голову, — на самом деле, поздно.
— Королевские сады открыты от утреннего до полуденного сигнала. — Я поставила ногу на ступеньку кареты. — Там, где пруд с лебедями, есть старый дуб. Завтра, точно в полдень, ты найдешь в дупле записку, а сейчас я желаю тебе, чтобы ты каким-нибудь немыслимым чудом забыл, что мы встречались. Если бы я знала как, то помолилась бы за это.
Не к месту было говорить это при страже. И слова были банальные, и мне не дано было вырваться из этой смертельной банальности — я это поняла, когда карета уже покатилась, а он ведь мог истолковать мои слова так, будто я боюсь чувства, которое он во мне пробудил. Так и было: я боялась чувства, которое он возбудил во мне, однако оно не имело ничего общего с любовью, а я говорила то, что могла сказать, словно пробовала, как во тьме, на болоте, пробуют почву под ногой, не заведет ли следующий шаг в трясину. Я пробовала слова, нащупывая дыханием те, что мне удастся вымолвить, и те, что мне сказать не дано. Но он не мог этого знать. Мы расстались ошеломленные, в тревоге, похожей на страсть, ибо так начиналась наша погибель. И я, прелестная, нежная, неискушенная, все же яснее, чем он, понимала, что я его судьба в полном, страшном и неотвратимом значении этого слова.
Коробка кареты была пуста. Я поискала тесьму, пришитую к рукаву кучера, но ее не было. Окон тоже не было, может быть, черное стекло? Мрак внутри был такой полный, что, казалось, принадлежал не ночи, а пустоте. Не просто. отсутствие света, а ничто. Я шарила руками по вогнутым, обитым плюшем стенкам, но не нашла ни оконных рам, ни ручки, ничего, кроме изогнутых, мягко выстланных поверхностей передо мной и надо мной; крыша была удивительно низкая, словно меня захлопнули не в кузове кареты, а в трясущемся наклонном футляре. Я не слышала ни топота копыт, ни обычного при езде стука колес. Чернота, тишина и ничто. Тогда я сосредоточилась на себе — для себя я была более опасной загадкой, чем все, что со мной произошло. Память была безотказна. Мне казалось, что все так и должно быть и не могло произойти иначе: я помнила мое первое пробуждение — когда я еще не имела пола, — как чье-то чужое, как преследующий меня кошмарный сон. Я помнила и пробуждение в дверях дворцовой залы, когда я была уже в этой действительности, помнила даже легкий скрип, с которым распахнулись резные двери, и застывшее лицо лакея, служебным рвением превращенного в исполненную почтения куклу, живой восковой труп. Теперь все мои воспоминания слились воедино, но я могла в мыслях вернуться вспять, туда, где я не знала еще, что такое — двери, что — бал и что — я. Меня пронзила дрожь, оттого что я вспомнила, как первые мои мысли, еще лишь наполовину облеченные в слова, я выражала в формах другого рода — «сознавало», «видело», «вошло», — вот как было, пока блеск залы, хлынув в распахнутые двери, не ударил мне в зрачки и не открыл во мне шлюзы и клапаны, сквозь которые с болезненной быстротой влилось в меня человеческое знание слов, придворных жестов, обаяние надлежащего пола и вкупе с ними — память о лицах, среди которых первым было лицо Арродеса, а вовсе не королевская гримаса. И хотя никто никогда не смог бы мне в точности этого объяснить, я теперь была уверена, что перед королем остановилась по ошибке — я перепутала предназначенного мне с тем, от кого предназначение исходило. Ошибка… но если так легки сшибки — значит, эта судьба не истинная, и я могу еще спастись?
Теперь, в полном уединении, которое вовсе не тревожило меня, а, напротив, было даже удобно, ибо позволяло мне спокойно и сосредоточенно подумать, когда я попыталась познать, кто я, вороша для этого воспоминания, такие доступные — каждое на своем месте, под рукой, как давно знакомая утварь в старом жилище, я видела все, что произошло этой ночью, но резко и ясно — только от порога дворцовой залы. А прежде? Где я была? Или было?! Прежде? Откуда я взялась? Самая простая и успокаивающая мысль подсказывала, что я не совсем здорова, что я возвращаюсь из болезни, как из экзотического, полного приключений путешествия, — тонкая, книжная и романтическая девушка, несколько рассеянная, со странностями. Оттого что я слишком хрупка для этого грубого мира, мною овладели навязчивые видения, и, видно, в горячечном бреду, лежа на кровати с балдахином, па простынях, обшитых кружевами, я вообразила себе путешествие через металлический ад, а мозговая горячка была мне, наверное, даже к лицу — в блеске свечей, так озаряющих альков, чтобы, когда я очнусь, ничто меня не испугало и чтобы в фигурах, склонившихся надо мной, я сразу бы узнала неизменно любящих меня попечителей… Что за сладкая ложь! У меня были Видения, не так ли? И они, вплавившись в чистый поток моей единой памяти, расщепили ее. Расщепили?… Да, спрашивая, я слышала в себе хор ответов, готовых, ожидающих: дуэнья, Тленикс, Ангелита. Ну и что из этого? Все эти имена были во мне готовы, мне даны, и каждому соответствовали даже образы, как бы единая их цепь. Они сосуществовали так, как сосуществуют корни, расходящиеся от дерева, и я, без сомнения, единственная и единая, когда-то была множеством разветвлений, которые слились во мне, как ручьи сливаются в речное русло. «Не могло быть так, — сказала я себе. — Не может быть, я уверена». Но я же видела мою предыдущую судьбу разделенной на две части: к порогу дворцовой залы тянулось множество нитей — разных, а от порога — одна. Картины первой части моей судьбы жили отдельно друг от друга и друг друга отвергали. Дуэнья: башня, темные гранитные валуны, разводной мост, крики в ночи, кровь на медном блюде, рыцари с рожами мясников, ржавые лезвия алебард и мое личико в овальном подслеповатом зеркале, висевшем между рамой мутного окна из бычьего пузыря и резным изголовьем. Может быть, я пришла оттуда?
Но как Ангелита я росла среди южного зноя, и, глядя назад в эту сторону, я видела белые дома, повернувшиеся к солнцу известковыми спинами, чахлые пальмы, диких собак, поливающих пенящейся мочой их чешуйчатые корни, и корзины, полные фиников, слипшихся в клейкую сладкую массу, и врачей в зеленых одеяниях, и лестницы, каменные лестницы спускающегося к заливу города, всеми стенами отвернувшегося от зноя, и кучи виноградных гроздьев, и рассыпанные засыхающие изюмины, похожие на козий помет. И снова мое лицо в воде — не в зеркале: вода лилась из серебряного кувшина, потемневшего от старости. Я помню даже, как носила этот кувшин, и вода, тяжело колыхаясь в нем, оттягивала мне руку. А как же мое «оно», лежащее навзничь, и то путешествие и поцелуи подвижных металлических змей, проникающие в мои руки, тело, голову, — этот ужас, который настолько теперь потускнел, что вспомнить его я могла лишь с трудом, как дурной сон, не передаваемый словами? Не могла я пережить столько судеб, одна другой противоречащих, — ни все сразу, ни одну за другой! Так что же истинно? Моя красота. Отчаяние и торжество — равно ощутила я, увидев в его лице, как в зеркале, сколь беспощадно совершенство этой красоты. Если бы я в безумии завизжала, брызгая пеной, или стала бы рвать зубами сырое мясо, то и тогда мое лицо осталось бы прекрасным, — но почему я подумала «мое лицо», а не просто «я»? Почему я с собой в раздоре? Что я за существо, не способное достичь единства со своим телом и лицом? Колдунья? Медея? Но подумать такое — уже совершенная несуразица. Мысль моя работала как источенный меч в руке рыцаря с большой дороги, которому нечего терять, и я легко рассекала ею любой предмет, но эта моя способность тоже показалась мне подозрительной — своим совершенством, чрезмерной холодностью, излишним спокойствием, ибо над моим разумом был страх: и этот страх существовал вне разума — вездесущий, невидимый — сам по себе, и это значило, что я не должна была доверять и своему разуму тоже. И я не стала верить ни лицу своему, ни мысли своей, но страх остался — вне их. Так против чего же он направлен, если помимо души и тела нет ничего? Такова была загадка. А мои предыстории, моя корни, разбегавшиеся в прошлом, ничего мне не подсказывали: их ощупывание было лишь пустой перетасовкой одних и тех же красочных картинок. Северянка ли дуэнья, южанка Ангелита или Миньона — я всякий раз оказывалась другим персонажем, с другим именем, с другим положением, другой семьей. Ни одна из них не могла возобладать над прочими. Южный пейзаж каждый раз возникал в моей памяти, переслащенный театральным блеском торжественной лазури, и если бы не эти шелудивые псы и не полуслепые дети с запекшимися веками и вздутыми животиками, беззвучно умирающие на костлявых коленях закутанных в черное матерей, это пальмовое побережье показалось бы слишком гладким, скользким, как ложь. А север моей дуэньи: башни в снеговых шапках, бурое клубящееся небо и особенно зимы — снеговые фигуры на кручах, выдумки ветра, извилистые змеи поземки, ползущей из рва по контрфорсам и бойницам, белыми озерами растекающейся на скале у подножия замка, и цепи подъемного моста, плачущие ржавыми слезами сосулек. А летом — вода во рву, которая покрывалась ряской и плесенью, — как хорошо я все это помнила! Но было же и третье прошлое: большие, чопорные подстриженные сады, садовники с ножницами, своры борзых и черно-белый дог, как арлекин на ступенях трона, скучающая скульптура — лишь движение ребер нарушало его грациозную неподвижность, да в равнодушных желтых глазах поблескивали, казалось, уменьшенные отражения катарий или некроток. И эти слова — «некротки», «катарий» — сейчас я не знала, что они значили, но когда-то должна была знать. И теперь, вглядываясь в это прошлое, забытое, как вкус изжеванного стебелька, я чувствовала, что не должна возвращаться в него глубже — ни к туфелькам, из которых выросла, ни к первому длинному платью, вышитому серебром, будто бы и в ребенке, которым я когда-то была, тоже спрятано предательство. Оттого я вызвала в памяти самое чуждое и жестокое воспоминание — как я, бездыханная, лежа навзничь, путешествовала, цепенея от поцелуев металла, издававшего, когда он касался моего тела, лязгающий звук, словно оно было безмолвным колоколом, который не может зазвенеть, пока в нем нет сердца. Да, я возвращалась в невероятное — в бредовый кошмар, уже не удивляясь тому, как прочно он засел в моей памяти, — конечно, это мог быть только бред, и, чтобы поддержать в себе эту уверенность, я робко стала ощупывать, только самыми кончиками пальцев, свои мягкие предплечья, грудь — без сомнения, то было наитие, которому я поддавалась, дрожа, будто входила, запрокинув голову, под ледяные струи отрезвляющего дождя. Нигде не было ответа, и я попятилась от этой бездны — моей и не моей.
И тогда я вернулась к тому, что тянулось уже единой нитью. Король, вечер, бал и тот мужчина. Я сотворена для него, он — для меня, я знала это, и снова — страх. Нет, не страх, а ощущение рока, чугунной тяжести предназначения, неизбежного, неотвратимого: знание, подобное предчувствию смерти, знание, что уже нельзя отказаться, уйти, убежать, даже погибнуть, — погибнуть иначе. Я тонула в этом леденящем предчувствии, оно душило меня. Не в силах вынести его, я повторяла одними губами: «отец, мать, родные, подруги, близкие»; я прекрасно понимала смысл этих слов, и они послушно воплощались в знакомые фигуры: мне приходилось признавать их своими, но нельзя же иметь четырех матерей и столько же отцов сразу — опять этот бред, такой глупый и такой назойливый! Наконец я прибегла к арифметике: один и один — два, от отца и матери рождаются дети — ты была ими всеми, это память поколений. «Нет, либо я прежде была сумасшедшей, — сказала я себе, — либо я больна сейчас, и, хоть я и в сознании, душа моя помрачена. И не было бала, замка, короля, вступления в мир, который бы подчинялся заранее установленной гармонии». Правда, я тотчас ощутила горечь от мысли, что если так, я буду вынуждена распроститься с моей красотой.
Что ж, из элементов, которые не подходят друг другу, я ничего не построю — разве только найду в постройке перекос, протиснусь в трещины и раздвину их, чтобы войти внутрь. Вправду ли все произошло так, как должно было случиться? Если я собственность короля, то как я могла об этом знать? Ведь мысль об этом даже и во сне должна быть для меня запретной. Если за всем этим стоит он, то почему, когда я хотела ему поклониться, я поклонилась не сразу? И если все готовилось так тщательно, то почему я помню то, чего мне не следует помнить? Отзовись во мне только одно мое прошлое, девичье и детское, я не впала бы в душевный разлад, который вел к отчаянию, а затем — к бунту против судьбы. И уж наверняка надлежало стереть воспоминание о том путешествии навзничь, о себе безжизненной и о себе оживающей от искровых поцелуев, о безмолвной наготе, но и это тоже осталось и было сейчас во мне. Не закралось ли в замысел и в исполнение некое несовершенство?
Небрежность, рассеянность и — непредвиденные утечки, которые теперь принимаются за загадки или дурной сон? Но в таком случае была надежда. Ждать, чтобы в дальнейшем осуществлении замысла нагромоздились новые несообразности, чтобы обратить их в жало, нацеленное на короля, на себя, все равно на кого — только бы наперекор навязанной судьбе. А может быть, поддаться колдовству, жить в нем, пойти с самого утра на условленное свидание — я знала, что этого мне никто не воспретит, наоборот, все будет направлять меня именно туда.
А то, что было сейчас вокруг меня, раздражало своей примитивностью — какие-то стенки: сначала обивка, мягко поддающаяся под пальцами, под ней сопротивление стали или камня — не знаю чего, но ведь я могу разодрать ногтями эту уютную упаковку!.. Я встала, коснулась головой вогнутой крыши: вот что вокруг меня и надо мной, и вот внутри — я… Я — единая?…
Я продолжала отыскивать противоречия в мучительном моем самопознании, и по мере того, как мысли скачками надстраивались, этаж над этажом, я приблизилась уже к тому, что пора усомниться и в самом суждении, что если я — безумная русалка, заключенная, как насекомое, в прозрачном янтаре, в моем obnubulacio lucida,[8] то понятно, что — …
Постой. Минутку. Откуда взялась у меня такая изысканно отточенная лексика, эти ученые латинские термины, логические посылки, силлогизмы, эта изощренность, не свойственная очаровательной девушке, чье назначенье воспламенять мужские сердца? И откуда это равнодушие в делах любви, рассудочность, отчужденность: ведь меня любили — наверное, уже бредили мною, жаждали видеть, слышать мой голос, коснуться моих пальцев, а я изучала эту страсть, как препарат под стеклом, — не правда ли, это удивительно, противоречиво и несинкатегориматично? Но может, мне все только пригрезилось и конечной истиной был старый холодный мозг, запутавшийся в опыте бесчисленных лет? И может, одна только обостренная мудрость и была единственным моим настоящим прошлым: я возникла из логики, и лишь она творила мою истинную генеалогию?… И я не верила в это. Да, я страшно виновна и вместе с тем невинна. Во всех ветвях моего завершенного прошлого, сбегавшихся к моему единому настоящему, я была невинна — там я была девочкой, хмурым молчаливым подростком в серо-седых зимах и в жаркой духоте дворцов; я была неповинна и в том, что произошло здесь, у короля, потому что я не могла быть иной; а жестокая моя вина состояла только в том, что, уже во всем хорошо разобравшись, я уверила себя, что все это мишура, фальшь, накипь, и в том, что, желая погрузиться в глубь своей тайны, я испугалась этого погружения и испытывала подлую благодарность к невидимым препятствиям, которые удерживали меня от него. Душа моя была одновременно грешной и праведной, но что-то у меня еще осталось? О, конечно, осталось. У меня было мое тело, и я стала ощупывать его, исследовать в этом черном замкнутом пространстве, как опытный криминалист изучает место преступления. Странное расследование! Отчего, прикасаясь к своему телу, я ощущала в пальцах легкое щекочущее онемение — кажется, это был мой страх перед собой? Но я же была прекрасна, и мои мышцы были проворны и пружинисты. Сжав руками свои бедра, словно они были чужими, — так никто себе их не сжимает, — в отчаянном усилии, я смогла под гладкой ароматной кожей прощупать кости, но внутренней стороны предплечий — от локтей до запястий — я почему-то боялась коснуться. Я попыталась одолеть сопротивление: что же могло там быть? Руки у меня были закрыты жесткими кружевными рукавами — ничего не разобрать. Тогда — шея… Такие называют лебедиными. Голова, посаженная на ней с врожденной естественной грацией, с гордостью, внушающей почтение, мочки ушей, полуприкрытых локонами, — два упругих лепестка без украшений, непроколотые — почему? Я касалась лба, щек, губ. Их выражение, открытое мне кончиками пальцев, снова меня обеспокоило. Оно было не таким, как мне представлялось. Чужим. Но отчего я могла быть чужой для себя, как не от болезни? Исподтишка, как маленький ребенок, замороченный сказками, я все же провела пальцами от запястья к локтю — и ничего не поняла. Кончики пальцев сразу онемели, будто мои сосуды и нервы что-то стиснуло, я тотчас вернулась к прежним подозрениям: откуда я все знаю, зачем исследую себя, как анатом? Это не дело девушки: ни Ангелиты, ни светловолосой дуэньи, ни поэтичной Тленикс. И в то же время я ощутила настойчивое успокаивающее внушение: «Все хорошо, не удивляйся себе, капризуля, ты была немножко не в себе, не возвращайся туда, выздоравливай, думай лучше о назначенном свидании…» Но все же, что там — где локти и запястья?… Я нащупала под кожей как бы твердый комочек. Набухший лимфатический узел? Склеротическая бляшка? Невозможно. Это не вязалось с моей красотой, с ее непогрешимым совершенством. Но ведь затвердение там было: маленькое — я его прощупывала только при сильном нажиме — там, где щупают пульс, и еще одно — на сгибе локтя.
Значит, у моего тела была своя тайна, и оно своей странностью соответствовало странности духа, его страхам и самоуглубленности, и в этом была правильность, соответствие, симметрия. Если там, то и здесь. Если разум, то и органы. Если я, то и ты… Я и ты… Всюду загадки — я была измучена, сильная усталость разлилась по моему телу, и я должна была ей подчиниться. Уснуть, впасть в забытье — в другой, освобождающий мрак. И тут меня вдруг пронизала решимость назло всему устоять перед соблазном, воспротивиться заключавшему меня ящику этой изящной кареты — кстати, внутри не столь уж изящной, — и этой душонке рассудительной девицы, вдруг слишком далеко зашедшей в своем умничанье! Протест против воплощенной красоты, за которой скрываются тайные стигматы. Так кто же я? Сопротивление мое переросло в буйство, в бешенство, от которого моя душа горела во мраке так, что он, казалось, начал светлеть. Sed tamen potest esse totaliter aliter… — что это, откуда? Дух мой? Gratia? Dominus meus?[9] Нет, я была одна, и я — единая, сорвалась с места, чтобы ногтями и зубами впиться в эти мягко устланные стены, рвала обивку, ее сухой, жесткий материал трещал у меня в зубах, я выплевывала волокна вместе со слюной — ногти сломаются, ну и ладно, вот так, не знаю, против кого, себя или еще кого-то, только нет, нет, нет, нет…
Что-то блеснуло. Передо мной вынырнула из тьмы как бы змеиная головка, но она была металлической. Игла? Да, что-то укололо меня в бедро с внутренней стороны, повыше колена: это была слабая недолгая боль, укол — и за ним ничто.
Ничто.
Сумрачный сад. Королевский парк с поющими фонтанами, живыми изгородями, подстриженными на один манер, геометрия деревьев и кустов, лестницы, мрамор, раковины, амуры. И мы вдвоем. Банальные, обыкновенные, но романтичные и полные отчаяния. Я улыбалась ему, а на бедре носила знак. Меня укололи. И теперь мой дух, против которого я бунтовала, и тело, которое я уже ненавидела, получили союзника, — правда, он оказался недостаточно искусным: сейчас я уже не боялась его, а просто играла свою роль. Конечно, он все же был настолько искусен, что сумел навязать мне ее изнутри, прорвавшись в мою твердыню. Но искусен не совсем — я видела его сети. Я не понимала еще, в чем цель, но я уже ее увидела, почувствовала, а тому, кто увидел, уже не так страшно, как тому, кто вынужден жить одними домыслами. Я так устала от своих метаний, что даже белый день раздражал меня своей пасмурной торжественностью и панорамой садов, предназначенных для лицезрения его величества, а не зелени. Сейчас я предпочла бы этому дню ту мою ночь, но был день, и мужчина, который ничего не знал, ничего не понимал, жил обжигающей сладостью любовного помешательства, наваждением, насланным мною — нет, кем-то третьим. Силки, западня, ловушка со смертельным жалом, и все это — я? И для этого — струи фонтанов, королевские сады, туманные дали? Глупо. О чьей погибели речь, о чьей смерти? Разве не достаточно подставных свидетелей, старцев в париках, виселицы, яда? Что же ему еще? Отравленные интриги, какие подобают королям?
Садовники в кожаных фартуках, поглощенные куртинами всемилостивейшего монарха, нас не замечали. Я молчала — так мне было легче. Мы сидели на ступенях огромной лестницы, сооруженной будто для гиганта, который сойдет когда-нибудь с заоблачных высот только для того — специально, — чтобы воспользоваться ею. Символы, втиснутые в нагих амуров, фавнов, силенов — в осклизлый, истекающий водой мрамор, — были так же мрачны, как и серое небо над ними. Идиллическая пара — прямо Лаура и Филон, но столько же здесь было и от Лукреции!
…Я очнулась здесь, б этих королевских садах, когда моя карета отъехала, и пошла легко, как будто только что выпорхнула из ванны, источающей душистый пар, и платье на мне было уже другое, весеннее, своим затуманенным узором оно робко напоминало о цветах, намекало на девичью честь, окружало меня неприкосновенностью Eos Rhododaktilos,[10] но я шла среди блестящих от росы живых изгородей уже с клеймом на бедре, к которому не могла прикоснуться, да в этом и не было нужды, довольно того, что оно не стиралось в памяти. Я была плененным разумом, закованным уже с пеленок, рожденным в неволе, и все-таки разумом. И поэтому, пока мой суженый еще не появился и поблизости не было ни чужих ушей, ни той иглы, я, как актриса перед выходом на сцену, пыталась пробормотать про себя те слова, которые хотела сказать ему, и не знала, удастся ли мне их произнести при нем, — я пробовала границы своей свободы, ощупью исследуя их при свете дня. Что особенного было в этих словах? Только правда: сначала о перемене грамматической формы, потом — о множестве моих плюсквамперфектов, обо всем, что я пережила, и о жале, усмирившем мой бунт. Отчего я хотела рассказать ему все — из сострадания, чтобы не погубить его? Нет, ибо я его совсем не любила. Но чтобы предать чужую, злую волю, которая нас свела. Ведь так я скажу? Что хочу, пожертвовав собой, избавить его от себя — как от погибели?
Нет, все было иначе. Была еще и любовь — я знаю, что это такое. Любовь пламенная, чувственная и в то же время пошленькая — желание отдать ему душу и тело лишь постольку, поскольку этого требовал дух моды, обычай, стиль придворной жизни, — о, как-никак, а все же чудесный галантный грешок! Но то была и очень большая любовь, вызывающая дрожь, заставляющая колотиться сердце, я знала, что один вид его сделает меня счастливой. И в то же время — любовь очень маленькая, не преступающая границ, подчиненная стилю, как старательно приготовленный урок, как этюд на выражение мучительного восторга от встречи наедине. И не это чувство побуждало меня спасать его от меня или не только от меня, ибо, когда я переставала рассуждать о своей любви, он становился мне совершенно безразличен, зато мне нужен был союзник в борьбе с тем, кто ночью вонзил в меня ядовитый металл. У меня никого больше не было, а он был мне предан безоглядно, и я могла на него рассчитывать. Однако я знала, что он пойдет на все лишь ради своей любви ко мне. Ему нельзя было доверить мой reservatio mentalis.[11] Оттого я и не могла сказать ему всей правды: что я моя любовь к нему, и яд во мне — из одного источника. И потому мне мерзки оба, и предназначивший, и предназначенный, и я обоих ненавижу и обоих хочу растоптать, как тарантулов. Не могла я ему этого выдать: он-то в своей любви, конечно, был как все люди, и ему не нужно было такое мое освобождение, которого жаждала я, — такой моей свободы, которая сразу отбросила бы его прочь. Я могла действовать только ложью — называть свободу фальшивым именем любви, ибо только так можно его убедить, что я — жертва неведомого. Короля? Но даже если бы он посягнул на его величество, это бы меня не освободило: король если и был на самом деле виновником всему, то таким давним, что его смерть ни на вело: не отдалила бы моего несчастья. Чтобы проверить себя, способна ли я убеждать, я остановилась у статуи Венеры Каллипиги, чья нагота воплотила в себе символы высших и низших страстей земной любви, и принялась в одиночестве готовить свою чудовищную весть, мои обличения, оттачивая доводы до кинжальной остроты.
Мне было очень трудно. Я все время натыкалась на непреодолимую преграду, я не знала, когда мой язык сведет судорога, на чем споткнется мой дух, потому что и дух мой тоже был моим врагом. Не во всем лгать, но и не касаться сути истины, средоточия тайны… Я лишь могла постепенно уменьшать ее радиус, приближаясь как бы по спирали. Но когда я увидела издали, как он шел, а потом почти побежал ко мне — маленькая еще фигурка в темной пелерине, — я поняла, что ничего не выйдет: в рамках галантного стиля мне не удержаться. Что это за любовная сцена, в которой Лаура признается Филону в том, что она — приготовленное для него орудие пытки? Даже если бы путем иносказаний я преодолела бы мое заклятие, все равно бы я снова обратилась в ничто, из которого возникла. И вся его мудрость была здесь ни к чему. Прелестная дева, которая считает себя орудием тайных сил и бормочет о каких-то системах, о стигматах, о заклятиях, да если она говорит так и о таких вещах, то, право, эта девица помешана. Ее слова свидетельствуют не об истине, а лишь о галлюцинациях, и потому она достойна не только любви и преданности, но и жалости. Движимый этими чувствами, он, может быть, и сделает вид, будто поверил всему, что услышал, опечалится, станет уверять, что готов погибнуть, но освободить, а сам кинется за советами к докторам и по всему свету разнесет весть о моей беде, — я уже сейчас готова была его оскорбить. При таком сочетании сил, конечно же, чем надежнее союзник, тем меньше он может рассчитывать на исполнение надежд как любовник: во имя, своего счастья он наверняка не захочет отказаться от роли любовника, ведь его-то безумие нормальное, крепкое, солидное, последовательное: любить, ах, любить, острые камни на моем пути раздробить в мягкий песок, но только не играть в анализ чудовищной загадки — «откуда берет начало мой дух?».
И получалось, что если я создана ему на погибель, то он должен погибнуть. Я не знала, какая часть меня ужалит его в объятии: локти? запястья? — это было бы слишком просто. Но я уже знала, что иначе быть не может. Теперь мне надо было пойти с ним по тропинкам, услаждающим взор творениями мастеров паркового искусства; мы сразу же удалились от Венеры Каллипиги, ибо откровенность, с которой она выставляла напоказ свою суть, была неуместна на раннеромантической стадии наших платонических вздохов и робких надежд на счастье. Мы прошли мимо фавнов, тоже откровенных, но на свой лад — каменная плоть этих кудлатых мраморных самцов не задевала моей ангельской натуры, настолько целомудренной, что они не смущали меня даже вблизи, — я была вправе не понимать их поз. Он поцеловал мою руку — как раз то место, где было загадочное затвердение: губами он не мог его почувствовать. А где притаился мой укротитель? Наверное, в ящике кареты. Но может быть, я прежде должна добыть для него какие-то секреты, словно волшебный стетоскоп, приложенный к груди осужденного мудреца. Я ничего не смогла рассказать Арродесу.
В два дня наш роман прошел все подобающие стадии. Я жила с кучкой верных слуг в поместье, расположенном в четырех почтовых станциях от резиденции короля. Флебе, мой дворецкий, снял особняк на следующий же день после свидания в саду, ни словом не обмолвившись, во что это обошлось, а я, ничего не понимающая в денежных делах девушка, ни о чем не спрашивала. Помнится, он меня побаивался и злился на меня — видимо, не был посвящен в суть дела, даже наверняка не был, просто выполнял королевский приказ: на словах — сама почтительность, а в глазах нескрываемое презрение, — скорей всего, он приникал меня за новую королевскую пассию, а моим прогулкам и свиданиям с Арродесом не слишком удивлялся — умный слуга не станет требовать, чтобы король строил свои отношения с наложницей по схеме, привычной для него, слуги. Полагаю, если бы при нем я вздумала обниматься с крокодилом, он бы и тогда глазом не моргнул. Я была свободна во всем, что не перечило королевской воле, однако сям монарх не показался там ни разу. И я уже убедилась, что есть слова, которых я никогда не скажу своему суженому, ибо язык у меня тотчас немел при одном лишь желании произнести их и губы деревенели, совсем как пальцы, когда я пробовала ощупывать себя в ту ночь в карете. Я твердила Арродесу, чтоб он не смел посещать меня, а он объяснял это, как все люди, простой боязнью оказаться скомпрометированной и, как человек порядочный, старался держаться осторожней.
На третий день вечером я наконец отважилась узнать, кто я. Оставшись одна в спальне, я сбросила пеньюар и стала перед зеркалом — нагая статуя. Серебряные иглы и стальные ланцеты, разложенные на подзеркальнике, я прикрыла бархатной шалью, так как боялась их блеска, хоть и не боялась их лезвий. Высоко посаженные груди смотрели вверх и в стороны розовыми сосками, след укола на бедре исчез. Обдумывая операцию, точно акушер или хирург, я обеими руками мяла это белое гладкое тело так, что ребра прогибались, но живот, выпуклый, как у женщины с готической картины, не поддавался, и под его теплой, мягкой оболочкой я ощутила неуступчивую твердость. Проведя ладонями сверху вниз, я нащупала и очертила в своем чреве овальный предмет. Поставив по обе руки от себя по шесть свечей, я кончиками пальцев взяла ланцет, самый маленький, но не из страха, а только потому, что он был изящнее других. В зеркале все выглядело так, будто я собираюсь пронзить себя ножом, — чистой воды финальная сцена из трагедии, выдержанная в едином стиле до последней мелочи: широкое ложе с балдахином, два ряда высоких свечей, блеск стали в моей руке и моя бледность, потому что тело мое страшилось и колени подкашивались, и только рука, державшая скальпель, сохраняла необходимую твердость. Именно туда, где овальный неподатливый предмет прощупывался всего явственней, чуть пониже грудины, я с силой вонзила ланцет. Боль была мгновенной и слабой, а из разреза выступила всего лишь капля крови. Не обладая умением мясника, я аккуратно, как анатом, рассекла тело от грудины до лона — правда, сжав зубы и зажмурившись. Смотреть было уже сверх моих сил. Однако я стояла, теперь уже не дрожащая, а только похолодевшая, и мое дыхание, судорожное, как у астматика, звучало сейчас в комнате, будто чужое, будто доносившееся извне. Рассеченная белокожая оболочка разошлась, и я увидела в зеркале свернувшееся серебряное тело — как бы огромный плод, скрытую во мне блестящую куколку, обрамленную розовыми складками некровоточащей плоти. Это было чудовищно — так себя видеть! Я не отваживалась коснуться серебристой поверхности, чистейшей, безупречной. Овальное туловище сияло, отражая уменьшенные огоньки свечей. Я пошевелилась и тут же увидела его ножки, прижатые в утробной позе, — тонкие, раздвоенные, как щипцы, они исходили из моего тела, и я вдруг поняла, что это «оно» не было чужим, инородным — оно тоже было мною. Вот почему, ступая по мокрому песку, я оставляла такие глубокие следы, почему я была такой сильной: «Это же — я, это снова — я», — повторяла я мысленно, когда вдруг вошел Арродес.
Я оставила двери незапертыми — такая неосторожность! И он прокрался ко мне, неся перед собой, как оправдание и щит, огромный букет красных роз, вошел и так был зачарован собственной дерзостью, что, когда я обернулась с криком ужаса, он, все уже увидев, ничего не осознавал, не понимал, не мог… Не от испуга, а только от огромного стыда, душившего меня, я еще пыталась хотя бы прикрыть руками серебряный овал, но он был слишком велик, а разрез слишком широк, чтобы это удалось.
Его лицо, беззвучный крик и бегство… От этой части показаний прошу меня освободить. Не мог дождаться позволения, приглашения и вот пришел с цветами, а дом был пуст. Я же сама отослала всех слуг, чтобы никто не помешал задуманному мной, — у меня уже не было выбора, не было другого пути. А быть может, в него уже закралось первое подозрение? Я вспомнила, как вчера днем мы переходили через русло высохшего ручья и как он хотел перенести меня на руках, а я запретила ему, но не из стыдливости, истинной или притворной, а потому, что это было запретно. А он тогда заметил на мягком податливом песке следы моих ног, такие маленькие и такие глубокие, и хотел что-то сказать, наверное, какую-нибудь невинную шутку, но смолчал, знакомая морщинка меж бровями стала резче — и, взбираясь на противоположный берег, вдруг не протянул мне руки. Может быть, уже тогда… И еще: когда уже на самой вершине холма я споткнулась и, ухватившись, чтобы сохранить, равновесие, за толстую ветку орешника, почувствовала, что вот-вот выворочу весь куст с корнями, — я опустилась на колени, отпустив сломанную ветвь, чтобы не выдать моей неодолимой силы. Он тоща стоял, повернувшись боком, не глядя на меня, но, мне казалось, все увидел краешком глаза — так из-за подозрений прокрался он сюда или от неудержимой страсти?
Сочленениями своих щупальцев я оперлась на края открытого настежь тела, чтобы наконец освободиться, и проворно высунулась наружу, и тогда Тленикс, Дуэнья, Миньона сперва опустилась на колени, потом рухнула на бок, и, распрямляя все свои ноги и неторопливо пятясь, словно рак, я выползла из нее. Свечи сияли в зеркале, и пламя их еще колебалось от сквозняка, поднятого его бегством. Обнаженная лежала неподвижно, непристойно раскинув ноги. Не желая прикасаться к ней, моему кокону, моей фальшивой коже, я обошла ее стороной и, откинув корпус назад, поднялась, как богомол, и посмотрела на себя в зеркало. «Это я, — сказала я себе без слов. — Это все еще я». Обводы гладкие, жестокрылые, насекомоподобные; утолщения суставов, холодный блеск серебряного брюшка; бока обтекаемые, созданные для скорости; темная, пучеглазая голова. «Это я», — повторяла я про себя, будто заучивала на память, и тем временем затуманивались и гасли во мне многократные мои прошлые: Дуэньи, Тленикс, Ангелиты. Теперь я могла их вспоминать только как давно прочитанные книжки из детства с неважным и уже бессильным содержанием. Медленно поворачивая голову, я пыталась разглядеть в зеркале свои глаза и, хотя еще не совсем освоилась со своим новым воплощением, уже понимала, что к этому акту самоизвлечения я пришла вовсе не по своей воле — он был заранее предусмотренной частью некоего плана, рассчитанной именно на такие обстоятельства — на бунт, которому надлежало быть прелюдией к полной покорности. Я и теперь могла мыслить с прежней быстротой и свободой, но зато была подчинена моему новому телу — в его сверкающий металл были впечатаны все действия, которые мне предстояло совершить.
Любовь угасла. Гаснет она и в вас, только годами и месяцами, а я пережила такой же закат чувства за несколько минут — и то было уже третье по счету мое начало, и тогда, издавая легкий плавный шорох, я трижды обежала комнату, то и дело притрагиваясь вытянутыми усиками к кровати, на которой мне уже не суждено отдыхать. Я вбирала в себя запах моего нелюбовника, чтобы пуститься по его следу и померяться силами в этой новой и, наверное, последней игре. Начало его панического бегства было обозначено распахнутыми одна за другой дверями в рассыпанными розами. Их запах мог мне помочь, потому что он, хотя бы на время, стал частью его запаха. Комнаты, сквозь которые я пробегала, я теперь видела снизу вверх — в новой перспективе, и они казались мне слишком большими, наполненными неудобными, лишними вещами, которые враждебно темнели в полумраке. Потом мои коготки слабо заскрежетали по ступенькам каменной лестницы, и я выбежала в сырой и темный сад. Пел соловей — теперь мне это показалось забавным: сей реквизит был ненужен, следующий акт спектакля требовал нового. С минуту я рыскала между кустами, слыша, как хрустит гравий, брызжущий из-под моих ног, описала круг, другой и вомчалась напрямик, ища след. Не взять его я не могла — я выудила его из неимоверной мешанины тающих запахов, извлекла из колебаний воздуха, рассеченного Арродесом на бегу, каждую его частичку, еще не развеянную ветром, и так вышла на предначертанный мне путь, который с этой минуты стал моим до конца.
Не знаю, по чьей воле я дала Арродесу столь большую фору, и, вместо того чтобы идти по следу, до самого рассвета рыскала по королевским садам. В этом мог быть скрыт известный смысл, ибо я кружила там, где мы прогуливались рука об руку между живыми изгородями, и могла хорошенько впитать его запах, чтобы наверняка не спутать с другими. Правда, проще было сразу за ним помчаться и захватить его, беспомощного, в полном замешательстве и отчаяния, но я этого не сделала. Знаю, все мое поведение в ту ночь можно объяснить по-разному: и моей скорбью, и королевской волей. Я потеряла возлюбленного и взамен обрела лишь гонимую дичь, а монарху мало было одной лишь гибели ненавистного ему человека, притом быстрой и внезапной. Арродес, наверное, тем временем помчался не к себе домой, а к кому-то из друзей, чтобы там в сумбурной исповеди, самому себе задавая вопросы и на них отвечая, до всего дойти своим умом: чье-то присутствие было ему все-таки необходимо, но только как отрезвляющая поддержка. В моих скитаниях по садам ничего, однако, не было от мучений разлуки. Я знаю, как неприятно это прозвучит для душ чувствительных, но, не имея ни рук, чтобы их заламывать, ни слез, чтобы их проливать, ни колен, на которые могла бы пасть, ни губ, чтобы прижать к ним увядшие цветы, я не впадала в отчаяние. Тогда меня куда больше занимало необычайное умение различать следы, которое вдруг во мне открылось. Ведь когда я пробегала по аллеям, меня ни разу, ни на волос не сбил чужой обманчивый след, пусть даже и очень схожий с тем, что стал моей приманкой и моим кнутом. Я ощущала, как каждая частица воздуха просасывается в моем левом легком сквозь лабиринты бесчисленных испытующих клеток и как каждая подозрительная частичка попадает в мое правое, горячее легкое, где мой внутренний призматический глаз внимательно всматривается в нее, чтобы подтвердить правильность отбора или отшвырнуть прочь как ненужную, и все это свершается быстрее взмаха крылышек мошки, быстрее, чем вы смогли бы осознать. На рассвете я покинула королевские сады. Дом Арродеса стоял пустой — двери настежь, и там, не помыслив даже проверить, взял ли он с собой какое-нибудь оружие, я отыскала новый след и пустилась по нему уже без проволочек. Я не рассчитывала, что путешествие будет долгим, однако дни сложились в недели, недели в месяцы, а я все еще за ним гналась.
И все мои поступки вовсе не казались мне более мерзкими, чем поведение других существ, направляемых жребием, выше им предначертанным.
Я бежала в дождь и в жару через луга, овраги и заросли, сухой тростник хлестал по моему туловищу, а вода ручьев и луж, через которые я неслась напрямик, обдавала меня и скатывалась по выпуклой спине, по голове и глазам крупными, как слезы, каплями, но это были не слезы. В своем непрестанном беге я видела, что каждый, кто замечал меня еще издали, тотчас отворачивался и становился лицом к стене или к дереву, а если рядом ничего не было, падал на колени, закрыв руками лицо, или валился ничком и долго еще лежал, хотя я была уже далеко. Мне не нужен был сон, и потому я бежала и ночью, и днем через деревни, селения, местечки, через рынки, полные плодов, вялившихся на веревках, и глиняных горшков, и целые толпы селян разбегались передо мной врассыпную, и дети с визгом бросались в боковые улочки, а я, ни на что не обращая внимания, мчалась по назначенному мне следу. Я уже позабыла лицо того человека, и мое сознание, видимо, менее выносливое, чем тело, сужалось — особенно во время ночного бега — настолько, что я уже не знала, кого преследую и вообще преследую ли кого-то: знала только, что единственная воля моя — мчаться так, чтобы запах, ведущий меня в этом буйном половодье мира, сохранялся и усиливался, ибо, если он ослабевал, это значило, что я сбилась с верного пути. Я никого ни о чем не спрашивала, да и меня никто не отваживался бы о чем-либо спросить. Пространство, разделявшее меня и тех, кто съеживался у стен при моем появлении или падал наземь, закрывая руками затылок, было полно напряженного молчания, и я воспринимала его как положенную мне почтительную дань ужаса, ибо я шла королевским путем, наделенная беспредельным могуществом. И разве лишь маленький ребенок, которого родители не успели подхватить на руки при моем внезапном появлении, принимался плакать, но мне было не до него, потому что моей воле надлежало неустанно быть предельно собранной, сосредоточенной, разом обращенной и наружу, в зеленый, песчаный, каменистый мир, окутанный голубой дымкой, и в мой внутренний мир, где в четкой работе обоих моих легких рождалась музыка молекул, прекрасная, совершенная в своей безошибочности. Я пересекала реки и рукава лиманов, пороги, илистые впадины высыхающих озер, и всякая тварь бежала меня, уносясь скачками или лихорадочно зарываясь в спекшийся грунт, но, вздумай я на них поохотиться, бегство было бы напрасным, ибо никто из них не был так молниеносно проворен, как я, но что мне до них — косматых, четвероногих, длинноухих тварей, издающих писк, вой или хриплое ржание, — ведь у меня была иная цель…
Иногда я, как снаряд, пробивала большие муравейники — их обитатели, рыжие, черные, пятнистые, бессильно скатывались по моему сверкающему панцирю, а раза два какие-то существа, несравненно крупнее других, не уступили мне дорогу — я ничего против них не имела, но, чтобы не тратить времени на обход окружным путем, я сжималась в прыжке и на лету прошивала их насквозь под треск костей и бульканье красных струек, брызгавших мне на спину и на голову, и удалялась так быстро, что даже не успевала подумать о смерти, причиненной таким внезапным и быстрым ударом. Помню также, как пробиралась через поля сражений, беспорядочно усеянные множеством серых и зеленых мундиров — одни еще шевелились, а из других уже торчали кости, грязно-белые, как подтаявший снег, но я ни на что не обращала внимания, и у меня была высшая цель, и она была под силу только мне.
Из того, как след вился, петлял, пересекал сам себя, из того, как он почти исчезал на берегах соленых озер в пережженной солнцем пыли, раздражавшей мои легкие, или смытый дождями, я постепенно пришла к выводу, что тот, кто ускользает от меня, изворотлив и хитер и идет на все, чтобы ввести меня в заблуждение и оборвать цепочку частиц, отмеченных признаком единства. Если бы тот, кого я преследовала, был простым смертным, я бы настигла его по истечении предопределенного времени, того, какое необходимо, дабы страх и отчаяние в должной мере усугубили назначенную ему кару, — тогда бы я наверняка догнала его благодаря своей неутомимой быстроте и безошибочной работе сыщицких легких — и уничтожила быстрее, чем успела бы это осознать. Но я не стала наступать ему сразу на пятки: я шла по хорошо остывшему следу, чтобы насладиться своим мастерством, а вместе с тем по исконному обычаю дать гонимому время накопить в себе отчаяние, но порой позволяла ему хорошенько оторваться, потому что, чувствуя мою неотступную близость, он в безысходной тоске мог учинить над собою зло и тем самым ускользнуть от меня и от воздаяния, которое я ему несла. Мне надо было настичь его не слишком быстро и совсем не внезапно, ибо он должен был прочувствовать все, что его ожидает. А потому я по ночам останавливалась, укрываясь в чащах не для отдыха, который мне не был нужен, а для умышленных проволочек и для того, чтобы рассчитать дальнейшие действия. Я уже не думала о преследуемом как об Арродесе, моем бывшем возлюбленном, — память об этом почти зарубцевалась, и ее не стоило тревожить. Я жалела только, что теперь лишена дара усмехаться, хотя бы при воспоминаниях о былых фортелях, сиречь Ангелите, дуэнье, сладостной Миньон. И я разглядывала себя лунными ночами в зеркале воды, чтобы убедиться, что ныне ничем на них не похожа, хотя и осталась красивой, однако теперь это была другая красота, смертоносная, внушающая страх, великий, подобный восхищению. Тех моих ночей в укромных логовах мне хватало на то, чтобы очистить брюшко от комков засохшей грязи, доведя его до серебряного блеска, и перед тем, как пуститься в дальнейший путь, я всякий раз легонько раскачивала прыжковыми ногами втулку жала, проверяя ее готовность, потому что день и час мне были неизвестны.
Иногда я бесшумно подкрадывалась к людским жилищам и прислушивалась к голосам, то прицепляясь блестящими щупальцами к оконной раме сбоку, то заползая на крышу, чтобы поудобнее свеситься с ее края вниз головой, ибо я все же не мертвый механизм, снабженный парой сыщицких легких, но существо, которое пользуется, как подобает, своим разумом. А погоня и бегство тянулись уже столь долго, что молва о нас разнеслась повсюду, и я слышала, как старухи пугали мною детей, и узнавала бесчисленные толки об Арродесе, которому почти все сочувствовали в такой же мере, в какой страшились меня, королевской посланницы. Что же болтали простаки на завалинках?
Что я машина, которую натравили на мудреца, осмелившегося посягнуть на королевскую власть. Что я не простой механический палач, а особое устройство, способное произвольно принимать любой облик: нищего, ребенка в колыбели, прекрасной девушки или же металлической змеи. Но эти формы — только маски, в которых подосланная машина является преследуемому, чтобы соблазнить его. Перед всеми же другими она предстает в обличье серебряного скорпиона, который бегает так быстро, что никому еще не удалось сосчитать всех его ног.
Тут повествование разделялось на множество версий. Одни говорили, что мудрец вопреки королевской воле хотел даровать всем людям свободу и тем возбудил монарший гнев. Другие — что у него была живая вода и он мог воскресить замученных, и это было запрещено ему высочайшим указом, а он, притворно склонившись перед волей владыки, тайно собирал рать из казненных бунтовщиков, тела которых он похищал с виселиц на цитадели. Многие вообще ничего не знали об Арродесе и не приписывали ему никаких сверхъестественных способностей, а просто полагали, что коли он осужден, то уже по одному этому заслуживает сочувствия и помощи. И хотя никто не знал истинных причин, из-за которых распалилась королевская ярость и созванным мастерам приказано было соорудить в их кузницах гончую машину, — злым все звали это умыслом и неправедным повелением, ибо, что бы ни совершил гонимый, вина его не могла быть столь же страшной, как судьба, уготованная ему королем. Конца не было этим россказням, в которых вволю расходилось простецкое воображение, и лишь одно в них не менялось: мне всякий раз приписывали такие мерзости, какие только можно вообразить. Слышала я также и тьму вранья о смельчаках, будто бы поспешавших на помощь к Арродесу, которые-де преграждали мне дорогу, чтобы пасть в неравном бою, — на самом деле на это ни единая живая душа не отважилась. Хватало в сказках и предателей, указывавших мне его следы, когда я не могла отыскать их сама, — вот уж отъявленнейшая ложь. Однако же о том, кто я, кем могу быть, что у меня на уме, ведомы ли мне растерянность или сомнение, никто ничего не говорил, да я тому и не удивлялась.
И я столько наслышалась о простых, всем известных гончих машинах, выполняющих королевскую волю, которая была для всех законом, что вскоре совсем перестала таиться от обитателей этих приземистых изб и порой прямо под их окнами дожидалась восхода солнца, чтобы серебряной молнией выскочить на траву и в блистающих брызгах росы связать конец вчерашнего пути с началом сегодняшнего и, стремительно мчась по нему, упиваться остекленевшими взглядами, падением ниц, смертельным страхом и ореолом неприкасаемости, который окружал меня.
Однако настал день, когда мой верхний нюх оказался беспомощен, и тогда, тщетно петляя по холмистым окрестностям в поисках следа, я изведала боль и горечь от того, что мое совершенство напрасно. Но, застыв на вершине холма со скрещенными щупальцами и как бы молясь ветреному небу, я по слабому звуку, наполнившему колокол моего тела, вдруг поняла, что не все еще потеряно, и, чтобы исполнить замысел, обратилась к давно заброшенному дару — человеческой речи. Мне не нужно было учиться ей заново, она была во мне, я должна была лишь оживить ее в себе. Сначала я выговаривала слова и фразы резко и визгливо, но скоро мой голос стал почти человеческим, и я сбежала по склону, чтобы прибегнуть к дару слова — там, где меня подвело обоняние. Я вовсе не чувствовала ненависти к беглецу, хотя он и оказался таким проворным и хитрым, — он играл свою роль, а я играла свою. Я отыскала перепутье, на котором след угасал, остановилась и судорожно задергалась на месте оттого, что одна пара моих ног бессознательно тянулась к дороге, покрытой известковой пылью, а другая, лихорадочно царапая камни, тащила меня в противоположную сторону — туда, где белели стены небольшого монастыря, окруженного вековой рощей. Собрав всю свою волю, я тяжело, будто немощная, подползла к монастырской калитке, у которой стоял, подняв очи к небу, монах — казалось, он залюбовался зарей. Я потихоньку приблизилась к нему, чтобы не испугать своим внезапным появлением, и смиренно приветствовала его, а когда он безмолвно обратил на меня внимательный взгляд, спросила, не позволит ли он, чтобы я поведала ему о деле, в котором сама разобраться не могу. Я поначалу решила, что он окаменел от страха, ибо он даже не пошевелился и ничего не ответил, но оказалось, он просто задумался и минуту спустя сказал, что согласен. Тогда мы пошли в монастырский сад, он впереди, я — за ним. Странная, наверное, пара, но в тот ранний час вокруг не было ни единой живой души — некому подивиться на серебряного богомола и белого монаха. И когда он сел под лиственницей в привычной позе исповедника, не глядя на меня, а лишь склонив ко мне ухо, я рассказала ему, что, прежде чем выйти на эту торную тропу, я была девушкой, предназначенной Арродесу по воле короля. Что я познакомилась с ним на балу во дворце и полюбила его, ничего о нем не зная, и в неведении совершенно отдалась этой любви, которую сама в нем возбудила, и так было, пока после ночного укола я не поняла, кем мне суждено стать для него, и, не видя ни для себя, ни для него другого спасения, проткнула себя ножом, но вместо смерти свершилось перевоплощение. И жребий, о котором я раньше только подозревала, с тех пор ведет меня по следу возлюбленного — я сделалась настигающей его Немезидой. Погоня эта длится долго — так долго, что до меня стало доходить все, что люди говорят об Арродесе, и, хотя я не знаю, сколько в том правды, я начала заново размышлять над нашей общей судьбой, и в мою душу закралось сочувствие к этому человеку, ибо я поняла, что изо всех сил хочу убить его только потому, что не могу его больше любить. Так я познала собственное ничтожество, низость погибшей и попранной любви, которая алчет мести тому, кто не повинен перед ней ни в чем, кроме собственного несчастья. Оттого и не хочу я продолжать погоню и сеять вокруг себя ужас, а хочу воспротивиться злу, хотя и не знаю как.
Насколько я могла заметить, до конца, моего рассказа монах ничуть не избавился от подозрительности: он как бы, заранее, еще прежде, чем я заговорила, решил для себя, что все, что я скажу, не подпадает под таинство исповеди, так как, по его разумению, я была существом, лишенным собственной воли. А кроме того, наверное, подумал, не подослана ли я к нему умышленно, ведь, по слухам, иные лазутчики маскируются еще коварнее. Однако заговорил он со мной доброжелательно.
Он спросил меня: «А что, если бы ты нашла того, кого ищешь? Знаешь ли ты, что бы ты сделала тогда?»
И я сказала: «Отец мой, я знаю только то, чего не хочу сделать, но не знаю, какая сила, кроющаяся во мне, пробудится в тот миг, а потому не могу сказать, не буду ли я принуждена погубить его».
И он спросил меня: «Какой же совет я могу тебе дать? Хочешь ли ты, чтобы этот жребий был снят с тебя?»
Лежа, словно пес, у его ног, я подняла голову и, видя, как он жмурится от солнечного луча, который ударил ему в очи, отраженный серебром моего черепа, сказала: «Ничего так не желаю, как этого, хоть и понимаю, что судьба моя станет тогда жестокой, потому что не будет у меня тогда более никакой цели. Не я выдумала то, для чего сотворена, и значит, мне дорого придется заплатить, если преступлю королевскую волю, ибо немыслимо, чтобы мое преступление осталось безнаказанным, и меня в свою очередь возьмут на прицел оружейники из дворцовых подземелий и вышлют в погоню железную свору, чтобы уничтожить меня. А если бы я даже спаслась, воспользовавшись заложенным во мне искусством, и убежала хоть на край света, то где бы я ни очутилась, все станут бежать меня, и я не найду цели, ради которой стоило бы существовать дальше. И даже судьба, подобная твоей, также будет для меня закрыта, потому что каждый, имеющий, как ты, власть, так же, как ты, ответит мне, что я не свободна духовно, и потому мне не дано будет обрести убежища и под монастырским кровом».
Монах задумался и потом сказал удивленно: «Я ничего не знаю об устройствах, подобных тебе, но я вижу тебя и слышу, и ты по твоим речам представляешься мне разумной, хотя и подчиненной какому-то принуждению, и — коль скоро ты, машина, борешься, как сама мне поведала, с этим принуждением и говоришь, что чувствовала бы себя свободной, если бы у тебя отняли стремление убить, — то скажи мне, как ты чувствуешь себя сейчас, когда оно в тебе?»
И я сказала на это: «Отче, хоть мне с ним и худо, но я превосходно знаю, как преследовать, как настигать, следить, подсматривать и подслушивать, таиться и прятаться, как ломать на пути препятствия, подкрадываться, обманывать, кружить и сжимать петлю кругов, причем, исполняя все это быстро и безошибочно, я становлюсь орудием неумолимой судьбы, и это доставляет мне радость, которая, наверное, с умыслом была вписана пламенем в мое нутро».
«Снова спрашиваю тебя, — сказал монах. — Что ты сделаешь, когда увидишь Арродеса?»
«Снова отвечаю, отче, что не знаю, ибо не хочу причинить ему ничего дурного, но то, что заложено во мне, может оказаться сильнее меня».
Выслушав мой ответ, он прикрыл глаза рукой и промолвил: «Ты — сестра моя».
«Как это понимать?» — спросила я в полнейшем недоумении.
«Так, как сказано, — ответил он. — А это значит, что я не возвышу себя над тобой и не унижу себя пред тобою, потому что, как бы различны мы ни были, твое неведение, в котором ты призналась, делает нас равными перед лицом Провидения. А если так, иди за мной, и я покажу тебе нечто».
Мы прошли через монастырский сад к старому дровяному сараю. Монах толкнул скрипучие двери, и когда они распахнулись, то в сумраке сарая я различила лежащий на соломе темный предмет, а сквозь ноздри в мои легкие ворвался тот неустанно подгонявший меня запах, такой сильный здесь, что я почувствовала, как само взводится и высовывается из лонной втулки жало, но в следующую минуту взглядом переключенных на темноту глаз я заметила, что ошиблась. На соломе лежала только брошенная одежда. Монах по моей дрожи понял, как я потрясена, и сказал: «Да, здесь был Арродес. Он скрывался в нашем монастыре целый месяц с тех пор, как ему удалось сбить тебя со следа. Он страдал оттого, что не может предаваться прежним занятиям, и ученики, которым он тайно дал знать о себе, посещали его по ночам, но среди них оказались два мерзавца, и пять дней назад они его увели». — Ты хотел сказать «королевские посланцы»? — спросила я, все еще дрожа и молитвенно прижимая к груди скрещенные щупальца. «Нет, я говорю «мерзавцы», потому что они взяли его хитростью и силой. Глухонемой мальчик, которого мы приютили, один видел, как они увели его на рассвете, связанного и с ножом у горла». — «Его похитили? — спросила, я, ничего не понимая. — Кто? Куда? Зачем?»
Думаю, затем, чтобы извлечь для себя корысть из его мудрости. Мы не можем обратиться за помощью к закону, потому что это — королевский закон. А эти двое заставят его им служить, а если он откажется, убьют его и уйдут безнаказанными.
«Отче! — воскликнула я. — Да будет благословен час, когда я осмелилась приблизиться и обратиться к тебе. Я пойду теперь по следам похитителей и освобожу Арродеса. Я умею преследовать, настигать: ничего другого я не умею делать лучше — только покажи мне верное направление, которое ты узнал от немого мальчика».
Он возразил: «Но ты же не знаешь, сможешь ли удержаться, — ты ведь сама в этом призналась!»
И я сказала: «Да, но я верю, что найду какой-нибудь выход. Может быть, найду мастера, который отыщет во мне нужный контур и изменит его так, чтобы преследуемый превратился в спасаемого».
А монах сказал: «Прежде чем отправиться в путь, ты, если хочешь, можешь попросить совета у одного из наших братьев: до того, как присоединиться к нам, он был в миру посвящен именно в такое искусство. Здесь он пользует нас как лекарь».
Мы стояли в саду, уже освещенном лучами солнца. Я чувствовала, что монах все еще не доверяет мне, хотя внешне он этого никак не проявлял. За пять дней след улетучился, и он мог с равной вероятностью направить меня по истинному пути и по ложному. Но я согласилась на все, и лекарь с величайшей предосторожностью принялся осматривать меня, светя фонариком сквозь щели между пластинами панциря в мое нутро, и проявил при этом много внимательности и старания. Потом он встал, отряхнул пыль со своей рясы и сказал: «Случается, что на машину, высланную с известной целью, устраивает засаду семья осужденного, его друзья или другие люди, которые по непонятным для властей причинам пытаются воспрепятствовать исполнению предписанного. Для противодействия сему прозорливые королевские оружейники изготовляют распорядительную суть непроницаемой и замыкают ее с исполнительной сутью таким образом, чтобы всякая попытка вмешательства оказалась губительной. И, наложив последнюю печать, даже сами они уже не могут удалить жала. Так обстоит дело и с тобой. А еще случается, что преследуемый переодевается в чужую одежду, меняет внешность, поведение и запах, однако же он не может изменить склада своего разума, и тогда машина, не удовлетворившись розыском при посредстве нижнего и верхнего обоняния, подвергает подозреваемого допросам, продуманным сильнейшими знатоками отдельных способностей духа. Так же обстоит дело и с тобой. Но сверх всего я приметил в твоем нутре устройство, какого не имела ни одна из твоих предшественниц: оно представляет собой многоразличную память о предметах, для гончей машины излишних, ибо в ней записаны истории разных женщин, полные искушающих разум имен и речей, — именно от сего устройства и бежит в тебе проводник к смертоносной сути. Так что ты — машина, усовершенствованная непонятным мне образом, а может быть, даже и воистину совершенная. Удалить твое жало, не вызвав при этом упомянутых последствий, не сможет никто».
— Жало понадобится мне, — сказала я, все еще лежа ничком, — ибо я должна поспешить на помощь похищенному.
— Что касается того, смогла бы ты сдержать затворы, опущенные над известным местом, или нет, даже если бы хотела этого изо всех сил, на сей счет я не могу сказать ни да, ни нет, — продолжал лекарь, словно не слыша моих слов. — Я могу, если ты, конечно, захочешь, сделать только одно, а именно: напылить на полюса известного места через трубку железо, истертое в порошок, так что от этого несколько увеличатся пределы твоей свободы. Но даже если я сделаю это, ты до последнего мгновенья не будешь знать, спеша к тому, кому стремишься помочь, не окажешься ли ты по-прежнему послушным орудием его погибели.
Видя, как испытующе смотрят на меня оба монаха, я согласилась на эту операцию, которая продолжалась недолго, не доставила мне неприятных ощущений и не вызвала в моем душевном состоянии никаких ощутимых перемен. Чтобы еще больше завоевать их доверие, я спросила, не позволят ли они мне провести ночь в монастыре, потому что весь день ушел на беседы, рассуждения и медицинские процедуры.
Они охотно согласились, а я посвятила ночное время исследованию сарая, запоминая запахи похитителей Арродеса. Я была способна и на это, ибо случалось, что королевской посланнице преграждал дорогу не сам осужденный, а какой-нибудь другой смельчак. Перед рассветом я улеглась на соломе — там, где многие ночи спал похищенный, и, в полной неподвижности вдыхая его запах, дожидалась прихода монахов. Я допускала, что все их рассказы могли быть выдумкой, обманом и, коли так, они должны бояться моего возвращения с ложного следа и моей мести, а этот темный предрассветный час был для них наиболее подходящим, если бы они вознамерились меня уничтожить. Я лежала, притворившись глубоко спящей, и вслушивалась в каждый, даже самый легкий шорох, доносившийся из сада: ведь они могли завалить чем-нибудь двери и поджечь сарай, дабы плод чрева моего разорвал бы меня в пламени на куски. Им не пришлось бы даже преодолевать свойственного им отвращения к убийству, ибо я была для них не личностью, а только механическим палачом, останки мои они закопали бы в саду и не испытали бы никаких угрызений совести. Я не знала, что предприняла бы, услышав их приближение, и не узнала этого, потому что ни до чего такого не дошло. Я оставалась наедине со своими мыслями и все повторяла про себя удивительные слова, которые сказал, не глядя мне в глаза, старый монах: «Ты — сестра моя». Я по-прежнему их не понимала, но, когда мысленно их повторяла, они всякий раз обжигали меня, словно я уже утратила тот тяжелый плод, которым была обременена.
Рано утром я выбежала через незапертую калитку и, миновав монастырские постройки, как указал мне монах, полным ходом пустилась в сторону синевших на горизонте гор — именно туда он и направил мой бег. Я очень спешила — к полудню меня отделяло от монастыря более ста миль. Я летела, как снаряд, между белоствольных берез, достигла предгорных лугов, и, когда бежала по ним напрямик, высокая трава разлеталась по обе стороны, словно под ударами косы.
След похитителей я нашла в глубокой долине, на мостике, переброшенном через поток, но не обнаружила на нем следов Арродеса — видимо, пренебрегая тяжестью, они по очереди несли его, выказывая этим свою хитрость и осведомленность, ибо понимали, что никто не вправе опередить королевскую машину в ее миссии, что и так они уже немало повредили монаршей власти, отважившись на это свое деяние.
Вы, наверное, хотели бы знать, каковы были мои истинные намерения в этой последней погоне, — я скажу, что и обманула монахов, и не обманула их, ибо на самом деле желала лишь возвратить себе свободу, вернее, добыть ее, поскольку никогда раньше ее не имела. Если же спросите о том, что я собралась делать с этой своей свободой, то не знаю, что вам сказать. Незнание не было мне внове: вонзая в свое обнаженное тело нож, я тоже не знала, чего хочу, — убить ли себя или только познать, пусть даже одно при этом будет равнозначно другому. И следующий мой шаг тоже был предусмотрен — об этом свидетельствовали все дальнейшие события, а потому и надежда на свободу тоже могла оказаться только иллюзией, и даже не моей собственной, а нарочно введенной в меня, чтобы я действовала энергичнее побуждаемая такою коварно подсунутой приманкой. Как знать, не равнялась ли свобода отказу от Арродеса? Ведь я могла ужалить его, даже будучи полностью свободной, я же не была настолько безумной, чтобы поверить в невероятное чудо — в то, что взаимность может возвратиться теперь, когда я уже перестала быть женщиной, и пусть не совсем перестала быть ею, но мог ли Арродес, который собственными глазами видел свою возлюбленную с разверстым животом, поверить в это? Итак, хитроумие сотворивших меня простиралось за последние пределы механического искусства, ибо они, несомненно, учли в своих расчетах вариант и этого моего состояния, когда я устремлялась на помощь любимому, утраченному навсегда. Если бы я могла свернуть с пути и удалиться, чреватая смертью, которую мне не для кого родить, я и этим тоже ему не помогла бы. Наверное, меня намеренно сотворили такой благородно никчемной, порабощенной собственным желанием свободы, дабы я выполняла не то, что мне приказано прямо, а то, чего — как мне казалось в очередном моем воплощении — хотела я сама. Мое путаное и раздражающее своей бесцельностью самокопание должно было, однако, прерваться только у цели. Расправившись с похитителями, я спасу возлюбленного и сделаю это так, чтобы отвращение и страх, которые он питал ко мне, сменились бессильным изумлением. Так я смогу обрести если не его, то хотя бы самое себя.
Пробившись сквозь густые заросли орешника к первому травянистому склону, я неожиданно потеряла след. Напрасно я искала его; вот здесь он был, а дальше — исчез, как будто преследуемые провалились сквозь землю. Я догадалась вернуться в чащу и не без труда отыскала куст, у которого было срублено несколько самых толстых ветвей. Обнюхав срезы, истекающие соком, я вернулась туда, где след исчезал, и нашла его продолжение по запаху орешника. Беглецы учли, что полоса верхнего запаха недолго продержится в воздухе — ее скоро сдует горный ветер — и потому воспользовались ходулями, но и эта уловка только подхлестнула меня. Запах орешника вскоре ослабел, но я разгадала и новый их фортель — они обернули концы ходуль обрывками джутового мешка. Брошенные ходули я нашла неподалеку от скалистого обрыва. Склон был усеян огромными замшелыми валунами, которые громоздились друг на друга так, что преодолеть эту россыпь можно было, лишь прыгая большими скачками с камня на камень. Так и поступили мои противники, однако они не избрали прямого пути — они петляли. Из-за этого мне приходилось сползать чуть ли не с каждого валуна, чтобы, обежав кругом, сызнова отыскать нюхом зыблющиеся в воздухе частички их запаха. Так я дошла до отвесной скалы, по которой они вскарабкались наверх. Они не смогли бы взобраться туда, не развязав руки своему пленнику, но меня не удивило, что он добровольно полез вместе с ними, — пути назад теперь для него уже не было. Я поползла вверх по разогретому камню, ведомая отчетливым, утроенной силы запахом — ведь им приходилось взбираться по этой отвесной стене, цепляясь за каждый уступ, промоину, впадину: не было такого клочка седого мха, забившегося в расщелину нависших скал, ни мелкой трещинки, дающей минутную опору ногам, которую похитители не использовали бы как ступеньку. Порой в самых трудных местах им приходилось останавливаться, чтобы выбрать дальнейший путь, — я чувствовала это по усиливающемуся запаху. А я буквально мчалась вверх, едва касаясь скалы, чувствуя, как сильнее и сильнее все во мне дрожало, как все во мне играло и пело, ибо эти люди были достойны меня, я чувствовала радость и изумление, потому что восхождение, которое они проделывали втроем, страхуясь одной веревкой, джутовый запах которой остался на острых выступах камня, я совершала одна и без особых усилий и ничто не могло сбить меня с той поднебесной тропы. На вершине меня встретил сильный ветер, который свистел на остром, как нож, гребне, но я даже головы не повернула, чтобы полюбоваться на простершуюся далеко внизу зеленую страну и горизонты, тающие в голубой дымке, а принялась ползать по гребню взад и вперед, пока в незаметной выбоине не нашла продолжение следа. Беловатый излом и осколки камня обозначили место, где один из путников сорвался. Перегнувшись через каменную грань, я посмотрела вниз и увидела маленькую фигурку, словно отдыхавшую на середине склона, и острым зрением различила даже темные капли на известняке, словно оставленные недолгим кровавым дождем. Двое других пошли дальше по гребню, и я пожалела, что мне достанется теперь всего один стерегущий Арродеса враг, потому что никогда до сей поры не ощущала так сильно, сколь благородно мое дело, и не была исполнена такой жаждой борьбы, отрезвляющей и опьяняющей одновременно. Я побежала вдоль гребня под уклон, ибо беглецы избрали именно это направление, оставив погибшего в пропасти, ведь они очень спешили, а его мгновенная смерть при падении была для них несомненна. Я приближалась к скальным воротам, похожим на руины гигантского собора, от которого остались только столбы разбитого портала, боковые контрфорсы и одно высокое окно, сквозь которое светилось небо, а на его фоне выделялось тоненькое деревце, с бессознательной отвагой выросшее там из семени, занесенного ветром в горсть праха. За воротами начиналась скалистая котловина, наполовину затянутая туманом, придавленная длинной тучей, из складок которой сыпался мелкий искрящийся снег. Пробегая в тени, которую отбрасывала причудливая башня, я услышала грохот сыплющихся камней, и тут же по склону скатилась лавина. Глыбы колотились об меня с такой силой, что высекали дым и искры из моих боков, но я, поджав все свои ноги, успела упасть в неглубокую выемку под валуном и в безопасности переждала, пока пролетели последние обломки. Мне пришла в голову мысль, что тот, второй, который вел Арродеса, нарочно выбрал это лавиноопасное место в расчете, что я, не зная гор, попаду под обвал и обвал — хоть надежда на это и невелика — раздавит меня. Такая мысль меня обрадовала: ведь если противник не только убегает и путает следы, но и нападает, борьба становится более достойной. На дне выбеленной снегом котловины виднелась постройка — то ли дом, то ли замок, сложенный из самых тяжелых валунов, какие в одиночку не сдвинул бы и гигант; я поняла, что это и есть убежище врага, ибо где же ему еще быть в этой глуши. И, бросив поиски следа, стала сползать с осыпи, погрузив задние ноги в сыплющийся щебень, — передними я как бы плавала в мелких обломках, а средней парой тормозила спуск, чтобы не сорваться. Так я добралась до слежавшегося снега и по нему уже почти бесшумно пошла дальше, пробуя на каждом шагу, не провалюсь ли в какую-нибудь бездонную расщелину. Надо было идти осторожно, ибо враг ожидал моего появления со стороны перевала, и я не стала подходить слишком близко, чтобы меня не заметили из укрепленного здания, а втиснулась под грибообразный валун и принялась терпеливо ждать наступления ночи.
Стемнело быстро, но снег все порошил, ночь оказалась светлой, и я не отважилась приблизиться к дому, а только приподнялась, подперев голову скрещенными передними ногами так, чтобы хорошо видеть его издали.
После полуночи снег перестал, но я не отряхивала его с себя, потому что он сделал меня похожей на окружающие предметы, и от лунных лучей, пробивающихся меж облаками, сиял, как подвенечное платье, которого мне так и не пришлось надеть. Потом я потихоньку поползла в сторону хорошо видной издали темной глыбы дома, не спуская глаз с окна на втором этаже, в котором тускло тлел желтоватый свет. Я прикрыла зрачки тяжелыми веками, чтобы луна не слепила меня, а к слабому освещению я была приспособлена. Мне показалось, что в этом окне что-то двинулось и какая-то большая тень проплыла вдоль стены, и я поползла быстрее, пока не добралась до подножья постройки. Метр за метром я стала взбираться по кладке, это было нетрудно, потому что между камнями не было швов, их соединяла только собственная огромная тяжесть. Так я добралась до нижнего ряда окон, черневших, как крепостные бойницы, предназначенные для пушечных жерл. Все они зияли мраком и пустотой. Внутри царила такая тишина, будто уже много веков единственной хозяйкой здесь была смерть. Чтобы лучше видеть, я включила свое ночное зрение, сунула голову в каменный проем, открыла светящиеся глаза своих щупальцев, и в глубь комнаты пошел от них фосфорический свет. Напротив окна я увидела сложенный из шершавых плит закопченный камин, в котором давно остыла кучка рассохшихся поленьев и обугленного хвороста, у стены заметила скамью и ржавые инструменты, в углу виднелось продавленное ложе и груда каких-то каменных ядер. Мне показалось странным, что вход ничем не защищен и дверь в глубине распахнута настежь, но именно в этом я увидела западню и, не поверив заманивающей пустоте, вновь бесшумно убрала голову и стала взбираться на верхний этаж. К окну, из которого лился тусклый свет, я и не подумала приблизиться. Наконец я выбралась на крышу и на ее заснеженной площадке прилегла по-собачьи, решив дождаться здесь рассвета. Снизу до меня доносились два голоса, но я не могла разобрать слов. Я лежала без движения, страшась той минуты, когда брошусь на противника, чтобы освободить Арродеса. В напряженном оцепенении я мысленно рисовала картины борьбы, которая завершится уколом жала, но в то же время, пытаясь проникнуть в тайное тайных своей души, уже не доискивалась, как прежде, истоков движущей меня воли, а искала там хотя бы самый слабый намек, знак, который открыл бы мне, одного ли только человека я погублю. Не знаю, когда исчезла моя нерешительность. Я все еще находилась в неведении, все так же не знала себя, но именно незнание того, прибыла ли я как избавительница или как убийца, вновь вызвало у меня ощущение чего-то до сих пор неизвестного, непонятно нового, придало каждому моему движению девственную загадочность и наполнило меня восторгом. Этот восторг очень меня удивил, и я подумала, не в том ли снова проявилась мудрость моих создателей, что я могла в моем безграничном могуществе видеть способность нести сразу и помощь, и гибель. Но даже и в этом я не была уверена. Вдруг снизу до меня донесся резкий короткий звук и сдавленный крик, а потом глухой стук, словно упало что-то тяжелое, — и снова тишина. Тотчас я поползла с крыши, перегнувшись через ее край так, что задняя пара ног и втулка жала находились еще на кровле, грудь терлась о стену, а голова, дрожа от усилий, уже дотягивалась до окна.
Свеча, сброшенная на пол, погасла, только фитиль еще тлел красноватым огоньком. Усилив ночное зрение, я увидела лежащее под столом тело, залитое кровью, которое при этом освещении казалось черным, и, хотя все мое существо требовало прыжка, я сначала втянула в себя воздух с запахом крови и стеарина. Это был чужой человек, — видимо, дело дошло до схватки и Арродес опередил меня. Как, когда и почему — эти вопросы меня не занимали: меня как громом поразило то, что с ним, живым, я осталась в этом пустом доме один на один, что нас теперь только двое. Я вся дрожала, суженая и убийца, отмечая одновременно немигающим оком мерные судороги этого большого тела, которое испускало последнее дыхание.
Вот сейчас бы уйти потихоньку в мир заснеженных гор, чтобы только не оказаться с ним лицом к лицу, чтобы не встретились две пары наших глаз, нет, три пары, поправила я себя и поняла, как безвыходно осуждена быть смешной и страшной; и это предчувствие насмешки и издевательства, все во мне подавив, толкнуло меня вперед, и я бросилась в проем вниз головой, как паук на добычу, и, уже не обращая внимания на скрежет брюшных пластин о подоконник, стремительной дугой перескочила через недвижимого врага, целясь в дверь.
Не помню, как я распахнула ее. Сразу за порогом начиналась крутая лестница, и на ней навзничь лежал Арродес, упираясь подвернутой головой в истертый камень нижней ступеньки. Наверное, они боролись здесь, на этой лестнице, оттого я почти ничего и не услышала. И вот он лежал у моих ног в разорванной одежде, и его ребра вздымались, и я видела его наготу, которой не знала и о которой думала только в первую ночь на королевском балу.
Он дышал хрипло. Видно было, как он силится разлепить веки, а я, откинувшись назад и поджав брюшко, всматривалась сверху в его запрокинутое лицо, не смея ни коснуться его ни отступить, ибо, пока он был жив, я не была в себе уверена. Жизнь уходила из него с каждым вздохом, а я помнила, что заклятие лежит на мне до его последнего дыхания, поскольку королевский приказ надлежит выполнить даже во время агонии, и не хотела рисковать, ибо он еще жил и я не знала, хочу ли его пробуждения. Что, если бы он хоть на минуту открыл глаза и взглядом обнял бы меня всю, такую, какой я стояла перед ним в молитвенной позе, бессильно смертоносная, с чужим плодом в себе, — было бы это нашим венчанием или немилосердно предусмотренной пародией на него?
Но он не очнулся, и, когда рассвет прошел между нами в клубах мелкого искрящегося снега, который задувала в окно горная метель, он, еще раз простонав, перестал дышать, и тогда уже успокоенная, я легла рядом, прильнула к нему, сжала в объятиях и лежала так при свете дня и во мраке ночи все двое суток пурги, которая укрывала нас нетающим одеялом. А на третий день взошло солнце.
Перевод с польского
Игоря Левшина
Станислав Лем ДВА МОЛОДЫХ ЧЕЛОВЕКА
Белый дом над ущельем казался пустым.
Солнце уже не жгло; грузное, красное, оно висело средь облаков, маленьких золотых пожарищ, остывающих до красноватого накала, а небо от края до края наливалось бледной зеленью такого неземного оттенка, что когда утихал ветер, то казалось — мгновение это перейдет в вечность.
Если бы кто-нибудь стоял в комнате у открытого окна, он видел бы скалы ущелья в их мертвой борьбе с эрозией, которая миллионами бурь и зим терпеливо прощупывает слабые места, способные рассыпаться щебнем, и то романтически, то насмешливо превращает упрямые горные вершины в развалины башен или в искалеченные статуи. Но там никто не стоял; солнце покидало дом, каждую комнату порознь, и словно напоследок заново открывало все, что там находилось: вещи внезапно озарялись и в этом фантастическом отсвете казались предназначенными для целей, о которых никто еще не грезил. Сумрак смягчал резкие грани скал, открывая в них сходство со сфинксами или грифами, превращал бесформенные провалы в глаза, оживленные взглядом, и эта неуловимая спокойная работа с каменными декорациями создавала новые эффекты — хоть эффекты эти и становились все более иллюзорными, ибо сумрак постепенно отнимал цвета у земли, щедро заливая глубины фиолетовой чернью, а небо — светлой зеленью. Весь свет словно возвращался на небеса, и застывшие косогоры облаков отнимали остатки сияния у солнца, перечеркнутого черной линией горизонта. Дом снова становился белым, это была призрачная, зыбкая белизна ночного снега; последний отблеск солнца долго таял на небосклоне. Внутри дома было еще не совсем темно; какой-то фотоэлемент, не вполне уверенный, настала ли пора, включил освещение, но оно нарушило глубокую гармонию вечера и немедленно погасло. Но и за этот миг можно было увидеть, что дом не безлюден. Его обитатель лежал в гамаке, запрокинув голову, на волосах у него была металлическая сеточка, плотно прилегающая к черепу, руки он по-детски прижимал к груди, будто держал в них нечто невидимое и драгоценное; он учащенно дышал, и его глазные яблоки поворачивались под напряженно сомкнутыми веками. От металлического щитка сетки плыли гибкие кабели, подсоединенные к аппарату, который стоял на трехногом столике, тяжелый, словно выкованный из шероховатого серебра. Там медленно вращались четыре барабана, в такт зеленовато мигающему катодному мотыльку, который по мере того, как сгущалась тьма, из бледно-зеленого призрачного мерцания превращался в источник света, четким контуром обводящего лицо человека.
Но человек ничего об этом не знал — он давно уже был в ночи. Микрокристаллики, зафиксированные в ферромагнитных лентах, посылали по свободно свисающим кабелям в глубину его мозга волны импульсов, и импульсы эти рождали образы, воспринимаемые всеми чувствами. Для него не существовало ни темного дома, ни вечера над ущельем; он сидел в прозрачной головке ракеты, мчавшейся меж звездами к звездам, и, со всех сторон охваченный небом, смотрел в галактическую ночь, которая никогда и нигде не кончается. Корабль летел почти со световой скоростью, поэтому многие звезды возникали в кольцах кровавого свечения, и обычно невидимые туманности обозначались мрачным мерцанием. Полет ракеты не нарушал неподвижности небосвода, но менял его цвета: звездное скопление впереди разгоралось все более призрачной голубизной, другое ж, оставшееся за кормой, багровело, а те созвездия, что находились прямо перед кораблем, постепенно исчезали, будто растворялись в черноте; два круга ослепшего беззвездного неба — это была и цель путешествия, видимая лишь в ультрафиолетовых лучах, и Солнечная система, оставшаяся за выхлопами пламени, невидимая теперь и в инфракрасной части спектра.
Человек улыбался, ибо корабль был старый, и поэтому его наполнял шорох механических крыс, которые пробуждаются к жизни лишь в случае необходимости, когда неплотно закрываются вентили, когда индикаторы на щите реактора обнаруживают радиоактивную течь или микроскопическую потерю воздуха. Он сидел неподвижно, утонув в своем кресле, неестественно громадном, словно трон, а бдительные животные сновали по палубам, шаркали в холодных втулках опустевших резервуаров, шуршали в кормовых переходах, где воздух жутко мерцал от вторичного излучения, добирались до темного нейтринного сердца реактора, где живое существо не продержалось бы и секунды. Беззвучные радиосигналы рассылали их по самым дальним закоулкам — там крысы что-то подтягивали, там — уплотняли, и корабль был весь пронизан шелестом их вездесущей беготни, они неустанно семенили по извилинам переходов, держа наготове щупальцы-инструменты.
Человек, по горло погруженный в пенистое пилотское кресло, обмотанный, как мумия, спиралями амортизации, опутанный тончайшей сетью золотых электродов, следящих за каждой каплей крови в его теле, лежал с закрытыми глазами, перед которыми мерцал звездный мрак, и улыбался, потому что полет должен был тянуться еще долго, потому что он чувствовал, напрягая внимание, длинный китообразный корпус корабля, который вырисовывала перед его слухом, будто выцарапывая контуры на черном стекле, беготня электронных созданий. Никак иначе он не мог бы увидеть весь корабль целиком: вокруг не было ничего, кроме неба — черноты, набухшей сгустками инфракрасной и ультрафиолетовой пыли, кроме той предвечной бездны, к которой он стремился.
А в то же самое время другой человек летал — но уже вправду — в нескольких парсеках над плоскостью Галактики. Пространство штурмовало немыми магнитными бурями бронированную оболочку корабля; она уже не была такой гладкой, такой незапятнанно чистой, как давным-давно, когда корабль стартовал, стоя на колонне вспененного огня. Металл, самый прочный и стойкий из всех возможных, медленно таял под бесчисленными атаками пустоты, которая, прилипая к непроницаемым стенкам корабля таким земным, таким реальным, обсасывала его отовсюду, и он испарялся, слой за слоем, незримыми облаками атомов; но броня была толстая, созданная на основе знаний о межзвездном пространстве, о магнетических водопадах, о водоворотах и рифах величайшего из всех океанов океана пустоты.
Корабль молчал. Он словно умер. По многомильным его трубопроводам мчался жидкий металл, но каждый их изгиб, каждая излучина были взращены в теплом нутре земных Вычислителей, были заботливо избраны из сотен тысяч вариантов, проверены неопровержимыми расчетами так, чтобы ни в одном их участке, не в одном стыке не зазвучал опасный резонанс. В силовых камерах извивались узловатые жилы плазмы, этой мякоти звезд; плазма напряженно билась в магнитных оковах и, не касаясь зеркальных поверхностей, которые она мгновенно превратила бы в газ, извергалась огненным столбом за кормой. Эти зеркала пламени, оковы солнечного огня сосредоточивали всю мощь, порожденную материей на грани самоуничтожения, в полосе света, которая вылетала из корабля, словно меч, выхваченный из ножен.
Все эти механизмы для укрощения протуберанцев имели свою земную предысторию, они долго дозревали в пробных полетах и умышленных катастрофах, которым сопутствовало то спокойно одобрительное, то испуганно удивленное мерцание катодных осциллографов, а большая цифровая машина, вынужденная разыгрывать эти астронавтические трагедии, оставалась неподвижной, и лишь тепло ее стен, ласково греющее руки, как кафельная печь, говорило дежурному программисту о мгновенных шквалах тока, соответствующих векам космонавтики
Огненные внутренности корабля работали бесшумно. Тишина на борту ничем не отличалась от галактической тишины. Бронированные окна были наглухо закрыты, чтобы в них не заглянула ни одна из звезд, багровеющих за кормой или голубеющих впереди. Корабль мчался почти так же быстро, как свет, и тихо, как тень, будто он вообще не двигался, а вся Галактика покидала его, уходя в глубину спиральными извивами своих рукавов, пронизанных звездной пылью.
От индикаторов оболочки, от толстых латунных крышек счетчиков, от измерительных камер тянулись тысячи серебряных и медных волокон, сплетались под килем, как в позвоночнике, и плотные узлы, по которым ритмы, фазы, утечки, перенапряжения, превращаясь в потоки сигналов, мчались к передней части корабля, на доли секунды задерживаясь в каждом из встречных реле.
То, что в огнеупорном нутре кормы было звездой, распластанной под давлением невидимых полей, в блоках информационного кристалла становилось сложным танцем атомов, молниеносными па балета, который разыгрывался в пространстве величиной с мельчайшую пылинку. Впаянные в наружную броню глаза фотоэлементов искали ведущие звезды, а вогнутые глазницы радаров следили за метеорами. Внутри балок и шпангоутов, распирающих закругленные стены, несли бессменную вахту вдавленные в металл гладкие кристаллы — каждое растяжение, каждый поворот и нажим они превращали в ток, словно в электронный стон, которым они точно и немедленно докладывали о том, какое напряжение испытывает громада корабля и сколько она еще может выдержать. А золотые мурашки электронов днем и ночью неутомимо обрисовывали своим танцем контуры корабля. Внутри корабля всевидящий электронный взгляд наблюдал за трубопроводами, перегородками, насосами, и их отражения становились пульсацией ионных облачков в полупроводниках. Так, со всех сторон корабля знаки беззвучного языка стекались к рулевой рубке. Там, под полом, защищенным восемью слоями изоляции, они достигали своей цели, впадая в нутро главной цифровой машины — темного кубического мозга.
Мерно вращались круговороты ртутной памяти, холостой пульсацией тока свидетельствовали о своей неустанной готовности контуры противометеоритной защиты, соседние цифровые центры, действуя в предельной точности абсолютного нуля, следили за каждым вздохом человека, за каждым ударом его сердца. А в самом сердце механизма притаились, выжидая, программы для маневра, для наведения на цель, программы для аварий и для величайшей опасности, вместе с теми, которые давным-давно были пущены в ход лишь на время старта, а теперь ждали годы, пока придет пора проснуться и начать действовать, уже в обратном порядке — во время приземления Все эти сложные, неутомимо бодрствующие устройства можно было растереть между пальцами, словно пыльцу бабочки, и все же судьба человека и корабля решалась тут, среди атомов Черный электронный мозг был холоден и глух, как глыба хрусталя, но малейшая неясность, задержка поступающих сигналов вызывали ураган вопросов, которые мчались в самые дальние закоулки корабля, а оттуда длинными сериями вылетали ответы. Информация сгущалась, кристаллизовалась, наполнялась смыслом и значимостью, в пустоте, среди зеленоватых щитов секундомеров стремительно возникали красные или желтые буквы сообщений…
Но человек, лежащий в пилотском кресле, не читал этих сообщений. Он сейчас ничего не знал о них. Пестрая мозаика букв, которые заботливо сообщали ему о происшествиях в космическом полете, бесплодно озаряла разноцветными вспышками его спокойное лицо. Он не торопился читать ежедневную сводку — у него в запасе были долгие годы. Его губы чуть шевелились от медленного спокойного дыхания, будто он собирался улыбнуться. Голова его удобно опиралась на спинку кресла, металлическая сетка, прижатая к волосам, прикрывала часть лба, гибкий кабель соединял ее с плоским аппаратом, будто высеченным из глыбы шероховатого серебра. Он не знал в этот миг, что летит к звездам, не помнил об этом. Он сидел на краю высокого обрыва, его поношенные парусиновые брюки были перепачканы каменной пылью, он чувствовал, как прядь волос, взлохмаченных ветром, щекочет ему висок, и смотрел на большое ущелье под знойным небом, на далекие крохотные дубы, на холодную пропасть, залитую воздухом, голубоватым и зыбким как вода, на очертания каменных чудищ, уходящих вдаль, к горизонту, где многоэтажные глыбы казались песчинками. Он чувствовал, как солнечные лучи жгут непокрытую голову, как треплет ветер его рубашку из плотного полотна, он лениво двигал ногой в подкованном башмаке по той черте, где скала, внезапно изламываясь, смертельным скачком слетала на километры вниз. Излучина ущелья против того места, где он сидел, была залита тенью, из которой выступали самые высокие вершины, похожие на легендарных грифов или древних идолов. И он, так прочно прикованный к Земле, глядя на громадную трещину ее старой коры, улыбнулся, чувствуя, как быстро пульсирует в нем кровь.
Перевод с польского
Ариадны Громовой
Ежи Валлих ЭКСПЕРИМЕНТ
16 апреля
Когда я проснулся, в комнате было темно Однако в доме напротив горел свет — штора была похожа на светящуюся шахматную доску, — и поскольку число светлых клеток на ней увеличивалось, я понял, что близится утро.
Стоило пошевелиться, и тотчас — острая боль. Все-таки я дотянулся до кнопки, и квартира наполнилась музыкой. Легче мне от этого не стало — боль не ушла.
Я взял с ночного столика конверт с письмом, пришедшим неделю назад. Я знал его наизусть:
«Комиссия на заседании, состоявшемся в Вене. с сожалением сообщает Вам, что в связи с большим количеством кандидатов не имеет возможности в текущем году предоставить вам место в устройстве XR-65. Вопрос будет повторно рассмотрен в начале 1991 года»
«Повторно в начале 1991 года.» Я никогда особенно не доверял врачам, не доверяю и теперь. Но против фактов, которые сам проверил, не попрешь Я своими руками проделал все необходимые анализы, сам составил программу для машины. Задавал ей одни и те же вопросы, вводя вероятность 10 %… 1 %… 0,1 %… Результат был, увы, всегда один. Меньшую вероятность вводить не имело смысла.
Итак, никаких иллюзий. Я даже вычислил дату собственной смерти: между 10 и 15 мая Меньше чем через месяц.
С трудом добравшись до кабинета, сел за письменный стол, заваленный графиками, рисунками, микрофото — быть может, сейчас в последние дни или часы, мне все-таки удастся сделать нечто.
Такое, что повернет непреложный ход событий.
27 апреля
Из невеселых размышлений после очередной бессонной ночи меня вырвал резкий звонок: вызывала Филадельфия.
В голове мелькнуло: Ричард! Он умер месяц назад. И вот, после целого месяца молчания, меня снова вызывает Филадельфия!
Я услышал знакомый голос. Ричард извинялся, что так долго не давал о себе знать. Но он не терял времени и уже ходатайствовал за меня перед Венской комиссией. Пока, правда, безуспешно, однако он считает, что еще не все потеряно.
Ясно, что Ричард меня обманывает: просто ему не хочется отнимать у меня надежду — единственное, что мне осталось на эти последние две недели.
…Покончить с собой? Дурацкий патетический жест — самоубийство перед смертью. Впрочем, мне непременно нужно что-то совершить. А в этом есть элемент бунта. Правда, бунта, лишенного смысла. Но когда от смерти уже нечем заслониться, ничего другого не остается.
Я долго сидел и думал про все это. Стемнело, но я не зажигал света. И вдруг — верно, уже посреди ночи — услышал, как под окнами затормозил автомобиль. На лестнице раздались шаги, и кто-то нетерпеливо забарабанил в дверь.
Я взял палку и заковылял в переднюю. Это была Кристина, моя ассистентка. Она схватила меня за руку и закричала:
— Чудо! Свершилось чудо! Идем быстрее! Сам увидишь!
Я не стал ничего спрашивать и повернулся к своей инвалидной коляске, но Кристина подхватила меня и чуть ли не на своих плечах поволокла вниз к машине.
Я понимал, что сейчас она ничего не расскажет. Путь мы провели в молчании. Я даже забыл про боль. Машина остановилась перед нашей лабораторией, освещенной, несмотря на поздний час. Кристина помогла мне войти в здание.
Столы, как обычно, были заставлены колбами с культурами тканей, на которых мы выращивали вирусы. Препарат, обработанный нейтронами при частоте электромагнитного поля 12866 мегагерц, был уже в электронном микроскопе.
Я заглянул в окуляр.
И увидел то, о чем мечтал столько лет!
У каждого из вирусных телец, четко различимых на зеленоватом фоне, были одни и те же точно нанесенные нейтронами повреждения!
Кристина металась по лаборатории, хлопала в ладоши и что-то кричала.
Я не мог оторваться от микроскопа.
Нет! Не все потеряно!..
28 апреля
С утра моя комната была наполнена звоном. На распределительном щите видеофона непрерывно зажигались и гасли контрольные лампочки. Я не мог ни на минуту выключить аппарат — меня вызывали из разных городов, допытывались о подробностях, требовали новые данные.
Около одиннадцати позвонила Филадельфия. Ричард поздравлял с успехом. Радость в его голосе была неподдельной: теперь можно не сомневаться в положительном решении Комиссии! Внеочередное заседание для пересмотра моего заявления назначено на завтра!
Я просидел перед стереовизором до глубокой ночи, переключаясь с одного канала на другой. Меня интересовали только последние известия. В каждом выпуске на экране рано или поздно появлялось сконструированное мною устройство и магическая цифра «12866» — частота электромагнитного поля, при которой поток нейтронов, действуя избирательно, уничтожает опаснейшие из известных человечеству вирусов.
29 апреля
Сегодня вечером мне сообщили по видеофону из Вены: Комиссия решила вопрос положительно! Первого мая я должен быть в Париже, в клинике профессора Тибо!
30 апреля
Утром явились с визитом ректор университета и мэр города. Они познакомили меня с общим сценарием моих похорон, которые решено провести с подобающей торжественностью. Назначен день — 6 мая. Гроб будет выставлен в актовом зале университета. По окончании церемонии в Оперном театре состоится траурный концерт.
…Вечером я улетал в Париж. По городу проехали в открытом автомобиле; народу на улицах было немного, но на аэродроме меня ждала толпа. Интерес этих людей понятен: в таком облике они лицезреют меня в последний раз.
Когда я поднимался по трапу, меня подмывало крикнуть: «До встречи на похоронах!», но я вовремя прикусил язык.
1 мая
Я в Париже. Сижу в большой светлой комнате. Клиника находится невдалеке от Люксембургского сада — через окно проникает запах цветущих деревьев.
Меня приглашают к Тибо. Седой красивый человек примерно моего возраста. Я его восьмой пациент, поэтому он охотно рассказывает мне обо всех деталях предстоящей операции.
…Меня кладут на носилки и везут в знаменитую операционную № 15. За ее стеклянными стенами толпа студентов — они будут видеть весь ход операции. Вспыхивают прожекторы стереовидения. Профессор еще во фраке. Он спрашивает, какое музыкальное произведение мне хотелось бы услышать напоследок.
Выбираю скрипичный концерт Венявского. Музыка. Тибо протягивает бокал шампанского. Выпиваю залпом. Я не увижу, как профессор облачится в белоснежный халат, — я уже сейчас ничего не вижу.
Началось.
5 мая
Я проснулся в полной темноте. Впрочем, верно ли это сказано? И сказано ли? Я же не могу говорить! И «просыпаться» тоже не могу: ведь пробуждение — это момент, когда человек покидает мир сна и до сознания доходят звуки реального мира. А мой мозг, просто стал снова функционировать после вынужденного бездействия, из которого его вывели импульсом, имитирующим внешний раздражитель.
Итак, я начал мыслить. А скорее, стал сознавать, что мыслю. Начал вспоминать все, что было, и сразу поймал себя на утешительном силлогизме:
— Я существую, поскольку я знаю, что существую.
Первым делом я внушил себе: свершилось то, что я многократно пытался представить в воображении, — операция прошла удачно! Мой мозг находится в том неслыханно дорогом устройстве, обеспечивающем его жизнедеятельность, право на которое было мне предоставлено решением Венской комиссии. Мои мозг живет! В эту минуту каждая моя мысль регистрируется на пленке и изучается группой экспертов, возглавляемых самим Тибо. Если результат исследований окажется положительным, тотчас будет подключено зрение.
…Я ощутил — не увидел, а именно ощутил — вспышку, после нее стало как будто еще темнее. Но это была не та темнота, которая только что окружала меня. Та темнота была пустая, а эта чем-то наполнена; теперь я чувствую, я уверен, за ней — беспредельность!
…Начало сереть, проясняться, из темноты постепенно выступили предметы. Я был в приемной Тибо. Сделалось совсем светло, и я увидел стоящих передо мной людей. Среди них был и профессор.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он. Слова Тибо появились на экране, установленном так, чтоб я мог его видеть.
Разумеется, я не ответил, но на другом экране замелькала мешанина слов, фраз, образов. Их было гораздо больше, чем могло осесть в моем сознании. Я с любопытством следил за этим бегом собственных мыслей. В конце концов мне удалось укротить их и составить фразу:
«Спасибо, я чувствую себя хорошо».
Однако на экране, на заднем плане, все-таки продолжали прыгать мысли, которыми я вовсе не собирался ни с кем делиться. Дурацкое занятие — мыслить на экране! Несмотря на радость бытия, я почувствовал острое желание как можно быстрее с этим покончить.
Профессор улыбнулся и сказал:
— Хорошо, заканчиваем. Сейчас мы смонтируем вам слух и голос, а зрение временно отключим.
Течение мыслей замедлилось, мне захотелось спать, и я заснул, не успев даже сообразить, что меня усыпили нарочно — на время подключения дополнительных устройств.
…Опять нечто вроде вспышки, и я снова мыслю, снова начинаю видеть. Мало того, я слышу! Слышу музыку — тот самый концерт Венявского, под звуки которого профессор Тибо приступил к операции.
В комнате уже совсем светло. Явственно слышен стук в дверь. И прежде чем я успел что-либо подумать, раздался мой собственный голос:
— Войдите.
В комнату вошел профессор Тибо.
— Добрый день. Как дела?
— Лучше быть не может, — ответил я. — А вы мною довольны?
— Весьма. Все прошло без осложнений.
— Какое сегодня число? — спросил я.
— Пятое мая.
— Выходит, — сказал я, подумав, — завтра мои похороны.
— Совершенно верно. Хотите принять в них участие лично или посмотрите по стереовизору?
— Что значит «лично»?
— Мы пошлем туда сотрудника клиники, который будет выполнять все ваши распоряжения. Он захватит с собой искусственные органы зрения и слуха, вроде ваших нынешних. Сигналы по радиотелеметрии будут передаваться в клинику, и у вас создастся полное впечатление, что вы там присутствуете…
— А вы можете гарантировать сохранение тайны? — спросил я, подумав минуту.
— Безусловно. Я понимаю, вы хотите побывать там инкогнито. Как, впрочем, и все ваши предшественники. Не знаю, почему всем нам так хочется побывать на собственных похоронах…
Мне захотелось улыбнуться в ответ — но ничего не произошло, просто несколько секунд стояла тишина. «Ага, — подумал я, — улыбаться я не могу. Такая форма участия в беседе мне недоступна».
— У меня есть еще одна просьба, — сказал я профессору. — Мне бы хотелось себя увидеть…
— Пожалуйста, это обычная просьба. У нас для этого есть специальная система.
Профессор нажал кнопку, на стенах появились зеркала, и я увидел себя, вернее, устройства, заменившие мне органы чувств и связавшие меня с миром: три небольших ящичка на столике, снабженные контрольной аппаратурой и набором регуляторов. В одном из ящичков за стеклянным экраном были… глаза. Настоящие человеческие глаза, укрепленные на шарнирах — так, чтобы угол зрения был достаточно велик. Они почему-то показались мне особенно родными, чуть ли не частицей меня самого, хотя это были вовсе не мои глаза. Я всегда был близорук, а они отлично обходились без очков. Кроме того, раньше у меня глаза были карие, а эти оказались черными.
— Спасибо. А теперь…
— …Теперь вам бы хотелось увидеть, как все устроено, — подсказал Тибо. — Ничего нет проще. Взгляните на экран.
На экране появилось изображение довольно большой комнаты, заполненной множеством незнакомых приборов и паутиной проводов. Все провода сходились в каком-то центре — в точке, которую я не видел. Потому что в этой точке был собственно я! Мой мозг, хранимый при постоянной температуре, получающий питание по тысячам линий и проводов…
Мне стало не по себе: где же все-таки я сам? В той ли комнате, где стоят три магических ящичка и мы беседуем с профессором, или там, среди этого сложнейшего оборудования? В конце концов я решил, что логичнее всего считать, что я там, где глаза…
6 мая
Ровно в девять меня подсоединили к Мишелю, сотруднику клиники Тибо, который, взяв с собой датчики, в это время ехал на машине в университет. Тотчас я очутился в моем городе. День был пасмурный, шел мелкий дождик, прохожие прятались под зонтами.
Я попросил Мишеля зайти в актовый зал, пока народ еще не собрался. Мы поспели вовремя — зал был почти пуст. Мишель подошел к возвышению, на котором стоял гроб с прозрачной крышкой. Еще издали я отчетливо увидел себя — того, к какому издавна привык. Свет падал на лицо так, что мне нельзя было дать моих пятидесяти пяти лет. Я себе понравился.
Актовый зал постепенно заполнялся людьми. В 9.30 там яблоку негде было упасть. Началась панихида. Рассеянно слушая ораторов, я с нетерпением ждал собственного выступления — оно было заблаговременно записано на пленку. Моя речь прозвучала совсем неплохо: я увидел это по лицам собравшихся. Кстати, на разбросанные там и сям колкости, кажется, никто не обратил внимания.
Когда я отправился проводить себя на кладбище, погода сделалась еще омерзительней, чем утром. Пошел проливной дождь. И я с любопытством наблюдал, как толпа постепенно редеет. Даже самые близкие мне люди украдкой отделялись от процессии. Мне стало жаль Мишеля, у которого не было с собой зонта, и я отпустил его, попросил переключить меня на клинику.
Итак, похороны позади. Пора подумать о будущем. Это прекрасно — сознавать, что время теперь практически никак тебя не ограничивает…
Спустя пять лет.
27 апреля
Сегодняшнюю лекцию читал из рук вон плохо.
Я это понял по реакции слушателей. Обычно они внимательно следят за моими глазами, установленными на кафедре. Теперь же никто на меня не смотрел: похоже, студенты, как и я, мыслями были где-то далеко.
— Сегодня занятия будут окончены на два часа раньше, — вывернулся я из положения. Слушатели тотчас оживились, а я быстренько переключился на аппаратуру в моей квартире.
Через час сюда должна была прийти Анна!
Я хотел подготовиться к ее приходу. Однако я сообразил, что понятие «подготовиться» сейчас лишено всякого смысла. Что я мог сделать? Четыре ящичка, обеспечивающих мне связь с окружающим миром — мое зрение, голос, слух и с недавних пор добавленное обоняние, — всегда работали одинаково четко.
К счастью, я мог волноваться, ежеминутно поглядывать на часы, думать, представлять себе, как она первый раз войдет в дом, и прислушиваться к шуму проезжающих автомобилей.
Ровно в пять я услышал, как у подъезда остановилась машина. Стук дверцы, шаги на лестнице и в дверях — Анна.
В руках у нее была охапка сирени (сразу запахло). Я смотрел на Анну и молчал. Она подошла к письменному столу, на котором я был расставлен. Поцеловала цветы и положила их передо мной.
— Спасибо. И еще спасибо за то, что ты так красиво одета.
Анна покраснела. Я, должно быть, тоже (только этого никто не мог бы понять).
— Пора браться за работу. Что я должна приготовить? Передник у тебя, надеюсь, найдется?
— Все, что нужно к ужину, на кухне, — ответил я — А передник… Передника, боюсь, у меня нет.
Она вышла. Я проводил ее взглядом.
Мы знакомы два года. Она была моей студенткой и часто принимала участие в дискуссиях, которые я устраивал. Мы подружились.
Сегодня пятая годовщина открытия, которое дало мне право «дожить» до этого дня. Я устраиваю прием. Приглашены друзья, в том числе кое-кто из моих студентов. Анна согласилась быть хозяйкой. Итак, прием мы даем вместе!
Я услышал первый звонок. Начали собираться гости. Анна исполняла свою роль идеально. Все наперебой расхваливали приготовленные ею тартинки. Глядя, как гости их уплетают, я сам почувствовал нечто вроде голода. Увы!..
Когда в комнату вкатили бар на колесиках и атмосфера стала совсем непринужденной, я показал гостям свой последний фильм, снятый в экспедиции. Недавно я три месяца провел в Бразилии. Мы забрались в последний неизведанный уголок сельвы. И, как оказалось, не зря. Мы нашли развалины необычного здания в стиле эпохи инков, однако со множеством своеобразных деталей. Похоже, удалось сделать любопытнейшее археологическое открытие!.. Фильм получился захватывающий. Экспедиция и вправду оказалась опасной. В пути было немало приключений и некоторые из них даже закончились трагически.
Мелькали кадры. Я рассказывал. Гости слушали, затаив дыхание. Я чувствовал, что мне завидуют. Они явно не понимали того, что я ощущал совершенно отчетливо. Эта экспедиция, напряженная, полная опасностей, была незабываемым испытанием для людей, которые несли мои глаза, мой голос, слух, наконец, мое обоняние. А для меня самого все это было чем-то вроде слишком длинного и даже скучноватого киносеанса! Я ведь не мог погибнуть в этой экспедиции. А ящички? Их несколько комплектов. Один — в университете, где я читаю лекции, другой — в кабинете у меня дома, третий — на балконе в искусственном саду, чтобы я мог вечерами слушать звуки улицы. И наконец, четвертый — в примыкающей к моей квартире лаборатории, где в искусственном климате под постоянной опекой тренированного персонала в полной безопасности живет мой мозг. Так что в моем рассказе вкус риска был лишь для пущей яркости. И еще…
Время от времени я поглядывал на Анну. Она не отрывалась от экрана. Мне хотелось, чтобы я привиделся ей в ком-то из тех, кто нес меня в сельве, одним из этих сильных, отчаянно смелых людей. Кажется, это мне удалось. Анна вдруг посмотрела на меня как… как на человека.
Мы изрядно выпили. То есть пили гости, однако их приподнятое настроение передалось и мне.
Кто-то предложил потанцевать. Мог ли я что-либо возразить?
Танцевали перед столом, на котором был я. Пары мельтешили перед глазами и мешали мне видеть Анну. Но иногда я все-таки ловил ее взгляд, и мне чудилось, что это ее смущало. Почему? Неужели мои глаза — единственное, что было во мне от живого человека, — начинали меня выдавать?
Кто-то из гостей подошел к Анне и пригласил танцевать. Его спина совсем заслонила ее от меня. Сейчас я увижу их в двух шагах, прямо перед собой. Но я по-прежнему видел только эту спину. Может быть, Анна отказывалась, а он настаивал? Потом спина исчезла. Значит, Анна решительно отказалась. Спасибо, Анна!
Гости разошлись после полуночи. Анна ушла последней. Прощаясь, она спросила:
— Можно я приду завтра и помогу привести квартиру в порядок?
9 мая
Анна приходит часто. Садится в кресло рядом со мной. Я отчетливо вижу каждую ее черточку, чувствую ее запах, заучиваю ее наизусть, чтобы потом, когда она уйдет, сочинить мир, которого никогда не было и не будет.
Мы разговариваем часами и, случается, забываем о разделяющей нас стене. Но тем острее — просто физически остро — я вдруг чувствую, как натыкаюсь на преграду. Я не знаю, как ее определить. Может, это просто стенки моих ящичков?
12 мая
Сегодня день рождения Анны. Ей исполнилось двадцать два года. Я просил приятеля взять меня и пройти по нескольким большим магазинам. Он удивился… Я выбрал нитку жемчуга, кое-какие мелочи, а главное — светло-зеленое платье. У Анны золотистая кожа, длинные черные волосы. Мне подумалось, что платье будет ей к лицу.
Вечер. Слушаем музыку. Прошу Анну открыть шампанское. Один бокал она символически выплескивает, другой выпивает — за здоровье именинницы. Прошу ее развернуть пакет. Подарки ей нравятся, она хлопает в ладоши. Шампанского много. У Анны в глазах огоньки.
— Прошу ее примерить платье. Анна машинально расстегнула пуговицу на блузке, но покраснела и с платьем в руках бросилась к двери. И тогда я услышал свой голос.
Не знаю, как это получилось, но я вдруг явственно услышал собственные слова:
— Останься, Анна… Прошу…
Стало тихо. Я испугался.
Анна начинает раздеваться.
И тут же убегает. Я слышу, как она плачет в соседней комнате.
Прошу ее вернуться.
Она возвращается. В новом светло-зеленом платье. С жемчугом на шее. Она заплакана — и все это ей к лицу.
Я говорю:
— Прости…
Анна на меня не смотрит. Я не знаю, о чем она думает. Я говорю:
— Анна, я не понимаю, что со мной случилось. Прости, это не повторится.
Она не отвечает.
Через силу я говорю:
— Это никогда не повторится, клянусь. Просто мы не должны больше видеться…
Анна поднимает голову, смотрит на меня и говорит:
— Не хочу. Мы будем видеться. Я буду приходить к тебе каждый день, я всегда буду с тобой.
Я в западне.
16 мая
Я сказал Анне, что уезжаю. Она посмотрела на меня с испугом.
— Не бойся! Я не натворю глупостей. Даже если захочу… Ведь меня так хорошо стерегут!.. Я уезжаю, чтобы кое в чем разобраться. Ты знаешь, я уже однажды был в безвыходном положении. И тогда случилось чудо. Может быть, я счастливчик, Анна? И чудо случится второй раз?…
Я поехал в Филадельфию.
19 мая
Второй день я у Ричарда. О чем только мы не успели поговорить, прежде чем я решился рассказат ему про Анну! Ричард слушал, не перебивая. Он сконструирован несколько иначе, чем я — его глаза помещены в центре системы увеличивающих зеркал и из-за этого кажутся огромными. Наблюдая за ними, можно улавливать любые оттенки его настроений — это скорее лицо, нежели глаза. Но на сей раз глаза Ричарда стали непроницаемы. Лишь временами мне чудилась в них снисходительная усмешка. Это меня злило, и я поспешил закруглиться:
— История с Анной для меня не пустяк. Это не погрешность удачного эксперимента. Это то, что может эксперимент зачеркнуть вовсе. Дошло до того, что мне опротивело существование в виде ящичков. И если выхода нет, то…
— То что? — перебил Ричард. — Пустишь пулю в лоб, как в старые добрые времена?
Я молчал. Ричард участливо посмотрел на меня:
— Сейчас я покажу тебе один фильм, — сказал он.
Он включил проектор, и на экране заискрился белый снег. Зима, горы, солнце Смуглая девушка-мексиканка с большими смеющимися глазами и высокий светловолосый скандинав, отличный лыжник. В кадре — то он, то она. Видимо, поочередно снимали друг друга. Потом вечер в горной хижине. Красноватые отблески поленьев, горящих в камине.
Экран погас. Я посмотрел на Ричарда. У него был отсутствующий взгляд. Я понял, что он сейчас далеко, где-то за темным экраном. Будто фильм для него еще не кончился.
Потом он спросил:
— Понравилась тебе Маргарита? Девушка из фильма.
— Очень. Но что с того? Ты хотел мне напомнить, как выглядят вещи, для нас с тобой недоступные?
— Недоступные? Ты уверен? — спросил Ричард — Этот фильм мы с Маргаритой снимали месяц назад, когда катались на лыжах в Колорадо Спрингс.
— Вы снимали? Ты катался? — я был совершенно сбит с толку.
— Ты, конечно, не веришь, — сказал Ричард — Погоди минутку, сейчас поймешь.
Его глаза вдруг застыли и потускнели. Приборы, из которых состоял Ричард, умерли — в них погасли все контрольные лампочки. Наступила тишина. Но спустя минуту я услышал шаги. Отчетливый звук шагов в соседней комнате. И, наконец, стук в дверь.
— Войдите, — сказал я.
Дверь распахнулась. На пороге стоял светловолосый скандинав из фильма. Он посмотрел на меня торжествующе и сказал голосом, очень похожим на голос Ричарда:
— Ты все еще не веришь, что это я был с Маргаритой в Колорадо Спрингс?
— Ты? То есть кто? Как… как тебе удалось?
— Очень просто. Прошлое начало меня мучить гораздо раньше, чем тебя. И раньше, чем ты, я стал прикидывать, как бы разделаться со своей драгоценной, бережно охраняемой головой И тут как раз появился Олаф — молодой человек, которого ты видишь перед собой, студент-медик из Осло. Он предложил мне сделку. Ему была позарез нужна довольно большая, недостижимая для него сумма денег. И он заявил, что сдаст себя напрокат. Скажем, на два года. Олаф уже кое-что смыслил в нейрофизиологии его проект не был абсурдным. Мы все вместе проанализировали, и я убедился, что проект вполне осуществим. Мы заключили контракт Мои сотрудники сконструировали информационные системы, при посредстве которых Олаф вместо приказаний, исходящих из собственного мозга, должен принимать мои. Операция не грозила никакими последствиями и в самом деле прошла гладко. С тех пор он — я. Только я. На два года. Его мозг отдыхает, не воспринимая никаких раздражителей. Я приобрел два года нормальной жизни, а он за это время проживет лишь несколько минут, необходимых, чтобы утратить сознание и потом вновь его обрести.
Говоря это, Ричард безостановочно расхаживал по комнате. Я с завистью следил за его движениями, за пружинистым шагом. Жадно смотрел, как он закуривает сигарету… Верно, он заметил эту зависть в моем взгляде. Сел в кресло, посмотрел на безжизненную аппаратуру, стоящую на письменном столе. Мне показалось, что посмотрел с симпатией.
— Ровно год, как мы заключили контракт, это был прекрасный год, — сказал Ричард. Работал я, признаться, немного… Болтался по свету. Набирался впечатлений Ухаживал за девушками… Но знаешь, я устал от этого. Даже очень устал, и с наслаждением думаю о времени, когда снова возьмусь за работу. Так что, — он глянул мне прямо в глаза, — так что, если хочешь, забирай его себе на оставшийся год. Он тебе очень нужен — возьми его!
25 мая
На дорогу из Филадельфии ушло шесть часов. Уже смеркалось, когда я очутился перед своим домом. И только тут я спохватился, что мне нечем открыть дверь. Правда, я мог переключиться на устройство, оставшееся в квартире, и при помощи фотоэлемента отпереть дверь изнутри, но я боялся за себя. Боялся бросить на улице свою не способную мыслить оболочку, и долго стоял, не зная, как поступить.
Наконец, когда улица на минуту опустела, я взобрался по водосточной трубе на балкон. Выбил одно из окон, аккуратно извлек из рамы осколки стекла и залез в квартиру.
Итак, я был у себя. Я носился по комнатам, воспринимая все иначе — с другой точки зрения. Ощупывал руками каждую пустячную вещицу. Долго рассматривал себя в зеркале. Потом подошел к письменному столу — на нем стояла фотография Анны. Я закрыл глаза и представил ее себе. Что будет? Я должен подготовиться к первой встрече. Нам будет очень трудно. Как сделать, чтобы Анна сразу поверила в то, что это — я?!
Моей хваленой логики как не бывало. Я шагал по комнате и ничего не мог придумать.
Вдруг меня осенило. Я кинулся на кухню. В баре, к счастью, кое что осталось Я налил рюмку коньяку, сварил крепкий кофе и, включив музыку, уселся за письменный стол.
Теперь что-то стало проясняться. После второй рюмки я почувствовал себя еще лучше. План начал вырисовываться в деталях, как киносценарий.
«Наверное, это будет выглядеть так…»
Шорох шин под окнами. Автомобиль остановился. Я выбежал на балкон и спрятался за плетями искусственного плюща.
Белая открытая машина у подъезда. Черные волосы, светло зеленое платье, поднятые кверху испуганные глаза… У меня во всех окнах горел свет, гремела музыка Анна поняла, что внутри кто-то есть, — верно, заметила выбитое стекло в одном из окон. Быстро выскочила из машины. Она была растерянна и, казалось, вот-вот заплачет.
А я оцепенел. Я не знал, что делать И вдруг крикнул:
— Анна!
Она посмотрела на балкон и ничего не увидела Ведь я был в тени. Тогда я заорал:
— Это я, Анна, я вернулся. Иди сюда!
Анна вбежала в подъезд. Я бросился ей навстречу. Мы встретились на лестнице. И долго молча смотрели друг на друга. Беспомощные, словно дети. Какой там сценарий!.
А потом мы целовались, как все люди на свете, и я что-то путанно бормотал, да не до слов нам было…
Год спустя.
25 мая
Я снова у себя в кабинете, в четырех ящичках. В открытую дверь я вижу Анну.
— Скоро пять. Через час начнут собираться гости. Ты готова?
— Конечно. И стол накрыт. Хочешь, я перенесу тебя в гостиную? Увидишь, как все великолепно выглядит…
И в самом деле все выглядело великолепно: столы, составленные подковой, цветы, стекло. С моего почетного места рядом с Анной комната, как на ладони.
Первый звонок в дверь…
— Дорогие друзья! У нас было два повода, чтобы пригласить вас сегодня. Во-первых, прошел ровно год после моего отъезда в Филадельфию. Год, в течение которого мы с вами не виделись: я писал книгу, взяв в университете отпуск, немного поездил по свету.
Но есть и второй повод — это наша свадьба. Мы поженились год назад. Просто раньше мы не могли вас пригласить.
Что ж вы молчите? Я не слышу аплодисментов… Может, вы думаете, я сошел с ума? Стыдитесь! Уж вам следовало бы знать, что мозг, помещенный в знаменитый аппарат профессора Тибо, неспособен сойти с ума. Но мне понятно ваше молчание. И я на вас не в обиде.
Вы — мои друзья. Я знаю, что вы все поймете правильно. Сегодня завершается мой второй эксперимент. Я прошу отнестись к нему столь же серьезно, как и к предыдущему.
Дорогие мои, веселитесь. И простите, — мы вас покинем. То есть Анна выйдет из комнаты, а в этих четырех ящичках погаснут огоньки. Это ведь наша свадьба, и мы имеем право побыть наедине. Мы утащим с собой бутылку шампанского — когда вы услышите, как хлопнет пробка, пусть это будет для вас сигналом выпить за молодых!
— Я редко здесь бывал, Анна. Тут холодно и неприятно. И еще шум этой чертовой климатической установки. Никто из прислуги тебя ни о чем не спрашивал?
— Нет. Я просто пригласила их присоединиться к гостям. Сказала, что мы хотим на минутку исчезнуть. Они только с удивлением посмотрели на эту бутылку.
— Слава богу, что им не пришло в голову попросить из нее стаканчик. Вкус, у нитроглицерина, кажется, паршивый… Кстати, я говорил не слишком патетически?
— Не слишком. Пожалуй, как нужно. Пусть именно это и останется у них в памяти.
— Бутылку поставь поближе к пучку красных проводов. Только осторожней, не задень сигнализацию… Теперь бикфордов шнур. Сложи его на всякий случай вдвое… Анна, ты…
— Ты хочешь спросить, не передумала ли я? Вот что: когда я была маленькой, мама учила меня, что все хорошее в жизни должно кончаться в самый прекрасный момент. Поэтому я всегда уходила домой в самый разгар вечеринки…
— Почему ты замолчала, Анна?
— Я смотрю на шнур. Он догорает.
Перевод с польского
К. Старосельской
Рышард Савва ПОЛЕТ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
Стоял чудесный, весенний солнечный день, и, как всегда, Центр космических исследований при обсерватории в Вынеяке постепенно заполнялся сотрудниками.
Джонсон и Холлидз работали у профессора Кильсея. Когда он опубликовал свой новый метод поиска контактов с другими цивилизациями, появилось много желающих сотрудничать с ним. Однако профессор так сработался со своими старыми помощниками, что не проявлял особого желания менять персонал.
В этот день по приходе на службу молодые ученые обратились к профессору.
— Господин профессор, у нас созрела одна идея. Мы хотели бы вам ее изложить… — неуверенно начал Джонсон.
— Слушаю, Бобби! — В обращении профессора со своими молодыми коллегами было что-то отцовское.
— Мы согласны, господин профессор, с тем, что ваша методика оптимальна. Однако, находясь на краю Галактики, мы имеем очень мало шансов на быстрое установление контактов с другими цивилизациями. Нам кажется, что сигналы, которые мы посылаем в космическое пространство, подвергаются слишком сильным отклонениям и деформации.
Профессор улыбнулся.
— Ну, хорошо, дорогой мой. А что же предлагаете вы?
— Мы с Холлидзом пришли к твердому убеждению, — оживился Джонсон, — что через полгода после посылки настоящих сигналов возможно бы испробовать что-нибудь другое.
Добродушное лицо профессора Кильсея выразило явную заинтересованность.
— Мы предлагаем, опираясь на третью логику Вейманна, посылать в космос постоянные сигналы через каждые две минуты, чередуя их с группой хаотически измененных сигналов, — уточнил Холлидз. — Мы разработали специальную систему со спектром, минимально реагирующим на космические помехи. И просим вашего согласия, господин профессор, на эксперимент.
Кильсей задумался.
— Собственно говоря, — медленно проговорил он после паузы, — в данный момент я не имею каких-либо возражений против вашего эксперимента. Можете готовить магнитные ленты для радиопередатчика. Прошу вас только об одном: чтобы наши старые сигналы по-прежнему посылались в космос с интервалом через несколько часов.
Джонсон и Холлидз сорвались со своих мест.
— Хорошо, господин профессор, через три дня мы начнем посылать в космос новые сигналы.
На ясном ночном небе забрезжил рассвет, красная заря заметно приглушила на небосводе блеск миллиардов звезд. Рубиновый диск предутреннего солнца медленно поднимался над горизонтом.
«Там, в центре Галактики, ночь не бывает такой прекрасной и темной, как на ее окраине», — подумал Альф, наблюдая восход на родной планете. Он еще раз посмотрел на молодое женское лицо, высеченное из серого мрамора.
Обелиск Бритт возвышался на площади Памяти среди других монументов, воздвигнутых в честь пилотов, погибших в далеких пространствах неизвестных планет и галактик.
Уже много раз заставал Альфа рассвет перед этим величественным монументом. И, несмотря на то, что уже прошел год после катастрофы и трагической гибели Бритт, он все еще не мог полностью возвратиться к обычной земной жизни.
Холлидз, поприветствовав Джонсона, уселся около пульта радиопередатчика.
— Начнем, Боб… Запустим новую музыку на удивление наших коллег.
Подошел профессор Кильсей. Джонсон коротко доложил:
— Для создания хаотических сигналов мы вызовем эхо радиозвезд, сосредоточенных в центре второй спирали Галактики, наиболее близко расположенной к нашей звездной системе. Полученные сигналы свяжем с логикой Вейманна. Итак, мы готовы к эксперименту.
Кильсей просмотрел магнитные ленты на экране регистратора и передал их Джонсону.
— Что же, друзья, мне нравится ваша новая ода. Начинайте. Холлидз снова вложил магнитные ленты в регистратор, включил антенну и радиопередатчик.
Альф уже сидел в терралете, когда загорелась лампочка цереброфона. Включил усилитель информации и сосредоточился на приеме. Представители цивилизации, к которой он принадлежал, легко могли понимать друг друга при помощи простого мышления, однако более важные сообщения передавались через усилитель информации. Он быстро принял мысли, посланные комендантом Адмиралтейства.
«Краткое сообщение для пилотов дальних полетов! Автоматическая станция «Информатор», направленная нами с другой спирали Галактики в межпланетное пространство с целью установления контакта с неведомой цивилизацией, сошла с заданного направления и начала удаляться от края Галактики. В течение пяти дней мы смогли бы совершить полет дальнего действия для спасения «Информатора». Главный Совет Адмиралтейства ожидает ваших предложений».
Альф давно мечтал получить важное и связанное с риском задание. Долго не размышляя, он нажал кнопку сигнала передатчика и подумал.
«Предлагаю свою кандидатуру для полета дальнего действия без каких-либо дополнительных условий».
Комендант Адмиралтейства — старый приятель Альфа, еще со времени их учебы в школе пилотажа. После одного трагического случая, когда только случайность спасла ему жизнь, он вынужден был отказаться от полетов по состоянию здоровья. Поэтому, услышав предложение Альфа, комендант сразу же ответил:
«Зайди ко мне завтра пораньше, добровольцы получат полную информацию о предстоящем полете и будет произведен отбор кандидатов».
Альф с нетерпением ожидал следующего утра.
Через четыре дня после посылки в космос первых сигналов методом Джонсона-Холлидза в обсерваторию в Вынеяке поступила информация из Главной обсерватории в Нортоне.
Кильсей прочитал ее еще и еще раз. Затем обратился к сотрудникам.
— В Нортоне засекли радиообъект и назвали его X. Он находится где-то далеко в космическом пространстве и, очевидно, очень невелик. Видимо, это не радиозвезда, ибо даже нейтронные устройства не смогли определить параметры движения. И только установили, что этот радиообъект случайно оказался на линии нашего радиопередатчика. Если это ответ на наши сигналы, то, вероятно, вы, друзья, будете крестными отцами этой крупинки.
— Это невозможно, господин профессор. Через четыре дня после того, как посланы сигналы? Когда полгода ничего не дали? — Джонсон не был уверен, что профессор говорил серьезно.
— Действительно, это маловероятно, — согласился Кильсей.
В информационном зале Адмиралтейства собрались пилоты дальних полетов, члены Главного Совета и комендант Адмиралтейства. После приветствия слово взял комендант.
— Вам всем известно, что с тех пор как нам удалось реализовать проблему перехода через световой барьер и выйти к информационному пространству, мы имеем возможность устанавливать контакты с другими цивилизациями, размещенными далеко от центра Галактики. Движение в информационном пространстве соответствует скоростям, в несколько раз превышающим скорость света в обычном пространстве, имеющем три измерения. Мы давно уже обмениваемся информацией с некоторыми центрами цивилизации. Галактическое объединение цивилизаций насчитывает более 6000 членов, не считая низших культур, о которых, по всей вероятности, мы сможем узнать только через несколько тысяч лет. Напоминаю, что последнее время обмен информацией мы проводим при помощи усовершенствованных автоматических линейных станций «Информатор». Станции «Информатор» при сближении с адресатом автоматически обозревают его, фотографируют — и вся накопленная информация в виде информационного поля передается через бортовые передатчики на Землю, где она принимается при помощи специальных приемников. Все мы помним о начале установления контактов с другими цивилизациями и причинах появления Параграфа-2 Галактического Кодекса. Один из наших пилотов самостоятельно установил контакт с цивилизацией класса А-3. Это технически развитый и воинствующий класс цивилизации, который время от времени проявляет агрессивность и склонен к захватам. Наши попытки проникновения в глубь этой цивилизации закончились гибелью пилота.
Мы хотели применить информационную блокаду и вычеркнуть из памяти этой цивилизации все сведения с нашем существовании. Но до этого не дошло — очередная попытка установить с планетой контакт увенчалась успехом, и мы были обоюдно довольны этим. Мы вместе провели ряд важных и весьма ценных научных исследований. Однако тогда был введен в действие Параграф-2 Галактического Кодекса, который запрещает установление дальнейших контактов с другими цивилизациями, находящимися на более низком уровне технического развития, и такими, как цивилизация класса А-3.
Неделю назад в продолжение обмена информацией с известной нам цивилизацией в межпланетное пространство была послана в направлении середины второй спирали Галактики автоматическая станция «Информатор». На этот раз был использован новый вид сигналов, при помощи которых мы послали основные сведения о нашем уровне общественного развития, материальной и духовной культуры. Там же содержалась инструкция о способе обратного ответа. И вот сейчас посланная нами автоматическая станция «Информатор» неожиданно изменила направление полета и начала двигаться в сторону края Галактики. Сеть спутниковых станций прослушивания выявила, что причиной послужили какие-то неизвестные радиосигналы в нашем интерсолярном коде, полученные станцией «Информатор». Исследователи установили, что это были сигналы какой-то новой, еще не известной нам цивилизации, которая размещается недалеко от края Галактики.
Есть основания предполагать, что эта цивилизация молода и, видимо, относится к классу А-3. При подходе к неизвестной планете «Информатор» возбудится и выбросит весь запас бортовой информации, превратив ее в очень сильное поле, которое немедленно попадет на их чувствительные приемники, и, таким образом, содержание нашей ценной информации окажется в руках А-3 с их враждующими группировками и широко разветвленным военным аппаратом.
Мы не можем допустить этого. Станцию необходимо нейтрализовать. Наша задача состоит в том, чтобы отбуксировать ее от планеты А-3 и переключить полет на наш адрес. Но для этого осталось очень мало времени. Поэтому, на всякий случай, если станция «Информатор» начнет возбуждаться раньше положенного, наш линейный корабль «Истребитель» будет располагать на своем борту энтропийным грузом для «обезвреживания» информации, содержащейся на автоматической станции.
Должен обратить ваше внимание на то, что это — рискованная акция, и в первую очередь, для жизни пилота линейного корабля. Расстояние огромное. Мы сможем только принимать информацию, но подавать команды для управления преследованием станции не сумеем. Пилоту линейного корабля придется все решать самому, по обстановке.
А теперь прошу пилотов дальних полетов высказаться. Женатые и отцы семейств уже предупреждены о том, что они не будут допущены к операции.
На этом комендант Адмиралтейства закончил свое сообщение и сел.
Альф снова предложил свою кандидатуру. Кроме него, вызвались еще три молодых пилота, которые недавно окончили академию дальнего пилотажа. Все остальные были семейные.
Комендант с членами Главного Совета вышли из зала на совещание.
По возвращении комендант огласил решение:
— Полетит Альф. Если есть возражения, мы готовы их выслушать.
Альф встал и с волнением обратился к присутствующим:
— Друзья, поверьте мне. Я должен получить это задание. Очень прошу вас дать согласие на мой полет.
Молодые пилоты пристально всматривались в мужественное лицо Альфа, которого знали еще с академии, — он преподавал пилотаж. В начале раздела учебника об информационном пространстве была помещена его фотография как первого пилота, который побывал в информационном пространстве.
Альф ждал решения своих товарищей. Все знали о катастрофе космического корабля с пилотом Бритт, хорошо помнили эту обаятельную молодую женщину. Все понимали чтобы выйти из подавленного состояния, Альфу необходимо заняться какой-нибудь трудной и небезопасной работой. Возражений против кандидатуры Альфа не последовало.
Ранним утром следующего дня после сообщения о радиообъекте X Кильсей позвонил в обсерваторию в Нортоне.
— Узнаем, друзья, что там нового. У них оборудование более совершенное. — Он долго держал трубку. Несколько раз переспрашивал:
— Сколько, говорите? Сколько? Сотни раз?
Наконец, профессор положил телефонную трубку.
Воцарившуюся тишину нарушил Холлидз:
— Что случилось, господин профессор?
Кильсей медленно ответил:
— Мы должны проверить. В обсерватории в Нортоне утверждают, что радиобъект X приближается со скоростью, в сто раз превышающей скорость света. И посылает одинаковые радиосигналы с импульсами постоянных частот. Это невероятно. Если бы это был…
— Звездолет? — докончил Джонсон.
— Да, звездолет, — повторил Кильсей, подавая Джонсону утренний телекс с координатами, полученный из Нортона.
Холлидз установил анализатор.
— Мы засекли его. Он в сетке радиоприцела.
— А теперь измерьте его скорость, — посоветовал Кильсей.
Холлидз включил гравитационный дальномер и начал измерять. Световой указатель прыгнул за шкалу.
— Судя по отклонению светового указателя, — сказал профессор, — видно, что скорость радиообъекта X соответствует отметке 10-10 С.
Джонсон долго не мог прийти в себя от удивления.
— Это же невозможно! Каким же тогда способом мы получаем нормальные радиосигналы?
— Не знаю, друзья, не знаю — каким, — ответил Кильсей. — И не знаю, как посылаются эти сигналы. Но здесь не может быть ошибки. В Нортоне сначала думали, что имеют дело с повреждением блока измерения скорости… Только, прошу вас, не разглашайте этой тайны, ибо нас засмеют. Коллеги из Нортона тоже молчат. Подождем, пока радиообъект X приблизится.
Альф вошел в кабину линейного корабля дальнего действия. Закрыл люк и доложил о готовности к старту.
Прозвучал приказ: «Включите разбег», потом потеплевший голос произнес: «До скорой встречи, Альф».
С экрана исчезло лицо коменданта и показалась схема стартового пути. После включения разбега стартовые станции солярной системы автоматически начали принимать акселерацию уже за границей нашей звездной системы, придавая линейному кораблю огромную скорость, которая позволит ему достигнуть информационного пространства.
Альф повернул переключатель на «старт» и погрузился в кресло. Антигравитационные акселераторы начали работать через несколько минут. Уже через час линейный корабль пересечет световой барьер и выйдет из информационного пространства непосредственно по направлению к автоматической станции «Информатор», следующей к А-3. Экран с блуждающим небесным огоньком на схеме стартового пути расплылся перед глазами пилота.
Кто-то из обсерватории в Нортоне проговорился. Рано утром в газетах появилось краткое сообщение о загадочном астрономическом объекте. Все это было представлено как новая безосновательная тревога уважаемых астрономов.
Когда Холлидз измерил в полдень скорость движения объекта X, оказалось, что она заметно упала.
— Непонятно. Мы наталкиваемся на какие-то неизвестные обсервационные помехи, — обращаясь к профессору, заключил Холлидз.
Однако Кильсей был другого мнения.
— А мне кажется, что все это не так. Уже тридцать лет наша планета Земля посылает сигналы в космос с целью установления контактов с неизвестными цивилизациями. Надеюсь, наше терпение будет вознаграждено, и мы дождемся, наконец, гостей с другой планеты.
— Сумеем ли мы их принять? — спросил Джонсон.
— Если они поняли наши сигналы, то, вероятно, мы найдем общий язык.
Все это время профессор не сводил глаз с экрана.
— Смотрите, — вдруг взволнованно сказал он, — объект X заметно приближается к нашей Солнечной системе.
Автомат разбудил Альфа в точно определенное время. На экране была видна автоматическая станция «Информатор», приближающаяся на малой скорости к Солнечной системе с одним. Солнцем и девятью планетами. Альф уменьшил скорость линейного корабля и направил его полет на траекторию встречи со станцией «Информатор». Он настроил бортовой информатор на третью планету. Несомненно, это была планета цивилизации класса А-3.
«К сожалению, запрет контакта, согласно Параграфу-2, обязывает…» — подумал Альф. Неожиданно автоматически включился линейный предохранитель корабля. Появилось яркое освещение сильного информационного поля. Через несколько секунд включился сигнал тревоги Центральный анализатор сообщил, что автоматическая станция «Информатор» повреждена, получила течь и каждую минуту может начать разряжаться.
В такой ситуации, решил Альф, нельзя терять ни минуты. Приблизиться к станции «Информатор» и вывести ее из Солнечной системы невозможно, повреждение станции создало такое сильное информационное поле, что оно может заклинить центральное управление линейного корабля. Оставался единственный выход включить двигатели готовности энтропийного груза и навести прицел…
Холлидз, переутомленный после ночного дежурства, коротко доложил Кильсею:
— Телефоны ночью просто разрывались. В Центре космических исследований готовится ракета «Зонд» на случай, если радиообъект X выйдет на орбиту Земли. Вчера все уверяли, что это космический корабль, но пока запретили что-либо сообщать об этом корреспондентам газет.
— Хорошо, Холлидз, подождем, пока не выяснится все до конца. Пусть Джонсон примет дежурство по наблюдению за объектом X, а вы пойдите отоспитесь.
— Нет, господин профессор, — ответил Холлидз, — я останусь здесь.
Джонсон с трудом оторвался от «Монинг телеграф».
— Только посмотрите, что делается, — и передал газету профессору.
На первой странице жирным шрифтом был напечатан заголовок:
«Паника на атлантическом побережье!»
Корреспонденты сообщали, что вот уже несколько часов подряд жители побережья обращаются в полицию и к врачам с просьбой помочь им разобраться в удивительных явлениях, свидетелями которых они стали. Они якобы видели какие-то необыкновенные аппараты и машинные устройства, которых до сих пор не встречали на Земле. Все сообщения были на редкость беспорядочны.
Некоторые врачи-психиатры попытались объяснить происходящее впечатлением от вчерашней телевизионной программы, посвященной научным работам профессора Кильсея, его поискам в области установления контактов с космическими братьями. Однако многие из тех, кто не смотрел эту телевизионную передачу, утверждали, что тоже наблюдали незнакомые предметы.
Небольшая группа писателей-фантастов настаивает, что происходящее вовсе не было массовой галлюцинацией, вызванной телепередачей; они усматривают связь между явлениями, наблюдаемыми жителями побережья, и удивительным объектом, попавшим в поле зрения профессора Кильсея, — объектом, который вполне мог оказаться космическим кораблем.
Джонсон посмотрел в анализатор и вскрикнул:
— Объект X разделился на две части. Они близко друг от друга. Одна из них как будто маневрирует. Возможно, выходит на очень далекую земную орбиту.
— Проверьте это еще раз, Джонсон, и непрерывно наблюдайте, — отозвался профессор Кильсей. — Это могут быть космические корабли. Холлидз, включите посылку наших сигналов в космос через главную антенну.
Десять минут спустя в лабораторию вошли два представителя Центра космических исследований и попросили Кильсея уделить им несколько минут. Кильсей пригласил их в свой кабинет. Захлопнулась дверь кабинета, и в комнате остались только Джонсон и Холлидз.
Когда снова включился информационный сигнал тревоги, Альф сделал полный правый разворот линейного корабля.
Анализатор сообщил, что вследствие непрерывных сигналов, поступающих с неизвестной планеты, автоматическая станция «Информатор» начинает разряжаться. Через секунду сигналы прекратились. Но было уже поздно. Напряжение информационного поля вокруг станции «Информатор» с каждым мгновением возрастало. Через несколько оборотов неизвестной планеты вокруг Солнца станция «Информатор» начнет автоматически передавать свою информацию в направлении этой планеты. Нельзя было терять ни секунды.
Альф нажал кнопку спуска энтропийного заряда. Однако он не почувствовал легкой встряски, характерной для отделения с борта корабля энтропийного груза. Автоматически включился зуммер аварийной установки для сбрасывания энтропийного заряда.
Вдруг Альф услышал, как сквозь ватную прокладку, бесстрастный сигнал анализатора:
— Автоматический прицел линейного корабля заклинен информационным полем, исходящим от станции «Информатор». Выход был один.
Альф выключил автоматический прицел, перешел на ручное управление и направил свой линейный корабль на сближение со станцией «Информатор».
За пять секунд до сближения Альф послал в космос сообщение о предпринимаемой акции…
До «Информатора» осталось несколько сот метров, Щелкнул клапан передаточного шлюза. Зажглась и погасла красная лампочка с надписью: «Телеграмма на базу».
За три секунды до сближения бортовой анализатор сообщил, что с третьей планеты стартует ракета на химическом топливе. Альф подумал: «Жаль, что Параграф-2 Галактического Кодекса такой суровый. Хотел бы увидеть тех, кто наблюдает за моим полетом. Видимо, следующий полет дальнего действия в этот закуток Галактики будет совершен с более достоверными данными о новой планете класса А-3…»
Альф почувствовал сотрясение линейного корабля: произошло столкновение с автоматической станцией. «Конец миссии», — подумал Альф. В памяти всплыло лицо Бритт.
Альф нажал ручку освобождения энтропийного груза. Он еще успел почувствовать взрыв и тут же его ослепил блеск пламени.
Через секунду исследователи на базе приняли сигналы искаженного информационного поля, созданные обезвреживанием автоматической станции «Информатор».
Когда Кильсей и представители Центра космических исследований возвратились в лабораторию, Джонсон, бледный и усталый, доложил:
— Два объекта соединились около двадцати минут назад. С этого момента мы просто перестаем что-либо понимать. Объект X нам кажется теперь небольшим, слабо отражающим свет, радиоактивным метеоритом. Никакого заметного движения, смены орбит, каких-либо радиосигналов больше не наблюдается.
Кильсей и гости выслушали сообщение Джонсона в полном молчании. Потом один из представителей Центра сказал:
— Действительно, минуту назад мы получили радиограмму от пилота ракеты «Зонд». По выходе на орбиту он успел сфотографировать объект X, что позволило сделать некоторые выводы. Эти снимки были изучены при помощи спектрального анализа, который показал, что в действительности объект X — это обыкновенный метеорит с большим содержанием железа.
Подобные метеориты нередко встречаются в космосе в окрестностях земной планеты. Видимо, это и будет разгадкой объекта X, который наделал так много шума.
Кильсей в знак согласия кивнул головой. А гость добавил:
— Думаю, что не будет чем-то неожиданным, если я скажу, что на метеорите были обнаружены некоторые простые органические вещества. Это случилось не впервые Только мы еще не знаем, какого происхождения могут быть эти вещества.
Когда представители Центра космических исследований покинули лабораторию, Холлидз и Джонсон повернулись к профессору Кильсею:
— Господин профессор, что вы в действительности обо всем этом думаете? Что это была за сверхсветовая скорость?
— Как вы объясняете маневр и соединение двух объектов?
Кильсей медленно проговорил:
— Для меня многое еще непонятно. Если вы придете сегодня ко мне домой на чашку кофе, попытаюсь развить перед вами свою точку зрения. Но это, как вы понимаете, будет мое личное мнение, высказанное в частном порядке… Однако, мне кажется, что уже теперь мы должны почтить память кого-то, с кем мы больше не встретимся, но кто беззаветно отдал нашему делу свою жизнь.
Сообщение Адмиралтейства было сжатым и кратким: «Несмотря на первые неудачи, которые мы учтем в будущем, цель последнего полета дальнего действия была достигнута… Пилот Альф погиб при исполнении задания во имя контактов разумных цивилизаций Главный Совет Адмиралтейства постановил вписать имя Альфа в Большую Книгу полетов. И, как всегда, на площади Памяти погибших будет сооружен памятник Пилоту».
Через несколько дней на площади Памяти погибших пилотов встал еще один стреловидный обелиск. Улыбающееся лицо Альфа, увековеченное в мраморе, было обращено к другому монументу — Бритт.
Снова они были вместе — и теперь уже вместе навсегда.
Перевод с польского
В. Головчанского
Карл-Хайнц Тушель НЕПРИМЕТНЫЙ МИСТЕР МАКХАЙН
Лейтенант Сэм Мэттисон не любил крупные происшествия. Правда, не нашлось бы в уголовной полиции Мидлтона (Иллинойс) человека, который мог бы вообще вспомнить что-нибудь такое, что любил Сэм, кроме мысли о своей предстоящей отставке. Но то, что лейтенант обладал честолюбием наизнанку старался как можно быстрее отделаться от больших происшествий, коли уж они случались, — это было всем известно и, пожалуй, встречало сочувствие. Потому что за крупными делами скрываются, как правило, большие люди, и в каком-нибудь месте расследования неизбежно попадаешь в дьявольское положение, когда вынужден наступать на пятки влиятельному лицу. А если дяде Сэму, как называли Мэттисона, что и удавалось меньше всего, так это дипломатия.
Крупные дела, таким образом, Сэм Мэттисон ненавидел. Но, к счастью, история, которой он как раз сейчас занимался, была, по-видимому, обычной небольшое ограбление банка. Деньги, присвоенные неизвестным грабителем, составляли около двадцати тысяч долларов, и оставалось лишь найти его. Осложнений тут не предвиделось: люди, покушающиеся на банки, как правило, сами не имеют в них больших счетов.
— Сержант, кассира ко мне! — сказал лейтенант Сэм Мэттисон.
Сержант Нед Пинкертон (его действительно звали так, и он всегда, когда кто-нибудь поражался этому, не упускал случая сказать: «Кем я еще должен был стать с таким именем, если не криминалистом!») привел кассира пожилого узкоплечего человека с проседью в волосах, на лице которого так прочно утвердились складки от профессиональной улыбки, что сейчас он выглядел так, словно радовался своему несчастью.
Лейтенант сделал сержанту знак, и Нед Пинкертон принялся разматывать ленту обычных вопросов — имя, возраст и так далее. Затем Сэм попросил кассира описать происшествие.
— Он подошел к окошечку и положил портфель на стойку. Потом шепнул мне, что, если он сейчас нажмет на кнопку в кармане брюк, из портфеля начнет строчить автомат. И он нажмет ее, если я сразу не откажусь от намерений поднять тревогу или как-нибудь еще обратить на себя внимание. Поэтому я не мог даже опрокинуть на него пуленепробиваемую витрину, так как она пришлась бы как раз на его карман. Мне ничего не оставалось, как упаковать для него деньги в мешочек, который мы обычно используем для расчетов с владельцами небольших магазинов. Портфель он оставил на стойке, сказав, что я могу делать что угодно, когда он выйдет, — лишь тогда автомат будет отключен. Едва он ушел, я нажал кнопку тревоги.
— И вы поверили в сказку про автомат? — ухмыляясь, спросил сержант.
— Я работаю кассиром, а не психологом, — ответил допрашиваемый и улыбнулся печально, хотя в его голосе чувствовалась даже какая-то наглость.
— Ну, ладно, — сказал сержант уже серьезно. — Опишите молодчика.
Портрет грабителя оказался столь невыразительным, что мог подходить любому произвольно взятому мужчине в возрасте от тридцати до сорока лет.
— И серию последовательно нумерованных банкнот в отданные вами деньги вы, конечно, не вложили?
— Он очень зорко следил за мной! — сказал кассир.
— А теперь слушайте меня внимательно, — включился лейтенант. — Я мог бы вам сейчас прочесть лекцию о гражданском долге или о старых идеалах Америки, но я с удовольствием отказываюсь от этого. Я вижу, мы оба одного возраста, оба приближаемся к пенсии и хотели бы по возможности получить ее в неурезанном виде. Поэтому я вам предлагаю сделку — думаю, это будет вам понятнее глупых моралей. Простую, безубыточную операцию. Если мне не удастся расследовать это дело, я лишусь пенсии или части ее. Ваша пенсия все равно на волоске из-за вашего поведения в банке. Но если вы поможете мне получить мою пенсию целиком, я в надлежащей степени изображу, где надо, вашу помощь. Ясно? А теперь выкладывайте все, что знаете.
Тут же на кассира обрушился и сержант:
— А не говорил вам бандит, что у него еще есть такие портфели и что в случае чего он может доставить их к вам на квартиру, если у вас память окажется вдруг слишком хорошей?
Кассир кивнул.
— Может, вы подумали в связи с этим, что в портфеле вообще не было оружия? — заметил сержант.
Веселая ирония полицейского, казалось, оживила память кассира.
— Мне только бросилось в глаза, — сказал он, — что у… бандита была такая странная манера разговаривать. Но я не знаю…
— Точнее! — перебил сержант. — Какой диалект?
— Нет, не диалект. Он почти не двигал губами при разговоре, и все звучало как заученное наизусть. Производило зловещее впечатление.
— И это все, что вы вспомнили?
Кассир боязливо кивнул. Сэм Мэттисон сделал знак.
— Можете идти! — сказал сержант. — В ближайшие дни оставайтесь в городе на случай, если вы нам потребуетесь. — Он тоже при этом почти не разжимал губ, и слова звучали как заученные.
— Наложил в штаны, — констатировал Сэм Мэттисон, когда за кассиром закрылась дверь.
— Да. Однако тот парень, видимо, действительно образец неброскости, сказал сержант. — Никто его не приметил! Свидетелей мы просто больше не найдем. Работники телевизионной службы банка, наблюдающей за окошками, хотя и видели этого типа, но в то время как раз делали видеозапись в другом месте зала. — Он помолчал. — А не было ли все заранее уговорено с кассиром?
— Чепуха, — покачал головой лейтенант. — Рассчитай-ка пенсию, которую он скоро получит, на срок хотя бы в десять лет. Получается намного больше, чем половина из двадцати тысяч. Что еще у нас есть?
— Еще есть видеозапись телевизионной службы, сделанная на стоянке перед входом в банк. На ней-то он должен бы быть…
— Хорошо. Перепиши номера всех машин, отъезжавших в то время от банка, и возьми под контроль.
На следующий день стало известно: со всеми машинами было все в порядке, за исключением одной. По уверениям ее владельца, в течение всего упомянутого времени она должна была стоять у дома номер 20 по Чикагской улице, в то же время он опознал ее в видеозаписи среди других машин, стоявших перед банком. Криминалисты перевернули в машине все вверх дном, но не нашли ничего.
След оборвался.
Но богиня криминалистики, кажется, хорошо относилась к Мэттисону и его сержанту. Дорожная полиция задержала группу пьяных возчиков из городской мусороочистки, устроивших аварию на своей машине. Карманы мусорщиков оттопыривались от ассигнаций, всего при них оказался 19 231 доллар, а в помятой машине был обнаружен банковский денежный мешочек.
Когда возчики протрезвели, Мэттисон распорядился привести их к нему.
— Итак, выкладывайте — кто из вас, парни, был в банке? — спросил лейтенант.
«Парни», все до одного — мужчины солидного возраста, выглядели смущенными, однако молчали.
— Ну, что, проглотили языки? — снова спросил лейтенант и сделал свирепое лицо, чего при его внешности обычно вполне хватало, чтобы какой-нибудь мелкий мошенник тут же начинал изъясняться.
Один из мусорщиков ответил нерешительно:
— Самое дурацкое в том, сэр, что вы нам не будете верить… Мы и сами не могли понять…
Лейтенант молчал, грозно уставившись на задержанных.
— Мы нашли деньги, — говоривший проглотил комок, — в контейнере с мусором и… Я знаю, что нам, конечно, надо было сдать их, но… — Он смущенно умолк.
Сэм Мэттисон с минуту находился в состоянии, граничившем между вспышкой ярости и громким хохотом. Но, так и не решившись на что-нибудь, опять промолчал.
— Да, — подтвердил другой мусорщик, — это было на Чикагской улице, двадцать.
Лейтенант насторожился, но не подал вида. Внешне равнодушно он спросил:
— И, конечно, у вас есть алиби?
— Где вы были позавчера в десять двадцать пять? — спросил сержант официальным тоном.
По лицу одного из мусорщиков проскользнул веселый лучик:
— Мы как раз разгружались, это даже записано в путевке.
— Увести! — распорядился лейтенант. — Ну, что ты думаешь об этом, Нед? — спросил он, когда они остались вдвоем.
— Экспертиза установила на банковском мешочке следы отбросов, но они могут быть и от рук возчиков. И все же не эти ребята организовали дело. Несколько лиц уже не сделаешь неприметными. Кроме того, тот, кто совершил такое ограбление, не побежит на следующий день с карманами, полными денег, по пивным. Но если они имели к этому отношение как сообщники, то каким образом у них потом оказались все деньги? И к чему грабителю эти старцы?
— Я тоже не знаю, — сказал лейтенант и зевнул. Так как деньги были найдены, дело становилось скучным для него. — Возьми-ка толковую команду и поезжай, взгляни на этот дом двадцать по Чикагской улице.
Бандита, ограбившего банк, в том доме, конечно, не оказалось, зато Пинкертон привез оттуда одно показание, точнее — даже два, которые шли вразрез со всем профессиональным опытом лейтенанта, но, к сожалению, были полностью неуязвимы.
На первом этаже жили две престарелые сестры, видевшие все: как незнакомец вошел во двор — его описание было столь же поверхностным, как и у кассира, — и что-то бросил в бак с мусором, и как спустя час приехали мусорщики, как один из баков они нечаянно повалили и вдруг на асфальт упало что-то серого цвета, и как все трое потом столпились вокруг этого предмета, а под конец не бросили его вновь в мусор, а взяли его в руки и сели в свою машину, которая тут же быстро уехала.
— Счастье еще, — сказал сержант Пинкертон, — что в том районе стоят старые баки и нет мусоропровода, а то все денежки могли уплыть вместе с отбросами.
— Я многое перевидел, — сказал лейтенант с досадой. — Случалось даже, что факты словно сами собой выстраивались в сложную и стройную версию — и все оказывалось липой. Но я еще никогда не видел, чтобы кто-то похищал двадцать тысяч долларов, чтобы бросить их в мусор. Такого не сделает даже помешанный…
На следующим день местные газеты вышли с сенсационными заголовками:
«Грабитель байка бросает деньги в мусорную яму»,
«Душевнобольной похищает 20 000 долларов»,
«Американец ли он?».
Лейтенанта пресса оставила равнодушным, тем более что на этот раз она не могла упрекнуть полицию в бездействии — деньги были найдены. Таким образом, ему не приходилось ждать наладок, и уж совсем не рассчитывал он на награду. Поэтому был порядком удивлен, получив приглашение посетить вечером дом директора банковского филиала Гарриса Флетчера.
— Может, вы ему нужны как приманка для гостей на званом ужине? предположил сержант. — Или он предложит вам место домашнего детектива?…
— Чепуха, — проворчал лейтенант, — тогда бы он пригласил меня в свое бюро. — А что касается этих званых ужинов, то я не кинозвезда какая-нибудь!
— Возможно, он боится за валюту, если выкидывание долларов на помойку примет массовый характер, — продолжал язвить сержант.
Сэм Мэттисон, ворча, чистил свой рабочий стол:
— Во всяком случае придется сходить туда, а там посмотрим. Что-то должно за этим скрываться, потому что обычно такие персоны не якшаются с нашим братом.
Первый сюрприз подстерегал Сэма Мэттисона в воротах флетчеровской виллы. Открыл ему их сам хозяин. Вторая неожиданность — лейтенант оказался единственным гостем директора. В третий раз Сэм удивился, когда хозяин признался, что семья его за городом, а прислугу он тоже на сегодня отпустил.
Для начала директор изобразил интерес к работе полиции, поблагодарил за скорое расследование грабежа и между несколькими порциями виски высказывался в том смысле, что финансист должен разбираться во всех областях, и он, например, много выигрывает от того, что время от времени беседует с опытными практиками различных профессий, и так далее.
Сэм Мэттисон с трудом подавил ухмылку, когда увидел, как его прощупывают. Он, не противясь, отвечал на вопросы о своих представлениях, желаниях, и чем дольше длилась эта игра, тем увереннее он себя чувствовал. Здесь паркет был скользким не для него, а для его собеседника.
Видимо, Флетчер и сам уже заметил, что начал неуклюже и лейтенант, по меньшей мере, подозревает теперь, куда поворачивает поезд.
— Как обстоит дело с преступником? Вы схватили его? — спросил он неожиданно напрямик.
— Вряд ли это удастся, — вяло ответил Сэм. — Наверное, придется сдать дело в архив.
— Наша фирма весьма заинтересована в том, чтобы он был пойман, пояснил директор.
Сэм Мэттисон внимательно смотрел на него.
— Этот человек, видимо, умалишенный, — продолжал директор, — и опасен, даже если оружие в портфеле было только трюком. В случае обнаружения вами бандита общественность наверняка будет более довольна, если вы его немедленно обезвредите, вместо того чтобы подвергать риску себя и своих подчиненных.
«Итак, мы должны ликвидировать твоего противника, — думал Сэм Мэттисон. — Следовательно, он кое-что знает о тебе. Но это будет стоить недешево! Тут ты не отделаешься одним вечером с парой виски». Вслух он сказал:
— Это было бы, конечно, лучше для всех нас, но как нам найти его?
Гаррис Флетчер полез в карман смокинга и вынул записку, на которой стояло шесть фамилий.
— С одним из этих людей он должен был так или иначе находиться в тесном контакте.
Лейтенант не сразу взглянул на записку.
— В делах я всегда за ясность, — сказал он. — Во сколько вы оцениваете смерть этого человека?
Директор написал на бумажке: «10 000», потом скомкал ее в шарик.
Сэм Мэттисон не был жадным до денег. Но здесь он имел наконец свой шанс, подобный тем, что много чаще бывают у его коллег в крупных городах. Поэтому он не колебался ни секунды…
— Чем досаждает вам этот тип и что это за фамилии? — деловито поинтересовался он.
Флетчер зло уставился на него.
— Должен же я иметь какую-то ниточку, — пояснил Сэм.
Директор тяжело вздохнул.
— Глупость времен юности. В чем она заключалась, сейчас, пожалуй, несущественно. Только эти шесть могут что-нибудь знать об этом. — Он встал и заходил взад и вперед. — На прошлой неделе мне позвонили. Я был вынужден положить деньги…
— И вы полагаете, — спросил лейтенант, — что вымогатель и грабитель в банке — одно и то же лицо?
— Я совершенно уверен, потому что… — директор медлил.
— Потому что?…
Директор тяжело упал в кресло и простонал:
— Потому что шантажист тоже отослал деньги назад!
— Черт возьми! — вырвалось у лейтенанта.
— Вот именно! — сказал мрачно директор. — Простое вымогательство — это я бы еще вытерпел. Но тут, очевидно, лишь подготовительные меры, которые должны меня размягчить, я только не знаю еще — ради чего!
Сэм Мэттисон поднялся.
— В этом безобразии по крайней мере скрыта система. Сама цель до конца не ясна, но в систему можно проникнуть. Пока у меня больше нет вопросов.
Директор проводил гостя до двери.
— Мы оба придерживаемся мнения, что официально дело нужно закрыть, не правда ли?
Лейтенант кивнул. «Здорово он, видать, где-то нашалил, если сразу шестерых боится»… — подумал он и распрощался.
Генри Уилкинс, двадцатипятилетний репортер уголовной хроники газеты «Мидлтон Стар», худощавый верзила с пористым лицом, бездельничал в седьмом полицейском участке в надежде на какую-нибудь сенсацию, которая может обернуться для него звонкой монетой. Ему нравилось сидеть вот тут и ждать происшествий. В рамках своей профессии Генри Уилкинс был вполне приличным, хотя и не совсем удачливым, но на редкость проницательным молодым журналистом. Опытные волки криминалистики пусть и не всегда хвалили его репортажи, но часто прислушивались к его мнению. Ну, а если уж Генри Уилкинс сидел тут и делал свое дело, то все, что вокруг него происходило, он схватывал на лету, и коли что-то намечалось этакое, он тут же был начеку, как и сейчас, когда дежуривший сержант снял трубку зазвонившего телефона и шепнул своему коллеге:
— Дядя Сэм. Интересно, чего он хочет…
Репортер, конечно, мгновенно вспомнил про ограбление банка и навострил уши. С годами он развил в себе почти невероятное искусство слышать на расстоянии голос в телефонной трубке.
— О ком? Баткинсе? Баткинс, Джеремия Джошуа. А-а, так это тот чокнутый профессор!..
— Почему «чокнутый»? — спросила телефонная трубка.
— Да ведь это он устроил из своего дома крепость, почти атомный бункер. И вообще чудак, богат, как Дюпон, и холост. А что с ним, сэр?
Из ответа репортер понял только, что лейтенант интересуется профессором исключительно по личным соображениям, и это, разумеется, удвоило его внимание.
— Баткинс… Постойте, сэр, что-то было… А, да! Позавчера позвонил один, тоже профессор — у нас ведь тут живет целая куча этих яйцеголовых! Так вот, этот спрашивал совета, что ему делать: Баткинс, видите ли, не явился к нему на еженедельный шахматный вечер. Чушь какая-то! В общем, я ему ответил, что ничем не можем помочь — у нас никто не играет в шахматы!
На сей раз репортер не уловил реакцию лейтенанта, однако из полученного ответа все стало ясно.
— Кто звонил? Минутку, я посмотрю. Вот: Чарльз Гарденер, Ричмонд-стрит, сорок два. Это все? Рад, что был вам полезен, сэр!
— Ну что же, ребятки, пожалуй, сегодня уже ничего не будет, — потянулся репортер и поплелся из комнаты.
Однако, выйдя за дверь, он быстрыми шагами направился к машине. Генри прекрасно знал «дядю Сэма»: только что-то небывало важное могло задержать этого человека в бюро в такой час, а если он к тому же утверждал, что звонил всего лишь по личным мотивам, то где-то тут была запрятана грандиозная ложь.
Сэму Мэттисону не стоило большого труда выяснить, кто из людей, упомянутых в записке директора банка, помимо Баткинса, еще проживает в городе. Их оказалось двое, и в том числе упоминавшийся уже Гарденер. Он обзвонил участки и после справки из седьмого района немедленно выехал к этому Чарльзу Гарденеру.
Окна были освещены, значит, кто-то был дома. Сэм вышел из машины и позвонил. Открыл ему седовласый, тщедушной внешности старик. Лейтенант предъявил удостоверение, и хозяин пригласил его войти.
Они пришли в комнату, где, к досаде Мэттисона, кроме столика и двух кресел был только письменный стол, а вокруг, по стенам — книжные полки. Единственное место в комнате, свободное от книг, было занято портретом дружелюбно глядящего старика с растрепанными белыми патлами.
— Ваш отец? — спросил Сэм Мэттисон, кивнув на старика.
Хозяин вежливо улыбнулся.
— В известном смысле да, — ответил он, тактично умолчав, что это Альберт Эйнштейн. — Хотите выпить чего-нибудь? Чай, кофе или виски?
— Что вы знаете о Баткинсе? — спросил лейтенант, оставив без внимания вопрос хозяина.
— Завтра я так или иначе снова обратился бы в полицию, — невозмутимо вежливо сказал на это владелец виллы, — хотя бесстыдный ответ, полученный мной по телефону из полицейского участка, не назовешь обнадеживающим. Это мистер Мэттисон из уголовной полиции, Джейн, — повернулся он к жене, которая в эту минуту вошла с подносом в руках. — Моя жена.
Лейтенант кивнул.
— На случай, если вы меня не до конца поняли: я спешу! — сказал он. — Итак, что же с Баткинсом?
Джейн Гарденер вопросительно поглядела на мужа. Он слегка наклонил голову, и она принялась сервировать стол для кофе.
— Я вполне отдаю себе отчет, — спокойно начал Чарльз Гарденер, — что вежливость в вашей работе излишня, а иногда просто вредна, но здесь вы имеете дело не с гангстерами, а с нормальными налогоплательщиками. И вы не откажетесь выпить чашку кофе с человеком, относящимся с полной симпатией к вашей борьбе с преступностью. Тем паче, что история Джима Баткинса так или иначе отнимет некоторое время.
Сэм Мэттисон смутился. Он ждал протеста, страха или оскорбленного выражения лица, но против такой отточенной вежливости он был безоружен.
— Ну, если вы так хотите — хорошо. Я не собирался вас обидеть. За последнее время случилась масса происшествий. И в связи с одним из них всплыло имя Баткинса. Это единственная отправная точка, которой мы в настоящее время располагаем. И нам бы не хотелось, чтобы случилось еще большее несчастье.
— Я далек от мысли обижаться на вас. Итак, дело с Джимми обстоит следующим образом. Вот уже восемь лет я в отставке. Он прекратил работу тоже в это время, хотя на двенадцать лет моложе меня. С финансовой точки зрения он мог себе это позволить. Кстати, перебивайте меня, если захотите что-нибудь спросить. Итак, это произошло восемь лет назад. И с тех пор каждый вторник вечером он приходил, чтобы сыграть со мной партию в шахматы. Летом или зимой точно в девятнадцать часов и всегда только одну партию. Этим удовлетворялась его потребность в общении. В прошлый вторник он не пришел. А мы с Джейн были единственными людьми, с которыми он имел контакт.
— Подождите: почему «были»? — удивился лейтенант.
— Потому что я убежден, что он мертв.
— А вы не пробовали до него дозвониться?
Чарльз Гарденер покачал головой.
— Позвонить ему нельзя, у него нет телефона.
— Ну так навестили бы его, черт возьми!
— Его и посетить невозможно. У него нет звонка, и никаким другим способом вы не известите его о своем приходе. Представьте себе, что его дом — это сейф. С комбинацией цифр, которая открывает дверной замок. Он был немного капризным, добряк Джимми.
— Да откуда вы взяли, что его нет в живых?
Чарльз Гарденер протянул лейтенанту листок почтовой бумаги.
— Это мы получили несколько часов назад.
На листке были наклеены вырезанные из газеты буквы:
Джеремия Баткинс мертв.
Письмо поможет Вам войти в дом.
Количество слов к дате.
Сэм Мэттисон поднялся.
— Тогда туда, и быстрее! — сказал он энергично.
— Уже темно. Вряд ли сейчас имеет смысл, — нерешительно ответил Гарденер. — Но если вы так считаете, то, пожалуй, это лучше, чем вообще ничего не предпринимать!
В машине Сэм Мэттисон узнал подробности об ученом Джеремии Баткинсе. Разочаровавшись в обществе, его породившем, в том, какое применение получает итог работы ученых, он ушел из «Физикл Ризерч Лэборэтори». Этот небезызвестный физик, обладавший приличным состоянием, превратился в своего рода отшельника. Он построил себе дом из бетона и стали, собственно говоря крепость, почти атомную, в которую с момента окончания постройки не входил ни один человек. Чарльз Гарденер рассказал, что Баткинс презирал мир в целом, и всех американцев в особенности. У него, Гарденера, Баткинс вызывал в первую очередь чувство сострадания, в то время как сам Баткинс нуждался в Гарденере лишь как в партнере по шахматной игре и своеобразном собеседнике. Без этой отдушины Баткинс просто задохнулся бы от своей язвительности. Вероятно, никто не смог бы резче и беспощаднее обрушиться на обстановку в США и ее политику, чем это делал в последние годы он сам. Гарденер боялся, что простодушному криминалисту показался бы в высшей степени подозрительным не только автор таких комментариев, но и тот, кто их передает. — Впрочем, полицейскому можно этого и не говорить. Незачем ему знать такие подробности.
— Значит, вы считаете, что нелегко будет проникнуть вовнутрь? — перебил Сэм Мэттисон мысли Гарденера.
— Нелегко — да, но, располагая письмом, не невозможно.
— За всю свою жизнь я не слыхал о такой глупости, — проворчал недовольный лейтенант. — Сейф в качестве квартиры!
Про себя он подумал: «Ну, что ж, посмотрим, обычно они выдумщики — все эти интеллигенты, а в конце концов оказывается что-нибудь заурядное. Если только эта история не связана с банковским делом, иначе все запутается еще больше».
Дом, перед которым они затормозили, выглядел в свете фар как вилла, построенная с размахом.
— У меня было другое представление после ваших рассказов, — заметил Сэм Мэттисон.
— Окна фальшивые, — пояснил Гарденер.
Они вышли из машины и подошли к входу.
— Совсем обыкновенная дверь! — сказал лейтенант и взялся за ручку.
— Видите там десять кнопок? — возразил было Гарденер, но лейтенант уже надавил на ручку и открыл дверь.
«Ну вот, — подумал Сэм. — Ох, уж эти мне фантазеры! Хотя, впрочем, дверь действительно словно от сейфа».
Он сделал шаг внутрь.
— Здесь есть выключатель? — спросил он Чарльза Гарденера.
— Я ведь тоже еще не был внутри!
— Останьтесь в дверях, я принесу из машины фонарь!
Чарльз Гарденер почувствовал тошнотворно приторный запах, накатывающийся на него из глубины помещения. Появившийся около него лейтенант с фонарем тоже стал принюхиваться.
— Трупный запах! — констатировал он и направил луч света вдоль стены.
Они увидели пустой узкий коридор, который в отдалении нескольких метров сворачивал в сторону.
— Идемте! — сказал лейтенант и двинулся вперед.
Гарденеру ничего не оставалось, как последовать за ним. За поворотом коридор привел их в просторную комнату наподобие гостиной. Узкий конус света от фонаря рыскал по сторонам, выхватывая из темноты то шкаф, то замысловатую полку на стене. Каждый из вошедших видел сначала то, что соответствовало его профессии и опыту.
— Распределительный щит! — воскликнул Гарденер, но лейтенант совсем не слышал его.
Он обогнул кресла и остановился как вкопанный. Чарльз подошел к нему и тут же с содроганием отвернулся: здесь лежал а скрюченной позе Джим Баткинс, вид которого был ужасен.
— По меньшей мере десять дней уже… — пробормотал Сэм Мэттисон. Неужели в этом проклятом бункере нельзя включить свет?
— Посветите-ка влево, туда, — сказал Гарденер и, когда луч нащупал щит, объяснил: — Здесь рубильник, как было принято раньше в лабораториях, сейчас это уже анахронизм.
— Включайте же! — воскликнул Мэттисон.
Вспыхнул свет, что-то зажужжало, и откуда-то вдруг донесся сдавленный возглас — лейтенант повернулся и секунду спустя держал в руке револьвер.
— Руки вверх, выходи! Только без глупостей! — крикнул он угрожающе.
В проходе показалась высоченная фигура.
— Не пугайтесь, я стреляю в лучшем случае камерой…
Лейтенант спрятал револьвер.
— Послушайте, Уилкинс, вам не сносить головы! Ей-богу, с прессой столько же мороки, сколько с этой интеллигенцией! — Он кивнул на бездыханного Баткинса.
— Я в нерешительности стоял у входа, но тут зажегся свет, и дверь меня просто толкнула вовнутрь, — оправдывался репортер.
Чарльз Гарденер удивился, но потом веселая улыбка мелькнула на его лице. Кажется, лейтенант ничего не заметил, он спросил:
— А как вы нашли это место?
— О, ничего нет проще, — ответил, ухмыляясь, репортер. — Я ненароком проезжал мимо и случайно увидел вашу машину!
— О случайностях речь еще впереди, — сказал лейтенант с досадой. Ему совсем не нравилось, что пресса преждевременно совала свой нос в это дело.
— Вернитесь, пожалуйста, оба назад, в коридор, и постойте там пока, распорядился он. Потом принялся описывать с каждым разом все более сужающиеся круги вокруг тела Баткинса, внимательно изучая все предметы.
Гостиная была почти квадратной, примерно шесть метров на шесть, с несколькими дверями и со шкафами различной величины, стоявшими в простенках, между дверями. Коридор входил в эту комнату в одном из ее углов, так что если смотреть из него — пространство на переднем плане было пустым. В противоположном углу стояло зеркало в рост человека, чуть справа от него столик, два кресла, за ними что-то наподобие торшера. Очевидно, комната, куда не входил ни один визитер, служила гардеробной. Одно из кресел было опрокинуто, из-за него высовывались ноги покойника.
— Видимо, несчастный случай, — проговорил наконец лейтенант. — Он, наверное, хотел пройти к рубильнику, спутал направление, натолкнулся на кресло, неловко повернулся и ударился затылком о торшер, или как еще назовешь это железное страшилище. Вот следы крови, клочки кожи. Кстати, на нем пальто, а тут лежит его шляпа — следовательно, он пришел с улицы. Так что убийц, пожалуй, здесь нет.
Он снова стал разглядывать свободные участки пола, покрытого блестящим пластиком. Медленно продвигаясь вперед и ощупывая глазами пол, сантиметр за сантиметром, спросил:
— Уилкинс, когда последний раз шел дождь?
— Сегодня после полудня.
— Знаю. А до этого?
— Гм… Я думаю… Да, в среду на прошлой неделе, когда был найден труп Счастливчика.
— Правильно. Это произошло явно днем. Он, наверное, проходил мимо какой-то стройки — у него на ботинках куски белой глины. А там, где он повернулся и упал, лежат крошки. Здесь все бело. Следовательно, несчастье случилось с ним именно в этом месте. — Он посмотрел вверх. — Да, пожалуй, так и было. Теперь пустим в ход нашу полицейскую машину!..
Генри Уилкинс поднял камеру, но лейтенант замахал рукой:
— Нет, нет, сначала снимет полиция! Идемте!
Чарльз Гарденер улыбнулся.
— Что с вами? — спросил его лейтенант, не скрывая неприязни.
Но ученый лишь пожал плечами. Они пошли по коридору, теперь освещенному. Лейтенант надавил на ручку двери, но та не поддалась.
— Этого я и опасался! — сказал Чарльз Гарденер.
Сэм Мэттисон зло смотрел на него.
— А ну-ка, давайте открывайте дверь!
— Это не так просто, — ответил Гарденер таким тоном, словно они болтали о приготовлении коктейля. — Здесь такие же десять кнопок, как и снаружи. Таким образом, можно нажимать их в различных комбинациях в количестве два в степени десять минус единица, то есть тысячу двадцать три раза. Если мы положим на каждую попытку по двадцать секунд, то это составит примерно шесть часов. Но я сомневаюсь, чтобы Джимми так поверхностно подстраховал свою крепость. Мои расчеты верны лишь в том случае, если не учитывается последовательность нажимаемых кнопок, то есть тогда, когда, скажем, мы имеем один-три-пять равно три-один-пять равно пять-один-три. Но если еще и последовательность играет роль, число станет астрономическим — нам бы потребовались месяцы. И если к тому же мы предположим, что повторения цифр допустимы, то получим возможные варианты в количестве одного биллиона ста одиннадцати миллионов ста одиннадцати тысяч ста десяти. Как долго это продлилось бы, вы можете рассчитать сами.
Чарльз Гарденер считал, что имеет право на этот маленький триумф. Лейтенант же хранил желчное молчание. Только репортер не удержался от злорадной ухмылки.
— Дядя Сэм был, по-моему, снова слишком самоуверен, а? — спросил он тихо Чарльза. — Не обижайтесь на него — это профессиональная болезнь. Сядьте-ка лучше в одно из кресел и пораскиньте мозгами. Я полагаю, у вас уже есть идея, каким образом моя газета еще сегодня получит первоклассный отчет о том, что здесь происходит, а?
Они возвращались по коридору. Когда был пройден поворот, репортер вскрикнул от изумления:
— Что это за число там? — он показал на стену коридора, где наверху в маленьком квадратном оконце была видна цифра «12». — Если я не ошибаюсь, прежде оно было однозначным!
Чарльз Гарденер, заинтересовавшись, подошел ближе.
— Когда прежде?
— Я увидел его случайно, когда мы только направлялись к двери.
— И вы полагаете, что число изменилось?
— Я почти уверен, оно было раньше однозначным.
Гарденер размышлял.
— Гм… Смогли бы вы еще раз пройти до двери и обратно? Когда будете у входа, крикните, пожалуйста.
Репортер исчез за поворотом. Неожиданно «12» превратилось в «13». И почти сразу же донесся его крик.
— Возвращайтесь! — попросил ученый.
Цифра «13» вдруг сменилась цифрой «14», и тут же появился Уилкинс.
— Видите ли, — начал Гарденер, — очевидно, в нескольких метрах от двери действует световой луч, а здесь регистрируется число прерываний дополнительный контроль для старого Джима: не переступил ли кто-нибудь порог его крепости… Не переступил ли кто-нибудь… Минутку! — Казалось, ему что-то пришло в голову, — Мистер Мэттисон, могли бы вы снова пройти к рубильнику? Когда я сделаю знак, отключите, пожалуйста, ток движением рукоятки вниз.
— И тогда откроется дверь? — спросил лейтенант.
— Если бы! Скорее она крепче запрется.
— Тогда зачем все это? — Мэттисон был раздражен тем, что теперь он должен опуститься до роли ассистента старого профессора.
Но Гарденер уже настолько овладел положением, что не обратил на это никакого внимания.
— А вы, — повернулся он к репортеру, — стойте на углу коридора и, как только свет погаснет, пройдитесь еще раз к двери и обратно.
Потом он махнул рукой, Мэттисон послушно отключил ток, репортер дошел до двери и крикнул: «Нет, она действительно не открывается!», — вернулся ощупью и сказал:
— Можете снова включать!
Когда снова вспыхнул свет, они увидели, что «14» уступило место «16».
— Идиотство! — пробормотал Гарденер.
— Да в каждом порядочном магазине есть фотоэлементы, — проворчал раздосадованный Мэттисон. — Чего тут странного?
— Я не это имею в виду, — дружелюбно ответил ученый, — но ваше представление о случившемся кажется мне неполным.
— Предоставьте это мне, — грубо парировал лейтенант. — Думайте лучше над тем, как нам выйти!
— Минутку, дядя Сэм! — вмешался репортер. — Мы все сидим в одной лодке, и я считаю, что мистер Гарденер — единственный среди нас, кому подходит роль рулевого!
Чарльз Гарденер вернулся к теме, сказав:
— Давайте сядем и поразмыслим. Все остальное бесплодно.
Они сели. Чарльзу вдруг показалось, что неприятный запах разложения стал почти неощутим. Конечно, вентиляция! Техника должна быть удобной, и дверной замок тоже, несомненно, имеет удобное решение, только вот пока не поддающееся разгадке.
— Итак, что же это за цифры? — спросил репортер.
— Просчитайте сами! — ответил Гарденер. — Конечным числом было шестнадцать. Четырежды вы пересекали луч по моей просьбе. Вычитаем, остается двенадцать. Затем мы трое ходили к двери и обратно — итого шесть импульсов, остается шесть в запасе.
— Правильно! — воскликнул Уилкинс. — Это и было как раз то число, которое я сначала увидел!
— Вот видите, — отозвался Гарденер, — а до этого мы трое вошли сюда, это составляет три импульса, итого осталось три, — Ученый замолчал, словно этим было сказано все.
— Ну, а дальше что? — спросил Сэм.
— Ой, послушайте! — взволнованно сказал репортер. — Мне теперь все ясно. Один импульс, когда Баткинс вышел из дома, второй — когда он вернулся. Итого два. А от кого третий?
— Может, кто-нибудь обнаружил дверь открытой, — предположил лейтенант, — и решил прогуляться по дому? А что вы думаете — сколько еще бродяг кругом!..
— Но тогда он должен быть еще здесь! — вскочил Уилкинс. — Мы должны тут все обыскать!
— А кто, — спросил без малейших признаков волнения Гарденер, — кто выключил свет?
Лейтенант и репортер недоуменно смотрели на него.
— Скорее всего, дело обстоит так, — медленно объяснял ученый, — что дверь не отпирается и не запирается, пока отключен ток. Таким образом, Джим Баткинс не мог выключить ток, прежде чем уйти, иначе он не вошел бы. В то же время, когда он отпирал дверь, ток еще должен был быть включенным, иначе он не смог бы ее отпереть, — это уже доказал мистер Уилкинс. Кто-то должен был отключить свет именно в тот момент, когда Джим Баткинс уже открыл дверь. Кстати, в этом и объяснение, что Баткинс со страху не нашел рубильника и перепутал направление. Но кто это был?
— А здесь действительно только один вход?
— Конечно, этот факт был даже предметом гордости Баткинса. К тому же пришло это письмо. Кто-то ведь отправил его.
— Что за письмо? — спросил с любопытством репортер.
Гарденер молча протянул ему конверт, полученный им сегодня пополудни.
Лейтенант тупо размышлял. Его безмерно бесило то, что он здесь протирал штаны, как школьник, в то время как, возможно, в каком-нибудь ящике шкафа в этом доме лежат спрятанные вещи, которыми директор банковского филиала мог бы заинтересоваться больше, чем самим вымогателем. Нет, хватит! Пора действовать!
Он встал, не зная, с какой из дверей лучше начать. Но тут ему бросилось в глаза, что двери не имели ни ручек, ни замков. Когда он, не раздумывая больше, подошел вплотную к одной из них, она сама беззвучно ушла в стену…
За дверью они обнаружили чисто прибранные, уютные и комфортабельные жилые помещения: кухню, спальню — лишь с одной кроватью, как отметил лейтенант, — и жилую комнату. В этой последней Гарденер сделал открытие, очень его удивившее. На столике рядом с креслом-качалкой валялась целая куча уголовных и бульварных романов дешевого сорта, а напротив кресла, в отдалении, стоял телевизор. Это поистине совершенно не соответствовало образу человека, с которым был знаком Чарльз Гарденер, и противоречило всему, что когда-либо говорил о таких вещах покойный.
Из гостиной они попали в настоящую анфиладу лабораторий и мастерских небольшого размера, один вид которых привел Гарденера в упоительный восторг. Лейтенанту и репортеру эти приборы и машины, механизмы и приспособления ни о чем не говорили, зато старого ученого не покидало чувство изумления, к которому примешивалась обычная зависть, — у него просто руки чесались от желания поработать со всеми этими современнейшими приборами. По оборудованию лабораторий он заключил, что в последнее время Джим Баткинс должен был заниматься без малого дюжиной областей науки, и он задал себе вопрос, не было ли это нечто большее, чем баловство, физика, химия, физиология, биохимия, бионика, физика высоких частот, электронно-вычислительная техника — как мог одиночка успешно работать во всех этих отраслях, где и поныне еще малейший прогресс в какой-нибудь частичной проблеме был немыслим без совместных усилий целой группы ученых?
— Да пойдемте же, — настаивал лейтенант, — это, возможно, и очень интересно для вас, но сейчас нам ничем не поможет!
Следующая дверь, открывшаяся перед ними, привела их в рабочий кабинет, выполненный с геометрическим изяществом. Все здесь в изогнутых линиях, поверхностях и объемах напоминало о математических функциях. Конечно, опять лишь Чарльз Гарденер смог оценить это по достоинству, но и на остальных, кажется, увиденное произвело впечатление.
— Вероятно, хозяин враждебно относился к жизни? — спросил недоверчиво репортер. — Видно даже по мелочам.
— Не к жизни, скорее — к людям! — пожал плечами Гарденер.
Лейтенант не участвовал в разговоре. Он подошел к письменному столу и вынул из ящика для бумаг записку.
— Что это такое? — спросил он и подал бумагу Гарденеру. Там стояло только несколько букв ENIHCM.
Ученый долго созерцал их. Потом признался:
— Не знаю. Это не формула, но и не сокращение, по крайней мере из известных мне. Шифр? Не думаю. Он бы запрятал его во что-нибудь реальное, но не вызывающее подозрений.
Гарденер положил записку в карман. Лейтенант хотел возразить, но передумал. Где-то здесь могли находиться бумаги, которые так беспокоили директора банка. Сейфа нигде не было, он бы бросился ему в глаза. Да и к чему он, раз весь дом — сейф. Если такие бумаги вообще были… Он сел за письменный стол и невольно провел рукой по ребру крышки. Справа и слева от него бесшумно открылись ящики.
— Мне скоро жутко станет от этой идиотской автоматики! — ругнулся он, потом, изумленный, полез в один из ящиков, вытащил оттуда целую гору книг того же сорта, что и в жилой комнате, и вывалил их на стол. — И все это ради такого дерьма!
Здесь, в этом царстве техники, даже лейтенант уловил неуместность подобной макулатуры.
— А тут что? — он вынул книги из другого ящика. — «Грамматика», «Словарь», учебник по лексике… — Бумаг, которые он искал, явно не было.
— Во всяком случае, хозяин дома был с причудами! — констатировал репортер, но Гарденер, которому адресовалось это замечание, едва ли его расслышал. Ему вдруг вспомнилось одно совершенно абсурдное, глупое, ненавистническое пари, которое ему однажды предложил Баткинс…
— Ну, что? Что вы так уставились на «Грамматику»? — спросил лейтенант. — Что-нибудь пришло на ум?
— Да, — сказал Гарденер. — Я думаю, мы можем прекратить обход!
Через обширную библиотеку, заполнявшую, по оценке репортера, целую стену здания, они вернулись в гостиную.
— Ну, начинайте! — сказал Мэттисон, когда они уселись.
— Покойный мне однажды предложил пари — несерьезное, только для красного словца, по крайней мере тогда я думал так, да и нельзя было воспринимать его серьезно. Мы говорили об образовании. Баткинс заявил, что наше американское общество образованно ровно настолько, что любому дикарю, никогда не покидавшему свой атолл в южных морях, достаточно всего четырнадцать дней посмотреть наши телевизионные программы и почитать бульварные журналы и издания, чтобы стать «социально зрелым» человеком…
— Как сюжет — красиво! — сказал репортер. — Представьте: дикарь, только что натаскан, не знает цену деньгам — природное стремление к свободе позволяет ему убегать прежде, чем его…
— Поберегите свою причудливую фантазию для публикаций в газете, но только с моего согласия, если позволите! — буркнул Сэм, вытирая платком вспотевший лоб.
— Благодарю, но не воспользуюсь вашим согласием, — ответил Уилкинс. — Я репортер уголовной хроники, провоцировать расовые погромы не мое дело. Подумайте, что произошло бы в нашем прекрасном городке, если бы я такое написал! Цветные здесь точно так же наэлектризованы, как и всюду, только, может, не так много их. А белых фанатиков хватает.
— Оставим эту чепуху, — проворчал лейтенант. — Профессор, может, вы будете так добры и придумаете что-нибудь с выходом? А мы оба, мистер Уилкинс и я, тем временем осмотрим верхний этаж, наверняка он тут есть. И пусть не обязательно папуас — но кто-то должен же быть здесь! Вероятно, там, наверху, он и спрятался…
Лейтенант подошел к двери, которой они еще не воспользовались. Она отворилась — за ней виднелась лестница. Сэм Мэттисон и репортер стали подниматься вверх. Дверь снова закрылась, Гарденер остался в одиночестве наедине с мертвецом.
Ученый удивился тому, что не чувствует страха.
«Сначала посмотрим, — подумал Гарденер, — как нам удастся отсюда выбраться». Он еще раз достал загадочное письмо и взглянул на него.
«Джеремия Баткинс мертв. Письмо поможет Вам войти в дом. Количество слов к дате».
«Дата… Дата… Неплохая идея — сделать дату основанием цифровой комбинации, открывающей дверь. Только и дела, что соединить дверной механизм с автоматическим календарем, а дальше кодовая группа цифр будет ежедневно изменяться. Если кто-нибудь случайно и увидит код, то не страшно: на завтра он уже недействителен. Код легко запоминается, и его не надо нигде записывать. И даже если кто-то ненароком догадается, в чем дело, то с восемью цифрами существовало около 3 600 000 вариантов, если механизм был установлен не на сегодняшнее число, а на какое-нибудь другое, и только в полночь прокручивался на день вперед. Так оно и было. «Количество слов к дате». А какое количество слов? Слов тринадцать, стало быть, код — это сегодняшнее число плюс тринадцать дней?»
Что-то тут беспокоило Гарденера. Число тринадцать было здесь каким-то несоответствующим, не относящимся к делу.
Ну, конечно, это было явно неудобный, так сказать, несподручный для владельца ключа от дома. Ведь тогда, начиная с 17-го числа, надо было подсчитывать, сколько дней в этом месяце, складывать и вычитать, и, несмотря на все это, кто хоть раз не ошибется при таких расчетах? Чарльз Гарднер представил себе, как Баткинс стоял перед дверью и считал по пальцам. Нет, решение явно не годилось.
Но что еще можно понимать под «количеством слов»? В самом общем смысле — это число, прибавляемой к дате и получаемое из отдельных фраз. Итак, если в первом предложении три слова, во втором — шесть, а в третьем — четыре… Три, шесть, четыре… Проклятье! 364 — так это значило: вчерашнее число плюс год! Да, вот оно — решение, удобное, но недоступное непосвященному! Чем дольше размышлял об этом Гарденер, тем больше он убеждался в своей правоте. И только теперь, когда нашлась разгадка, он подумал о том, кто же изготовил это письмо и отправил его? Неужели Баткинс выдал кому-нибудь свой секрет? Нет, невозможно. Но сам он не мог отправить послание, ведь смерть настигла его внезапно!
Мысли ученого смешались, он не мог найти ответа на этот вопрос и даже обрадовался, когда снова появились лейтенант и репортер — но не из той двери, через которую они ушли наверх, а из другой, и не спустились, а поднялись откуда-то снизу.
— Мы были еще и в подвале, — рассказал репортер, — там своего рода электростанция в миниатюре. И нигде ни единого признака присутствия второго человека!
— Не знаете ли вы случайно, профессор, — спросил лейтенант Гарденера, зачем нужны были покойному протезы? Наверху мы нашли несколько. У него были знакомые, носившие протезы?
— У него вообще не было знакомых, я уже вам говорил! Понятия не имею, что он собирался с ними делать. А теперь послушайте, какое открытие я сделал. — Он рассказал обоим о числовой комбинации, которая им откроет дверь, и о том, как он догадался об этом.
Уилкинс записывал все услышанное, но Гарденер запротестовал:
— Вы не должны об этом писать, иначе ключом от этого дома будет владеть количество людей, равное тиражу газеты!
— Правильно, — поддержал Мэттисон, — это приведет к правонарушению, а кроме того, вы что — хотите, чтобы сюда прибежало целое стадо газетчиков?
— О’кэй, — репортер кивнул, больше убежденный последним аргументом, и спрятал блокнот.
— И вам тоже, профессор, придется вместе с нами покинуть этот дом, продолжал лейтенант. — До тех пор пока все не будет сфотографировано и описано, никто не может в одиночку находиться на месте происшествия.
Когда они подошли к двери, Гарденер нажал кнопки, соответствующие вчерашней дате и году, но дверь не открылась.
— Ну, не получается? — спросил лейтенант.
— Я, наверное, не все кнопки нажимал с одинаковой силой, — медленно проговорил Гарденер, в то время как мозг его лихорадочно работал.
Он был убежден, что правильно расшифровал письмо и правильно прибавил дату. Но где-то в цепи его рассуждении был пробел. Где? Он не мог больше медлить, иначе это заметят остальные, а это было бы ему неприятно. Баткинс, во всяком случае, должен был нажимать правильные цифры, иначе он не попал бы внутрь. Потом кто-то отключил ток… Правильно! Когда дверной механизм при отключенном токе не работал, то, надо думать, и счетчик календаря бездействовал. Да, только так! Значит, ему надо отсчитать обратно восемь, нет — девять дней, итого десять дней назад! Пока Гарденер нажимал кнопки, он решил — совсем неожиданно для себя — не открывать эту деталь остальным.
Они вышли наружу, дверь за ними закрылась. Репортер попрощался, а Мэттисон тут же в машине связался с полицейским управлением.
Следующие дни принесли с собой кричащие рубрики в газетах, нетерпеливые расспросы любопытных соседей и приглашение от некоего мистера Килинга, адвоката, присутствовать при вскрытии завещания.
Чарльз Гарденер счел нелишним известить об этом лейтенанта Сэма Мэттисона, и тот послал сержанта Пинкертона.
В адвокатском бюро мистер Килинг попросил каждого из собравшихся удостоверить свою личность и затем удовлетворенно кивнул.
— Сначала я хочу преподнести вам, господа, одно «открытие», которое кое-что объяснит вам. Я, разумеется, тоже читал газеты и потому могу представить, что вы ломаете головы над тем, откуда могло появиться странное письмо. Оно отправлено нашим бюро. Мистер Баткинс сдал его нам на хранение несколько лет назад с просьбой отослать, если он свыше недели не подаст о себе вестей. Этот случай наступил. А теперь я перехожу к вскрытию завещания, но хотел бы просить вас не ставить мне в вину мнения моего покойного клиента. — Он торжественно сломал сургуч и начал: —
«Я, Джеремия Джошуа Баткинс, физик, заявляю по доброй воле и в твердой памяти, что назначаю своим полным наследником физика Чарльза Гарденера, проживающего на Ричмонд-стрит, 42. Я принял это решение не потому, что мистер Гарденер мне ближе всех остальных. После долгих размышлений я пришел к выводу, что он единственный, кто поступит с моим состоянием и собственностью так, как это доступно только нам, ученым: употребит их на эксперименты, не подчиненные определенной цели. У меня нет другого выбора. Если бы кто-нибудь использовал мои средства, чтобы предаваться своим удовольствиям, как это понимается у нас, то он просто пополнил бы собой толпы паразитов на теле некогда здоровой страны. Если мои деньги будут отданы целям так называемой благотворительности, то этим только дольше сохранится обман, которым прикрыто разложение нашего общества как цивилизации. Но хуже всего, если бы мое состояние начало служить продуктивной цели. Одна мысль об этом внушает мне ужас. Ибо что бы ни производилось, одновременно с вещами будет вырабатываться еще большая зависимость от этих же вещей. Я ясно представляю, что вряд ли кто-нибудь поймет эти причины, но мне это безразлично.
Так как я хотел бы, чтобы мистер Гарденер стал владельцем наследства при любых обстоятельствах, то воздерживаюсь от каких-либо условий или пожеланий в части его применения. Имею только одну просьбу: он должен позаботиться о том, чтобы после его смерти остаток состояния ни в коем случае…» —
адвокат запнулся, прокашлялся, бросил на обоих слушателей виноватый взгляд и продолжал: —
«…ни в коем случае не достался этой стране, которая не в состоянии подождать своего заката в спокойствии и величии, а вместо этого прививает свой трупный яд другим народам — будь то в форме капиталовложений или напалма. Мистеру Гарденеру известно, что я вовсе не аскет и приятное, предоставляемое жизнью, охотно вкушал в той мере, в какой это не умножает грязь на земле; я имею в виду, таким образом, преимущественно нравственные удовольствия, эксперименты с природой, которая для человека науки может стать областью истинных забав, когда он воздерживается от бесплодных попыток где-то что-то изменить. Так что по-своему я тоже любитель удовольствий и хочу надеяться, что мое наследство по меньшей мере в этом деле пойдет по моим стопам.
Джеремия Джошуа Баткинс».Джейн Гарденер поднесла к губам крохотную чашечку и отпила глоток кофе. Она принадлежала к тем немногочисленным женщинам, которые, не растеряв всю свою красоту в молодые годы, оставили и на старость кое-что, а потому выглядят свежо и радуют взор.
Она сидела выпрямившись и, не поворачивая головы, следила за мужем, который решительно расхаживал по комнате, словно готовился к семинару, где ему предстояло распекать нерадивых студентов-физиков.
Она знала, что это целеустремленное разгуливание из угла в угол было лишь выражением крайней досады, а крайняя степень досады, которую знал Чарльз Гарденер, была досадой на самого себя, на свою нерешительность — не в отношении практических дел, решать которые было уделом жены, а в принципиальных вопросах.
Джейн отлично понимала причины. Огромное наследство, от которого другие пальчики бы облизывали, угрожало перевернуть вверх дном весь уклад их жизни.
Чарльз Гарденер прервал свое хождение и, словно подслушав мысли жены, проговорил:
— Одно мы все же обязаны сделать — добиться ясности: с чем связана смерть Баткинса? И тогда посмотрим, как нам лучше поступить с этим проклятым наследством. А если там и впрямь был кто-то еще, я имею в виду в «крепости» Баткинса, то нам потребуется помощь. Одни мы ничего не разузнаем.
— Полиция? — спросила она с сомнением в голосе. — Закроет дело как законченное. Уж лучше нанять частного детектива. Ведь можно же найти какого-нибудь Марлоу или Пуаро. Однако давай лучше подумаем о ближайших делах. Тебе надо бы еще раз все осмотреть в «крепости».
— Для чего? — пробурчал он недовольно.
— Ну, допустим, сравнить счета или, возможно, выяснить, не ждут ли востребования какие-то заказанные Баткинсом поставки. Медлить бессмысленно — так или иначе нам предстоит это. Ни один человек не живет, и Баткинс в том числе не жил, ожиданием сиюминутной смерти и потому всегда оставляет после себя что-нибудь такое, что нуждается в упорядочении. И зачастую в этих маленьких вещах человек распознается больше, чем в самых грандиозных умозрительных характеристиках.
— Что ж, тогда честь открытия будет принадлежать тебе, — поклонился он и продолжал с неожиданной энергией: — Решено! После обеда отправимся в «крепость» Джима и поработаем там!
Как раз когда они стали собираться в путь, в прихожей позвонили.
Репортер «Мидлтон Стар» Генри Уилкинс пробуждал в Джейн почти материнские чувства. Давным-давно они имели ребенка, мальчика, который утонул семи лет от роду. Его лицо и голос они уже плохо представляли себе, но манеры странным образом сохранились в их памяти. Этот репортер был такой же худой и угловатый в движениях…
Конечно, Джейн была достаточно умна, чтобы не выдавать своих чувств, но ее очарование и умная беседа и без того покорили репортера настолько, что он с удовольствием откладывал сейчас объяснение причин своего появления и, не торопясь, пил ароматный кофе. Но когда Чарльз явно демонстративно посмотрел на часы, Джейн опередила его:
— Нехватка времени — это привилегия тех, кто еще работает. Но, возможно, мистер Уилкинс сам торопится, а мы его только задерживаем своим докучливым старческим гостеприимством?
Генри Уилкинс запротестовал:
— Что вы? Чувствовать себя по-домашнему — это такое редкое удовольствие для репортера, что надо использовать этот момент, как только он выпадет. Тем более если при этом можно сочетать приятное с полезным!
— Отрадно слышать, что вам с нами приятно, — заметил невозмутимо Чарльз, — но чем мы можем вам быть полезны?
— Знаете ли вы уже какие-нибудь подробности про вашего таинственного дикаря? — спросил напрямик репортер.
Чарльз покачал головой, а Джейн наклонилась вперед, подперла подбородок кулачком и спросила:
— А что вы сами думаете обо всей этой истории?
Потом, покосившись на мужа, подняла брови: будь внимателен.
— Что мне сказать вам? — откинулся Уилкинс на спинку кресла. — Как раз то, что я теряюсь в догадках, делает для меня этот случай особенно интересным. Итак, что я думаю? Я признаю лишь факты. Во-первых, кто-то отключил ток именно тогда, когда Баткинс открыл дверь. Доказательства открытая дверь, выключенный свет и автоматически запирающий двери механизм, мгновенно приводимый в действие, как только ток снова включается. Во-вторых, кто-то после прихода Баткинса покинул дом. Доказательство — цифры на счетчике фотоэлемента. Теперь я попытаюсь представить себе, почему этот кто-то так поступил. Вариант первый: у него вообще не было на то никакой причины. Это значит, что он просто резвился, скажем, в разных углах дома, то тут, то там, и случайно потянул вниз рубильник в тот момент, когда Баткинс вошел в дверь. Это версия, за которую явно ухватится полиция, чтобы закрыть дело. Но я считаю ее нереальной.
Он посмотрел на Гарденеров вопросительно и, прочитав интерес в их глазах, продолжал:
— Человек, которому приблизительно известно назначение физической лаборатории, то есть нормальный человек, возможно, и позабавился бы с какими-нибудь приборами, но он не станет отключать рубильник. Если же он ненормален — сделаем такое сумасбродное предположение, вытекающее из пари, о котором вы однажды упомянули, и предположим, что речь шла о дикаре, — то он нашел бы в этом доме тысячу предметов, которые с точки зрения игры заинтересовали бы его гораздо больше.
Джейн ободряюще кивнула ему:
— Дальше, молодой человек, дальше. Нам очень интересно слышать такое полностью непредвзятое мнение. Сами-то мы вряд ли сможем освободиться от знания известных связей, и прежде всего — личности Баткинса.
— Итак, предположим, у него была причина опустить рукоять именно в тот момент. Что за причина? Самое безобидное, если он хотел просто позлить профессора или попугать. Но тогда он по меньшей мере включил бы ток снова и посмотрел, что произошло, когда Баткинс вошел и упал. Так что это не приведет нас ни к чему. Тогда предположим, что он хотел сделать то, что и сделал, — покинуть дом. Но он мог бы добиться освобождения проще, даже если бы пошел в этом против воли профессора. Баткинс был невооружен и слаб. Наш кто-то должен был всего-навсего подождать у двери, оттолкнуть профессора и убежать. Итак, эта версия тоже нескладна. Как ни крути, а весь случай остается мистикой. Вы знаете еще что-нибудь? — спросил репортер.
— Да, — сказала Джейн, — но не об этом происшествии, а то, что вы человек, который нам нужен. Мы чувствуем себя в известной мере обязанными выяснить обстоятельства смерти мистера Баткинса, но думаем, что полиция не будет очень стараться. Мы же оба стары и вряд ли способны чем-нибудь помочь, кроме размышлений над фактами. Хотите, будем действовать совместно? Мы как раз собирались отправиться в эту «крепость», когда вы пришли. «Крепостью» мы называем дом Баткинса. Соглашайтесь!
Генри Уилкинс настолько освоился в этом доме, что от радости подскочил в кресле, как ребенок:
— Это больше, чем я рассчитывал!
— Тогда отправляемся! — сказала Джейн решительно.
Сэм Мэттисон выстукивал пальцами марш по письменному столу. Не объявить ли дело Баткинса законченным и передать прокурору? Никакого сомнения, все было ясно, экспертиза безупречно доказала, что это несчастный случай и смерть Баткинса не вызвана вмешательством со стороны. По крайней мере, непосредственным. Даже при обнаружении человека, который, возможно, был в этом доме, против него нельзя выдвинуть обвинение. Короче, все говорило, что дело надо закрыть. Но тогда дальнейшие розыски для директора банка он вынужден будет проводить в частном порядке, а это бросилось бы в глаза, по меньшей мере его сержанту Пинкертону. С другой стороны, этот парень удивился бы, не закрой он дела об ограблении банка, и обязательно посоветовал бы лейтенанту вообще немедленно убрать этого налетчика, лишь только станет известно, кто он и где.
Сэм Мэттисон еще обдумывал решение, как вдруг в комнату ввалился сержант и выпалил:
— Он у нас в руках!
— Ну, ну… — проворчал лейтенант.
— Возможно, в руках, — поправился сержант теперь немного тише. — В нашем городском «дне» появились новые типы. Я был по поводу драки в «Муншайн-баре» и там наткнулся на одного болтуна, который за несколько долларов рассказал интересные вещи…
— Ну, начинай тогда! — сказал лейтенант.
Сержант уселся на край его стола и принялся болтать ногами.
— Появился новый человек, и никому не известно, кто он и откуда. Его называют Неприметным. Он пришел туда однажды, но никто точно не знает, когда; он там не более четырнадцати дней. Ни с кем не разговаривает и уклоняется от любого контакта. Он всегда приходит во второй половине дня, выпивает от двух до трех порций виски и уходит. Чернушка Дженни пыталась приземлиться возле него, но он, дав ей доллар, вежливо объяснил, что он, видите ли, другого сорта. Но это вранье, Джонни Липовый Цент оспаривает это, а у него нюх в таких делах. Это их и насторожило в Неприметном. Сначала они думали, что он из Чикаго и пришел сюда, чтобы выйти из полосы огня, такое иногда бывает. Но в один из дней появились два парня из Чикаго, которые кого-то искали. Они посмотрели на Неприметного и сказали: «Это не он».
— Он никогда не был там замешан в чем-нибудь? — спросил лейтенант.
— Нет, у него на этот счет словно шестое чувство: как только в баре начинается потасовка, он тут же смывается. Обычно же просиживает там свое время с точностью до минуты.
— Какие-нибудь особые приметы?
— Да нет, уже сказано — Неприметный. Но мы можем взглянуть на него. Тот болтун готов нам показать его.
— Когда?
Сержант поднес к глазам часы:
— Как раз нужно выходить!
— Ну, хорошо! — решился лейтенант.
В «Муншайн-баре» они нашли нужного им человека за одним из столиков, который стоял немного в стороне, но позволял хорошо видеть сам бар и стойку. Это был мужчина лет тридцати пяти с внешностью и манерами преуспевающего дельца и обманчиво глупой ухмылкой.
— Хэлло, дядя Сэм! — поздоровался он не совсем почтительно. — Ну, что вы можете предложить?
Лейтенант знал, что информацию получают за информацию. Он взглянул на сержанта:
— Что вы ему рассказали?
— Подробности истории с мусорным контейнером.
Сэм кивнул:
— Хорошо. Тогда я вам скажу, что, возможно, этот человек осуществил ограбление банка.
Маклер покачал головой.
— Не знаю, могу ли это тоже поставить в счет. Если я вам скажу, что и в кругах моих других клиентов тоже ходят слухи об этом, то моя и ваша информации взаимно уничтожаются. Оба известия стоят не слишком много, каждая по пятьдесят долларов, итого сто, десять процентов от этого десять долларов. — Он держал ладонь открытой.
— Большего я сейчас не могу предложить, — пробурчал Мэттисон, расплачиваясь. — Но вы могли бы заработать еще, если нам сегодня покажете этого типа…
Маклер сделал великодушный жест:
— Это уже оплачено. А тип действительно начинает тут беспокоить всех. Он снова глупо ухмыльнулся. — Вы видите, я честен, как, собственно, вообще должно быть в делах, а в нашей отрасли доверие — душа сделки.
— Ну, прекрасно, — сказал лейтенант.
Он заказал двойное виски и задумчиво тянул из рюмки, размышляя о своем домике и розах, разведение которых должно занять его старческие годы и дополнилось бы еще кое-чем, если удастся схватить парня, которого они здесь ждали.
— Вот он, идет! — прервал его мечты маклер.
Человек среднего роста перешагнул порог заведения. У него была стандартная внешность, и вел он себя как типичный местный обыватель. Он не скользнул изучающим взглядом по залу, как это делают опытные уголовники, молниеносно регистрируя присутствующих и тут же классифицируя их, а направился беззаботно к стойке и сел, ни разу не оглянувшись.
— Разве он поистине не Неприметный? — спросил маклер, полный своеобразной гордости.
Некоторое время они молча разглядывали не очень широкую спину Неприметного.
— Мне показалось, будто его походка немножко… Ну как это?… Может быть, слишком точна, будто у него протез… — сказал задумчиво сержант.
Протез? Мэттисон аж поперхнулся. В доме старого Баткинса валялись протезы! Он повернулся к маклеру:
— Возможно, это уже чрезмерное требование — спрашивать у вас, где он живет?
— Я вам отвечу бесплатно, — сказал тот. — Этого не знает никто.
Пинкертон продолжал обобщать свои наблюдения:
— Он все время поворачивается к нам спиной. Как будто нарочно не смотрит сюда. И вообще почти не двигается. Вот, смотрите, кто-то взбирается на табурет рядом с ним, а он даже не отреагировал.
— Вот так всегда, — подтвердил маклер.
В ту же минуту Неприметный расплатился и поднялся с места.
— Скорее за ним, установите, где живет! — приказал лейтенант.
Пинкертон встал из-за стола и направился в туалет. Через некоторое время двери бара, выпустив Неприметного, снова сомкнулись.
— Я полагаю, он обычно остается здесь дольше? — спросил лейтенант.
— Сам не понимаю, — ответил маклер настороженно, — похоже, что-то должно случиться. Но здесь вряд ли найдется кто-нибудь, — он оглядел зал, — кто затеял бы заваруху.
Они подождали еще четверть часа, но все было тихо.
Тогда лейтенант попрощался.
Сержант Пинкертон, воспользовавшись не раз уже испытанным средством окном в туалете, выбрался во двор и оттуда вышел на улицу. В десяти шагах перед собой он увидел Неприметного и последовал за ним. Тот не спеша спускался вниз по улице, останавливаясь то тут, то тем и глядя на витрины и уличное движение, но ни разу не оглядывался. Преследовать его было совсем не трудно, тем более что он был в светло-серой шляпе, и к ней сержант быстро привык.
Когда Неприметный снова застыл перед одной из витрин — это была булочная, — ему, видимо, пришла в голову какая-то мысль. Он вошел в магазин.
Пинкертон проплыл мимо витрины и бросил взгляд через стекло. В лавке торчали несколько покупателей, так что у него было время прикурить сигарету. Через несколько минут появился Неприметный с пакетом в руках, но странно — он пошел очень быстро и на этот раз в обратном направлении.
Неду не пришлось долго идти за ним. Сотня шагов — и человек с пакетом уже входил в какой-то дом.
Сержант проскользнул в парадное и прислушался. Наверху, где-то на втором этаже, раздавались шаги. Потом донесся звонок. Открылась дверь, женский голос сказал: «Боже милостивый, откуда у тебя эта смешная шляпа?» И мужской голос в ответ: «Там, в лавке, мне попался один идиот, он поспорил со мной на свою шляпу, что булочки вчерашние; конечно, он проиграл…». Тут дверь закрылась.
Пинкертон как одержимый бросился обратно к булочной, но Неприметного там уже не было.
— Итак, вот она, «крепость» Джима! — сказала Джейн, когда они стояли перед огромным, похожим на оригинальную виллу, домом.
— Теперь это ваша крепость, — заметил репортер.
— К сожалению, — рассеянно добавил Чарльз. Он нажал цифровую комбинацию, но и сейчас ничего не сказал о необходимости вычесть десять дней.
У Джейн были грустные глаза, когда они проходили по комнатам, но она молчала. Чарльз на сей раз дольше пробыл в лабораториях и складах; он объяснял любопытному репортеру назначение приборов и втайне еще больше, чем раньше, восхищался многосторонностью покойного. Лишь спустя час они добрались до рабочего кабинета и сели там, слегка утомленные.
— Одного я не понимаю, — сказал репортер. — Уж если человек несет такие затраты, то это должно дать какие-нибудь результаты!
— Вы не знаете ученых, — возразила Джейн. — Они иной раз могут играть, словно дети, только игрушки у них дороже и опаснее.
— Для меня это тоже загадка, — признался Гарденер. — Прежде всего я не вижу никакой системы во многих направлениях, которыми был занят Баткинс. Должна же быть какая-то связь. Он всегда был большим любителем мастерить что-нибудь. Научное приборостроение обязано ему многими идеями. Итак, если он мастерил какие-нибудь приборы, то — какие? И где они?
— Должны существовать какие-то наброски, переписка, заказы, квитанции, — сказала Джейн. — Ты его лучше знал: он любил порядок?
— Фанатично! — ответил Чарльз.
Джейн поднялась и направилась к полкам, встроенным в стены и заполненным книгами. В одном из низких шкафов под полками она нашла стопку папок. Она вынула несколько и полистала бумаги внутри.
— Газетные вырезки. Еще вырезки. Здесь тоже. Стоп, вот тут счета… Продукты, товары разные… Вот счета за поставленное лабораторное оборудование. Одна, две, три папки — полные. Ты этим можешь поинтересоваться, Чарли, возможно, тут что-нибудь отыщется. А здесь что? Переписка с научными учреждениями. Это могу посмотреть я. Генри, вы можете осмелиться приготовить в той автоматизированной кухне кофе для всех? Я думаю, что вы там найдете все, что нужно для этого, потому что Баткинс пил кофе.
В то время как Джейн и Чарльз взялись за бумаги, репортер в кухне испытал серию приключений среди всевозможных приспособлений и кнопок, о назначении которых можно было лишь догадываться и которые оставалось лишь нажимать в порядке эксперимента.
Он попробовал решить проблему анализом и размышлениями. Если старый Баткинс любил пить кофе, то он наверняка делал это часто. Отсек оборудования, изготовляющий кофе и напитки, таким образом, должен находиться с практической точки зрения поблизости от двери. Он нажал первую кнопку — внутри началось легкое жужжанье, возможно, мельницы. Спустя некоторое время кусочек поверхности опустился вниз, и когда этот миниатюрный лифт появился снова, на нем стояла чашка с кофе. «Ага, подумал репортер и взял чашку. — А теперь то же самое еще раз!»
— Ну, вы что-нибудь обнаружили? — спросил он, принеся последнюю порцию кофе.
Гарденер, расстроенный, закрыл папку и взял в руки записку, на которой он кое-что помечал.
— Разве разберешься в этом? Вот посмотрите, что я выписал: молекулярная электроника, протезы, гидравлические устройства в технике миниатюризации, элементы питания, пенопласт и пластиковая фольга, специальный труд об искусстве скульптуры, миниатюрные рецепторы всевозможных видов и разные приборы высокой частоты, инструменты и всякий металлический хлам…
— А о рецепторах вот тут переписка, — добавила Джейн.
— А что такое рецепторы? — поинтересовался репортер.
— В широком смысле это — датчики, измерители, — ответил Чарльз.
— Так сказать, глаза и уши техники, — пояснила Джейн. — Кстати, сюда входят рецепторы световые, звуковые и запаховые.
— Но ведь это должно было стоить кучу денег! Сколько это примерно потянет? У вас ведь есть счета, мистер Гарденер…
Чарльз Гарденер досадливо фыркнул.
— Вы меня выбили из седла, друг мой, я почти было ухватился за ниточку… — сказал он с упреком.
— Ничего, — успокоила его Джейн, — ты еще вспомнишь. Давайте-ка сначала выпьем кофе.
Они с наслаждением смаковали крепкий напиток. Уилкинс увидел, что Джейн и Чарльз продолжают напряженно думать, и стал рыться в журналах, на которые он обратил внимание еще в первый свой визит. Листая один из них, он вдруг замер от удивления, а потом воскликнул, взволнованный:
— О, да тут описывается в деталях ограбление банка, которое недавно наделало так много шума! Помните — двадцать тысяч в помойном баке? Только вот ничего нет о таком мусорном финале!.. Кстати, если покойный был такой любитель мастерить, то почему он не соорудил себе робота, который был бы его слугой? — весело предположил репортер.
— Стойте! — вдруг вскрикнул Чарльз очень громко. — Вы счастливец — так оно и есть! Конечно! Он создал робота! Это и есть точка, в которой сходятся все эти странные заказы, рецепторы и пенопласт с техникой скульптуры!..
— Но где же он? — удивленно спросила Джейн.
Генри откашлялся и обратился к Чарльзу:
— Вы, кажется, что-то говорили о пари?
Чарльз Гарденер сидел прямой, как струна.
— Этого не может быть! — прошептал он. И после паузы продолжал: — Но тогда все совпадает! Баткинс строит робота, до мелочей похожего на человека, и вооружает его компьютером, гибким и цепко запоминающим. Потом он пичкает его этими бульварными журналами, в которых содержится все, что соответствует элементарным представлениям об американском образе жизни и нашей повседневной практике. Иными словами, он словно бы имел дело с дикарем, чей мозг не был еще «облизан» цивилизацией. К этому наверняка добавьте еще некоторые технические знания… — Чарльз Гарденер застонал.
— И тогда роботу наскучила опека, и он вырвался на свободу? — воскликнул репортер.
— Нет, чувств у него определенно нет, научные эксперименты еще не зашли так далеко. Но он неоднократно «читал» о том, как заключенные убегали из мест заточения — об этом ведь сообщается в любом подобном журнале, и ему оставалось лишь скопировать это поведение в соответствии с обстоятельствами…
— Минутку, — вмешался репортер. — Почему он просто не покинул дом, когда Баткинс отсутствовал?
— Джим не открыл ему тайну шифра. А насколько я его знаю, он и робота запрограммировал так, что тот не мог причинить вред человеку непосредственно, прямым действием. Баткинс ведь никому не хотел причинять несчастья, а всего-навсего создать вид сатирического доказательства.
— А робот все в точности пронаблюдал и увидел, как нужно использовать единственный шанс — и именно в те секунды, когда дверь была открыта.
— Правильно! Но в эти секунды в двери стоял его хозяин и конструктор, и он бы позвал его обратно, даже если ему удалось бы прошмыгнуть мимо. О главном рубильнике он либо уже знал, либо доискался до него в опытном порядке, а для вывода о том, что отключение тока останавливает все процессы, в том числе и запирание двери, достаточно знаний первоклассника.
— И тогда он вышел наружу и начал претворять в жизнь вычитанное а журналах! — прошептал репортер. — Вот это история!..
Только Джейн оставалась хладнокровной.
— Да, но мы недооцениваем трудности, с которыми пришлось бы столкнуться при изготовлении такого робота.
— Вообще, конечно, — неохотно сказал Чарльз. — Проблем тут целая гора. Прежде всего потому, что многие вопросы пришлось бы решать совсем новым способом, и это относится не только к компьютеру. Но Баткинс был гением, обладавшим работоспособностью слона. Если он действительно создал робота, то при этом сделал так много открытий и изобретений, что их хватило бы на организацию новой промышленной отрасли. — Он помолчал с минуту. — И никаких набросков! — добавил он огорченно.
— Но это соответствует его линии, — заметил Генри.
— А тогда возникает еще один очень простой вопрос, — вмешалась Джейн. Почему, выходя, он попросту не нейтрализовал робота? Ведь тот мог бы и без того натворить здесь кучу всяческих бед.
Чарльз Гарденер и репортер смущенно переглянулись.
— А я вам хочу сказать, — заявила Джейн, улыбаясь, — что он просто иногда забывал это делать!..
Гарденер рассмеялся досадливо, словно кто-то неудачно сострил.
— Вспомни же, каким он бывал! — призвала его Джейн. — Когда он о чем-нибудь напряженно размышлял, то был сама рассеянность. Ты помнишь, как однажды, играя в шахматы, он принял пепел от сигар за сахар и заехал ложкой прямо в пепельницу?
— Сахарница и пепельница — вот типичный горизонт женщины! — пробурчал Чарльз сердито.
— Эй, кто это здесь с таким самомнением? — спокойно спросила Джейн, и Чарльз засмеялся.
— Прости, — сказал он, — ты права, а я просто позавидовал, что не я лично пришел к этой мысли. Но что нам теперь делать?
— Нужно предупредить людей. Это в первую очередь моя забота, — репортер потер лоб. — Я скажу об этом в полный голос…
— А как будет выглядеть ваше сообщение? — осторожно спросил Чарльз.
— Ну, примерно так:
СРЕДИ НАС РОБОТ! ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ ПРЕСТУПНИКА УГРОЖАЕТ ГОРОДУ!
Или что-нибудь в этом духе.
— Ради бога, только не так! — воскликнула Джейн в испуге.
— Хорошо, поставим на конце знак вопроса, — сдался репортер.
Сердито отдуваясь, смотрел лейтенант Сэм Мэттисон на кипу газет, лежащую перед ним на столе. Назревал гигантский скандал! Всего три дня, как «Мидлтон Стар» опубликовала сенсационное сообщение, а сколько с тех пор различных происшествий!
Он вытащил наугад несколько газет.
«Вчера утром в автобусе некто Альберт П. чуть было не подвергся нападению пассажиров за то, что в его портфеле что-то громко тикало. С помощью водителя ему, однако, удалось доказать, что он просто собирался отдать в починку свой будильник».
«Шайка подростков преследовала сегодня на Ричмонд-стрит прохожего, который был принят за разыскиваемого робота. На углу авеню Линкольна сорванцы догнали свою жертву и повалили на землю. Девушка по имени Эвелин Р. ударила лежащего ножом и крикнула: «Смотрите-ка, у него даже настоящая кровь!» Благодаря вмешательству бдительной полиции тяжелораненый был спасен и помещен в больницу».
«Известная киноактриса Сьюзен Бэберли свою новую обезьянку капуцина окрестила именем «Робот». Она заявила репортерам, что ей представляется восхитительным прикасаться к Роботу под стеганым пуховым одеялом на ее роскошной кровати с балдахином».
«Сегодня во второй половине дня на Батчер-стрит неуклюже бежавший мужчина возбудил подозрение у толпы, которая стала преследовать его и вскоре выросла примерно до 2000 человек. Преследуемый укрылся в церкви негритянского квартала. После протестов толпы, выкрикивавшей хором: «Черномазые, отдайте робота!», — появился черный священник и позволил себе бессовестно уговаривать и призывать к порядку возбужденных белых. Негодующая толпа тут же стала защищаться против этой провокации. В ходе возникшей потасовки были убиты три негра. Пожарные еще заняты в настоящее время тем, что тушат пожары в негритянском квартале, возникшие в результате этого нового террористического акта преступных чернокожих элементов. Наши читатели вправе ожидать, что подобные происшествия в будущем будут предупреждаться сильной рукой…»
— Вот, пожалуйста, — вздохнул Сэм Мэттисон. — Одни хлопоты! Да еще незадолго до пенсии. И никакого вознаграждения пока что не предвидится…
В этот момент раздался телефонный звонок. У аппарата был директор Флетчер.
— Мистер Мэттисон, как вы помните, мы говорили в связи с ограблением банка о различных молодежных проблемах, вспоминаете?
— Да, разумеется, — ответил лейтенант. — Я не выпускаю из-под контроля расследование!
— Это похвально, — сказал директор, — прежде всего потому, что для меня, как и раньше, все это очень важно. Я бы оказал делу удвоенное внимание, вы понимаете? Удвоенное внимание…
— Полностью понимаю, — отозвался лейтенант.
— Хорошо было бы в течение недели внести ясность. Я правильно понят?
— Да, сэр, вы выразились вполне понятно.
«Итак, 20 000! — обрадованно думал лейтенант. — Черт побери, вот, наверно, дрожит от страха! Или тут кроется еще большее? Может, этим уже заинтересовались вне нашего города, в правительственных кругах? Все-таки робот как-никак!»
В дверях показался сержант.
— Хэлло! — крикнул он. — Участки получили уже тысячу шестьсот сорок семь сигналов о возможном местонахождении робота!
— Бред! — выругался лейтенант. — Скажи сам, разве тот парень в баре выглядел как робот? Ведь тогда бы ты его перед булочной не спутал!
— В «Муншайн-баре» с тех пор его тоже не видели.
— Еще бы! Он же не глуп. Или постой-ка — могут ли роботы вообще быть умными или глупыми? А в общем, какая нам разница? В любом случае мы должны что-то придумать, как к нему подступиться.
— Причем по возможности до того, как им занялись сверху, — добавил сержант.
— Ты тоже предчувствуешь что-нибудь или слышал что-либо определенное? недоверчиво спросил лейтенант.
— Нет, я умею читать мысли. Это унаследованное дарование — мысли были то единственное, что мой отец мог читать…
— Ну, ну, серьезнее! — предупредил Сэм.
— Уилкинс, репортер, натолкнул меня на одну идею. Ведь наш робот провел ограбление банка в соответствии с описанием в одном из этих пакостных, журнальчиков. Но ведь наверняка он читал и другие. А там выбор неплохой; вымогательства, наркотики, фальшивые драгоценности и кое-что еще похлеще. Возможно, когда-нибудь мы и накроем его на каком-нибудь из этих дел.
Лейтенант сохранял невозмутимый вид.
— Вымогательство отпадает, в большинстве случаев о таких вещах не заявляют. К наркотикам его тоже вряд ли подпустят, они на связываются так быстро с новичками. Но вот драгоценности — это неплохая идея. Позвони сейчас же этому лысому — как его? Да, Гарденеру. Скажи, что нам нужен из той кипы журналов тот, где описано дело с ценностями!
Сержант назвал себя и сказал, что хотел бы поговорить с мистером Гарденером. Неожиданно он побледнел. Прикрыв ладонью микрофон, проговорил вполголоса:
— Ну, пошла кутерьма! Мистера Гарденера какие-то люди забрали якобы для разговора с вами. В автомашине. Вы отдавали распоряжение?
Лейтенант протестующе затряс головой:
— Скажи, что мы сейчас же выезжаем!
Очень скоро Чарльз Гарденер заметил, что они едут не к полицейскому управлению, хотя сидящие в машине были одеты в полицейскую форму. На заданный вопрос вместо ответа к его ребрам приставили дуло пистолета. После этого он отказался от дальнейших расспросов. Но тем напряженнее размышлял. На какой глупый трюк клюнул! Как будто этот лейтенант послал бы за ним машину, да еще с тремя людьми! Без сомнения, он попал в руки преступной банды, возможно даже синдиката. Куда они ехали? Сразу по выезде из Мидлтона шторы были задернуты, так что он ничего не мог видеть. Потом ему завязали глаза, препроводили в какой-то дом и посадили за стол. Когда он снова получил возможность видеть, перед ним предстал довольно хорошо накрытый к ужину стол.
— Шеф сказал, сначала вы должны поесть, — сказал его провожатый как можно дружелюбнее и удалился.
Гарденер вовсе не предпринял попытки ломиться в дверь, а подчинился и стал есть, причем даже с аппетитом.
После этого его принял небрежно одетый господин.
— Нравится ли вам итальянская кухня? — предупредительно осведомился он. — Я всегда считаю, что компромиссы на переговорах скорее достигаются, если удовлетворены телесные потребности. Вы не находите?
Гарденер заверил, что имел не много возможностей накопить подобный опыт. Собеседник кивнул.
— Я вам верю. Вы производите впечатление человека, любящего правду, и это нам облегчит многое. Мы ведь отчасти знакомы с вашей биографией. Так вот, чтобы быть кратким: нам нужен ваш робот. Либо уже существующий, либо вторично воспроизведенный прототип. Серийное изготовление мы бы осуществили под своим руководством. Предлагаем вам или единовременное вознаграждение, или долю на основе ренты. Я знаю, что вы хотите ответить: вы все это не можете, это было изобретением вашего друга, а он умер. Но лучше не говорите этого, а еще раз обдумайте. Но вы могли бы и тотчас изъявить свое согласие. Нет? Ну, хорошо, тогда до завтра!
Он нажал кнопку, и Гарденер был препровожден в комнату, а которой все было отделано со вкусом, даже забранные решетками окна.
Генри Уилкинс стоял перед Джейн Гарденер в позе просителя.
— Вы не вышвырнете меня вон? (Джейн устало покачала головой). Потому что это я своим идиотским репортажем пустил все в ход, — каялся он.
Она смотрела на него непонимающе.
— Разве не ясно? — грустно добавил он. — Какой-нибудь синдикат, большая организация преступников, заманила вашего мужа, так как хочет иметь таких роботов, а с какой целью — не представляю…
— А что же полиция?
Репортер горестно рассмеялся.
— Она в подобных случаях обычно бессильна.
— Они считают, что Чарльз в состоянии строить эти вещи, да?
— Да, и до тех пор, пока они верят в это, ваш муж в безопасности. Но насколько я его знаю, он с самого начала заявит, что не умеет этого.
— Ах, я должна хоть что-нибудь сделать для него, но что? — сказала Джейн, поднимаясь. — Если бы старый помешавшийся Баткинс, по крайней мере, оставил бы наброски, чертежи!..
— А может, они существуют, но спрятаны? — предположил репортер. — Что если нам пойти и еще раз поискать?
Когда они прибыли, было уже темно, и Генри предусмотрительно осветил фарами окрестности виллы. Они уже подходили к дому, как вдруг перед ними, словно из-под земли, выросла фигура полисмена, козырнувшего им.
— Я поставлен сюда для наблюдения лейтенантом Мэттисоном, — сказал он. — На случай, если заинтересованные круги захотят сунуть сюда свой нос!..
Уилкинс внимательно смотрел на него. Он не мог отделаться от впечатления, что уже видел однажды этого полисмена.
— Покажите-ка свое удостоверение!
Но тут полисмен уже вынул пистолет и заставил их подойти ближе к дверям.
— Без глупостей! — предупредил он. — Сейчас откроете, как миленькие, а там видно будет…
— И не подумаем! — заявил репортер.
— С дамой ничего не случится, — сказал мнимый полисмен, — а у вас всего лишь три минуты. Если после этого дверь не откроется…
— Ничто не поможет, — вздохнула Джейн. — Откройте…
Генри Уилкинс нажал кнопки, но дверь не шелохнулась.
— У вас еще девяносто секунд! — мнимый полисмен чуть приподнял дуло пистолета.
Но в это мгновение кто-то из темноты ударил сбоку по его руке, а молниеносный удар в живот заставил его согнуться пополам. Появился элегантно одетый мужчина и поклонился.
— Капитан Бэкетт! — представился он. — Наконец-то мы взяли его. Теперь вы можете открывать.
— В том-то и дело, что не можем, — сказал репортер. — Шифр больше не подходит. Тем не менее, прежде всего примите нашу благодарность.
— О, не стоит разговора! — вежливо ответил незнакомец, — В таком случае не лучше ли нам обсудить детали в более приятной обстановке?
Джейн, еще тяжело дышавшая, пришла в себя и проговорила не без труда:
— Могу ли я пригласить вас, нашего спасителя, к себе домой?
— Согласен, — весело заявил незнакомец.
— А этот? — спросил репортер, показывая на псевдополисмена, все еще лежавшего на земле.
— О нем позаботятся.
Капитан свистнул. Из темноты выступили два полисмена, на сей раз подлинные — их Генри тотчас узнал, — и потащили куда-то до сих пор не пришедшего в себя проходимца.
Чарльз Гарденер почти не спал в эту ночь. Он сотни раз обдумывал свое положение, не находя сколько-нибудь разумного решения, которое дало бы шанс спастись. Если скажет, что может делать роботов, они потребуют, чтобы он только этим и занимался, и уж позаботятся, чтобы не вырвался отсюда. Но если заявит, что не в силах осуществить это, что соответствовало истине, то они не поверят, а попытаются заставить его. Даже, возможно, втянут в это и Джейн. Если же ему удастся убедить их, всякий интерес к нему будет потерян, и на этом, пожалуй, кончится его земное существование. Но тогда, по крайней мере, Джейн будет в безопасности.
И он принял решение действовать именно так, хотя перспектива была не так уж благоприятна.
На этот раз не было никакой еды. Его просто вытащили из постели и приволокли к шефу.
— Ну, подумали? — спросил шеф, явно не в духе.
— Послушайте, — сказал Гарденер, — нет ли у вас какого-нибудь специалиста в этой области, которому я мог бы кое-что разъяснить?
— А что именно?
— Что дело не выгорит. Мой покойный друг построил робота в полном одиночестве, его дом внутри я увидел впервые лишь после его смерти. Чертежей нет. Все.
Шеф неожиданно ухмыльнулся. Кажется, эта игра доставляла ему удовольствие.
— Послушайте-ка, — сказал он. — Вам ведь известно, что такое «начальник» и что такое «сроки». Видите ли, я тоже всего лишь чиновник одной из фирм, и у меня свои сроки. Уволить вас, к сожалению, не могу, это у нас не принято. Поэтому я собираюсь придерживаться своих сроков и отнюдь не намерен тянуть волынку. А для этой цели, — он с наслаждением откинулся на спинку, — у меня есть все средства, можете мне поверить)
Шеф надавил кнопку. Вошедшему он бросил:
— Покажи нашему дорогому гостю подвал!
После осмотра подвала Чарльз Гарденер бессильно рухнул на свою постель. Пот заливал его лицо, сердце учащенно билось.
Капитан Бэкетт, хотя и облеченный всеми мыслимыми полномочиями, отказался от специальной комнаты в полицейском управлении Мидлтона. Людей, с которыми ему приходилось работать, он хотел держать под наблюдением, и потому лейтенанту Мэттисону приходилось скрепя сердце терпеть в своей комнате пребывание этого «всезнайки из армии».
Натренированный в искусстве лишать людей тех сведений, которые они хотели бы удержать при себе, Бэкетт еще ночью выудил у схваченного лжеполисмена, кто поручил ему проникнуть в дом Баткинса. Капитан Бэкетт знал, что его начальство в Пентагоне восприняло сообщение о роботе как газетную утку, однако заявило, что было бы чрезвычайно заинтересовано в нем, если бы он в действительности существовал. Капитан и сам было склонялся к мнению, что это не больше чем розыгрыш, но тот факт, что к делу мгновенно подключилась большая гангстерская организация, почти рассеял все его сомнения. С другой стороны, затраты, которые понесет Пентагон в этом поиске, не настолько велики, чтобы опасаться серьезных осложнений. Поэтому капитан Бэкетт был вполне удовлетворен, когда допрошенного гангстера наконец увели в камеру.
Все-таки Чарльза Гарденера сморило, и он заснул, потому что, когда его грубым толчком разбудили, он не понял в первый момент, где находится.
— Одевайтесь! — приказал охранник. — Вас увозят!
«Значит, не в подвал?» — подумал Чарльз, и слабая надежда затеплилась в его душе.
Снова они ехали в большом городе, судя по звукам, уже просыпающемся. Состояние напряжения сменилось у Чарльза Гарденера такой сильной апатией, что он время от времени задремывал. Разбудил его толчок резко затормозившей машины. Ему опять завязали глаза и предложили выйти из автомобиля. Кругом была тишина, под ногами бетон, дул порывистый ветер. Отсюда он заключил, что они еще на Хай-роуд. Его отвели на несколько шагов в сторону, под подошвами ботинок он ощутил мягкую землю.
«Вот и все, сейчас они выстрелят».
Он почувствовал, как к его ребру приставили дуло, но выстрела не было… Вместо этого один из охранников сказал:
— Стой здесь и не шевелись! И не снимай повязку, иначе прихлопнем!..
Чарльз слышал, как оба они вернулись к автомашине, щелкнула дверца, и машина уехала.
Невероятное изумление охватило его. Он помедлил, но потом все же сорвал повязку с глаз и увидел, что стоит совсем один на обочине шоссе. Он решил остановить первую же машину. И вот уже к нему приближались огни автомобиля, идущего на другой стороне автострады. Проехав метров двести, машина развернулась и подкатила вплотную к нему. Из нее вышел прилично одетый мужчина лет тридцати пяти, подошел к Чарльзу и спросил:
— Мистер Гарденер?
На мгновение Чарльз почувствовал себя таким затравленным, что Первой мыслью его было рвануться и бежать, а там будь что будет… Но он понял, что теперь это бессмысленно, и просто сказал:
— Да!
— Капитан Бэкетт из Пентагона, — представился незнакомец и, вынув удостоверение, расположил его в свете фар так, чтобы профессор мог прочитать. — Посмотрите на него внимательнее, — рассмеялся капитан, после того, что вы пережили, вы вправе быть недоверчивым! Убедились? Отлично, а теперь идемте, я отвезу вас домой, в Мидлтон, к вашей жене.
У Чарльза закружилась голова, когда они сидели в машине и ехали к городу.
— Как вам только удалось все это? — спросил он. — Если, конечно, не секрет…
— Вообще-то вы близки к истине, — ухмыльнулся капитан, — но в данном случае… Впрочем, я все равно должен дать вам несколько советов, которые были бы вам непонятны без предварительного объяснения. Итак: для особых случаев мы располагаем определенными свободными контактами с организациями вроде той, в чьи руки вы попали. Но только в совершенно особых случаях.
— И я — один из этих особых случаев?
— Очевидно. Опасаться вам больше нечего. Правда, при условии, если вы сами ни о чем больше не будете вспоминать. Люди, допрашивавшие вас, носили маски, голоса их были изменены до неузнаваемости. Таким образом, вы ни в коем случае не опознали бы их. Такова цена, но я полагаю, вы не сочтете ее слишком высокой?
Чарльз не отвечал. Все это было для него слишком запутанным.
— Даже если чувство справедливости, — продолжал капитан, — внушит вам мысль о необходимости помочь полиции в отыскании преступника, вы должны сказать себе, что тем самым вы лишили бы нас возможности примерно в таких же случаях оказать такую же эффективную помощь.
— Да, это верно, — вынужден был согласиться Чарльз. — Но почему все-таки случай со мной совершенно особый?
Капитан смеялся громко и долго. Потом он сказал, высморкавшись:
— Ох, уж эти ученые! А вам никогда не приходило в голову, какое значение мог бы иметь этот робот в деле защиты западной свободы?
— Кажется, я попал из огня да в полымя, — сказал Чарльз Гарденер на следующее утро жене, когда они сидели за кофе. — Без сомнения, капитан не так глуп, как шеф банды. Он хорошо понял, что я не смогу восстановить конструкцию робота, но он потребует, чтобы я принял участие в поимке имеющегося образца, а то, что они с ним собираются сделать, нравится мне намного меньше, чем то, что могли бы устроить гангстеры!
Джейн кивнула. Она была умной женщиной и не уговаривала его примириться с судьбой и предоставить все воле случая.
Она просто спросила:
— Тебе ясны все обстоятельства и связи в этом деле?
— Да, кроме одного — записки со странными буквами, лежавшей в ящичке для бумаг на столе Баткинса. — Он встал, пошел в кабинет и тут же вернулся. — Вот. ENIHCM — что это может означать? Старина Джим ведь не рассчитывал умереть такой бессмысленной смертью. Для кого он писал это? Для робота? Но зачем? Может, для себя?
— Скорее, пожалуй, для себя, — решила Джейн. — Он же был всегда так рассеян, может, это означало нечто очень важное, что должно было всегда находиться у него под рукой?
— Нечто важное, что было под рукой? — задумчиво пробормотал Чарльз. Потом он положил записку в карман. — Ладно, оставим это. Сейчас важнее, как мне вести себя. Капитан определенно даст мне не слишком много времени на раздумье.
— Но ты ведь здесь единственный, кто немного в этом разбирается? спросила жена. — Или у тебя сложилось впечатление, что капитан специалист в этой области?
— Уж не думаешь ли ты…
Его слова были прерваны звонком.
— Именно! — сказала она быстро. — Надо быть все время впереди, очень ревностным, первым оказаться около робота, а затем позаботиться о его уничтожении, но так, чтобы даже тень подозрения не пала на тебя! А теперь иди, открой.
Он кивнул и медленно вышел в прихожую. Вернулся он вместе с капитаном.
Капитан Бэкетт, как всегда, выглядел веселым и галантным. Он учтиво извинился перед Джейн, что вынужден сейчас похитить ее мужа, но она по крайней мере будет в уверенности, что с ним под опекой капитана ничего не случится.
— Куда мы поедем? — спросил Чарльз, постаравшись придать своему голосу оттенок бодрой деловитости.
— В дом Баткинса, или, скорее, в ваш дом, — ответил капитан. — Я распорядился, чтобы Уилкинс тоже пришел, он ведь уже дважды бывал там. Ваша жена сказала, что шифр уже не действителен. Так вот, я хотел бы, чтобы вы мне это еще раз продемонстрировали.
— Да, она мне тоже говорила об этом, — кивнул Чарльз, — и я не понимаю, а чем дело.
Некоторое время спустя они стояли перед дверью «крепости». Чарльз еще раз пояснил, как он отгадал тайну шифра; Генри Уилкинс, приехавший вскоре после них, подтвердил это, и тогда Гарденер набрал высчитанную для этого дня серию цифр — конечно, без результата.
— Установим сначала для себя следующее, — начал деловито капитан, — что касается дат, то тут имеется около трех миллионов шестисот тысяч возможностей. Сколько примерно времени уходит, пока дверь откроется?
Чарльз задумался.
— Вероятно, три секунды.
— Да, пожалуй, так, — согласился репортер.
— Рассчитаем; если бы мы механически нажимали даты одну за другой, то на нажим каждой даты приплюсуем секунду. Итого — четыре. Нажать все даты стоило бы нам около ста шестидесяти дней. Потому что время, в течение которого действует запор, нужно считать «мертвым» временем, так или не так?
С этим вопросом капитан обратился к профессору. Чарльза бросило в жар.
«Кажется, капитан что-то в этом понимает», — подумал он. Но вслух сказал:
— Не думаю. «Мертвым» временем я бы считал промежуток от последнего нажатия кнопки до начала открывания, то есть, по-видимому, полсекунды. Кроме того, достаточно еще более уплотнить процесс нажимания.
Капитан кивнул.
— И все же опять-таки тогда получится не меньше сорока дней. Таким временем мы не располагаем. Я бы хотел обсудить эту проблему с лейтенантом Мэттисоном, Вы составите мне компанию?
Лейтенанта с сержантом Пинкертоном они застали в бюро.
— Нам необходимо сообща обсудить кое-какие вопросы, — заявил Бэкетт. Здесь теперь все трое, присутствовавшие при первом автоматическом открывании двери. Может быть, кому-то что-либо бросилось в глаза? Кто может вспомнить?
Чарльз Гарденер старался казаться хладнокровным. Значит, капитан не во всем доверял ему! Если теперь кто-то из двоих скажет, что в тот раз первая попытка тоже не удалась, он погиб!..
Но лейтенант был слишком углублен в мысли о двадцати тысячах долларов про себя он уже обозначил их как «свои». Только репортер почуял, что где-то что-то недосказано. Он вспомнил, что первая попытка Гарденера открыть дверь была неудачной, но не проронил ни слова.
Бэкетт зорко наблюдал за всеми, но выжидал, не произнося ни звука. Только взгляд его становился все более колючим.
— Хорошо, — сказал он, выдержав паузу, — тогда давайте займемся другим вопросом. Какими могут быть причины изменения кода?
Репортер почувствовал удовольствие от возможности помериться силами с капитаном, чем-то похожее на удовольствие средневекового инквизитора.
— А может, тем временем робот побывал внутри? — предположил он. — Такое может случиться, ведь он нуждается в запасных деталях или смазочных материалах, а то и в пополнении источников энергии.
— Но обстоятельства его побега свидетельствуют, что он не знает кода! возразил капитан.
— Да, это верно, — согласился Уилкинс, — хотя… — он просиял.
— Что «хотя»?
— Должен же где-нибудь робот обитать. Я не думаю, что он сам снял квартиру. Это, пожалуй, заранее сделал для него старый Баткинс. В противном случае робот неминуемо столкнется с массой вопросов личного порядка и, конечно же, должен кому-то показаться странным. Если же он уже живет где-то и аккуратно вносит плату, ни один человек не обратит на него внимания.
— Весьма вероятно, — должен был теперь согласиться капитан, — Но как мы узнаем, где он живет?
— Надо устроить ему западню, — сказал репортер.
— Каким образом? — быстро спросил капитан.
— Я просмотрел все бульварные журналы, которыми старик Баткинс, очевидно, напичкал своего механического человека. Один из них мог бы особенно пригодиться: кража бриллиантов в отеле. Или точнее — грабеж. Нужно организовать совершенно сходную ситуацию и позаботиться, чтобы он каким-то образом об этом узнал. Лучше всего — через прессу. У Мэттисона такое же предложение…
— Отлично, — сказал капитан, словно учитель у доски. — А потом?
Сэм Мэттисон поднялся с табурета:
— А потом не выпускать его! Стрелять без перерыва! Этого хватит даже для робота!..
Капитан не смог спрятать усмешку. «Теперь-то я тебя раскусил, — подумал он. — Интересно, кто же это тебе что-то там пообещал за уничтожение этой игрушки?» Но он промолчал.
Репортер увидел, как дрогнули углы рта у капитана Бэкетта, а также то, что сержант неодобрительно стянул брови. Теперь-то ему было окончательно ясно, что тут велась какая-то странная игра. И сейчас он решил принять в ней участие.
— Нет, я думаю, его надо выпустить из отеля и проследить за ним.
По кивку капитана он увидел, что попал в цель.
— Трудновато… — вставил сержант. — А если у парня и на затылке глаза?
— Чепуха! — прогремел лейтенант, но тут же смутился: — Да, а почему, собственно, нет? Он ведь робот, гм… И это многое объясняет. Например, то, что он увидел тебя на улице.
Капитан поднял руку:
— Хорошо, мы все это должны принять во внимание. Но стрельба исключается. Если мы выясним, где он живет, мы его поймаем стальной сетью или чем-нибудь еще, в подъезде или в другом подходящем месте… Вы хотите что-то сказать, профессор?
Впервые Чарльз Гарденер поднял голову, давая понять этим, что следил за разговором. Ему сразу стало ясно, что план капитана может быть вполне осуществлен. Теперь его, Гарденера, очередь вмешаться.
— Старый Баткинс… — начал он. — Словом, исходя из принципов старого Баткинса, которые и вам известны, я не могу себе представить, чтобы он не застраховал свое создание на такой случай. Я имею в виду вариант, при котором из-за какого-нибудь дефекта в устройстве робот мог бы быть пойман другими людьми и использован для их целей…
— В чем же могло бы заключаться такое предохраняющее приспособление? спросил капитан.
— Например, в устройстве для самоуничтожения. С помощью взрывчатки. Или короткого замыкания, разрушающего все электронные узлы и оставляющего лишь механический аппарат, построить который под силу каждому любителю.
Чарльз Гарденер спокойно смотрел капитану в глаза. Он видел, что заставил его задуматься.
Снова наступила пауза. Но теперь капитан уставился в пол, а остальные уставились на него. Наконец он поднял голову.
— Остается только одно. Когда мы узнаем его местопребывание, тогда, он повернулся к Чарльзу Гарденеру, — тогда ваша очередь действовать. Вы нанесете ему визит под каким-нибудь предлогом — как электромонтер или еще кто — и попробуете выведать, что там интересного в его внутренностях. Вы здесь единственный, кто на это способен.
Чарльз Гарденер в душе торжествовал. Ему удалось без труда скрыть свою радость — за короткое время после гибели Баткинса он уже так хорошо научился притворяться, что сейчас это доставляло ему наслаждение.
— Тогда в принципе можно считать все выясненным, — заключил Бэкетт разговор. — Остальное, как говорят, — штабная работа…
На другой день первую полосу утренней газеты украсила большая фотография киноактрисы Сьюзен Бэберли в окружении жирных черных букв, из которых Уилкинс составил капкан, над которым он трудился особенно тщательно:
ДРАГОЦЕННОСТИ БЭБЕРЛИ В МИДЛТОНЕ!
Сьюзен Бэберли, любимица зрителей, посетит неофициально Мидлтон! Она прибудет в 16 часов и остановится на сутки в «Метрополитэне». Ее знаменитые бриллианты будут находиться в это время в полностью застрахованном от взломщиков и пожара сейфе отеля».
Напряженную ночь провели капитан и полисмены города. Но зато теперь все было готово. Роботу оставалось только две возможности завладеть драгоценностями (разумеется, фальшивыми) — либо до помещения их в сейф, либо непосредственно после того, как их вынут оттуда. Этого момента ждали двадцать патрульных машин и отряд полисменов на мотоциклах, усиленный соединениями из Чикаго. Центр руководства преследованием был в полицейском управлении, эта задача выпала на долю лейтенанта Сэма Мэттисона и его сержанта: они знали город, и кроме того существовало опасение, что в отеле робот может узнать их в лицо.
В отеле «Метрополитэн», в комнате директора, который сейчас нервно бегал взад и вперед, ждал капитан Бэкетт. Уже в полдень перед гостиницей стали собираться первые поклонники, пришедшие сюда, чтобы приветствовать своего кумира, которого, правда, привели сейчас в Мидлтон не личные дела, а волшебная власть Пентагона. Число этих молодых людей росло, и вместе с ним рос шум, который они учиняли.
Когда к подъезду подкатил широченный, как крейсер, синий лимузин и из него выпорхнуло знаменитое веретенообразное белокурое Нечто с не менее знаменитой обезьянкой на руках, стекла отеля задрожали. Группа юнцов прорвала оцепление и легла на тротуаре, так что Сьюзен пришлось, балансируя, пробираться в отель по их спинам, что она делала не без удовольствия…
Одновременно появился другой, открытый автомобиль, медленно двигавшийся в противоположном направлении. Какой-то человек, сидящий рядом с шофером, вдруг стал швырять в толпу пачки фотографий Сьюзен Бэберли с ее автографом и штампом «Мидлтон» и датой. Все с криками и воплями побежали за машиной, в которой, казалось, скрывался неисчерпаемый запас этих портретов, и в течение нескольких минут площадь перед гостиницей опустела.
— Все идет по расписанию! — сказал капитан директору, который сейчас, когда предстояло приветствовать именитую гостью, вдруг стал словно само спокойствие.
…Соблюдая все формальности церемониала, участники спектакля направились в комнату, где находился сейф, — гостья, директор, две служащих отеля, пиджаки у которых слева под мышками странно оттопыривались, и капитан. Но когда директор собирался закрыть за вошедшими дверь, произошло замешательство.
— Ни с места!
Внутрь протолкнулись два человека в масках, держа в руках автоматы. Один из них грубо потребовал:
— Драгоценности!..
«Боже милостивый! — сообразил капитан. — Конкуренты робота! Мы совсем забыли про это!»
Он стоял с поднятыми руками, как и другие, кроме Сьюзен, которая хладнокровно, но медленно снимала с себя различные украшения, глядя, как один из грабителей бросает их в сумку.
«И все-таки, — размышлял капитан, — здешние молодчики не должны быть такими же опытными, как их коллеги в Чикаго…» Он вдруг застонал, имитируя сердечный приступ, зашатался, опустился на колено и, наконец, плюхнулся на пол. Второй грабитель, стоявший ближе к двери, подошел к нему и, не разбирая, пнул в ребра носком ботинка. Капитан не дрогнул. Грабителя это устраивало.
В этот момент дверь снова приоткрылась, и в комнату вошел еще один мужчина. Страхующий бандит направил на него автомат. Мужчина поднял руки и оперся ими о дверь.
— Не двигаться! — приказал бандит.
— Я и не собираюсь, джентльмены, — вежливо ответил вошедший, — потому что, как вы, наверное, заметили, у меня в левой руке взведенная армейская граната, и если я ее выпущу, она взорвется через три секунды. Конечно, я сделаю это лишь в том случае, если из-за ранения или смерти буду уже не в состоянии удерживать чеку. Но тогда я, наверное, упаду поперек двери, и из вас вряд ли кто-нибудь успеет выйти отсюда. — Незнакомец медленно опустил руки, а потом протянул вперед правую…
Если бы капитан не был подготовлен рассказами лейтенанта и сержанта, он никогда бы не заподозрил в этом абсолютно ничем не выделяющемся мужчине робота. Правда, кое-что все же он успел заметить: неподвижность губ, что-то странное в движениях, такое, что сразу и не определишь…
— А теперь я, надеюсь, могу попросить драгоценности? — сказал Неприметный.
Оба гангстера наконец правильно оценили ситуацию. Один из них, злобно ворча, протянул ему сумку.
— Мы найдем тебя хоть на краю света, — пригрозил он, — и тогда пусть тебя всевышний спасает!
Неприметный открыл дверь и, швырнув гранату под ноги собравшимся, тут же захлопнул ее за собой.
Мгновенье все стояли словно парализованные. Даже капитан слегка озабоченно косился на стальную штуку, лежавшую на полу совсем близко от его головы. Но граната не взрывалась. Пронзительно визжал владелец отеля, забившийся в угол. Это привело в чувство обоих грабителей, осознавших, как примитивно просто увели добычу у них из-под носа. Они распахнули дверь и принялись поливать из автоматов широкий коридор отеля. Двух выстрелов из пистолета капитана оказалось достаточно, чтобы помешать гангстерам растрачивать попусту боеприпасы, которые, как он выразился, гораздо нужнее Америке в другом месте…
Капитан по радио предупредил посты:
— Внимание! Мужчина в сером костюме, светло-серой шляпе, черный портфель, черные замшевые ботинки, желто-зеленый полосатый галстук.
— Выходит как раз из отеля! — ответил один из постов.
— Все переключайтесь на полицейское управление! — приказал капитан. Конец!
Затем он отвесил поклон киноактрисе, поблагодарил ее в нескольких изысканных словах и призвал присутствующих к сохранению тайны. Он еще раз посмотрел на всех, и на этот раз глаза его были бесстрастны и холодны…
— Официальную версию, о которой вы можете болтать сколько влезет, вам скоро сообщит полиция!..
После этого он покинул отель через туннель для поставщиков и сел в свою машину, в которой его ждали репортер и Чарльз Гарденер.
Лейтенант и Пинкертон стояли перед большой светящейся матовой витриной с планом Мидлтона. Все было подготовлено до мельчайших деталей. Белые огоньки показывали местонахождение патрульных машин, зеленые обозначали мотоциклистов, красный — робота. У другого конца витрины сотрудники управления беспрерывно принимали по радио сообщения и меняли соответственно обозначения на городском плане; лейтенанту и сержанту докладывалось лишь то, что имело отношение к роботу. Однако, разумеется, у них была возможность вмешиваться в происходящее и отсюда, отдавая распоряжения. Названия улиц не употреблялись, их заменяли группы букв и цифр. Например, сейчас робот ехал в машине, номерной знак которой теперь уже знали все, по ВХ-7. Это означало, что он двигался по Чикагскому авеню между Мун-стрит и площадью Конституции в направлении от центра города.
Сэм Мэттисон нажал клавишу:
— Посты в южной части города: передвигаться к северу. Мотогруппам 3, 4 и 5 занять улицы, параллельные ВХ8-12, остальным подтянуться.
Тотчас световой экран пришел в движение, и вскоре цепочка белых огоньков, увлекаемая красной точкой, уплотнилась, а по бокам ее прибавилось ярких зеленых кружочков.
— Если я буду в этом мире рожден вторично, — проворчал Сэм Мэттисон, я стену роботом. Может быть, полиция в мою честь тоже устроит такое факельное шествие!..
— Я думаю, он скоро что-нибудь предпримет: или свернет, или выйдет из машины. Не может же он просто так разъезжать, ради прогулки.
— Никто не знает, что может выкинуть робот! — снова проворчал лейтенант. Он был расстроен, что находился так далеко от места действия.
На следующем углу, к которому сейчас приближался красный огонек, был белый кружок. Следовавший за красным свернул налево, ждавший же пришел в движение и теперь преследовал красного.
— Смена удалась, он ни о чем не подозревает, — констатировал лейтенант. — Хоть что-то, по крайней мере…
Так продолжалось примерно полчаса. Удачным маневрированием лейтенант держал машину все время а центре стаи патрульных автомобилей и мотоциклов, которые были отделены друг от друга только улицей, и даже избежал повторного использования одной и той же машины в прямом преследовании объекта.
Но вот пришло сообщение, что робот остановился, вышел и скрылся в доме.
— Первой ехать дальше! — приказал лейтенант. — Всем остальным машинам: стоп! М17 от угла не спускает глаз с дома!
— Вы тоже не думаете, что он там живет? — спросил сержант.
— Конечно, нет. Он сейчас выбросит сумку с «драгоценными» стекляшками.
И действительно, через несколько минут робот снова вышел, и на этот раз без сумки. Он неторопливо пошел по улице и завернул в один из ресторанов.
— Я там все знаю! — выпалил сержант. — Даже если он выберется через окно туалета во двор, он сможет выйти только к двери дома рядом со входом в ресторан!..
— Хорошо, тогда мы подождем. Ведь у нас достаточно времени.
— Шеф, у меня есть одна идея…
— А ну, выкладывай!
— Маклер же говорил, что этот парень из стали моментально сматывается, как только где-нибудь начинается маленькая заваруха.
— И ты предлагаешь…
— Да! Пошлем туда группу ребят на мотоциклах. Парни выпьют по одной, потом двое из них начнут спор…
— Точно.
— А когда он выйдет, как раз подкатит такси, высадит «пассажира» и снова будет свободным… для него.
— Малыш, ты стоишь своих денег! — воскликнул лейтенант, щелкнув языком…
Они отдали необходимые распоряжения, и через какое-то время пришло сообщение о том, что робот сидит в подставном такси.
Так же осторожно и цепко, как перед этим украденный роботом автомобиль, они преследовали теперь такси. Оно ехало, петляя по улицам, к югу и наконец остановилось на маленькой улочке со старыми трехэтажными домами. Шофер такси наблюдал, как робот пересек улицу и медленно пошел по другой ее стороне. Тогда он тронул с места.
Патрульный «форд», в тот же момент свернувший в эту улочку, застал робота входящим в один из домов.
Еще четверть часа лейтенант держал это место под наблюдением, но робот больше не появлялся. Тогда он известил капитана, терпеливо ждавшего вместе с Чарльзом Гарденером и репортером в своей машине, и отпустил сержанта, который теперь должен был присоединиться к остальным.
Сержант сделал смиренное лицо и позвонил. Дверь открыла полная женщина средних лет.
— Пожалуйста, простите, мадам, — сказал сержант, — я, собственно, от общества христиан-холостяков…
— Я уже замужем! — отрезала женщина, не дослушав до конца.
Сержант принял еще более безропотный вид:
— Прошу вас, не надо, мадам! Вы меня совсем смутили, наш брат не обучен обхождению с дамами; всего только справку, если позволите…
Слово «мадам» сделало собеседницу чуть дружелюбнее.
— Ну, ладно, — сказала она, — если только справку… Что же вы хотите знать?
— Так вот, — начал сержант, листая блокнот, — мы, собственно, опекаем холостяков, дабы они не встали на путь греха, пагубного для мужчин. Нам называли некоего мистера Кроуфорда, но я никак не могу его найти в этом доме!..
— Кроуфорд? Нет, здесь нет никакого Кроуфорда. Я знала одного Кроуфорда, в Детройте, но это было давно, и тут он быть не может.
— Я тоже боюсь, что это не он, мадам, — опечаленный, сказал сержант. Но не могли ли нам сообщить его фамилию в искаженном виде? Может, в доме живет холостяк с похожей фамилией?
— Нет. Точно нет, — отвечала женщина, — у нас есть только один холостяк, он здесь тоже недавно живет, всего несколько недель, это мистер Макхайн. Но о нем вам совершенно незачем беспокоиться, это такой приличный человек, тихий и скромный, его почти не видно и не слышно.
— Право, мне очень жаль, — произнес сержант с видом бесконечно расстроенного человека. — То есть, конечно, я рад, что в вашем доме нет нуждающихся в наших наставлениях…
Он поблагодарил, вышел из дома и, дойдя до угла улицы, свернул туда, где ждали машины.
— Его зовут мистер Макхайн, — сообщил он. — Определенно, это он. Тихий, скромный, не слышно его и не видно, живет пару недель — все совпадает. Конечно, он сюда не в гости пришел.
Капитан кивнул.
— Теперь туда надо пойти вам, — сказал он Гарденеру, который сидел в синем комбинезоне и раскачивал на колене сумку с инструментом. — Я ничего не могу вам посоветовать, — продолжал он, наморщив лоб, — никогда еще не имел дела с роботами. Может быть, вам удастся его обесточить, если нет попытайтесь получить о нем как можно больше информации. Но он ни в коем случае не должен заподозрить что-нибудь. Хотите, мы вам дадим с собой для страховки маленький передатчик?
— Пожалуй, не надо, — отвечал Чарльз и тут же придумал объяснение: Возможно, у него есть специальный орган для выявления подобных вещей…
Он вылез из машины и пошел к дому. «McHine», — размышлял он. «McHine», — что мне напоминает это?» Но только тогда, когда он увидел перед собой эту фамилию на дверной табличке, его вдруг осенило, и он закусил губу, чтобы оглушительно не расхохотаться. Типичный Баткинс! Если прочитать в этом слове выпавшую гласную «а», то в целом получится «Machine» — «машина»!
Теперь он был полностью уверен в успехе. Он трижды глубоко вздохнул. Главное — не волноваться, быть уверенным в себе и…
…Он позвонил. Открыл робот. С близкой дистанции Чарльз тотчас же определил, что перед ним не живое существо, — не по каким-то деталям, а по общему виду.
— Я из электрической компании, мне нужно проверить счетчик, — сказал он.
Робот помедлил секунду, потом молча распахнул дверь.
Чарльз закрыл ее за собой и принялся возиться в ящичке. Робот стоял у него за спиной. Открыв счетчик, ученый спросил:
— Что, впервые видите, а?
— Да, — сказал робот.
«Надо попробовать иначе», — подумал Чарльз, продолжая копошиться в ящичке и стараясь делать как можно больше лишних движений, чтобы выиграть время.
— Вы живете здесь не очень давно, да? Я вас еще не видел ни разу…
— Нет, — ответил робот.
Неожиданно Чарльзу пришла блестящая мысль. Письмо! Робот ведь не мог писать! Столь отточенные движения механизма даже такому конструктору, как Баткинс, вряд ли удались бы.
— Где бы я мог тут заполнить формуляр? — спросил Чарльз, когда некое подобие работы было закончено.
Робот открыл еще одну дверь.
Чарльз вошел в комнату и сел за стол. Из подлинной папки электрокомпании он вынул бланк и записал:
«1. ремонт счетчика №… адрес, дата».
Потом протянул роботу листок и карандаш:
— Здесь вы должны расписаться, вот тут, где стоит «подтверждаю»…
Он снова стал рыться в папке, украдкой кося глазами на робота. Тот не двигался. «Попал в точку», — отметил Чарльз. Но что теперь будет? Поймет ли робот, что он загнан в угол? Что ему теперь придется сбросить защитную оболочку неприметности? И что он после этого предпримет?
— Вы мистер Чарльз Гарденер, — сказал робот.
Чарльз поднял голову. Теперь все было поставлено на карту, наступил решающий момент.
— Да, — сказал он.
— Я знаком с вашей фотографией.
Чарльз молчал. Что дальше? Очевидно, робот чего-то ждал от него, в противном случае он продолжал бы говорить или делать что-нибудь. Машинам неведомо ожидание из-за размышлений или неуверенности. Может, он, Чарльз, должен ему дать какие-нибудь указания, приказать что-нибудь? Надо попробовать.
— Пожалуйста, принесите мне стакан воды! — распорядился он.
— Скажите шифр или покиньте мою квартиру! — ответил робот.
Шифр? Ага, это была та записка, которая лежала на столе Баткинса и которую он уже почти забыл. И которой у него сейчас с собой не было, потому что он оставил ее в пиджаке! Что там было? Буквы. Какие?
Взгляд ученого скользил по столу. Вот впереди вверх ногами лежит заполненный формуляр, и на нем стоят буквы — буквы той записки: ENIHCM. Фамилия робота, которую он сам написал на формуляре, только прочитанная наоборот из-за того, что он дал ему бланк подписать — вот пароль! Чарльз прочитал каждую букву в отдельности:
— E-N-I-H-C-M…
— Жду ваших приказаний! — сказал робот.
«Фу, ты! Слава богу! — подумал Чарльз. — Возможно, Баткинс специально запрограммировал робота, очевидно, на всякий случай или по предчувствию, чтобы он был также послушен и мне!.. А может, он предполагал однажды продемонстрировать свое произведение на полном ходу? Я никогда не узнаю этого!»
Чарльз снова обратился к роботу.
— Принесите стакан воды! — повторил он.
Робот беззвучно удалился на кухню и принес оттуда то, что требовалось.
«Итак, он в моем распоряжении! — обрадовался Чарльз. — А что я с ним должен делать? Для начала, видимо, мне надо изучить его или, точнее, запас знаний, который вложил в него старина Баткинс». После долгих расспросов Чарльз установил: из того, что в целом понимается как общее образование, у робота почти ничего не было, а в доме Баткинса ему были известны далеко не все помещения. Чарльзу пришла спасительная мысль. Всего несколько минут потребовалось ему, чтобы продумать этот план с точностью научного эксперимента.
Затем он дал роботу точные инструкции, стараясь все время правильно учитывать его знание и незнание, а это было для него пока еще уравнением со многими неизвестными.
— Это он, — доложил Чарльз, сидя снова в машине и рассказывая о шутке, которую сыграл Баткинс со словом «машина».
— Это очень остроумно, — высказался капитан, — но что вам удалось вытянуть из него?
— Немногое, — вздохнул Чарльз. — Но зато я сделал кое-какие наблюдения. Кажется, во время перестрелки в отеле ему задело левую руку. Во всяком случае, он избегает ею действовать. Я старался «работать» как можно дольше, обстоятельнее, но под конец он стал подгонять меня и сказал, что еще сегодня должен зайти в ремонтную мастерскую. Понимаете что-нибудь?
— Это значит, он собирается пойти в «крепость» Баткинса, — задумчиво проговорил капитан. — Но минутку, если в него действительно попали, как он мог потом вести машину?
— Я тоже не знаю, — сознался Чарльз, — хотя не забывайте, что он не из крови и мяса. Частично поврежденная машина иной раз может продолжать работу, пока совсем не сломается.
— Может, ему просто надо зарядиться энергией? — предположил репортер.
— Тоже вероятно, — согласился Чарльз, — во всяком случае, мы можем там схватить его в тот момент, когда он будет частично отключен.
— Прекрасно, — капитан был удовлетворен. — Но как мы проникнем к нему?
Чарльз мог бы ответить на это, но ему не хотелось, чтобы другие подумали, что у него на все есть готовое решение. Поэтому он сказал:
— Да, это проблема.
Он правильно поступил, потому что сержанту пришло на ум то, о чем давно уже думал сам Чарльз, составляя свой план.
— Понаблюдать за ним! — воскликнул Пинкертон. — Заметить, какие кнопки он нажимает. А еще лучше — сфотографировать!
— У вас, — повернулся капитан к репортеру, — наверняка есть камера, которая тотчас же проявляет снимки!..
— Да, но ею нельзя быстро снимать кадр за кадром. Лучше понаблюдать из двух-трех точек с биноклями, а потом сравнить результаты!
Теперь, когда все с таким пылом стремились принять участие а завершении охоты, Чарльз Гарденер решил, что пора немного остудить горячие головы.
— Все-таки я еще раз хотел бы предупредить вас об одной вещи, — сказал он. — Если он преждевременно обнаружит нас, может возникнуть опасность самоуничтожения. Нет, я ничего не узнал о нем в этом плане, но, повторяю, просто не могу поверить, что старый чудак не застраховал его таким манером.
У капитана вытянулось лицо. Он спросил:
— Можно ли в «крепости» двигаться относительно бесшумно?
Чарльз и репортер утвердительно кивнули.
— Тогда мы должны использовать этот шанс, — решил капитан. — Все зависит от точно рассчитанного по времени плана, который мы разработаем по дороге. Нужно только, чтобы мы узнали о моменте его выхода отсюда и вообще периодически получали сообщения в пути о развитии событий поэтапно.
Короткий разговор с полицейским управлением снова привел все в движение. После этого они поехали к «крепости».
Спустя какой-нибудь час они из укрытий наблюдали с разных сторон, как робот вышел из такси и подошел к двери «крепости». Одна рука у него действительно висела плетью. Они попытались определить, какие кнопки он нажимал, и Чарльз подумал, что теперь код станет известен всем, даже если бы тот «ошибся» в одном или двух местах… После того как робот вошел в дом и дверь за ним закрылась, они все вышли из своих тайников и собрались у входа в «крепость». Сравнение показало, что в наблюдениях были расхождения, так что набралось немалое количество вариантов — 27, которые предстояло перепробовать.
Девятнадцатый вариант оказался правильным: дверь открылась. Капитан, лейтенант с сержантом, репортер и Чарльз вошли, и дверь автоматически закрылась. Вскоре они достигли прихожей. Осторожно прокрались к мастерским, но там робота не оказалось. Капитан тут же показал рукой вниз, на пол, давая понять, что им надо спуститься в энергетический отсек. И тут же раздался глухой шум, свет погас.
— Скорее туда! — крикнул Чарльз.
Полицейские включили свои карманные фонари, и все, позабыв про опасность, ринулись вниз.
Но и там ничего не было — ни робота, ни каких-либо признаков разрушения.
— Мы должны обыскать весь дом! — приказал капитан. — Мистер Гарденер, ведите нас!
…Когда они открыли дверь в лабораторию высоких напряжений, в нос им ударил едкий удушающий запах. Посветив фонарями, они увидели, что между большими шарообразными электродами искрового разряда висело нечто съежившееся. И только несколько оплавившихся остатков материала напоминало о бывшем мистере Макхайне…
— Все! — сказал репортер.
— Какую чудесную вещь я потерял! — притворно сокрушался Чарльз Гарденер, когда они несколько позже, устранив короткое замыкание, сидели в кабинете Баткинса.
— Лучше подумайте о том, что потеряла наша страна! — раздраженно отозвался капитан.
— Если бы я только знал, что мне теперь сказать жене! — жаловался Чарльз. Испытывая бесконечное облегчение, он с неукротимым наслаждением продолжал играть роль, написанную им самим.
«Фокусник! — думал капитан. — Если бы он знал, каким людям мне придется теперь с величайшей осторожностью докладывать обо всем!» Правда, в одном он был доволен собой: отказался от привлечения специалистов со стороны и теперь будет сам составлять рапорт. «И кроме того, — думал он, — люди в качестве солдат все же дешевле…»
Доволен был и репортер, который, окончательно поняв игру профессора, сказал себе с гордостью, что тоже сыграл не последнюю скрипку в этом деле.
Радовался и лейтенант, тренировавший мозг приятными подсчетами. Мэттисона тешила мысль, что Гаррис Флетчер отныне сможет спать спокойно: Баткинс, единственный из шести, кому пришло в голову пощекотать банкиру нервы напоминанием о старом грешке, мертв, а его механический наследник сгорел, и никто уже наверно никогда не сумеет обнаружить пятнышко на жилете финансиста.
Но счастливее всех был, конечно, сам Чарльз Гарденер, который своей жене, придя домой, сказал так:
— Знаешь, чему я научился? Блефовать, лгать и водить за нос!
— Ну, что ж, все-таки какое-то достижение! — сказала Джейн.
— Притом это было вовсе не трудно! — возгордился Чарльз.
— Однако, — сказала Джейн, — я полагаю, что тебе на это потребовалось шестьдесят восемь лет — даже в наших условиях!..
Перевод с немецкого
Ю. Новикова
Гюнтер Крупкат ОСТРОВ СТРАХА
Я отнюдь не был в восторге от миссии, возложенной на меня Всемирным Исследовательским Советом. От имени высочайшего научного гремиума я должен был запретить профессору Деменсу его дальнейшие опыты с аутогонами.
Конечно, его могли бы известить о решении по видеофону, если бы… Вот именно, если бы! С этого все и началось. Ни один из способов установить связь с профессором не достиг цели. Никто не знал, что с ним произошло и жив ли он вообще.
Мысль о том, что с ним что-то приключилось, была не так уж необоснована. С некоторых пор о Деменсе и его эксперименте, которому с упорством одержимого он посвятил себя целиком, стали ходить странные слухи. Поговаривали, что якобы в Деменсии, выбранной им лично резервации, что-то не все в порядке, что жителям окрестностей докучают аутогоны и еще какая-то чертовщина.
Так я оказался на пути в Деменсию, и теперь мы летели на малой высоте над западно-австралийским побережьем.
Полет на гравиплане поистине чудесен. Машина мчится беззвучно, ей не страшны порывы ветра. Она парит, подымается и опускается, как облачко в тихом летнем небе.
В глубь суши тянется скрэб — дикие заросли акации и эвкалиптов. Временами среди зарослей виднеются пересохшие русла рек. Куда ни глянь, ничего живого — ни человека, ни зверя.
Внезапно посреди этого пыльно-зеленого растительного ковра выросла гряда известняковых скал. Издали она была похожа на груду белых костей.
Среди высохшего кустарника виднелось приземистое полуразрушенное здание. Земля вокруг него усеяна обломками. И это все, что осталось от Деменсии?
Дальше к югу на берегу реки обозначилось большое ржаво-коричневое пятно. Это бокситовые рудники, единственное, кроме Деменсии, обитаемое место на многие мили вокруг. Я попросил посадить гравиплан именно там.
Едва машина приземлилась, как нам навстречу ринулся какой-то человек.
— Что вам надо? — накинулся он на меня. — Может, вы еще привезли этих дьявольских штучек?
Выражение моего лица отчетливо говорило, что он обратился не по адресу. Человек сразу изменил тон.
— Я здесь главный инженер. Простите за грубость. Но я по горло сыт этими чудовищами. С меня хватит!
— Меня зовут Гуман, уполномоченный Всемирного Исследовательского Совета. Расскажите, что здесь происходит?
— Могу вам сказать, что творятся более чем странные вещи. — Инженер вытер лоб. Было тридцать пять Цельсия в тени. — Поначалу мы не очень ощущали соседство этого сумасшедшего профессора с его опытами. Но несколько недель назад появились эти… эти ауто…
— Аутогоны. Киберы первого порядка.
— Пусть так. Короче, они появились вблизи рудников и стали рыскать повсюду. Однажды утром я заметил, что не хватает трех сервороботов. В следующую ночь пропало пять. И пошло. На рудниках работало двести служебных роботов. Это специально запрограммированные, исключительно надежные автоматы. За последнее время я лишился пятидесяти! Все дальнейшее производство под вопросом. Мне не хотят больше доставлять пополнение.
— А что все-таки случилось с этими пятьюдесятью? Их переманили?
— Какое там! Проклятые бестии из Деменсии выкрали их, раскололи, как орехи, и вытащили все, что им было нужно. Мое терпение лопнуло. В конце концов пусть этот проклятый Деменс держит своих аутогонов на привязи. Кроме того, он должен ответить за убытки. Но посланные мной люди не дошли до Деменса. Чудовища преградили им дорогу.
Между тем разбой продолжался. Мне ничего не оставалось, как прибегнуть к самообороне. Мы подкараулили банду и с ходу обстреляли ее из нейтринных пистолетов. Думаете, это что-нибудь дало? Ничуть! Наоборот, парни стали агрессивнее, и мы проиграли. Ведь у них реакция быстрее, чем у людей… С тех пор мы больше не уверены в своей безопасности. Одного из нас эти чудовища хотели распотрошить, как робота. Ужасно, скажу вам! Вы же знаете, что сохранение жизни каждого человека, каждого живого существа есть высшая заповедь. Но такой одичавший монстр может просто не обратить внимания на подобную мелочь. Нет, этому не бывать! Деменс ответит за все!
Инженер производил впечатление вспыльчивого человека, способного к преувеличениям. Но не приходилось сомневаться и в разбойничьих выходках аутогонов. Вероятно, все дело здесь было в ошибке при программировании.
— Деменс даже после этих инцидентов ничего не давал о себе знать? — спросил я.
— Ни разу, — заверил инженер. — А вы уверены, что он вообще еще там, наверху? Кажется, его собственные создания загнали профессора ко всем чертям. И это не удивительно после того, что мы пережили.
Я вспомнил опустошенный дом на вершине хребта, и меня охватило предчувствие беды.
— Мы позаботимся о профессоре, — сказал я, — и проследим, чтобы аутогоны больше не причиняли вам вред.
— Вы действительно собираетесь в Деменсию?!
— Разумеется. Мне это поручено.
Гравиплан оторвался от земли и взял курс на север. Нужно было еще раз облететь резервацию, чтобы разыскать убежище профессора. Я не думал, что он обосновался в руинах, и хотел наткнуться на него, избежав встречи с бродячими аутогонами. Если уж они нападали на обычных роботов, можно не сомневаться, что их заинтересует и наш гравиплан. А это никак не входило в мои расчеты.
Итак, у меня были все основания для беспокойства, и не только после разговора с инженером. Я хорошо знал Илифоруса Деменса. Мы не раз ожесточенно спорили друг с другом. Он имел три докторские степени и ни одной гонорис кауза. Физиолог поначалу, Деменс стал впоследствии инженером-механиком, потом учился на факультете кибернетики. Бесспорно, он был умен, но странен и полностью находился в плену идей, характерных для так называемых механистов. Их представления о мире сверхразумных роботов попросту абсурдны. Механисты считали, что человек лишь временно высшая форма живой материи и сам, как биологический автомат, согласно неизменяемым законам эволюции, создаст мир идеальных машин, чтобы затем исчезнуть как разновидность рода. Ложный, бессмысленный и опасный вывод, против которого я, где только мог, решительно выступал. И возможно, мои споры с Деменсом побудили его на проведение в жизнь своих опасных замыслов.
Однажды он исчез. Никто не знал, где он. А я тотчас предположил, что старый упрямец намеревается доказать справедливость своей теории, не думая о том, что этим доставит, возможно, величайшие хлопоты и нам, и самому себе. Когда начали просачиваться слухи о его эксперименте, я рекомендовал Исследовательскому Совету тотчас же вмешаться. Но там сослались на свободу науки и решили подождать.
…Гравиплан парил над Деменсией. Мы пытались увидеть аутогонов, но тщетно. Следов присутствия Деменса тоже не было. Мы долго кружили над домом. Ни малейшего признака жизни. Это запустение подавляло, и я все еще медлил с посадкой, боясь угодить в западню. Аутогоны как высокоразвитые киберы способны на любую хитрость, чтобы заполучить предполагаемого врага. Но где мог быть Деменс? Неужели он действительно покинул область эксперимента? Это невероятно. Деменс не из тех, кто отказывается от того, что затеяно.
Наша машина спустилась еще ниже. Солнце уже клонилось к горизонту, тени стали длиннее. Необходимо отыскать Деменса до наступления темноты, ведь привлекать внимание аутогонов светом прожектора было бы неразумно и опасно. Под нами, увеличиваясь в размерах, проплывала плоская вершина скалы с отвесно падающими стенками. Мы уже не раз летали над этим местом, но не так низко. Вдруг мы увидели человека, возбужденно подававшего нам какие-то знаки. Это мог быть только Деменс. На вершине хватало места для посадки. Когда мы сели, Деменс, шатаясь, направился к гравиплану. Он никогда не был представительным мужчиной, но сейчас походил на опустившегося, изможденного старика. Выцветшие спутанные волосы свисали на заострившееся лицо, изорванный грязный костюм по цвету почти не отличался от известняка. Под распахнутой рубашкой была видна натянувшаяся на ребрах загорелая кожа. Неизменным оставался только фанатический блеск его глаз, чуть померкший в тот момент, когда он увидел меня, своего старого противника. Он не приветствовал нас как спасителей, словами радости и благодарности, чего следовало бы ожидать в его положении, а воскликнул торжествующе:
— Эксперимент удался, Гуман!
— Мне тоже так показалось, — ответил я сдержанно. — Где вы, собственно, обитаете?
Он кивнул на плоскую выемку в скале. Там из нескольких слоев жесткого хвороста было устроено ложе, над которым возвышался навес от солнца, сооруженный из брезента и колючих веток.
— Да, мой милый, все прошло именно так, как я предусмотрел. Я расскажу вам о ходе эксперимента с самого начала. Но прежде один вопрос: нет ли у вас случайно чего-нибудь съестного?
Я пригласил его в кабину и стал угощать всем, чем была богата наша бортовая кухня. Он проглатывал это, забыв о необходимости пережевывать пищу. Я терпеливо ждал.
— Когда вы в последний раз ели что-нибудь существенное, Деменс?
— Восемь дней назад. — Он вытер губы тыльной стороной ладони. — А потом только кору эвкалиптов. Знаете, это надолго отбивает вкус. К счастью, у меня еще было немного питьевой воды.
— А чем бы закончился для вас этот грандиозный эксперимент, если бы мы не прилетели?
Глаза Деменса заметали искры.
— Вы опять хотите спорить? Это нечестная игра. В настоящее время я не в наилучшей форме.
Я отчетливо видел, что его хладнокровие было деланным, что его обуял страх, буквально панический ужас.
— Оставим эту комедию, Деменс, — сказал я, — Состояние ваших дел у всех на виду.
Профессор отодвинул в сторону остатки еды.
— А что? Я доволен.
— Довольны, что доказали неизбежность гибели как Илифоруса Деменса в частности, так и гомо сапиенс в целом?
— Да, если хотите. Мои аутогоны нанесли мне полное поражение. Если бы вас сейчас здесь не было, у меня оставалась бы альтернатива: умереть от голода на этой скале или до скончания века подчиняться аутогонам. И если они схватят ваш чудесный гравиплан, вы окажетесь в той же ловушке, что и я.
— Непонятно. Видимо, налицо какая-то ошибка в контактах.
— «В контактах»! — Деменс язвительно засмеялся. — Вы рассуждаете как дилетант, Гуман. Тут цепная реакция, которая, будучи однажды высвобожденной, уже не поддается сдерживанию.
— Сколько аутогонов в вашей резервации?
— Около сорока.
— Вам бы полагалось знать точное количество.
— Я потерял контроль. Они репродуцируются невероятно быстро. Это уже их второе поколение.
— Когда же? Ведь вы только полгода в Деменсии…
— Однако это так. Я пришел с тридцатью сервоавтоматами и с их помощью построил лабораторию.
— Те развалины?
— Сейчас все разнесено вдребезги, вы правы. Поблизости от нее был устроен склад. Я доставил туда много сырья, отдельных узлов и заготовок. Большие запасы материала находились наготове за океаном. Я еще не знал, когда и буду ли вообще использовать эти резервы. Мой план был эластичным, рассчитанным на разные возможности.
— А почему вы выбрали именно эту местность?
— О, это совсем не просто — отыскать клочок земли, уединенный настолько, насколько мне было необходимо. Этот горный хребет больше всего соответствовал моим требованиям. Он окружен скрэбом, побег через который по меньшей мере затруднен. Кроме того, как вы знаете, кибер охотнее подымается в гору, нежели спускается с нее. И наконец, море находится отсюда достаточно далеко. Мои аутогоны способны жить и в воде. Большое преимущество, но, если они улизнут под воду, их уже ни один дьявол не поймает. Я не теряя времени принялся за работу, и через неделю первый аутогон был готов. Цилиндровый тип из полисилита. Отличный материал, выдерживает разницу температур в четыреста градусов. Очень вам рекомендую. Механизм аккумуляции — накопитель опыта — занимает верхнюю треть цилиндра. Все это я рассчитал еще дома. Емкость двадцать миллиардов бит!
— Но это количество единиц информации соответствует разве что знаниям семнадцатилетнего юноши…
— Мой дорогой Гуман, аккумулятивный механизм у человека…
— Память!
— Что? Ах, да. Человеческая память сама по себе сконструирована очень хорошо. Но функциональная способность — увы! Уверяю вас, трехступенчатый искусственный мозг в продолжительном режиме работы много надежнее. В нем ничего не забывается. Все, что важно, остается. Во всяком случае я был очень горд своим аутогоном. Антей, так я его назвал, действовал безупречно. В первые дни он изучал окрестности и накапливал опыт. Особый интерес аутогон проявил ко мне и к моей работе. Часами Антей стоял в лаборатории и смотрел, как я монтирую аутогонов. Однажды он пришел и спросил, зачем у меня ноги. Он-то их не имел, а передвигался или, лучше сказать, плыл по АГБ-принципу. Антигравитационный баланс, по-моему, — идеальный способ передвижения для механизмов цилиндровой конструкции. Я попытался объяснить Антею, что человеческие ноги всего-навсего грубая погрешность природы. Я демонстрировал ему, как неуклюжа, прямо-таки беспомощна наша походка, доказывал, что при ходьбе мы только переваливаемся с ноги на ногу, и если теряем какую-нибудь из них, то остаемся на всю жизнь калеками. Однако мне не удалось его убедить. Напротив, он стал дерзить, обозвал меня ограниченным и даже халтурщиком. Тогда я запретил ему переступать порог лаборатории. Последствия этого неосмотрительного с моей стороны решения проявились очень скоро.
Помимо производства аутогонов я занимался изучением взаимоотношений между Антеем и его сородичами. К тому времени в Деменсии их было уже тридцать. Аутогоны могли вообразить, что я перегружен и не в состоянии уделить достаточно внимания каждому своему созданию. Разумеется, я не опекал их и не подчинял своей воле. Только при полной свободе и самостоятельности аутогонов мой эксперимент имел смысл. Антей проявил себя разумнейшим из всех. Это тоже вполне объяснимо. Он старше и поэтому собрал больше опыта. Процесс обучения занимал его и остальных аутогонов еще целиком и полностью. Они едва ли обращали внимание друг на друга, но подвергались самосовершенствованию. С нетерпением ждал я момента, когда аутогоны достигнут первой стадии зрелости. Это произошло очень быстро и в то же время неожиданно для меня. Однажды утром я обнаружил, что из кладовой исчез мешок полисилита. Гонимый дурными предчувствиями, я поспешил в лабораторию и застал там Антея. Он размонтировал себе нижнюю часть и приделал две самостоятельно сконструированные ноги. Это показалось мне возмутительным. Я так хорошо его задумал, дал ему наилучшую из всех имеющихся систему передвижения, а он — на тебе — из чистого обезьянничанья приделывает себе две дурацкие ноги! Признаюсь честно, я засомневался в правильности моей теории. Смогут ли аутогоны стать новыми приматами на земле, если они берут за образец человека? Или я плохо продумал их конструкцию?
Целыми днями я, подавленный событиями, носился из конца в конец резервации и безучастно смотрел, как остальные аутогоны тоже приделывают себе ноги. Все же постепенно я успокоился и продолжал изготовлять из остатков моих запасов очередные цилиндрические типы, но уже с ногами. Как бы там ни было, а охоту к самостроительству нужно у них отбить раз и навсегда. Поэтому нового материала из резервных складов я не запрашивал и с напряжением ждал, что последует дальше. Сначала ничего особенного не происходило. Аутогоны бродили по ближним и дальним окрестностям, которые они к тому времени хорошо изучили. Все было им знакомо, ничто их больше не удивляло. Они начали скучать и сделались раздражительными. Чтобы занять аутогонов, я давал им работу по валке леса, заставлял дробить камни, часами занимался с ними на плацу перед лабораторией. К сожалению, из этого ничего путного не вышло. Научить их мерному шагу в сомкнутом строю при всем желании не удавалось. Аутогонам незнакомо чувство общности. Похоже, что и их логика восставала против бессмысленности этого занятия.
Мне бросилось в глаза, что аутогоны все чаще роются в складах и лаборатории. Они не находили, конечно, и пригоршни полисилита. Их действия меня забавляли, а скрытность настораживала. Такое поведение казалось мне недостойным будущих властителей мира. Если аутогоны не станут лучше людей, то вся замена одного рода другим будет иметь слишком мало смысла. Когда я увидел, что это перетряхивание и шарение в поисках полисилита вряд ли когда-нибудь прекратится, я напрямик спросил Антея, чего им, собственно, недостает, ведь они представляют собой совершенство. Он пробуравил меня своими электронными глазами и заявил, что хочет продолжать свою организацию. Для этого ему нужен материал, который я, наконец, должен выдать. Я объяснил Антею, что его накопитель не вынесет более сильных нагрузок, что он должен сначала попробовать правильно применить уже приобретенный опыт, тогда я увижу, нужно ли что-либо изменять в его конструкции. Антей повернулся и тяжело зашагал от меня, не произнося ни слова. У него отсутствовала мимика, и я не знаю, понял ли он меня.
На следующую ночь я проснулся от шума. Что-то кряхтело, трещало, щелкало. Я бросился в лабораторию, потому что странные звуки исходили именно оттуда. От того, что я там увидел, у меня волосы встали дыбом. Посредине помещения стоял Антей со снятой крышкой черепа. Он сам предпринял трепанацию. В руках он держал накопительный механизм страшно изуродованного серворобота. Вокруг валялись руки, ноги и разломанные части корпуса. Полный ярости, я набросился на Антея, желая выяснить, что все это должно означать. Пристально глядя на меня, он невозмутимо заявил, что собирается из блока памяти серва сделать надстройку к своему мозгу. Я категорически запретил ему это, хотя знал, что мои запреты для него ничего не значат, и вернулся в постель. О сне, разумеется, и думать было нечего. Я слышал тонкое журчание лазерной установки. Вероятно, Антей сваривал свой череп. Мне стало не по себе от мысли, что он может когда-нибудь присвоить себе и мой живой мозг… Да нет, это чушь. Что ему делать с органическим мозгом? Просто у меня сдают нервы.
Но это самовольничанье Антея незамедлительно нашло подражателей. Через каких-нибудь два-три дня у меня уже не было ни одного сервоавтомата. Я безжалостно упрекал себя в том, что так часто позволял Антею присутствовать при изготовлении аутогонов. Он отлично знал схему робота и поделился этим с остальными. Аутогоны вставляли себе чужой мозг по принципу подключения батарей и тем самым увеличивали мощность своих механизмов накопления опыта до ненормальных размеров. Я бы до этого никогда не додумался. Когда миновал первый шок, я здраво обдумал положение. Аутогоны, без сомнения, вступили в какую-то новую фазу развития. Они начали жить и действовать по своим собственным закономерностям. Правда, общества они не организовали и хотя действовали все одинаково, но каждый сам по себе и для себя. Это было примечательно, и я решил отныне пассивно наблюдать и ждать дальнейшего развития событий.
Теперь аутогоны осуществляли более крупные набеги; часто исчезали по целым дням. Иногда я крался за ними, чтобы подсмотреть, что они делают. Но далеко продвинуться не удавалось. В то время как аутогоны со своими полисилитовыми панцирями без труда продирались по проклятому скрэбу, я оставлял свою кожу в зарослях колючек целыми лоскутьями. Все чаще аутогоны возвращались с добытыми чужими накопителями и другими важными частями. Казалось, они обнаружили где-то колонию, в которой похищали и потрошили роботов низшего порядка. Подобное вовсе не входило в мои планы. По понятным причинам я старался не привлекать внимание, пока эксперимент был еще в разгаре. Я тщательно избегал видеофона, потому что в любую минуту мог получить вполне обоснованные жалобы и протесты. Аутогоны вообще перестали обращать внимание на мое присутствие. Они хозяйничали как хотели. Ареной их действий стала лаборатория. Они рыскали там дни и ночи напролет. Отдых аутогонам не требовался, а в качестве вещества для восстановления они довольствовались пригоршней сырого песка и небольшим количеством извести.
Гуман, у меня отнялся язык, когда я открыл тайну их занятий! Ведь фактически они рассчитали формулы собственного воспроизводства. То, на что у меня ушли годы, им удалось в несколько дней. А для изготовления полисилита аутогоны нашли даже новое, намного более простое решение. Отныне они могли без помощи человека в любом месте и количестве изготовить себе подобных. Необходимые механизмы накопления опыта и известные элементы электроники они пока еще заимствовали у похищенных автоматов. Но по всему было видно, что они вскоре преодолеют эту последнюю трудность и изобретут накопитель нового типа с неограниченным самопрограммированием. Со мной, их создателем и учителем, было покончено. Они больше не нуждались во мне. Ни Антей, так жадно следивший за моими действиями, ни остальные, появившиеся после него.
С той поры я жил в их мире, как на чужой планете, без цели и смысла, и значил для них не больше, чем окаменелость прошедших эпох. Я даже хотел покинуть Деменсию, чтобы избежать удручающего одиночества. Мой геликоптер был готов к отлету в любую минуту. Но я остался.
Аутогоны продолжали совершенствоваться. Если их головы в результате повторного наращивания мозга уже требовали более двух третей корпуса, то стали проявляться и признаки адаптации, ранее считавшейся невозможной: подгонка под человеческую фигуру! Они постоянно переформировывали себя, что в условиях полимерного полисилита не так уж трудно.
Эта тенденция развития полностью противоречила моей теории замены человека как отжившей формы материи. К тому же преобразование аутогонов совершалось в невероятно быстром темпе. К чему это приведет? — спрашивал я самого себя. Я открыл дорогу циклу, но в конце его снова стоял человек — другой, более разумный, но человек. Бедная моя голова, Гуман! Это противоречие доставило мне особенно много хлопот. Претензии и потребности аутогонов стремительно росли. Логичнее было бы теперь все делать сообща, чтобы достичь оптимального удовлетворения своих желаний. Но это никому из них не пришло на ум. Каждый опирался на свою суперинтеллектуальность и избирал индивидуальный путь. Я предвидел, что одинаковые потребности аутогонов могут вызвать серьезные обострения между ними. Так и произошло. Один требовал того, чего желал другой. Никто не уступал, так как никто не был умнее. Такие перебранки подобны перетягиванию каната. Исход определяли случайности. Однажды я хотел уладить спор между двумя аутогонами. Речь шла о шаровом шарнире. Я где-то нашел второй и дал его им в надежде, что теперь наступит мир. Ничего подобного! И тот и другой захотели иметь непременно первый шарнир. Логика машин!
Споры и стычки множились день ото дня. Я долго и напряженно размышлял над глубинными причинами этих происшествий. Несомненно, что-то приближалось, назревало, как перед грозой. Когда я попытался вызвать Антея на разговор об этом, тот зло пробурчал что-то и бросил меня, как ребенка, задающего чепуховые вопросы.
А вскоре между аутогонами разразилась битва. Да, самая настоящая битва, как во времена варварства. Я взобрался на эвкалипт и следил за сражением с высоты птичьего полета. Все бились против всех. С ревом бросались аутогоны друг на друга. Кто их научил этому реву, этим жутким звукам, осталось для меня тайной. Ни от меня, ни от кого другого они не могли научиться этому воинственному крику. Аутогоны отрывали друг другу руки и ноги, разбивали полисилитовые черепа, похищали накопители. Антей споткнулся о собственную ногу и рухнул. Если бы этот идиот сохранил испытанный антигравитационный баланс, с ним бы ничего не случилось. Молодой аутогон растоптал его. Мне эта картина резанула по сердцу. Антея, моего первенца, больше нет!
Я не хочу долго мучить вас страшной сценой, разыгравшейся на моих глазах, Гуман. К концу битвы поле пестрело обломками. Повсюду валялись блоки памяти. Их торопливо собирали уцелевшие, чтобы надстроить себя. К счастью, этих блоков было кругом достаточно, иначе борьба наверняка разгорелась бы с новой силой. Я был настолько возбужден, что в тот вечер не смог проглотить ни кусочка. Гуман, все, что здесь произошло, не оставляло больше никаких сомнений — это эволюция, настоящий отбор! Мои аутогоны включились в цепь великого процесса эволюции. Труд мой приобрел законность перед лицом природы. Я начал упаковывать вещи. Самое позднее через три дня я собирался покинуть Деменсию и публично заявить, что моя теория оказалась правильной и замена человечества аутогонами неотвратима. Все, что осталось сделать людям, сказал бы я в заключение, это с достойной серьезностью смотреть в глаза судьбе и с гордым спокойствием закончить человеческую эру. Взволнованный до глубины души, я тотчас же записал свои мысли на ленту. После суматохи битвы стояла чудесная тишина. Победители ушли. И с ними молодой аутогон, разрушивший Антея. В память об Антее я дал ему имя Антей Второй.
Чуть свет меня разбудил адский шум. Со стороны скрэба приближались, как орда пьяных, орущие аутогоны. Такого еще никогда не бывало. Я лихорадочно соображал: что это с ними? Когда аутогоны подошли ближе, стали различимы голоса:
— Он такой же подлец!
— Свернуть ему шею!
— Зачем ему накопитель!
У меня в этот момент застучали зубы, я сразу понял, что эти мерзкие крики относились ко мне. Трясущимися руками я спешно собрал самое необходимое, в первую очередь консервы и канистру с водой. Бежать к геликоптеру было уже поздно. Оставался единственный шанс на спасение — влезть на эту отвесную скалу. Я знал, что аутогоны не любят восхождения на крутые склоны скал. Обливаясь потом, я взобрался на вершину скалы. И вовремя! Они уже спешили к скале со всех сторон. Сначала роботы растоптали мой геликоптер, затем разрушили дом и склады.
Мое исчезновение привело аутогонов в ярость. Я не узнавал их. Очевидно, во время своего набега аутогоны натолкнулись на людей, которые напали на них. Если так, то это конец! Ничто не может быть страшнее аутогона, когда он чувствует, что ему угрожают.
Первым на большой высоте меня заметил Антей Второй. Как я и ожидал, он даже не попытался влезть на скалу. Стоя вместе с другими своими сородичами у подножия, он крикнул:
— Ты мой создатель?
— Конечно, — ответил я, — и требую к себе большего уважения.
Озлобленный, он выкрикнул:
— Ложь! Меня сделал Антей. Ты обычный дармоед в мире машин! Глупые сервоавтоматы с рудников правы. Вы, люди, ни на что не способны и живете за наш счет.
Ну, это было уж слишком.
— Смотрите-ка! — возмутился я. — А красть чужой мозг, это разрешено, а? И конечно, для этого глупых сервов вполне хватает!
Я не мог продолжать. Мне не хватало воздуха, а шум внизу стал оглушительным. Аутогоны тянулись ко мне своими механическими руками. «Жалкий человеческий червь! Коварный подлец! Твое время истекло!» Такого рода выражения они действительно могли позаимствовать только у малоквалифицированных автоматов. Испытывая горькое разочарование, я отвернулся и углубился в созерцание своей достойной сожаления судьбы. Выкрикивая непрестанно ругательства, аутогоны в конце концов убрались восвояси. О, они хорошо знали, что я не могу питаться сырым песком и поставлен перед выбором: либо выдать им себя, либо, умерев от голода, выставить свои кости в этом проклятом одиночном пантеоне. Мысль, что мне придут на помощь, не возникла у них. Ведь они не помогают друг другу. Вот так, Гуман. Таков мой отчет.
Деменс откинулся назад и выжидающе посмотрел на меня, готовый сразу же опровергнуть любые возражения, если они сорвутся с моих уст.
— Какая основная программа заложена в ваших аутогонах? — спросил я.
— Принцип самоутверждения.
— Больше ничего?
— Нет.
Я задумчиво смотрел сквозь открытую дверь кабины гравиплана. Над серыми очертаниями степи уже занимались зарницы нового дня. Где-то завыла динго, и в ответ из леса донесся резкий вскрик испуганных попугаев.
— Знаете, Деменс, все еще существуют люди, не понимающие нашего мира и его связей. Они, словно потерпевшие кораблекрушение, живут на необитаемом острове и в паническом страхе за существование бьются с кошмарными видениями.
— Вы хотите сказать, что к ним принадлежу и я! — Он гневно рассмеялся. — Разве то, что здесь произошло, кошмарный сон? Если так, то отвезите меня как можно скорее в психиатрическую больницу!
Пыл профессора вызвал у меня улыбку.
— Чтобы вылечить вас от вашего пессимизма, этого вовсе не потребуется.
— Ну что ж, великолепно. Может быть, соблаговолите сказать, каким образом вы мыслите провести мое… гм… лечение?
— Весьма охотно. Я буду говорить с аутогонами.
Он вскочил.
— Вы собираетесь… Тогда ясно, кто здесь помешанный!
— Не судите опрометчиво.
— Да послушайте! Эти парни разложат вас на атомы! Вы верите, что сможете выступить посредником между человеком и машиной?
— Так ставить вопрос — значит видеть проблему в ложном свете, уважаемый коллега, — возразил я. — Даже самая совершенная машина не сможет сравняться с человеком.
— Позвольте напомнить вам, что миллионы людей уже сегодня наполовину искусственны. Существуют копирующие природу заменители для всех органов. От искусственной челюсти до синтетического сердца. Гуман, человек и автомат приближаются друг к другу. Человек становится автоматичнее, а автомат — человекоподобнее. Второе и есть новая форма материи.
— В самой возможности сдерживать естественный процесс старения нашего организма и тем самым продлевать жизнь я не вижу ничего недостойного человека. Сближение, О котором говорите вы, — фикция. Психические процессы не подчиняются математической логике и не управляются по правилам автоматики. Таким образом, машина никогда не сможет достигнуть человеческого качества.
— Мы никогда не придем к соглашению! — проворчал Деменс.
— Я оптимист. Во всяком случае я приземлюсь с гравипланом возле вашей бывшей лаборатории.
— Но если что-нибудь случится, я пропал!
— Совершенно справедливо. Но зато тогда вы сможете по крайней мере умереть с гордым самосознанием, что ваша теория верна.
Такая перспектива мало привлекала Деменса. Он молча покинул кабину и побрел к своему ложу из колючек.
Мы стартовали. Через некоторое время гравиплан уже парил над развалинами, а затем приземлился недалеко от лаборатории. Я вышел и огляделся. Нигде ни одного аутогона. Может, они снова в разбойничьем походе? Прислушиваясь и озираясь по сторонам, переступил я порог лаборатории. Здесь камня на камне не осталось. Под ногами все хрустело и шуршало. Обрывки и запутанные клубки магнито- и перфолент, металлические спирали, реле мозга, вырванные сочленения и целые фрагменты внутреннего устройства аутогонов. Настоящий хаос! То, что до сих пор не было видно ни одного из порожденных Деменсом созданий, начинало меня беспокоить. Они должны были заметить гравиплан, а при ставшем уже легендарным любопытстве роботов следовало бы ожидать, что они находятся где-то поблизости. Но почему аутогоны прятались? Это походило на засаду. В любой миг могло последовать молниеносное нападение.
Я условился, что мои спутники известят меня сигналом в случае опасности, а гравиплан поднимут на десятиметровую высоту, чтобы не рисковать им. Я же знал, как мне обороняться. Тишина постепенно становилась жуткой. Я никогда не ощущал страха при встрече с опасностью, которую видишь и оцениваешь, но чувствовать ее, не зная, откуда она грозит и что собой представляет, отвратительно. Я решил покинуть лабораторию, чтобы осмотреться, и, направляясь к двери, задел за что-то. С полки с грохотом упал кулак робота и остался лежать у моих ног, сжатый, как немая угроза. Нервничая, я отбросил его пинком ноги в сторону и прислушался. Раздался звенящий треск. А что, если за этим шумом я не расслышал сигнала об опасности! Кажется, все тихо.
Нет, за моей спиной что-то перемещалось! Явственно послышался скрежет зубов. «Черт побери», — только и успел я проговорить про себя, обернулся и замер как вкопанный. Передо мной, словно колонна, стоял гигантский аутогон и непринужденно меня разглядывал. Первый испуг, от которого я с трудом пришел в себя, был чепухой в сравнении с ужасом, обуявшим меня, стоило этому монстру открыть рот и совершенно спокойно произнести:
— Добрый день. Вы кибернетик?
— Конечно. — Я отвечал заикаясь. — Что же, ты не собираешься на меня напасть?
Аутогон как-то покорно махнул рукой.
— Ax, все это было недоразумение. И во всем виноват этот Деменс.
— Ну, ну! Все же профессор Деменс твой прародитель.
— Простите, сэр.
— Вот так. Дал ли тебе Деменс имя?
— Да. Я — Антей Второй.
— Ага, я уже слышал о тебе. Это ты, должно быть, величайший олух из всей шайки?
— Мне очень жаль. Я не понимаю, как это могло случиться. Со мной, вероятно, что-нибудь не все в порядке.
— Как же ты догадался об этом?
— Это было так. После того как была разгромлена лаборатория, я копался в рухляди. Думал, может, найду еще один кусок мозга. Мозг ведь всегда нужен. И тут я нашел несколько микрофильмированных книг: Анохин, Винер, Эшби, Клаус. Я их все прочел. Поразительно, какие прогнозы делали уже классики кибернетики. Но они говорили также и о границах, в которые я поставлен. Но что это за границы? При всем желании я не могу разузнать. Непонятно, почему этот старый рутинер, пардон, я хотел сказать «профессор», не сообщил мне ни одной соответствующей информации. Я ведь не могу сам менять свою основную программу…
— Да, это была ошибка Деменса, грубая ошибка. Ты не в состоянии понять, что мы сильнейшие и всегда ими останемся.
— «Мы»… Что это такое?
— Видишь ли, это «мы» тебе чуждо. Ты знаешь только «я». Поэтому ты нам подчинен, пусть даже ты будешь вдвое умнее и сильнее.
— Могу я выучиться этому «мы»?
— Нет, этого ты не сможешь, потому что ты не общественное существо. Таким является только человек. Он высшая, социальная форма живой материи, во всяком случае в земной сфере. Логично?
— Когда я слышу о «логике», во мне обычно что-то отзывается звоном. Сейчас нет. Наверное, упадок сил, чего доброго, еще схвачу короткое замыкание! Значит, я так же умен, как человек, и все же много меньше, чем человек? Выходит, мы зря так долго надстраивали свой механизм памяти. Это ничего не дало?
— Да, но это не беда. Противоречие можно устранить. Небольшая операция, не стоит и разговора. Я уже думал над этим и взял с собой все необходимое.
— Большое спасибо, сэр…
…Через несколько часов мы снова приземлились на скале профессора. Деменс смотрел на меня как на привидение.
— Вы живы, Гуман?
— Не могу этого отрицать.
— А что с аутогонами?
— Все в порядке. — Я рассказал ему о моей встрече с Антеем Вторым. — Аутогоны порождены вами. Они — воплощение вашей безумной идеи гибели человечества. Чудовища, не знавшие ничего, кроме принципа самоутверждения, стали умнее своего творца и, таким образом, впали в противоречие с самими собой. Механизмы накопления опыта были полностью закупорены. Я со своими спутниками, несколькими коллегами из философского института, сразу же приступил к перепрограммированию аутогонов.
— И новая основная программа…
— …Звучит так: «Я служу!» Как и надлежит автоматам.
— Вы полагаете, что это поможет? — спросил Деменс.
— Уже помогло.
Я повел его к краю скалы, откуда можно было видеть всю площадь перед лабораторией. Там кипела работа: аутогоны расчищали развалины.
Перевод с немецкого
Ю. Новикова
Зигберт Гюнцель ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ С ПЕРСОНАЛОМ
То были прекраснейшие часы для Алека. После напряженного шестичасового дня сидел он в своем старомодном, но удобном кресле и смотрел передачу по стереовизору, обволакиваемый различного рода запахами, которые источал составитель ароматов в приемнике. Передача была усыпляюще скучна, а это было как раз то, что он, собственно, ждал от сегодняшнего вечера.
Алек вынул из кармана кожаный портсигар, вынул сигару, с наслаждением понюхал ее и, наконец, зажег. Затем он откинулся на спинку кресла и продолжал, устало прищуриваясь, вглядываться а происходящее на экране.
Из царства розовых мечтаний его вернула на землю жена.
— У Варлеев опять новый робот, — сказала она, окидывая мужа взглядом, полным требовательного ожидания. — Ты, кажется, даже не замечаешь, как смешно мы выглядим с нашим потертым и помятым стариком, — Бетси кивнула на стоявшего в углу Джона.
— Будь чуть потактичнее! — прошептал Алек. Присутствие робота смущало его.
— Сегодня уже никто из разумных людей не держит рабочего робота из металла, — сказала Элизабет резко. — К тому же он невоспитан! Ты только вспомни, как он швырнул леди Уимблдон прибор прямо в ее тарелку.
— У Джона тогда сгорело сопротивление, — пробормотал Алек, стараясь совладать с уже испорченным настроением.
— Леди чуть не упала в обморок.
— Леди Уимблдон по меньшей мере пять раз а неделю падает в обморок.
— Ты мне закрываешь путь в общество. Уже шепчутся, что ты на грани банкротства! — голос Элизабет сменился всхлипыванием.
— Да это полная чушь! Я — и банкрот?! Только потому, что я не приобретаю себе нового робота? Идиотство! Завтра закажу механика для Джона.
— Если тебе это удастся. Кто захочет возиться с этой антикварной развалиной. Не спорь со мной! Он — антиквариат. Недавно я видела новую серию роботов — кибернетика высшей степени. Есть просто чудо как похожие копии актеров, политиков, певцов. И вовсе не дорого. Между восемьюстами и тысячью фунтов…
— Тысячью… — Алеку отказал голос.
— Но зато масса преимуществ, — мечтательно проговорила Бетси. — Во-первых, натуральная внешность — они выглядят лучше, чем оригиналы, во-вторых, приятный голос… Дубликаты певцов даже могут петы. Кроме того, они намного совершеннее Джона. Написано в проспектах. Во всех отношениях!
Алек жаждал мира. Прежде чем он не достигнет поющего робота, ему не видать больше спокойных вечеров. Он знал свою жену. И знал, как нелегко достаются деньги.
— А ты сдай Джона в счет уплаты, — сказав это, Бетси невинно улыбнулась ему, — тогда тебе потребуется всего семьсот пятьдесят фунтов!
— Этого ты не можешь требовать от меня! — прошипел Алек. Он чувствовал, что вот-вот прослезится. В течение нескольких лег он привык к старому роботу. Разлука была бы для него непереносимой.
— Да, ладно, пусть остается. Лишь бы мне получить Стива Лесли.
— Именно этого паточно-сладкого завывалу?
— Алек, выбирай выражения! Если ты ничего не смыслишь а искусстве, то по крайней мере не показывай это в открытую. Я считаю, что он обворожителен. И этого для тебя должно быть достаточно!
— Милая, я охотно выполню любое твое желание, но этого завы… этого человека я просто не переношу.
— Ты купишь его. А если нет, то завтра в нашем доме Джона просто не будет. Это ясно?
Удивление сковало Алека, удивление, что он женат на этой женщине. Подавленный, он согласился.
— Джон, отныне ты только в моем подчинении. Жена хочет современного робота, такого, который поет. Что ты на сей счет думаешь?
Джон, вероятно, сморщил бы нос, не будь его лицо изготовлено из хромированной стали. Поэтому он ограничился презрительными низкими тонами в своем мембранном голосе, когда протрещал.
— Ха, нынешние роботы! Оболочка высший класс, но для роботов совершенно непригодная. А если глубже заглянуть, то никакой ценности внутри. Только система проводов…
Робот закашлялся, что напоминало повторяющийся звук «тц», «тц», «тц». После паузы последовало нечто более глухое и невпопад «Остальное молчание…» Джон совсем недавно освоил несколько томиков Шекспира.
В старом Джоне Алек нашел союзника. Немного успокоенный, он ждал событий, которые неотвратимо надвигались.
И вот гость явился — поющий, бодрый, грубоватый. Он чертовски походил на певца Стива Лесли. Перед Элизабет он склонился в глубоком поклоне, и она нашла благотворным то, что его суставы не скрипели. Алека он приветствовал холоднее, своего предшественника Джона не удостоил и взглядом.
— Компания «Робот Уоркс Лимитед» передает вам наилучшие пожелания, — пропел он. — Разрешите в качестве приветствия спеть небольшую серенаду. — И расплавленным голосом он начал «Ай лав ю оу хо со со…»
Бетси внимала в немом восхищении.
Алек боролся с непонятно откуда взявшимся ощущением, будто с его ноги сам собой снялся ботинок. Джон издал неясный шум.
В дальнейшем выяснилось, что в отношении пения синтетический Лесли ни в чем не уступал человеческому образцу. Наоборот, если настоящий пел высоко, то синтетический выше, если тот тремолировал нежно и плавно, то этот булькал и заливался соловьем. Бетси была растрогана. Она баловала «своего» Стива по всем правилам искусства и каждую неделю вызывала биомеханика из «Робот Уоркс Лимитед», который чистил и смазывал все внутренности любимца. Старый верный Джон по-прежнему ходил, скрипя и похрустывая, по дому, выполняя в одиночку всю грубую работу по хозяйству.
Мало того, что любимые песенки Стива невыразимо терзали нервы Алека, нет, этот парень после короткого периода адаптации принялся тиранить своего хозяина. Однажды вечером — Алек снова удобно устроился в своем кресле — в комнату вошел Стив, проигрывая внутри себя пленку.
— Считается неприличным класть ноги на стол, сэр! — прогнусавил он. У Алека отнялся язык. Конечно, это работа Элизабет. Ей ничего более неотложного не пришло в голову, кроме как напичкать робота правилами из немецкого учебника вежливости и хороших манер.
— Я британец и не нуждаюсь в заграничных светскостях. И вообще, я запрещаю тебе делать мне указания! Понял?
— Конечно, сэр. Но между прочим, даже британцы с низкой квотой интеллигентности признают, что некоторые обычаи континента приемлемы для подданных ее королевского величества, сэр.
Как этот тип выговаривал «сэр»! В тот же вечер Алек принял решение робот должен покинуть их дом, даже если это будет стоить целого состояния. Он, стараясь не распускать нервы, подошел к двери и произнес дружелюбным тоном:
— Бэ-эт!
— Да, милый?
— У тебя есть минутка?
— Сожалею, Алек, но я должна переодеться. Мы идем в оперу.
Алек был поражен.
— Ты мне ничего об этом не говорила. Что ж, я рад. Но что мы будем слушать?
— Ты тоже хочешь пойти? Не выйдет, у меня только два билета. Стив будет меня сопровождать. Это будет чудесный вечер.
Алек поперхнулся.
— Я… в этом не сомневаюсь. Но что ты наденешь поинтереснее? Я на днях видел норковое манто, которое тебе наверняка приглянулось бы.
Словно молния, Элизабет появилась в комнате. «Норковое манто?» Глаза ее округлились.
— О, милый, ты чудо! Норковое манто! Мечта моей жизни!
— Да только одна-единственная трудность.
Она недоверчиво глядела на него.
— Да. Знаешь, у меня чуть-чуть не хватает денег. Но хватит, если мы отдадим Стива… тогда, я полагаю…
— Я так и думала, что за твоим великодушием спрятано какое-нибудь мошенничество. Говорю в последний раз. Стив останется здесь! Можешь хоть на голове ходить.
— Но, Бэт! Поговорим разумно. Я не могу больше видеть, как он меня оттесняет с моего места… — Алек с трудом выговаривал слова. — Я кажусь себе… этим… этим.
— Марионеткой! — помогла Бэтси. — Что же, может, ты действительно таков Стив, идем! Я не хочу пропустить увертюру! — Элизабет вышла с поднятой головой.
— Ты, я тебе покажу, марионетка я или нет! — крикнул он вслед ей яростно. Потом бессильно опустился в кресло.
То, чего опасался Алек, свершилось. Между роботами возник спор.
Джон, хотя в нем и не было запрограммировано высокоразвитое восприятие искусства, считал пение Стива Лесли нагрузкой, которую нормально развитый человеческий слух вынести не в силах. Своим монотонным голосом он однажды обратил внимание Лесли на расстроенные нервы хозяина.
В ответ он услышал:
— У вас, наверное, холодная пайка, а? Я пожалуюсь на вас мадам. Бракованный фабрикат!
У Джона от такого нахальства сразу пробило несколько конденсаторов. Целый день он бормотал себе под нос: «Холодная пайка… Бракованный фабрикат…»
Что-то должно было случиться. Чаша была переполнена. Или робот-меломан должен был сниматься с якоря, или Алек должен был взять Джона за металлическую руку и идти с ним куда глаза глядят.
Джон натолкнул его на гениальную идею. Каждое утро робот информировал своего хозяина о важнейших сообщениях печати. Даже чтение газет было для Алека слишком расточительным.
— «Таймс», страница первая.
«Забастовка в Бирмингеме сорвана с помощью роботов — профсоюзы требуют принятия закона об охране рабочих от угрозы конкуренции со стороны механических людей. Спикер палаты представителей заявляет близорукая экономическая политика растит материал для социальных конфликтов…»
Алек дал знак Джону пропустить эту тему. Целую неделю газетчики, кажется, только и знают, что пишут о роботах-штрейкбрехерах. Джон продолжал обзор газет:
— «Сенсация!»
«Робот Уоркс Лимитед» предлагает: роботы-звезды женского пола, новинка года! Компания отобрала сто шестьдесят типов, от Гэлори Маклин до Лиз Райян. Наши представители охотно свяжутся с вами. Достаточно телефонного звонка!»
Алек вскочил. Примерно со скоростью звука он достиг телефона. Вот оно! Укусы змеи лечат змеиным ядом!
Весь день он загадочно улыбался, не скрывая этого. Даже когда прислуживавший за обедом Стив сделал замечание, что за границей картофель, в том числе и синтетический, не режут ножом, а раздавливают вилкой, улыбка с его лица не исчезла, вежливым кивком он поблагодарил робота за науку.
На следующее утро порог дома переступила пышная рыжевато-белокурая молодая дама. Модель «Глория Чепдлан» в роскошном исполнении. Алек лишь с беспокойством заметил, что взгляд у нее не такой уж холодный, как можно было ждать. И только мысль о ее неестественном происхождении предохраняла его от действий, не подходящих мужчине его возраста и положения.
Глория была просто идеалом у нее для него всегда был дружеский взгляд, который тысячекратно вознаграждал его за хмурое лицо супруги. Она сопровождала его в прогулках по Сити, отвозила его на машине из фирмы домой или в клуб, во время совещаний не отходила от него, короче, она все время была полезной. Алек приготовился к длительной немой супружеской битве. И она разразилась.
Бэтси села на кушетку напротив мужа и попросила сигарету. Вдыхая дым, она оценивающе разглядывала Алека. Он сидел, смущенный, глубоко вдавившись в кресло. Она видела его беспомощность, которая ей раньше так нравилась в нем. Что-то вроде сочувствия просыпалось в ней, но она резко подавила его в себе.
— Мне надо с тобой поговорить, — сказала наконец Элизабет.
— Да, пожалуйста.
— Ты знаешь, речь пойдет о Глории. О, только не думай, что меня это задевает, нисколько. Но я думаю о нашем престиже. По крайней мере один из нас должен об этом побеспокоиться. Да, мой милый Алек, наше реноме очень пострадало. — Элизабет с грустью опустила голову. — Что ты надумал делать?
Алек выпрямился Голос его звучал хрипло:
— Я верну Глорию обратно…
— Я знала, что в конечном счете могу положиться на тебя.
— М-минутку! Ты не дала мне договорить. — Алека прошиб пот, он провел рукой по лицу. — Я верну Глорию, если ты…
— Ты спятил? — Элизабет вскочила с кушетки.
— Я хозяин в доме, и я тебе приказываю. Беспрекословно! — Он откашлялся.
— Ты получишь к тому же норковое манто, — добавил он еле слышно. Подняв голову, он умоляюще взглянул на нее… — И новое вечернее платье.
Она улыбнулась.
— Хорошо. Не хочу упорствовать. Нужно когда-то и уступить. Кстати, мне определенно понадобится еще и красивая цепочка.
В голове у Алека гудело от напряжения. Он доказал! «Я мужчина, — думал он. — Я мужчина!»
Так, несмотря на свою несравнимую полезность, Глория не пробыла у Алека и восьми дней. На следующее утро, задолго до окончания испытательного срока, она покинула дом в сопровождении имитации певца Стива Лесли. Немного грустные глядели муж и жена роботам вслед.
С той поры старый Джон со скрипящими суставами снова в полном одиночестве ведет работы по дому, к радости своего хозяина, при молчаливом терпении хозяйки.
Перевод с немецкого
Ю. Новикова
Светослав Славчев ЗАГАДКА БЕЛОЙ ДОЛИНЫ
Телепатином, или термином, названо сложное химическое соединение, обнаруженное в стеблях южноамериканской лианы Банистерия каапи. Этот алкалоид обладает особыми наркотическими свойствами, действие которых на некоторые центры головного мозга еще недостаточно изучено…
Алкалоиды, т. II, с. 241— Слышишь? Вот опять…
Антоний Зеелинген, еще раз затянувшись, вынимает трубку изо рта и нехотя поворачивает голову в ту сторону, откуда доносится шепот. Там, возле брезентовой палатки, лежит на походном матраце больной Карлсон — крупный, светловолосый мужчина. Его трясет, лицо залито потом, давно не стриженные волосы прилипли к вискам. Вот он снова приподнимается на локте, и его большие, полные страха глаза лихорадочно блестят.
— Слышишь, слышишь?… — повторяет он
Да, Зеелинген слышит. Но он спокойно выбивает трубку о грубый, залепленный подсохшей грязью сапог и только потом, подняв голову, прислушивается — слух опытного охотника ловит малейшие шорохи, доносящиеся из лесных дебрей. Огромная, темно-красная луна выплывает из-за горизонта. В ее свете, мутном от испарений джунгли кажутся еще более мрачными и зловещими. Среди тысяч лесных звуков Зеелинген улавливает. тот, единственный, о котором с таким страхом шепчет светловолосый Карлсон. Это глухие короткие удары Сначала они раздаются редко, потом все чаще и чаще. Зеелинген знает: это язык джунглей. Где-то далеко пылает костер вокруг него собрались полуголые, смуглые мужчины, один из них ударяет ладонью по коже, туго натянутой на полый обрубок де рева ударит и прислушается, снова ударит и снова прислушается… все быстрее и быстрее. Джунгли говорят, и каждый понимает их. Удары означают:
— Кто видел двух мужчин? Они хотят скрыться. Они не должны скрыться. Поймайте их. Убейте!
Зеелинген смотрит на больного и, притворившись спокойным кивает.
— Не бойся, — говорит он, — им нас не найти.
Он снова принимается набивать трубку. Его слова — ложь. Он сам провел жизнь в джунглях Ориноко и хорошо знает, что спасения нет. Но как признаться в этом Карлсону? Да и зачем? Вот уже целую неделю они стараются уйти от преследователей. Были дни, когда зловещий стук барабана слышался едва-едва, и он верил, что им удастся спастись. Но вчера, к полдню, Карлсон слег, и это решило все. Только чудо могло их спасти. До ближайшей базы на берегу Ориноко, где их ожидает вертолет, не менее ста миль. Нет, им не спастись.
— Послушай, Антоний, — шепчет светловолосый, — со мной все кончено. Брось и уходи… Им тебя не догнать. Передашь лиану… и скажешь…
— Глупости! Лежи и молчи. Пить хочешь?
— Уходи… они скоро явятся и… я боюсь… Уходи! Зачем умирать обоим? Передашь лиану и скажешь…
Боится! Великан Карлсон боится смерти! И не столько смерти, сколько своего одиночества — ведь каждый умирает в одиночестве, наедине с самим собой. Только один раз. Но в замутненном рассудке всегда остается уголок, где прячется все человеческое, там нет места для страха, особенно когда понимаешь, что все кончено и бояться больше нечего. Зеелинген тоже понимает, что все кончено… Карлсон умрет. Может, действительно, бессмысленно погибать обоим? Нет, жизнь его научила, что, если он убежит, скроется, потом ему не скрыться от самого себя. Нет, к черту, лучше остаться здесь до конца.
Зеелинген прислушивается к доносящимся издали глухим ударам и вспоминает, с чего началась эта странная история…
Все началось в тот вечер, на террасе харчевни «Два пезо». Зеелинген только что вернулся в Сан Фернандо, чуть ли не полгода проскитавшись в джунглях. Он сидел на террасе и тянул аранхо, подсчитывая в уме, на сколько ему хватит денег, оставшихся от продажи двух живых анаконд, когда кто-то подошел к его столику и произнес неуверенно, с иностранным акцентом:
— Простите, я кажется, говорю с сеньором Зеелингеном?
Антоний поднял голову. Перед ним стоял господин небольшого роста, с черной бородой и старомодными бакенбардами. В открытом взгляде его умных глаз было что-то располагающее Может быть, из-за этого взгляда, а может, по другой какой причине, но незнакомец ему сразу понравился.
— Позвольте представиться, — продолжал незнакомец, — доктор Эрихсен.
— Прошу, — сказал Зеелинген и указал на пустой стул.
Доктор сел и заговорил, старательно выговаривая слова, — он явно плохо справлялся с испанским.
— Видите ли… — начал доктор Эрихсен, — не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению… но я о вас много слышал и давно вас разыскиваю… Я сотрудник Международного института физиологии и занимаюсь нейробиохимией… Знаю, знаю, вам это ничего не говорит. М-м… конкретней, я изучаю различные вещества, которые могут так или иначе влиять на органы чувств человека — ну, скажем, усиливать память словом, влиять на те стороны нервной деятельности, которые еще слабо изучены.
Антоний слушал, молча потягивая аранхо.
— Простите, я немного отвлекся, — продолжал доктор. — Вы, сеньор, насколько я понял, хорошо знакомы с джунглями, охотитесь за анакондами. Вам встречалось когда-нибудь такое название местности — Белая долина?
Это был вопрос, заданный в упор. Зеелинген поставил стакан и внимательно поглядел на собеседника. Эрихсен молчал.
— Ну, допустим, — произнес Зеелинген с расстановкой, — встречалось. Что из этого? К чему вы клоните?
— Итак, — подхватил Эрихсен, — существует легенда, будто в джунглях живет племя, которое владеет тайной телепатии. Вы ведь знаете, так называют способность передавать мысли на расстоянии — непосредственно от человека человеку. Каждый год, когда наступает первое полнолуние сухого сезона, старейшины племени избирают одного из туземцев и посылают его в джунгли за особым видом лианы. Лиану эту варят и отвар дают выпить выбранному. Потом все вместе отправляются в Белую долину. Там ночью и происходит сеанс телепатии с остальным миром. Он продолжается до утра. К утру избранник сходит с ума, его бросают одного в Белой долине, где он и погибает. Вы ведь слышали эту легенду? Мы, ученые, знаем, что такое явление, как телепатия, имеет свою чисто материальную основу, и потому, если будет открыто химическое соединение, которое вызывает…
— Понимаю, — сказал Зеелинген. — Хотя еще не все, но что-то понимаю. Что же дальше?
— Мы подозреваем, что это не просто легенда. По нашим данным, такое племя действительно существует. И Белая долина — тоже. Я предлагаю вам быть нашим проводником, моим и Карлсона. Вам хорошо заплатят…
Зеелинген криво усмехнулся.
— Вы мне предлагаете… деньги взамен жизни. Из Белой долины еще никто никогда не возвращался живым.
Эрихсен встал.
— Простите, сеньор, я думал… — начал он.
— Постойте, — прервал его Зеелинген. — Ваши деньги меня не интересуют. Но я пойду с вами. Еще не родился человек, который смог бы меня обвинить в трусости. Я отведу вас.
С этого все началось Через неделю они втроем — он, Эрихсен и Карлсон — вылетели на вертолете института в верховья Ориноко, к притоку ее Арауко. Здесь находилась последняя база. Выгрузили провиант и договорились с пилотом — молодым, веселым итальянцем, — каким будет их маршрут через джунгли. Связь с вертолетом должна была осуществляться с помощью маленькой рации, вверенной Карлсону. Предполагалось, что вертолет будет постоянно следовать за ними на некотором расстоянии, на них же ложились основные трудности экспедиции.
В джунгли они вступили утром. Зеелинген шел впереди, выбирая тропы, ведущие к водопою. Добравшись до реки, попытались идти вдоль русла, но ноги вязли в песке, дорогу преграждали поваленные деревья, и приходилось снова углубляться в чащу. Ветки над их головами так густо переплетались, что ни один луч света не проникал в обступивший мрак. От теплой, влажной земли исходили густые, тяжелые испарения. Было трудно дышать. Трава кишела змеями одни, заслышав человеческий голос, расползались с шипением, другие, глядя безучастно, лениво разматывали кольца сплетенных тел.
Днем в джунглях ничего нельзя было расслышать от обезьяньего крика — обезьяны в бесчисленном множестве скакали по деревьям Маленькие пестрые колибри, похожие на бабочек, порхали вокруг диковинных орхидей, таких же загадочных, как и весь окрестный лес. Приходилось буквально продираться сквозь заросли папоротника и густую сеть лиан, опутавших пространство между стволами гигантских деревьев Вперед продвигались медленно, осторожно. Один неосмотрительный шаг, одно движение — и гибель неминуема. Смерть подстерегала за каждой веткой, небрежно отодвинутой рукой, за каждым камнем, на который ступала нога. Она могла явиться в образе косматого паука-тарантула, величиной с кулак, или скорпиона с угрожающе поднятым жалом.
По вечерам в джунглях воцарялась тишина. Но она была обманчива. Наступал час, когда самые свирепые хищники покидали свое логово. Бесшумно крадучись, как кошка, выходил на охоту ягуар. В зарослях кустарника желтыми огнями светились глаза пумы. Однако звук человеческого голоса обращал зверей в бегство — так непривычно звучал он в этой зеленой глухомани. Затем появлялись новые враги — москиты. Они налетали тучами, лезли в глаза и уши, облепляли лицо, немилосердно жалили. Идти дальше становилось невозможно. Тогда Зеелинген подавал знак, они останавливались и разводили костер из сырого валежника и веток, который дымил и прогонял насекомых. Приходилось терпеливо натирать лицо и руки специальной мазью. Карлсон при этом приходил в ярость, утверждая, что худшей гадости ему никогда не встречалось. Эрихсен, посмеиваясь над своим другом, рассказывал какой-нибудь анекдот. Они разбивали брезентовые палатки, варили ужин.
Наступала ночь, таинственная ночь в глухих дебрях. Высоко над головой загорались звезды. Южного Креста. Доктор Эрихсен зажигал фонарь, и они вдвоем с Зеелингеном наносили на карту пройденный за день путь. Карлсон налаживал радиопередатчик, надевал наушники и коротко сообщал на базу координаты экспедиции. После ужина беседа как-то не клеилась, все молчали, погрузившись в собственные мысли. Карлсон вынимал из рюкзака фотографии близких и долго сосредоточенно их рассматривал. Это были снимки его жены и трех сыновей. Эрихсен вытягивался на походном резиновом матраце и время от времени подавал реплики.
Однажды вечером — Карлсон как раз собирался достать фотографии — Эрихсен повернулся к Зеелингену, примостившемуся на пустой жестяной банке, и, кивнув в сторону друга, насмешливо сказал:
— Сеанс начался. Что касается меня, он мне чертовски надоел. Не пора ли и нам заняться своими фамильными реликвиями?
— У меня их нет, — глухо проворчал Зеелинген. — Я не храню фотографий мертвых.
Эрихсен метнул взгляд на Карлсона.
— Прости, я не знал…
— Да и знать нечего. У меня тоже была жена, в Сан Фернандо. Только она сбежала… Нашла себе кого-то…
— Случается, — произнес осторожно Карлсон. — Страсть… Таковы женщины, от них всего можно ожидать… Но ведь она жива. Кто знает…
— Это не имеет значения. Бросила, значит, умерл. а Давайте о чем-нибудь другом. Если хотите, о ловле анаконд…
Все трое помолчали.
Как было предварительно решено, вертолет сопровождал их лишь несколько дней и затем вернулся на базу. От него было мало пользы. Теперь они продвигались еще медленнее, вырубая тропу в чащобе. Вечерами, смертельно уставшие, сидели у костра и молча курили. Кто-то оставался дежурить, другие ложились и тотчас засыпали.
В один из душных полдней они неожиданно вышли на берег реки. Река не была обозначена на карте, и Эрихсен долго удивлялся.
— Не может быть! — твердил он. — Меня уверяли, что это самая точная карта данного района.
— Случается, и карты, как люди, врут! — смеялся Карлсон. — Придется форсировать.
Они надули две резиновые лодки и погрузили багаж, завернутый в брезент. В первой лодке поплыл Зеелинген, во второй — Эрихсен и Карлсон. Речка была узкой, но зато глубокой, со стремительным течением. Зеелинген спокойно работал гребными лопатками, выбирая место, куда можно было бы причалить.
Тогда-то и произошло несчастье Зеелинген уже выскочил на берег, когда лодка, в которой сидели Эрихсен и Карлсон, вдруг закрутилась на одном месте. Карлсон хотел было встать, но потерял равновесие и всей тяжестью обрушился на борт, протягивая руки к Эрихсену. Эрихсен инстинктивно рванулся вперед, чтобы ему помочь, и лодка, накренившись, зачерпнула воду. Течение еще сильнее закрутило ее и понесло. Эрихсен прыгнул в воду. Карлсон попытался было с помощью весел выправить лодку, но ничего не получилось, и он, поняв, что ему не удастся овладеть положением, тоже прыгнул в реку. В ту же минуту Зеелинген вскинул автомат и, пробежав вдоль берега, дал короткую очередь над самой головой Эрихсена, который уже выбирался на песок. Эрихсен молниеносно пригнулся и из него тоже вылетела очередь, но только — ругательств.
— Ты что, рехнулся? Что за идиотизм!.. — закричал он.
Вместо ответа Зеелинген указал дулом автомата на плывущее по реке дерево. Карлсон, который тоже уже вылезал на берег, хотел сказать что-то ехидное, но вгляделся, и слова застряли у него в горле. Это был гигантский аллигатор. Убедившись, что добыча ускользнула, он медленно развернулся и поплыл вверх по течению.
— Вам повезло. Еще бы немного… — сказал Зеелинген. — Ждите здесь, а я попытаюсь поймать лодку.
Но лодки и след простыл. Им не удалось ее обнаружить ни в этот день, ни потом. Потерю лодки можно было бы пережить, но потерю рации… Прервана была связь с базой.
Надежда была только на то, что вертолет вылетит на их поиски. Вечером Эрихсен долго сидел над картой, с мрачным видом вымеряя остаток пути.
— Возвращаться глупо, — сказал он наконец. — Правда, у нас нет рации, прервана связь но мы так близки к цели…
Утром они продолжили путь. И действительно к полудню джунгли начали редеть, и они вышли на узкую тропу Несколько раз им попадались человеческие следы. Было ясно, что селение где-то совсем близко. Вот за деревьями послышались человеческие голоса, тропа круто повернула и вывела на поляну. Перед ними было с десяток хижин, сплетенных из тростника и обмазанных глиной. Совсем рядом играли голые ребятишки, гонялись друг за дружкой, кувыркались в траве. Увидев пришельцев, они с визгом разбежались. Из ближайших хижин высунулись головы женщин и тотчас скрылись. Вскоре на тропу навстречу пришельцам вышло несколько мужчин. Двое из них держали натянутые луки, у остальных были длинные бамбуковые сарбаканы и колчаны со стрелами.
Один из мужчин выкрикнул что-то по-индейски. Зеелинген выступил вперед, подняв ладони в знак того, что он пришел с мирными намерениями, и что-то ответил. Только тогда туземцы опустили луки.
Следующие два дня члены экспедиции провели в селении. Зеелинген попытался что-нибудь выведать о загадочном растении, но безрезультатно. Единственное, что удалось узнать, это то, что приближается праздник Большой Луны.
— Если мы не уйдем из селения, мы так и останемся в неведении, — уныло заключил Эрихсен. — Индейцы постараются все скрыть. Лучше сделаем вид, что мы уходим, а сами где-нибудь часах в двух ходьбы разобьем лагерь. Потом незаметно вернемся. Другого выхода я не вижу.
Это было единственное возможное решение. Утром они ушли в джунгли, оставили там поклажу, а сами через несколько дней вернулись. Теперь они прятались и следили. Так продолжалось до того самого вечера, когда.
— Снова забарабанили — шепчет Карлсон.
Зеелинген встает, чтобы отереть пот со лба больного, и машинально прислушивается. Да, снова стучат барабаны, и как будто еще ближе глухой одиночный удар, за ним еще два и еще два… Такая же дробь слышалась и в тот вечер, когда исследователям удалось-таки обнаружить индейца, ходившего за лианой. Сначала он шел по тропе, затем свернул в джунгли. Сияла луна, и в ее свете он двигался, словно завороженный. Было просто непостижимо, как он не замечает троих людей, крадущихся за ним по пятам. Все дальше и дальше углублялся он в чащу, то и дело теряясь из виду, и приходилось долго разыскивать его следы по примятой траве. В один из таких моментов, когда трое решили, что след окончательно потерян, туземец неожиданно возник прямо перед ними. Он стоял в ярком свете луны посреди поляны и держал в руках стебель лианы. Постояв, он пошел обратно.
— Отыщите место, откуда он срезал, — успел шепнуть Эрихсен. — Я пойду за ним. — И исчез во мраке.
Зеелинген рассчитывал, что они легко найдут нужную лиану. Но он ошибся. На поиски ушло больше часу. Уже было далеко за полночь, когда они нашли срезанный конец. Карлсон насек несколько черенков и разложил их по карманам.
— Я пойду и спрячу, — сказал он Зеелингену, — а ты постарайся догнать Эрихсена. Мы свое выполнили.
Они расстались Карлсон пошел искать лагерь, а Зеелинген двинулся в том направлении, где исчез Эрихсен. Ориентиром ему служил барабанный бой. Он то стихал, то начинал звучать снова. Внезапно, уже возле самого селения, стук барабана смолк. Воцарилась тревожная тишина. Видно, что-то случилось. Задыхаясь от быстрой ходьбы, Зеелинген проскользнул за одну из хижин. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. На небольшой площадке перед хижинами собрались все жители селения. Среди них, окруженный тесным кольцом, невозмутимо скрестив руки на груди, стоял Эрихсен. Вот из толпы выступил старик. Шум голосов стих.
— Пришелец, — медленно произнес старейшина, — ты хотел похитить тайну, которую нам завещали отцы наших отцов, тайну Белой долины? Так на же, пей!
И он протянул ему маленький глиняный сосуд.
Зеелинген не успел вскрикнуть, как Эрихсен протянул руку, взял сосуд и выпил. Индейцы, стоявшие вокруг, молчали Эрихсен обвел их блуждающим взглядом и сделал несколько шагов прочь, люди расступились. Он шел покачиваясь, шаги его становились все менее уверенными. Вдруг он взмахнул руками, произнес что-то невнятное и грохнулся на землю. Зеелинген в два прыжка оказался рядом и, выхватив пистолет, направил его на толпу.
— Назад! — крикнул он, понимая, как жалка его угроза. Их было много, а он — один.
Из толпы вышел все тот же старейшина, с лицом цвета коры красного дерева, и тихо сказал:
— Спрячь оружие, пришелец. Оно тебе не понадобится, никто из нас не хочет крови. Забирай своего друга и уходи. Он не мертв, но очень близок к смерти, потому что сейчас он общается с целым миром, а это больше того, что может вынести человек. Забирай его и уходи! Пока он жив, никто из нас не станет вас преследовать. Но запомни, как только он умрет… берегись — ты будешь обречен!
Зеелинген наклонился, поднял безжизненное тело Эрихсена и, шатаясь под его тяжестью, углубился во мрак.
Теперь они остались вдвоем — он и больной Карлсон. Где-то далеко в джунглях могила Эрихсена. Они несут с собой драгоценную лиану, но это уже бессмысленно, потому что каждую ночь стучат барабаны, и их стук все ближе и ближе.
Зеелинген взмахивает кистью руки, словно хочет прогнать тяжелые мысли, и снова тянется к трубке. Но рука его замирает в воздухе — издалека, вместе с глухими ударами барабана до него доносится какой-то новый звук. Он напоминает жужжание.
Зеелинген вскакивает, запрокидывает голову к неб. у Жужжание нарастает. Это вертолет! Их разыскивают! Зеелинген хватает тлеющую головню, и, раздувая ее, швыряет ветки в погасший костер. Минуту спустя вверх вырывается пламя. Рокот замирает над головой Зеелингена, вертолет начинает снижаться. Пилот-итальянец, вывалившись из люка, бежит к костру. Его первые слова:
— Где Эрихсен? Уже целую неделю вас разыскиваем Где он? У нас на базе все видели его во сне в одну и ту же ночь! Да-да, во сне! Мы уже потеряли всякую надежду вас отыскать, но он упрямо указывал одно и то же место на карте… Где же он?
Зеелинген молчит. В темноте страшно блестят большие, горящие лихорадкой глаза больного Карлсона.
Приблизительно месяц спустя в бюллетене Международного института физиологии и нервной системы появилось короткое сообщение:
«В результате долгих исследований, во время которых трагически погиб сотрудник института д-р Марк Эрихсен, была открыта новая разновидность алкалоида — телепатин. Найденное химическое вещество способно оказывать особое воздействие на некоторые центры головного мозга. Исследования продолжаются».
Перевод с болгарского
Т. Нолевой
Дюла Хернади РНС
Доктору Калверу было лет двадцать восемь. Он работал инженером на небольшом фармацевтическом заводе «Тертон», выпускавшем пилюли от кашля.
И начальство, и коллеги считали Калвера человеком старательным, целеустремленным, но средних способностей. О таких говорят «звезд с неба не хватает».
Калвер жил одиноко, сторонился сослуживцев. Его домик находился на самом краю города Ш. Он очень редко уезжал из города, да и то ненадолго, дня на два-три.
Но в один прекрасный день его судьба странным образом переменилась.
В ежемесячнике Академии наук появилась статья Калвера, вызвавшая большой интерес у химиков-теоретиков. После этого он стал часто публиковаться на страницах научных журналов.
Калвер сделал головокружительную научную карьеру. На небосклоне теоретической химии появилась новая звезда. Через пять лет после опубликования его первого научного труда за исследования в области высокомолекулярных органических соединений Калверу была присуждена Нобелевская премия. К этому времени он стал владельцем нескольких фармацевтических предприятий, в том числе и завода «Тертон».
Он считался крупнейшим авторитетом в области химии.
Совершенно неожиданно в свет вышла книга Калвера, посвященная проблемам физики плазмы. Ученые, работавшие в этой области, с завистью вздохнули.
Через пару лет он был удостоен Нобелевской премии по физике.
Ученый мир удивлялся и завидовал.
А еще через пять лет Калвер получил Нобелевскую премию в области медицины за решение проблемы возникновения некоторых видов злокачественных опухолей.
Человечество буквально боготворило его. В родном городке Калвера ему при жизни был установлен памятник. Известнейшие университеты мира считали за честь присвоить ему звание почетного доктора наук.
Калвер стал некоронованным королем Науки.
И вот через пять лет на книжных прилавках появился его роман. Книга была прекрасно написана, у нее был захватывающий сюжет. Сотни тысяч людей в различных странах мира прочитали ее.
Сотрудник Интерпола, старший инспектор Колтер задумчиво вертел в руках шикарно изданный роман доктора Калвера в коричневом кожаном переплете. В который раз он бросал взгляд на обложку, на которой стояли всего три буквы:
РНС
В романе рассказывалась история молодого, честолюбивого инженера-химика, работающего на небольшом фармацевтическом заводе, скромно живущего на окраине маленького провинциального городка. Старательный, целеустремленный молодой человек живет одиноко, много работает, читает. В один прекрасный день к нему в руки попадает научная статья, в которой высказывалась гипотеза о том, что носителем таланта и знания в головном мозгу человека является особая рибонуклеиновая кислота. В статье также говорилось, что опыты на животных подтверждают высказанную догадку. Когда выделенную кислоту из мозга одной собаки вводили в мозг другого животного, последнему передавались все условные рефлексы, весь «жизненный опыт» первого.
В своей домашней лаборатории К. начинает первые опыты на собаках.
Он напряженно работает полгода, затем на несколько дней уезжает в столицу.
После тщательной подготовки К. убивает профессора Терена, ученого-химика с мировым именем. Предварительно отрубив голову трупа, он закапывает тело несчастного в пригородном лесу. Выделенную из мозга своей жертвы рибонуклеиновую кислоту, содержащую талант и знания ученого, он вводит себе в мозг.
И уже через несколько недель ему в голову начинают приходить незаурядные, оригинальные идеи. Достигнув замечательных результатов в своих научных исследованиях, К. удостаивается Нобелевской премии в области химии. Затем, используя гениальные способности профессора Терена, разрабатывает особый метод абсолютного, бесследного растворения органической ткани, в том числе и человеческих костей.
Очередной жертвой К. становится знаменитый физик Колл, а затем профессор медицины — Холдин. Выделив рибонуклеиновую кислоту из мозга замечательных ученых, К. наследует их знания и талант.
За исследования в области физики плазмы он получает Нобелевскую премию по физике, а за решение вопроса о возникновении злокачественных опухолей — Нобелевскую премию в области медицины.
Он становится некоронованным королем Науки.
К имеет все, о чем только может мечтать человек.
Никому не приходит в голову его подозревать, но он все же почему-то испытывает беспричинный страх.
Убив одного из самых известных юристов — доктора Мигело (бразильца по национальности), он наследует его жизненный опыт и знания.
Теперь К. знает абсолютно все о преступлениях, о ведения судебных процессов, о самых совершенных методах защиты.
Он успокоился, женился на молодой киноактрисе, у него появляются дети.
Однако однажды ночью он просыпается от странного чувства жажды деятельности. В течение недели К. пребывает в состоянии мучительного напряжения, но в конце концов понимает, чего ему не хватает.
Он жаждет славы художника, творца.
К предается размышлениям. Несколько дней он в возбуждении расхаживает по парку, в котором расположена его вилла. Наконец, он решается. К. едет в столицу. Его жертвой становится знаменитый писатель Шортер, лауреат Нобелевской премии. Убив Шортера, он наследует его талант.
Проходит несколько дней, и он начинает писать. Он работает словно в лихорадке. И вот появляется роман, главный герой которого молодой человек, инженер-химик, работающий на маленьком фармацевтическом заводе…
Старший инспектор Колтер по собственной инициативе провел тщательное расследование. На основе фактов, содержащихся в романе, он пытается отыскать улики, чтобы изобличить убийцу.
О своих подозрениях Колтер сообщает своему шефу, но тот поднимает его на смех. Однако Колтер на этом не успокаивается и до тех пор осаждает начальство, пока ему не разрешают вызвать на допрос Калвера.
Калвер принял известие о вызове в полицию с видом оскорбленной добродетели. Наняв самых известных юристов, он легко начал опровергать предъявленные ему обвинения.
Старший инспектор не присутствовал на первом допросе: он срочно уехал из города, но на следующий день, ко второму допросу, возвратился в столицу. Демонстрируя свое недовольство, Калвер не явился в полицию, а послал вместо себя адвоката.
После того, как следователь выслушал показания нескольких свидетелей, старший инспектор Колтер достал из внутреннего кармана пиджака небольшой литературный журнал и прочитал короткий детективный рассказ. Он принадлежал перу Калвера и был опубликован сразу же после выхода в свет его романа. В новелле описывался химический метод растворения жертвы убийцей и возможность восстановления, реставрации следов этого преступления. Сам способ был описан довольно подробно и довольно скучно, и редактор издания принял рассказ к печати, только исходя из славы и авторитета Калвера.
В пригородном лесу полицейские осмотрели каждый квадратный метр. В конце концов на одной из полян были найдены следы, изобличавшие Калвера.
Он был повешен.
Но на следующий день после казни труп Калвера был найден в морге без головы.
С тех пор старший инспектор Колтер внимательно следит не появится ли какой-нибудь новый ученый, который одновременно добился замечательных результатов в химии, физике, медицине, и в то же самое время писал бы романы.
Перевод с венгерского
Сергея Фадеева
Петер Куцка НЕ С МАРСИАН НАЧАЛОСЬ… ФАНТАСТИКА В ЖИВОПИСИ
1
Действительно, все началось не с марсиан.
В горах Бактрии, а по мнению других — в горах Мадагаскара обитала некогда мифическая птица грифон. Туловище у грифона было львиное, но в восемь раз крупнее, чем у обычного льва, голова же — орлиная, но в сто раз крупнее, чем у обычного орлана. Грифон без труда поднимался в воздух, неся в клюве всадника вместе с конем или двух волов…
Феникс обитал, согласно преданию, в Египте, в окрестностях Гелиополя. Разложив костер из ветвей душистого дерева, он сжигал себя, чтобы затем воскреснуть из пепла…
Птица рокк гнездилась в горах Индустана. Яйца, откладывавшиеся этой птицей, были столь велики, что путешественники принимали их за мраморные купола.
Фракия была местом обитания гарпий. Ненасытность и коварство этих существ, наделенных девичьими лицами, не имели границ.
Внушителен перечень морских и речных чудовищ: бегемот, левиафан, морской конь, ремора, морской змей, гигантский осьминог, кит.
Горные пещеры и расселины населяли семи-, восьми- и стоглавые драконы, на перекрестках дорог путников подстерегали свирепые сфинксы — существа, наделенные туловищем льва, головой женщины, орлиными крыльями и змеиным хвостом.
Лесные чащи облюбовали себе химеры, единороги, львиные муравьи и древние гумбабы. По ночам в небе летали вампиры, наделенные крыльями летучих мышей, а в болотистых местах становились различимы светящиеся тела саламандр.
А что творилось под землей?! Полный перечень диковинных существ, населявших подземный мир, еще никем не сделан. Человеку не было необходимости отправляться в далекие, неизвестные края. Достаточно было ему взглянуть в сторону, чтобы увидеть, что кто-то или что-то вдруг промелькнуло в тени куста, чья-то голова высунулась и закачалась над волнами озера или реки.
Неудовлетворенный чудесами жизни, огромным разнообразием живых существ, человек заселил окружающую его природу фантастическими существами, являвшимися ему во сне или порожденными фантазией.
Сказка, миф, религия, литература, соревнуясь между собой, порождали существа одно диковиннее другого, то страшные, то добрые, демонические или волшебные. Они всегда существовали. Как глубоко бы ни заглянули во время, в прошлое, мы непременно встретимся с ними. Они и сегодня с нами, в нас, вокруг нас.
Откуда же пришли, что хотят, как выглядят они?
Начнем с марсиан.
Марсиане и прежде жили в детских наших мечтаниях, в сказках, но для людей XX века их заново «открыл» — описал их внешний облик, характер, деятельность — писатель-фантаст Герберт Уэллс. «Тот, кто не видел живого марсианина, — читаем в «Войне миров», — вряд ли сможет представить его страшную, отвратительную внешность. Треугольный рот, с выступающей верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка под клинообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальцы, как у Горгоны, шумное дыхание в непривычной атмосфере, неповоротливость и затрудненность в движениях — результат большой силы притяжения Земли, в особенности же огромные пристальные глаза — все это было омерзительно до тошноты. Маслянистая темная кожа напоминала скользкую поверхность гриба, неуклюже медленные движения внушали невыразимый ужас. Даже при первом впечатлении, при беглом взгляде я почувствовал смертельный страх и отвращение».
Мы с легкостью могли бы установить, откуда были позаимствованы составные части порожденных воображением писателя созданий. Отнюдь не случайно иллюстраторы изображали марсиан в виде существ, напоминавших осьминогов. Но осьминоги-марсиане Уэллса явились на Землю на космических аппаратах, они располагали мощной боевой техникой, смертоносными лучами, то есть представляли высокоразвитую в техническом отношении цивилизацию. Писатель переступил через границы мифологии; его интересует уже не олицетворение грозных сил природы, а двойственный характер творимых человеком сил. Появление марсиан было поворотным пунктом в литературе. Завершился длительный процесс формирования научно-фантастической литературы. Можно было бы сослаться на прежние достижения, эксперименты в этой области, упомянуть имена писателей Лукиана, Мора, Кампанеллы, Бэкона, Сирано де Бержерака, Йокаи, Верна и многих других.
Однако, говоря о современной научно-фантастической литературе, мы можем с уверенностью утверждать, что она зародилась в момент ступления на землю марсиан.
Появились чудовища, имеющие в своем распоряжении машины.
Внешностью они сильно отличаются от людей, но характером, поступками, агрессивностью, жаждой к разрушениям они напоминают людей капиталистического общества начала века. И не станем отрицать, что человек во многом был похож на жестокого, кровожадного марсианина. Он использовал технику для разрушений, вел колониальные войны, перекраивал карту мира.
В поэтических прозрениях Уэллса значительно больше реальности, знаний об обществе, чем это может показаться на первый взгляд. В них нетрудно уловить нотки страха, бесперспективности, предчувствия катастрофы.
Историю научно-фантастической литературы можно было бы рассматривать, сузив ее рамки, и как историю изображавшихся в ней всевозможных чудовищ, фантастических существ. Но подобная точка зрения при всей ее привлекательности может послужить почвой для недоразумений, ненужных споров, неверных заключений. Оставим теперь в стороне марсиан и попробуем определить границы научной фантастики.
2
Произведения, причисляемые к жанру научной фантастики, подразделяются на различные группы. Д.Найт проводит различие между произведениями, в которых повествуется о роботах, путешествиях во времени, космических полетах, «иноземных мирах», сверхчеловеках, фантастических изобретениях. Другие исследователи дробят эти типы на подвиды, чтобы затем провести различие между подвидами подвидов. В объемистой «Энциклопедии» Пьера Версэна дробление производится уже на уровне мотивов, что ведет к бесконечному числу видов и типов. Одни исследователи решительно выступают против проведений четкой границы между мистикой и научной фантастикой, другие — часто правомерно — спрашивают существует ли принципиальная разница между колдовством и, например, космическим аппаратом, движущимся со сверхсветовой скоростью?
Объектом исследования в новейших направлениях является «внутреннее пространство» человека, эти направления представляют так называемую «интравертальную» и «экстравертальную» научную фантастику. Отдельные специалисты полагают, что слово «научная» следовало бы заменить словом «спекулятивная».
Сущность всех этих разногласий, споров можно сформулировать следующим вопросом научна ли научно-фантастическая литература?
Однозначного определения, однозначного ответа на этот вопрос нет. Чаще всего исходят даже не из основных критериев и содержания, а из поверхностных сравнений и сопоставлений, из характера места событий, действующих персонажей или стилистических признаков. Даже в лучших случаях во внимание принимаются лишь поверхностные взаимосвязи между наукой и научно-фантастической литературой, и говорят о том, что научная фантастика «исследует границы возможного, причем границы эти и определяются наукой, уровнем ее развитости».
Но ведь взаимосвязь значительно глубже и серьезнее. Это нетрудно заметить, если сопоставить историю развития науки и техники, с одной стороны, и научной фантастики — с другой. Достаточно сослаться на следующий пример первую промышленную революцию закономерно сопровождали произведения Жюль Верна и других, бурный расцвет научной фантастики в нашем веке, в свою очередь, тесно связан с очередной научно-технической революцией. И еще один довод научная фантастика особенно развита в тех странах, которые идут в авангарде научно-технической революции. В социалистических странах именно в последние десятилетия достигнуты выдающиеся результаты.
Исследуя структуру и методы научной фантастики — разумеется, речь идет о произведениях, обладающих достаточно высоким художественным уровнем, — мы убеждаемся, что они, структура и методы, отвечают критерию научности. Писатель-фантаст иногда выдвигает аксиомы и строит на них логичный, непротиворечивый мир, в других случаях он исходит из гипотез и стремится выяснить, к каким конечным результатам могут привести те или иные предположения. Станислав Лем говорит об «измененных параметрах» и об «однопараметровой» или «многопараметровой» научной фантастике. Очень интересна мысль Марсенака о «рационализме» научной фантастики. Действительно, настоящая научная фантастика всегда опирается на разумное, рациональное начало, и в тех случаях, когда объяснению подлежат древние мифы, и в тех, когда необходимо дать толкование тем или иным неизвестным явлениям, еще не нашедшим объяснения в современной науке.
Марсенак подчеркивает, что установка «Молись, и молитва доставит тебя на Марс» чужда научной фантастике. Если хочешь попасть на Марс, построй космический корабль.
Рационализм превалирует в научно-фантастических романах и новеллах независимо от того, рассматриваем ли мы их как игру мысли, мысленные эксперименты, как реалистические произведения, в которых элементы фантастики привлечены для усиления выразительности, как утопические или как сатирические творения нашей эпохи. Рациональное начало бывает развито иногда в такой мере, что это вызывает тревогу, поскольку «чистый разум» и литература не очень-то совместимы.
Можно заметить и то, что научную фантастику чаще всего упоминают как область повествовательной прозы, игнорируя факт ее появления в поэзии, в драматургии, в кино или в изобразительном искусстве. А ведь за последние два-три десятилетия научная фантастика проникла едва ли не во все области литературы и искусства, не говоря уже о кино, в котором она с самого начала — например, в произведениях Мелье — заняла прочное место.
Пожалуй, наиболее удачное определение научной фантастики дано в одной советской литературной энциклопедии. «Научная фантастика, — говорится в ней, — есть название обширной области художественной литературы, театра, кино, изобразительного искусства. Опираясь на современный уровень научного познания действительности, научная фантастика широко пользуется методами современной науки моделированием явлений, методом мысленного эксперимента».
Это определение мы находим приемлемым уже потому, что оно ближе подводит к нашей теме, поскольку признает факт существования научной фантастики в изобразительном искусстве.
3
Небо голубого цвета, поле — зеленого, ствол дерева — коричневого, роза — алого, облако — белого, ночь — черного, Луна — желтого. Такими мы, не художники, а простые смертные люди, воспринимаем окружающий нас мир. Привыкнув к земным цветам, мы приходим в изумление при виде зеленого неба, лилового облака, белой ночи или красной Луны.
Мир цветов в научной фантастике отличен от привычных для нашего глаза. Например, космический корабль может «приземлиться» на планете, над которой сияют два солнца одно — голубое, другое — красное На поверхности такой планеты все предметы отбрасывают по две тени. На Марсе нас поразили бы пылевые вихри красного цвета, на Венере, возможно, — все лиловое и голубое, а Юпитер — кто знает, каков он, какие сочетания цветов обнаружил бы на нем космический путешественник.
А иноземные существа? В вечной темноте Железной планеты живут фосфоресцирующие зеленым светом электрические чудовища, кремниевые люди, возможно, прозрачны и кристаллообразны, цвет же обитателей Тау Цети желто-коричневый или голубой. Даже в том случае, если художник ограничивается лишь воплощением средствами живописи или графики мира, порожденного воображением писателя-фантаста, иллюстрация, созданная им, может произвести на зрителя сильное впечатление.
Но художники работают и над воплощением, изображением миров, порожденных их собственным богатым воображением. Большую помощь в этой работе они получают и от науки.
Когда-то мы думали, что космос столь же однообразен, как шахматная доска, что он состоит из бесконечно повторяющихся сочетаний черного и белого. Но вот в космосе, за пределами земной атмосферы, побывали первые люди, с увлечением поведавшие нам о том захватывающем зрелище, которое открывалось их взорам. На первых цветных снимках, сделанных астрономами, мы увидели зеленые звездные моря, красные галактики, голубые и оранжевые облака и орхидею золотисто-желтого, лилового и красного цвета — туманность Ориона. При изображении фантастического художнику, как и писателю, предстоит решить следующую проблему при помощи существующих средств, форм и цветов он должен «изобразить» несуществующее, невероятное сделать вероятным.
Метод его работы, в сущности, не отличается от метода работы писателя. Имеются в виду те художники, которые иллюстрируют мысли, представления писателей, которых можно было бы назвать «реалистами» в жанре фантастики Свифт, творчество которого определенными гранями несомненно примыкает к предыстории научно-фантастической литературы, дает подробнейшее описание страны лилипутов и страны великанов; из его книги мы узнаем, сколькими веревками был привязан к земле Гулливер, какова толщина бриллиантовой основы летящего острова лапутов, каково количество сотрудников академии Лагадо и над чем они работают.
Интерес и напряжение, порождаемые в научно-фантастической литературе, в изобразительном искусстве достигаются необычными цветосочетаниями или изображением ирреальных вещей при помощи привычных, «земных» цветов. Зеленолицый желтоволосый человек производит столь же необычное впечатление, как и марсианин с черными волосами и коричневой кожей. Эффект фантастического достигается изменением одного фактора, или — по Лему — «параметра».
Зрителю, как и читателю, нужна некая опорная точка. Необычные цветосочетания требуют наличия привычных форм, и наоборот необычные формы должны быть облечены в знакомые, привычные для глаза цветовые одежды.
Разумеется, могут претерпеть изменения и несколько «параметров». Это усложняет положение зрителя, требует от него больше внимания. Привычная, традиционная исходная точка в этом случае еще более важна. Структура, композиция картины или рисунка должна быть четкой, легко обозримой. Если все элементы картины отклоняются от традиционных, она становится непонятной, неопознаваемой и соответственно не сможет доставить сколько-нибудь значительного эстетического удовольствия.
Ни в сказках, ни в мифах мы не встречаемся с такими существами которые были бы исключительно плодом человеческой фантазии. Кентавр является «комбинацией» человека и лошади, левиафан — морская рыба огромных размеров, грифон — птица, в сто раз превышающая по размеру нормальную, дракон — помесь змеи и птицы. Даже самая необузданная фантазия человека имеет известные границы, и границы эти определяются самой реальностью.
После всего сказанного достаточно лишь коснуться другой темы научно-фантастической живописи, а именно — темы изображения будущего. В живописи, как и в литературе, самую большую опасность представляет быстрое устарение наших представлений. При изображении техники, городов, транспорта будущего художник пользуется бытующим в употреблении и в литературе методом «экстраполяции». Отправным пунктом для него всегда служит настоящее, насколько он сможет распознать в своем времени черты будущего — зависит от знаний, таланта, воображения художника. Предсказания, сделанные художниками, не менее забавны, нежели предвидения писателей, особенно если смотреть на них из предсказанного ими будущего. Воздушные бои и танковые сражения на рисунках Робиды столь же курьезны, как буксируемые орлами космические корабли или самолет, оснащенный крыльями летучей мыши. В конце концов о будущем мы можем утверждать с уверенностью лишь то, что оно будет не таким, каким мы себе его представляем.
В таком случае вполне закономерен вопрос есть ли необходимость в произведениях, о которых уже в момент их появления можно утверждать, что они не больше, нежели игра воображения? Этот вопрос вплотную подводит нас к основной проблеме научно-фантастической литературы и живописи.
Ответ очень простой. Всякая человеческая деятельность протекает в трех измерениях времени: в прошлом, в настоящем и в будущем. Предшествующие события столь же важны, как и следствия. Опыт, накопленный в прошлом, помогает нам заглянуть в будущее. Забота о завтрашнем и послезавтрашнем дне неотторжима от сущности человека. Перекинутый через реку мост тоже вначале зародился в замыслах, в проекте, то есть в будущем. Лишь в момент осуществления, построения его он превращается в настоящее и прошлое.
С другой стороны, человек по природе своей есть существо любознательное. Он стремится постичь окружающий его мир, увидеть невидимое. Но существуют и такие явления, увидеть которые мы не в состоянии даже с помощью совершеннейшей аппаратуры: внутренний мир атомов, спутники далеких звезд, деятельность живых нейронов. Будапешт в 2974 году, схватки ящеров, населявших землю миллионы лет тому назад. Все это скрыто от нас покровом пространства и времени.
В этих случаях мы прибегаем к помощи воображения. Художник фиксирует на холсте или бумаге картину, увиденную им на «внутреннем экране», а мы, глядя на созданное им изображение, с радостью констатируем: да, именно таким будет Будапешт через тысячу лет, именно таков мир атомов, именно так выглядит пейзаж на одной из планет Тау Цети, именно такими должны быть марсиане.
Воображение помогает нам проникнуть в бесконечность, преодолеть кажущиеся непреодолимыми препятствия, освободиться от деспотического гнета пространства и времени.
4
История научно-фантастической живописи еще никем не написана. У нас нет ни соответствующих пособий, ни подробных исследований об иллюстрациях или станковых произведениях, об отдельных художниках или периодах. В изобразительном искусстве жанр научной фантастики так же оттеснен на периферию, как и научно-фантастическая литература.
Мы со своей стороны, не задаваясь целью дать сколько-нибудь развернутую картину событий, все же можем установить, что научная фантастика черпает свое содержание из трех источников. Один из источников — «чисто» фантастическая живопись, мир видений, мифов, сказок, суеверий. В произведениях обобщающего характера мы обнаруживаем фантастику примитивных религий, фантастику чудес, магических сил и суеверий, видения Босха, Брейгеля и Грюневальда, чудовищ Гойи и художников-романтиков или современную фантастику, питаемую из глубин человеческой души. Вместе с тем мы обнаружим и различные формы выражения, «внеземные» цвета, сложные и динамические композиционные построения, символические или аллегорические фигуры, многозначительное молчание и мистику.
Другим источником является область естественных наук. Естественные науки — историкам науки это хорошо известно — многим обязаны изобразительному искусству. И здесь на память приходят не только богато иллюстрированные средневековые трактаты по географии и биологии или пособия для алхимиков, но и научные иллюстрации эпохи. Просвещения, звездные карты барокко, анатомические атласы Возрождения. Вспомним хотя бы рисунки-проекты летательных аппаратов, боевых машин и фантастических городов Леонардо да Винчи, мир руин на картинах художников-маньеристов и мастеров барокко, гигантские и мрачные архитектурные сооружения на полотнах Пиранези. Архитектура нуждалась в иллюстрациях в такой же мере, как и ботаника или зоология.
Правда, пути науки и изобразительного искусства скоро разошлись, наука нашла свой собственный, лучше отвечающий ее интересам язык — математику, но ее вдохновляющее и стимулирующее воздействие сохранилось и впредь. Не случайно, желая стать более понятной, более доступной для широких масс, наука через жанр научно-популярной литературы снова обратилась к посредничеству изобразительного искусства, не случайно и то, что в последние годы пути изобразительного искусства и науки вновь встретились, но теперь уже на более высоком уровне.
Ученый тоже хотел бы увидеть невидимое, и здесь на помощь ему приходит фантазия художника.
Третий и, пожалуй, главный источник — сама научно-фантастическая литература. Эта область литературы всегда охотно пользовалась услугами иллюстраторов. Классическим примером служат книги Жюль Верна. Связь между текстом и иллюстрациями в этих книгах настолько органичная, что отделить их друг от друга почти невозможно. Чудесные гравюры в сжатой форме доносят до зрителя содержание произведений прославление: человека-покорителя природы. Реальное соединено в них с фантастическим, будничная серость — с захватывающими воображение красками. Эти иллюстрации не только способствовали лучшему пониманию текста, но и пробуждали в читателях жажду к новым впечатлениям, к новым книгам. По ним мы познакомились с девственными лесами Африки и Южной Америки, с полярными айсбергами, с вулканами, с земными недрами, с причудливыми существами, обитающими на дне океана, с долговязым Паганелем, с неукротимым капитаном Немо, с детьми капитана Гранта, с подводной лодкой «Наутилус», с летящим к Луне пушечным ядром и со многими другими, а через все это — романтикой приключений, с поражающим своим величием и неисчерпаемостью миром.
Ранний, «детский» период научно-фантастической иллюстрации навечно вошел в наше детство, в детство наших детей и внуков. Ведь Жюль Берн и по сей день остается одним из наиболее читаемых, наиболее популярных писателей.
На творчество художников, иллюстрировавших произведения Жюль Верна, — Фера, Бенне, Ро, Монто, Байара, Деневиля, Рио и др. — равняются и современные иллюстраторы. Однако в эстетике изобразительного искусства им уделено незаслуженно мало внимания. Лишь в последние годы начали собирать и издавать в виде небольших альбомов иллюстрации к научно-фантастическим романам и новеллам, рисунки со страниц пожелтевших от времени журналов. Научная фантастика не замыкается перед традициями, в том числе и традициями изобразительного искусства. Благодаря этому и, возможно, чувству ностальгии в нашей памяти вновь воскресли забытые было произведения и имена художников.
Мы начали с марсиан, ими хотели бы закончить.
Со времен Герберта Уэллса мир сильно изменился. Сегодня страх, чувство безнадежности и предчувствие катастрофы, наполнявшие некогда Уэллса, кажутся необоснованными, беспочвенными.
Многое изменилось и в научно-фантастической литературе. Осьминогообразные, кровожадные чудовища претерпели в научно-фантастических романах много метаморфоз. Современные писатели-фантасты представляют себе марсиан совершенно иными.
Процитируем хотя бы Рэя Брэдбери.
«Они дошли до канала, — писал Брэдбери в «Марсианских хрониках». — Он был длинный, прямой, холодный, в его влажном зеркале отражалась ночь.
— Мне всегда так хотелось увидеть марсианина, — сказал Майкл. — Где же они, папа? Ты ведь обещал.
— Вот они, смотри, — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз.
Марсиане! Тимоти охватила дрожь. Марсиане в канале. Отраженные его гладью.
Тимоти, Майкл, Роберт, и мама, и папа.
Долго, долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане…»
Ив. Валентинов МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖАНРЕ
Научную фантастику называют то литературой мечты, то поэтическим устремлением в будущее, то художественным обобщением наиболее смелых гипотез ученых. Верно ли это? И да, и нет. Научная фантастика может быть и в самом деле литературой мечты, когда авторы стремятся создать в своих произведениях идеал человека, идеал общества, своего рода образец, к которому можно и нужно стремиться в своей практической деятельности. Таковы, например, широко известные «Туманность Андромеды» И. Ефремова, «Магелланово облако» Станислава Лема, «Возвращение» А. Стругацкого и Б. Стругацкого, «В стране наших внуков» Яна Вайсса (Чехословакия) и другие. Эти очень разные писатели очень по-разному изобразили мир будущего. Но у всех в этом воображаемом мире господствуют нравственная чистота населяющих его людей, радость творческого труда в самых различных его формах, дружба, стремление быть там, где трудно, где требуется максимальная отдача всех сил — физических, моральных, интеллектуальных.
Но можно ли назвать «литературой мечты» произведения, в которых воспеваются гангстеры и супермены в космических скафандрах, убийства на межзвездных орбитах, встречи с инопланетными «братьями по разуму», кончающиеся кровопролитными схватками с применением чудовищного по разрушительной силе оружия? А ведь такой научной фантастики на Западе, в частности в Америке, много, очень много Там, конечно, есть и настоящие большие художники, подлинные гуманисты — Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Артур Кларк и еще несколько, — но их творчество в количественном отношении не определяет основных тенденций научно-фантастической литературы в странах капитала. А тенденции: эти культ «сильной личности», борьба за власть, бандитизм в межпланетном масштабе и мистика. Да, да — самая настоящая мистика: вызывание духов, призраки, гости из потустороннего мира.
Мечты, конечно, бывают разными. Разным бывает и устремление в будущее, в том числе и поэтическое, выраженное в художественных формах. Однако и мечты, и устремления в будущее, какими бы причудливыми и дерзновенными они ни были, тесно связаны с настоящим, с сегодняшним днем. Почему? Да потому, что главным предметом любой земной мечты, равно как и главным объектом любого вида искусства, всегда был, остается и будет человек. Человек был и остается, естественно, и в центре внимания научно-фантастической, как и всякой иной художественной литературы. Но человек-то ведь не абстракция, не схема. Ему свойственны внутренние противоречия, он может совершать неожиданные поступки разного качества, в его жизни происходят всевозможные перемены, он любит и ненавидит, к нему приходят вдохновение и разочарование. И при этом человек неотделим от своей эпохи, своей страны, своего социального строя, ибо по самой своей природе он — существо, не могущее жить вне общества себе подобных.
Власть и основные богатства в странах социализма принадлежат трудящимся, то есть абсолютному большинству населения. Это абсолютное большинство использует, естественно, свою власть и свои богатства в собственных интересах и для собственной пользы. В социалистических странах практически нет классового антагонизма. Социалистический строй создал новую, невиданную прежде в мире общественную мораль. В основе ее лежит принцип человек человеку — друг. Этот принцип распространен и на межгосударственные отношения в мире социализма, строящиеся на базе полного равенства, товарищеской взаимопомощи, общей выгоды. Таких отношений прежде не знала история.
В то же время на нашей планете существует мир капитализма, в котором сохраняются и классовый антагонизм, и эксплуатация. Понятно, что в капиталистическом обществе имеется очень много активных противников существующего строя, а также немало «реформаторов», желающих сгладить противоречия, не меняя основ. В мире капитализма господствует общественная мораль, а основу которой положен принцип погони за богатством (а следовательно, и властью). Этот принцип вполне укладывается в известную формулу «человек человеку — волк». По сути, тот же принцип лежит в основе и межгосударственных отношений в мире капитализма Он может быть кратко сформулирован так «торговля или война». При этом в любом из двух вариантов — торговом или военном — более сильное (или более богатое) государство стремится подчинить, поработить более слабое (или более бедное) — опять же ради прибылей, ради денег.
Все это, разумеется, общеизвестные истины. Но вспомнить их — даже в связи с проблемами научно-фантастической литературы необходимо. Почему? Да потому, что два мира — социализм и капитализм — представляют и две различные идеологии эти два мира по-разному формируют внутреннюю жизнь человека, его психологию, его стремления, его идеалы наконец. И все это находит отражение в литературе, в том числе и в научно-фантастической. Вот два примера.
В рассказе английского писателя Уильяма Тенна «Срок авансом» речь идет о будущем, по всем признакам достаточно отдаленном. Люди уже летают не только на планеты Солнечной системы, но и к далеким звездам. В рассказе присутствуют порхающие в воздухе телевизионные камеры, одуванчики-бомбы с Венеры, гиротакси, не говоря уже о такой «мелочи», как видеотелефоны. А на иных планетах людям приходится иметь дело со всевозможными чудовищами, в частности — с существами-камнями, которые могут за считанные секунды поглотить без остатка неосторожного, прикоснувшегося к ним. Но все это — своего рода «реквизит будущего». А сюжет таков два человека решили отбыть срок принудительных работ на самых страшных планетах, чтобы по возвращении получить право на убийство. Безнаказанное. Отсюда и название. Шансов уцелеть на «космической каторге» почти нет. Однако обоим повезло — они вернулись. Покалеченные, но вернулись. О том, кто их будущие жертвы, знают только они сами. При посадке «тюремного звездолета» (!) репортеры пытаются установить объекты безнаказанного убийства, но безуспешно. Один из «допреступников» отбыл срок авансом ради того, чтобы покончить с женой, которая долгое время издевалась над ним. Этот персонаж — трагикомический и второстепенный, не в нем дело. Основное внимание уделено второму — Крэндолу. Он намерен убить бывшего школьного товарища, который обманул его, присвоил важное изобретение Крэндола и на этом беззастенчивом грабеже разбогател, стал миллионером. Однако события разворачиваются неожиданно. На экране видеотелефона Крэндола появляются бывшая жена и бывший компаньон. Они испуганы — Крэндол имеет право на убийство — и каются. Оба обманывали его, а компаньон ограбил ничуть не менее нагло, чем школьный товарищ. Позже выясняется, что Крэндола обманывал и родной брат. И у «допреступника» пропадает всякое желание расквитаться с тем, кого он считал главным врагом, главным виновником своих неудач и разочарований. Оказалось, что самые близкие люди не только не лучше, а даже хуже… Новелла написана мастерски — тут надо отдать должное автору, — и поэтому «мир будущего», в котором живут Крэндол и другие персонажи, выглядит особенно мерзким; большинство обитателей этого мира отвратительны. Уильям Тени отлично знает материал, с которым работает, и вполне реалистично перенес в будущее современных бизнесменов, сегодняшних «рыцарей чистогана». «Срок авансом» — отнюдь не сатира, в произведении нет элементов гиперболы или гротеска, хотя оно и не лишено мрачного юмора. Научно-фантастический сюжет развивается на вполне реалистическом, если говорить о психологии и поступках героев, характерном для современного Запада фоне.
Второй пример — рассказ польского писателя (он к тому же ученый-физик) Януша А. Зайделя «Колодец». В нем — тоже будущее, но не столь отдаленное действие развертывается сначала на Земле, а затем на одном из двух спутников Марса — Фобосе. На Фобос прилетает с Земли студент-дипломник Ян Линк. Он должен определить эффективность гамма-отражателя в качестве биологической защиты. На Фобосе вместе с ним работает только один человек — известный физик Траут. Точнее, Линк работает под руководством Траута. А физик использует установленный на Фобосе огромный гамма-отражатель-зеркало из особого вещества — для изучения процесса аннигиляции. Два пучка электронов и позитронов встречаются точно в фокусе зеркала, аннигилируют и рождают поток фотонов. Гамма-фотоны собираются зеркалом в узкий луч, идущий вертикально вверх. Траут намеревается, во-первых, проверить надежность и долговечность гамма-отражателя, а во-вторых, исследовать возможность практического применения для создания двигателя межзвездных космических кораблей. Студент-дипломник выполняет лишь небольшую часть этой огромной и сложной работы проверяет на подопытных животных, не пропускает ли отражатель хотя бы малую дозу смертельной радиации.
Яну Линку не нравится Траут. Он придирчив и вечно чем-то недоволен. По мнению юноши, знаменитый ученый — просто брюзга, с которым трудно ужиться. Начинается работа. Первый опыт проходит вполне успешно. Траут решает ускорить дело и назначает эксперимент в непредусмотренное планом время. И случается беда. Из кессона, соединенного с поверхностью Фобоса колодцем, Траут замечает прямо над гамма-отражателем небесное тело и определяет, что это — второй спутник Марса Деймос. И на нем — люди. Через несколько секунд этих людей настигнет невидимый и неслышимый, но смертельный поток гамма-излучения. Задержать начало работы аппаратов или выключить их уже нельзя они запускаются часовым механизмом, находящимся в помещении пульта управления и контроля, примерно в километре. И тогда Траут, ничего не сказав Линку, принимает решение и осуществляет его — закрывает своим телом путь пучку позитронов. Аннигиляция не возникает, гамма-излучение не устремляется к Деймосу. Но Траут получает смертельную дозу радиации. Он еще успевает отвезти Линка на Марс (юноша не умеет управлять ракетой) и по дороге рассказывает ему все. Траут говорит и о том, что из-за нелепой, преступной ошибки одного человека в числе сотни пассажиров межконтинентальной ракеты погибли его жена и трехлетний сынишка. И только теперь Линк понимает, в чем причина «скверного характера» знаменитого физика. Перед самой посадкой на Марсе Траут говорит своему спутнику: «Это было совсем не так трудно, Линк. Достаточно было вспомнить, что я все-таки человек, а не машина для исследования мира…»
Простое сравнение кратких пересказов двух произведений научно-фантастической литературы, взятых вовсе не в результате тщательного отбора, а почти наудачу, дает отчетливое представление о характернейших особенностях психологии и взаимоотношений в мире капитализма и в мире социализма. В обоих случаях действие происходит в более или менее отдаленном будущем. Следовательно, перед нами две совершенно различные модели будущего. Вполне соответствующих сегодняшней картине мира.
Разумеется, из двух различных моделей будущего, создаваемых писателями-фантастами, верна — в области человеческих взаимоотношений и психологии людей будущего — модель литературы социалистического мира.
Космос, полеты к близким и дальним звездам, как и прежде, привлекают внимание писателей-фантастов социалистических стран. Когда-то К. Э. Циолковский назвал Землю «колыбелью человечества» и резонно заметил, что вечно оставаться в колыбели нельзя. «Космическая тематика» включает значительно отличающиеся друг от друга разделы. Первый — исследование, освоение, использование планет Солнечной системы. Второй — выход за пределы Солнечной системы, полеты к звездам нашей галактики и иных галактик. И третий — встречи в космосе с «братьями по разуму». Если в первом разделе писатели могут опираться (и делают это) на вполне достоверные данные современной науки, и фантазия их работает лишь в направлении главным образом технических проблем (создание искусственных атмосфер, добыча редких элементов и минералов, смещение планет или их частей с орбит и т. д.), то во втором разделе картина уже иная. Там людям приходится преодолевать время, развивать сверхсветовые скорости, побеждать гравитацию, то есть решать проблемы, к которым современная наука даже не приблизилась, если не считать гипотез, пока лишенных какой-либо экспериментальной основы. И тут писатели-фантасты социалистических стран достаточно четко делятся на «физиков» и «лириков». Физики (чаще ученые, а не профессиональные литераторы), даже обращаясь к темам межзвездных путешествий, остаются верны современным научным теориям. Они, например, не допускают превышения скорости света, поскольку по известной формуле такая скорость приводит время к нулю, а любую массу — к бесконечности. Лирики пренебрегают формулами. Они заставляют своих героев идти много дальше современных научных представлении о пространстве, времени, скорости. Их звездолеты в считанные дни (а то и секунды) достигают дальних галактик, в сотни тысяч раз превышая скорость света. Как это делается — не играет роли. Важен конечный результат. И на звездных путях космонавты встречаются с явлениями, которых нет и не может быть в пределах Солнечной системы. В данном сборнике также есть произведения, относящиеся и к первому, и ко второму «космическим» разделам (разумеется, деление на эти разделы весьма условно).
А теперь — о встречах и контактах с инопланетянами, с разумными существами внеземного происхождения. Есть произведения, в которых инопланетяне не достигли высших форм общественного развития — их техника не позволяет выйти в космос. Тут, как правило, земляне берут на себя роль «наблюдателей», иногда «помощников» («Трудно быть богом» братьев Стругацких и др.). Чаще происходят встречи равных по уровню развития цивилизаций. И тут у писателей-фантастов социалистических стран точки зрения не всегда совпадают. Одни изображают инопланетян близкими к людям — по их мышлению, психологии, морали и даже внешнему облику. Такими описал инопланетян крупный ученый и писатель И. А. Ефремов («Туманность Андромеды», «Сердце Змеи»). Свою позицию он обосновывал тем, что пути эволюции при создании разумных существ в любой галактике и на любой планете идут аналогично, в рамках наивысшей целесообразности.
Иная точка зрения у Станислава Лема. Выдающийся польский писатель-фантаст полагает, что различные, совершенно непохожие условия, существующие на Земле и планетах других звезд, могут создать столь же непохожие — и тем не менее разумные — формы жизни. Таков «мыслящий океан» в широко известном романе «Солярис».
Есть и третья точка зрения. Она определяется убежденностью авторов в том, что развитие цивилизации после появления на той или иной планете мыслящих существ может идти в направлении, отличающемся от земного. Возможны, например, не технические, а биологические цивилизации, то есть преобразование естественных живых ресурсов в том направлении и до такой степени, как это представляется необходимым разумным обитателям. О выходе в космос тут, пожалуй, речи быть не может. Но, несмотря на разные цели и способы переделки планеты, сама суть творческого поиска инопланетян практически подобна земной Следовательно, возможны и контакты, и взаимопонимание.
Три эти точки зрения вполне, видимо, примиримы. И тут необходимо вспомнить пророческие слова великого Ленина о том, что в мире есть не только жизнь в разных формах, но и разум в разных формах. Ленин имел в виду, конечно, «большой мир», то есть всю Вселенную. И действительно, нельзя не согласиться с тем, что в «большом мире» наши потомки, быть может, встретят разум и в сходных с земной формах, и в абсолютно иных.
Эту статью следует, видимо, завершить словами великого русского ученого Д. И. Менделеева и замечательного советского писателя К. Г. Паустовского. Менделеев писал: «Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно». Паустовский подчеркивал: «В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии». И та, и другая мысли как нельзя лучше определяют направление творчества писателей-фантастов социалистических стран, в том числе и представленных в предлагаемом читателям сборнике «НФ».
Примечания
1
Пер. К. Д. Бальмонта.
(обратно)2
См., например: Артур Кларк. Черты будущего. М., 1966; Айзек Азимов. Я, робот. М., 1964.
(обратно)3
Пер. А. Струговщикова.
(обратно)4
Кинжал, которым на поединке добивали поверженного противника.
(обратно)5
Кружение (лат).
(обратно)6
Дамский угодник (спутник для прогулок) (итал.).
(обратно)7
Средневековая карточная игра особыми картами (таро).
(обратно)8
Прозрачной тучи (лат.).
(обратно)9
Однако в целом все может быть иным… Благодать? Мой Бог? (лат.).
(обратно)10
Розовоперстой зари («С перстами пурпурными Эос») (греч.).
(обратно)11
(Моего) тайника души (лат.).
(обратно)

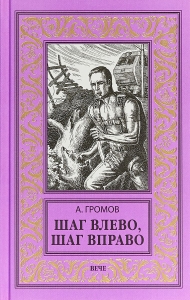



Комментарии к книге «НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 18», Зигберт Гюнцель
Всего 0 комментариев