Глава 1 ПАЛАТА ЛОРДОВ
Все есть Бог.
Бог — это белая талло, одинокая в небе;
Бог — это снежный червь в своей ледяной норе;
Бог — тишина и великое одиночество моря;
Бог — крик матери, когда она рожает дитя.
Кто видит мир сияющими очами Бога?
Бог видит все, но не может видеть себя.
Бог, как новорожденный младенец, слепой к своей страшной красе.
Но когда-нибудь Он станет взрослым и научится видеть.
Из девакийской Песни ЖизниЯ мало что знаю о Боге, но слишком много знаю о богоподобной расе, называющей себя человечеством. Нам предназначено быть богами — так учат скраеры и пророки различных религий, новых и старых. Немногие, впрочем, понимают, что значит быть богом, — что уж там говорить о настоящем человеке. Некоторые смотрят на галактических богов — Дегульскую Троицу, Ямме, Кремниевого Бога и других — как на совершенные существа, бессмертные и стоящие выше жизненных треволнений. Но это не так. Боги, хотя и состоят из миллионов кристаллических сфер размером с луну, тоже могут умирать: убийство Бога Эде доказывает, что никто не минует своей судьбы, из чего бы он ни был сделан — из алмазных схем или из плоти и крови. Боги тоже воюют друг с другом. Говорят, что Эльдрия два миллиона лет назад победили Темного Бога и тем спасли Млечный Путь от участи Дихали, Спирали Ауд и других галактик, которые страсть богов к бесконечному загнала в черную дыру.
Говорят также, что Эльдрия поместили свои души в свет, струящийся из ядра нашей галактики, но вместо них в результате божественной эволюции пришли другие: Искинт, Чистый Разум, Апрельский Колониальный Разум и Единственный. И конечно же, величайшая из них — Твердь, бывшая некогда женщиной по имени Калинда Цветочная. В сравнении с ее любовью к звездам и к жизни, зарождающейся в их пышущих водородом чревах, взаимная страсть мужчины и женщины — всего лишь спичка, зажженная при свете солнца. В сравнении с Ее ненавистью к Кремниевому Богу страсти всех когда-либо живших людей — всего лишь капля в бушующем море. Однако человеческая страсть к уничтожению все же не пустяк. Люди способны воевать, как и боги. Они взрывают звезды — но при этом могут говорить “да” новым формам жизни, развивающимся во вселенной. И созидать.
Это история человека, совмещающего в себе творца и разрушителя — моего сына Данло ви Соли Рингесса, простого пилота, чье стремление к миру способствовало войне, разгоревшейся в небесах многих миров. Однажды, когда галактика медленно оборачивалась вокруг своего центра, в космосе над многоводной планетой Тиэлла появился легкий корабль. На своей “Снежной сове”, длинной и грациозной, созданной из алмазного волокна, Данло прошел всю галактику от Звезды Невернеса до затерянного Таннахилла. Это путешествие среди звезд и диких пространств мультиплекса, что пролегает под звездами, было долгим и опасным. Вместе с ним к великой галактической богине отправились девять других пилотов на своих кораблях, но только Данло вышел живым из далеких секторов Рукава Персея.
Он пересек весь Экстр, эту адскую область сегментированного пространства и превращенных в сверхновые звезд. Теперь он вновь повернул к ядру галактики и с другого края Экстра возвратился на Тиэллу. Ни один пилот в истории еще не заходил так далеко, но не только Данло мог похвалиться великими свершениями.
Его орден, Орден Мистических Математиков, начал свою Вторую Экстрианскую Миссию по спасению звезд, и пилоты рассеялись по Экстру, как песчинки по бурному морю: Петер Эйота, и Генриос ли Радман, и великая Эдрея Чу на “Золотом лотосе”, золотые глаза которой видели мультиплекс проницательнее, чем многие другие. Некоторые из них — Елена Чарбо, Аджа и Аларк Утрадесский — уже вернулись на Тиэллу или возвращались одновременно с Данло. Ни одно место в Экстре, да и во всей вселенной, не может, конечно, быть полностью безопасным: даже мирная Тиэлла неминуемо обращает свой круглый благодушный лик к убийственной радиации звезд. Белые волдыри сверхновых пылали в черных небесах вокруг корабля Данло повсюду, куда ни посмотри. Все они были старыми и далекими, слишком слабыми, чтобы спалить животный и растительный мир планеты. Но никто не знал, когда в космосе зажгутся новые смертоносные огни, положив конец новой Академии, заложенной Орденом на Тиэлле. Данло вернулся именно для того, чтобы поведать об одной из таких звезд.
Он повел свой сверкающий корабль сквозь холодный небесный озон к более теплым слоям атмосферы — синей, прозрачной и пронизанной солнцем. В радостном нетерпении он шел к новому городу Ордена, которому Главный Пилот дал простое имя Белый Камень. Ему, как и Невернесу, который члены экспедиции покинули несколько лет назад, предстояло стать Городом Света, лучезарным градом, несущим холодный блеск орденских истин всем народам Экстра.
Белый Камень стоял на трех холмах, на мысу большого океанского острова, сверкая своим белым гранитом и органическим камнем под полуденным солнцем. Идущий на посадку Данло видел в иллюминаторы множество розовых, аметистовых и других оттенков, меняющихся от улицы к улице и от холма к холму. Вскоре “Снежная сова” снизилась на одной из полос городского космодрома. Здесь, на каменистой, поросшей цветущим кустарником равнине, в полумиле от района каменных особнячков, она наконец остановилась на отдых, и Данло впервые за много дней ощутил могучий, ломящий кости силы тяжести. Он собрал свои немногочисленные пожитки в деревянный сундучок, который получил еще послушником, оделся в парадную пилотскую форму и распечатал люк. Сойдя на твердую скалистую почву, он впервые за истекший год прищурился от яркого света реального, открытого неба.
— Здравствуй, пилот, — послышался чей-то голос. — Ты пришел издалека и свершил многое, верно?
Данло с сундучком в руке посмотрел в конец полосы, где начинались строения космодрома. Там, как обычно, стояли программисты, технари и другие специалисты, встречающие легкие корабли. Данло узнал горолога в красном — его звали Ян Гедеон, но приветствие исходило не от него, а от другого пилота, Зондерваля, необычайно высокого человека, одетого, как и Данло, в черный шелк. Зондерваль был прям и статен, как дерево йау, и столь же горд — по правде сказать, он гордился собой больше, чем любой известный Данло человек.
— Рад вас видеть снова, мастер-пилот.
— Можешь обращаться ко мне Главный Пилот, — сказал, подойдя к нему, Зондерваль. — С тех пор, как мы виделись в последний раз, я получил повышение.
— Хорошо… Главный Пилот, — произнес Данло. Он прекрасно помнил тот вечер несколько лет назад, когда они с Зондервалем беседовали под звездным небом Фарфары. В ту ночь над планетой зажглась сверхновая, и миссия покинула этот последний из цивилизованных Миров, взяв курс на Тиэллу. — Не скажете ли, какое сегодня число?
— По планетарному времени или по невернесскому?
— По невернесскому, если можно.
Зондерваль, взглянув на небо, произвел в уме быстрые вычисления.
— 65-е число средизимней весны.
— А который у нас год?
— 2959-й. Почти три тысячи лет от основания Ордена.
Данло закрыл глаза, вспоминая. Прошло около пяти лет c тех пор, как Вторая Экстрианская Миссия стартовала из Невернеса, а самому Данло, стало быть, исполнилось двадцать семь.
— Как долго. — Данло открыл глаза и улыбнулся Зондервалю. — Но вы прекрасно выглядите.
— Ты тоже, однако в тебе появилось что-то странное. Что-то новое — мягче ты стал, что ли. Мудрее. И одичал еще больше, если это возможно.
Это верно — не было человека более дикого, чем Данло ви Соли Рингесс. За время путешествия волосы у него отросли почти до пояса. В этой густой черной гриве, прошитой красными нитями, торчало белое перо, когда-то подаренное Данло дедом. Подростком Данло пролил собственную кровь в память о своих умерших родичах — он рассек себе лоб острым камнем, и с тех пор у него остался шрам в виде молнии, напоминавший другим, что перед ними человек незаурядный, подчиненный заветной цели, внимающий зову судьбы в голосе ветра и готовый заглянуть в тайные огни своего сердца.
Величайшей радостью Данло было смотреть без страха на страшную красоту мира. Его глаза напоминали две чаши кобальтового стекла, до краев полные светом. Более того — они сияли, как звезды, и Зондерваль отметил именно этот углубившийся взгляд, отметил свет, льющийся как бы из некоего неисчерпаемого источника.
— И погрустнел, — продолжал Зондерваль. — Однако ты вернулся в свой Орден, как и подобает пилоту — с новыми открытиями.
— Да… я открыл кое-что.
На космодроме то и дело вспыхивали ракеты легких кораблей, ветрорезов и других летательных машин. На западе у океана стоял на трех холмах Белый Камень, и каждое из его зданий населяли люди, рисковавшие жизнью ради путешествия в Экстр. Всякий раз, когда Данло задумывался над судьбой своего кровожадного и все же благословенного биологического вида, его лицо становилось грустным. Он всегда принимал слишком близко к сердцу чужую боль, и люди, с которыми он встречался, сразу чувствовали его природную доброту. Однажды, когда ему было всего четырнадцать лет, он дал обет ахимсы, обязывающий не убивать ни людей, ни животных и никому не причинять вреда. Но доброта и сострадание сочетались в нем с силой и свирепостью хищной птицы талло. Он даже лицом походил на эту птицу, самое благородное из всех созданий. И еще одно объединяло его с талло планеты Ледопад — голубыми, серебристыми и белыми, самым редкими: из него — как и из этих птиц — ключом била анимаджи, дикая радость бытия. Это было его даром и его проклятием: он, как человек, несущий огонь в одной руке и черный лед в другой, умел сочетать в себе самые невероятные противоположности. Даже в моменты наибольшей грусти он слышал золотые ноты более глубокой вселенской мелодии. В детстве ему рассказывали, что он родился смеясь, и даже теперь, став мужчиной, видевшим гибель звезд и близких ему людей, он смеялся при всяком удобном случае.
— Открыл нечто из ряда вон, я полагаю, — сказал Зондерваль. — Ты попросил собраться всю Коллегию Главных Специалистов — ни один пилот не делал этого с тех времен, как твой отец вернулся из Тверди.
— Да, мне есть о чем рассказать, Главный Пилот.
— Удалось тебе поговорить с Твердью, как ты намеревался?
Данло улыбнулся, глядя снизу вверх на длинное суровое лицо Зондерваля. Даже при его высоком росте Зондерваль перерос его фута на полтора.
— Способен ли человек говорить с богиней по-настоящему?
— Мы расстались несколько лет назад, но ты так и не отучился отвечать вопросом на вопрос.
— Виноват.
— Отрадно видеть, что в главном ты не изменился.
— Я всегда я, — засмеялся Данло, — кем еще я могу быть?
— Твой отец говорил то же самое — но пришел к другому ответу.
— Потому что ему было суждено стать богом?
— Я по-прежнему не верю, что Мэллори Рингесс стал богом. Он был человеком сильным и блестящим, Главным Пилотом Ордена — это я признаю. Но богом? Только потому, что ему заменили половину мозга биокомпьютерами и он стал мыслить быстрее большинства людей? Нет, не думаю.
— Иногда трудно понять… кто бог, а кто нет.
— Ты нашел его — своего отца? Не потому ли ты попросил лордов собраться?
— Одного бога я точно нашел, — сказал Данло. — Хотите покажу?
Не дожидаясь ответа, он поставил свой сундучок, откинул крышку и достал кубическую шкатулку, все шесть граней которой усеивали блестящие электронные глаза. На солнце они засверкали сотнями бриллиантов. В воздухе над шкатулкой, исходя из нее, парило голографическое изображение маленького темнокожего человека..
— Это компьютер-образник, — пояснил Данло. — Архитекторы некоторых кибернетических церквей носят такие с собой повсюду.
— Я уже видел их раньше, — Зондерваль указал длинным пальцем на голограмму. — Это ведь Николос Дару Эде, не так ли?
— Он самый, — улыбнулся Данло.
Зондерваль, разглядывая чувственные губы и черные глаза Эде, сказал:
— Никогда не понимал, как могут Архитекторы поклоняться такому субъекту. На купца похож, правда?
— Однако Эде-Человек стал Эде-Богом — на этом чуде Архитекторы и построили свою церковь.
— Значит, ты нашел Бога Эде? Это и есть твое открытие?
— Бог Эде — это он. Все, что осталось от бога.
Зондерваль, думая, что Данло шутит, рассмеялся с ноткой нетерпения и махнул рукой, как бы желая загнать голограмму обратно в ящик. При этом он смотрел на Данло и потому не видел, как Эде подмигнул пилоту и быстро показал ему что-то на пальцах.
— Допустим, он бог. Но с богиней ты все-таки говорил, я уверен. Вернее, с чудовищным космическим компьютером, который люди называют богиней. Сын Мэллори Рингесса не стал бы созывать лордов, если бы не выполнил свою задачу и не нашел Твердь.
— Говорите, не стал бы? — Высокомерные манеры Зондерваля не столько забавляли Данло, сколько раздражали — впервые на его памяти.
— Прошу тебя, пилот. Вопросов у меня самого в избытке — мне нужны ответы.
— Извините. — Данло, вероятно, следовало чувствовать себя польщенным оттого, что сам Главный Пилот решил встретить его на космодроме, но Зондерваль ничего не делал просто так.
— Если ты рассказал бы мне о своих открытиях, это помогло бы нам подготовиться к коллегии.
Уж очень тебе хочется получить информацию в обход лорда Николаса, подумал Данло. Все знали, что Зондерваль считает, будто главой Ордена на Тиэлле должен был стать он, а не Николоc.
— Ты нашел лекарство от Великой Чумы? — продолжал спрашивать Зондерваль. — Нашел Архитекторов, знающих это средство?
Данло снова закрыл глаза, вспоминая Хайдара, Чандру, Чокло и других своих приемных родичей, умерших от шайда-болезни, которую он назвал медленным злом. В тысячный раз увидел он странные краски чумы: белую пену на разверстых в крике губах, алую кровь, текущую из ушей, черные круги вокруг глаз. Многие другие алалойские племена на Ледопаде тоже заражены этим вирусом, который может ждать много лет, прежде чем вступить в активную фазу — может быть, в это самое время он убивает народ Данло.
— Да… почти нашел, — ответил. он, прижимая ладонь ко лбу.
— Так что же ты открыл, пилот?
Данло выждал момент, вбирая в себя аромат цветов и вспышки ракетного пламени. У него был звучный” мелодичный голос, но он отвык разговаривать. Он сглотнул, чтобы увлажнить горло, и произнес:
— Если хотите, я скажу вам.
— Конечно, говори!
— Я нашел Таннахилл. И побывал у Архитекторов Старой Церкви.
От этой поразительной новости Зондерваль застыл, как дерево. Обычно он вел себя очень сдержанно и редко проявлял какие-то эмоции — помимо гордости за себя и презрения к прочему человеческому роду. Но сейчас он, под ярким горячим солнцем, на глазах у людей, стоящих в конце полосы, хлопнул себя кулаком по ладони и вскричал с радостью, завистью и недоверием:
— Быть того не может!
Тут он заметил, что двое программистов в оливковой форме пристально смотрят на него, и поспешил увести Данло. Оглянувшись через плечо, Данло увидел, что специалисты облепили его корабль, точно голодные волки — выброшенного на берег тюленя. Зондерваль привел его к блестящим черным саням, которые ждали, чтобы доставить их в город.
— Поговорим, пока будем ехать, — сказал Главный Пилот, открыв дверцу и пропустив Данло внутрь. Этот транспорт движется на колесах, объяснил он, и его следовало бы назвать как-то иначе. Имя ему дал Главный Акашик из ностальгии по Невернесу и по саням, носящимся по его ледяным улицам.
— На Таннахилле такие машины называются “чоч”, — сказал Данло.
“Сани” вел сам Зондерваль, а Данло рассказывал ему о другом городе на другой стороне Экстра — о чочах, бронированных в целях защиты от террористов, о вековых религиозных диспутах и о войне.
— Ты меня поражаешь, — сказал Зондерваль. — Мы отправили в Экстр двести пилотов, и ни один не напал даже на след Таннахилла.
— Правда?
— Я сам его разыскивал. Прошел от Пердидо Люс до Пустоши Шатареи. Самолично, пилот.
— Я сожалею.
— И почему это некоторым так везет? Ты и твой отец родились под той же счастливой звездой.
Город приближался, и голову Данло прошила знакомая боль. Ему вспоминалась гибель племени деваки, в том числе и его приемных родителей, растивших его до четырнадцати лет; вспоминалась измена лучшего друга Ханумана ли Тоша и разлука с Тамарой Десятой Ашторет, женщиной с золотыми волосами и золотой душой, которую Данло любил чуть ли не больше жизни. Боль давила на мозг железным кулаком, и Данло вспоминал недавнюю Войну Террора на Таннахилле — тлолты, лазеры и водородные бомбы. Он, можно сказать, сам навлек эту войну на Архитекторов Старой Церкви. И она еще не окончена, хотя победа — в определенном смысле — осталась за правой стороной.
— Я не всегда был таким удачливым, — сказал Данло, зажимая рукой левый глаз, откуда всегда начинались его головные боли. — В моей жизни было много света, это правда, и я всегда искал его источник, его центр. Но иногда мне кажется, что я мотылек, кружащий совсем близко от пламени, которое вы называете моей звездой. Словно какая-то страшная судьба притягивает меня к себе.
Некоторое время, следуя по солнечному бульвару к трем холмам, застроенным новыми зданиями, они говорили о судьбе: судьбе Ордена, судьбе Цивилизованных Миров, судьбе пилотов, обходящих в своем смелом поиске опасные звезды Экстра. Зондерваль рассказал о тех, кто уже вернулся на Тиэллу с немаловажными открытиями. Елена Чарбо обнаружила у большого светила Двойной Ильяс планету, заселенную Архитекторами, которых Старая Церковь считала пропавшими уже две тысячи лет. А легендарная Аджа подружилась с другой группой Архитекторов, которые знали только один способ космических путешествий: уничтожать звезды одну за другой. Таким образом они прорывали в мультиплексе дыры, и их огромные корабли уходили туда, чтобы выйти через много световых лет в освещенный другим солнцем вакуум реального пространства. Все эти потерянные Архитекторы жаждали воссоединения со своей Матерью-Церковью, не ведая при этом даже о существовании Таннахилла, а уж о его координатах и подавно. Они жаждали подключиться к священным компьютерам Старой Церкви, чтобы Святой Иви привел их через волшебные кибернетические пространства к таинственному лику Бога Эде. Орден надеялся, что в случае обнаружения Таннахилла и привлечения Святого Иви на свою сторону Церковь восстановит свою власть над пропавшими Архитекторами и прекратит уничтожение звезд. Тогда миссия, посланная Орденом в Экстр, достигла бы той цели, ради которой лучшие пилоты и специалисты Невернеса основали на Тиэлле свой город. Старый Орден ослабил себя, пойдя на это разделение, чтобы новый мог расти и процветать.
— Еще год, и город будет достроен, — сказал Зондерваль, указывая за окошко саней. — Но места здесь столько, что можно строиться еще пятьдесят лет — или пятьдесят тысяч.
Данло оглядел равнину за космодромом, где росли цветущие кустарники и деревца с красными плодами ритса. Город действительно мог разрастаться почти бесконечно вдоль гористого мыса и в глубину островного материка, пока не получившего имени. Но сердцем Белого Камня всегда останутся три глядящие на океан холма. Там, на западе, на пологих склонах среднего холма, Орден почти уже завершил постройку своей новой Академии. Там стояли общежития для размещения новых послушников, и библиотека, и Павильон Соли.
Башня Цефиков на вершине холма подпирала небо, как белая колонна. Чуть ниже, прямо над лежащим в нескольких милях океаном, поместилась круглая Коллегия Главных Специалистов, она же Палата Лордов. Все эти здания блистали стенами из органического камня с вкраплениями алмаза и тисандера.
На бульваре, по которому ехали сани, и на боковых улицах росли, подобно магическим кристаллам, жилые дома, хосписы и магазины. Но жизнь этим красивым строениям дала не магия. На каждой новостройке кишели миллиарды микроскопических черных роботов, которые наращивали слои ажурного органического камня с проворством пауков, ткущих паутину. Орден привез их на Тиэллу в трюмах своих тяжелых кораблей. Так же прибыли и роботы, производящие других роботов: разрушителей, добывающих минералы из каждого квадратного фута почвы, и сборщиков, создающих из этих элементов прекрасные новые конструкции. Благодаря такой технологии (запрещенной в Невернесе и в большинстве цивилизованных Миров) город мог быть воздвигнут чуть ли не за одну ночь. Если Белому Камню и недоставало чего-то, так это людей, поскольку Орден отправил в Экстр чуть больше десяти тысяч человек. Однако народы Экстра, вдохновленные вестью о пришельцах, призванных спасти их от ярости звезд, уже начинали стекаться в город.
Это относилось в основном к ближним мирам — Карагару, Апвре, Эште, Киммиту и Скалии. Но пилоты Ордена уже оповестили о своей великой миссии и более далекие планеты вдоль Рукава Ориона, где звезды сверкают подобно алмазам.
Они приглашали на Тиэллу программистов и священников, художников, архатов и представителей инопланетных цивилизаций. Те прибывали, день и ночь сотрясая небеса грохотом ракет, и город рос. Его население, по оценке Зондерваля, приближалось уже к ста тысячам. Зондерваль полагал, что на будущий год более миллиона человек (и несколько тысяч инопланетян) назовут Белый Камень своим домом.
— Кое-кого из них мы выучим на пилотов, — сказал он. — Теперь, когда тебе посчастливилось найти Таннахилл, пилотов нам понадобится много, верно?
Еще немного, и сани въехали на склоны новой Академии.
Данло, знавший в Невернесе каждый шпиль, каждое дерево и каждый камень, здесь почувствовал себя одиноким, как пришелец среди инопланетян. Все в этой новой Академии отличалось от старой, начиная с зеленых лужаек и заканчивая санями, снующими по каменным улицам. Черные машины, впрочем, встречались нечасто, поскольку въезжать в Академию на санях разрешалось только лордам Ордена и наиболее видным горожанам. Зондерваль как Главный Пилот с великой гордостью провел свой экипаж через лабиринт незнакомых Данло улиц и остановился перед Палатой Лордов.
— Лорды собрались и ждут тебя, — сказал он. — Спасибо за то немногое, что рассказал мне о Таннахилле.
— Извините, — сказал Данло. — Мне пока еще трудно говорить, но скоро вы услышите всю историю целиком.
Зондерваль вылез из саней со странной улыбкой.
— Да-да. Я займу свое место рядом с сотней других и услышу, как сын Мэллори Рингесса, единственный из всех пилотов, выполнил миссию Ордена. Ну что ж — я горжусь тобой, пилот. Горжусь, что принимал тебя в послушники и обучал тебя топологии — должно быть, я еще тогда знал, что если кто-то и найдет Таннахилл, то это будешь ты.
С этими словами Зондерваль стал подниматься по белым ступеням Палаты. Данло, прихватив свой сундучок, поспешил за ним. Палата, далеко не самое большое здание Академии, была одним из самых красивых — казалось, что ее круглые белые стены парят в воздухе, как будто строители добились победы над силой тяжести. Солнце лилось на нее, как жидкий огонь, и казалось, что органический камень светится изнутри миллионами живых самоцветов.
Данло, после многих дней в затемненной кабине своего корабля, щурился от этого ослепительного света. В круглом входном коридоре с живописными и скульптурными изображениями величайших лордов Ордена блеск смягчился, сменившись радугой красок. Данло после тускло-зеленых и белых пластмасс Таннахилла глядел на это пиршество цветов с жадностью, как только что вылупившийся птенец талло — на небо. Затем Зондерваль провел его в главный зал Палаты, где красок было столько же, если не больше.
Зал увенчивал купол из прозрачного органического камня. Миллионы его крошечных граней преломляли солнечный свет, как призмы, и Палата переливалась огоньками — красными, зелеными, синими и фиолетовыми. А между куполом и полом с аметистовыми и золотыми вкраплениями Данло видел все цвета своего Ордена.
За полукруглыми столами вдоль стен зала сидели лорды — все сто двенадцать человек в шелковых мантиях различных оттенков. За центральным столом восседал глава Ордена лорд Николос в ярко-желтой форме акашика. Дородная Морена Сунг рядом с ним была облачена в голубые шелка эсхатолога.
Главный Холист Сул Эстареи за тем же столом светился глубоким кобальтом, загадочная Митуна, безглазый Главный Скраер, блистала белизной. Чуть выше располагались Главный Горолог, Главный Историк, Главный Семантолог, Главный Цефик, Главный Программист и прочие князья Ордена.
Они перешептывались, недоумевая, зачем их собрали здесь по просьбе простого Пилота, и являли собой целое море красок — от пурпурных и розовых до индиговых, коричневых и оранжевых.
Последним из лордов, занявшим свое место в зале, был Зондерваль. Он сел на свободный стул справа от лорда Николоса, резко контрастируя своей черной формой с желтым одеянием главы Ордена. Данло в свое время учили, что черный — это цвет космоса и бесконечных возможностей, ибо из черноты вселенной исходят и свет, и все существующее. Пилоты Ордена носили черное уже три тысячи лет, и Данло в своем парадном комбинезоне предстал перед собранием лордов, как прежде его отец.
— Сейчас мы выслушаем пилота Данло ви Соли Рингесса, — встав, обратился к своим коллегам лорд Николос. В этом и состояло его вступительное слово. Лорд Николос, полный, небольшого роста, энергично брался за любую поставленную перед ним задачу и слова, расходовал столь же экономно, как купец наличные деньги. Он опустился на свой стул, выжидательно глядя на Данло яркими голубыми глазами.
— Лорды Ордена… — начал Данло. Сундучок он поставил на пол и держал свою речь, стоя в центре зала, на черном алмазном кругу, вставленном в белый камень пола. По традиции Ордена, ни один человек, принесший обет служения, не имел права солгать, войдя в этот круг.
Позади него, за столами в южной половине зала, сидели мастер-пилоты: Елена Чарбо, Аларк Утрадесский, Лара Хесуса и Аджа, любящая свое дело, как мать свое дитя. Там же присутствовали мастера других профессий: фабулист Мораша ли Естар, Бодевей Сми, Ямуна Чу и другие, кого лорды сочли нужным пригласить на заседание.
— Лорды, мастер-пилоты и мастер-академики… я хочу рассказать вам о своем путешествии. Я… нашел Таннахилл.
Сто с лишним человек молча уставились на Данло, слушая рассказ об одиноком пилоте, совершившем то, что не удавалось больше никому — даже Дарио Смелому и родному деду Данло Леопольду Соли, который дошел почти до самого ядра галактики и узнал от богов о великой тайне, известной как Старшая Эдда. Данло начал свою повесть с отчета о путешествии в Твердь. Он рассказал о хаотическом шторме в самом сердце богини, убившем Долорес Нам, Леандра с Темной Луны и еще семерых пилотов, шедших вместе с ним сквозь пространства мультиплекса. Он рассказал, как вышел из этого шторма и попал на созданную по земному образцу планету, где Твердь держала его много дней, подвергая испытаниям. На самих испытаниях Данло не стал останавливаться. За славой он не гнался и теперь, стоя под испытующими взорами лордов, старался передать суть того, что узнал от Тверди, как можно меньше задерживая их внимание на своей особе.
Но ложной скромностью он тоже не страдал. Превыше всего он ценил правду, а правда заключалась в том, что Твердь почтила его своим доверием именно потому, что он преодолел хаотическое пространство и выдержал Ее испытания.
— В небесах идет война, — сообщил собранию Данло. Гиллель Асторет, Главный Историк в коричневой форме, позже отметил, что это был момент, когда Орден впервые услышал об этих событиях вселенского масштаба. — Страшная, шайда-война. Кремниевый Бог враждует с Твердью. У него есть союзники, другие галактические боги: Химена, Маралах, Цзы Ванг My, Ямме и то, что у нас называется Дегульской Троицей. Есть союзники и у Тверди — мне думается, это Чистый Разум, Единственный и, возможно, Апрельский Колониальный Разум. Мой отец Мэллори Рингесс, если он действительно стал богом, тоже как-то связан с Ее планами. Его я так и не смог найти.
Лорды Ордена обычно — учтивейшие из людей, но в этот день, вопреки правилу, по которому стоящего в кругу может прерывать только глава Ордена, не удержались и принялись переговариваться.
— Прошу тишины, — произнес, вскинув руку, лорд Николос. Ростом он был чуть ли не ниже всех в зале, но его спокойный, звучный голос мигом отрезвил лордов. Даже Зондерваль, говоривший с Коленией Мор, немедленно замолчал. — Дадим пилоту возможность закончить свой рассказ.
Данло перешел к одной из решающих битв этой космической войны. Кремниевый Бог нашел способ уничтожить Бога Эде, что было незаурядным достижением. Эде в своем человеческом облике был почти так же мал ростом, как лорд Николос, но после своего великого преображения, поместив свое сознание в компьютер и сделавшись богом, он невероятно разросся. Подобно тому, как ледяной кристаллик превращается в градину в миллиарды раз больше себя, компьютер по имени Эде наращивал в космосе свои нейросхемы, пока не заполнил собой несколько звездных систем.
— Твердь сказала мне, где можно найти Бога Эде, и я углубился в Экстр. Там мне встретились звезды, которые я назвал Берура, Гаури и Агира, и много старых сверхновых. Нашел я и Звезду Эде, горячее бело-голубое солнце, но от самого Эде остались только обломки, оплавленные нейросхемы и облака водорода, раскиданные на протяжении многих световых лет. При жизни Эде был поистине огромен, но теперь он умер. Твердь так и сказала мне, но добавила, что он, может быть, отчасти жив.
Данло взглянул на свой сундучок, стоящий около черного круга. На крышке был вырезан солнечный диск, и Данло на миг закрыл глаза, вспоминая все виденные им солнца.
— Пилот! — послышался как будто издалека чей-то голос.
Данло открыл глаза: к нему обращался лорд Николос. — Твердь известна тем, что говорит парадоксами и загадками — удалось ли вам выяснить, что Она имела в виду?
— Да, — ответил Данло, — удалось.
— Прошу вас поделиться своим открытием с нами.
— Если угодно. — Данло с улыбкой открыл сундучок, достал образник и поднял его так, чтобы все могли видеть голограмму Николоса Дару Эде.
— Что это? — осведомился лорд Николос.
Гиллель Асторет и еще несколько человек заговорили разом, указывая на компьютер и неодобрительно покачивая головами. Лорд Николос, обернувшись, посмотрел на них, и они умолкли.
— Это Николос Дару Эде, — сказал Данло. — Бог Эде — то, что от него осталось.
Черные глаза голограммы смотрели, казалось, прямо на лорда Николоса.
— Пилот, вспомните, где вы находитесь: здесь не место для шуток!
— Но я не шучу.
— Это предмет культа и ничего более, — заявил лорд Николос.
Глава Ордена был известен своим логическим умом и питал презрение ко всему иррациональному и мистическому.
Это послужило одной из причин его избрания на пост руководителя миссии.
— Архитекторы носят этих идолов с собой, чтобы поклоняться образу Эде, не так ли? — продолжал он. — Эти образники специально программируются, чтобы благословлять устами Эде и произносить прочую чепуху.
— Да, — подтвердил Данло. — Но их можно программировать и по-другому.
— Объяснитесь, пожалуйста.
Данло взглянул на Эде, едва сдержав улыбку при виде того, как голограмма скосила глаза, чтобы перехватить его взгляд.
— Кремниевый Бог убил Эде не мгновенно. Их битва длилась много секунд, в результате чего погибла целая звездная туманность и мозг Эде был уничтожен почти целиком. В самом конце Эде написал программу, закодировавшую основы его личности. По ней и работает этот компьютер.
— Это невозможно!
— Да нет же, возможно. — Данло оглянулся: Лара Хесуса и другие мастер-пилоты улыбались ему, поддерживая в борьбе со скептицизмом лорда Николоса. — Бог Эде умер, это правда, но отчасти он все-таки жив.
— В машинном варианте? — спокойно, но с металлом в голосе уточнил лорд Николос. — Где же вы нашли этого мертвого бога, который, возможно, отчасти жив?
— На Земле, созданной Эде.
Из задних рядов донесся приглушенный смешок — возможно, это смеялась Санура Сноуден, Главный Семантолог, или сидевший с ней рядом Главный Печатник. Сам лорд Николос тоже обладал своеобразным сухим чувством юмора, но терпеть не мог, когда юмор касался его самого.
— Следите за своей речью, пожалуйста, — сказал он. — Вы пилот Ордена и должны изъясняться точно, как вас учили. Мы не называем Землями искусственные миры, как бы их биосфера ни напоминала земную.
— Я знаю, милорд, — с веселым огоньком в глазах ответил Данло. — Но боги создают именно Земли. И Твердь, и особенно Бог Эде — они делают их из элементов мертвых звезд. Континенты, океаны, леса, горы и камни — в точности так, как на Старой Земле.
Данло рассказал о целой серии голубых Земель, которую обнаружил среди звезд Бога Эде. Все в зале притихли, и даже сам лорд Николос взирал на Данло с чем-то наподобие почтения.
— Не знал, что боги способны переделывать вселенную подобным образом, — сказал наконец он.
— Но ведь это и значит быть богом, правда? — смело заметил Данло. — Они для того и воюют, чтобы переделывать вселенную согласно собственным взглядам на то, какой она должна быть.
— Но почему Земли, пилот?
— Н-не знаю. — Данло закрыл глаза, вспоминая песчаный берег и темный лес той Земли, где держала его Твердь. Эту свою Землю по крайней мере богиня создала как лабораторию для экспериментов по эволюции человека. С помощью образов, украденных из памяти Данло, Твердь произвела клон Тамары Десятой Ашторет — почти точную копию любимой им женщины. Этот клон должен был представлять собой образец совершенной женщины или, вернее, образец человека будущего. — У Архитекторов кибернетических церквей есть доктрина, называемая Программой Второго Сотворения. В конце времен, когда Эде разрастется так, что вместит в себя всю вселенную, произойдет чудо. Эде сотворит из собственного бесконечного тела бесчисленное множество Земель, и все когда-либо жившие Архитекторы реинкарнируются в новых телах. В совершенных телах, которые обретут вечную жизнь на этих райских планетах.
Лорд Николос, слушая это, плотно сжал губы, словно кто-то пытался втиснуть ему в рот кусок испорченного мяса.
— Но вы говорите, что бог Эде мертв.
— Да, мертв.
— И вы действительно верите, что он создавал свои Земли как пристанище для душ умерших Архитекторов?
— Верить во что-либо… мне не свойственно.
— Мне тоже, — сказал лорд Николос. — Жаль, что мы не можем спросить у вашего голографического Эде, каким был его изначальный план.
Данло улыбнулся. Он много раз спрашивал Эде именно об этом, как и о многом другом, но ответа так и не добился.
— Теперь я попрошу вас, — продолжал лорд Николос, — предоставить этот образник Главному Технарю и Главному Программисту. Они выключат его, разберут и обнаружат, откуда происходят программы, по которым он работает.
Секунду спустя, как только компьютер смодулировал световые лучи своей голограммы, лицо Эде приняло паническое выражение, и в зале прозвучал громкий писклявый голос:
— Пожалуйста, не разбирайте меня!
Лорд Сунг ахнула, тыча пухлым пальцем в сторону компьютера, а Санура Сноуден и несколько других вскричали разом:
— Что это значит?
Лорд Николос долго смотрел на голограмму, хлопая глазами, и наконец вымолвил:
— Оно говорит.
— Да, я говорю, — подтвердил Эде, — а также вижу и слышу. Драгоценные камни, вставленные в компьютер, — это электронные глаза, и я…
— Мы знакомы с подобной техникой, — прервал лорд Николос. Он был вежливым человеком, но перебивать машину никакой этикет не воспрещает.
— Я к тому же думаю, — продолжал Эде, — и обладаю таким же самосознанием, как и вы, и…
— Умная программа, ничего более, — сказал лорд Николос. — Программы искусственного интеллекта нам тоже знакомы, хотя эта, пожалуй, будет посложней всех известных Ордену. Главный Программист сможет определить…
— Я прошу вас, не выключайте меня! — снова выкрикнул Эде. Лорд Николос и сто с лишним других лордов не сводили с голограммы глаз. Никто еще не слыхивал, чтобы программа искусственного интеллекта перебивала человека.
Эде обратил испуганное лицо к Данло, и их взгляды встретились.
— Лорд Николос, — сказал Данло, — я пронес этот образник через половину Экстра. И получал от него… ценную информацию.
— Вы просите, чтобы его оставили вам?
— Да.
— Пилот не должен оставлять свои открытия при себе — вы ведь знаете правило.
— Да, знаю, но этот образник, этот Эде помогал мне в пути. Я… дал ему обещание.
Лорд Николос помолчал секунду и спросил:
— Вы дали обещание программируемому машиной идолу?
— Да. Он помог мне найти Таннахилл, а я взамен пообещал ему свою помощь.
— Помощь в чем?
— В достижении его цели.
— Смею ли я спросить, на какую цель запрограммирован этот компьютер?
Данло, снова взглянув на Эде, обвел глазами лорда Николоса, Зондерваля и других лордов и мастеров. Сердце у него билось где-то в горле, лицо горело, словно он весь день простоял на солнце. Он не хотел рассказывать всем этим людям с холодными взорами о цели Эде.
— Итак, пилот?
— Он, этот Эде, хочет…
Тут Данло умолк по сделанному Эде знаку, и Эде сказал сам: — Я хочу снова стать человеком.
Лорд Николос уставился на него так, будто перестал понимать человеческую (вернее, компьютерную) речь. Все лорды, очевидно, разделяли его недоумение.
— Этот пилот, Данло ви Соли Рингесс, обещал, если будет на то возможность, вернуть мне мое тело. Чтобы я снова мог жить в качестве человека.
Данло, видя растерянность лорда Николоса, улыбнулся и сказал: — Позвольте объяснить, в чем тут дело.
— Сделайте одолжение, — со вздохом молвил глава Ордена.
И Данло рассказал о том, как Архитекторы три тысячи лет хранили замороженное тело Эде в клариевой гробнице.
Впоследствии саркофаг, объяснил он, был похищен из Мавзолея Эде на Таннахилле. Голографический Эде надеется, что оно когда-нибудь отыщется и что криологи Ордена смогут внедрить в его поврежденный мозг программу образника и оживить его. Таким образом он восстал бы из мертвых.
— Мы хотели обратиться к Архитекторам с просьбой о возвращении нам тела, — сказал Данло.
— Понимаю, — отозвался лорд Николос. — Вы случайно не привезли его в трюме своего корабля?
— Нет. Произошли трагические события, и я не смог забрать его.
Лорд Николос снова вздохнул — так, словно с его плеч упала большая тяжесть.
— Прошу вас, пилот, продолжайте.
И Данло, стоя в черном алмазном круге, рассказал о мертвых мирах, сожженных светом сверхновых, и о погибших цивилизациях. И о звездах, о миллионах красных, желтых и голубых звезд, пылающих в черноте космоса, как световые шары.
Рассказал, как у звезды, которую назвал Геласалия, обнаружил систему из семнадцати кольцевых миров, откуда люди, населявшие их, исчезли загадочным образом. Возможно, эти люди покинули свои тела, чтобы жить в виде чисто информационных (или световых) существ, как это сделали Эльдрия два миллиона лет назад. Данло двинулся по следу их трансценденции еще дальше в Экстр, навстречу густой радиации взорванных звезд. На планете Новый Алюмит, во внутренних секторах Рукава Персея, он нашел другую человеческую цивилизацию, чью жизненную цель составлял переход в компьютерные кибернетические пространства. Эти бледные, как личинки, люди, мечтающие уподобиться богам, называли себя нараинами. По происхождению они были Архитекторы, еретики, отколовшиеся от матери-церкви и покинувшие Таннахилл около двухсот лет назад.
— Я обрел там друзей, — сказал Данло. — Они боялись, что Старая Церковь начнет с ними войну, и просили меня замолвить за них слово перед Святой Иви. Это нараины указали мне звезду Таннахилла.
И вот наконец, проделав путь в тридцать тысяч световых лет среди живых и убитых звезд, Данло вышел к этой затерянной планете. Там ему удалось заслужить благосклонность и дружбу Харры Иви эн ли Эде, Святой Иви Вселенской Кибернетической Церкви. Его появление помогло ей принять новые церковные программы, полностью изменив законы, побуждающие Архитекторов к бесконтрольному размножению и уничтожению звезд. Данло нажил себе и врага — старейшину Бертрама Джаспари, ведущего с Харрой борьбу за власть и способного убивать ради этого, как взбесившийся гладыш, пожирающий собственное потомство. Бертрам Джаспари был лидером ивиомилов, фанатической секты, проповедующей пуританство и призывающей к священной войне. Бертрам был готов разжечь пламя этой войны, или фацифаха, где угодно: на самом Таннахилле, на Новом Алюмите, в Экстре и даже за его пределами.
— Ивиомилы все-таки начали эту войну, выступив против других Архитекторов, — сказал Данло. — И я… имел к этому отношение.
Он поднял глаза к сверкающему разноцветном огнями куполу и не стал объяснять, что Харра — и миллиарды других таннахиллскнх Архитекторов — объявили его Светоносцем, о котором говорилось в их древнем пророчестве.
Морена Сунг, сидящая рядом с лордом Николосом, повернулась к Зондервалю и с грустью покачала головой. Оба они знали Данло с его послушнических лет, и оба понимали, что участие Данло в этой войне не было случайным или незначительным. Сул Эстареи и многие другие тоже всматривались в Данло. Палата Лордов, такая яркая, разноцветная, вдруг сделалась мрачной, как будто сто с лишним присутствующих в ней человек замутили самый воздух своим страхом. Упоминание о войне не понравилось никому, как не понравилась боль на лице Данло и его говорящие о страданиях и смерти синие глаза. Многие здесь помнили его мать, Катарину-Скраера, и предполагали, что и он тоже имеет дар видеть то страшное, что лежит впереди.
— Расскажите нам, пожалуйста, об этой войне, — тихо попросил лорд Николос.
Данло, стоя в своем кругу, видел перед собой множество помраченных страхом лиц. Когда-то, еще юношей, он мечтал совершить путешествие к центру вселенной, чтобы познать наконец истинную природу вещей. От этой мечты он давно отказался, но знал, что его судьба — нести лордам Ордена правду. Он как пилот привык открывать окна в бездонные глубины мультиплекса, но то окно, которое он открывал сейчас перед этими обеспокоенными людьми, вело в его душу.
Память о том, что он видел и испытал, шла из черных центров его глаз и из еще более глубокого центра его существа.
Память, как протяжный гул звездного ветра, наполняла зал, неся с собой запах ядерных взрывов, горелой плоти и переживающих огненную гибель звезд. Он рассказал, как ивиомилы, перебив миллионы своих собратьев, в конце концов потерпели полное поражение. Бертрам Джаспари посадил уцелевших ивиомилов на корабли и бежал с Таннахилла в космос. Перед тем, как скрыться в просторах галактики, он сделал две вещи: во-первых, похитил из мавзолея тело Эде, во-вторых — взорвал звезду.
— Ивиомилы люто ненавидели нараинов, называли их еретиками, отступниками. Призывали к фацифаху против них, хотели очистить церковь от изменников. Бертрам Джаспари повел своих ивиомилов к звезде Нового Алюмита, и они… уничтожили ее.
Во рту у Данло пересохло, и он ненадолго умолк. Поставив образник на крышку сундучка, он достал из кармана длинную бамбуковую флейту, когда-то подаренную ему учителем.
Шакухачи пахла дымом, ветром и дикими мечтами, и Данло из всего своего имущества больше всего дорожил ею. Он прижал костяной мундштук к губам, но играть не стал. Гладкая прохлада кости увлажнила ему рот, и Данло вернулся к своему рассказу.
— На одном из своих кораблей ивиомилы установили машину… Моррашар. Звездоубийцу… Архитекторы ведь мастерски владеют этой технологией. Одна такая машина у них точно есть. Бертрам воспользовался ею, чтобы уничтожить нараинов — весь их мир. Я убедился в этом. Стартовав с Таннахилла, я отправился к месту, где была звезда Нового Алюмита. И нашел там компоненты сверхновой — радиацию, водород, светящиеся газы, свет. От самого Нового Алюмита осталась только пыль.
Дaнло снова прижал к губам флейту и закрыл глаза, вспоминая Шахар, Абраксас, всех людей и все высшие существа, которых узнал на той планете.
— Ужасная история, — произнес лорд Николос. Все лица в зале были повернуты к пилоту, принесшему столь трагические вести. Среди лордов зашел разговор о другой сверхновой под названием Меррипен, возникшей близ Невернеса около тридцати лет назад. Меньше чем через два года, в конце 2960-го, ее радиация прольется на город. Только рост Золотого Кольца, загадочной космической экологии, зародившейся в небесах над планетой, может спасти невернесцев от гибели.
Сверхновые распускаются повсюду, как цветы зла, заметила Морена Сунг, но над многими мирами после исчезновения Мэллори Рингесса стали появляться, как спасительные золотые ладони, такие же кольца.
— Мы живем в страшные времена, — заметил лорд Николос и снова обратился в Данло: — Но это также и время великой надежды. — Вы, Данло ви Соли Рингесс, нашли Таннахилл, нашли Архитекторов Старой Церкви. А этот человек, Бертрам Джаспари, потерпел поражение вместе со своими ивиомилами. Святая же Иви, чьим другом вы стали, готова, видимо, принять послов нашего Ордена. То, чего вы достигли, пилот, превышает всякое…
— Лорд Николос, — вставил Данло. — Я… не все еще сказал.
Молодые пилоты осмеливались прерывать лорда Николоса не чаще, чем компьютерные голограммы, но лорд, расслышав в голосе Данло страдание, не стал ему выговаривать, а лишь молча и благосклонно кивнул, дав пилоту знак продолжать. И он, и все другие лорды и мастера в зале с недобрым предчувствием ожидали новых зловещих откровений.
— Я… сделал Бертрама Джаспари своим врагом, — сказал Данло. — Думаю, он винит меня и весь Орден за то, что проиграл эту войну. И хочет отомстить.
Лорд Николос, казалось, перестал дышать. Зондерваль, Коления Мор и все остальные тоже замерли на своих стульях.
— Но ведь не может же Бертрам Джаспари, — заговорил немного погодя глава Ордена, — знать координаты нашей звезды?
Данло, который скорее дал бы отрезать себе руку, чем выдал этот секрет, ответил с угрюмой улыбкой:
— Не думаю, что это возможно. Но Бертрам ненавидит не только тех, кто обосновался здесь, на Тиэлле, — он обвиняет и невернесский Орден. И сам Невернес. Я опасаюсь, что ивиомилы перенесут свой фацифах в Цивилизованные Миры и захотят уничтожить Звезду Невернеса.
Данло сказал, что они способны совершить эту шайду не только из мести. Несколько лет назад в Невернесе зародилась новая религия, указывающая людям возможность стать богами. Новообращенные, руководствуясь примером отца Данло, Мэллори ви Соли Рингесса, назвали эту религию в его честь: Путь Рингесса. И Бертрам Джаспари узнал об этом новом Пути.
Для любого ивиомила, да и для любого Архитектора Старой Церкви учение, утверждающее, что какой-либо человек, помимо Эде, способен стать богом, является святотатством худшего толка. Всякий, помышляющий о подобном преображении, называется хакра, и долг церкви — очистить такого еретика от его пагубной гордыни или вовсе истребить его. Ивиомилы решительно настроены истребить невернесских рингистов, пока те не распространили свою кощунственную веру по всем Цивилизованным Мирам и за их пределами.
— Я думаю, что Бертрам Джаспари захочет захватить власть над Цивилизованными Мирами, — сказал Данло, слыша, как его голос наполняет солнечное пространство зала. — У него есть машина-звездоубийца, и его тяжелые корабли набиты миссионерами. Им движет мечта, и он полон ненависти.
После небольшой паузы лорд Николос, чей немигающий взгляд не отрывался от Данло, произнес:
— То, что вы рассказали нам, ужасно. Но, по-моему, можно не опасаться того, что эти ивиомилы найдут Звезду Невернеса. Даже зная ее координаты, они никогда не смогут пройти через Экстр. Тридцать тысяч световых лет! Даже лучшим нашим пилотам такой переход не всегда по силам.
— Но некоторым это все-таки удалось, — тихо заметил Данло.
— Только вам, пилот, и это не…
— Не только мне. — Данло стиснул в руке флейту. — На Фарфаре, до нашего отлета в Экстр, я встретил одного человека. Это было в саду Мер Тадео, как раз перед появлением на небе сверхновой. Тот человек — воин-поэт с Кваллара, и зовут его Малаклипс Красное Кольцо… потому что оба кольца у него красные. Он тоже искал Таннахилл и собирался последовать в Экстр за нашей миссией.
— Воин-поэт? Сам по себе?
— Нет, не сам по себе. На Фарфару его доставил пилот-дезертир Шиван ви Мави Саркисян на своем корабле “Красный дракон”.
Зондерваль, постучав своим пилотским кольцом по столу, сообщил лордам:
— Я хорошо знал Шивана до того, как он сделался ренегатом во время Пилотской Войны. Ему не было равных, не считая меня и, пожалуй, Мэллори Рингесса.
Надменная ремарка Зондерваля явно не понравилась Адже, Елене Чарбо и другим мастер-пилотам. Не понравилась она и лорду Николосу, который кивнул Данло и распорядился:
— Продолжайте.
Данло с поклоном продолжил свой рассказ:
— Малаклипс и Шиван преследовали меня через весь Экстр. Сначала до Тверди, потом до Таннахилла, Они тоже участвовали в войне Архитекторов.
— Весьма популярная война, я бы сказал, — сухо заметил лорд Николос.
— Малаклипс Красное Кольцо заключил союз с Бертрамом Джаспари. Только благодаря ему ивиомилы продержались так долго.
— Воины-поэты в союзе с Архитекторами, — покачал головой лорд Николос. — Это не к добру.
— Теперь корабли ивиомилов ведет Шиван на своем “Красном драконе”.
— Очень плохо, — отозвался лорд Николос.
— Твердь думает, что Кремниевый Бог использует и воинов-поэтов, и Архитекторов в своей войне. Что он уничтожил бы всю галактику, если бы мог.
А то и всю вселенную, добавил про себя Данло.
Он рассказал о мечте Бертрама основать свою новую церковь где-то ближе к ядру галактики, за Невернесом. И фанатики-ивиомилы, исполняя данную им Богом программу по переделке вселенной, будут уничтожать звезды на всем своем пути.
— Боюсь, как бы они не устроили новый Экстр, — сказал Данло. — Если не хуже.
Но что могло быть хуже, чем возникновение нового региона мертвых и гибнущих звезд? Ти Сен Сароджин, Главный Астроном, заметил, что если ивиомилы начнут взрывать звезды ядра галактики, где плотность звезд очень велика, то это может вызвать цепную реакцию сверхновых. Звезды будут взрываться одна за другой от ядра к окраинам, и вся галактика превратится в огненный шар.
— Очень, очень плохо, — тихо повторил лорд Николос. В палате настала мертвая тишина: никогда еще на памяти живых этот спокойный и хладнокровный человек не употреблял слов “очень” и “плохо” вместе.
— Я сожалею, — сказал Данло.
— Религиозные фанатики, фацифахи, звездоубийцы, пилоты-ренегаты и боги! Хорошенькие вещи вы нам рассказываете, пилот. Ну что ж, с войной богов мы ничего поделать не можем, однако…
— Лорд Николос, — прервал Данло.
— Что еще? — коротко переведя дыхание, осведомился лорд.
— Твердь сказала мне кое-что о Кремниевом Боге. Обо всех богах.
— И что же это?
Данло оглядел зал. Лорд Беребир, лорд Ладо и остальные буквально смотрели ему в рот.
— Твердь полагает, что мы владеем секретом победы над Кремниевым Богом. Мы, люди.
— Но как это возможно? — вмешалась Главный Эсхатолог Морена Сунг.
— Этот секрет входит в Старшую Эдду. А Эдда, как полагают, закодирована только в человеческой ДНК.
Никто, по правде говоря, не знал по-настоящему, что такое Старшая Эдда. Предполагалось, что на Старой Земле мистические Эльдрия вписали всю свою божественную мудрость в человеческий геном. И теперь, много тысячелетий спустя, миллионы людей на бесчисленных планетах несут эту спящую память в своих клетках. Только мнемоника (так по крайней мере считают сами мнемоники) способна пробудить Старшую Эдду и вызвать ее живые картины перед внутренним взором.
Одни воспринимали Эдду как чистый мистический свет, другие верили, что это инструкция, как стать богами, а возможно, и чем-то выше богов. Данло, испытавший великое воспоминание, чувствовал, что Эдда включает в себя все сознание и всю память вселенной. Если так, то любой человек, даже ребенок, действительно мог вспомнить, как Эльдрия давным-давно победили Темного Бога и спасли Млечный Путь от гибели. Именно этот Грааль искала Твердь, ведя свою войну с Кремниевым Богом, и существовала реальная возможность, что Данло, и Зондерваль, и лорд Николос в своей ярко-желтой мантии, и все сидящие в этом зале несут тайну в себе.
— Я ни разу не слышал от наших мнемоников, что в Эдде содержатся какие-то военные тайны. — Лорд Николос бросил взгляд на Менсу Ашторета, Главного Мнемоника в серебряной мантии, и тот покачал головой. — Неизвестно, правда, что могли открыть невернесские мнемоники после нашего отлета в Экстр.
Он не добавил, что многие тысячи новообращенных рингистов тоже усиленно вспоминают Старшую Эдду. Лорд Николос не мог относиться серьезно к информации столь таинственной, как Эдда, и тем более к тому, что какой-нибудь ополоумевший фанатик из Невернеса способен открыть нечто, неизвестное мудрейшим академикам Ордена.
— И все же Твердь надеется, — сказал Данло, — что когда-нибудь кто-то из людей вспомнит этот секрет.
— Человек? — уточнил лорд Николос. — Не бог?
— Может быть, и бог. Может быть, мой отец. Но большинство богов — это всего лишь колоссальные компьютеры, состоящие из белковых, оптических и кремниевых схем. Они не живут так, как люди, и не способны вспоминать, как мы.
— По-вашему, Твердь хочет, чтобы мы вспомнили это ради Нее?
— Да.
— Стало быть, Она использует нас, как Кремниевый Бог — Архитекторов и воинов-поэтов?
— Мой отец говорил как-то, — улыбнулся Данло, — что Твердь отзывается о человеке как об instrumentum vocale — говорящем орудии.
— Вы находите это забавным?
— Признаться, да, — ответил Данло, глядя на свою флейту. — Потому что мы, орудия, наделены также собственной волей. Наделены жизнью и песнями, побуждающими вселенную к существованию.
— Интересно, что мы запоем, если боги втянут нас в свою войну?
— Не знаю. Но если мы, люди, все-таки вспомним этот секрет, то получится, что это мы использовали Твердь для истребления Кремниевого Бога, правда?
— Вы это нам советуете, пилот? Чтобы Орден, пустив в ход свои ресурсы, помог Тверди вести Ее войну?
Данло помолчал, стиснув флейту так сильно, что ее отверстия врезались в ладонь, и сказал:
— Я… вообще не считаю войну необходимой. Главный Акашик должен знать, что я принес обет ахимсы. Не причиняй вреда ни одному живому существу. Не попивай чужую жизнь даже ради спасения своей, не делай зла, не убивай.
— Я тоже не считаю, — ответил ему лорд Николос. — Война — наиболее глупый вид человеческой деятельности, за исключением разве что религии. Что же до религиозных войн, о которых сегодня шла речь… — Лорд, сделав паузу, обменялся взглядом с Зондервалем, Мореной Сунг и другими своими соседями и печально пoкачал головой, давая понять, что религиозная война безумна по самой своей природе. — Тем не менее нам следует поразмыслить об этой войне Архитекторов, поскольку она угрожает перекинуться на другие миры. И о войне богов, пожалуй, тоже.
Данло, глядя на лорда Николоса, наклонил голову.
— Вы закончили, пилот?
— Да.
— Тогда я попрошу вас подождать снаружи, пока мы будем обсуждать все те глупые и преступные вещи, о которых вы нам сообщили.
— Слушаюсь. — Данло снова наклонил голову, зная, что только лордам и мастерам разрешается присутствовать при обсуждении наиболее серьезных вопросов Ордена. Он вышел из черного круга и хотел взять с пола сундучок, но тут Зондерваль внезапно сказал:
— Минуту. — Главный Пилот встал и выпрямился во весь свой восьмифутовый рост. — Я хотел бы воздать честь достижениям пилота и его выдающимся открытиям.
С этими словами он застучал своим кольцом по столу.
Елена Чарбо, Аджа, Лара Хесуса и Аларк Утрадесский последовали его примеру. Другие лорды и мастера поддержали их рукоплесканиями и склонили головы, воздавая почести подвигу Данло.
— А теперь я приглашаю Данло ви Соли Рингесса остаться здесь, с нами, — сказал Зондерваль.
Лорд Николос бросил на него недоумевающий, обиженный взгляд.
— Я приглашаю его в качестве мастер-пилота, — пояснил Зондерваль. — Разве кто-нибудь сомневается, что он заслужил эту степень? Думаю, что нет, и поэтому как Главный Пилот посвящаю его в мастера. Церемонию в Зале Пилотов мы проведем позже.
Некоторое время лорд Николос и Зондерваль смотрели друг на друга, как два готовых сцепиться кота. Зондерваль действительно имел право назначать новых мастеров по своему выбору, но имена кандидатов полагалось сообщать комитету мастер-пилотов, чтобы те могли высказаться относительно достоинств и годности каждого. А глава Ордена, если не по закону, то по традиции, лично утверждал назначения и произносил приветственное слово. Чрезвычайные времена, конечно, требуют чрезвычайных решений, но покушение Зондерваля на привилегии лорда Николоса объяснялось не столько необходимостью, сколько высокомерием. Зондерваль считал, что главой Ордена следовало выбрать его, и потому старался подменить собой лорда Николоса где только возможно.
— Очень хорошо, — процедил наконец лорд Николос сквозь плотно сжатые тонкие губы. Данло так и стоял посреди зала, наблюдая, как разыгрывается эта маленькая драма между самыми влиятельными лордами его Ордена. — Очень хорошо, мастер-пилот. Вы можете остаться и присутствовать при том, как мы вынесем решение по этому вопросу.
Данло после вполне официального поклона улыбнулся, проследовал со своим сундучком к столу мастер-пилотов и занял место между Ларой Хесусой и Аларком Утрадесским.
Быстрый вспыльчивый Аларк, который однажды на спор пересек Детесхалун, обнял Данло и шепотом высказал ему свое приветствие, постучав кольцом по столу.
— А теперь, — встав, обратился к собранию лорд Николос, — нам предстоит пересмотреть нашу миссию в свете того, что рассказал нам Данло ви Соли Рингесс.
Так начались знаменитые военные дебаты в Палате Лордов. Поначалу это походило скорее на личный спор между Зондервалем и лордом Николосом. Никто не призывал к войне в открытую, но Зондерваль предлагал направить группу легких кораблей в Цивилизованные Миры с тем, чтобы перехватить и уничтожить в звездных каналах флот Бертрама Джаспари, не дав ему дойти до Невернеса. Лорд Николос, человек бережливый, отвечал на это, что легких кораблей у Нового Ордена немного и каждый из них особенно нужен теперь, после обнаружения Таннахилла. Миссия Ордена, напомнил он, обращена именно к Архитекторам Старой Церкви. На Таннахилл нужно отправить посольство. Орден предоставит Архитекторам корабли и пилотов, чтобы миссионеры могли распространить новую программу своей церкви по всему Экстру. Все Архитекторы; где бы они ни находились, должны узнать, что взрывы звезд более не поощряются и даже не разрешаются.
— Мы не должны вмешиваться в войну между церковью и ее сектами, — заявил лорд Николос и добавил, улыбнувшись Данло: — Что до войны богов, мы просто не имеем возможности вмешаться в нее, разве что кто-то из нас вдруг вспомнит военные тайны Старшей Эдды — больше нам нечем повлиять на богов.
Большинство лордов соглашались с логикой лорда Николоса — это было заметно по тому, как они кивали и перешептывались. Но Зондерваль, едва дождавшись, когда лорд Николос закончит, спросил его:
— А как же быть с ивиомильским флотом, который воин-поэт и пилот-ренегат ведут к Невернесу? Неужели мы бросим в беде мир, из которого вышли?
— Разве я говорил, что мы собираемся бросить кого-то в беде? — возразил лорд Николос.
— Вы также не сказали ни слова о том, как защитить наших братьев и сестер в Невернесе! — с жаром воскликнул Зондерваль. Его возлюбленная погибла при столкновении кометы с ее планетой, и с тех пор он больше не встречался с женщинами. — Надеюсь, причина не в том, что вы боитесь рискнуть несколькими десятками легких кораблей.
— Риск существует в любом случае, на чем бы мы ни остановили свой выбор. Но этот риск должен быть просчитан и цена его взвешена.
— Расчеты! Цена! Так рассуждают торговые пилоты с Триа.
— Так рассуждает любой здравомыслящий человек, которому нужно решить трудную задачу с ограниченными средствами.
— Я как Главный Пилот нашего Ордена обязан поощрять моих людей совершить невозможное, не считаясь ни с какими ограничениями. — Сказав это, Зондерваль поклонился Данло, как воплощению героических пилотских традиций.
Многие лорды тоже посмотрели в их сторону, и Данло стойко выдержал их взгляды, хотя терпеть не мог быть объектом общего внимания.
— От Главного Пилота большего нельзя и требовать, — сказал лорд Николос, — но я как глава Ордена обязан сдерживать героические порывы моих пилотов, даже столь выдающегося, как вы.
Этот комплимент, смешанный с завуалированной критикой, польстил Зондервалю, и он сел, сердито поглядывая на лорда Николоса. Тот воспользовался этой возможностью, чтобы выложить свой козырь.
— Предлагаю послать в Невернес трех пилотов. Лучших наших пилотов на самых быстрых кораблях. Они предупредят лордов Невернеса об ивиомилах и их машине-звездоубийце. У Старого Ордена пилотов больше, чем у нас, — пусть невернесские пилоты и воюют с ивиомилами, если угроза войны действительно существует.
Лара Хесуса обменялась быстрым взглядом с Аларком, блистательная Аджа взглянула на Данло. Мастер-пилоты, по-видимому, уже согласились с планом лорда Николоса и теперь ревниво прикидывали, кого же из них пошлют домой, в Невернес. У лордов тоже не нашлось возражений. Все сидели молча, глядя то на лорда Николоса, то на Зондерваля. Какой-то миг казалось, что лорды уже приняли решение и войны удастся избежать.
Но вселенная — странное место, чреватое иронией и драмами космического масштаба. Порой игра случая и невероятные совпадения убеждают нас в том, что мы — часть какой-то крупной игры, цель которой столь же непостижима, сколь и загадочна. Поступок женщины или слово мужчины способны за один миг необратимо изменить историю. Когда лорд Николос предложил перейти к голосованию, в Палате настал именно такой момент. Большие золоченые двери, в которые какой-нибудь час назад вошел Данло, внезапно распахнулись, и в зал ввалились трое. Двое были кадеты-горологи в красной форме, добровольно взявшие на себя охрану Палаты и различных бывающих здесь важных персон. Третий был необычайно крупный мужчина, одетый в черное, с густой черной бородой, с черными глазами и лиловато-смуглым лицом. Настроение у него тоже было явно не из светлых, поскольку горологи мешали ему войти, хватали его за руки и загораживали ему дорогу.
— Да пустите вы, черт побери! — гаркнул он, стряхивая с себя кадетов, как мух. — Говорю же вам, я привез важные новости, которые ждать не могут! Я вам не террорист какой-нибудь, ей-богу — я пилот!
Лорды повскакали с мест, но Данло улыбнулся, и глаза его наполнились светом, потому что он знал этого человека.
Они обменялись улыбками через весь зал. Пришельца звали Пешевал Сароджин Вишну-Шива Лал, но все знали его как Бардо. Бывший пилот Ордена, он приходился Данло одним из самых близких друзей.
— Прошу вас, соблюдайте сдержанность! — воззвал лорд Николос, обращаясь как к лордам, так и к Бардо. — Займите свои места.
— Это точно — сядьте лучше, чтобы не упасть, — сказал Бардо, проходя в черный алмазный круг. — Я многое имею сказать, и вам понадобится все ваше мужество, чтобы это выслушать.
— Вы больше не пилот Ордена, — заметил ему лорд Николос.
Двенадцать лет назад в невернесской Палате Лордов многие из присутствующих здесь (в том числе лорд Николос и Данло) стали свидетелями того, как Бардо швырнул свое пилотское кольцо в гранитную колонну, разбив его, и отрекся от своей пилотской присяги. Позднее он начал пить священный мнемонический наркотик и проповедовать о возвращении своего друга Мэллори Рингесса, чем положил начало религии, известной как Путь Рингесса.
— Это верно, из Ордена я вышел, — сказал он, — но пилотом остался. И прошел полгалактики, чтобы сказать вам то, что должен сказать.
— Что именно?
Бардо, наполнив воздухом свои объемные легкие, посмотрел на Зондерваля, с которым учился в пилотском колледже Ресе, посмотрел на лорда Николоса, Морену Сунг, Сула Эстареи, а под конец — на Данло ви Соли Рингесса.
— В Невернесе скоро начнется война, — объявил он. — И в Цивилизованных Мирах тоже. Впервые за две тысячи лет. Кровавая, бессмысленная война. Я прошел двадцать тысяч световых лет, чтобы сказать вам, как это случилось и что мы должны предпринять.
Бардо явился сюда незваным и нежданным, но ни один голос не возразил против его присутствия. Лорд Николос оцепенел, словно через его стул пропустили электрический ток, взоры всех остальных были прикованы к громадной фигуре Бардо. И бывший пилот Ордена начал свою повесть о войне, которой предстояло изменить жизнь каждого из них, а может быть, и лицо самой вселенной.
Глава 2 СУДЬБА
Счастливы те кшатрии, которым нежданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата.
“Бхагавадгита”, 2. 32Казалось бы, Бардо, стоящий посреди черного круга, темнокожий и одетый в черное, должен был совсем раствориться в этом чистейшем из цветов. Но Бардо не заставили бы стушеваться ни мужчина, ни женщина, ни безбрежная чернота самой вселенной. Он притягивал к себе внимание, как горячая звезда-гигант, пылающая в межгалактической пустоте. Он был рожден принцем Летнего Мира и до сих пор относился к себе как к светочу среди меньших светил, но природное благородство и доброе сердце побуждали его помогать людям, а не обливать их презрением, как это делал Зондерваль.
Драматической жилкой он тоже обладал от природы. Его зычный голос наполнял зал, воспламеняя воображение каждого мастера и лорда. Он умел затронуть людские души, но делал это не по расчету — скорее это было выражением самых глубоких сторон его личности. Взять хотя бы его наряд, который невольно привлекал к себе все взоры. Черное одеяние Бардо было сшито не из шерсти и не из шелка, как у Данло, Лары Хесусы и других мастер-пилотов, а изготовлено из редкого наллового волокна. Налл, вещество более прочное, чем алмаз, служит надежной защитой от ножей, лазеров и взрывов. Для лучшей защиты верх костюма Бардо был снабжен гибким, облегающим мускулы налловым панцирем. Паховые органы, самые ценные и уязвимые, прикрывал огромный щиток. Наряд завершал широченный шешиновый плащ, предохраняющий от радиации и плазменных бомб. Эти внушительные доспехи от начала до конца спроектировал сам Бардо. Он уже был однажды убит, когда пытался спасти своего лучшего друга. После воскресения он относился к своему телу трепетно и не жалел средств для его защиты. Бардо, как заявил он лордам Нового Ордена, собрался на войну и не питал иллюзий на предмет ужасов, которые она сулила как ему, так и им.
— В Невернесе уже состоялось одно сражение, — сообщил он. — Некоторые назвали бы его просто стычкой, поскольку погибло в нем всего трое пилотов, но это событие предвещает другие, гораздо худшие, и настанут они скоро, слишком скоро — не надо быть скраером, чтобы это предсказать.
Бардо рассказал о том, что привело к этому сражению.
То, что произошло в Невернесе за пять лет после отлета Экстрианской Миссии, было, конечно, сложно — история всегда сложна. Вкратце Бардо поведал лордам следующее. Он основал религию под названием Путь Рингесса с целью увековечить жизнь и подвиги своего лучшего друга Мэллори.
Мэллори Рингесс показал Ордену и всему человечеству, что любой из людей может стать богом, если вспомнит Старшую Эдду. Бардо принес это учение в Невернес. Вечера в его доме, где гостям предлагали священный наркотик каллу, давали возможность академикам Ордена и прочим жителям города приобщиться к Единой Памяти. Но Бардо, как сказал он сам, создан скорее для начинания великих дел, чем для их завершения. Он не пророк, он просто одаренный человек, бывший пилот Ордена, желавший указать своим друзьям и последователям путь к бесконечным возможностям, которые лежат перед ними. И чуть ли не у самых истоков рингизма его соратником стал цефик, Хануман ли Тош.
— Вы все его знаете, — сказал Бардо, обменявшись быстрым взглядом с Данло. Хануман и Данло, до того как стать врагами, были неразлучными друзьями. — Но кто из вас знает Ханумана по-настоящему?
Бардо признал, что Хануман, блестящий и харизматический молодой человек, проявил себя как религиозный гений, и рингизм благодаря ему стал стремительно распространяться по Цивилизованным Мирам. Но постепенно в нем открылись жестокость, тщеславие и чудовищное честолюбие. Хануман, сказал Бардо, представляет собой раковую опухоль в теле церкви: он заключил ряд тайных союзов с другими деятелями Пути и учредил новые церемонии, чтобы напрямую манипулировать умами рингистов. Хуже того, он стал распространять о Бардо клевету и подрывать его лидерство всеми доступными средствами. Рингизм рос и протягивал свои щупальца (так выразился Бардо) в залы Ордена и города Цивилизованных Миров, будучи при этом больным изнутри; Хануман в своей жажде власти лишил религию ее истинного смысла.
Наконец настал вечно памятный для Бардо день, когда Хануман открыто бросил вызов его авторитету и вытеснил его с поста главы церкви.
— Он украл у меня мою чертову церковь! — гремел багровый от ярости Бардо, топая черным налловым сапогом о черный алмаз. — Мою прекрасную, благословенную церковь!
После краткого молчания лорд Николос навел на Бардо свой ледяной взгляд и спросил:
— Ваши слова относятся к собору, который ваше движение купило у секты христиан, или к самой организации ваших одураченных единомышленников?
Бардо, хорошо знавший отношение лорда Николоса к любой религии, счел за благо не обижаться и ответил просто: — И к тому, и к другому. Сначала у меня отняли собор, а потом Хануман настроил против меня рингистов. Ох, горе, горе.
— Как это возможно — отнять собор? — осведомился лорд Николос.
— Вы помните, как этот собор финансировался? — с тяжелым вздохом спросил Бардо.
— Я этого вообще не знал, да и знать не хотел.
— Так вот, он стоил очень дорого. Кошмарно дорого — не зря ведь это самое величественное здание во всем городе. Я просто не мог не приобрести его — не только я, а все мы, рингисты. Нам требовалось особое место, чтобы вспоминать великие достижения Мэллори Рингесса и поклоняться ему. Поэтому мы купили собор на паях, и каждый рингист вложил в это свои деньги. У некоторых, правда, возникли сложности.
— У членов Ордена?
— Ну да, у них. Каноны Ордена запрещают им владеть какой-либо собственностью, поэтому им пришлось передать свои доли доверенным лицам. А Хануман по секрету стал переманивать этих доверенных лиц к себе, да и других тоже. И в один прекрасный день, 14-го глубокой зимы, он…
— Установил большинством голосов новые правила относительно допуска в собор, — закончил за Бардо лорд Николос.
— А вы откуда знаете? — В голосе Бардо звучало не столько подозрение, сколько изумление.
— Подобная стратагема напрашивается сама собой. Как же вы-то этого не предугадали?
— Я догадывался — Бардо ведь не дурак. Я думал, что знаю, кто из пайщиков мне предан, а кто нет, но, видимо, просчитался. Я был занят другими делами. Создавать новые религии — это, знаете ли, не пустяк.
Данло улыбнулся. Пилоту, искушенному в математике, не так-то легко признаться, что он просчитался. Но Бардо, при всем своем хитроумии, мог быть беспечен до крайности. Под “другими делами” скорее всего подразумевались романы с молодыми красотками, желавшими любым способом попасть на Путь Рингесса.
— Дела Ханумана, очевидно, шли более успешно, — заметил лорд Николос.
— Он выпихнул меня из моей же церкви, ей-богу! И сам стал Светочем Пути!
— И рингисты пошли за ним?
— Очень многие, — признался Бардо. — Овцы, одно слово, — кто бы еще пошел в самом начале за таким злосчастным, как я? Сперва я пытался устраивать мнемонические церемонии у себя дома, и с полгода в Невернесе существовало два Пути Рингесса. Но я уже перестал вкладывать в это душу — в религию то есть. При виде того, что вытворяет Хануман с моей церковью, мне хотелось плакать.
Бардо сказал, что Хануман полностью подчинил себе Орден — не ради вспоминания Старшей Эдды и поклонения Мэллори Рингессу, а исключительно ради власти. Еще несколько лет назад он заключил секретный пакт с Главным Цефиком, лордом Одриком Паллом, которому помог стать главой Ордена. Теперь лорд Палл сумел внести в каноны Ордена поправку, впервые в истории отменявшую для академиков запрет исповедовать какую-либо религию. Отныне членам Ордена рекомендовалось и даже предписывалось принять Три Столпа Рингизма и подключиться к компьютеру Ханумана, где якобы хранилась в виде ярких виртуальных образов память Старшей Эдды. Лорд Палл стремился влить в свой старый застойный Орден взрывчатую энергию новой религии, и Хануман обратил в свою веру многих пилотов, способных проповедовать Путь Рингесса в Цивилизованных Мирах и за их пределами. Скоро, сказал Бардо, Путь Рингесса и Орден станут единым религиозно-научным образованием, обладающим безграничной властью.
Бардо закончил свою речь, и в зале воцарилось молчание.
Затем лорд Николос, не желающий верить собственным ушам, моргнул и проговорил:
— Это плохо, очень плохо.
В самом деле — мог ли он или кто-либо из лордов предвидеть, что эта новоявленная вселенская религия поглотит Орден и многие Цивилизованные Миры за каких-нибудь пять лет?
— Я никогда не доверял религиозному чувству, — продолжал лорд Николос, — не понимая при этом истинной причины своего недоверия. Теперь она мне ясна. Я приношу свои извинения всем лордам, мастерам и специалистам Ордена. Если бы я знал, какую опасность представляет этот человек со своим культом, — он указал пальцем на Бардо, — я никогда не допустил бы разделения Ордена. Нам следовало остаться в Невернесе и приложить все свои силы для борьбы с этой гнусностью.
Oн не добавил, что лорд Палл многих назначил в Экстрианскую Миссию именно потому, что они выступали против Пути Рингесса. И первым в списке стоял Данло ви Соли Рингесс, который стал теперь смертельным врагом Ханумана и открыто высказывал свое негативное отношение к новой религии. Что касается самого лорда Николоса, он был только рад сбежать от того, что ныне именовал гнусностью, и стать главой Нового Ордена подальше от Невернеса.
— Кто может знать, что готовит нам будущее, — сказал в ответ Бардо. — Если б я знал, что этот гаденыш Хануман украдет у меня церковь и превратит мое учение в гладышево дерьмо, я не провел бы ни одной мнемонической церемонии.
— Что поделаешь — вы, как всякий пророк, полагали, что знаете тайну вселенной, которой должны поделиться со всеми и каждым.
Бардо, задетый и рассерженный этим замечанием, сказал:
— Что я знаю, то знаю, ей-богу! Я вспомнил то, что вспомнил. Старшая Эдда реальна. Я здесь не единственный, кто проник в нее. Морена тоже пила каллу у меня дома, хи Сул Эетареи, и Аларк Утрадесский. Сам Главный Мнемоник приобщился к Эдде, а Данло ви Соли Рингесс прославился своим воспоминанием. Правда есть правда! И не нужно винить религиозное чувство, ведущее нас к истине. Плохо лишь то, что мы сами делаем из наших религий. Как только человек начинает восхождение к божественным высотам, все благословенное и возвышенное почему-то портится, как отборные яблоки, выставленные на солнце. Я, Бардо, это знаю лучше кого бы то ни было.
И я тоже, подумал Данло, вспоминая собственное знакомство с Путем Рингесса.
— Не стану с вами спорить. — В голосе лорда Николоса прозвучала холодная сталь.
— А я не для того шел сюда через галактику, чтобы спорить.
— Чем бы вы поначалу ни руководствовались, Путь Рингесса — это то, что он есть. И того, что вы сделали, не отменишь.
— Думаете, я сам не сознаю этого? — вскричал Бардо. — С чего, по-вашему, я стал бы рисковать своей проклятой жизнью, чтобы рассказать вам о невернесских событиях?
— Действительно, с чего? Нам всем здесь хотелось бы это знать.
— Я должен исправить то, что сделал.
— Понимаю.
— Я способствовал разрастанию рака — теперь я прошу вашей помощи, чтобы вырезать его, пока не поздно.
И Бардо, поклонившись лорду Николосу, приступил к заключению своего рассказа. Потеряв свой прекрасный собор и отказавшись от попытки устроить у себя на дому оппозиционную церковь, Бардо впал в черную меланхолию. Он на пять дней заперся в своей комнате, отказываясь (как ни трудно в это поверить) от еды и питья, приносимых ему верными друзьями. Сидя в роскошном инкрустированном кресле, он помышлял о самоубийстве. Но Бардо не принадлежал к суицидальному типу. Когда дни глубокой зимы стали совсем короткими, а морозы почти смертельными, ярость его обратилась наружу. Он решил, что убить следует не себя, а Ханумана ли Тоша, лорда Палла, на худой конец — собственную кузину Сурью Суриту Лал, некрасивую маленькую женщину; она была самой преданной сторонницей Бардо, пока Хануман не обворожил ее и не толкнул на измену. Он должен был убить хоть кого-то, и в ту глубокую зиму это не представлялось невозможным, ибо в Невернесе настали недобрые времена.
Около десяти лордов и мастеров Ордена необъяснимым образом умерли. Поговаривали о яде или не поддающемся обнаружению вирусе. Орден издавал новые ужесточенные законы. Впервые с Темного Года, когда город посетила Великая Чума, в Невернесе ввели комендантский час. Священный наркотик каллу сделали запретным для всех, кроме мнемоников, да и эти мастера сознания в серебряных одеждах должны были обращаться к лорду Паллу за разрешением, чтобы проводить у себя в башне освященные временем церемонии. Различные секты наподобие аутистов внезапно подверглись преследованиям. Лорд Палл лично объявил о своем намерении разогнать секту хариджан, вот уже триста лет бросавших вызов авторитету Ордена. В. пасмурные дни средизимней весны Орден начал строить по всему городу новые церкви. Планировалось даже воздвигнуть новый собор в стенах самой Академии. В этих церквях лорд Палл намеревался собирать всех членов Ордена на ежедневные службы. Прихожанам предлагалось возложить на себя священные мнемонические шлемы и открыться видениям Старшей Эдды — так это по крайней мере называлось. Если говорить правду, они открывали себя, самое свое сознание, тем догмам, образам, тайным посланиям, той пропаганде, которую Хануман ли Тош и лорд Палл почитали необходимой.
Установление подобной тирании в столь свободолюбивом и просвещенном городе, как Невернес, конечно, не прошло без сопротивления. Все инопланетяне, фраваши в первую очередь, высказались против поддержки Орденом этой склонной к тоталитаризму новой религии. Посланники Ларондисмана и Ярконы вручили официальные ноты, грозя разорвать с Орденом дипломатические отношения. Многочисленные городские астриеры, принадлежавшие, как правило, к одной из кибернетических церквей, осудили рингизм как тягчайшую ересь и перестали выходить из своих домов и церквей в Квартале Пришельцев.
Едва ли одна десятая часть населения, помимо Ордена, была готова принять Три Столпа Рингизма. Но в это время, когда в Невернесе обострилась борьба за власть, наиболее важной была расстановка сил внутри самого Ордена.
Много было таких, кто отказывался признавать какую-либо связь между Орденом и рингизмом. Всех потенциальных диссидентов лорд Палл отправить в Экстр не сумел. Особенно отличались возвратные пилоты (в Невернесе всегда присутствовали пилоты, вернувшиеся домой из многолетних космических странствий), люди смелые и привыкшие смотреть в лицо ужасам мультиплекса. Гордость не позволяла им поддаться террору лорда Палла и убийц из числа его цефиков, которыми он, как говорили, распоряжался. Некоторые пилоты, такие как Алезар Эстареи и Кристобль, сражались вместе с Мэллори Рингессом в давней Пилотской Войне, и то, что Бардо наладил с ними отношения, было, по его словам, неизбежно. В их группу входило около пятидесяти человек. Встречались они по ночам в большом доме Бардо и называли себя Содружеством Свободных Пилотов. Они намеревались сформировать ядро, вокруг которого соберутся все противники рингизма, состоящие в Ордене или нет, чтобы со временем подготовить восстание.
Для Бардо это стало пятым по счету поприщем. Жизнь он начал летнемирским принцем, в Невернесе стал знаменитым пилотом, а позднее — Мастером Наставником. Отрекшись от своих обетов и выйдя из Ордена, он сделался купцом, нажил сказочное богатство и вернулся в Невернес провозвестником новой религии. И наконец, заявил Бардо, побывав богатым и бедным, знаменитым и презираемым, озаренным и отчаявшимся (а также живым и мертвым), он обрел свое истинное призвание: воина.
— Надо с ними сразиться, ей-богу! — настаивал он. — Что нам еще остается?
По словам Бардо, лорд Палл, а может быть, Хануман подослал к нему убийцу. Тот подкараулил Бардо на улице, когда он вечером возвращался домой, и только благодаря великому мужеству Миновары ни Кеи, верного своего сподвижника, Бардо остался в живых. Когда одетый в черное убийца выстрелил в Бардо из спикаксо, Миновара заслонил Бардо своим телом, принял отравленный дротик в плечо и умер в мучениях. Это дало Бардо время обезвредить злодея — он просто пришиб его своей ручищей, как медведь малого ребенка. Поняв, что от ядовитых игл ему не уберечься, Бардо отправился в Квартал Пришельцев и заказал там налловые доспехи.
После этого откровенного покушения Содружеству стало ясно, что больше им в Невернесе не жить. Кристобль полагал, что каждый из них должен облететь как можно больше Цивилизованных Миров, неся пылающий факел сопротивления всем, кому дорога свобода. Сам Бардо вызвался совершить опасное путешествие на Тиэллу. Единственной проблемой было то, что лорд Палл, знавший наперечет всех пилотов Содружества, запретил им покидать город.
Тогда в один сумрачный день Бардо и его товарищи взяли штурмом Пещеру Легких Кораблей, захватив врасплох несших охрану рингистов. Это и было то сражение, о котором Бардо упомянул вначале. Глубоко под землей, на стальных мостках, при вспышках лазеров погибли Вамана Чу, Маррим Данлади и Ориана с Темной Луны, но остальные пилоты ушли в космос на своих кораблях.
Бардо, не принадлежавший больше к Ордену, корабля, разумеется, не имел, но это его не остановило. Добыв код доступа у программиста, которому он пригрозил оторвать челюсть, Бардо увел корабль самого Главного Пилота, носивший имя “Серебряный лотос”. Поднявшись в космос и уйдя в мультиплекс, пролегающий под пространством и временем, Бардо тут же переименовал корабль в “Меч Шивы”.
Пройдя торные звездные каналы, он вступил в неизведанные пространства Экстра. Втайне он всегда считал себя гениальным пилотом, лучшим даже, чем Зондерваль, и ему удалось миновать бесконечные деревья решений и бесчисленные сверхновые, засоряющие Рукав Ориона. Координаты Тиэллы Бардо узнал от Кристобля и спустя много дней вышел к этому далекому миру, чтобы явиться в Новый Орден с собственной миссией. Посадив “Меч Шивы” на том же космодроме, где всего несколько часов назад приземлился Данло, он узнал, что лорды Нового Ордена проводят конклав в это самое время. Бардо попытался известить лорда Николоса о своем прибытии, но весьма заносчивый молодой горолог сообщил ему, что лорды обсуждают дела чрезвычайной важности и беспокоить их нельзя.
Тогда Бардо в своей неподражаемой манере промчался через город на санях, прошел мимо привратника Академии (которого знал еще будучи Мастером Наставником) и ворвался в Палату Лордов. Теперь он стоял перед ними, большой и страстный, одетый в налловые доспехи, великий пилот и будущий воин, зовущий пилотов Нового Ордена к грандиозной и славной судьбе.
— 60-го числа ложной зимы мы должны собраться у Шейдвега, — сказал он. — Содружество Свободных Пилотов призывает каждый из Цивилизованных Миров отправить туда свои корабли и людей, готовых сражаться. Наш флот обрушится на Невернес, как тысяча серебряных мечей, и разгромит проклятых рингистов вместе с Хануманом и лордом Паллом. В этой войне мне потребуются все легкие корабли и все пилоты Нового Ордена.
Лорд Николос за центральным столом нервно теребил свою желтую мантию. Ему нравилось считать себя хладнокровнейшим из людей, и обычно он не позволял себе подобных телодвижений, но рассказ Бардо взбудоражил его, и беспокойные повадки, давно им побежденные, вернулись к нему сами собой.
— Вы больше ничего не желаете сообщить нам? — спросил он.
— Есть кое-что. Орден под руководством Ханумана строит в ближнем космосе, в первой точке Лагранжа над городом, некий объект, который Хануман называет Вселенским Компьютером. Это громадная, жуткого вида штуковина, похожая на здоровенную черную луну. Когда-нибудь, если мы не остановим рингистов, она и впрямь станет с луну величиной. А естественные невернесские луны микроразрушители сейчас разбирают на элементы, чтобы строить эту пакостную машину.
Он не добавил, что эсхатологи Старого Ордена опасаются, как бы это строительство не задержало рост Золотого Кольца.
Лорд Николос возмущенно ахнул, и его лицо налилось кровью. Деятельность рингистов по разборке лун и созданию богоподобного компьютера грубо нарушала один из законов Цивилизованных Миров. Кое-как восстановив дыхание, он взглянул на Морену Сунг, прикрывшую пухлый рот ладонью.
Даже Зондерваль, видимо, был потрясен — он забыл о протоколе и заговорил в обход лорда Николоса:
— Не скажете ли, пилот, зачем рингистам нужен этот компьютер?
Бардо, польщенный тем, что его назвали пилотом, и особенно тем, что это исходило от его бывшего соперника, величайшего пилота и Нового, и Старого Ордена, ответил:
— Мне известно только то, что Хануман говорит рингистам. Вы все знаете, как кошмарно трудно вспоминать Старшую Эдду. Мало кому удалось получить четкое воспоминание. Я, Хануман ли Тош, Томас Ран — вот и все, пожалуй. И, конечно, Данло ви Соли Рингесс, чье воспоминание было самым ясным и глубоким.
Бардо отвесил поклон в сторону Данло, и тот ощутил на себе взгляды сотни пар глаз.
— И поскольку лишь немногим гениям дано вспомнить Старшую Эдду, — продолжал Бардо, — нам пришлось скопировать наши воспоминания и внести их в мнемонический компьютер. В шлемы, которые мы на себя надевали. Как иначе могли мы поделиться этой мудростью с полчищами рингистов, ничего не смысливших в мнемонике?
Это не подлинные воспоминания, это подделка, подумал Данло. Он сидел очень тихо, прижимая к губам флейту и вспоминая, как Бардо и его попросил скопировать свое великое воспоминание. Но это было бы только пародией на подлинную память, и Данло отказался, что омрачило его дружбу с Бардо и напрочь рассорило его с Хануманом.
Что бы там Бардо ни говорил, он все еще сердится на меня за то, что я отказался поддержать его кибернетическую иллюзию, думал он.
Тут Бардо, словно заглянув в его мысли, пристально посмотрел в синие глаза Данло, хлопнул себя кулаком по ладони и воскликнул:
— Эдда должна быть доступна всем, ей-богу! Чтобы каждый мог напялить на голову чертов компьютер и увидеть ее симуляцию. Это, конечно, не настоящая мнемоника, но большинство и этого бы никогда не добилось. Хануман всегда говорил, что если совершенствовать виртуальную Эдду постоянно, то в конце концов мы приблизимся к истинной памяти. И если сделать ее достаточно детальной и глубокой, то даже контакт с Единой Памятью будет возможен для всех. Для этого и нужен компьютер, который Хануман строит. Вселенский компьютер — Хануман обещал, что эта машина вместит в себя целую вселенную воспоминаний. Если сделать его достаточно большим, симуляцию Эдды можно будет улучшать до бесконечности. Огромные перспективы, огромная мощь. Когда компьютер будет достроен, каждый рингист в Невернесе, если верить Хануману, сможет подключиться к этой небесной громадине и погрузиться в блаженство Единой Памяти.
Да, Хануман все бы отдал за контакт с таким компьютером, думал Данло. Это сделало бы его почти столь же могущественным, как боги.
После долгой паузы, во время которой внимание лордов снова вернулось к Бардо, лорд Николос спросил у этого посланца рока:
— Итак, теперь вы закончили?
— Да, — с поклоном ответил Бардо.
Лорд Николос медленно перевел дыхание.
— То, что вы нам рассказали, не просто плохо. Худшего я еще в жизни не слышал.
— Да, все плохо, просто ужас до чего плохо, и поэтому мы должны решить…
— Это верно. — Лорд Николос обвел взглядом Палату. — Мы должны решить, что делать дальше.
Бардо при этом намеке на то, что он не принадлежит более к Ордену, резко шаркнул по полу своим налловым сапогом. Налл, чуть ли не самое твердое из всех веществ, оставил царапины на черном алмазе, и лорд Николос, не лишенный ни добродушия, ни здравого смысла, сказал:
— Вы знаете, что у нас принято решать такие вопросы между собой. Но поскольку вы были прежде мастер-пилотом и принимали участие во всех этих кошмарных событиях, я прошу вас остаться.
С этими словами лорд Николос жестом пригласил Бардо занять место за столом мастер-пилотов.
— Благодарю вас. — Бардо вышел из круга, нашел свободный стул наискосок от Данло и, кряхтя, сел на него.
— Странный выдался день. — Лорд Николос, чтобы информировать Бардо, вкратце подытожил все рассказанное Данло. — Сначала Данло ви Соли Рингесс возвращается со звезд, чтобы поведать о найденном им Таннахилле и о безумце, который рыщет по галактике с машиной, истребляющей звезды. Два часа спустя является лучший друг его отца и приносит весть о том, что весь город Невернес обезумел. Вопрос в том, как нам быть со всеми этими странностями.
Он первым отметил совпадение, благодаря которому Данло и Бардо встретились на далекой планете после стольких лет разлуки. Но судьба — вещь поистине странная, и Данло, глядя на Бардо, который тоже глядел на него, чувствовал, как нечто дикое и непреодолимое затягивает их обоих и всех других присутствующих здесь пилотов в некую точку времени, находящуюся в не столь отдаленном будущем.
— Мы должны выбрать определенный план действий, — продолжал лорд Николос. — Я бы хотел выслушать мнение главных специалистов.
Сул Эстареи, ясно мыслящий и осторожный Главный Холист, сидящий за одним столом с главой Ордена, внезапно обрел дар речи и сказал:
— Бардо призывает нас явиться на Шейдвег через каких-нибудь девяносто пять дней. И каким же будет результат? Война, гражданская война в огромных масштабах — ведь многие Цивилизованные Миры успели уже заразиться рингистским безумием и потому примут сторону Старого Ордена, а многие другие сохранят лояльность Невернесу просто по привычке. Мы должны спросить себя, готовы ли мы вступить в эту войну, размеры которой невозможно вообразить.
— А готовы ли мы не вступать в нее? — вмешался Зондерваль.
— Правильный вопрос, — сказала Корена Сунг, женщина неустрашимая, несмотря на всю кажущуюся мягкость характера, и стремящаяся найти истину в любой ситуации, какой бы страшной эта истина ни была. — Что будет, если мы не пошлем своих пилотов на Шейдвег?
— Но цель нашей миссии — Экстр, — молвил старый лорд Демоти Беде из задних рядов. — Какая нам будет польза от всего, чего добился Данло ви Соли Рингесс на Таннахилле, если все наши пилоты уйдут на Шейдвег?
— Что же нам теперь, бросить Цивилизованные Миры? — возразила Морена Сунг. — И сам Невернес, мой родной город?
— Вы предлагаете вместо этого бросить Экстр и дать сверхновым поглотить всю галактику? — не сдавался Беде. — По мне, пусть лучше все Цивилизованные Миры перейдут в рингизм, чем хоть один мир в Экстре погибнет от взрыва звезды.
На это Морена, поджав свои пухлые губы, спросила: — Как мир нараинов, о гибели которого рассказал нам Данло?
— Лорд Сунг напоминает нам о том, — вступил в спор Зондерваль, — о чем мы забывать не должны. Как быть с Бертрамом Джаспари, его ивиомилами и машиной-звездоубийцей? Можем ли мы позволить этим фанатикам разгуливать среди Цивилизованных Миров?
Солнце опускалось к океану, зажигая купол яркими красками, а лорды Нового Ордена спорили о войне. В минуту молчания, когда лорд Фатима Пац перечисляла имена всех, кто погиб на Пилотской Войне, Данло закрыл глаза и шепотом помолился за души этих пилотов. Потом медленно встал, держа в руке флейту, и спросил:
— Можно мне сказать, лорд Николос?
— Говорите, — с поклоном разрешил тот.
Данло, которому фраваши, его учитель, присвоил титул Миротворца за его верность ахимсе, учтиво вернул поклон, обвел взглядом ряды лордов в ярких одеждах и начал:
— Вы все… говорите о войне как о чем-то абстрактном. Говорите о том, кого бросить, а кого поддержать, и ссылаетесь на вашу миссию. Но война не менее реальна, чем плачущий ночью ребенок. Я знаю. На Таннахилле я держал на руках маленькую девочку с сожженным пластиковой бомбой лицом. Я там многое видел. Таннахилл далеко, он в тысячах световых лет отсюда, и Невернес тоже. Но война не всегда происходит далеко от нас. Когда человек истекает кровью, для него это всегда здесь. Смерть — это такая ужасная “здесьность”, правда? И все мы тоже всегда “здесь”, где бы мы ни были. Кто поручится, что война, о которой вы говорите так абстрактно, не придет сюда, на Тиэллу? Кто из вас сегодня, в этот момент, готов умереть от ядерного взрыва? Кто готов смотреть, как гибнут пилоты, ибо пилоты гибнут — они поджариваются, падая в середину звезд, или сходят с ума в мультиплексе, или взрываются изнутри и застывают кровавыми кристаллами в космическом вакууме? Почему никто из вас не спросил, должна ли вообще быть война? Почему все молчат о мире? Разве нельзя остановить рингистов и даже ивиомилов, не убивая их? Я должен верить, что мир возможен всегда.
Встретившись взглядом с Зондервалем, Демоти Беде, Анжелиной Марией Зорете и многими другими, Данло сел и посмотрел на Бардо. Тому, при его живом воображении и цепкой памяти, было, видимо, нетрудно представить себе весь ужас войны. Его огромное лицо смягчилось, и он пробормотал:
— Бедные пилоты, бедные детишки — горе, горе. Что за кашу я заварил? Горе мне, бедному Бардо.
Лорд Николос не разобрал его слов, но все равно обеспокоился и сказал Данло:
— Спасибо за напоминание о том, что мир возможен всегда. Но сейчас, к несчастью, такая возможность кажется очень отдаленной. Тем не менее мы должны использовать каждый шанс. Война, как вы говорите, реальна, и мы должны строить наши планы с тем, чтобы ограничить ее или предотвратить в корне. Если вы или кто-то другой ничего больше не хотите добавить, я хотел бы изложить свое мнение о курсе, который нам следует принять.
План лорда Николоса отличался ясностью и прямотой.
Вопреки тому, что он говорил раньше, он предложил отправить на Таннахилл посольство и некоторое количество пилотов. Но большинство пилотов Нового Ордена отправится на своих легких кораблях к Шейдвегу — либо чтобы предотвратить войну, либо чтобы вступить в нее всей своей мощью.
— Я и в Невернес хочу отправить послов, — сказал он. — Может быть, мы еще сумеем договориться с лордом Паллом и Хануманом ли Тошем. Поскольку это путешествие очень опасно, я прошу вызваться только тех из вас, кто действительно желает взять на себя эту миссию. Посольство, разумеется, возглавлю я…
Но тут Морена Сунг, расправив свою эсхатологическую мантию, попросила слова.
— Нет, лорд Николос, вам нельзя. Вы сами знаете, что ваше место здесь, на Тиэлле. Но я готова заменить вас в этой миссии.
Вслед за ней вызвались еще около десяти лордов, в том числе Сул Эстареи и Демоти Беде.
— Среди нас есть человек, — сказала тогда Морена, — который понимает Ханумана ли Тоша лучше, чем кто-либо другой. Он, правда, только мастер, но они с Хануманом были…
— Вы говорите о Данло ви Соли Рингессе? — спросил Зондерваль.
— Да, о нем.
Зондерваль, которому предстояло вести пилотов на Шейдвег, а оттуда, вполне вероятно, на войну, возразил ей:
— Мне очень не хотелось бы посылать такого прекрасного пилота в эту, возможно, гибельную миссию. Данло и Хануман когда-то были друзьями, это верно, но расстались они врагами. Хорош посол, нечего сказать!
— Зато он не поддался на обман Ханумана, — ответила лорд Сунг.
— Мы не знаем даже, согласен ли сам Данло отправиться с такой миссией.
При этих словах взоры всех присутствующих обратились к Данло. Он, по-прежнему сжимая в руке флейту, собрался уже сказать, что готов служить Новому Ордену всеми доступными ему средствами, но тут лорд Николос, улыбнувшись ему, произнес:
— Я думал о том, чтобы отправить Данло послом на Таннахилл. Он уже завоевал доверие Харры Иви эн ли Эде — Святая Иви изменила доктрины Старой Церкви не без его влияния. Кто лучше подходит для этой роли?
— Но, лорд Николос, в том-то все и дело, — сказала Морена. — Основная часть таннахиллской миссии успешно выполнена благодаря Данло. Мне кажется, что его дарования будут полезнее в другом месте, — Величайшее его дарование — это талант пилота, — вставил Зондерваль. — Если война начнется, мне понадобятся все мои люди.
При упоминании о войне Данло задержал дыхание, так и не успевшее излиться в словах, и сердце у него застучало, как барабан.
— Посылать Данло на Шейдвег было бы жестоко, — заметил лорд Николос. — Разве вы забыли о его обете ахимсы? Как может человек, поклявшийся никому не делать зла, идти на войну?
Никогда не убивай, твердил про себя Данло. Никогда не причиняй вреда живому существу.
— Если бы я дал себе труд вспомнить об этом, — бросил Зондерваль, — то решил бы, что долг перед Орденом должен быть выше всех личных идеалов, особенно столь утопических.
Лорд Николос покачал головой и слегка повысил голос, чтобы его слышали во всем зале: — Нельзя забывать, что обет Данло предшествовал присяге, которую он принес, вступая в Орден. В то время никто не предвидел, что его ахимса может вступить в конфликт с создавшейся ситуацией. Вряд ли мы вправе требовать, чтобы он отрекся от ахимсы потому лишь, что обстоятельства изменились.
Данло взглянул на свои руки, совсем недавно поддерживавшие окровавленную голову умирающего друга, Томаса Ивиэля, и подумал: Я никогда не отрекусь от ахимсы.
— Отправка Данло в Невернес с мирной миссией тоже проблематична, — продолжал лорд Николос. — Если переговоры не принесут успеха и в Цивилизованных Мирах начнется война, он может оказаться в крайне тяжелом положении. Бурное море войны захлестнет и поглотит его.
— Война всегда создает трудные положения, и эти буря может поглотить любого из нас, — возразил Зондерваль. — Кто может избежать собственной судьбы? — Я ставлю вопрос иначе: кто вправе послать другого навстречу его судьбе? Я не стану отправлять Данло на Шейдвег.
Данло, встретившись глазами с лордом Николосом, перевел дух.
— Думаю, что для Данло лучше всего будет вернуться на Таннахилл, — сказал лорд, — Но Ордену он лучше всего послужил бы, отправившись послом в Невернес.
Данло снова задержал дыхание и сжал в руке флейту. Взгляд лорда Николоса, холодный, но не злой, казалось, искал на его лице каких-то знаков, способных предсказать будущее.
— Для главы Ордена не совсем обычно предоставлять подобное решение пилоту, — сказал лорд, — но и ситуация у нас сложилась необычная.
Все в зале ждали, что скажет Данло. Бардо улыбался ему, и мягкие карие глаза этого гиганта словно переливали в Данло часть его силы.
— Я прошу вас сделать выбор между двумя миссиями: Таннахилл или Невернес, — сказал лорд Николос Данло. — Если вам нужно время, чтобы…
— Нет, — выдохнув, сказал Данло. — Я сделаю выбор прямо сейчас.
Он закрыл глаза, вслушиваясь в шум ветра за стенками купола и в собственное дыхание. Судьба влекла его в будущее с силой звезды, затягивающей легкий корабль в свою огненную сердцевину. Судьба — или по крайней мере заветный план осуществления собственных глубочайших возможностей — есть у каждого человека. Одни не хотят слышать ее зова и остаются глухими, когда она кричит у них внутри. Другие бегут от нее, как заяц, зигзагами улепетывающий от падающей с неба талло.
Слишком часто человек тускло и покорно принимает неизбежное, ненавидя себя за это и жалуясь на несправедливость вселенной. Лишь немногим дано вместить страшную красоту жизни, и лишь единицы из этих немногих любят свою судьбу, чем бы она ни наполняла их жизнь: солнцем и медом или огнем, блеском мечей, кошмарами и смертью.
Данло полагал, что за всю свою богатую странствиями жизнь встретил только одного такого человека, своего былого друга Ханумана ли Тоша. Теперь ему казалось, что Хануман совершил некий необратимый переход через свой темный внутренний океан — возможно, к божественной власти, возможно, к безумию. Хануман ждал его в ледяном, мерцающем Городе Света, а здесь, под мерцающим красками куполом, ждали другие люди, испытывая судьбу Данло на прочность и желая услышать его решение.
В конце концов, мы сами выбираем свое будущее, вспомнил он.
Данло зажмурился; время раскрылось, как окно в густую синеву неба, и моменты, которым еще предстояло случиться, г обрели форму и цвет. Невернес ждал его. В высокой соборной башне, под прозрачным куполом, бледный и красивый человек следил, не покажется ли среди звезд корабль Данло.
На ледовых островах к западу от города мужчины и женщины в белых мехах ждали, когда Данло привезет им лекарство от болезни, дремлющей в их крови и выжидающей своего часа, чтобы ожить. Ребенок ждал тоже. Данло видел, как ребенок лежит у него на руках, беспомощно и доверчиво глядя ему в глаза такими же дикими и синими глазами. Наконец, его ждал он сам — будущий он, злее, умнее, благороднее нынешнего, прожженный до глубины души страшной любовью к жизни.
Сама вселенная, от крайних галактик до Экстра, тоже ждала — ждала, чтобы узнать, отправится он в Невернес или нет.
Самый глубокий вопрос, единственный подлинный вопрос, всегда заключается в этом: да или нет.
Богиня по имени Твердь сказала Данло, что когда-нибудь ему придется пойти на войну, и он видел, что и этот ужас тоже ждет его в Невернесе. Но что это за война? Та, где сверкают лучи лазеров и взрываются бомбы, или более глубокая, вселенского масштаба? Этого Данло не видел, но знал: если даже война затянет его в свой вихрь, где сражаются армии легких кораблей и люди палят друг в друга из тлолтов, если даже его будут резать нейроножом по живому, он все равно сохранит верность ахимсе, останется верен зову своей души.
Я не стану убивать никого, даже если мне и всему, что мне дорого, суждено умереть.
Данло открыл глаза, и ему показалось, что они оставались закрытыми только одно мгновение. Лорд Николос и все остальные по-прежнему ждали его ответа. Сжимая в руке флейту, Данло вспомнил еще одно, что говорила ему Твердь: что он найдет отца в конце своего пути. Возможно, что и отец тоже ждет его в Невернесе. Данло казалось, что он слышит отцовский голос, несомый звездным ветром через галактику, и этот голос звал его домой, навстречу судьбе.
— Я… выбираю Невернес, — сказал Данло и улыбнулся лорду Николосу, несмотря на резкую боль, простреливающую его левый глаз.
— Прекрасно, — сказал тот. — Остается назначить других послов. Нам еще многое предстоит решить, но не сейчас. Уже поздно. Сделаем перерыв на обед, а завтра соберемся снова.
Лорд Николос встал. Другие, переговариваясь между собой, последовали его примеру и начали выходить из зала. Бардо и другие мастер-пилоты за столом Данло принялись обсуждать, как лучше загнать корабль противника в центр звезды, Данло же дивился тому, какая бешеная энергия освобождается от одних только разговоров о войне. Он потер больной глаз, стараясь глубоким дыханием побороть поселившееся внутри дурное предчувствие.
Я тоже люблю свою судьбу, думал он. Мою судьбу, прекрасную и ужасную.
Он встал, чтобы поздороваться с Бардо, и стал делиться с другими пилотами новыми стратегическими приемами, которыми овладел в мультиплексе. Первые волны войны накрыли с головой и его.
Глава 3 ДВЕСТИ ЛЕГКИХ КОРАБЛЕЙ
Только мертвым дано было увидеть конец войны.
ПлатонВ последующие дни коллегия лордов приняла множество решений. Всем пилотам Тиэллы было предписано готовить к полету свои легкие корабли и прощаться с близкими. Томас Зондерваль, Главный Пилот, должен был на своей “Первой добродетели” провести двести других кораблей через опасные звезды Экстра к Шейдвегу. В случае, если великий пилот попадет в поток фотонов сверхновой или мультиплекс поглотит его корабль, его заменит Елена Чарбо. Если Елену и ее “Жемчужину бесконечности” постигнет такая же участь, Главным Пилотом станет Сабри дур ли Кадир, а за ним Аджа, Карл Раппопорт, Вероника Меньшик и так далее — все прославленные мастер-пилоты, сражавшиеся в Пилотскую Войну вместе с Мэллори Рингессом. Битвы, которые они вели в звездных каналах, научили их тому, что война пожирает человеческие жизни с такой же быстротой, как пламя — сухие ветки костра.
Двухсот пилотов для войны было недостаточно, но хорошо еще, что Орден хоть столько смог наскрести. Пилоты не затем преодолели двадцать тысяч звездных лет от Невернеса, чтобы сидеть на планете и дожидаться войны — их ждал Экстр, сулящий великие свершения. Пятьдесят кораблей все еще не вернулись из Рукава Персея — они разыскивали Таннахилл, или исследовали радужные системы, или открывали мертвые, сожженные чужие миры. Никто не мог предсказать, когда вернется Петер Эйота на “Акашаре”, или Генриос ли Радман, или Палома Старшая.
На свое счастье (или несчастье), в предшествующий старту на Шейдвег день вернулась Эдрея Чу. Ее корабль сел на единственном космодроме планеты и занял свое место среди остальных. “Золотой лотос” присоединился к “Августовской луне”, “Божьему пламени”, “Ибису” и другим черным алмазным иглам, выстроенным на поле в двадцать рядов. В их число входили “Меч Шивы”, похищенный Бардо в Невернесе, и “Снежная сова” Данло с ее длинным корпусом и грациозными крыльями. Спустя недолгий срок, меньший, чем понадобился бы Старой Земле для оборота вокруг оси, пилоты сядут в свои корабли и двинутся к большому красному солнцу Шейдвега. Предполагалось, что перед стартом они должны отдыхать, или заниматься холлнингом, ментальным тренингом пилотов, или молиться, или прощаться с друзьями.
Но по меньшей мере двое пилотов в эту ночь, наполненную прохладным морским ветром и блеском звезд, не прощались ни с кем — скорее можно сказать, что они здоровались. Данло, очень занятый в последние дни (он делился своими открытиями с цефиками и эсхатологами и беседовал наедине с лордом Николосом), ни разу не имел случая поговорить как следует с Бардо. Теперь, освободившись наконец, двое старых друзей встретились на лужайке у мерцающих стен Пилотского Колледжа и обнялись под ветвями глядящих на море незнакомых деревьев.
— Паренек, — Паренек, — приговаривал Бардо, молотя Данло по спине. — Я уж думал, нам так и не удастся поговорить.
Данло, несмотря на его высокий рост и недюжинную силу, казалось, будто он пытается обхватить гору. Хватая воздух (Бардо чуть не поломал ему ребра), он отступил немного назад, улыбнулся и сказал просто:
— Я… скучал по тебе.
— Нет, правда? Я тоже по тебе скучал. Слишком долго мы не виделись.
Бардо повертел головой, ища стул или скамейку, но Данло, не выносивший никакой мебели, уже плюхнулся на траву.
Бардо со вздохами и кряхтеньем уселся лицом к нему. Даже в Академии, где было вполне безопасно, он не снял своих налловых доспехов, и жесткие пластины панциря затрудняли его движения.
— Ей-богу, это чудо, что ты оказался тут! — Бардо, взмокший в своем налле, несмотря на прохладный вечер, вытер лоб. — Надо же такому случиться, что мы с тобой вышли из космоса чуть ли не одновременно, в тот же роковой час, придя сюда с разных концов галактики!
Энтузиазм Бардо и слова, которые он выбирал, как всегда, вызвали у Данло улыбку.
— Многие сочли бы это невероятным совпадением, — сказал он.
— А я тебе говорю, это чудо! Проклятущее чудо! У нас с тобой одна великая судьба — каких еще доказательств надо?
— В эти последние дни… я много думал о судьбе.
— Ты чувствуешь это, Паренек? — Глаза Бардо при свете радужных шаров на лужайке сверкали, как чернильные озера. — Это как звезда, притягивающая комету. Как красивая женщина, зовущая своего мужчину. Как… ну, словом, каждая твоя клеточка пробуждается и затягивает ту же песню, и эта песнь с ревом вырывается наружу, затрагивая каждый камень и каждую планету, пока вся чертова вселенная не загудит.
— Я всегда любил слушать, как ты говоришь, — сказал Данло. Бардо забавлял его, но и восхищал тоже.
— Сомневаться больше нечего — мы с тобой избраны для великих дел, и теперь самое время свершать их.
— Возможно. А может быть, мы сами это выбрали для себя. Из всего, что предлагает жизнь, мы, может быть, просто выбрали самый отчаянный вариант — из-за гордости, Бардо.
Бардо потряс головой, разбрызгивая с бороды капли пота.
— Твой отец однажды прочел мне стихи: “Судьба и случай — союз неминучий”.
Данло пристально смотрел на него. Никогда еще он не видел этого громадного человека таким оживленным — даже в ту упоительную ложную зиму шесть лет назад, когда Бардо вместе с Данло и Хануманом закладывал основы Пути Рингесса и все казалось возможным. Данло припомнил то, что говорил Бардо в Палате Лордов относительно коррупции, церкви и коварства сместившего его Ханумана. Искреннее Бардо не было человека, но правда жизни часто ускользала от него из-за склонности к самообману. Бардо хотелось верить, что он действует из самых чистых побуждений и служит другим, между тем как зачастую он служил только одному человеку — Бардо.
Истинным мотивом его путешествия на Тиэллу, по мнению Данло, явилось не желание спасти Цивилизованные Миры от злокачественной новой религии, которую он сам же и создал, а желание мести и славы. Бардо всегда считал, что родился великим человеком, а великие люди должны вершить великие дела. Но трагедия его жизни состояла в том, что ему никак не удавалось найти способ реализации своих сокровеннейших возможностей. В разные периоды он искал осуществления в математике, в женщинах, в богатстве, в наркотиках и в религии. Теперь кораблем, несущим Бардо навстречу его славной судьбе, должна была стать война, и в этом, возможно, заключалась самая большая трагедия.
— Знаешь ли ты, — произнес наконец Данло, — что Архитекторы Старой Церкви— по крайней мере ивиомилы — верят, будто Эде сам написал программу для вселенной и все наши действия входят в эту программу?
— Нет, я не знал.
— На Таннахилле одно только упоминание о случае — это талав, который наказывается очищением.
— Экие варвары! Чудо, что ты вырвался от них живым.
— Да, верно.
— Это чудо, но и нечто большее. Зондерваль подробно рассказал мне о твоем путешествии. Как ты входил к мертвым и погружался в собственное сознание глубже любого цефика. В тебе появилось что-то, чего я прежде не видел. Огонь и свет, как будто твои чертовы гляделки стали звездными окнами.
Данло посмотрел на небо, и его лицо приняло странное выражение. Бардо тем временем продолжал восхвалять его:
— А то треклятое хаотическое пространство в сердце Тверди? Как пилот ты смелее Зондерваля, Паренек, и лучше. Ты лучший после Мэллори Рингесса, а он был богом, черт его дери!
— Был, Бардо!
— Я хочу сказать, что он был богом в пилотском деле и мог привести свой корабль в любую точку вселенной.
Данло улыбнулся этому преувеличению. Ни один пилот, даже сам Мэллори Рингесс, доказавший, что между любыми двумя звездами существует прямой маршрут, никогда еще не выходил за пределы галактики Млечного Пути.
— Ты ничего нового о нем не слышал? — спросил Данло.
Так называемый Первый Столп рингизма гласил, что когда-нибудь Мэллори Рингесс вернется в Невернес. Данло, хотя и отвергал теперь все религии, все время думал о судьбе своего отца и ждал его возвращения — вместе с тысячами других.
— Нет, Паренек, к сожалению, не слыхал. Никто из пилотов, побывавших в самых разных местах, не видел его.
Данло запустил пальцы в холодную траву, слушая, как прибой далеко внизу набегает на берег. Близилась полночь, но пилоты и специалисты, по двое и по трое, продолжали сновать по дорожкам Академии. До Данло и Бардо доносились их тихие голоса.
— Когда-то, до своего ухода, — сказал Бардо, — твой отец говорил мне, что хочет снова отправиться в Твердь. Это должно было стать чем-то вроде мистического союза. Чем-то, что они бы создали вместе.
— Да, Твердь — страстная богиня, — со странной улыбкой заметил Данло. — Вся из огня, слез и мечты. Может быть, союз с человеком — как раз то, чего Она хочет.
Он не сказал Бардо, как Твердь пыталась удержать его на Земле, которую создала сама. Не сказал и о том, как Она хотела соблазнить его, сотворив Тамару Ашторет из воды, земных элементов и похищенных у него же воспоминаний:
— Зондерваль рассказал мне, что ты провел с Твердью много времени, и я подумал, что ты сам мог узнать что-то о своем отце.
— Она сказала только, что я найду его в конце своего пути.
— В Невернесе?
— Не знаю. Твердь всегда говорит загадками.
— Я все-таки верю, что твой отец вернется в Невернес. Его судьба там, а не в космосе, рядом с капризной богиней.
Данло молчал, глядя на незнакомые звезды над морем.
— А когда он таки вернется, то рассчитается со всеми! От него не ускользнет ни одно варварство, которое сотворил от его имени Хануман ли Тош, и город содрогнется от его гнева. Он покарает его, даже смертью, возможно, — твой отец, при всей своей доброте, перед убийством никогда не останавливался.
— Но разве ты не веришь, Бардо, что он теперь бог?
— А разве боги не убивают людей, точно мух, — да и друг друга тоже?
Данло вспомнил о победе Кремниевого Бога над Эде и сказал:
— Убивают, я знаю.
Некоторое время они, сидя под шелестящей серебристой листвой дерева и глядя на звезды, говорили о галактических богах, о судьбе, о войне и о прочих космических явлениях.
Потом Данло посмотрел на Бардо и спросил его о том, что было куда ближе его сердцу:
— Ты ее видел, Бардо?
— Кого, Тамару?
Данло промолчал, но его глаза, мерцающие при слабом свете, как жидкие сапфиры, ответили за него.
— Нет, не видел. Говорили, что она покинула город, и я не слыхал, чтобы она вернулась.
— Но куда же она отправилась?
— Не знаю. Может, это только слухи.
— Хануман никогда не заговаривал с тобой о ней? О том, что он с ней сделал? Не говорил, что память ей можно вернуть?
Бардо со вздохом опустил тяжелую руку на плечо Данло:
— Нет, Паренек, не говорил. Ты его по-прежнему ненавидишь, да?
В глазах Данло сверкнула молния.
— Он изнасиловал ее духовно! Разрушил ее память, Бардо! Всю ее благословенную память о том времени, что мы провели вдвоем.
— Ах, Паренек, Паренек.
Данло достал флейту, прижал костяной мундштук ко лбу, глубоко вздохнул и сказал:
— Но я… не должен ненавидеть. Я борюсь со своей ненавистью.
— Я тебя люблю за твое благородство, но сам постоянно раздуваю в себе ненависть к этому гаду ползучему — пусть наполняет мои жилы, как огненное вино. Так мне легче будет истребить его, когда время придет.
Данло покачал головой.
— Ты же знаешь, я не хочу, чтобы с ним случилось что-то дурное.
— А зря. Возможно, тебе следовало бы забыть свой обет и найти способ подобраться к Хануману поближе. И тогда…
— Что тогда?
— Убить его, ей-богу! Перерезать его лживую глотку или выдавить из него дух!
Данло при одном упоминании таких ужасов сам почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он стиснул флейту, как тонущий в черной ледяной воде хватает протянутую ему палку.
Но в следующий момент, осознав всю невозможность того, что предлагал Бардо, он расслабился и весело улыбнулся.
— Ты же знаешь, я никогда не причиню ему зла.
— Знаю, в том-то и горе. Потому нам и не обойтись без войны, ведь иначе его не остановишь.
— Но ведь остается, еще наша миссия, правда? Остается надежда избежать войны.
— Я помню, твой фраваши прозвал тебя Миротворцем, — . тихо засмеялся Бардо. — Но чтобы заключить мир, нужны две стороны.
— Все люди хотят мира.
— Это говорит твоя надежда. И твоя воля подчинить реальность мечтам твоего золотого сердца.
— У Ханумана тоже есть сердце; ведь он человек.
— Я в этом не уверен. Иногда мне сдается, что он демон.
Дaнло с мрачной улыбкой вспомнил дьявольские льдисто-голубые глаза Ханумана и сказал:
— Странно, но мне кажется, что он самый сострадательный человек, которого я встречал в жизни.
— Кто, Хануман ли Тош?
— Ты не знал его так, как я, Бардо. Когда-то, подростком и еще раньше, он был сама невинность. Это правда. Он родился с нежной душой.
— Что же его так изменило?
— Мир. Его религия, то, как отец усматривал негативные программы в малейших его провинностях и силой надевал на него очистительный шлем. Его изменило все это — и он сам. Никогда не видел человека, имеющего такую страшную волю менять самого себя.
— Знал бы ты своего отца, Паренек.
Данло ждал продолжения, глядя на темные отверстия своей флейты.
— Но твой отец в конце концов обрел сострадание, а Хануман его потерял. Один стал светочем для всей проклятой вселенной, а другой выбрал тьму, как слеллер, потрошащий трупы.
— Мне все-таки хочется верить, что надежда бесконечна для каждого.
Бесконечные возможности. Бесконечный свет, который живет во всех и во всем.
— Ну, надежда Ханумана на себя самого и правда бесконечна.
— Потому что он говорит, что хочет стать богом? Второй Столп рингизма гласит, что каждый человек может стать богом, следуя путем Мэллори Рингесса, и Хануман в этом стремлении ничем не отличался от миллионов других.
— Он не только говорит. Зачем, по-твоему, он разбирает луны на этот свой компьютер, который висит в космосе, точно маска смерти?
— Но ты же сам учил его, что путь к божественному пролегает через вспоминание Старшей Эдды.
— Я? Ну да, наверно. Но богом можно стать по-разному, так ведь?
— Не знаю.
— Когда его вселенский компьютер будет наконец закончен и Хануман к нему подключится, он станет все равно что бог. Станет как Твердь, только поменьше — для начала.
Твердь когда-то была воином-поэтессой по имени Калинда. Она добавляла нейросхемы к своему человеческому мозгу и постепенно разрослась так, что заняла несколько звездных систем.
— Он не первый, кто попытается это сделать.
— В истории Цивилизованных Миров — первый. И последний. Думаю, ему ничего не стоит уничтожить все миры от Сольскена до Фарфары.
Данло поднес флейту к губам, размышляя над всем, что сказал ему Бардо. Это верно: заражение Цивилизованных Миров рингизмом — наименьшее из зол, на которые способен Хануман.
— У Ханумана всегда была мечта, — тихо сказал Данло. — Прекрасная и ужасная.
— Что еще за мечта?
— Я… не знаю. Не до конца знаю. Раньше мне казалось, что я угадываю ее, как огни города сквозь метель. Ее краски. Он мечтает о лучшей вселенной, вот что. И о чем-то большем. Боюсь… что он стал бы не просто одним из богов, если бы мог.
— Ха! Что же может быть больше, чем чертов бог? Дальше и ехать некуда!
Но Данло уже закрыл глаза и выдул из флейты тихую протяжную ноту, как будто ушел в воспоминания о прошлом и будущем. В центре его внутреннего мрака распустился крохотный цветок света, который рос и рос, пока не заполнил собой всю вселенную сознания Данло.
— Он и обыкновенным-то богом не станет, — проворчал Бардо. — Мы этого не допустим.
Данло отложил флейту и взглянул на него.
— Не допустим?
— Мы остановим его. Плохо, конечно, что сами рингисты его не остановили, но он обдурил их, внушил, что Вселенский Компьютер нужен только для того, чтобы вспоминать Эдду.
Данло втянул в себя свежий ночной воздух и сказал:
— Ты веришь, что война способна изменить лицо вселенной. Да, верно: война — это очищающий огонь, от которого почти ничто не может спастись. Но что, если она опалит наши собственные лица, Бардо? Что, если мы проиграем?
— Проиграем? Что ты такое говоришь, ей-богу?
— Но у рингистов вкупе со Старым Орденом легких кораблей больше, чем у нас.
— Даже если удача отвернется от нас, Хануману все равно придется остановиться. Ты думаешь, Твердь, Химена и другие галактические боги позволят его компьютеру сожрать Цивилизованные Миры?
— У богов своя война. Наша деятельность для них не более заметна, чем для нас глисты в собачьем брюхе.
— Тут ты прав, пожалуй: на помощь богов полагаться не стоит. Положимся на ракеты, на лазеры и на собственную доблесть.
— Бардо, Бардо, нет. Всегда должен быть…
— Хочешь остановить Ханумана вот этим? — Бардо показал на флейту. — Он всегда терпеть не мог твою проклятую мистическую музыку, так ведь?
Данло не ответил, глядя, как играет звездный свет на золотом стволе флейты.
— Гордыни в тебе не меньше, чем в твоем отце. Все еще надеешься тронуть сердце Ханумана, так, что ли?
— Да.
— И Тамаре, если она найдется, все еще надеешься вернуть память.
Исцелить неисцелимую рану, подумал Данло. Зажечь свет, который никогда не гаснет.
— Мнемоники говорят, — сказал он, — что память можно создать, но нельзя уничтожить.
Бардо вздохнул, не сводя с Данло больших карих глаз.
— Для тебя опасно возвращаться в Невернес, Паренек. Зондерваль, по-моему, прав: тебе надо отказаться от своего обета и идти с нами на Шейдвег. В бою ты будешь сохраннее, чем в башне проклятого Хануманова собора. Пошли с нами! Твой отец был отчаянный вояка, и дед тоже — весь твой чертов род. Неужели ты не чувствуешь этого священного огня в себе? Почему ты не делаешь того, для чего рожден, ей-богу?
— Я… полечу в Невернес, — помолчав, сказал Данло.
— Что ж, ладно. Я так и знал. — Бардо широко зевнул, глядя, как звезды уходят на запад, за океан.
— Уже за полночь перевалило, — сказал Данло. — Надо, пожалуй, поспать.
— Поспать? После смерти высплюсь. До утра у меня еще полно дел.
— Правда? — Данло заглянул в его погрустневшие глаза.
— Я дал зарок не пить больше пива, так что, наверно, найду себе женщину. Пухленькую и безотказную. Я долго воздерживался — может, это вообще будет мой последний раз, кто знает.
Данло ждал, когда Бардо встанет, но тот прирос к земле, как скала.
— По правде сказать, мне неохота уходить от тебя, Паренек. Может, я и тебя в последний раз вижу.
У Бардо из глаз потекли слезы, а Данло засмеялся, вскочил и чуть ли не силой поднял Бардо на ноги.
— Я буду скучать по тебе, — сказал он, обнимая его.
— Ах, Паренек, Паренек.
— Но мы, конечно, еще увидимся, хотя бы нас разделяли миллион звезд и все легкие корабли Невернеса.
— Ты правда так думаешь?
— Да. Это… наша судьба.
Бардо в последний раз хлопнул Данло по спине и пошел к корпусам Академии искать себе женщину, какую-нибудь кадеточку, с которой успел завязать знакомство. Данло проводил его взглядом и стал ждать, когда над космодромом взойдет солнце.
Утром почти весь Новый Орден собрался на летном поле, чтобы проводить пилотов. Около девяти тысяч человек выстроились вдоль главной полосы, растянувшись на милю с обеих сторон. Парадные одеяния, переливаясь багрянцем, янтарем и кобальтом, трепетали на ветру, как флаги. Акашики, горологи, историки, цефики и мнемоники — все они считали для себя делом чести проститься с пилотами, которые шли на войну, чтобы защищать их. Их и извечную мечту Ордена: привести рассеянное среди звезд человечество к свету разума и яркому, несказанном пламени истины. Никто не знал, когда эти отважные пилоты вернутся назад. Никто не знал, что будет с Новым Орденом, если они вообще не вернутся, — и тем не менее гордость побуждала всех собравшихся не уступать пилотам в отваге и провожать их с радостными, улыбающимися лицами.
Другие жители Белого Камня тоже пришли полюбоваться редкостным зрелищем. Эти люди, насчитывающие около восьмидесяти девяти тысяч, были в основном пришельцами с Ашеры, Эште и Наэле, но в толпе встречались также архаты и художники с Сильвена, и даже инопланетяне присутствовали. Все они стояли позади академиков Ордена, одетые в самые разнообразные наряды от кафтанов до корребебов, и толкались, и вытягивали шеи, чтобы лучше видеть двести легких кораблей, сверкающих на утреннем солнце.
Сразу же, как рассвело, на космодром прибыл лорд Николос в блестящих красных санях и занял место посередине полосы. Здесь, перед рядами легких кораблей, собрались пилоты, чтобы получить последнее напутствие. Главный Пилот Зондерваль возвышался над ними, как черное дерево. Рядом, но старшинству принесенной ими присяги, стояли мастер-пилоты.
Первой шла Елена Чарбо с буйной гривой серебряных волос и бесстрашным лицом, за ней Карл Раппопорт, Аджа, Сабри дур ли Кадир и еще пятьдесят человек: Вероника Меньшик, Она Тетсу, Эдрея Чу Ричардесс, и Петер Эйота, и Генриос ли Радман, только недавно возвратившиеся из глубин Экстра. Последним в шеренге мастер-пилотов был, разумеется, Данло ви Соли Рингесс. Его темно-синие глаза смотрели на небо, на лорда Николоса и на толпы мужчин и женщин, обступивших полосу с востока и с запада. Он охотно обменялся бы парой прощальных слов с Ларой Хесусой и другими пилотами, стоящими позади, но лорд Николос уже приготовился говорить и ждал только, чтобы горожане угомонились.
Чуть сбоку на полосе стояли еще два человека, которые не были пилотами Ордена: Демоти Беде, Главный Неологик в одежде цвета охры, и Пешевал Лал, более известный как Бардо. Последний в былое время мог бы стоять на месте Зондерваля или неподалеку от него, но ему не забыли отречения от орденских обетов. Впрочем, он остался великим пилотом, даже став отщепенцем, и угнанный им корабль, “Меч Шивы”, стоял в строю со всеми остальными. Бардо, как и все пилоты, был одет в черное — в налловые доспехи и шешиновый плащ.
Непонятно было, достиг ли он прошлой ночью своей цели, поскольку его лицо имело такое же серьезное, суровое выражение, как и у всех. Он обменивался многозначительными взглядами с Демоти Беде, которому предстояло в качестве посла и пассажира лететь на корабле Данло. Через несколько мгновений оба они покинут этот прекрасный, приветливый мир и разойдутся в разные стороны: Бардо на войну, Демоти в Невернес, чтобы эту войну предотвратить.
— Тише, время пришло! — провозгласил горолог в красной форме из рядов академиков. Другие подхватили его возглас, и вдоль поля зазвучало: — Тише, время пришло.
Настала тишина, и лорд Николос своим ясным, спокойным голосом обратился к пилотам. Он напомнил им о смысле пилотского звания и о принесенных ими обетах, особенно о четвертом, предписывающем сдержанность. В грядущие дни, сказал он, сдержанность понадобится им прежде всех других достоинств, даже таких, как мужество и вера.
— Наш Орден был основан, чтобы просвещать людей, а не воевать с ними. Мы, хранители несказанного пламени, не воины и никогда не будем ими. Однако может случиться так, что нам придется некоторое время действовать как воины. И мы должны выполнять эти действия, ясно сознавая, что нам дозволено и что нет.
Лорд Николос призвал их воздерживаться от войны всеми средствами и до последней возможности. Данло и лорду Беде нужно дать шанс договориться с Хануманом ли Тошем. Нужно постараться достичь мира одной только демонстрацией своей мощи — этой цели прежде всего и должны служить их легкие корабли. Если же злые ветры судьбы все-таки вынудят их сражаться, пусть они применяют насилие только к вражеским пилотам и их боевым кораблям. Нельзя нападать на торговые суда и на планеты, поддерживающие Путь Рингесса.
Особенное ударение лорд Николос сделал на соблюдении закона Цивилизованных Миров. На легких кораблях не должно быть ядерных бомб и другого оружия массового уничтожения.
Недопустимо заражать планетарные системы связи информационными вирусами или уничтожать их логическими бомбами.
Цель этой войны должна быть ясна им, как кристалл: во-первых, помешать Хануману ли Тошу использовать Старый Орден для распространения рингизма в Цивилизованных Мирах. Старый Орден по возможности следует вернуть к прежнему мировоззрению, восстановив вековой запрет относительно связей с какой бы то ни было религией. Во-вторых, они любой ценой, не щадя даже собственной жизни, должны уничтожить Вселенский Компьютер Ханумана. В этом лорд Николос призвал пилотов поклясться своей честью и жизнью.
Когда они принесли эту клятву, он напомнил им, что в древности пилот назывался кормчим, и пожелал всегда находить верный путь между рифами гордости и водоворотами самообмана к истине, вечно сияющей на горизонте. Свою речь он закончил общей молитвой о даровании пилотам наивысшего из всех навыков их ремесла, а именно прозорливости.
— Я очень желал бы отправиться с вами, — сказал в заключение лорд Николос, — но поскольку это невозможно, я желаю вам удачи. Летите далеко и возвращайтесь домой.
Он низко поклонился, и пилоты ответили ему на поклон, а после во главе с Зондервалем разошлись по своим кораблям. Демоти Беде затратил некоторое время, чтобы занять пассажирский отсек на корабле Данло и приготовиться к старту. Когда он устроился в спальной ячейке, а лорд Николос и все остальные отошли на безопасное расстояние, Мастер Поля дал сигнал к отлету. Легкие корабли один за другим понеслись вдоль полосы между толпами провожающих.
У космических кораблей, само собой, нет шасси, и им не обязательно разбегаться, чтобы взмыть в синеву неба, но пилоты хотели продемонстрировать свое мастерство во всем блеске.
Первым в воздух поднялся Зондерваль на серебристой черной “Первой добродетели”, за ним Елена Чарбо на “Жемчужине бесконечности”, и “Монтсальват”, и “Голубая роза”, “Ясная луна” и “Августовская луна”, “Стрелец” и все остальные, как бриллианты на ожерелье, уходящем с земли в небеса.
Грациозная “Снежная сова” была лишь одним бриллиантом из двухсот, составляющих ожерелье. Данло довольно скоро предстояло расстаться со своими братьями и сестрами, но чувство общей цели, бьющее в его крови, связывало его с другими пилотами. Крутящийся голубой шар Тиэллы остался внизу, и перед Данло раскрылся мультиплекс. Данло вошел в ревущие глубины вселенной, и отныне им, как и двумястами других, руководили только его прозорливость и его сердце.
Глава 4 ШЕЙДВЕГ
Мы называем наш сектор галактики Цивилизованными Мирами и верим, что ищем идеального состояния человеческой культуры, без варварства и войн. Если это так, что должны мы думать о Летнем Мире с его серебряными рудниками, где применяется рабский труд? Можем ли мы считать его цивилизованным? И как быть с Катавой, где Архитекторы Реформированных Церквей используют священные очистительные компьютеры, чтобы калечить умы собственных детей? Как быть с Самумом, с Утрадесом и так далее, и так далее?
Правда в том, что понятие цивилизации нам пришлось сделать до предела узким. Цивилизованными считаются те, кто чтит Три Закона. В чем же суть этих законов? Она проста: мы обязуемся ограничивать свой технический прогресс. Быть цивилизованным значит жить в гармонии с окружающей средой, как положено человеку от природы.
Итак, Цивилизованные Миры — это ничего больше, как три тысячи сфер из воды и почвы, где человек решил остаться человеком.
Хорти Хостхох. “Реквием по хомо сапиенс”Сейчас пилоты Нового Ордена шли назад через те же самые звезды, по которым прошли всего за несколько лет до этого времени. Эта дистанция их пути, от Тиэллы до Фарфары, была наиболее короткой, но они затрачивали много времени, чтобы преодолеть даже несколько сотен световых лет между такими звездами, как Наталь и Акаиб: мультиплекс под Экстром изменчив, как зыбучий песок, и маршруты, только что составленные, могут оказаться бесполезными в следующий момент. Однако Зондерваль в полном порядке провел свой корабли мимо Кефиры, Чо Чуму, Реи Лос и других воспаленно-красных светил.
Удача или сама судьба благоприятствовала им: на этом первом переходе от окна к окну между предательскими звездами у них не пропало ни одного пилота. Однажды, когда они шли через складку Данлади, образованную взрывом свежей сверхновой, “Ибис” Оны Тетсу чуть было не исчез в бесконечных сериях сгибов. Но Она с огромным присутствием духа, свойственным всему ее знаменитому роду, нашла маршрут, который вывел ее к Двойной Бирделле, очередной паре звезд в намеченной Зондервалем последовательности. Там Она дождалась остальных, и все это с таким хладнокровием, как будто это не ей грозила участь быть раздавленной, как ребенку, попавшему между двумя бешено хлопающими листами пластика.
Многие пилоты предпочли бы доказать свое мастерство, прокладывая маршруты самостоятельно, но Зондерваль приказал им держаться вместе, а такое, как с Оной, мало с кем случалось. Так они и шли через Экстр — эскадрой, всегда оставаясь в одном и том же звездном секторе. Они миновали Ишвару, Стиррит и Сейо Люс, прохладное желтое солнце, похожее формой и цветом на Звезду Невернеса. Миновали Калкин, Вайшнару и вышли наконец к Саттве Люс, ярко-белому шару во внутренней оболочке Экстра. Отсюда им оставалось всего несколько звезд до Рененета и Акара. Потом будут Шока и Савона — а там они выйдут из внешней оболочки Экстра, и перед ними откроется путь на Фарфару и звезды Цивилизованных Миров.
Здесь, у самой границы мощного гравитационного поля Саттвы Люс, им встретилось очень опасное фазовое пространство. Вернее, не встретилось, а накатило на них. Некоторые из оставшихся в живых пилотов описывали это как землетрясение, другие толковали о кипящем масле и о разлетающихся вдребезги рядах дискретных множеств. Данло, попавшему в самую гибельную часть этого пространства, представлялось, что он только что плыл по спокойному голубому морю, а в следующий момент над ним навис огромный вал, переливающийся всеми красками от рубиновой до фиолетовой. Он едва успел найти маршрут к белому карлику близ Рененета. Другие оказались не столь удачливыми (или искусными). В тот день погибли трое пилотов: Рикардо Дор, Лаис Блэкстон и Мидори Асторет на своей знаменитой “Розе Невернеса”. Никто не мог знать, каким увидели мультиплекс они в свой последний момент, но другие соглашались, что побывали в одном из коварнейших за всю свою жизнь математическом пространстве, и порадовались, когда Зондерваль распорядился устроить у Шоки привал, чтобы воздать почести погибшим.
Когда много дней спустя они добрались наконец до Фарфары, многим захотелось совершить посадку, как сделали они на пути в Экстр. Пилотам хотелось снова ощутить землю под ногами, постоять в саду Мер Тадео под звездным небом, попить огненного вина и поговорить о славных подвигах. Но Зондерваль не дал на это разрешения. Здесь начинаются Цивилизованные Миры, сказал он, и существует возможность, хотя и маловероятная, что пилоты Невернеса вдруг вынырнут из мультиплекса, как стая хищных птиц, и уничтожат их корабли, пока они сами будут на планете.
— Пора нам начинать мыслить стратегически, — заявил он. — Мы должны смотреть на себя не как на путешественников, нуждающихся в передышке, а как на солдат в боевых условиях.
Возможность войны не была новостью для Мер Тадео дар ли Марара и прочих торговых магнатов Фарфары. Друзья Бардо из Содружества Свободных Пилотов уже успели, как он и говорил, посетить самые значимые Цивилизованные Миры и оповестить их о Шейдвегском сборе. Содружеству требовались корабли, роботы, запасы воды и провизии, а также люди, вооруженные лазерами, тлолтами или хотя бы ножами. Фарфара не имела никакого, военного опыта, как, впрочем, и большинство Цивилизованных Миров. Торговая элита этой богатой планеты к рингизму была настроена оппозиционно и потому отправляла на Шейдвег, помимо провизии и огненного вина, двадцать тяжелых кораблей. Каждый из них имел на борту десять тысяч наспех обученных солдат, негласно вооруженных лазерами и нейтронными бомбами. Корабли сопровождали семьдесят две каракки, очень похожие на легкие корабли Ордена, но менее изящные, с корпусами из черного налла и пилотами, владевшими математикой ровно настолько, чтобы прокладывать маршруты по хорошо известным звездным каналам. В битве одних легких кораблей с другими они могли оказаться скорее помехой, чем подмогой, но Зондерваль тем не менее поблагодарил фарфарцев и отдал их пилотам приказ: следовать в мультиплексе за легкими кораблями, насколько хватит умения.
С Фарфары эскадра двинулась на Фрипорт, где к ней примкнуло еще десять тяжелых кораблей и тридцать восемь каракк. Такое же количество кораблей прибавилось к ним на Веспере и Ваканде. Их путь пролегал через самую старую систему каналов, через Киттери, Скалу Ролло и Нварт — миры, колонизированные задолго до Потерянных Веков, когда первая волна Роения достигла наивысшего подъема. Далеко не все из этих миров поддерживали миссию Нового Ордена.
Многие, как Итуга и Макис, предпочли сохранить нейтралитет, другие, в силу вековых традиций, оставались верны Старому Ордену, а в рингизме видели течение, способное избавить их от тысячелетнего застоя. В отдельных злосчастных мирах произошел раскол: одна их половина стояла за рингизм, другая противилась этой преступной религии. Дзесиро и Редстон в то время, как эскадра дошла до них, находились на грани гражданской войны.
Такая же ситуация сложилась и на Фосторе. Фосторцы прославились на все Цивилизованные Миры тем, что создали Кремниевого Бога. Многие из них до сих пор стыдились этого преступления, поправшего все Три Закона, и готовы были жизнь отдать за то, чтобы подобное больше не повторилось.
Но другие обитатели этого холодного, темного мира до, сих пор жили во власти давней мечты. Их, как их предков пять тысяч лет назад, раздражали жесткие рамки Трех Законов.
Они, правда, не желали строить еще один божественный компьютер, представляющий потенциальную угрозу для Цивилизованных Миров и для самих звезд галактики, но идея, что они сами могут сделаться богами, пришлась им по сердцу.
Эти новоявленные рингисты, самые рьяные из всех, ратовали за отмену Трех Законов и за превращение Цивилизованных Миров в райскую обитель, где каждый свободен стать богом.
Как можно достичь этого эволюционного чуда, никто толком не понимал, но все верили словам миссионеров Ханумана: чтобы воссиять подобно звездам, надо вынести огонь, страдание, а в конечном счете и войну.
Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда. Эскадра Нового Ордена, взяв на Монтиэре еще пятьдесят каракк, продолжала двигаться через мультиплекс, и Данло в кабине своего корабля предавался воспоминаниям. Когда-то в одну долгую ночь, в Невернесе, он стоял на морозе и слушал, как Хануман говорит эти слова тысячам ликующих людей. Как можно обновиться, не превратившись сначала в пепел?
За последние тысячелетия случались и другие попытки вырваться за пределы Трех Законов и изменить лицо человечества. В самом конце Пятой Ментальноcти анархисты с Фосторы сделали Алкмит миром, где возможно было все. Николос Дару Эде совсем не случайно родился на Алкмите и там же поместил свое сознание в компьютер, став впоследствии одним из крупнейших богов галактики.
Воины-поэты с Кваллара, научившись заменять части человеческого мозга компьютерными нейросхемами, развернули настоящий террор с целью обратить других в свою веру.
Они могли бы переписать Три Закона, чтобы без помех калечить дух и тело человека, но Орден Ученых, как он назывался тогда, воспротивился им под руководством несгибаемого Хранителя Времени. Первая война с квалларцами едва не погубила Орден, но при помощи легких кораблей и маневров в мультиплексе он в конце концов навязал воинам-поэтам мир.
Кваллар согласился на многие ненавистные ему ограничения в области мыслительной техники, но за семь тысяч лет после Третьих Темных Веков не раз нарушал это соглашение.
Это напряжение всегда чувствовалось в каждом из Цивилизованных Миров, думал Данло в тишине своего корабля: человеку всегда втайне хотелось порвать старые путы и обернуться лицом к чему-то новому. Человек нуждается в новизне, как птенец талло в свежем мясе, но в Третьем Законе сказано верно: человек, слишком долго глядящий в глаза компьютера, не может остаться человеком. Как же быть? Если люди не хотят уподобляться кремниевым машинам, куда обращать им взгляд в поисках нового лица, человеческого и в то же время свободного от тоски и гордыни, так долго клеймивших его? Никто этого не знает. Никто никогда не знал, ни первые хомо сапиенс, глядевшие на звезды в тоске по бесконечному свету, ни воины-поэты, ни боголюди с Агатанге.
Много было, однако, пророков, понимавших, что необходимость развиваться есть самым глубокий и самый страшный из человеческих мотивов. Хануман ли Тош — лишь наиболее новая из этих пылающих головешек, но он религиозный гений. Больше того — он человек со страшной волей к судьбе.
А самое, пожалуй, важное, что он принес Путь Рингесса в галактику в то самое время, когда в людях назрела готовность поджечь свои миры и обратить цивилизацию в пепел — все что угодно, лишь бы как-нибудь обновиться.
Страшная необходимость, думал Данло, следуя через Цивилизованные Миры. Страшный свет — люди не знают, что заключено внутри них самих.
Наконец легкие корабли, а с ними тяжелые корабли и каракки дошли до звезды Мадеус Люс на краю Рукава Ориона. Этот бело-голубой фонарь освещал им дорогу в более темные пространства, через которые им предстояло пройти. От Шейдвега их отделяло каких-нибудь двадцать звезд. Пилоты продвинулись к звездной группе Ионы, где получили подкрепление на планете Шаторет, и приготовились к переходу на Шейдвег.
Для Данло это был самый длинный и бедный событиями отрезок пути. У Шейдвега он, согласно приказу лорда Николоса, должен был распрощаться со своими собратьями и в одиночку идти к сгущениям Рукава Стрельца и к Невернесу, но на данном этапе ему почти нечем было себя занять. Мультиплекс между двумя Рукавами галактики ровен, как лист кованого золота. Данло мог бы, конечно, беседовать с лордом Беде, но старый лорд в пассажирском отсеке либо спал, либо входил в ускоренное время, в котором корабельный компьютер замедляет мышление, как мороз — древесный сок, и время для человека движется куда быстрее, чем в реальности.
Данло ограничивался разговорами со своим образником.
Голографический Эде, лысый, с черными глазами мистика, парил, точно призрак, в темноте корабля. Данло давно надоели его предостережения относительно опасностей мультиплекса и его постоянно высказываемое желание вернуть себе тело и снова стать человеком. Но слова, отключающего занудливую машину, Данло не знал, да и одиночество среди звезд порядком ему наскучило, делая желанным почти всякое общество. Иногда Эде даже веселил его. Однажды, когда они прошли мимо огненно-белого дублета, Эде в тысячный раз напомнил ему, что ивиомилы, возможно, идут через те же самые звезды, чтобы уничтожить Невернес.
— И у них мое тело, пилот. Если они взорвут солнце Невернеса и уйдут к ядру, как же я получу назад свое тело?
— Мы не дадим им взорвать солнце Невернеса, — в тысячный же раз ответил Данло.
— Хоть раз бы еще ощутить мир через мое тело.
— А потом? Что ты будешь делать со своим возвращенным телом?
Лицо Эде выразило механическую грусть.
— Буду пить лучшие огненные вина, греться на песочке у Астаретского моря, нюхать розы, буду страдать, плакать и играть с детьми. Хорошо бы еще влюбиться.
Обычно у них этот разговор дальше не шел, но Данло был в игривом настроении и потому спросил:
— А вдруг твое тело не захочет больше быть телом?
Эде произвел несколько компьютерных операций (или подумал) и спросил в свою очередь: — Что ты имеешь в виду?
— Твое тело пролежало замороженным три тысячи лет, так?
— Только две тысячи семьсот сорок пять.
— Мой друг Бардо однажды умер, — улыбнулся Данло, — и его заморозили всего на несколько дней. Когда криологи его разморозили, он обнаружил, что утратил некоторые свои способности.
— Какие?
— Он утратил способность… иметь дело с женщинами.
— Но у меня с этим никогда затруднений не было.
В сущности, Николос Дару Эде в своем человеческом облике был слишком поглощен своими компьютерами и восхождением к божественному состоянию, чтобы уделять любви углубленное внимание. Но если говорить о сексе, то он не зря был основателем величайшей религии человечества: как и у большинства таких харизматических лидеров, его постель пустовала редко.
— У Бардо их тоже не было, — заверил Данло. — Но когда его вернули к жизни, его копье перестало подниматься.
— Значит, при размораживании моего тела надо будет принять меры, чтобы мое копье осталось поднятым.
— Осталось?
— Разве я не рассказывал тебе о моем преображении?
— Ты рассказывал, как копию твоего мозга перенесли в вечный компьютер, а тело заморозили.
— Да-да, но что я делал до того, как перенес свое сознание в компьютер и стал богом?
— Откуда же мне знать? — Данло улыбнулся, живо представив себе, как толстый голый Эде занимается любовью с тремя красотками, на которых женился в утро своего великого преображения.
— Перед тем как преобразиться, мне захотелось побыть мужчиной в последний раз, и я лег в постель с тремя моими новыми женами. Но я перевозбудился — наверно, из-за напитка кури, который приготовила мне Амарис, — и во время преображения оставался, боюсь, в эрегированном состоянии.
Данло уже с трудом сдерживал смех.
— Ты приступил к преображению с копьем, торчащим в небеса, да?
— На мне было просторное кимоно, пилот, так что этого никто не видел.
— Но ведь когда ты умер… то есть когда программисты разобрали на части твой мозг и ты перешел, как тебе казалось, к высшей форме жизни, разве физическое возбуждение твоего тела не прошло?
— Мое преображение длилось всего девять с половиной секунд, пилот.
— Да? Я думал, гораздо дольше.
— Ну, торжественная церемония, конечно, заняла несколько часов — великие события требуют великой помпы, тебе не кажется?
— Да, наверно.
— Я приказал криологам заморозить меня в тот самый момент, когда мое преображение завершится. За девять с половиной секунд мое копье явно не успело опасть.
— И в таком-то виде Вселенская Кибернетическая Церковь сохраняла тебя на протяжении стольких веков?
— Меня заморозили прямо в кимоно. Все было вполне пристойно.
Тут Данло не выдержал и расхохотался, а потом сказал:
— Нет, в религии все-таки много смешных сторон. И как это одни люди могут поклоняться другим? Даже такому вот лысому толстячку — его кладут в гробницу, а у него торчит, как у сатира.
— Твои слова оскорбительны, пилот.
— Ну извини, пожалуйста.
— Архитекторы кибернетических церквей поклоняются не человеку, а чуду моего преображения в бога.
— Понятно, понятно.
— Но еще большим чудом будет, если мы вернем мое тело и оживим меня во плоти.
— Да, конечно.
— Ты поможешь мне вернуть мое тело, правда, пилот?
— Я же обещал, что помогу.
— Даже если мое копье больше не поднимется, мне все-таки хочется обнять женщину.
Данло закрыл глаза, вспоминая, как обнимал Тамару Ашторет в лучах утреннего солнца.
— Да. Я понимаю.
Эде, как будто из уважения к внезапно наступившему молчанию, заговорил лишь долгое время спустя: — Пилот?
— Да?
— Что стало с копьем Бардо потом? Он вернул себе свою, силу?
— Да, вернул. Он нашел средство. Бардо теперь больше Бардо, чем когда-либо прежде.
— Я рад за него. Без женщин мужчине плохо.
Данло открыл глаза и воззрился на печальный светящийся лик Эде. Впервые он слышал, как голограмма выражает сочувствие человеку.
— Мне хочется верить, что мы вернем твое тело, — сказал он. — Когда-нибудь, в конце пути, ты увидишь свою благословенную человеческую плоть.
Другие их беседы носили более злободневный характер.
Маленький светящийся призрак бога, как выяснилось, довольно хорошо разбирался в военном деле. Вычислив скорость, с которой их флот набирал корабли, он заметил, что у Зондерваля скоро возникнут проблемы с координацией и командованием.
Так и вышло, когда на Скамандре они неожиданно получили пятьдесят пять тяжелых кораблей и девяносто две каракки. Даже лучшим пилотам Ордена трудно было обеспечивать координацию движения, в мультиплексе, но Зондервалю, как единственному командиру, приходилось еще труднее.
Он должен был помогать чужим пилотам прокладывать маршруты через эти взвихренные пространства. Первым побуждением надменного Главного Пилота было просто бросить весь этот сброд, предоставив им самим отыскивать дорогу на Шейдвег. Время торопило его, как надвигающаяся зимняя буря, и он сомневался, что тяжелые корабли и каракки будут полезны в бою. Вероятно, он действительно бросил бы их, оставив им несколько легких кораблей в качестве эскорта, но тут произошло событие, сделавшее такую стратегию невозможной.
Случилось это сразу же после того, как они вышли в реальное пространство у красно-оранжевого гиганта под названием Улладулла. Легкие корабли, соблюдая четкий порядок, собрались у точек выхода всего в нескольких миллионах миль от короны Улладуллы. Но каракки и тяжелые корабли, выходя из мультиплекса, расползались в космосе, как вши на черном войлоке. Зондервалю, как всегда, пришлось ждать, когда они скорректируют свои маршруты и присоединятся к легким кораблям. На это, как всегда, требовалось время, и Зондерваль считал секунды с раздражением купца, отсчитывающего золотые сборщику налогов. Но на этот раз перегруппировка заняла куда больше нескольких секунд, ибо чуть ближе к звезде, наполовину скрытые ее ярким сиянием, затаились пять легких кораблей Старого Ордена.
Их атака была столь стремительной, что ни Зондерваль, ни другие пилоты, кроме одного, не запомнили названий этих кораблей. Ясно было, однако, что пришли они из Невернеса.
Любой корабль, открывающий окна в реальное пространство и обратно, вызывает в мультиплексе колебания, как камень, брошенный в стоячий пруд. Умелый пилот, если он находится достаточно близко, способен прочесть эти слабые колебания и довольно точно определить маршрут чужого корабля.
Если же к определенной звезде следует сразу много кораблей, вычисление их вероятностного маршрута требует значительно меньше умения, поскольку пертурбации сливаются в хорошо заметный поток.
Если пилоты Невернеса знали о сборе у Шейдвега (а они должны были знать), им было проще простого разделиться и устроить засады в наиболее вероятных каналах, ведущих к этой планете. Одна из этих засад почти неминуемо должна была обнаружить бурную реку, образованную флотом Зондерваля. Это действительно было очень просто, но и глупо тоже — так по крайней мере решил Зондерваль, прикидывая степень опасности разных путей к Шейдвегу. В мультиплексе каналов много, как гладышевых ходов в лесу, и командиру невернесского флота пришлось бы раздробить свои силы на очень мелкие группы.
Если бы целью этой атаки был разгром Нового Ордена, расчеты Зондерваля оказались бы верными, но целью этих пяти кораблей был только террор и ничего более. Легким кораблям Зондерваля, собственно, ничего не грозило, как и основной массе тяжелых кораблей и каракк. Зато те, что отбились от стаи, оказались в смертельной опасности. Корабли Старого Ордена обрушились на них со стороны солнца, как ястребы на китикеша. Пользуясь тактикой, разработанной в Пилотской Войне, невернесцы фактически составляли маршруты за своих жертв — смертельные маршруты. Пространственно-временные двигатели легких кораблей открывали окна в мультиплекс и бросали тяжелый корабль или каракку в туннель, ведущий прямо в середину ближайшей звезды. Подобный маневр занимал всего несколько мгновений. Меньше чем за девять с половиной секунд пилоты Невернеса, шныряя в мультиплекс и обратно, как световые иглы, послали на огненную гибель в сердце Улладуллы два тяжелых корабля и тринадцать каракк. Затем они исчезли так же быстро, как появились, и ушли в мультиплекс к далеким звездам.
Этот молниеносный рейд ошеломил флот Зондерваля.
Почти никто не ожидал такой катастрофы — ведь оба Ордена еще не находились в состоянии войны. Только у одного пилота хватило сообразительности (или отваги), чтобы отомстить.
Это был Бардо, доказавший свое мастерство еще в Пилотскую Войну. Увидев, с какой легкостью невернесцы уничтожили пятнадцать кораблей, он крикнул им вслед:
— Варвары проклятые! Они же беспомощны, как младенцы! Сколько народу загубили, эх, горе! С этими словами он прорвал своим “Мечом Шивы” окно в черной ткани мультиплекса и скрылся.
Вернувшись к Улладулле триста секунд спустя, он обнаружил, что Зондерваль наконец собрал воедино свои разбросанные силы, и представил краткий отчет о походе. По световому радио он сообщил Зондервалю и всем пилотам легких кораблей (только им одним) о том, что произошло за время его недолгого отсутствия. В кабине “Снежной совы” явилась из воздуха голограмма Бардо, и зычный голос сказал:
— Кораблей пять, и все разбежались в разные стороны. Пришлось выбирать кого-то одного. Мне повезло, ей-богу! Один еще не вышел из пределов досягаемости, и я сумел быстро выйти на радиус сходимости. Я достал его у горячей голубой звезды в пяти световых годах от Улладуллы. Маррим Масала на “Золотом ромбе”, вот это кто. Нет корабля уродливее этой посудины с прямоугольными крыльями и таким же хвостом. То есть не было — я его отправил прямиком в звезду, что поделаешь. Но я об этом не жалею, потому что он сам убивал невинных. На Пилотской Войне он убил Лаэлу Шатаре, и нет ему за это прошения.
Поединок Бардо с Марримом Масалой был таким же, как всякий бой между двумя легкими кораблями: напрягающим нервы, свирепым и быстрым. Корабли Бардо и Маррима, как два сверкающих в ночи меча, выскакивали из мультиплекса и уходили обратно, ища благоприятный вероятностный маршрут. Бардо как более хитрый и лучший математик через сто десять секунд этих стремительных маневров одержал наконец верх. Предугадав точку выхода “Золотого ромба” в реальное пространство, он проложил насильственный маршрут, и “Меч Шивы” отворил окно в мультиплекс. В это окно и ушел “Золотой ромб” — навстречу адскому пламени горячей звезды.
Так погиб один пилот Старого Ордена против пятнадцати пилотов Цивилизованных Миров — и двадцати тысяч солдат на двух тяжелых кораблях. Эти солдаты, будучи совершенно беспомощными, не были, однако, невинными жертвами, как утверждал Бардо, — это были взрослые люди, и отправлялись они на войну. Никто, впрочем, не думал, что окажется на ней так скоро. Гибель “Калиски” и “Элламы Туэт”, двух транспортов с Веспера, достигла своей цели и терроризировала флот Зондерваля. Пятьдесят пять тяжелых кораблей и девяносто две каракки со Скамандра ушли бы домой немедленно, если бы их пилоты не боялись, что невернесцы перехватят их на обратном пути. Ради успокоения малодушных, чересчур цивилизованных чужих пилотов — и ради их защиты — Зондерваль тут же на месте произвел реорганизацию командования.
Легкие корабли перестали составлять отдельную группировку (других судов после атаки Старого Ордена осталось 1268).
Зондерваль разделил двести своих кораблей на десять боевых отрядов, каждый из которых возглавлял мастер-пилот, командующий двадцатью легкими кораблями — а также десятками тяжелых кораблей и каракк, приданных его отряду. Теперь легкие корабли, по сути, выполняли роль овчарок, не давая своему стаду разбегаться и охраняя его от волков.
Капитанами отрядов Зондерваль назначил мастер-пилотов, сражавшихся вместе с ним в Пилотскую Войну: Елену Чарбо, Аджу, Карла Раппопорта, Веронику Меньшик, а также Ричардесса, Эдрею Чу, Ону Тетсу, Сабри дур ли Кадира и Аларка Утрадесского на знаменитом “Паромщике”. Десятым капитаном Главный Пилот мог бы сделать Маттета Джонса, Палому Младшую или еще двадцать человек, но он удивил почти всех, поставив командиром Десятого отряда Бардо. Он объяснил пилотам по радио причину этого странного решения: Бардо, хотя и не принадлежит больше к Ордену, является, возможно, самым талантливым военным пилотом из всех мастеров. Зондерваль объявил его лучшим тактиком после самого себя. Бардо, по его словам, обладал быстрым умом и отвагой, что доказывала недавняя погоня, в которую он пустился. В пилотских способностях Бардо никто не сомневался, но Петер Эйота и Запата Карек не думали, что он способен командовать другими, да еще в боевых условиях. А Дарио Ашторет настаивал на том, что отщепенец не вправе даже рядом стоять с другими пилотами, не говоря уж о командовании ими. Но Зондерваль, человек практичный и властный, пресек все споры. Капитаном Десятого отряда будет Бардо, сказал он, — и точка.
До Шейдвега флот дошел без дальнейших происшествий.
Шейдвегом называлась прохладная оранжевая звезда, расположенная точно посередине между двумя рукавами галактики. Ее название означало “перекресток”, чему она была обязана не только своим местонахождением в центре Цивилизованных Миров, но и своему знаменитому плотному пространству, где сходились миллионы каналов мультиплекса. До того, как Ролло Галливар открыл еще более плотное пространство у Звезды Невернеса, Шейдвег служил топологическим узлом галактики, единственной звездой, у которой пилот мог найти каналы к любой другой.
Шейдвегом звалась также и единственная планета этой звезды, бело-голубая сфера с глубокими океанами и обширными гористыми континентами. Это был старый мир, населенный двумя миллиардами людей. Со своими многочисленными космодромами и роботизированными заводами он идеально подходил для назначенного Бардо сбора.
— Похоже на то, пилот, что война все-таки будет, — сказал голографический Эде в темной кабине “Снежной совы”. — Никогда еще не видел столько кораблей.
Данло, глядя в свои алмазные иллюминаторы, видел то же, что и другие: полторы тысячи кораблей Зондерваля смешались с уже собравшимся здесь огромным флотом. В космосе висели тяжелые корабли с Темной Луны и Сильвапланы и каракки из тысячи разных миров. Сольскен прислал двадцать крейсеров, и эти чудовищные, великолепные военные машины медленно вращались во мраке пространства. Сто корветов пришло с Ультимы, шестьдесят — с Двойной Радуги, Новые корабли прибывали то и дело, высыпав из мультиплекса, как снег из выколачиваемого плаща. Они приходили с Фьезоле, с Авалона, с кибернетизированных Ании, Хоши, Ньювании и с многих других планет. Всего Данло насчитал около тридцати тысяч — корабли нависали над Шейдвегом тучей, сверкая алмазом и черным наллом.
Легкие корабли, однако, составляли лишь малую часть этого войска. Двести (за вычетом пяти погибших) пришло с Тиэллы, где к ним присоединилось еще сто десять, взбунтовавшихся против невернесского безумия. В Содружество Свободных Пилотов входили те люди, с которыми Бардо штурмовал Пещеры Легких Кораблей и которые затем разлетелись по Цивилизованным Мирам, чтобы призвать к войне. Ими командовал Кристобль на “Алмазном лотосе”, а младшими командирами он назначил мастер-пилотов Алезара Эстареи и Саломе ву вей Чу. Они любезно встретили своих собратьев из Нового Ордена, но между обеими группировками сразу же возник холодок. Кристобль, остроглазый, львиного облика человек, заявил Зондервалю, что душа сопротивления рингизму — это именно они, Содружество Свободных Пилотов.
— Именно нам выпало стать свидетелями того, как рингизм расползается по галактике, — сказал Кристобль на совместном радиосовещании пилотов Тиэллы и Невернеса. — Это мы обошли все Цивилизованные Миры, чтобы собрать сюда все эти корабли и войска. Мы же дали имя той силе, которая отныне будет противостоять рингистам Ханумана ли Тоша. Здесь собралось Содружество Свободных Миров, и возглавить его следует нам.
В предводители Содружества Свободных Пилотов Кристобль без стеснения предложил себя, хотя создателем этой организации был Бардо. Услышав это, Бардо взъярился.
— Гадина! Предатель! — загремел он в кабинах трехсот легких кораблей. Его смуглое голографическое лицо побагровело, кулак молотил по ладони. Кристобль, тоже крупный мужчина, рядом с Бардо сразу начинал казаться маленьким — как на голограмме, так и в реальности. — Кто собирал Свободных Пилотов у себя в доме, когда все остальные скулили и ссылались на указ лорда Палла, воспрещающий сборища? Кто дал организации это название? Кто возглавил атаку на Пещеры Легких Кораблей? Бардо! Бaрдо, и никто другой!
— Мы воздаем должное твоим заслугам, — с ухмылкой ответил ему Кристобль, — но ты, похоже, уже нашел себе место — под началом у Зондерваля.
Тут во всех кабинах появилась голограмма Зондерваля с лицом твердым, как горный гранит.
— Бардо — пилот-капитан двадцати легких кораблей, — сказал он Кристоблю, — и ста двадцати других судов.
— При всем при том он остается отщепенцем, — ввернул Кристобль.
Лицо Зондерваля приняло такое выражение, точно перед ним был червячник или инопланетянин особенно отвратительной наружности.
— Когда обращаешься ко мне, Кристобль, будь любезен добавлять “Главный Пилот”.
— Ты не мой Главный.
— Ну понятно — ты ведь подчиняешься Сальмалину Благоразумному. (Так звали нынешнего Главного Пилота Старого Ордена.)
— У меня вообще нет Главного Пилота.
— В таком случае ты заслуживаешь имени отщепенца не меньше, чем Бардо.
— Ошибаешься. Мы, члены Содружества, сохраняем дух Ордена. Истинного Ордена, еще не испорченного рингизмом.
— Я чту этот дух — но ты, видимо, решил назначить себя Главным Пилотом Содружества?
Тогда в пользу Кристобля высказались сразу несколько пилотов Содружества: Вадин Стил, Рогана Утрадесская и Келеман Мудрый. Данло, как, наверно, и всем остальным, стало ясно, что они отрепетировали это заранее, узнав, что Бардо успешно добрался до Нового Ордена.
— Если Содружеству действительно нужен Главный Пилот, то им должен быть только я! — рявкнул Бардо.
— Вопрос в том, нужен ли он Содружеству? — спокойно вставил Ричардесс, когда Бардо умолк. С виду хрупкий, как ярконское стекло, он оставался единственным пилотом, дерзнувшим проникнуть в пространства Химены. — У нас уже есть Главный Пилот, и превосходный — Зондерваль. Почему бы пилотам Содружества просто не примкнуть к нам?
— А почему бы пилотам Нового Ордена не примкнуть к нам? — задал встречный вопрос Кристобль.
— Потому что вы отщепенцы! — заявил Запата Карек.
— А вы не имеете никакого понятия о том, что творится сейчас в Невернесе, — отпарировал Вадин Стил.
— А вы рветесь к власти, как скутарийская шахиня.
И пилоты обеих групп начали препираться, как послушники, не могущие выбрать капитанов хоккейных команд.
Каждая новая реплика прибавляла Данло злости. В другое время их ребячество позабавило бы его, но сейчас на тонкой нити их взаимопонимания висело слишком много жизней.
Время уходило, как сдуваемый ветром песок, и Данло не терпелось продолжить свой путь, но он чувствовал, что вопрос с предводителем Содружества должен быть решен до того, как он приступит к своей посольской миссии. Демоти Беде, которого Данло вывел из полусна ускоренного времени, соглашался с ним. Непредвиденный оборот событий порядком шокировал старого лорда.
— Это просто безумие! — восклицал он тонким старческим голосом, плавая в кабине “Снежной совы” вместе с Данло. — Если не принять мер, мы начнем воевать не с рингистами, а между собой.
— Это верно — что-то надо предпринять, — подтвердил Данло, одетый в парадную шелковую форму. — И раз уж мы называемся послами и миротворцами…
— Само собой разумеется, что отколовшиеся от Ордена пилоты должны присоединиться к нам, — сурово заявил Беде, известный приверженец традиций. — И принести присягу Новому Ордену.
Тут Данло все-таки улыбнулся. В космосе вокруг них собрались тысячи кораблей Цивилизованных Миров, но Кристобль, Зондерваль и лорд Беде вели себя так, будто только пилоты обоих Орденов что-то здесь значили. Какое право они имеют распоряжаться судьбой тридцати тысяч кораблей и миллионов людей у них на борту, спрашивал себя Данло?
Лорды и мастера, видимо, думают, что они, решив спор о Главном Пилоте, будут распоряжаться этими силами, как новогодними подарками в ярких обертках — или, еще точнее, как той колонной, которую Зондерваль эскортировал на Шейдвег. Если же Зондерваль с Кристоблем так и не смогут договориться, обе группировки легких кораблей будут воевать независимо друг от друга — или сразятся друг с другом за то, кому достанется этот огромный флот, парящий в космосе при свете холодного оранжевого солнца.
— Я должен поговорить с пилотами, — сказал Данло лорду Беде. На время он отключил радио, и в кабине стало тихо. — Наша междоусобная борьба, наше чванство друг перед другом — это шайда.
— У вас есть какой-то план, пилот? — спросил лорд.
Данло кивнул и поделился с ним своим планом.
— Прекрасно, — улыбнулся Беде. — Если хотите попытаться остановить войну, можете начать прямо сейчас.
И Данло присоединил свой голос к какофонии, наполняющей кабины трехсот пяти легких кораблей. Как мастер-пилот он имел такое же право голоса, как и все прочие. Его голограмма появилась среди других изображений. Данло успел прославиться как пилот, вышедший из хаотического пространства, и покоритель Экстра — а может быть, все дело было в его темно-синих глазах. Так или иначе, другие пилоты умолкли и стали его слушать.
— Мы, пилоты, — начал он, — всегда считали, что воплощаем собой дух Цивилизованных Миров. Но нам никогда не приходило в голову становиться их правителями. Содружество Свободных Миров! В чем оно, наше содружество, если мы обзываем друг друга, словно варвары? И где свобода, если эти миры просто ждут, когда другие прикажут им воевать? Разве они, имеющие дома и детей, рискуют меньше нашего? Если мы не сумеем остановить эту войну, они будут гибнуть, как снежные черви, застигнутые солнцем, по тысяче или по миллиону человек на каждого погибшего пилота. Это правда. Где же их свобода самим выбирать свою судьбу? Легких кораблей у нас триста пять. За своим иллюминатором я насчитал в сто раз больше других кораблей. Может быть, мы предоставим их пилотам выбрать, кто поведет их на войну?
Многие пилоты сразу уловили смысл в словах Данло. Мало кто из них хотел воевать в виде двух отдельных Орденов, и осложнения, к которым мог привести спор Кристобля с Зондервалем, вызывали общую тревогу. Зондервалю, однако, очень не хотелось предоставлять такое важное решение столь неполноценным существам, как народы Цивилизованных Миров. С другой стороны, он был проницателен, и дальновидность пересиливала в нем даже высокомерие. Поэтому он с тщательно разыгранным недовольством обменялся понимающим взглядом с Данло и дал согласие на его предложение.
Только Кристобль и несколько его ближайших друзей выступили против, но прилив страстей — прилив истории — больше не благоприятствовал им. Двести пятьдесят пилотов стукнули алмазными кольцами по твердым предметам в кабинах своих кораблей, утверждая за Содружеством Свободных Миров право самому решать свою судьбу.
Почти никто не сомневался в том, какое решение примет Содружество — если оно вообще способно было что-то решить. На орбите Шейдвега находилось более тридцати тысяч кораблей, и в них помещалось как минимум пять миллионов человек, представляющих тысячу Цивилизованных Миров.
Среди этих людей были принцы и гуру, эталоны, старейшины и архаты. Многие, возможно, пожелали бы командовать флотом сами, но у всех, кроме Маркомана Сольскенского и принца Генриоса ли Аиггорета, хватило ума признать, что в мастерстве они уступают даже самым младшим пилотам Ордена. Поэтому дебаты сосредоточились в основном на том, кого выбрать Главным Пилотом Содружества — Зондерваля или Кристобля. (Рассматривались также кандидатуры Елены Чарбо и других мастер-пилотов, не столь тщеславных, как эти двое.) Некоторые утверждали, что голос в этом вопросе должен иметь каждый боец Содружества; другие находили это нечестным, поскольку отдельные миры прислали к Шейдвегу больше пятидесяти тяжелых кораблей с тысячами солдат на борту, а многие смогли выделить лишь несколько десятков каракк; эта партия стояла за то, чтобы предоставить по голосу каждому миру.
Здесь не хватило бы места, чтобы описать все извилистые пути, по которым это множество людей из множества миров пришло наконец к решению. Только через шестнадцать дней они договорились, что голосовать будет каждый мир, а не каждый человек. Выборы Главного Пилота заняли гораздо меньше времени; им, как и надеялся Данло, стал Зондерваль.
Никакой авторитарной власти ему при этом не предоставлялось. Он назначался только военачальником в том случае, если войны избежать все-таки не удастся. Решение о том, быть войне или не быть, Содружество примет большинством голосов, и все решения по ключевым вопросам стратегии — тоже.
В случае победы над рингистами условия мира с Невернесом тоже определит Содружество.
То, что основную долю власти получило Содружество, имело глубокие последствия. Это ограничивало Зондерваля в навязывании своей воли подчиненным, но, по сути, укрепляло его лидерство, поскольку способствовало созданию боевого братства, только начавшего распускаться, как редкий цветок, между многочисленными мирами. Чем прочнее это чувство между теми, кто может вместе пасть в бою, между ведущими и ведомыми, тем прочнее и войско. Это тоже входило в план Данло. Многие благодарили его за то, что он разрешил тупиковую ситуацию между Кристоблем и Зондервалем, сыграв тем самым роль акушера при рождении истинного Содружества Свободных Миров.
Но когда лорд Беде тоже поздравил его с блестящим дипломатическим успехом, Данло ответил странно.
— Это верно, я помог закрыть брешь между двумя нашими пилотскими Орденами, — сказал он лорду (и Эде тоже), зажимая рукой шрам-молнию у себя на лбу.
— Даже Кристобль смирился с неизбежным, — запрограммированно улыбаясь, заметил Эде.
— У него не было другого выхода, учитывая проявленное Зондервалем великодушие, — сказал лорд.
Зондерваль, став командующим, предложил Кристоблю и другим невернесским пилотам принести присягу Новому Ордену. Кристобля и Алезара Эстареи он сделал капитанами вновь сформированных отрядов, Одиннадцатого и Двенадцатого, и даже объявил Кристобля своим советником во всех вопросах стратегии и тактики. Последняя должность, принимая во внимание характер Зондерваля, обещала остаться чисто номинальной, но оказанная ему честь все-таки немного утихомирила буйного Кристобля.
— Все вышло, как вы надеялись, — добавил Демоти Беде, теребя родинку у себя на щеке. — Даже принц Генриос согласился подчинить свои корабли Алезару Эстареи — слыханное ли дело, чтобы принц Толикны слушался простого мастер-пилота!
— Да, — согласился Данло, — в Содружестве теперь установился мир.
— Почему же вы тогда так печальны?
Данло, глядя в иллюминатор на тридцатитысячный флот над Шейдвегом, ответил:
— Может быть, мир, который я установил в Содружестве… послужит только войне.
— Возможно и такое, пилот. Но укрепленное вашими стараниями Содружество может способствовать и тому, что войны не будет вовсе, — разве нет?
Но Содружество уже вступило в войну — так по крайней мере утверждали Сабри дур ли Кадир и многие другие. Засада рингистов и уничтожение ими пятнадцати кораблей были, бесспорно, враждебными актами — с какой же стати Содружеству притворяться, что мир еще возможен? Можно ли полагаться на то, что весь рингистский флот не появится вдруг из черных лесов мультиплекса? Следует ли самим пилотам Содружества воздерживаться от уничтожения рингистских кораблей, если такой случай представится?
— Надо напасть на них до того, как они нападут на нас, — сказал Сабри дур ли Кадир на совещании, в котором участвовали все тридцать тысяч кораблей. Его лицо чернотой и резкостью черт напоминало обсидиан. — Надо как можно быстрее составить план кампании, а затем атаковать.
Много голосов, однако, подавалось и в пользу мира. Данло и лорд Беде говорили, что Содружеству следует продемонстрировать свою силу и тем отбить у рингистов желание воевать; Макара с Ньювании, известный архат, предлагал отнестись к рейду рингистов как к досадной случайности. Онен Найати, эталон с Веспера, либо трус, либо очень мудрый человек, объяснял всем, что война с рингистами — это безумие: все равно, мол, как если бы ястреб налетел на орла. Такие речи, разумеется, побуждали к постоянному сравнению сил беих сторон.
Содружество включало в себя тысячу миров, оппозиционно настроенных к рингизму. К нему же можно было причислить четыре инопланетных мира: Даргин, Фравашию, Элидин и Скутарикс, но они не шли в счет, поскольку никогда не послали бы свои корабли на человеческую войну. Около четырехсот миров оставались нейтральными, столько же вело внутрипланетную гражданскую войну за то, на чью сторону стать. Выходило, что рингистов поддерживает 1202 мира, в том числе наиболее богатые и могущественные из всех Цивилизованных: Утрадес, Яркона, Асклинг, Небесные Врата, Арсит и другие. По оценке Онена Найати, они были способны собрать не менее тридцати пяти тысяч кораблей. Легких орденских кораблей, этих сверкающих мечей ночи, у лорда Сальмалина, по словам Кристобля, имелось 451.
Итак, перевес был на стороне врага, учитывая в особенности то, что в битве один легкий корабль стоит двадцати каракк, если не больше. Пилоты и принцы Содружества скорее всего решили бы повременить с войной, но тут случилось нечто, заставившее их взглянуть на вещи более широко и напомнившее им, что цели вселенной намного масштабнее человеческих.
83-го числа ложной зимы по невернесскому времени из мультиплекса над Шейдвегом вышел одинокий легкий корабль “Роза бесконечности”, пилотируемый Аррио Верджином, мастером Старого Ордена. Вернее, бывшим мастером. Вернувшись в Невернес после нескольких лет странствий и увидев, что рингисты фактически поработили пилотов, которых он уважал всю свою жизнь, Аррио бежал на Шейдвег. Туда он прибыл с поразительной новостью: он сообщил, что стал свидетелем битвы богов. Ближе к ядру, за Морбио Инфериоре, где плотные звезды похожи на фейерверк, был убит бог по имени Чистый Разум. Лунные доли его огромного мозга рассыпались в светящуюся пыль. Аррио рассказал, что там уничтожен целый звездный сектор и космос пылает непостижимо ярким светом, созданным освободившейся энергией пространства-времени.
Радиация этого апокалипсиса превышает мощность сотни сверхновых. Подобная техника, сказал Аррио, доступна только богам, но он не знает, зачем одному богу понадобилось убивать другого. Когда Данло передал ему рассказ Тверди о войне богов, он сказал:
— Может быть, этот ужас сотворил Кремниевый Бог, а может, кто-то из его союзников — Химена или Дегульская Троица. Мы этого, наверно, никогда не узнаем, но последствия происшедшего испытаем на себе в полной мере.
Первым и весьма устрашающим последствием, по словам Аррио, было то, что взрывы у Морбио Инфериоре вызвали в пространстве-времени нечто вроде кипения, известного как экспансия Данлади. Канторы Ордена, допускавшие подобный кошмар лишь гипотетически, иногда именовали это явление также волной Данлади. Для этих чистейших из чистых математиков оно было не более (или не менее) реально, чем псевдотороид или бесконечное дерево решений, но Аррио Верджин уподоблял его могучему валу, от которого едва удалось уйти его “Розе бесконечности”. Эта волна все еще катилась через мультиплекс, направляясь к Рукаву Стрельца. Скоро она дойдет до звездных каналов Цивилизованных Миров, сделав их столь же предательскими, как пространства Экстра.
— Мы должны приготовиться к невероятным искривлениям, — сообщил Аррио флоту. — Волна Данлади вызовет пертурбации во всем мультиплексе, пока не уйдет к крайним звездам.
Второе последствие гибели Чистого Разума заключалось в том, что это событие подтолкнуло Содружество к войне. Даже пилоты легких кораблей вспомнили, что их власть — ничто по сравнению с громами и молниями богов. Галактические боги — Ямме, Маралах или Химена — уничтожают целые созвездия с такой же легкостью, как Архитекторы Старой Церкви — одну-единственную звезду. Если богов раздразнить, их гнев может пасть на любой из Цивилизованных Миров — Прозрачную, Летний Мир, Лешуа и Ларондиссман. Или на Невернес. Боги могут счесть строительство Вселенского Компьютера покушением на их божественную власть, как заметил Кристобль.
Эсхатологи обозначают подобные прорывы человека к высшему состоянию словом “хакариада”. Хакариады за последние десять тысяч лет случались в галактике часто, и немало войн завязывалось, чтобы остановить эти трансцендентальные события. Боги, как говорят, ревнивы и не терпят общества себе подобных. Если Кремниевый Бог усмотрит в действиях Ханумана хакариаду, он может уничтожить Звезду Невернеса — и в придачу еще сто соседних, наподобие солнц Авалона, Кваллара и Сильвапланы. Отсюда, по словам Кристобля, следовало, что Содружество должно уничтожить компьютер Ханумана до того, как это сделают боги. Это их первостепенная цель, и ради ее осуществления они должны немедленно начать войну с Невернесом.
Представители почти всех миров, составивших флот Зондерваля, соглашались с логикой Кристобля. Итогом их голосования, занявшего всего два дня, стало официальное объявление войны. 85-е число ложной зимы 2959 года от основания Невернеса стало началом Войны Богов, как назвали ее впоследствии.
В ту же ночь, когда Данло готовил “Снежную сову” для перехода в Невернес, Зондерваль пригласил его к себе. Оба алмазных корабля подошли друг к другу на орбите, соприкоснувшись бортами, и Данло перешел на “Первую добродетель”, став первым пилотом, которому любящий уединение Зондерваль оказал подобную честь. Данло плавал в темноте его довольно обширной кабины, глядя на нейросхемы, окружающие их с Зондервалем мягким пурпурным коконом. Зондерваль, торжественный, в парадной форме, оказал ему радушный прием.
— Здравствуй, пилот. Я рад, что ты сумел уделить мне время.
— Спасибо, что пригласили меня.
— Это я должен тебя благодарить. — Зондерваль играл довольно крупной бриллиантовой пряжкой, приколотой к черному шелку его комбинезона. — Мы могли бы лишиться Кристобля и других, если бы не твоя прозорливость. И я стал бы Главным Пилотом значительно меньшего числа кораблей.
— Но ведь никто не мог знать, как проголосует Содружество, — улыбнулся Данло. — Главным Пилотом могли выбрать Кристобля, а не вас.
— Случай благоприятствует смелым — мы видим это на твоем примере, Данло ви Соли Рингесс.
Данло коротко наклонил голову, глядя на блистающие в широкой улыбке безупречные зубы Зондерваля, и сказал: — Ваш флот и так не слишком велик.
— Да, тяжелых кораблей и каракк у нас несколько меньше, чем у рингистов, зато командование ими налажено лучше.
— А легкие корабли?
— У рингистов их в полтора раза больше, но не забывай, что все лучшие пилоты ушли с нами в Экстр. Самые лучшие и самые смелые, пилот.
— Как вы в себе уверены.
— Я рожден для войны — думаю, это моя судьба.
— Но на войне может случиться самое страшное.
— Опять-таки верно — и потому я все-таки остановил бы ее, будь это можно.
— Должен быть какой-то способ остановить ее. Должен.
— Увы. Войну легче предотвратить, чем остановить ее, когда она уже началась. Твоя миссия будет не из легких.
— Да.
— Даже добраться до Невернеса тебе будет трудно.
Данло кивнул и сказал: — Но я все-таки доберусь. И поговорю еще раз с Хануманом. Это моя судьба, Главный Пилот. Прошу вас только: дайте мне время. Хануман охвачен огнем, как талло, подлетевшая слишком близко к солнцу, и мне понадобится время, чтобы охладить его душу.
— Этого я обещать не могу. Мы двинемся к Невернесу, как только сможем.
— Как скоро?
— Напрямик нам туда не дойти, и кораблям потребуется какой-то срок, чтобы освоить нужные мне маневры. Но это будет достаточно скоро, пилот. Постарайся ускорить свое путешествие.
— Понятно.
Зондерваль долго смотрел на Данло своим твердым, спокойным взглядом и наконец сказал: — Знаешь, я тебе не завидую. Не хотел бы я быть на твоем месте, когда ты предложишь Хануману, чтобы он разобрал свой Вселенский Компьютер.
Данло невесело улыбнулся, но промолчал.
— Возможно, будет лучше, если условия Содружества изложит ему лорд Беде.
— Как скажете, Главный Пилот.
— И если ты каким-то чудом добьешься успеха, заставив Ханумана внять голосу разума, сообщи мне об этом как можно скорее.
— Но как мне найти вас, когда флот покинет Шейдвег?
— Да, это проблема, не так ли? — Зондерваль потрогал свою пряжку и вздохнул. — Я мог бы дать тебе координаты звезд, через которые намерен следовать к Невернесу.
Данло молча ждал, считая удары своего сердца. На десятый раз Зондерваль сказал:
— Да, пилот, мог бы, но это было бы неразумно. Случайности войны могут изменить наш маршрут. Кроме того…
— Да?
— Шансы на то, что ты договоришься с Хануманом, не слишком велики. Зачем мне отягощать тебя информацией, которая тебе скорее всего и не понадобится?
— Да… понимаю.
— Это информация первостепенной важности. Если лорд Сальмалин будет знать наш путь следования, он подкараулит нас и уничтожит.
Данло молча ждал, глядя на Зондерваля, стиснувшего тонкими пальцами бриллиантовую пряжку.
— И все-таки я решил дать тебе эту информацию — возможно, она удержит нас от сражения, в котором не будет необходимости. А помимо нее, я дам тебе еще кое-что.
С этими словами Зондерваль бесконечно осторожно отколол свою пряжку, защелкнул булавку и передал ее Данло.
Сердце Данло отстучало двадцать раз, а он все смотрел на это блестящее украшение, сидящее на его ладони, как скорпион.
— Спасибо, Главный Пилот. — Данло всего лишь отдавал дань вежливости, но в его голосе прозвучала ирония — и страх.
— Если твоя миссия провалится и тебя арестуют, не позволяй акашикам прочесть твое сознание. И не дожидайся, когда тебя станут пытать.
— Вы правда думаете, что Хануман может…
— В некоторых случаях идти на риск просто глупо. Застежка отравлена матрикасом. Он убивает мгновенно, если ввести его в кровь.
— Понятно.
— Твоя ахимса не запрещает отнимать жизнь у себя самого, нет? Не убивай никого и не причиняй никому вреда, даже в мыслях…
— На этот счет существуют разные мнения, — сказал Данло.
— А ты как считаешь?
— Я… не выдам ваш маршрут.
— Прекрасно. — Зондерваль подошел к Данло, изогнул свою длинную шею по-лебединому и стал что-то шептать ему на ухо.
Сообщив Данло требуемое, он тут же отступил, как будто не мог выносить столь близкого контакта.
— Сейчас я поговорю по радио с лордом Беде, но ему я не скажу того, что сказал тебе.
— Почему? Ведь он лорд Нового Ордена?
— Он не пилот. Есть вещи, которые только пилотам следует знать.
Данло поклонился и задержал свой глубокий взгляд на Зондервале. Некоторое время они, окруженные тишиной космоса, смотрели друг другу в глаза и в душу, пока Зондерваль не отвел взор.
— Я был и прав, и не прав относительно тебя, — сказал он. — Не прав, потому что в качестве посла ты будешь нам очень полезен. А прав я в том, что и воин из тебя вышел бы отменный. В тебе это есть. Огонь, пилот, свет. На месте Ханумана я бы тебя боялся.
— Но… ведь это я буду зависеть от его милости.
— Возможно, возможно.
Зондерваль, перед тем как поклониться Данло в ответ, посмотрел на него странно. От предчувствия, нахлынувшего на него, точно океанская волна, глаза Главного Пилота подернулись туманом, и безупречно вылепленный подбородок слегка задрожал. Зондерваля, самого совершенного и невозмутимого из всех людей, Данло никогда еще не видел в таком состоянии.
— Удачи вам, Главный Пилот.
— И тебе того же. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся.
— Когда остановим войну, — улыбнулся Данло, — когда она закончится.
— Да. Когда она закончится. Лети далеко и счастливо, пилот.
Данло поклонился напоследок и вернулся на свой корабль.
Через несколько мгновений “Первая добродетель” и “Снежная сова” разошлись. Лорд Демоти Беде получил от Зондерваля последние указания, и “Снежная сова”, отделившись от тридцати тысяч других кораблей, удалилась в сторону красно-оранжевого солнца. Данло открыл окно в мультиплекс и приступил к заключительной части своего путешествия. Он возвращался домой, чтобы положить конец войне.
Глава 5 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Жизнь есть свет, заключенный в материи.
Формула гностиковЖизнь есть способность материи заключать в себе свет.
Формула эсхатологовПрокладывая свои маршруты от Шейдвега к Невернесу, Данло приходилось считаться с двумя противоположностями.
Принимая во внимание спешность его миссии, ему следовало бы идти кратчайшим путем, то есть через Арсит, Темную Луну и Даргин, а далее через Фравашию, Сильваплану и Кваллар к Невернесу, Но нельзя было забывать и о безопасности — как своей, так и лорда Беде: мертвые послы войн не останавливают. Рингисты уже вступили в войну, и одинокий легкий корабль, внезапно вышедший из мультиплекса близ враждебного мира наподобие Арсита, мог быть тут же атакован десятью другими. По этой причине Арсита и Кваллара следовало избегать — как и других миров, лежащих вдоль кратчайшего маршрута: рингисты и там вполне могли устроить засаду. Безопаснее всего было бы сделать круг мимо большого красного солнца Элидина, а после следовать через Флевеллинг, Неф, Самум и Катаву. Безопаснее, но и дольше всего. В конце концов Данло, которого друзья не напрасно прозвали Диким, остановился на более коротком маршруте. Но его дикость никогда не чуралась сквознячков здравого смысла, и поэтому для начала — не к Арситу, а к Агатанге, планируя подойти к Невернесу со стороны Кеншина или Тира.
Это путешествие было самым легким и самым трудным на его счету. Легким потому, что он шел через самую старую и проторенную часть каналов, чьи пространства были ему знакомы почти так же, как снежные острова его детства. Если волне Данлади, как утверждал Аррио Верджин, в самом деле предстояло скоро прокатиться по каналам и превратить мультиплекс в бушующее черное море, никаких признаков этого Данло пока не замечал. Мультиплекс впереди, со своими изумрудными инвариантными пространствами и Галливаровыми множествами, казался не опаснее лесного ручейка. Данло проходил знакомые звезды, Баран Люс и Пилиси, красный гигант, почти не уступающий красотой Оку Урсолы. Его, как всегда, восхищали цвета небесных светил — горячая голубизна, багрянец и самые красивые, бледно-розовые и золотистые оттенки. Ради одного этого стоило быть пилотом. Видеть звезду близко, точно висящее на дереве красное яблоко, — это совсем не то, что стоять на льду и смотреть в небо. Оттуда, с земли, почти все звезды кажутся россыпью белых бриллиантиков, потому что клетки человеческого глаза, проводящие слабый свет, не воспринимают красок, а цветовые рецепторы не реагируют на слабый свет звезд. Ребенком Данло хотелось подняться в небо, как снежная сова, и увидеть звезды такими, как они есть на самом деле. Когда-нибудь он еще надеялся взглянуть на все галактики вселенной подлинно открытыми и незащищенными глазами, но пока вполне довольствовался тем, что любовался Когилой Люс и Тур-Тупенгом сквозь иллюминаторы.
Трудность же путешествия заключалось в необходимости постоянно следить за мультиплексом. На протяжении многих дней Данло всматривался в подпространство с пристальностью птицы тиард, высматривающей червей на снежном поле.
Мультиплекс в окружающем корабль сегменте, известном как сектор Лави, всегда колышется, как ночное море под легким ветром. Эти колебания Данло игнорировал — он искал, надеясь, что не найдет никогда, признаков легкого корабля, этих лиловых пунктиров и светящихся полосок, возникающих, когда мультиплекс пертурбирует предмет наподобие “Алмазного лотоса”. Данло показалось, что он заметил нечто подобное, когда проходил вращающееся сгущение у Двойной Валески, и он перестал дышать на десять ударов сердца. Но более глубокое исследование показало, что это отражение пертурбаций самой “Снежной совы” — редкое, но уже описанное явление, при котором мультиплекс делается гладким, как горное озеро. Между Темной Луной и Сильвапланой Данло засек еще четыре таких явления (и два миража), и каждый раз сердце у него подкатывало к горлу, а в ушах стучала кровь.
— Ты уморишь себя, пилот, если будешь продолжать в том же духе, — сказал Демоти Беде, переместившийся на время в кабину. Ни один пилот, следующий через мультиплекс, не допустил бы, разумеется, такого вторжения в свое священное пространство — и мало кто согласился бы нарушить свое уединение. Но Данло, чтобы отдохнуть, вышел в реальное пространство близ Андульки и ничего не имел против недолгой беседы с Беде. Поэтому, поспав, он пригласил старого лорда в самый мозг своего корабля.
— Я хорошо выспался, — возразил он, зевая.
— Этого недостаточно. По моим подсчетам, за последние шестьдесят часов ты уделил сну всего шесть.
— Я не знал, что вы за этим следите.
— Надо же мне чем-то заняться. — Когда Беде говорил, его здоровые белые зубы украшали старое, как изрытая кратерами луна, лицо, и его искреннее участие согревало Данло.
— Я не могу спать, когда мы в мультиплексе, — сказал Данло, — и не рискую слишком часто выходить в реальное пространство.
Чужие корабли действительно вероятнее всего могли обнаружить его в те моменты, когда он открывал окна в мультиплекс или из него. Когда пространственно-временные двигатели “Снежной совы” разрывали сверкающую ткань мультиплекса, это всегда сопровождалось вспышкой света.
Другие пилоты через телескопы и даже невооруженным глазом могли засечь по этим вспышкам появление или уход легкого корабля.
— Но ты мог бы поспать подольше, — заметил Беде.
— Хорошо бы обходиться вовсе без сна, — сказал Данло, взглянув на голограмму Эде — этот, согласно своей программе, не спал никогда. И смолчать тоже не мог, если видел в чем-то угрозу своему долгому существованию.
— Лорд Демоти совершенно прав, — заявил он теперь. — Если твои силы будут истощены, ты можешь завести нас в псевдотороид.
Данло улыбнулся: Эде нахватался достаточно математики, чтобы рассуждать о мультиплексе, как пилот и живой человек.
— И что будет, если мы пересечемся с другим кораблем, а ты от усталости соображать не сможешь?
— Настолько усталым я никогда не бываю. — В детстве Данло однажды трое суток простоял с гарпуном у полыньи, дожидаясь, когда появится тюлень.
— Однако эта машинка задает хорошие вопросы, — вставил Беде. — Что мы будем делать, если столкнемся с легким кораблем из Невернеса?
— Или с десятью? — подхватил Эде.
— Понятия не имею.
— Ты не знаешь, что будешь делать, если мы встретим десять легких кораблей?
— Нет, не знаю. — Данло улыбнулся — он любил иногда поиграть с Эде. — Но часть пилотского мастерства состоит в том… чтобы знать, что делать, когда не знаешь, что делать.
— Почему бы нам не обсудить это заранее? — спросил Беде,
— Мне кажется, что в случае обнаружения у нас остается только два выхода: либо бежать, либо заявить о своей миссии и попросить, чтобы нас проводили в Невернес.
— Вы готовы довериться неприятелю? — спросил его Данло.
— Но ведь это пилоты Ордена, не какие-нибудь варвары.
— Эти пилоты тоже рингисты и ведут войну с Содружеством.
Беде судорожно втянул в себя воздух.
— Мы ничего не можем знать определенно, может быть, та засада около Улладуллы была случайностью или все произошло по инициативе пяти пилотов, устроивших рейд.
— Нет, — сказал Данло, закрыв глаза. — Это не было случайностью.
— Значит, ты решил бежать?
— Я ничего не решил.
— Как же ты будешь принимать решение в случае чего?
— Это будет зависеть от многого. От конфигурации звезд, от количества кораблей, от того, кто их будет вести. — И от графика N-мерных волн, бегущих по мультиплексу, подумал Данло, и от шепота солнечного ветра, если мы выйдем к какой-нибудь звезде.
Эде, в свою очередь, тоже захотелось поиграть с Данло.
— Ты полагаешь, что сможешь уйти от десяти легких кораблей?
— Почему нет?
— Во время твоего путешествия на Таннахилл Шиван ви Мави Саркисян гнался за тобой через весь Экстр.
— Это верно. — Данло хорошо помнил, как Шиван на своем “Красном драконе” следовал за ним, как призрак, двадцать тысяч световых лет, всегда держась на радиусе сходимости того сектора, где находилась “Снежная сова”. Пассажир и хозяин Шивана, Малаклипс, воин-поэт с Кваллара, надеялся, что Данло приведет его к своему отцу. Воины-поэты приняли новое правило, обязывающее их убивать всех потенциальных богов, и Малаклипс прошел полгалактики, чтобы найти Мэллори Рингесса.
— Так что же, пилот?
— В Невернесе нет пилота, равного Шивану ви Мави Саркисяну.
— Ты уверен?
Данло, конечно, не был уверен, но сказал, чтобы успокоить Эде: — Все лучшие пилоты ушли с Зондервалем в Экстр.
— И лучший из них находится здесь, перед тобой, — сказал Эде лорд Демоти. К достоинствам старого лорда принадлежало то, что он всегда защищал пилота своего Ордена от всех остальных, в особенности от проецируемой компьютером голограммы. — Думаю, что преследование Шивана только прибавило ему мастерства, не так ли?
— Возможно, — с улыбкой согласился Данло.
— Ну что ж, все ясно: если рингисты захватят нас врасплох, нам придется довериться твоему суждению и твоему мастерству. А теперь мы оставим тебя, чтобы ты поспал еще несколько часов.
— Нет. Надо открывать окно и идти дальше — и молиться, чтобы волна Аррио Верджина не обрушилась на мультиплекс на этом самом отрезке нашего пути.
“Снежная сова” миновала Аквену, пылающую, как плазменный факел, и углубилась в пространства чуждых миров Даргина и Фравашии. За весь этот бессонный период Данло не заметил ни приближения волны Данлади, ни признаков другого легкого корабля. Но он все так же не смыкал глаз и не давал уснуть более глубокому математическому зрению. Еще глубже горела память, торопящая его в Невернес. Он никогда не забывал, что алалои, его народ, медленно вымирают от неизлечимой болезни. Да, излечить ее нельзя никакими известными средствами, но, возможно, Данло несет лекарство от нее в себе самом, как эликсир света. Будет ужасно, если он, открыв этот секрет, прибудет домой слишком поздно.
Шайда-болезнь, или медленное зло, — это, разумеется, не единственное, что грозит алалойским племенам, и они не единственные на Ледопаде, кто может пасть жертвой неотвратимого рока. Если война придет в Невернес, город, как и большая часть планеты, может быть уничтожен ядерными бомбами. И Бертрам Джаспари со своими ивиомилами, возможно, движется к Невернесу в это самое время. На Таннахилле этот князь Старой Церкви туманно грозился положить конец гнусным измышлениям рингизма и очистить галактику от всех лжебогов. Имея моррашар, ивиомилы вполне могут уничтожить Звезду Невернеса, как уничтожили красное солнце нараинов в далеком Экстре.
Боги тоже способны разнести все космическое пространство близ Невернеса — если не намеренно, то случайно, в результате собственной войны. Говорят, что глубинные программы Кремниевого Бога не позволяют ему вредить человечеству напрямую, но для Данло это малоутешительно. Кремниевый, как и любой другой бог, достаточно умен, чтобы обойти этот запрет. А помимо богов, бомб и моррашара, остается еще звезда Меррипен, чей зловещий свет как нельзя более реален. Эта сверхновая появилась лет тридцать назад близ Абелианской группы, и все это время волновой фронт ее радиации идет через галактику. Скоро эта энергия смертельным ливнем обрушится на планету. Или жизнетворным? Никто, по сути, не знает, насколько интенсивна эта радиация и как поведет себя Золотое Кольцо, растущее в атмосфере Ледопада: быть может, оно просто поглотит этот космический свет и перейдет в новую фазу своей эволюции.
Порой Данло в темных ходах мультиплекса молился за эту новую жизнь, как молился за свой народ. Но порой ему казалось, что его слова имеют не больше веса против сил вселенной, чем шепот против зимнего ветра.
Продолжая свой путь к Сильваплане и Тиру, Данло вышел из мультиплекса у беспланетной звезды под названием Шошанге. Это был субкарлик, маленький, но с очень высокой плотностью, голубой и жаркий, как центральная звезда кольцевой туманности Лиры. Данло охотно полюбовался бы этим редким светилом, но при выходе из мультиплекса обнаружилось, что у Шошанге его поджидают семь легких кораблей. Увидев их в телескопы, Данло сразу опознал “Мечту кантора” с ее закругленными крыльями, и “Огнегаота”, и всех остальных.
Еще кадетом Данло выучил на память очертания всех легких кораблей Ордена, их названия и имена их пилотов. Тех пилотов, которые сейчас наблюдали выход “Снежной совы” из мультиплекса, звали Сигурд Нарварян, Тимоти Вольф, Шаммара, Марджа Валаскес, Ферни ви Матана, Тарас Мозвен и Тукули ли Чу. Кроме имен, Данло, к сожалению, мало что знал о них, поскольку никогда с ними не встречался. Только двое из них были мастерами: Сигурд Нарварян и Тукули ли Чу. Марджа Валаскес тоже вполне заслуживала этого звания, но всем известный злобный нрав мешал ее продвижению. Говорили, что на Пилотской Войне она уничтожила Севилина Орландо, когда он уже сдался ей, но это так и не было доказано.
Данло принял решение мгновенно, и этим решением было бегство. Закрыв глаза, он представил себе краски и контуры мультиплекса в ближнем пространстве, вслушался в шепоты своего сердца, подключился к корабельному компьютеру, и “Снежная сова” ушла в мультиплекс, как алмазная игла в океан.
Другие корабли, конечно, погонятся за ним, думал Данло.
Вот и хорошо — он уведет их во тьму, в самые дикие и странные пространства. В топологии звездных туннелей таких мест немного, но пузыри Флоуто, псевдотороиды и деревья решений найдутся везде. Есть, кроме того, редкие, но неизменно заводящие в тупик парадоксальные коридоры. Ни один пилот не сунется в эту слепую кишку по доброй воле — если его, конечно, не преследуют по пятам семеро других, желающих его прикончить.
Случай (или судьба) распорядились так, что подходящий коридор обнаружился как раз под Шошанге. Данло помнил его координаты по рассказу Зондерваля об одном путешествии, которое тот совершил в молодости, туннель вился и перекручивался вокруг себя самого, как змеиный клубок. “Снежная сова” исчезла в его отверстии — преследователям должно было показаться, что ее проглотило сразу двадцать темных разверстых ртов.
— Мы в опасности, да, пилот? Нас обнаружили? Не надо ли предупредить лорда Беде? — Эде, как всегда, не молчал, но когда Данло полностью подключался к компьютеру, открывая свое сознание ужасам и красотам мультиплекса, он почти не замечал назойливой голограммы. Лишь изредка, когда ему требовалось производить вычисления с молниеносной скоростью, просил он Эде помолчать. Вот и теперь, пока “Снежная сова” мелькала, точно светлячок, вылетающий из дюжины пещер разом, он поднял мизинец, требуя тишины. К несчастью, этот жест означал также, что им грозит смертельная опасность. Эде, наверно, усмотрел горькую иронию в том, что его заставляют молчать именно тогда, когда ему до зарезу необходимо выговориться.
О том, чтобы вывести Демоти Беде из ускоренного времени, Данло даже не помышлял. Точечная теорема Галливара, к которой он прибег, чтобы найти выход из перекрученного туннеля, поглощала все его внимание. Данло всегда воспринимал мультиплекс — как чувственно, так и математически — как переливающийся красками ковер. Логика и смысл открывались ему во всем: взять хотя бы то, как кармин пространства Лави разлагался на розовые, багровые и рыжеватые тона при подходе корабля к первому граничному интервалу. Но здесь, в этом взвихренном парадоксальном коридоре, логики почти не существовало. В один момент все поле зрения было густо-фиолетовым, в следующий по нему вдруг разливалась яркая желтизна, как из лопнувшего тюбика с краской. Случалось, что краски пропадали вовсе, и на месте сиюминутной пестроты оставалось только черное и белое.
При этом черное слишком часто мутировало в белое и наоборот, словно фон и силуэт на картинке. Дважды Данло казалось, что он вышел в более ровную и яркую часть мультиплекса, но туннель тут же смыкался снова, темный и извилистый, как медвежьи кишки. Данло не мог сказать, сколько времени провел в нем, но очередной маршрут наконец вывел его в простой сектор Лави; устрица, которую тюлень чудом выкашливает вон, не могла бы испытать большего облегчения.
— Мы освободились, да, пилот? — На пути к Таннахиллу Данло запрограммировал корабельный компьютер показывать Эде проекцию мультиплекса. На ней все математические тонкости выглядели геометрически и слишком уж буквально — сам Данло видел подпространство по-другому. Но Эде получал свою долю информации и не раз указывал Данло на опасность, которую тот мог проглядеть. — Мы оторвались от погони? Я не вижу признаков других кораблей.
Данло исследовал сектор с вниманием охотника, старающегося разглядеть белого медведя на снежном поле.
— Мы одни, верно? В пределах радиуса сходимости нет ни одного корабля.
Данло однажды объяснил Эде, что радиус сходимости за пределами сектора Лави стремится к бесконечности, что делает обнаружение другого корабля почти невозможным.
— Ты вышел из того жуткого места, как бы оно ни называлось, и теперь мы одни.
На миг Данло подумалось, что Эде прав. Некоторое время он исследовал аквамариновые глубины вокруг, выискивая малейшие проблески света. Он затаил дыхание, считая удары сердца: раз, два, три… а потом тихо проронил: — Нет, мы не одни.
В стороне, на самой границе сектора, зажглись две крохотные искры. Два легких корабля, как светящиеся семечки линфея, маячили на самом пределе радиуса сходимости.
— Где, пилот? Ага, вижу. Что это за корабли?
По одним только следам в мультиплексе опознать легкий корабль, разумеется, невозможно. Но Данло закрыл глаза и увидел, что к нему, точно сверлящие черви, близятся “Мечта кантора” и “Огнеглот”, ведомый кровожадной Марджей Валаскес.
— Что будем делать? Бежать?
“Снежная сова” уходила в мультиплекс все глубже, по направлению к звездам ядра, а Данло оглядывал мерцающую границу сектора в поисках других кораблей. Отсчитав еще десять ударов сердца, он ответил: — Да.
Корабль стал уходить в другие пространства — в инвариантные, и в сегментные, и в клейновы трубы, скрученные, как змея, глотающая собственный хвост. Четверо суток длилась эта погоня. Когда у Данло началось жжение в глазах и голову сдавило, точно ледниковыми глыбами, Эде напомнил ему, что долго без сна он не выдержит. Данло, с трудом разлепив высохшие, кровоточащие губы, ответил кратко и по делу: .. — Другие пилоты тоже.
Где-то за звездой под названием Двойная Альмира Данло потерял одного из преследователей. Полдня он шел через пространство Зеемана, плоское и зеленое, как луг, и . видел за собой только один корабль. Пройдя короткий, но особенно извилистый точечный туннель, из которого опять-таки вышла только одна искра, Данло убедился, что за ним гонится кто-то один.
— Стоит ли бежать дальше? — спросил Эде. — Ты так устал, что еде удерживаешь глаза открытыми.
Данло действительно устал, смертельно устал — он чувствовал эту усталость, как жгучую тошноту. И глаза он удерживал открытыми только для того, чтобы смотреть на голограмму Эде. Чтобы вести корабль, ему хватало зрительного центра в мозгу, куда корабельный компьютер подавал математические символы. Когда он закрывал глаза, это только прибавляло изящества его пилотированию. Входя в цифровой шторм, охватывающий его, как десять тысяч переплетенных радуг, Данло часто становился слеп ко всему окружающему, как новорожденный младенец.
— Так или этак, а я от него избавлюсь, — сказал он. Мерцающая рябь на границе его сектора пространства говорила о присутствии другого корабля, Данло был уверен, что это “Огнеглот”. Зондерваль говорил как-то, что Марджа Валаскес, при всей своей храбрости и свирепости, испытывает страх перед фазовыми пространствами.
Пока мультиплекс наливался нежной голубизной, как водный мир Агатанге, Данло отыскивал поблизости фазовое пространство, но оно никак не находилось. Впрочем, “Огнеглот” неизменно сохранял дистанцию, всегда держась на самой границе того сектора, через который проходил Данло.
— Эта Марджа Валаскес, пожалуй, будет не хуже Шивана, — сказал Эде. — Тот тоже не переходил границы на всем пути через Экстр.
Данло с угрюмой улыбкой потер саднящие, налитые кровью глаза, облизнул губы и ответил:
— Я много раз пытался отделаться от Шивана, но так и не смог. Даже в инверсионных пространствах Экстра. Между прочим, он мог бы в любой момент свернуть радиус и напасть на меня.
— А Марджа Веласкес — нет?
— Нет. Мне кажется, ей стоит большого труда не отставать от меня.
— И ты надеешься от нее оторваться?
— Я оторвусь, даже если еще десять суток спать не придется.
— Может быть, она лучше отдохнула до того, как началась эта гонка. Или взбадривает себя наркотиками.
— Я избавлюсь от нее в фазовом пространстве, если найду такое. Или в дереве Соли.
— Но ведь если ты войдешь туда, вероятностные маршруты могут сложиться не в твою пользу? Ведь ты подвергаешь себя большому риску, позволяя ей преследовать тебя?
— А разве у меня есть другой выбор?
— Можно выйти в реальное пространство и вызвать ее на переговоры.
— Нет, это не пойдет. Висеть около звезды, как голубь с подбитым крылом? Ведь мы же будем совершенно беспомощны.
— Почему бы тогда не поменяться ролями и не погнаться за ней?
При этих словах глаз Данло прошила острая боль, и он спросил: — Зачем это?
— Чтобы уничтожить ее, ясное дело! Сплясать с ней танец света и смерти, что вы, пилоты, так хорошо умеете делать.
Синие глаза Данло, устремленные на Эде, вспыхнули звездным огнем.
— Тогда по крайней мере ваши шансы уравняются, — продолжал голографический призрак. — И не только уравняются — ведь как пилот ты лучше ее, я уверен.
— Я не стану нападать на нее.
Руководящая Эде программа переключилась, очевидно, на режим убеждения: смуглое мясистое лицо голограммы исполнилось искренности, как у купца, продающего огневиты сомнительного качества.
— Ты дал обет, я знаю. Но разве по духу этот обет не служит жизни? Ты не должен причинять вред другому — но подумай, сколько вреда могут претерпеть другие люди, если ты дашь Мардже убить себя. Разве ты не выполнишь свой обет наилучшим образом, постаравшись добраться до Невернеса любой ценой?
— Нет, — сказал Данло.
— Один-единственный раз, пилот, — об этом ведь никто не узнает!
— Нет.
— Подумай хорошенько! Она идет за тобой уже четыре тысячи световых лет. Что тебе стоит заманить ее в клейнову трубу, а потом быстро прыгнуть обратно и зайти ей в тыл — она ничего и не заподозрит…
— Нет, я сказал!
— Но если…
— Пожалуйста, не надо больше об этом.
Лицо Эде, повинуясь программе, приняло покаянное выражение, после чего он спросил:
— Что же ты будешь делать в таком случае?
— Пойду дальше.
И Данло, верный своему слову, повел “Снежную сову” через мультиплекс со всей доступной ему быстротой. Он составлял свои маршруты, и открывал окна, и шел от звезды к звезде с редким изяществом, но Марджа Валаскес на своем “Огнеглоте” не отставала от него. Вскоре последовательность его маршрутов должна была вывести Данло к Звезде Невернеса. Марджа выйдет вслед за ним, и если он не хочет сразиться с ней в реальном пространстве, надо найти способ избавиться от нее раньше.
Размышляя, как это можно сделать, Данло вошел в необычайно плоское нулевое пространство. Мультиплекс затих, и его цвет из ртутного стал изумрудным, а затем нежно-бирюзовым без оттенков и переливов. Ничто, кроме “Снежной совы” и слабых пертурбаций корабля Марджи, не тревожило почти идеальную гладь этого пространства. Тут есть что-то неправильное, подумал Данло, что-то, с чем я еще ни разу не сталкивался даже в нескончаемых нулевых пространствах Экстра. И снаружи, и внутри него ощущалась какая-то странность, предчувствие чего-то ужасного; это было почти все равно что стоять на морском льду в ясный зимний день и смотреть, как на горизонте собираются грозные снеговые тучи.
Данло предчувствовал бурю, но математика уверяла его, что мультиплекс спокоен, как тропическое море, — даже когда он переносил поиск за границу своего сектора, в другие пространства этого довольно большого и неясно очерченного региона.
Признаки надвигающегося события можно было искать до бесконечности, поскольку пертурбации мультиплекса за радиусом сходимости сделались бесконечно слабыми. Но Данло, обладавший острым зрением как в обычном, так и в математическом смысле, различил в глубине, по направлению к Морбио Инфериоре, какое-то мерцание. И там, вдали, когда его сердце отстучало девятнадцать раз, он увидел это. Увидел белизну близкой бури или, скорее, волну — девятый вал мультиплекса. С быстро забившимся сердцем Данло понял, что это и есть то явление, о котором говорил Аррио Верджин, что эта волна вот-вот нахлынет и сметет все корабли, оказавшиеся у нее на пути.
— Что это, пилот? — спрашивал Эде. — Что ты видишь? Моя проекция ничего не показывает.
— Вижу вдали волну, идущую к ядру. Она… нарастает. Волна Данлади.
— Данлади? Ты уверен? Значит, скоро она нагрянет сюда и перекорежит всю здешнюю топологию?
— Да.
— Если она застанет нас здесь, то подомнет под себя и уничтожит.
— Возможно.
— Тогда бежим! Надо выйти в реальное пространство — там мы будем в безопасности.
— Сейчас, — ответил Данло как-то странно, голосом тихим и в то же время сильным, как крепнущий ветер; вся усталость сошла с него, и глаза горели, как звезды.
— Скорее! Чего ты ждешь?
— Мы убежим, но не в реальное пространство, пока еще нет. Мы убежим в волну Данлади.
— Ты что, пилот, спятил? Хочешь погубить нас в угоду своему упрямству?
— Я молюсь, чтобы этого не случилось.
Дав Эде знак молчать, Данло направил “Снежную сову” к волне Данлади и помчался от окна к окну как можно быстрее, не забывая, однако, отмечать эти окна в сознании. Он знал, что Марджа следует за ним, и потому не терял времени на поиск “Огнеглота”. Все его внимание сосредоточилось на том, что лежало впереди. Он пронизывал мультиплекс, как луч света, но волна Данлади приближалась еще быстрее, ибо она не двигалась, как двигался он, а скорее деформировала мультиплекс почти во всех направлениях одновременно. Она, можно сказать, была квинтэссенцией самого движения. Данло не верил собственным ощущениям, глядя, с какой скоростью она нарастает. Только что она была не более заметна, чем снежный бугорок на равнине, и вдруг вздыбилась, точно сама равнина превратилась в высоченную гору. Вот-вот она обрушится на него, и тогда ему придется либо нырнуть под ее чудовищную массу, либо спастись в реальное пространство, как советовал Эде. Агира, Агира, что мне делать? Данло молился своему тотему, в котором, как он верил раньше, заключалась половина его души. Агира, Агира.
Теперь уже и Марджа Валаскес должна была заметить волну Данлади. Но они так быстро мчатся к бурлящему центру волны — а он к ним, — что Марджа вряд ли успеет понять истинную природу этого явления. Пилотов Старого Ордена Аррио Верджин о волне не предупреждал. Марджа может подумать, что это волна Вимунда или даже одна из Простых N-мерных волн Галливаровой инверсии. Она может предположить, что Данло использует эту топологическую проблему, чтобы скрыться от погони, и, возможно собирается нырнуть под волну в последний момент, чтобы уйти в более спокойные районы мультиплекса. Данло между тем производил молниеносные расчеты, перебирая все теоремы, имеющие отношение к волнам Данлади. Он был почти уверен, что от такой волны нельзя спастись, просто нырнув под нее: слишком уж быстро она распространяется и слишком сильные возмущения создает. Волна вздымалась все выше, и он отмечал невероятную плотность нулевых точек, как будто триллионы бактерий кишели в ее черной засасывающей массе. Да, теперь, когда он пересек последний граничный интервал, волна засасывала его в себя, и выбора уже не оставалось: или выход в реальное пространство, или смерть.
Агира, Агира! Дай мне мужества сделать то, что я должен сделать.
Он ждал до последнего — ждал, когда “Огнеглот” тоже пересечет последний граничный интервал. Когда это произошло, все окна в реальное пространство внезапно закрылись, отрезав путь к спасению, — остались только маршруты, ведущие в клубящуюся черноту под волной. Или в саму волну. С того момента, как Данло разглядел волну в мерцании мультиплекса, он рассматривал именно эту возможность. Маршрут в толщу самой волны казался безумием, но нырок под нее был просто самоубийством, как подсказывала математика.
Марджа Валаскес, очевидно, не успела все это вычислить, потому что в последний момент ушла вниз, и “Огнеглот” исчез, как алмазная булавка в вагранке с расплавленной сталью.
Данло, проводив его взглядом, направил “Снежную сову” против приливного напора волны, и ее тяжесть рухнула на него, смешав кобальтовые и розовые цвета в пенистую лиловую круговерть.
Агира, Агира, дай мне твои золотые глаза, чтобы я мог видеть.
Данло почти сразу сбился с маршрута. Такого, пожалуй, не пережил бы ни один пилот: без четкого маршрута человек в завихрениях мультиплекса пропадает безвозвратно. Но однажды, попав в хаотическое пространство, Данло уже нашел выход из, казалось бы, смертельной топологической ловушки. Новые маршруты найдутся всегда, если пилот достаточно искусен, чтобы открыть их. И Данло, пока волна с устрашающей скоростью несла “Снежную сову” вперед, продолжал искать эти маршруты.
Не будь он ограничен во времени, он нашел бы что-нибудь очень быстро благодаря своему таланту математика, но времени оставалось в обрез. Данло фактически боролся за жизнь. Волна превращала все вокруг в малахитовую зелень, и только стремительное инерционное движение не давало ей засосать корабль в свою глубину. Данло, пользуясь этим зыбким равновесием, ввел “Снежную сову” в карман у волнового фронта, где она и держалась, повинуясь кошмарно сложной динамике волны. На помощь себе он призвал три первейших достоинства пилота: бесстрашие, безошибочный расчет и умение плыть по течению. Если он хотя бы на миг позволит себе испугаться, он попытается вырваться из волны не в том направлении, и она потопит его. Если его расчеты не будут безупречными, он потеряет свое равновесие, и страшная энергия волны раздробит его корабль, как хрупкую раковину.
Агира, Агира, я не должен бояться.
Потом настал момент. Для Данло, летящего на гребне невообразимой топологической волны вне пространства и времени, как и для любого другого, между жизнью и смертью существовал один-единственный момент, когда сознание достигает максимального напряжения. Краски клубились вокруг, распадаясь на малиновые полосы, голубые ленты, алые пунктиры и тысячи других узоров. Узор обнаруживается всегда, под поверхностным хаосом всегда скрывается порядок.
Пока волна Данлади катилась через мультиплекс, Данло различал легкие серебристые отсветы всех топологических структур на пути ее следования. Видел он и рефракцию, когда волна внезапно рассыпалась световым ливнем и тут же снова обретала форму движущегося монолита. Вскоре Данло начал подмечать кое-что в ортогональных волнах, выглядевших как серебристо-голубые параллельные линии. Они меняли направление ежесекундно, по мере того как волна искажала саму субстанцию мультиплекса, — меняли, делая маршрут в реальное пространство почти невозможным, но в этих переменах существовала система.
Данло попробовал составить математическую модель этой системы. Он испробовал Q-множества, галливаровы поля и сто других способов, пока не сообразил, что вращательное движение ортогоналей лучше всего моделируется простым множеством Соли. Правильно рассчитав время, он мог предсказать точный момент, когда ортогонали укажут ему выход в реальное пространство. Если его расчет будет безошибочным, он составит маршрут в этот самый момент и совершит то, на что может отважиться лишь самый безумный и дикий из пилотов.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь…
Ровно на половине седьмого удара сердца Данло вычислил этот маршрут. Волна Данлади исчезла бесследно, и “Снежная сова” оказалась в космосе у холодной белой звезды. Корабль висел в нерушимой тишине, озаряемый чудесным белым светом, а Данло, паря в кабине, глотал воздух и продолжал считать: тринадцать, четырнадцать, пятнадцать…
— Мы свободны, пилот! — воскликнул парящий рядом Эде. — Свободны и оторвались от погони, верно?
— Да. — Данло, морщась от боли, прижал ладонь к шраму над глазом. — Оторвались.
— Как это ты ухитрился? Я почти ничего не видел — уж очень сильные искажения создавала эта волна.
Данло рассказал Эде, как оторвался от Марджи Валаскес и “Огнеглота”. Все это время удары сердца отдавались в его глазу.
— Очень умно, — похвалил Эде. — Ты ловко ее прикончил.
— Я не убивал ее!
— Ты заманил ее в смертельную западню.
— Нет. У нее был выбор. Она могла выйти в реальное пространство до того, как пересекла последний интервал.
— Ты же знаешь: она гналась за тобой.
— Ее никто не принуждал к этому.
— И ты знал, что она нырнет под волну, так ведь?
— Откуда я мог знать, какой маршрут она выберет?
— Как же ты мог не знать?
— Она могла войти в волну и двигаться вместе с ней, как я.
— Брось, пилот.
— Это правда. У нее был выбор. Она нырнула — это ее воля, не моя.
Эде долго смотрел на Данло, а потом сказал: — Как, ты говоришь, формулируется твой обет? Никогда не причинять вреда другому, даже в мыслях?
— Я не желал Мардже смерти. Я хотел избавиться от нее, вот и все.
— И завел ее туда, где она лишилась жизни.
— Да.
— Как видно, ахимсу не так легко практиковать. Есть свои тонкости. Извини, — сказал Эде, по-прежнему не сводя с Данло глаз, — тебе, наверно, сейчас тяжело.
В глаз Данло точно выстрелили из тлолта, и боль заполнила голову. Оба глаза заслезились от жесткого света звезды за иллюминатором, и Данло моргнул.
— Да… тяжело. — Он вытер глаза и помолился за Марджу: — Марджа Евангелика ви Эште Валаскес, ми алашария ля шанти…
Немного погодя он пробудил Демоти Беде от ускоренного времени и пригласил его в кабину. Заспанный Демоти поглядел в иллюминатор, зевнул и сказал:
— Похоже на Звезду Невернеса — мы что, уже дома?
— Нет. — Данло улыбнулся вопреки головной боли. — Эта звезда белая, а не желтая. До Невернеса еще далеко.
— Как далеко? И как называется эта звезда?
— Насколько я знаю, никак, но мы где-то поблизости от Калкина.
— Калкин? — Беде, возможно, плохо разбирался спектрах звезд, но уроки астрономии помнил. — Да ведь это всего в десяти световых годах от Летнего Мира!
— Верно. Мы… немного отклонились в сторону.
Данло сморгнул слезы и рассказал Беде о Мардже Валаскес, “Огнеглоте” и долгой гонке по мультиплексу. Он попытался описать также огромность и страшную красоту волны Данлади, но ему не хватило слов. Он сказал только, что волна пронесла их вдоль Рукава Стрельца чуть ли не до Ювимского скопления.
— Почему же ты не разбудил меня, пилот? Хотел, чтобы я принял смерть полусонным?
Данло снова улыбнулся, вспомнив своего учителя-фраваши: тот говорил, что большинство людей всю свою жизнь проводит в полусне и смерть встречает в том же состоянии.
— Не хотел вас тревожить.
— Допустим. Что будем делать теперь?
— Продолжим наше путешествие.
— На сколько же оно удлинилось? Волна занесла нас очень далеко.
— Далеко, если считать в световых годах, но каналы между Калкином и Невернесом хорошо известны и трудностей не представляют. Остаток пути обещает быть легким и необременительным.
— Но что, если волна повредила или разрушила старые каналы? Ведь в мультиплексе возможны такие перманентные искажения?
— Да — возможны.
— И что же?
— Возможно и то, что каналы сохранились в прежнем виде.
— Тебе, наверно, не терпится проверить, так ли это.
— Да, не терпится. — Данло зевнул, прикрыл глаза, и дремота стала накатывать на него черными войнами. Он тряхнул головой и улыбнулся Беде. — Но спать мне хочется еще больше. Через два часа компьютер меня разбудит, и мы попробуем найти легкий путь к Невернесу.
Данло снова закрыл глаза и тут же уснул глубоким, мирным сном. Он так вымотался, что не проснулся, когда компьютер два часа спустя тронул его мозг тихой музыкой. Не проснулся он и через двадцать часов. И старый лорд, и Эде дивились тому, как долго Данло способен проспать, будучи по-настоящему усталым. На этот раз он проспал почти трое суток, а когда наконец пришел в себя и взглянул на звезды, понял, что спал чересчур долго.
— Идем дальше, — сказал он, сердясь на себя самого. — Надеюсь, что война не пришла в Невернес, пока я тут отлеживался.
“Снежная сова” снова вошла в мультиплекс, и Данло повел ее мимо Калкина, Скибберина и красного гиганта под названием Дару Люс. Волна Данлади немного сгладила эти знакомые пространства и обломала несколько каналов, как ветер обламывает ветки с дерева, но большинство путей через мультиплекс остались нетронутыми. Данло проложил маршрут к маленькой звезде близ Летнего Мира, а затем двинулся через Триа, Ларондиссман и Авалон. Все эти звезды лежали вдоль торного пути к Невернесу, который Данло раньше отверг как чересчур длинный. Но волна Данлади привела к тому, что этот путь занял у него ненамного больше времени, чем прежний, более прямой, и оказался гораздо менее рискованным.
Даже в пространствах Ларондиссмана, одного из наиболее преданных рингизму миров, Данло не встретил ни единого рингистского корабля. На этом последнем, удивительно мирном отрезке своего путешествия он вообще не видел кораблей — даже тяжелых торговых судов с Триа, развозящих по звездным дорогам паутинный шелк, нейросхемы, огневиты, огненное вино, джиладский жемчуг, сулки-динамики, кровоплоды, юк, джамбул, зачерняющее масло и прочие товары, выращиваемые или производимые в мирах человека.
У Авалона, красивой голубой звезды, расположенной совсем близко от его родного, светила, Данло вычислил свой финальный маршрут — знаменитый Ашторетский маршрут, названный в честь пилота Вильямы ли Ашторет, открывшей его в начале орденского Золотого Века, в 681 году. Следуя ему, “Снежная сова” перенеслась через триста световых лет и вышла в сгущение близ Звезды Невернеса.
— Вот мы и дома, — прошептал Данло, глядя на неяркое желтое солнце своего детства. — О Савель, мираландд ми калабара, кариска.
Впрочем, от дома, от планеты Ледопад, висящей, как белоголубой драгоценный камень, в черноте космоса, их отделяло еще семьдесят миллионов миль вакуума. Данло мог бы немедленно совершить переход к точке выхода всего в нескольких сотнях миль над его атмосферой, но это насторожило бы оборонные системы планеты и привело бы к уничтожению корабля. Опасность и без того была достаточно велика. “Снежная сова” светилась в лучах Звезды Невернеса, как голубь с подбитым крылом. Данло только что открыл окно из мультиплекса, и любой находящийся поблизости легкий корабль мог его обнаружить. Война уже началась, и Главный Пилот, лорд Сальмалин Благоразумный, определенно выделил большое количество кораблей, чтобы оградить планету от внезапного нападения.
Данло ждал, когда эти корабли прибудут — больше ему пока ничего не оставалось. Он уже связался по радио с Невернесом, уведомив лордов Ордена о миссии “Снежной совы”.
Он не думал, что рингисты Старого Ордена настолько уж погрязли в изуверстве, чтобы убить двух послов прямо в космосе. Главная опасность заключалась в том, что сторожевой корабль, который подойдет к ним, решит не ждать инструкций из Невернеса. Какой-нибудь отчаянный молодой пилот наподобие Чиро Дэлибара мог усмотреть в “Снежной сове” авангард вражеского флота и тут же атаковать ее. “Снежная сова”, конечно, не преминет покачать крыльями в знак своих мирных намерений, но Чиро или, скажем, Риэса Эште вполне способны разделаться с ней, а потом объявить, что парламентерство Данло было всего лишь уловкой.
Данло считал удары своего сердца и ждал, когда покажутся корабли. Для того чтобы его радиосигнал дошел до Невернеса и чтобы затем оттуда передали всем легким кораблям команду не трогать парламентеров, требовалось 714 секунд.
По прошествии восьмидесяти восьми секунд из плотного пространства рядом с Данло вышла алмазная игла, за которой сразу же последовали еще четыре.
Данло узнал эти корабли: “Звездный дактиль” Дарио Утрадесского, “Голубой лотос”, “Колокол времен” и “Ангельский ковчег” Никабара Блэкстона. С пилотом пятого корабля Чиро Далибаром Данло учился в Ресе и даже помогал ему с эвристикой при проектировании этого остроносого красавца, который Чиро назвал “Алмазной стрелой”.
— Агира, Агира, — помолился Данло, связываясь с пилотами по радио и ожидая, что они будут делать дальше. Истинный ужас войны в том, что порой приходится вот так мириться с опасностью и просто ждать, не зная, будешь ты жив или нет.
Много позже Данло узнал, о чем совещались между собой в тот момент эти пятеро пилотов. Чиро Далибар с тонкогубым жестоким ртом, всегда ревновавший к Данло, утверждал, что посланцев Экстрианского Ордена — а следовательно, Содружества, — следует убить на месте. Но Чам Эстареи на “Голубом лотосе” высказался против подобного варварства, и Никабар Блэкстон поддержал его. Никабар, мастер-пилот и самый старший из этой пятерки, сказал остальным, что нужно дождаться указаний с планеты — вреда от этого не будет.
Пожелают лорды принять посланников — прекрасно. Не пожелают — можно будет завернуть “Снежную сову” обратно на Шейдвег, или где там еще обретается флот Нового Ордена.
Возможен и другой вариант: пять кораблей, действуя совместно, в любой момент способны открыть окно в Звезду Невернеса и отправить Данло прямиком в ад.
— Мы ждем решения лордов, — сообщил Никабар Данло и Демоти. Его изображение с ярко-зелеными глазами и мертвенно-бледным лицом возникло из воздуха в кабине “Снежной совы”. — Вас мы попросим не делать никаких движений в реальном пространстве и не открывать окон в мультиплекс, иначе вы будете уничтожены.
И Данло ждал, а носы пяти кораблей всего в нескольких милях смотрели прямо на него. Сообщение от лордов Невернеса поступило только через две тысячи секунд. Оно обеспечивало послам неприкосновенность и предписывало Данло ви Соли Рингессу проследовать к определенной точке выхода над Невернесом. Пять кораблей должны были проследить, чтобы Данло вышел в указанном месте, а затем сопроводить послов через атмосферу на Крышечные Поля, откуда сани доставят их на экстренное заседание Коллегии Главных Специалистов.
— Советую соблюдать осторожность, — сказал Эде. — Рингисты могут заманить вас в ловушку.
— Само собой, — ответил Данло, — окажемся пленниками, как только ступим на лед Невернеса.
Демоти Беде провел рукой по морщинистому лицу.
— А все-таки хорошо будет увидеть город еще раз. Я думал, мне уж больше не придется повидать старых друзей.
— Старых друзей… — тихо повторил Данло. Выражение его глаз было сумрачным, но из них лился свет, и страшные, образы теснились у него в голове, как будто он заглядывал далеко через пространство и время. — И город, и то, что над ним.
Несколько секунд спустя Данло по команде Никабара Блэкстона составил маршрут к назначенной ему точке выхода. “Снежная сова” вновь очутилась в реальном пространстве, и Данло ахнул, увидев перемены, произошедшие всего за несколько лет в пустом прежде космосе вокруг планеты. Начать с того, что над самой атмосферой Ледопада кишмя кишели корабли — тяжелые крейсеры, корветы, фрегаты и многочисленные каракки, снаряженные для войны.
В этом огромном движущемся ковре из стали, алмаза и черного налла Данло насчитал больше сорока восьми тысяч кораблей, в том числе двести десять легких. Эти он все знал по именам: знаменитый “Космический куб” Риэсы Эште, и “Кадуцей”, и “Золотой мотылек” Саломе ви Майи Хастари.
Здесь присутствовали “Серебряная змейка”, и “Уроборос”, и “Летящий феникс” Карла Одиссана. Самой приметной была “Альфа-Омега” с треугольными крыльями, новый корабль лорда Сальмалина, заменивший тот, который угнал Бардо, и занимающий позицию в центре флота.
Флот был действительно намного больше сил Содружества, учитывая даже, что не все легкие корабли рингистов находились здесь. Недостающее в числе 231-го ушли в рейд, как те, что подкараулили флот Зондерваля близ Улладуллы, или следили за флотом Содружества, который собирался выступить от Шейдвега к Невернесу. В ближнем секторе космоса, у таких звезд, как Сонгфайр и Кеаи, Сальмалин определенно разместил немало легких кораблей, создав оградительный кордон вокруг Звезды Невернеса. Не менее двадцати этих кораблей охраняли еще один объект, имевший для рингистов более великую ценность, чем жемчуг, огневиты и даже обледенелая земля у них под ногами.
Вселенский Компьютер Ханумана ли Тоша навис над Невернесом, как сверкающая черная луна. В некотором смысле он и был луной — и по величине, и потому, что состоял из элементов Казота, Вьерж и Варвары — трех из шести лун, которые Данло привык видеть в небе со дня своего рождения.
В свои корабельные телескопы Данло хорошо видел три эти ближние луны. Микророботы-разрушители копошились на них, слой за слоем разбирая их на составные элементы. Серебристые прежде поверхности лун стали серыми и покрылись рытвинами, как лицо хибакуся.
Бардо сказал правду: Хануман и его рингисты разбирали луны, попирая тем самым законы Цивилизованных Миров.
Около лун постоянно сверкали вспышки: это тяжелые корабли, груженные кремнием, углеродом или золотом, уходили в мультиплекс, чтобы тут же появиться снова над Вселенским Компьютером. Огромные космические заводы, размещенные там, превращали их груз в алмазные чипы, оптические диски и нейросхемы — в нервы и плоть Вселенского Компьютера.
Другие микророботы, сборщики, трудились на строительстве дьявольской (или божественной) машины. Данло видел, что, если строительства никто не остановит, этот памятник гордыне человеческой будет расти и станет огромным, как настоящая луна.
Агира, Агира, ки лос шайда, шайда нети шайда.
— Если вы готовы, пилот, можно идти на посадку. — Голос Никабара Блэкстона разлился по кабине медовым вином. Его красивый звучный тембр противоречил жесткому нраву мастер-пилота. — Спускаемся прямо на Поля. Я пойду впереди, вы за мной, затем Дарио Утрадесский, Чам Эстареи, Чиро Далибар и Визолела.
С этими словами “Ангельский ковчег” направил свой алмазный нос к планете. За ним выстроились в линию “Снежная сова”, “Звездный дактиль”, “Голубой лотос”, “Алмазная стрела” и “Колокол времен”. Шесть кораблей медленно двинулись к Ледопаду. Пока они, словно иглы сквозь толстый ковер, проходили через ряды военных судов, Данло успел заметить самую большую перемену, которая произошла в его мире, то есть Золотое Кольцо. Это чудо эволюции, зародившееся недавно в атмосферах многих миров галактики, охватывало всю планету сферой живого золота.
Многие верили, что Кольцо — это дело рук Тверди или, скорее, дитя, вышедшее из Ее звездного чрева. Ибо Кольцо являло собой саму жизнь, рожденную и расцветающую в суровых условиях космоса. В нескольких сотнях миль ниже корабля Данло совершали свою деятельность организмы Кольца: нектоны, триптоны, сестоны, вакуумные цветы, трубчатые деревья и фритилларии. И, разумеется, созидалики, основа Кольца, триллионы триллионов одноклеточных растений, дрейфующих над Ледопадом со слабым солнечным ветром.
Каждый созидалик представлял собой крошечную сферу из алмазных мембран, в которой помещался клеточный механизм из энзимов, кислот и красного хлорофилла. Созидалики питались дыханием звезд, поглощая свет и перерабатывая эту поистине вселенскую энергию в пищу для других жителей Кольца.
Именно красный хлорофилл придавал Кольцу его окраску: когда солнце просвечивало сквозь алмазные шарики бесчисленных созидаликов, глазу представали оттенки от рубинового-янтарного до золотого. Кольцо одевало планету золотым покрывалом, тонким, как шелка куртизанки. Сквозь эту живую вуаль Данло различал далеко внизу скалистый берег Невернесского острова и густо-синее море. Возможно, когда-нибудь Кольцо станет менее прозрачным, и станет трудно разглядеть горы Невернеса с орбиты или шесть лун с поверхности планеты. Но если бы Кольцо по мере своего роста затмило свет самих звезд, Данло это показалось бы бесконечно грустным.
Фара гелстеи, прошептал он, — так он называл Золотое Кольцо в детстве. Лошиша шона, лошиша холла — савиша холла нети шайда.
“Снежная сова” вошла в Кольцо легче, чем в облако. Оно было реже любого облака, и Данло без труда находил дорогу в его золотой дымке. Он искал взглядом самые крупные организмы Кольца — хищных космокитов с искусственной нервной системой, разновидность биологических легких кораблей, обитающих в холодных течениях космоса.
Эсхатологи Ордена полагали, что космокиты более разумны, чем человек, и даже называли эти создания богокитами за их могущество. Но встречались они очень редко: Данло за всю свою жизнь не видел ни одного. Зато мимо его иллюминатора промелькнул целый рой фритилларий, улавливающих солнечный свет своими серебряными крыльями-парусами и преодолевающих таким образом космическое пространство.
При всей своей красоте это были странные создания: их телескопические глаза могли разглядеть вакуумный цветок за двести космических миль, а тонкие металлические усики принимали и передавали радиосигналы.
В детстве, глядя с морского льда на тронутое золотом небо, Данло дивился быстрому росту Кольца. Ему хотелось тогда взлететь в небо, и спросить обитающие там существа, как их зовут, и назвать им свое имя.
— Агира, Агира, — шептал он теперь, обращаясь к своему второму “я”, снежной сове. Он хотел бы задержаться подольше в этом золотом океане, но “Ангельский ковчег” шел вниз, к Невернесу, и Данло приходилось следовать за ним. — Локелани мираландо ля шанти.
По мере приближения кораблей к снеговым вершинам острова Невернес Кольцо начало сгущаться. Созидалики, питаясь светом солнца, как все растения, потребляли также углекислый газ, водород, азот и другие элементы верхних слоев атмосферы. Некоторые эсхатологи полагали, что редкость этих газов ограничивает потенциал роста Кольца. Другие считали, что сестоны и нектоны со временем разовьются в нечто вроде микроразрушителей и научатся добывать необходимые элементы из лун. Существовала также гипотеза, что Кольцо прорастет вниз сквозь тропосферу и начнет колонизировать острова и океаны Ледопада, как некая инопланетная экология.
Пока эта гипотеза не подтверждалась ничем — ни в одном известном мире Кольцо не разрасталось в этом направлении.
Казалось, что оно запрограммировано расти в обратную сторону, в космос, как подсолнух, раскрывающийся во тьму, — и охватить, возможно, десять других планет Звезды Невернеса. Ларисса Смелая уже заметила на орбите Берураля космокита, который как бы любовался красно-фиолетовыми завитками этого газового мира. Возможно, когда-нибудь Кольца откроют для себя возможность существования в межзвездном вакууме и даже в великой межгалактической пустоте.
— Красиво, правда, пилот? — Демоти Беде, оставшийся в кабине, смотрел в иллюминатор на золотую пыль Кольца. — Вот не думал, что доживу до таких чудес.
Да, Кольцо — это поистине чудо, подумал Данло, но, пожалуй, не чудеснее снежного червя, человека и любой другой формы жизни. Подлинное чудо — это сама жизнь, то, как движется и развивается материя от начала времен, принимая все более сложные и разумные формы. Теперь она движется с планет, созданных из воды и камня, к звездам, и этот удивительный процесс никого, в сущности, удивлять не должен. В космосе холодно, низкие температуры любят порядок — а что же такое жизнь, если не материя, упорядоченная в самой высокой степени? Данло, глядя на созидаликов Кольца, вспомнил то, что сказал ему один мастер-биолог: “Степень метаболизма энергии зависит от квадрата температуры”.
К фритиллариям и похожим на бриллиантики нектонам это относится не меньше, чем к медведям, на которых Данло охотился в детстве, и к комарам, которые пили его кровь. В беспредельном холоде космоса трубчатое дерево или золотой паутинный кит расходуют свою энергию очень бережливо. Эта бережливость — великая заслуга Кольца. Созидалики извлекают пользу из каждой молекулы углекислого газа и других веществ, получаемых ими из атмосферы. Кольцо, как тропическая экосистема, концентрирует эти питательные вещества в своих растениях и организмах. Отходы от них в стратосферу почти не поступают — разве что кислород в двухатомном состоянии, быстро вступающий в реакцию с солнцем и превращающийся в озон. А плотное бледно-голубое одеяло озона должно защитить леса и океаны планеты от яростной радиации Экстра. Скоро, меньше чем через два года, свет сверхновой, называвшейся прежде звездой Меррипен, прольется на родной мир Данло. И даже эсхатологи не способны предсказать отразит ли Кольцо со своим озоновым слоем эту жесткую радиацию или просто поглотит ее.
Кольцо растет не так, как следовало бы, подумал Данло.
Он не знал, откуда это ему известно, но был уверен в этом, как в собственном дыхании. Это Вселенский Компьютер Ханумана мешает ему расти.
— Чудо, — повторил Демоти Беде. — Чудо, что это создание богов убережет Невернес от сверхновой.
Данло на миг закрыл глаза, вслушиваясь в молчание неба.
Ему казалось, будто он слышит, как позванивают об алмазный корпус его корабля миллионы созидаликов, будто само Кольцо говорит с ним таким образом. Возможно, что это чудо новой жизни действительно убережет его мир от сверхновой.
Но от которой из них? Свет Меррипен идет через галактику около тридцати лет. Если война или воля самого Ханумана разрушат Вселенский Компьютер, Кольцо, возможно, прикроет Ледопад от убийственной радиации этой звезды. Но если Бертрам Джаспари и его ивиомилы сумеют взорвать Звезду Невернеса, ни Кольцо, ни самые могущественные боги галактики не помешают планете превратиться в пар.
— По-твоему, это не чудо, пилот?
— Да, чудо. Конечно, чудо, — сказал Данло и направил корабль вниз, следуя за “Ангельским ковчегом” сквозь плотный воздух нижних слоев атмосферы. Он шел к Невернесу, Городу Света, где, как он чувствовал, ожидало его еще более великое чудо.
Глава 6 ЛОРДЫ НЕВЕРНЕСА
Куда мы, собственно, идем? Всегда домой.
Новалис, поэт Века ХолокостаПоэты говорят, что впервые попасть в Невернес можно только двумя путями. Первый ведет через кровавые врата между ног матери, за которым встречает тебя ослепительный свет Города Боли. Второй — это спуститься из космоса на легком корабле или на челноке и ступить на ледяную поверхность Крышечных Полей, где тебя, возможно, встретит друг с раскрытыми объятиями и кружкой горячего мятного чая.
К необычайностям жизни Данло ви Соли Рингесса следует причислить и то, что он нашел третий способ явиться в город. Четырнадцати лет от роду он покинул свой родной остров и проделал шестьсот миль по замерзшему морю, сначала на собаках, потом на лыжах. Не видя своих обмороженных ног из-за бушующей вокруг вьюги, он полумертвым выбрался на Северный Берег. По странной случайности или по воле судьбы там его встретил покрытый белым мехом инопланетянин по имени Старый Отец и подарил ему бамбуковую флейту, ставшую для Данло самой большой драгоценностью из всех его вещей. Теперь Данло вернулся домой, но это возвращение имело вкус горькой иронии. О его прибытии должны были слышать многие, но ни Старый Отец, ни кто-либо другой из друзей не ожидали его с музыкальными инструментами или кружками чая. Как только его ботинки ступили на родимый лед, к нему приблизились двадцать кадетов в форме разных цветов, но каждый с золотой повязкой на рукаве. Данло глазам не поверил, увидев еще и лазеры в черных кожаных кобурах.
— Данло ви Соли Рингесс, удачным ли был ваш путь? — осведомился один из них, довольно заносчивый юноша в зеленой форме механика. Окинув взглядом одетого в черное Данло с алмазной пряжкой на груди, он обратился к второму послу и повторил свое приветствие: — Удачным ли был ваш путь, лорд Демоти Беде?
Этим торжественная встреча и ограничилась. Кадеты холодно, чуть ли не грубо, направили обоих к большим саням, ожидавшим поблизости. Один кадет сел за руль, двое других поместились по бокам Данло и лорда Беде на пассажирском сиденье. Остальные семнадцать расселись по семнадцати другим саням. Дружеских чувств к неприятельским посланникам они не выказывали, однако обеспечивали им безопасность и торжественный въезд в город.
Прежде чем кортеж тронулся с места, к открытым саням, где сидели послы, подошли пятеро пилотов в шерстяных камелайках. Они осторожно ступали по красному льду дорожки, и у каждого на рукаве красовалась такая же золотая повязка. Золотое на черном — цвета рингизма.
— Здравствуй, пилот, — сказал Данло первый пилот — Никабар Блэкстон, человек с жесткими серыми глазами и шапкой коротко остриженных седеющих волос. Его корабль, “Ангельский ковчег”, стоял на поле, готовый вернуться в космос. За ним, как серебряные бусины на нити, выстроились “Звездный дактиль”, “Голубой лотос”, “Алмазная стрела” и “Колокол времен”. За Никабаром в том же порядке стояли Дарил Утрадесский, Нам Эстареи, Чиро Далибар и Визолела.
Каждый из них поздоровался с послами, и Никабар сказал:
— До нас дошла весть, что Вторая Экстрианская Миссия оказалась успешной. Говорят, что Таннахилл найден и что нашел его Пилот Данло ви Соли Рингесс. Что он пересек весь Экстр до Рукава Персея. Тридцать тысяч световых лет через Экстр! Правда это, Данло ви Соли Рингесс?
— Правда, — с легким наклоном головы подтвердил Данло.
— Тогда тебе следует воздать почести.
— Спасибо.
Никабар низко поклонился ему. То же самое сделали Чам, Дарио и даже Визолела с ее старыми, утратившими гибкость суставами. Только Чиро Далибар вместо поклона как-то по-черепашьи дернул головой. Его маленькие глазки смотрели на Данло холодно и завистливо, но когда Данло сам взглянул на него, он уперся глазами в ледяную дорожку, как будто был в городе новичком и удивлялся, что улицы в Невернесе сделаны из цветного льда.
— Но твоему посольству я честь воздавать не стану, — заявил Никабар. — Оно недостойно пилота, покорившего Экстр — и сына самого Мэллори Рингесса.
— Мы хотим остановить войну, больше ничего, — сказал Данло. — Что в этом бесчестного?
— Вы сами навязали войну нашему городу — и всем Цивилизованным Мирам. Вы предали наш Орден, вступив в так называемое Содружество Свободных Миров.
— Мы несем мир, а не войну. Мы ищем путь к миру, и он непременно найдется.
— Мир на ваших условиях. Мир, который еще больше разожжет желание воевать.
Демоти Беде все это время молчал, предоставляя двум пилотам спорить между собой, как это заведено у пилотов.
Потом он заметил затаенную ярость, с которой смотрел на Данло Чиро Далибар, и сказал:
— Мне думается, у вас в Ордене есть люди, которые желают войны ради самой войны.
Чиро перевел свой гневный взгляд на него и сказал тонким злым голосом:
— Я нахожу неправильным, что вам как послам обеспечивают безопасность, а мы, пилоты, рискуем жизнью в космосе, защищая вас от вашего же Содружества.
— Вам, кстати, следует учесть, — вставил Никабар, — что Невернес очень изменился с тех пор; как вы из него дезертировали. Вас, конечно, будут охранять, но многие отнесутся к вам неприязненно — и как к послам, и как к беспутным.
— Боюсь, это слово мне незнакомо, — сказал Данло.
Чиро Далибар, метнув на него злобный взгляд, поспешил объяснить вместо Никабара:
— Есть люди, которые следуют путем Мэллори Рингесса, чтобы стать богами. И есть другие, которые отказываются признать истину и отворачиваются от Пути, то есть беспутные.
— Понимаю.
— Есть, конечно, и такие, которые не знают истины, — наше призвание в том, чтобы принести ее им.
— Понимаю, — повторил Данло голосом спокойным и глубоким, как тропическое море.
Его уравновешенность, видимо, взбесила Чиро еще больше, и тот почти выкрикнул:
— А ты — ты беспутнейший из беспутных! Ты помог истине рингизма обрести силу, а потом взял и предал нас! Предал родного отца и все, ради чего он жил.
Словами Данло не мог на это ответить, но в его синих глазах, устремленных на Чиро, зажегся сильный внутренний свет. Чиро, не в силах выдержать правды и дикости этого взгляда, пробормотал еще что-то о предателях и снова вперил глаза в лед.
— Что ж, будем прощаться, — сказал Никабар. — Вас ждут лорды, а нам пора вернуться в космос. Жаль только, что в грядущих боях у меня не будет случая помериться силами с пилотом, покорившим Экстр.
С этими словами он отвесил Данло безупречно учтивый поклон и повел своих пилотов обратно к кораблям. Еще несколько мгновений — и все они, запустив двигатели, скрылись в синем небе.
Высокий серьезный кадет, взявший на себя управление санями, обернулся к своим пассажирам.
— Вы готовы ехать, пилот? Лорд посланник?
— Готовы, — ответил Данло.
— Меня зовут Йемон Асторет — на случай, если вам понадобится обратиться ко мне.
Другие семнадцать саней в тот же момент запустили свои двигатели, и восемь из них проехали вперед. Сани Данло рывком двинулись с места и заскользили на хромированных полозьях по красному льду. Восемь замыкающих последовали за ними через Крышечные Поля на север, в город, который когда-то был для Данло домом.
— Вот он, значит, какой, Невернес. — Эде, светящийся над компьютером, который Данло держал на коленях, вбирал в себя великолепие города, как будто был таким же живым, как Данло и Беде. — Город Человека.
Невернес называют разными именами, но все сходятся на том, что он прекрасен. Раньше Данло определял эту красоту как шона-мансе, красоту, созданную руками человека. Но внутри одной красоты всегда заключена другая, и Невернес стоит в полукольце самых красивых в мире гор. У самых Крышечных Полей, так близко, что кажется, рукой достать можно, высится Уркель, огромный конус из базальта, гранита и елей, сверкающий на солнце. На севере указывает зубчатой белой вершиной в небеса Аттакель. Под ним, там, где город взбирается по склону, видны скалы Эльфовых Садов, где Данло медитировал в кадетские годы. Наискосок, на северо-западе, по ту сторону узкого морского залива, накрепко замерзающего зимой, Данло видел любимую свою гору, Вааскель. Это ее блестящий белый рог указывал ему путь, когда он много лет назад, с противоположной стороны, впервые приблизился к городу. Лозас шона, думал он. Шона эт холла.
Халла — это красота природы, и Невернес славен тем, что отражает естественную прелесть Невернесского острова. Данло, медленно катясь по оранжевой ледянке, связующей Крышечные Поля с Академией, любовался сияющими шпилями из белого гранита, алмаза и органического камня. Это были и древние шпили Старого Города, и новые, названные в честь Тадео Ашторета и Ады Дзенимуры. Самый недавний, шпиль Соли, носил имя деда Данло. Эта розовая гранитная игла поднялась выше всех в городе. В конце Пилотской Войны, когда водородный взрыв разрушил почти все Крышечные Поля и примыкающий к ним район, Мэллори Рингесс распорядился воздвигнуть этот шпиль как символ своей восстановительной программы. Вновь отстроенную часть города он так и назвал Новым Городом. Именно эти четко распланированные кварталы с красивыми аккуратными домами проезжал сейчас Данло.
— Я был в башне Хранителя Времени, когда бомба взорвалась, — прокричал ему Демоти против ветра, бьющего в открытые сани. — И видел, как облако-гриб поднялось над этим кварталом. Видел потом руины улиц, по которым в детстве бегал на коньках. На Полях обрушились все башни и почти все дома — а посмотри-ка теперь! От войны даже следа не осталось, правда?
Данло смотрел во все глаза. Здания из розового гранита, увитые ледяным плющом, по архитектуре почти не отличались от строений Старого Города. На тротуарах и на самой ледянке толпился народ, затрудняя движение саней. Данло видел червячников, куртизанок, астриеров, хариджан, хибакуся и, разумеется, многочисленных членов Ордена.
Академическая улица, получившая свое название три тысячи лет назад, была одной из старейших в городе и, как правило, одной из самых людных. В этот день, 98-го числа ложной зимы 2959 года от основания Невернеса, она казалась почти такой же, какой бывала всегда в этот час и на исходе самого теплого из времен года. Оранжевый лед подтаивал и влажно блестел. На лепных карнизах домов щебетали птицы, вокруг плюща и цветущих у ресторанов снежных далий кружились фритилларии — не космические организмы Золотого Кольца, а настоящие бабочки с лиловыми крылышками. Они добавляли улице красок и веселья, и зрелище их кружения невольно вселяло в душу покой.
Но под кажущейся безмятежностью этого типичного дня ложной зимы Данло виделись знаки войны. Не Пилотской, которая случилась, когда он был еще ребенком, а грядущей, которую он должен был остановить, хотя бы это стоило ему жизни. Начать с того, что слишком много прохожих ходили в золоте. Червячники, астриеры, даже хариджаны в широченных штанах — у всех у них какая-нибудь деталь одежды была непременно золотого цвета.
Шелковые пижамы куртизанок, двойки и тройки, позолотели полностью — верный знак того, что их Общество перешло в рингизм целиком. Все члены Ордена носили золотые повязки, порой даже вшитые в рукава. Данло заметил пятерых, одетых в золото с головы до ног, — и это не были грамматики, которым это полагалось по форме, а горолог, библиотекарь, кантор, знаковик и холист. Их профессию Данло определил как раз по нарукавным повязкам — красной, коричневой, серой, бордовой и кобальтовой. Наиболее рьяные рингисты Ордена, именующие себя божками, завели моду, которую надеялись распространить по всей Академии: говорили, что скоро сам глава Ордена, Одрик Палл, снимет оранжевую форму цефика и облачится в золотые одежды.
Сама уличная суета утратила мирный характер. Многие сани были нагружены мехами, провизией и прочими товарами, которые жители имеют обыкновение запасать в смутные времена. Впервые на своей памяти Данло так долго добирался от Полей до Академии. На пересечении с Восточно-Западной, второй по длине городской улицей, в каких-то санях кончился водород, и они загородили дорогу всем остальным. Конькобежцы кричали и проталкивались вперед, позабыв всякие правила поведения в общественном месте.
Между двумя червячниками завязалась драка. Один из них, здоровенный, чернобородый, в собольей шубе и бриллиантах, выхватил откуда-то лазер и ткнул им в лицо другому, угрожая выжечь ему глаза и сварить мозги всмятку. Потом он, видимо, вспомнил, что за ношение лазера его могут изгнать из города, быстро убрал оружие и шмыгнул в толпу.
Данло встревожило то, что червячники теперь ходят с лазерами вместо обычных ножей, а заметив, что никто даже не упрекнул червячника и не удивился наличию у него запретной техники, он встревожился еще больше.
Семь длинных кварталов, оставшихся до Академии, они проехали без дальнейших происшествий. Вскоре перед ними возникли опаленные стальные ворота Раненой Стены, окружавшей Академию с юга, севера и запада. В ожидании приезда послов ворота стояли открытыми. Когда Данло был кадетом, их всегда закрывали на ночь, и Данло с Хануманом ли Тошем и другими приятелями приходилось перелезать через стену, совершая тайные вылазки в Квартал Пришельцев.
Йемон Асторет сказал, что теперь ворота часто запирают и днем — впервые после Темного Года, когда взбунтовавшиеся фанатики-Архитекторы сожгли орденские школы в восьмистах мирах и в город нагрянула Великая Чума. Йемон наставительно, точно двум послушникам, объяснил послам, что лорды Ордена опасаются нового бунта — со стороны астриеров и хариджан, на которых оказывается сильное давление с целью обращения их в рингизм. Воины-поэты тоже способны пойти на штурм ворот. За последний год в Невернесе появилось слишком много этих вестников смерти в радужных кимоно — они слетаются в город, как ястребы на поживу.
Санный кортеж, проехав в Южные ворота, продолжил свой путь по красным ледянкам Академии, и Данло погрузился в океан воспоминаний. Перед ним встали Утренние Башни Ресы, пилотского колледжа, где он в юности изучал математику мультиплекса. В тени двух этих солнечных колонн помещалась Обитель Розового Чрева, где он, плавая в соленых бассейнах, упражнялся в холлнинге, адажио и дзадзене.
У Обители и у Ресы он видел множество пилотов-кадетов в черных камелайках, к которым испытывал невольное чувство товарищества; он предвидел, что многих из них пошлют на войну, не дав им обучиться пилотированию легких кораблей в полной мере. Ему хотелось остановить сани, подъехать к этой молодежи на коньках и сказать им, что он сам стал пилотом в очень юном возрасте и повел свой корабль в Экстр, не будучи полностью готовым. Но их взгляды и лица не выражали дружелюбия: они хорошо знали, кто он и зачем вернулся в Невернес. Один из них, плотный юноша (по слухам, побочный сын лорда Бургоса Харши), плюнул на лед, когда Данло проехал мимо, и с явным вызовом крикнул: — Беспутный явился!
Его друзья, все в золотых нарукавных повязках, хором грянули недавно вошедший в обиход припев: — Беспутные, безбожные, безнадежные.
Пока кортеж ехал мимо старых деревьев йау, украшающих улицы и лужайки Академии, другие члены Ордена — акашики, технари, механики и печатники — приветствовали послов сходным образом. Данло мог только догадываться, какие оскорбления ожидают их в самой Коллегии Главных Специалистов. Выяснить это ему предстояло скоро. Сани обогнули башню Хранителя Времени и остановились перед прямоугольным зданием, облицованным глыбами белого гранита.
Коллегия занимала место между академическим кладбищем на юге и красивой рощей ши на севере. На востоке высился Холм Скорби, все еще покрытый белыми и пурпурными цветами, несмотря на конец теплого сезона. Данло и Демоти поблагодарили Йемена Асторета и других кадетов за сопровождение, но те еще не закончили свою миссию и провели гостей вверх по ступеням, а затем в приемную зала заседаний. Там их встретил одетый в красное горолог по имени Ивар Луан и с поклоном проводил через двустворчатые двери в круглую палату, где заседали лорды Невернеса.
Однажды Данло уже побывал в этом историческом месте.
В зале со стенами из полированного белого гранита и клариевым куполом было очень светло, но всегда холодно из-за постоянных сквозняков. Данло помнил, как стоял на коленях на черном каменном полу перед этими самыми людьми (в число которых входил и Демоти Беде). Но теперь они с Беде не принадлежали больше к Старому Ордену, и от них не требовалось, согласно традиции, преклонять колени на фравашийском ковре; им предоставили стулья, и Данло сел под внимательными взорами ста двадцати лордов. Главные специалисты сидели за полукруглыми столами, размещенными амфитеатром вокруг четырех стульев в центре зала.
Данло, ненавидевший стулья, гадал, кому предназначены два свободных места. Здесь, как и прежде, пахло деревом джи, лимонной политурой и старческим страхом. Наиглавнейшие лорды размещались за двумя центральными столами прямо напротив него, Данло хорошо знал многих из них, особенно Колению Мор, Главного Эсхатолога; она перебирала шелковые складки своего нового золотого платья. Коления, пухлая, круглолицая, умная и добрая женщина, полностью подпала под власть рингизма. Смелая по натуре, она стала первым лордом, сменившим традиционную одежду на золотую. За ее столом сидели также Джонат Парсонс, Родриго Диас, Махавира Нетис и Бургос Харша в прежней коричневой форме, с изрезанным осколками стекла лицом.
За другим центральным столом сидели Ян Кутикофф, Главный Семантолог, и Ева Зарифа в пурпурном платье сразу с двумя золотыми повязками. Рядом с ней беспокойно ерзал старый Вишну Сусо, трогая свою повязку, как будто она вдруг стала слишком тугой. Ему причиняло явное неудобство тесное соседство с лордом, который сидел с другой стороны, — главой Ордена Одриком Паллом.
Ничего удивительного: Данло за всю свою жизнь не встречал более жуткого человека. Ему было больно даже смотреть на лорда Палла с его розовыми альбиносскими глазами и кожей, как поблекшая от времени кость. Этот редкий генетический дефект подчеркивали черные зубы, которые лорд приоткрывал, когда говорил или улыбался, что случалось нечасто. Лорд Палл предпочитал изъясняться на цефическом языке жестов, и сидящий рядом с ним кадет-цефик переводил его знаки на устную речь. Палл, согласно поговорке, был молчалив, как цефик, а также хитер, циничен, и в душе его не осталось ни единого светлого пятна.
Эли лос шайда, подумал Данло. Шайда эт шайда.
Лорд Палл слегка приподнял палец, и кадет, красивый блондин со свирепыми голубыми глазами уроженца Торскалле, произнес:
— Удачным ли был ваш путь, лорд Демоти Беде и Данло ви Соли Рингесс? Мы принимаем вас как полномочных послов Содружества Свободных Миров, хотя, как вам следует знать, не признаем полномочности самого Содружества.
— Возможно, со временем ваше мнение изменится, — сказал Демоти.
— Возможно, — ответил Палл через переводчика, но его розовые глаза не допускали такой возможности. — Время — странное понятие, не так ли? И у нас его очень мало. Волновой фронт сверхновой движется к нам со скоростью света, а флот вашего Содружества, вероятно, еще быстрее. И это еще не самое худшее из того, что нам угрожает.
— Что же может быть хуже, лорд Палл? — спросил Демоти.
— Скоро вы это узнаете. — Палл сделал знак кадету-горологу, стоявшему у двери в другую приемную. Тот склонил голову и достал лазер из кобуры у себя на бедре, а затем с большой осторожностью отворил двери, за которыми ожидали два человека. Кадет взмахом лазера направил их к двум пустым стульям рядом с Данло и Демоти.
— Нет! — воскликнул Данло, забыв всякую сдержанность, но тут же спохватился и замер, как талло, не сводя глаз с этих двоих, слишком хорошо ему знакомых.
— Я вижу, вы знаете друг друга, — сказал лорд Палл, — однако позвольте мне представить наших гостей Коллегии. Малаклипс Красное Кольцо с Кваллара и Бертрам Джаспари с Таннахилла.
Услышав это имя, сто лордов ахнули почти одновременно.
Таннахилл! Бертрам Джаспари явился сюда с этой затерянной планеты, преодолев тридцать тысяч световых лет в космосе, как и Данло. Со своей остроконечной лысой головой и кожей, посиневшей от обычного на Таннахилле грибкового заболевания, он был безобразен — безобразнее всех известных Данло людей.
Его сморщенный ротик напоминал сушеный кровоплод, тусклые серые глаза — протухшую тюленину. На лице у него застыло выражение язвительной насмешки, но все это было только внешним уродством — истинное безобразие Бертрама коренилось гораздо глубже. Данло знал, что он изворотлив, тщеславен, скуп, жесток и совершенно лишен милосердия. Хуже того: он не дорожил ни одним человеком, кроме себя самого, и беззастенчиво использовал других в своем стремлении к власти. Основной его порок заключался, пожалуй, в том, что он был мелок душой, мелок и крив, как деревце, выросшее при недостатке воды и солнца. Если бы он состязался с лордом Паллом за звание более яркого выразителя шайды, победителя было бы трудно определить.
— Лжец и убийца, — прошипел Данло, когда Бертрам занял стул около него. — Убийца планеты и целого народа.
Бертрам сделал вид, что не расслышал. Он явно боялся встретиться с пылающими синими глазами Данло и сидел, нервно оправляя свое кимоно, традиционную одежду Архитектора Кибернетической Церкви. Около года назад, начав на Таннахилле Войну Террора, он выкрасил белое кимоно в ярко-красный цвет, дав понять, что готов проливать кровь (предпочтительно чужую, а не свою). Вся фанатическая секта его ивиомилов носила теперь одежду того же цвета. Их флот, должно быть, затаился в космосе, у какой-нибудь ближней звезды, имея в виду еще более страшные шайда-цели.
Рядом с Бертрамом, у свободного стула, стоял человек, казавшийся полной его противоположностью. Его одежда пестрела всеми красками радуги, мизинец каждой руки украшало красное кольцо. И с виду Малаклипс был красив, как все воины-поэты. Кожа его отливала начищенной медью, черные волосы блестели, как соболий мех. Все в нем дышало живостью, особенно глаза — лиловые, глубокие и быстрые.
Уж он-то не боялся встретиться взглядом с Данло. В то время, как все лорды в зале нервно смотрели на Малаклипса, не понимая, отчего он не садится, две пары глаз, как случалось уже дважды, сошлись в поединке. Казалось, что свет, льющийся из глаз Данло, притягивает Малаклипса, как звезда мотылька, — но воин-поэт, должно быть, усмотрел там и что-то тревожное, потому что внезапно отвел взгляд. Говорят, что никто не может переглядеть воина-поэта — особенно носящего два красных кольца, второго за всю историю своего Ордена; поэтому лорды боязливо посматривали то на Данло, то на Малаклипса, не веря тому, что видели сами.
Малаклипс тоже испытывал страх, но не стеснялся его обнаружить.
— Ты изменился, пилот, — сказал он Данло. — В который раз. При каждой нашей встрече ты становишься ближе к тому, что ты есть на самом деле. Ты спросишь, что это? Я не знаю. Нечто слишком яркое, пожалуй. Я смотрю на тебя и вижу страшную красоту. Я боюсь тебя, а почему — не знаю.
Говорят, что воины-поэты не боятся ничего во вселенной — особенно смерти, которой они ищут с сосредоточенностью и радостью тигра, скрадывающего добычу. И Малаклипс, хотя и признался, что боится Данло, очень походил на тигра, красивого и опасного. По сути, он был убийцей не меньше, чем Бертрам Джаспари. Горолог-охранник, стоя в нескольких шагах от него, целил из лазера ему в затылок, готовый немедленно лишить его жизни, если Малаклипс попытается вдруг убить Данло, Демоти Беде, а то и самого лорда Палла.
— Не угодно ли присесть? — осведомился последний, и Малаклипс, держа под контролем все свои нервы и мускулы, медленно опустился на стул. Не обращая при этом внимания ни на главу Ордена, ни на других лордов, он снова встретился глазами с Данло и на этот раз выдержал промежуток, занявший двадцать ударов сердца.
— Я должен извиниться перед Коллегией, — сказал лорд Палл, — за то, что не информировал вас о прибытии этих людей. Но поймите, что воин-поэт с двумя красными кольцами и предводитель ивиомилов…
На этом месте Бертрам прервал переводчика:
— Вы можете обращаться ко мне как к Святому Иви Вселенской Кибернетической Церкви.
Лорд Палл, не выносивший, когда его прерывали, не проявил, однако, никаких эмоций, глядя на Бертрама с замкнутым, как у цефика, лицом. Только артерия, пульсирующая под белой морщинистой кожей у него на горле, выдавала внезапный потаенный гнев.
— Хорошо, пусть будет Святой Иви, — промолвил он собственным голосом, шипящим, как у скутарийского сенешаля. — Святой Иви привел с Таннахилла свой флот, который сейчас находится у неизвестной нам звезды. Святой Иви должен послать этому флоту извещение о том, что его особе здесь ничто не угрожает, в противном случае, по его словам, может произойти ужасное. Именно в целях его безопасности я скрывал от Коллегии факт его прибытия до настоящего момента, за что еще раз приношу вам свои извинения.
Бургос Харша, никогда не поддерживавший избрание Палла главой Ордена, отозвался своим скрипучим голосом: — Чем же он, собственно, нам угрожает? И почему об этом умалчивается?
— Скоро вы все узнаете, — ответил лорд Палл — на этот раз через переводчика.
— Как скоро? — рявкнул Харша, словно шегшей в брачную пору.
— Очень скоро. — Лорд Палл побарабанил белыми пальцами по столу — то ли подавая какой-то тайный знак своему цефику, то ли показывая, что испытывает нетерпение не меньше, чем Харша.
— Чего же мы ждем?
— Ханумана ли Тоша, — ответил лорд Палл. — Я попросил его присутствовать на заседании.
Эта новость, приятно взволновавшая Колению Мор и других лордов, поклонявшихся Хануману как Светочу Пути Рингесса, понравилась далеко не всем. Темнокожий Вишну Сусо, сосед Палла по столу, поглаживая свою морщинистую щеку, осведомился:
— Разумно ли это? Стоит ли создавать подобный прецедент?
— Он Светоч Пути, но не лорд Ордена, — добавил Бургос Харша.
Элегантная Ева Зарифа напомнила с саркастической улыбкой:
— Он вообще не принадлежит к Ордену, поскольку отрекся от своих обетов пять лет назад.
Некоторое время лорды обсуждали порядок отношений, долженствующих существовать между Путем Рингесса (в лице Ханумана ли Тоша) и Орденом. Одни, включая Бургоса Харшу, стояли за строгое разграничение двух этих сил; если даже Орден снимет древний запрет на исповедание его членами какой-либо религии и тем практически одобрит исповедание рингизма, не следует все же слишком тесно связывать цели Ордена с этой новой религией. Другие указывали, что большинство членов Ордена уже приняло рингизм. Их цель — стать богами, поэтому Орден тоже должен двигаться к этой великой цели. Он должен эволюционировать, признав принципы рингизма и оказав Хануману ли Тошу помощь в распространении рингизма среди звезд. При этом Орден останется Орденом, и его судьбу по-прежнему будет определять Коллегия Главных Специалистов.
Третья фракция, возглавляемая Коленией Мор, полагала, что Ордену и Пути Рингесса предназначено слиться в единое, славное и могущественное целое. Большинство народов Цивилизованных Миров уже видит в Ордене руку рингизма — а в рингизме орудие древнего, но все еще могучего Ордена.
Коления Мор заявила лордам, что чем скорее они сменят свои разноцветные одежды на золотые, тем легче станет неизбежный переход Ордена к поистине несокрушимой мощи.
— Мы все должны принять мировоззрение Ханумана ли Тоша и подчиниться его руководству, — говорила она. — Пусть официально он не лорд Ордена — он заслужил право называться лордом Хануманом, как никто другой. И мы сегодня должны приветствовать его здесь, как члена Ордена. Он никогда не отрекался от своих обетов, как утверждают некоторые. Он вынужден был уйти только потому, что закон воспрещал ему занимать пост в религиозном движении. Это правило принимал еще Хранитель Времени, и оно давно устарело. Я предлагаю, чтобы всем несправедливо изгнанным из Ордена, наподобие Ханумана, позволили заново принести обет и…
— Сейчас не время для подобной дискуссии, — прервал ее лорд Палл через молодого цефика. — Я пригласил Ханумана потому, что события приняли угрожающий оборот для всего Невернеса — и Хануман может помочь нам справиться с этой угрозой.
В этот самый момент, словно по сигналу, двери в первую приемную отворились, и вошел Хануман ли Тош. На его бритой голове блестела алмазная шапочка-контактерка, обеспечивающая Хануману связь с другими, более объемными компьютерами — возможно, даже с Вселенским, подумал Данло.
Этот символ тайной власти приковывал к себе взоры всей Коллегии.
Хануман не стал выше ростом с тех пор, как они с Данло расстались, но обрел какую-то таинственную стать. В своем длинном, безупречно скроенном золотом одеянии, с ослепительной улыбкой, он походил на солнце, внезапно озарившее зал. Но не только его харизма и его неземная красота завораживали присутствующих — это было нечто более глубокое, некий внутренний огонь, связующий Ханумана со страданием его собственной души и с тайными муками всех, кто к нему приближался. Казалось, что он постоянно смотрит в себя, в то страшное вместилище пламени, куда не смеют заглянуть другие. Он находил гордость в том, что терпел боль, испепелившую бы низшее существо. Ибо он горел не только духовно, но и физически — все его движения говорили о том, что каждую клетку его тела подогревает свой крохотный огонек.
Данло был уверен, что лоб Ханумана пылает, как в лихорадке. Хануман шел по черным плитам пола, и Данло казалось, что он видит инфракрасные тепловые волны, исходящие от его рук, его сердца, его благородно вылепленной головы. Через глаза, как ни странно, этот огонь почти не излучался.
Глаза у Ханумана были холодные, дьявольские, льдисто-голубые, как у ездовой собаки. Шайда-глаза, в десятитысячный раз подумал Данло. В этих глазах видны невероятные мечты и холодные кристаллические миры, где нет ни любви, ни подлинной жизни — а еще холодная, ужасная и прекрасная воля к совершенству. Именно эта воля, в первую очередь, и отличает Ханумана от других. Именно поэтому сам лорд Палл боится его. За всю жизнь Хануману встретился только один человек, равный ему по силе воли, — и это Данло ви Соли Рингесс. Когда-то Хануман любил Данло, но теперь его ненависть к прежнему другу ясна всем — она наполняет его глаза бледной, холодной яростью.
— Здравствуй, Данло, — сказал Хануман, остановившись перед стулом в центре зала, легко и свободно, словно встретил на улице знакомого. Бертраму Джаспари, Малаклипсу Красное Кольцо и ста двадцати собравшимся здесь лордам он почти не уделял внимания. — Я не думал, что увижу тебя снова, но чувствовал почему-то, что увижу.
— Здравствуй, Хануман. Я рад, что мы встретились.
— В самом деле?
Данло попытался улыбнуться, но не смог; он смотрел Хануману в глаза, и ему казалось, что два голубых факела вжигаются в его мозг.
Я не должен его ненавидеть, думал он. Не должен.
— Рад, что увидел своими глазами… каким ты стал. — Глядя в глаза Ханумана, Данло растворялся в мире памяти и боли.
— Не надо было тебе возвращаться — но ведь ты всегда следовал за своей судьбой, верно?
— Это ты, Хану, всегда говорил о необходимости любить свою судьбу.
— Да. Тебе хотелось другого: любить жизнь.
— Ты прав, жизнь, саму жизнь… да.
— Ты поэтому вернулся сюда? Из любви?
Странный оборот их разговора позабавил Данло и в то же время глубоко встревожил. Он чувствовал на себе взгляды ста двадцати лордов, желающих убедиться, скажет он правду или солжет. Малаклипс, как тигр, высматривал у него на лице малейшие признаки колебания или слабости, Бертрам Джаспари тоже не сводил с него глаз. Столь интимная беседа казалась неуместной в присутствии всех этих лордов, на виду у всей вселенной. Но если к этому странному моменту Данло действительно привела судьба, он готов был встретить его со всей дикостью и силой своей воли.
— Я люблю тебя по-прежнему, — сказал он Хануману, не стыдясь, со всей искренностью и правдой. — И всегда буду любить.
Эти простые слова поразили и лордов, и самого Ханумана. На миг все обиды и измены прошлых лет испарились, как льдинки под жарким солнцем, и между ним и Данло не осталось ничего, кроме правды их истинной сущности. На миг между ними установилась любовь — но и нечто другое. Хануман, не выдерживая света, льющегося из темных диких глаз Данло, хотел отвернуться, но не смог, и в этом был его ад.
Данло всегда напоминал ему о том единственном во вселенной, чего он боялся, и в этом был их общий ад.
Как ему страшно, как страшно, думал Данло. Это я научил его ненавидеть; я сделал его тем, что он есть.
Не сказав больше ни слова, Хануман поклонился Данло и занял свободное место за ближайшим к лорду Паллу столом, между Алезаром Друзе и Окалани ви Нори Чу. Отсюда он хорошо видел Данло и тех, кто сидел рядом с ним, а также мог обмениваться взглядами с лордом Паллом.
— Сейчас мы выслушаем Бертрама Джаспари, Святого Иви, как он себя называет, — объявил глава Ордена. — Затем я предоставлю слово воину-поэту и в заключение — послам Содружества. Любой из лордов вправе прервать их речь вопросом, если сочтет это необходимым. Я знаю, вам это кажется беспрецедентным варварством, но времена у нас тоже беспрецедентные. Еще ни разу за всю историю мы не проводили конклава с участием представителей столь противоположных сил. И никогда еще, даже во время Войны Контактов, потенциал сил, грозящих нам уничтожением, не был так велик. Прошу вас, Святой Иви.
Бертрам Джаспари разгладил свое плохо выкрашенное красное кимоно и собрался заговорить, но Данло опередил его:
— Святую Иви Вселенской Кибернетической Церкви зовут Харра эн ли Эде. Этот человек пытался убить ее и занять ее место.
Бертрам метнул на Данло ненавидящий взгляд, но промолчал.
— Возможно, это и правда, — вмешался лорд Палл, — но он явился к нам в качестве главы ивиомилов, чей флот затаился где-то в космосе. Мы вынуждены относиться с уважением к любому титулу, который ему будет угодно себе присвоить. Прошу вас, Святой Иви.
Бертрам поправил мягкую коричневую шапочку-добру на своей заостренной голове и начал снова, на этот раз без помех.
— Лорды Ордена Мистических Математиков и Других Искателей Несказанного Пламени, — мрачно и торжественно произнес он. — Вы должны знать, что мы, ивиомилы, есть истинные Архитекторы Бесконечного Разума Вселенской Кибернетической Церкви. Вы должны знать, что сей Разум именуется Эде, Богом и Мастер-Архитектором Вселенной.
При упоминании этого имени голографический Эде бросил на Данло многозначительный взгляд, едва ли не подмигнув ему. Компьютер Данло поставил на подлокотник, ничуть не скрывая его от Бертрама Джаспари, который видел на Таннахилле миллионы таких голограмм. Однако тот никогда еще не видел, чтобы образ Эде был запрограммирован на столь фамильярное и светское поведение. Лицо Бертрама приобрело оскорбленное и подозрительное выражение, но затем он продолжил свою речь:
— В нашем святом Алгоритме сказано: “Нет Бога, кроме Бога; Бог един, и другого быть не может”. Вы должны знать, что любой человек, пытаясь стать богом в подражание Николосу Дару Эде, впадает в величайшее заблуждение. Такой человек есть хакра, бросающий вызов всемогуществу самого Бога — существует ли программа более негативная? Однако в такое заблуждение впасть весьма легко, и посему Церковь учит снисхождению к тем, кто уступает соблазну. Ибо сказано: “В тысячу раз легче помешать тысяче человек стать хакра, чем помешать одному хакра отравить умы миллиона людей”. Мы, люди Церкви, пришли в Цивилизованные Миры именно для того, чтобы помочь вам пережить это трудное время, когда слишком многие склонны писать свои программы самостоятельно, делаясь тем самым хакра.
Бертрам Джаспари говорил гладко, благочестиво и энергично. Язык Цивилизованных Миров он выучил совсем недавно, по пути с Таннахилла, и произносил слова с сильным акцентом, но смысл его речи был ясен как лордам Невернеса, так и Данло с Демоти Беде. Послам он намекал, что ивиомилы могут стать естественными союзниками Содружества, если Орден будет упорствовать в своей гордыне и не откажется от рингизма. Одновременно Бертрам, скользкий, как водяная змея, давал понять лордам, что с помощью ивиомилов рингисты, слегка изменив свои доктрины, смогут примирить свою новую религию с Вселенской Программой Эде.
Но под всем этим показным дружелюбием и рассудительностью таилась угроза. Бертрам пока не спешил ее открывать, опасаясь вызвать этим прямую оппозицию своих слушателей. Он отделывался общими фразами и обещаниями, распространяясь о своей надежде вернуть народы Цивилизованных Миров к Эде. Он напомнил собранию, что Эде родился на Алюмите, поэтому, мол, все человечество должно вернуться к истине, которую Он впервые открыл Архитекторам Алюмита, а также Ньювании, Сиэля и других Цивилизованных Миров.
Он закончил, и лорды начали перешептываться, не решаясь до конца поверить в беспримерную наглость этого Святого Иви.
— На Таннахилле, — ясным, сильным голосом сказал Данло, — во время войны, которую ивиомилы развязали против своих же сородичей, они постоянно говорили о том, чтобы вернуть людей к Эде. Это означало “убить”.
Лорд Палл, обменявшись быстрым взглядом с Хануманом, со свистом втянул воздух сквозь свои черные зубы и попросил Данло рассказать Коллегии о таннахиллской войне.
Данло поведал лордам Невернеса о Войне Террора и о своем участии в этом новейшем расколе Вселенской Кибернетической Церкви, когда одни Архитекторы ополчились против других. Он рассказал о своей дружбе с Харрой Иви эн ли Эде, этой замечательной женщиной, нашедшей в себе мужество переписать Тотальную Программу и Программу Прироста — две доктрины, побуждавшие Архитекторов уничтожать звезды Экстра.
— Бертрам Джаспари отказался принять эту Новую Программу, — сказал Данло, — и начал фацифах, священную войну, охватившую весь Таннахилл. Он уничтожил город Монтелливи. От водородного взрыва погибло десять миллионов человек.
Голову Данло пронзила боль, словно от вспышки этого взрыва, и он прижал ладонь ко лбу.
— Продолжайте, пожалуйста, — сказал ему лорд Палл.
— Но всех Архитекторов, выступивших против него, Джаспари убить не сумел. Поняв, что война проиграна, он бежал с Таннахилла со всеми своими ивиомилами. Он заранее приготовил корабли и ушел в космос, Но прежде чем покинуть Экстр, ивиомилы совершили еще кое-что… и это была шайда, истинная шайда. В тридцати семи световых годах от Таннахилла находилась одна звезда, и на одной из ее планет жили нараины. Когда-то они тоже были Архитекторами, но покинули Таннахилл, чтобы найти свой собственный путь к Эде. Бертрам Джаспари называл их еретиками — и перенес свой фацифах на них. Вернул их к Эде. На одном из своих кораблей ивиомилы установили моррашар — машину, убивающую звезды. Джаспари уничтожил с ее помощью звезду нараинов, а с ней и всю планету, весь народ. Я… знаю. Я видел, как взорвалась звезда. На обратном пути через Экстр я нашел ее останки, газы и радиоактивную пыль. От самих нараинов не осталось ничего.
Едва Данло закончил, Бургос Харша громко стукнул рукой по столу и обратился к лорду Паллу с вопросом:
— Правда ли то, что говорит этот пилот?
Предполагается, что цефики — в первую очередь Главный цефик — способны определить по лицу человека, правду тот говорит или лжет. Лорд Палл взглянул на Ханумана, не сводившего глаз с Данло. Хануман сидел не мигая, сведя вместе костяшки рук. Лорд Палл, почерпнув, видимо, какую-то тайную информацию в этой его позе, сделал знак своему переводчику, который сказал:
— Данло ви Соли Рингесс всегда был безупречно правдивым человеком — но правду всякий видит по-своему. Впрочем, нам нет необходимости полагаться только на его слова. Посмотрите на Святого Иви. Не надо быть цефиком, чтобы прочесть, что написано у него на лице.
Бертрам действительно даже и не думал отрекаться от истребления нараинов — он явно ликовал, вспоминая об этом.
Данло открыл всем его истинное лицо — ну что ж, прекрасно; значит, можно больше не изображать из себя доброжелателя. Под напускной елейностью на синюшном лице Бертрама просматривался садизм. То, что Данло рассказал о его могуществе, было ему только на руку. Он улыбнулся Данло и, глядя на лорда Палла, процитировал из Алгоритма:
— “Ивиомилы суть избранники Бога, и звездный свет служит им мечом”.
Большинство лордов в зале были людьми преклонного возраста, но из ума они отнюдь не выжили. Никто не принял цитаты Бертрама за поэтическую метафору. Нитара Тан с Утрадеса, Алезар Друзе, Саша Чу — никто не сомневался в том, что этот уродец намерен захватить власть над Цивилизованными Мирами под угрозой их уничтожения.
— Харра эн ли Эде подчиняется негативным программам, — пояснил Бертрам. — Алгоритм учит нас, что всякий, уступивший подобному соблазну, должен быть очищен — огнем фацифаха, если это необходимо. Все, кто отрицает Вселенскую Программу Эде, должны подвергнуться очищению.
При этих словах Мерата Просвещенный, седовласый эталон с Веды Люс, обратился к Коллегии, указывая костлявым пальцем на Бертрама:
— Если этот человек имеет власть уничтожать звезды, почему же он не взорвал своим моррашаром звезду Таннахилла, прежде чем бежать из Экстра?
Бертрам улыбнулся, как будто ответ подразумевался сам собой, и объяснил:
— Вопреки тому, что наговорил здесь этот пилот, мы, ивиомилы, — не убийцы. Большинство наших собратьев-Архитекторов на Таннахилле понимает, что Харра, отредактировав программы Тотальности и Прироста, впала в заблуждение. Справедливо ли подвергать всю планету очищению из-за негативных программ одной старухи, которая цепляется за свой пост?
Он надеется вернуться на Таннахилл, понял вдруг Данло. Надеется вернуться туда, набрав силу, и стать правителем Таннахилла в качестве Святого Иви.
Лорд Палл, заметив, как Хануман поджал свои тонкие губы, показал знаками переводчику:
— Боюсь, что нам придется признать как факт: Бертрам Джаспари не только способен уничтожить Звезду Невернеса, но и готов это сделать.
Какой-то миг в зале все молчали и никто не шевелился.
Бертрам смотрел на лордов, и его лицо красноречиво подтверждало его намерения.
Бургос Харша, пострадавший при ядерном взрыве от осколков стекла в башне Хранителя Времени, питал личную ненависть к людям, склонным обращать водород в световую энергию.
— Очень возможно, что этот “Святой Иви” действительно способен уничтожить нашу звезду, — сказал он. — Я постоянно предупреждал вас против терпимости к запретной технике. Но как он намерен использовать эту свою технику, этот моррашар, о котором говорит Данло ви Соли Рингесс? Разве его флот не должен сначала подойти к Звезде Невернеса, чтобы взорвать ее? И разве наши пилоты недостаточно искусны, чтобы обнаружить корабли ивиомилов, когда те выйдут из мультиплекса, и уничтожить их самих?
Это вызвало в зале ожесточенные споры: лорды, разбившись на группы, обсуждали стратегию, к которой могли прибегнуть ивиомилы. В конце концов лорд Палл вскинул руку, поморгал своими розовыми глазами и сказал:
— Я вижу, Данло ви Соли Рингесс имеет сказать нам что-то еще.
— Да. — Данло взглянул на черное пилотское кольцо у себя на мизинце. — Есть один пилот-отщепенец, который преследовал меня в Экстре. Это он вез на своем корабле Малаклипса Красное Кольцо — тот надеялся, что я приведу его к своему отцу. Оба они шли за мной всю дорогу до Таннахилла. Я так и не сумел оторваться от них.
— Как зовут этого пилота? — спросил лорд Палл.
Лорды умолкли, и в мертвой тишине зала сердце Данло стучало, как барабан.
— Шиван ви Мави Саркисян на “Красном драконе”. Теперь он, думаю, ведет тот тяжелый корабль, на котором стоит моррашар ивиомилов.
Бертрам снова улыбнулся, подтверждая догадку Данло.
— Шиван ви Мави Саркисян? — повторил Родриго Диас.
Одни лорды, услышав это имя, принялись охать и вздыхать, другие молча смотрели на Бертрама, как бы сожалея, что их обеты запрещают им убивать.
— До того, как уйти из Ордена, он был первоклассным пилотом, — сказал Джонат Парсонс. — Не хуже Сальмалина, а может, и самого Мэллори Рингесса.
— Но почему же он служит секте фанатиков, уничтожающих звезды?
На этот вопрос никто не знал ответа, даже лорд Палл, обычно читавший чужие умы с такой же легкостью, как план городских улиц. Хануман с замкнутым лицом закрыл глаза и ушел в свой внутренний мир, освещаемый его кибершапочкой. Тогда Малаклипс Красное Кольцо, послав Данло мимолетную, почти потаенную улыбку, сказал:
— Он служит мне. Служит ордену воинов-поэтов.
— Предатель! — вскричали разом двадцать лордов, а еще пятьдесят подхватили: — Ренегат! Отщепенец! Беспутный!
Малаклипс поднял руки с красными кольцами, призывая их к сдержанности.
— Вам следовало бы спросить, для чего мой орден заключил с ивиомилами союз.
— И для чего же? — осведомился Бургос Харша.
— Никакой тайны тут нет, — сказала Коления Мор. — Воины-поэты вот уже семь тысяч лет пытаются уничтожить наш Орден.
— Дело не только в этом, — заметил Данло. Встретив холодный взгляд Ханумана, он рассказал лордам тайну, которой больше десяти лет не делился ни с кем, кроме Бардо. — Я узнал кое-что от воина-поэта по имени Марек — в библиотеке, в тот день, когда он пытался убить Ханумана ли Тоша.
Глаза Ханумана стали твердыми, как два замерзших пруда. Он должен был хорошо помнить, как Марек собирался ввести свой нож ему в глаз — медленно, вдоль зрительного нерва. И, несомненно, помнил боль, которую испытал, когда Марек кольнул его дротиком с экканой: этот яд до сих пор мучил Ханумана, воспламеняя его нервы, и должен был мучить до конца его дней.
— Продолжайте, пожалуйста, — сказал лорд Палл Данло.
Данло склонил голову, воздавая дань страданиям Ханумана, которые ему предстояло испытывать ежесекундно, пока холодная ладонь смерти не избавит его от них, и сказал:
— У воинов-поэтов появилось новое правило: убивать всех потенциальных богов. Вот почему Малаклипс следовал за мной через Экстр. Он надеялся, что я приведу его к моему отцу. Надеялся… убить его.
— Но твой отец — Мэллори Рингесс! — воскликнула Коления Мор. — Бог!
— Разве может воин-поэт убить бога? — взволнованно спросила Нитара Тан.
— Вот вернется Мэллори Рингесс в Невернес и сам его убьет, — заявила Коления и продолжила, радуясь случаю показать свою приверженность Первому Столпу рингизма: — Ибо когда-нибудь он вернется и научит нас, как стать богами. И мы станем ими, непременно станем. Если новое правило воинов-поэтов обязывает их убивать потенциальных богов, им придется перебить половину населения Цивилизованных Миров.
Воины-поэты, верящие, что вселенная подчиняется вечному циклу смерти и возрождения, живут в ожидании высшего Момента Возможного, когда все сущее вернется к своему божественному истоку. И если вселенная действительно близка к этому полному огня и света Моменту, думал Данло, то воины-поэты без колебаний перебьют всех и каждого во исполнение рокового предназначения.
Свет, падающий сквозь купол, зажег одежду Малаклипса радужными огнями.
— Мы не стремимся убивать всех, кто желает стать богом, — с улыбкой молвил воин-поэт, — только тех, кто уже, возможно, добился этого, наподобие Мэллори Рингесса.
Но зачем нужно вообще убивать богов? Данло, утопая в лиловых глазах Малаклипса, думал, что у воинов-поэтов есть более глубокая цель. Когда-то они искали умственного могущества, почти равного божественному, но теперь дело выглядело так, будто сами боги заставили их отказаться от этой мечты. Если для вселенной действительно существует момент, когда все станет возможным, и если воины-поэты согласны ждать его, не выходя за рамки своей человеческой сущности, почему бы богам не ускорить его приход?
Данло находил странным, что воины-поэты придерживаются таких же эсхатологических взглядов, что и Архитекторы. Алгоритм, священная книга всех кибернетических церквей, учит, что в конце времен настанут Последние Дни, когда Бог Эде, разросшись, поглотит всю вселенную и, как Мастер-Архитектор, переделает ее, совершив так называемое Второе Сотворение. Желая проникнуть в истинную цель воинов-поэтов, Данло указал Малаклипсу на компьютер-образник, стоящий на подлокотнике стула.
— Известно ли тебе, что бог Эде умер? Программа, управляющая этим компьютером, — вот и все, что от него осталось.
Данло рассказал лордам о своем путешествии в Твердь, а затем в пространства Джилады Люс, где он обнаружил останки бывшего бога Эде. Эде вел смертельную войну с Кремниевым Богом, сказал он, и в последние моменты их последней битвы закодировал свое “я” в радиосигнал, который затем был принят вот этим самым компьютером. Теперь программа Эде управляет вот этой коробочкой вместо машины, занимавшей несколько звездных систем.
— Лжец! — вскричал Бертрам Джаспари, и его синюшное лицо налилось кровью. Что бы ни думал о рассказе Данло Малаклипс, на Бертрама этот рассказ произвел куда более разительное впечатление. — Наман и лжец — все наманы лжецы, ибо отвергают истину божественности Эде. Слушай меня, пилот: Эде есть Бог, Единственный, Бесконечный и Вечный. Тот божок, которого ты нашел мертвым в галактике, был жалким хакра, которого Эде покарал за его спесь.
Он воспринимает мифы своей церкви буквально, понял Данло. До сих пор он думал, что Бертрам просто напускает на себя святость, чтобы легче захватить власть. Но нет: Бертрам верует искренне, и это самое опасное в нем.
— И если твой отец в самом деле вернется, — продолжал Бертрам, — воинам-поэтам не придется убивать его. Он падет от руки Эде.
И Бертрам, глядя на Данло в упор, процитировал:
— И Эде сопрягся со вселенной, и преобразился, и увидел, что лик Бога есть его лик. Тогда лжебоги, дьяволы-хакра из самых темных глубин космоса и самых дальних пределов времени, увидели, что сделал Эде, и возревновали. И обратили они взоры свои к Богу, возжелав бесконечного света, но Бог, узрев их спесь, покарал их слепотой. Ибо вот древнейшее учение, и вот мудрость: нет Бога, кроме Бога, Бог един, и другого быть не может.
Когда Бертрам закончил свою напыщенную речь, Данло взглянул на голограмму Эде, светящуюся над компьютером. Эде решительно сжал свои чувственные губы, и его черные глаза сверкали. Пальцы Эде мелькали, складываясь в знаки цефического языка, которому обучил его Данло. Многие лорды в зале понимали этот язык, но они сидели слишком далеко, и их старые глаза слишком ослабли, чтобы рассмотреть жестикуляцию Эде. Хануман, однако, сидел близко и остротой зрения почти не уступал Данло — поэтому его должно было порядком озадачить секретное послание Эде: “Пожалуй, сейчас неподходящий момент говорить Бертраму о том, что Эде, Вечный и Бесконечный, просит вернуть ему его человеческое тело”.
Данло смотрел на него с улыбкой. Кофейное лицо Эде прямо-таки лучилось надеждой и юмором, и Данло в который раз подумалось, что программа, управляющая этим светящимся человечком, возможно, все-таки обладает чем-то вроде человеческого сознания.
После этого настал момент, когда к Коллегии впервые обратился Хануман ли Тош, обладатель серебряного языка и золотого голоса; голос был его мечом, и Хануман с помощью своей цефической науки отполировал и отточил его так, что он проникал в самую глубину людских мечтаний и страхов.
— Мэллори Рингесс, безусловно, вернется в Невернес. — Сказав это, Хануман закрыл глаза, и шапочка у него на голове засветилась. Когда он в следующий момент взглянул на Бертрама Джаспари, его взгляд излучал обновленную энергию. — И он, конечно же, не позволит воину-поэту убить себя. Он, величайший пилот за всю историю Ордена, вернется, чтобы повести наши корабли к победе, а возможно, придет, когда Сальмалин разгромит флот Содружества. Но вернется он непременно, как обещал, покидая Невернес, чтобы стать богом.
Хануман повернулся лицом к лорду Паллу, обволакивая его своим голосом и в то же время разговаривая с ним глазами на языке, понятном только им двоим. Данло знал, что у цефиков есть два языка: мимики и жестов и другой, по-настоящему тайный, когда информация передается, скажем, сокращением челюстных мускулов вкупе с краткими перерывами дыхания. Так могут беседовать только два цефика, и не абы какие, а цефики высшей ступени; поэтому оставалось загадкой, каким образом изучил этот язык Хануман ли Тош. Тем не менее Хануман его знал — Данло видел это и видел зловещую тайную власть, которую Хануман имел над лордом Паллом.
— Мой Главный Цефик, — сказал Хануман вслух, обращаясь к своему бывшему наставнику, — с этим воином-поэтом надо что-то сделать.
— Что вы имеете в виду? — спросил лорд Палл, прекрасно зная, что имеет в виду Хануман.
— Мы не можем жить в постоянном страхе перед тем, что он попытается убить Мэллори Рингесса, когда тот вернется.
— Не можем, — согласился лорд Палл.
— Мы не можем допустить, чтобы этот человек, опасный, как тигр, разгуливал на свободе.
Малаклипс действительно смотрел на Ханумана, как хищник на добычу, и мускулы под его радужным одеянием играли, точно он готовился к прыжку.
— Но ведь он под прицелом, — заметил Бургос Харша, кланяясь горологу, стоящему позади Малаклипса. Горолог, на чьей красной блузе проступили под мышками пятна от пота, все так же целил в затылок воину-поэту.
— Воина-поэта таким образом остановить невозможно, — ответил Хануман. — Он не боится смерти и может нанести удар в любой момент. Поймите: он способен воткнуть отравленную иглу в шею одному из послов, прежде чем наш горолог успеет сообразить, что он шевельнулся.
Данло, хорошо помнивший, с какой ошеломляющей быстротой движутся воины-поэты, спокойно сидел рядом с Малаклипсом, но Демоти Беде смотрел на него глазами затравленного животного и нервно теребил свой воротник.
— Как же вы намерены с ним поступить в таком случае? — спросил Харша у Ханумана; — Если принятых Орденом мер, по-вашему, недостаточно?
— С разрешения Главного Цефика я готов принять другие меры, — ответил Хануман, с улыбкой взглянув на лорда Палла.
Тот, словно замороженный ледяным взором Ханумана, помедлил мгновение и сказал:
— С воинами-поэтами никакие меры предосторожности не бывают излишними. Что вы предлагаете, лорд Хануман?
Данло впервые услышал, как Ханумана назвали лордом; тот принял этот титул как должное, словно полководец от побежденного врага.
— Сейчас. — Хануман кивнул другому горологу, стоящему у одной из дверей, и тот раскрыл створки с резными изображениями наиболее знаменитых лордов Ордена. Шесть крепких рингистов, с головы до ног одетых в золото, как и сам Хануман, быстро прошагали по черному полу и окружили стул, на котором сидел Малаклипс.
— Это неслыханно! — запротестовал Бургос Харша. — Эти люди не члены Ордена, и здесь им не место!
— Как раз напротив, — возразил Хануман. — Это моя личная охрана, мои божки, и их место — рядом со мной.
С этими словами он кивнул одному из рингистов, крутому и жестокому на вид человеку — бывшему воину-поэту, дезертировавшему из своего Ордена. Он, видимо, повредил глаза в стычке с себе подобными и теперь заменил их искусственными, холодными и блестящими, на которые было страшно смотреть. Малаклипс, однако, воспринимал это жуткое зрелище с полной невозмутимостью — казалось, что его взгляд проникает сквозь два этих оптических устройства прямо в душу бывшему собрату.
Зато ренегат испытывал явное замешательство под этим взглядом. С бесконечной осторожностью он извлек из кармана веретенце, нажал на спуск, и оттуда брызнула струйка жидкого белка. На воздухе белок сразу застывал, превращаясь в необычайно прочное волокно, известное как жгучая веревка. Рингист стал описывать круги вокруг Малаклипса, прикручивая его руки и ноги к стулу. Если бы Малаклипсу вздумалось теперь шевельнуться, волокно обожгло бы его, как кислота.
— Право, это уж слишком! — снова возмутился Харша.
Он, как и все лорды, боялся, должно быть, даже думать о том, каким образом Хануман обратил на Путь Рингесса бывшего воина-поэта.
— Все опять-таки обстоит как раз наоборот, Главный Историк, — ответил ему Хануман. — Этого недостаточно.
Хануман сделал знак ренегату, которого звали Ярослав Бульба, и тот вместе с другим божком принялся обыскивать Малаклипса.
— Но Малаклипса Красное Кольцо определенно уже обыскали!
— Нет, Главный Историк. Он воин-поэт, и по этой причине обыск не мог дать должных результатов.
Пока второй божок, тоже бывший воин-поэт, водил сканером по торсу, рукам и ногам Малаклипса, Ярослав Бульба рылся в его блестящих густых волосах. Хануман назначил Ярослава командиром своей охраны за его преданность и мужество (а также жестокость), и теперь тот вымещал злость, накопленную против бывшего своего Ордена, на воине-поэте, носящем два красных кольца. Втайне боясь этого человека, который мог бы прихлопнуть его, как муху, он маскировал свой страх грубостью. Запустив пальцы в волосы Малаклипса, он без всякой нужды дергал его голову вправо и влево.
Это, видимо, придавало ему смелости, поскольку его алмазные глаза светились красным огнем, как плазменные факелы.
Когда он дошел до черно-белых завитков на висках, Малаклипс внезапно открыл рот — и Ярослав, наверно, усмотрел в этом движение змеи, обнажающей ядовитые зубы. Он отскочил назад и врезался в другого божка, который из-за этого чуть не выронил свой сканер. Но изо рта Малаклипса вылетели не отравленные дротики, а всего лишь слова:
— Я запомню тебя, — сказал он. — Когда придет твой момент возможного, я вспомню, кто ты есть.
После этого Ярослав завершил свой обыск с гораздо большей осторожностью, если не сказать предупредительностью. Результатом трудов обоих рингистов стал весьма впечатляющий арсенал: иглы с красными наконечниками, вшитые в одежду, жгучая веревка, обнаруженная там же, пластиковая взрывчатка под стельками ботинок, два зуба с ядовитыми капсулами, тепловой тлолт, два пальцевых ножа. В трех карманах, вживленных в кожу, содержались какие-то биоматериалы — скорее всего запрограммированные бактерии или смертельные вирусы. Самым поразительным из всего изъятого оказался нож воина-поэта — длинный клинок из алмазной стали с черной налловой рукояткой. Уж это-то оружие, наиболее почитаемое воинами-поэтами, должен был выявить даже самый поверхностный обыск. Как Малаклипс умудрился пронести его в Коллегию, оставалось тайной.
— Готово, лорд Хануман, — доложил Ярослав, потной рукой наставив нож на Малаклипса. — Этот воин-поэт больше не опасен.
Глаза обезоруженного Малаклипса вонзились в Ярослава, как два лиловых клинка.
— Кто тронет нож воина-поэта, того этот нож тронет сам — так говорят.
— Я помню. — Ярослав сунул нож за свой черный пояс. — Я сохраню его на случай, если мне понадобится тронуть тебя.
Хануман взглянул на лорда Палла, слегка приподняв бровь, и глава Ордена сказал:
— Настало время выслушать послов Содружества. Лорд Беде, Данло ви Соли Рингесс — прошу вас.
— Лорды Ордена, — начал Беде. Они с Данло договорились, что ему как старшему следует высказаться первым. — Лорд Хануман ли Тош. Нам поручено покончить с этой войной, пока не случилось худшего. Мы уполномочены договориться о мире, приемлемом как для Содружества, так и для Ордена. Данло ви Соли Рингесс и я готовы остаться в Невернесе на столько времени, сколько потребуется для этих переговоров.
Далее Беде остановился на великих традициях Ордена, обязывающих нести свет разума и несказанное пламя истины Цивилизованным Мирам. Он, как и каждый человек, надеется, сказал лорд, что разум и истина в конце концов восторжествуют.
Когда он закончил, Хануман, посмотрев на лорда Палла, свел вместе большие пальцы и слегка выдвинул вперед левое плечо.
— Мы тоже надеемся, что истина восторжествует, — сказал лорд Палл, — и во имя этой истины просим вас изложить ваши требования.
— Лорд Палл, я не хотел бы начинать переговоры с заявления о том, что Содружество прежде всего волнует…
— Изложите ваши требования, — отрезал Палл. Чувствуя постоянное давление со стороны Ханумана, он стремился оказать давление на других. — На дипломатические тонкости времени не остается. С каждым лишним словом ваш флот приближается к Невернесу.
Пришлось Беде без дальнейших околичностей объявить Коллегии, что Содружество намерено воевать. Он обвинил Орден в нарушении Закона Цивилизованных Миров, а именно в разрушении лун и сооружении Вселенского Компьютера. Первое из требований Содружества, сказал он, заключается в том, чтобы Орден прекратил разработку лун и разобрал Вселенский Компьютер, пока гнев какого-нибудь ревнивого бога не обрушился на Цивилизованные Миры.
— Орден, разумеется, свободен и далее исповедовать рингизм — как волен в этом каждый житель Цивилизованных Миров. Но Закон Цивилизованных Миров должен остаться незыблемым. Мы здесь, в частности, для того, чтобы разработать ряд соглашений, которые воспрепятствуют рингизму ввергнуть кого бы то ни было, будь то человек или целый мир, в черные водовороты хаоса за пределами закона.
Видя перед собой каменные лица ста двадцати лордов, Беде со вздохом поклонился Данло в знак того, что передает ему слово. Данло, потрогав свою отравленную пряжку, набрал воздуха и начал:
— Высокочтимые лорды, мы должны найти путь к миру. Мир — это…
— Этот наман, — прервал его Бертрам Джаспари, — называет ивиомилов террористами и убийцами, мы же объявляем его лицемером. Он говорит о мире и о прекращении войны. Но как он намерен добиться этого мира? Грозя войной. Угрожая Невернесу мощью армады Содружества в случае, если вы не согласитесь на его требования. Данло ви Соли Рингесса нарекли Миротворцем и Светоносцем, но мы говорим: он убийца. И смерти погибших на этой войне будут на его совести не меньше, чем на совести пилота любого легкого корабля.
Бертрам при всей своей мелочности и садизме был отнюдь не лишен проницательности. Он достаточно хорошо знал Данло, чтобы задеть его за живое или по крайней мере поселить в нем глубокие сомнения.
Это правда: Содружество грозит Ордену насилием не меньше, чем ивиомилы, подумал Данло. А я такая же часть Содружества, как палец — часть руки. Какой-то миг казалось, что Данло, пристыженный Бертрамом, замолк окончательно, однако он начал сызнова:
— Содружество никого еще не лишило жизни. Я… для того и прибыл в Невернес, чтобы никто никого не лишал больше жизни. Для людей должен существовать иной путь, помимо убийства.
Этим он выразил самую суть того, что собирался сказать.
Он намеревался, конечно, развить свою мысль, но тут одна из наиболее преданных Хануману лордов, Тизза Вен, выкрикнула из задних рядов:
— Беспутный смеет говорить нам о пути?
— Это верно: у человечества есть такой путь, — подал голос Главный Фантаст Седар Салкин. — Путь Рингесса.
— Новый путь для мужчин и женщин, — добавила Коления Мор, послав лорду Салкину улыбку. — Путь, помогающий им стать богами.
— Да, новый путь, — прозвучал золотой голос Ханумана, благожелательный, но полный огня. Хануман обвел взглядом лордов справа и слева от себя, привлекая к себе их внимание. — Мы должны помнить, что Путь Рингесса нов, — и сами должны обновиться. Мы должны проломить скорлупу старых взглядов, ограждающую нас от нашей судьбы, должны воспарить ввысь на золотых крылах, исполнив свое предназначение. Поэтому нам нужен новый закон. Закон Цивилизованных Миров был создан для людей — именно для того, чтобы они оставались людьми и ничем более. Отчего так? Оттого, что его создатели боялись наших бесконечных возможностей. Они были трусами, но кто упрекнет их за это? Чем выше, тем больнее падать, как говорится. Однако для каждого разумного вида приходит время, когда он должен осуществить самые заветные свои мечты — либо завязнуть в трясине эволюционного застоя. Теперь это время пришло для нас. Наш черед выбрать: облака и Золотые Кольцо вселенной — или трясина. Но разве мы не совершили уже свой выбор? Половина Цивилизованных Миров избрала для себя. Путь Рингесса. Мы, облаченные в золото, не намерены навязывать свою волю беспутным — но пусть и они не навязывают нам закон, которому мы будто бы должны следовать. Настало время принять новый закон для новых существ, которыми мы становимся. Закон для богов.
Хануман сделал паузу.
— Но я — только Светоч Пути Рингесса. У меня и в мыслях нет подсказывать лордам Ордена, что ответить этим послам, которые настаивают на слепом подчинении старым законам. Его глаза, устремленные на лорда Палла, переместились вправо, потом влево и дважды медленно мигнули. Тогда лорд Палл, повинуясь этим почти невидимым указаниям, сказал: — Было бы глупо делать вид, что Орден ничем не связан с Путем Рингесса. И если Орден прислушается к совету лорда Ханумана, в этом, на мой взгляд, не будет ничего неподобающего.
Бургос Харша открыл было рот, но, прежде чем он успел вымолвить слово, голос Ханумана прорезал воздух, будто серебряный нож:
— Мы живем в опасные времена, и опасность подстерегает нас на любом пути, который мы можем избрать. — Хануман склонил голову перед Бертрамом Джаспари и воином-поэтом, обмотанным витками блестящего волокна, а затем отдал такой же поклон Демоти Беде и, наконец, Данло. — Здесь перед нами находятся представители двух сил. Содружество требует, чтобы мы разобрали величайшее из наших сооружений и подчинились их закону. Ивиомилы требуют еще большего: они хотят править Цивилизованными Мирами, превратив нас в своих рабов. Да, таково их подлинное желание, и вы должны отдать себе в этом отчет. Но может ли сделаться рабом тот, кто почти уже стал богом? Я лично предпочел бы смерть подчинению чужой воле. Но даже если бы я — даже если бы мы все согласились стать рабами, нас бы это не спасло. Мы живем в опасные времена: я не устану повторять это. Боги ведут войну друг с другом, и сам Бог Эде, если верить Данло ви Соли Рингессу, пал на этой войне. Есть, кроме того, ивиомилы, уничтожающие звёзды своим моррашаром и угрожающие уничтожить нашу звезду. Как отнестись нам к подобной угрозе: с покорностью рабов или с величием богов? Я знаю, я видел: только став богами, обезопасим мы себя от богов. А также от ивиомилов, воинов-поэтов и прочих, убивающих всех, кто движется к божественному. Я понимаю, что это парадокс, но наиболее опасный путь есть также и самый безопасный. Нас миллионы миллионов; мы — золотая звездная пыль; разве под силу даже самым могущественным из богов помешать нам завоевать всю вселенную?
Сидящие в зале лорды отнюдь не желали становиться чьими-то рабами. Орден уже три тысячи лет был величайшей силой Цивилизованных Миров, и лорды привыкли верить в незыблемость своей власти, как богач верит, что его запасы еды и вина никогда не иссякнут. Но в этот критический момент истории они вдруг испугались, что могут потерять эту власть — и проиграть войну, угрожающую не только их жизни, но самому их миру.
— Что же нам делать с Содружеством? — спросил Бургос Харша. — И с ивиомилами? Ведь нельзя же ожидать, что они преисполнятся почтения к нашей мечте и тихо удалятся?
— Это верно, нельзя, — согласился Хануман. — Поэтому мы должны внушить им почтение иным способом.
— Каким, например?
— Мы будем охотиться на них, как талло на гладышей. Если даже Шиван ви Мави Саркисян равен в мастерстве Сальмалину, вечно бегать от лучших пилотов Ордена он не сможет.
— Ему и не надо бегать вечно. Чтобы уничтожить Звезду Невернеса, довольно одного раза.
— Я думал об этом. — Хануман прижал пальцы к вискам, и нейросхемы его шапочки вспыхнули миллионом пурпурных змеек — Вероятность того, что Шиван сумеет выйти к нашей звезде, пока ее будут охранять легкие корабли, близка к нулю. Значит, у ивиомилов есть какой-то другой стратегический план. Какой?
— Я историк, а не воин, — сказал Бургос Харша. — Откуда мне знать их планы?
— Я тоже не воин, — заметил Хануман, но Данло знал, что это не совсем так. Хануман с детства занимался боевыми искусствами, и война была для него столь же естественным делом, как охота для снежного барса. — Но я цефик — вернее, обучался цефике. Я смотрю на Бертрама Джаспари глазами цефика — и что же я вижу?
Бургос Харша и другие лорды тоже уставились на Бертрама, который прямо-таки излучал ненависть к Хануману.
— Что же вы видите, лорд Хануман? — спросила Коления Мор.
— Он выжидает, — сказал Хануман. — Коли флот Содружества нападет на нас здесь, близ Звезды Невернеса, мультиплекс будет сверкать огнями, как новогодний фейерверк. В этаком хаосе обнаружить выход единственного тяжелого корабля в реальное пространство будет почти невозможно.
Бертрам, услышав, как Хануман разоблачил его тайную стратегию, покрылся красными и синими пятнами. Он явно рассчитывал, что Орден уступит его требованиям, — иначе он никогда не рискнул бы явиться в Невернес. Теперь, когда его план провалился, он замкнулся в угрюмом молчании.
— Повторю еще раз: я не воин, — продолжал Хануман, — но сказанное мной предполагает, что мы должны атаковать Содружество до того, как оно атакует нас.
— Оставив Невернес и нашу звезду без всякой защиты? — осведомился Харша.
— О нет — разумеется, нет. Для ее защиты мы оставим пятьдесят легких кораблей. Еще двадцать пять будут охотиться за ивиомилами. Даже при этом условии кораблей у нас будет почти вдвое больше, чем у Содружества.
— Но что, если наш флот не обнаружит флот Содружества, пока тот не подойдет совсем близко к Невернесу?
Хануман помолчал, глядя в центр зала, где сидел Данло.
При свете из купола глаза Данло синели, как океан.
— Может быть, мы сумеем предугадать маршрут Содружества по звездным каналам, — сказал наконец он. — Мы попросим наших скраеров поискать их флот. В случае успеха мы нападем на врага внезапно и разобьем его.
Хануман перевел взгляд на лорда Палла, и их глаза вступили в безмолвный разговор. Данло почти не понимал этого тайного языка, но в холодном взгляде Ханумана читалась стальная воля. Лорд Палл, однако, сохранил еще остатки своей.
Данло угадывал это по миганию его розовых глаз. Оба цефика общались при помощи подрагивания пальцев и трепета век. Но и Данло, и Малаклипс, и Бертрам, и все остальные видели, что решающее слово в этом диалоге принадлежит воле двух этих сильных людей. Поединок закончился победой Ханумана. Старческие плечи лорда Палла затряслись от бессильного гнева, и он, пустив в ход заржавевшие голосовые связки, проскрипел:
— Лорды и коллеги, сейчас мы попросим послов удалиться, чтобы посовещаться между собой. Хануман ли Тош предлагает взять воина-поэта под стражу на время переговоров, и я нахожу это разумным. Лорд Хануман просит также о личной встрече с Данло ви Соли Рингессом и предлагает поместить его у себя в соборе. Переговорам это ни в коей мере не помешает: пилот сможет каждый день являться в Академию, чтобы участвовать в них наряду с лордом Беде. Почтенному лорду мы предоставим его старую квартиру в Упплисе. Бертрам Джаспари также останется в стенах Академии, и мы предоставим ему возможность связаться со своим флотом, если он того пожелает.
Выслушав это странное решение, многие лорды запротестовали одновременно. Против высказались Бургос Харша, Людмила Катарилл, и Бертрам Джаспари тоже присоединился к недовольным.
— Лорд Палл, — сказал он, — мы с Малаклипсом Красное Кольцо оба прибыли сюда в качестве послов, и разлучать нас недопустимо.
Лорд Палл чуть ли не улыбнулся, радуясь случаю проявить наконец свою волю.
— Напротив: мы просто обязаны разлучить вас. Вы даже не представляете, как опасен для вас этот воин-поэт. Вы сами объявили себя Святым Иви Вселенской Кибернетической Церкви, и Орден не может допустить, чтобы с вами случилось что-то дурное, пока вы находитесь в Невернесе.
Сказав это, лорд Палл взглянул на Ханумана, тот кивнул Ярославу Бульбе, Ярослав махнул четырем своим божкам, а они, кряхтя и отдуваясь, подняли за ножки стул с привязанным к нему Малаклипсом на высоту плеч.
— Благодарю всех лордов за то, что пригласили меня на Коллегию. — Хануман поклонился собранию и подошел к Данло, все так же сидящему на своем стуле. — Ты идешь? — тихо произнес он.
Данло снова потрогал свою пряжку, посмотрел на Ярослава и спросил: — Разве ты не прикажешь своим охранникам связать меня жгучей веревкой?
— А разве это необходимо?
— Нет. Я… пойду сам.
Пока он раскланивался с Демоти Беде и лордами Ордена, Хануман обратился к Коллегии с заключительным словом:
— Сейчас мы переживаем момент величайшей опасности, но в то же время и момент величайших возможностей. Мы не должны забывать, что Мэллори Рингесс скоро вернется и поведет нас навстречу этим возможностям.
Он сделал знак своей охране и Данло следовать за собой. Данло выждал три удара сердца, глядя на свое отражение в блестящем черном полу и думая, что было бы, если бы отец действительно вернулся в Невернес. Потом он взял свой компьютер-образник и зашагал за Хануманом к выходу.
Глава 7 ЗАКОН ДЛЯ БОГОВ
Следуй собственной воле — это и будет закон.
Мастер Терион [1]В сердце Старого Города, где поднималось к небу множество старинных зданий во всей красе и силе органического камня, стоял собор, принадлежащий божкам Пути Рингесса, — великолепный ансамбль из гранитных стен, летящих контрфорсов и витражей, изображающих события из жизни Мэллори Рингесса. Христианская секта построила его в форме креста, ось которого тянулась на восемьсот футов вдоль городского квартала, а концы перекладины отходили на север и юг. Там, где короткая земная линия соединялась с длинной, символизирующей путь к небесам, в этом средоточии огня и боли, высилась колокольня. Стрельчатые шпили и лепная работа придавали ей воздушную красоту, но Хануман ли Тош занял помещение на самой ее вершине не из-за одной красоты. Оттуда, с высоты, открывался великолепный вид на площадь Данлади, кладбище, Фравашийский сквер и другие кварталы Старого Города; говорили также, что Хануман любит смотреть на ту часть Невернеса, где рингизм набрал самую большую силу.
В самом деле, треугольник, вписанный между Старгородской глиссадой, Огненным катком на севере и Академией на востоке, манил к себе рингистов со всего города, и они прилагали все старания, чтобы там поселиться. В любое время суток, даже поздней ночью, божки в золотых одеждах наводняли улицы, направляясь в многочисленные кафе или на ежевечернюю службу в собор. Хануману было, наверно, очень приятно слышать, как постукивают коньки по льду, и видеть, как его божки в золотых одеждах струятся по красным ледянкам, частенько запруживая более широкие, зеленые и оранжевые глиссады, ведущие в другие кварталы Невернеса.
Вечером того же дня, когда состоялось заседание Коллегии, Хануман пригласил Данло к себе на башню. Данло отвели, комнату-келью — в одной из соборных пристроек, в часовне, примыкавшей к главному зданию с северной стороны. Он провел там несколько долгих часов, играя на флейте и порой перекидываясь несколькими словами с Эде. Когда последние лучи заката окрасили толстые клариевые окна кельи в бледно-желтый цвет, Ярослав Бульба с еще одним бывшим воином-поэтом пришли, чтобы проводить Данло к Хануману.
Отперев стальную дверь кельи массивным ключом, они поставили Данло между собой и повели его по длинному мрачному коридору.
В затхлом воздухе пахло маслом капы, которым душились воины-поэты; пряный, отдающий мятой аромат бил в нос, заглушая запах пыли, высохших насекомых и паутины. Этими помещениями в самом низу часовни, очевидно, давно никто не пользовался. Даже теперь, когда божки из тысячи миров охотно заселили бы пустующие кельи, заняты были только две из двадцати, куда поместили Данло и Малаклипса. У двери Малаклипса, которую Данло со своими спутниками миновал по пути, стояли еще двое бывших воинов-поэтов. Как видно, пустые кельи Хануман приберегал для других узников.
В том, что он узник, Данло не усомнился ни разу, он, конечно, остается послом Содружества, и Хануман, возможно, сдержит свое обещание и позволит ему посещать переговоры в Академии — но зависеть это будет только от Ханумана. Хануман принадлежит к людям, которых отчаянные времена толкают на страшные поступки, и он способен использовать его, Данло, как инструмент, который можно сломать и выбросить вон.
Поднявшись со своими конвоирами по лестнице и пройдя через несколько крытых переходов, Данло оказался в соборе. Они прошли по нефу высотой сто восемьдесят футов — казалось, что его стены из тесаного гранита удерживает в воздухе какая-то волшебная сила. Высокие витражные окна, догорающие последними отблесками дня, представляли разные сцены из жизни Мэллори Рингесса. Один из витражей показывал, как боголюди с Агатанге врачуют страшную рану Рингесса, стоившую ему жизни. На темных волосах Мэллори ярко светилось красное пятно, напоминая, как близок каждый человек к боли, крови и смерти. Но на соседнем витраже Рингесс выходил из аквамариновых вод Агатанге с ликом сияющим, как солнечный диск, и его голубые глаза звали каждого то ли внутрь, в мир звездного света и мечты, то ли в просторы вселенной, на путь богов.
Одетые в золото божки суетились, готовясь к вечерней службе, — можно было подумать, что более важной работы в мире нет. Одни зажигали свечи и ставили снопы огнецветов в голубые вазы на застланном красным ковром алтаре, другие начищали шлемы, обеспечивающие контакт с тем, что Хануман ли Тош называл записью Старшей Эдды. Эти блестящие шлемы устанавливались точно посередине красных ковриков, устилающих весь собор. Скоро рингисты со всего города наполнят собор, расположатся на этих ковриках, наденут на себя шлемы и растворятся в генерируемых ими кибернетических пространствах. Они увидят древние звезды и прекрасный священный свет, услышат золотые голоса, шепчущие им прямо в мозг заветные тайны. После, отсоединившись от “памяти богов”, эти люди расскажут своим друзьям, что им открылись глубочайшие истины вселенной.
Данло смотрел на эти шлемы, насыщающие сознание людей своей лживой виртуальностью. Смотрел на горделивых божков, верящих, что они ведут человечество к новой фазе эволюции, — а они смотрели на него. Известие о том, что сын Мэллори Рингесса вернулся в Невернес, распространилось среди рингистов, как огонь по сухой траве. Многие говорили, что это предвещает другое, куда более важное событие, то есть возвращение самого Мэллори Рингесса. Божки смотрели на Данло в черной пилотской форме, и их лица вместе с надеждой на будущее выражали обиду на прошлое, когда Данло их предал. Они могли только догадываться, о чем Данло будет беседовать с Хануманом, но полагали, должно быть, что Хануман попытается вновь вернуть Данло на Путь Рингесса. Ведь если кто-то и способен вернуть столь дикого и опасного человека к истине, то это Светоч Пути, Хануман ли Тош.
Данло, зажатый между двумя воинами-поэтами, подошел к началу лестницы, ведущей на башню. Четверо божков, охранявших вход, поклонились Ярославу Бульбе и пропустили их. Довольно долго они поднимались по извивам лестницы, не сказав за это время ни слова. Ботинки стучали по старому камню в такт ударам сердца. Здесь пахло пылью, маслом капы и электрическим жаром плазмы. Световые шары на каждой площадке бросали багровые и синие блики на лицо Ярослава, придавая еще более глубокий блеск его жутким искусственным глазам. Воин-поэт смотрел на Данло странно, то ли пытаясь разгадать по его лицу, не представляет ли он физической угрозы для Ханумана, то ли дивясь, как и все остальные, струящемуся из глаз Данло свету.
Лестница заканчивалась узким вестибюлем, где еще двое божков охраняли дверь из черного осколочника. Данло они встретили учтивым поклоном, и один из них, крупный парень с прыщавым лицом человека, употребляющего юк, постучал в эту дверь. Когда сердце Данло отстучало пять раз, она отворилась, и на пороге возникла крошечная женщина с красными, подозрительно глядящими глазами. В ней было что-то неприятное; казалось, что, если прорвать ее лиловато-смуглую кожу, наружу хлынет сладковатый запах гниющего плода. Держалась она властно, несмотря на маленький рост.
Данло хорошо знал эту женщину. Звали ее Сурья Сурита Лал, она доводилась троюродной сестрой Бардо и была летнемирской принцессой до того, как ее знатный род подвергся гонениям. Теперь, целиком посвятив свою жизнь служению Хануману ли Тошу, она снова изображала из себя принцессу.
Видя, что воины-поэты намереваются войти в святилище Ханумана, она выставила им навстречу свою птичью лапку и распорядилась: — Только пилот. Наш Светоч сказал, что Данло ви Соли Рингесс для него не опасен. Подождите за дверью.
Сказав это, она важно взяла Данло за руку, чтобы провести его в комнату, занимавшую весь верх башни, если не считать вестибюля и примыкающей кухни. Над Данло вырос купол, составляющий и стены, и кровлю этого просторного помещения.
Купол, однако, был сделан не из клария, как следовало бы ожидать, а из какого-то матового материала с пурпурным оттенком.
По всей его окружности были прорезаны от самого Пола восьмифутовой вышины окна, но в этот вечер их закрывали ставни, как будто Хануман не желал отвлекаться на городские огни.
Хануман лучше всех известных Данло людей умел фокусировать свою волю, как увеличительное стекло фокусирует солнечные лучи. Облеченный всей силой этой воли, в своем золотом одеянии, он ждал Данло, стоя у западных окон. Когда пилот и Сурья вошли, он низко поклонился и сказал:
— Здравствуй, Данло.
— Здравствуй, Хануман. — Данло уже бывал в этой комнате, когда ее занимал Бардо, бывший в то время Светочем Пути. — Я вижу, ты произвел здесь большие перемены.
В самом деле, Хануман, сместив Бардо и выгнав его из Невернеса, постарался убрать из башни все следы его пребывания. Исчезли деревца бонсай и комнатные цветы, которые так любил Бардо. Их место заняли фравашийские ковры, светильники и старые шахматы Ханумана, расставленные на доске. Присутствовала здесь, разумеется, и всевозможная кибернетика — не только обычные мантелеты и голографические стенды, но и сулки-динамики, ранее запрещенные. И компьютеры. Хануман собирал их, как другие собирают произведения искусства или старые вина. Самые разные компьютеры: электронные, оптические, один газовый, счетные машинки с бронзовыми шестеренками и хромовыми рычажками, квантовые устройства. Над одним из окон висел ярконский ковер, сотканный из нейросхем и других компьютерных деталей. При всей объемности комнаты эти музейные экспонаты занимали ее почти целиком. Данло заметил единственный обеденный стол из осколочника, за которым могло разместиться восемь или десять человек; больше никакой мебели в комнате не было — ни платяных шкафов, ни кровати или иного места для спанья. Глядя на блестящую шапочку, покрывающую бритую голову Ханумана, Данло подумал, что он, возможно, не спит больше так, как все люди. Такие персональные компьютеры могут генерировать тета-волны, вызывающие периоды микросна не дольше пяти секунд. Данло видел, что глаза Ханумана время от времени пустеют, как ледовое поле, а затем снова возвращаются к прежней холодной дьявольской пристальности.
— Мы с тобой прошли долгий путь от площади Лави. — Хануман говорил о том давнем холодном дне, когда они с Данло впервые встретились на испытаниях при поступлении в Орден. — Извини, что заставил тебя ждать так долго. Ты, наверно, голоден, поэтому я заказал ужин. Давай пока сядем.
Хануман грациозным жестом пригласил Данло к столу, накрытому на двоих. Данло хорошо помнил последнюю трапезу, которую разделил с Хануманом: закрывая глаза, он все еще ощущал запах поджариваемого заживо снежного червяка и чувствовал боль в обожженных руках. Он хорошо помнил ту давнюю горькую ночь, однако наклонил голову, принимая приглашение.
— Знаешь, я очень рад, — сказал Хануман и добавил, обращаясь к Сурье: — Я сожалею, но ужинать мы будем одни. Будьте так добры, скажите Садире, что мы ждем.
Сурья, воображавшая себя хранительницей и советницей Светоча, надулась. Сжав свой крохотный ротик, она смотрела на Данло с недоверием, явно не желая оставлять его наедине с Хануманом, еще больше ей не понравилось, что ею распоряжаются, как посыльной. Однако, возведя послушание в добродетель (и дорожа властью; которой пользовалась, исполняя приказания Ханумана), она с поклоном ответила: “Как будет угодно моему Светочу”, и вышла в боковую дверь.
— Вот уродина, — повторил Хануман слова, сказанные им при первом знакомстве с Сурьей. — Но преданность Пути придала некоторую красоту ее душе, ты не находишь?
Данло стоял, держа в левой руке образник, а правой касаясь флейты в кармане.
— Я думаю… что она предана тебе. И сделает все, о чем ты ее ни попросишь. — Как же иначе — ведь я Светоч Пути, а она человек верный.
— Кому и чему она верна? До тебя Светочем был Бардо, а она его предала, хотя он ей родственник.
Холодные глаза Ханумана сверкнули гневом и старой обидой. Посмотрев на Данло долгим взглядом, он сказал: — И это ты, бросивший Путь своего родного отца, говоришь о предательстве?
— Я не стал бы говорить с тобой вовсе, если бы не был вынужден.
— Мне жаль, что тебе приходится это делать. И жаль слышать такую ненависть в твоем голосе.
— Мне… тоже жаль.
— Но сегодня ты перед всей Коллегией сказал, что любишь меня по-прежнему. Где же правда, Данло?
Ненависть — левая рука любви, вспомнил Данло, закрыв глаза, а потом взглянул на Ханумана глубоко и открыто и сказал: — Думаю, ты сам знаешь.
Они долго смотрели друг другу в глаза, и старое понимание переходило от одного к другому. Потом Хануман пригласил Данло сесть за стол. Он знал, как Данло не любит стульев, и неудобство, которое тот испытывал, одновременно беспокоило его и доставляло ему удовольствие.
— Я вижу, ты принес с собой архитекторский образник, — сказал Хануман. — Хочешь подарить его мне? Пополнить мою коллекцию?
Данло взглянул на его шахматные фигуры. Белого бога по-прежнему недоставало. Когда-то под Новый год Данло вырезал из моржовой кости замену и подарил этого бога Хануману, но Хануман сломал его и вернул назад.
— Нет, — ответил Данло, — я больше ничего не буду тебе дарить.
— Я сказал глупость, предположив, что ты это сделаешь.
— Это все, что осталось от другого бога, — сказал Данло, указывая на голограмму.
— Я слышал эту историю, — кивнул Хануман. — Ты хочешь таким образом напомнить мне, как опасно для человека стремиться стать богом?
— А разве ты нуждаешься в напоминании?
— Вижу, ты все так же любишь отвечать на вопрос вопросом. — Хануман нашел в комнате сложенную серебристую ткань и накрыл ею компьютер, который Данло поставил на стол. Спрятав образ Эде с глаз долой и заставив его умолкнуть, он снова посмотрел на Данло долгим странным взглядом. — Ты все тот же Данло, правда? Несмотря на все твои подвиги и успехи, ты все тот же.
— Я — все тот же я. Это точно. А ты — это ты.
— Судьба… При всей несхожести моей и твоей я когда-то думал, что судьба у нас одна.
— Ну что ж — вот мы сидим и собираемся поесть вместе, как в послушниках.
— Судьба, — почти шепотом повторил Хануман. — Как странно.
— Ты… всегда любил свою судьбу, правда? Во всей ее красоте, во всем ужасе.
Хануман, не отвечая, закрыл глаза, словно перед ним предстало личное видение будущего. Данло смотрел на пурпурные огни его кибершапочки, в тысячный раз поражаясь страшной красоте Ханумановой судьбы.
— Я должен был предвидеть, что ты будешь голоден, — открыв глаза, сказал Хануман. — Раньше ты всегда хотел есть.
Словно по сигналу — а может быть, Хануман действительно подал какой-то сигнал через свой компьютер, — открылась кухонная дверь, и куртизанка в золотой шелковой пижаме внесла поднос с горячими блюдами. Золотом волос и красивой фигурой она напомнила Данло Тамару. Хануман представил ее как диву Садиру с Темной Луны. Садира сказала, что служить им в этот вечер для нее удовольствие, и стала разливать горячий бобовый суп по двум голубым тарелкам.
— Ешь, — сказал Хануман Данло, который сидел, рассеянно глядя на плавающие в бульоне маленькие зеленые бобы минг. — Яда там нет.
Оба взяли ложки и принялись за еду. За супом последовали курмаш, овощное рагу и другие пряные блюда, которые, как помнил Хануман, Данло любил. Они не разговаривали — слышалось только постукиванье палочек для еды и позвякиванье бокалов. Данло, переставая жевать, слышал еще свистящее дыхание Ханумана и думал, что выглядит тот неважно. Несмотря на кажущуюся энергию, которую Хануман вкладывал во все свои движения, даже беря перечный орех или наливая Данло вина, в нем, подобно кавернам под тонкой почвой, чувствовалось страшное напряжение. В юности он страдал раком легких, от которого почти вылечился в своем жгучем стремлении стать выше обыкновенных людей. Теперь, между двумя глотками вина, он снова покашливал — с закрытым ртом, чтобы Данло этого не заметил; Но Данло чувствовал его боль в собственных легких и морщился каждый раз, когда живот Ханумана напрягался и нездоровое дыхание вырывалось из серых губ. Он заметил, что тонкое лицо Ханумана целиком приобрело серовато-белый оттенок, как мясо мертвого тюленя. Глаза смотрели сумрачно, изможденно, и левый постоянно подергивался. Пальцы, очищая орех от скорлупы, дрожали. Наблюдая за точно рассчитанными движениями Ханумана, Данло понял вдруг одну вещь о нем и о судьбе. Хануман сознает, на какой невообразимый риск он идет, строя свой Вселенский Компьютер и вовлекая рингистов в войну. Он знает, что в случае проигрыша скорее всего погибнет, и предчувствие смерти преследует его. Он, как и все люди, страшится черноты несуществования, но еще больше его пугает что-то другое, то, что Данло начинает различать только теперь…
— Тебе бы поспать, — сказал Данло. — Сон дает душе новую жизнь.
— Ничего подобного. Когда человек спит, он умирает, — возразил Хануман с быстрой и уверенной улыбкой, как будто эти смелые слова разогнали худшие из его страхов.
Сон, вспомнил Данло, это первая фаза сознания, когда ты погружаешься в суть бытия, не ведая об этом погружении.
Только во сне, согласно учениям, считавшимся древними еще двадцать тысяч лет назад, способен человек познать блаженство истинного покоя. Есть, однако, и другие учения, поновее, отливающие вековую мудрость в более современные формы. Некоторые кибернетические секты утверждают, что во сне разум и память человека загружаются в бесконечную вычислительную машину вселенной. Хануман, так и не избавившийся до конца от своих детских верований, боится, что этот процесс может обокрасть или забрать целиком его душу. Его воля полагается на себя, и только на себя. Он никому не позволит покуситься на свою душу: ни сну, ни вселенной, ни самому близкому другу.
— Я думал, тебя будет беспокоить нечто другое, кроме моего сна, — сказал Хануман.
— Разве мое беспокойство что-то значит?
— Я думал, ты прочтешь мне проповедь относительно зла, которое мы творим, сооружая Вселенский Компьютер.
— Что я могу сказать тебе такого, чего ты сам не знаешь? Этот компьютер — шайда, и его строительство нарушает Закон Цивилизованных Миров.
— Ты же слышал: я сказал, что новым существам, которыми мы становимся, требуется новый закон.
— Чей же это закон, Хану? Твой?
— Нет, — тихо ответил Хануман. — Наш. Закон для богов.
— Каким же он будет, этот закон?
Хануман, словно не в силах сдержать распирающую его энергию, встал и прошелся по комнате. Его странная легкая походка создавала впечатление, будто он ступает по горячим углям — или боится прочно ступать на землю. На ходу он то и дело прикасался к своим компьютерам — то ли подправляя их программы, то ли просто лаская их. Данло дивился точности движений его ловкого тела — Хануман двигался так, словно от этого зависела судьба всей вселенной.
— Ты в самом деле хочешь знать, каков этот закон, Данло? — спросил он внезапно, глядя Данло прямо в глаза. — Следуй собственной воле — это и будет закон.
— Хану, Хану.
— Собственной воле, Данло.
— Вот что, значит, ты говоришь своим божкам?
— Я говорю это себе. И тебе.
— Не понимаю.
— Сейчас я тебе объясню. Много ли людей способны стать богами? Очень мало. Очень, очень.
— Но твоя религия обещает…
— Она обещает, что каждый, идущий путем твоего отца, может стать богом. Но стать им может не каждый. Только немногие, Данло, очень немногие.
— А что же остальные?
— У них будет надежда сделаться богами, и в ней, в этой надежде, они обретут счастье.
— Понятно.
— Тебе правда понятно? Видно тебе, как сжигает их боль существования? Видно, как нуждается человек в избавлении от этих страданий?
Данло, выдерживая взгляд бледно-голубых глаз Ханумана, видел в них то же, что и много лет назад: извращенное сострадание, сжигающее каждую клетку Хануманова тела и причиняющее ему невыразимые муки.
— Ты избавляешь их от свободы — только и всего, — сказал Данло. — Ты побуждаешь их надевать твои шлемы и погружаться в твою фальшивую Единую Память.
— Нужно ли нам возобновлять наш старый спор?
— В конце концов ты их погубишь. Они не поднимутся выше человека, идя за тобой, — они опустятся ниже.
— Следуй собственной воле. Если каждый человек сумеет заглянуть в себя и увидеть, для чего предназначила его вселенная, ему откроется его судьба. Его подлинная воля. И тогда, если у него достанет мужества и гения, он избавит свою плоть от огня и сам станет огнем. Разве не этого желаем мы все? Именно этого. Свободы гореть ярким, вечным, негасимым пламенем. Но такая свобода ведома только богам. Только у них есть воля, чтобы овладеть ею.
— Но, Хану…
— Следуй собственной воле — это и будет закон. У богов закон один: свобода подниматься все выше и выше. Именно этого требует от них вселенная.
Данло встал и подошел к окну. Окно закрывали ставни, но он хорошо представлял себе ночное небо над городом, звезды, луны и черную машину, сооружаемую рингистами в космосе.
— Это и есть она, твоя свобода? — спросил он, указав вверх. — Твоя воля сделаться богом?
— Вселенский Компьютер, будучи завершенным, создаст почти совершенную имитацию Старшей Эдды. — Глаза Ханумана подернулись дымкой, и он говорил почти механически, как будто излагал основы рингизма неофитам. — Он укажет путь к богу любому, кто желает этого достаточно сильно.
— Но таких очень мало, по твоим словам.
— У каждого своя судьба. Но Вселенский Компьютер предназначен для помощи всем рингистам.
Данло подошел к Хануману и пристально посмотрел на него.
— Найдутся люди, которые скажут, что его назначение — помочь одному человеку стать богом. Одному-единственному.
— Возможно, что и найдутся. — В глазах Ханумана появилась холодная угроза. — Но пусть они поостерегутся высказывать подобную ложь публично.
Они стояли над светящимся газовым компьютером, глядя в глаза друг другу. Садира, пришедшая убрать со стола, спросила, что они предпочитают — кофе или чай, и Хануман воспользовался этим, чтобы отвести взгляд.
— Кофе, пожалуйста. И снежки, если можно.
Хануман смотрел на уходящую Садиру, а Данло смотрел на него. Эта красивая женщина явно не вызывала у Ханумана желания. Неужели слухи верны и у Ханумана между ног ничего нет — если не буквально, то практически? Видимо, он в своей божественной игре утратил всякий интерес к искусству куртизанок и ко многому другому.
— Я слышал, все Общество Куртизанок обратилось на Путь, — сказал Данло.
— Ну, они ведь всегда мечтали пробудить наши эволюционные возможности, заключенные в каждой клетке нашей ДНК, как верят они. Ты, наверно, знаешь: это называется у них спящим богом.
— Да… я знаю. — Данло задержал дыхание на десять ударов сердца и спросил: — Ты случайно не видел Тамару? Может быть, куртизанки что-то знают о ней?
Глаза Ханумана оледенели.
— Я жду, когда ты спросишь меня об этом, с того самого момента, как ты вошел.
— Так как же, Хану? — Данло подошел к нему так близко, что чувствовал его отдающее кровью дыхание. Руки Данло сами сжимались в кулаки, и только усилием воли он не давал пальцам сгибаться. — Ты видел ее?
Хануман, стойко выдерживая бьющий из глаз Данло свет, ответил: — Нет, не видел. У меня вполне достаточно дел и без этого.
С учтиво-насмешливым поклоном он снова сел за стол.
Данло стоял, глотая воздух, как будто его двинули в живот.
— Но если хочешь, — Хануман пригубил вино, — я могу навести справки у куртизанок. Тамара, правда, утратила талант куртизанки, но она могла найти себе занятие на улице Путан. У наших богинек есть там подруги.
Я не должен его ненавидеть, сказал себе Данло, стиснув пальцами лежащую в кармане флейту. Яркая вспышка наподобие молнии прострелила его глаз и наполнила голову неведомой до сих пор болью. Я не должен его убивать — нет, нет, нет.
— Вряд ли, конечно, из Тамары получится хорошая проститутка — для этого она слишком горда, тебе не кажется?
Данло навалился на спинку своего стула и сжал подлокотники, стараясь наладить дыхание. Через некоторое время огонь у него в мозгу прогорел до углей, и дыхание стало жестким, глубоким и болезненным. Он испытывает меня, думал Данло.
Никогда не убивай, никогда не причиняй вреда другому. Никогда не позволяй себе ненавидеть. Но за что, Хану, за что?
Данло сызнова обвел взглядом стоящую в комнате кибернетику и насчитал немало роботов — от обычных домашних до полицейских, с помощью которых Хранитель Времени когда-то поддерживал порядок в Ордене. Может быть, одна из этих зловещих машин еще действует и запрограммирована убить его в случае, если он попытается убить Ханумана.
— Пожалуйста, Данло, сядь.
Данло не сел, а скорее повалился на стул. Садира быстро подала кофе и снежки и вышла, оставив их наедине.
— Ты раньше любил снежки, — сказал Хануман, надкусывая круглое, обсыпанное сахарной пудрой пирожное. — И я тоже. Теперь они кажутся мне чересчур приторными.
Пока Хануман жевал снежок, глаза у него смягчились, приняв страдальческое, бесконечно грустное выражение. Все это время он смотрел на Данло, со свойственной ему извращенностью сострадая боли, которую сознательно ему причинил.
Ему необходимо довериться мне, думал Данло. Он нуждается в доверии к другому человеку. В доверии и в любви.
Хануман, как будто читая его мысли (или сердце), сказал: — Я всегда любил тебя за преданность твоим идеалам.
Данло тоже взял пирожное и надкусил его — хрупкое, маслянистое, очень вкусное.
— Всегда любил тебя за эту преданность, — продолжал Хануман, — несмотря на весь вред, который она мне причиняла.
Данло съел одно пирожное и другое, все это время глядя на Ханумана и ожидая, что будет дальше.
— В твоей помощи я нуждался больше, чем в чьей бы то ни было. А ты из всех людей был самым диким, самым волевым. Это судьба. Это она распорядилась так, что твоя воля восстала против моей.
Данло доел третий снежок и сказал: — Я… никогда не хотел выступать против тебя. Против твоей воли.
— Верно, не хотел. Ты просто действовал согласно своим идеалам, согласно собственным понятиям о том, что правильно. Но для каждого приходит время, когда нужно подчинить свои личные идеалы более широкому мировоззрению.
— Это самое ты и делаешь с лордом Паллом, Хану? Подчиняешь его своему мировоззрению?
— Да, пожалуй. Теперь он видит будущее в истинном свете.
— Мне показалось, что ты просто управляешь им с помощью страха, нет? Он боится воинов-поэтов, которые тебе служат.
— Если так, это глупо с его стороны. Всем известно, что мои воины-поэты люди мирные, преданные мне и Пути Рингесса. — Хануман постучал пальцами по столу. — А чего боишься ты, Данло Дикий? Уж верно не смерти, как лорд Палл.
Данло, не отвечая, взял четвертый снежок. Его глаза глубиной и непроницаемостью напоминали вечернее небо.
— И все-таки я думаю, что ты чего-нибудь да боишься. Сказать тебе чего?
— Скажи, если надо.
— Боли. У нее есть порог, через который даже ты не переступишь.
— Это боль, которую испытал ты, Хану?
Хануман потер руку, словно стирая укол экканы, отравляющей его кровь и мучающей его непрестанно.
— Когда-то я в этом самом соборе попросил тебя о помощи — помнишь?
— Как я мог забыть?
— Я попросил тебя, как друга, а ты мне отказал.
— Я… сожалею.
— Теперь мне снова нужна твоя помощь.
— Правда?
— Да, нужна. Только на этот раз я не прошу, а требую.
— Чем же я могу тебе помочь?
Хануман потрогал кибершапочку на висках и поднял глаза к куполу, как будто видел там то, чего Данло видеть не мог.
— Ты прибыл сюда как посол, чтобы прекратить эту войну. Благородная цель. Предположим, ты осуществишь ее — что тогда?
— Тогда войны не будет, — просто ответил Данло.
— Ну да. Предположим, что Коллегия примет условия Содружества и Орден начнет разбирать Вселенский Компьютер.
— Так это возможно, Хану? Правда?
— Возможно все, но пока я говорю только гипотетически. Если бы Орден согласился прекратить войну прямо сейчас, в этот самый момент, как это можно было бы сделать? Ведь флот Содружества с каждой секундой приближается к Невернесу.
— Да, но…
— Как его можно остановить? Мне нужна твоя помощь, чтобы сделать это.
Данло ненадолго задержал дыхание, считая удары сердца, и сказал:
— Если ты захочешь, я сделаю все, чтобы остановить войну.
— И сообщишь Зондервалю о том, что здесь произошло?
Данло сразу заметил расставленную Хануманом ловушку и сказал, чтобы потянуть время: — Если бы я знал, где его найти, то, конечно, сообщил бы.
— Неужели?
На самом деле он и не думает соглашаться с требованиями Содружества, подумал Данло. Просто хочет, чтобы я выдал ему, где флот.
Чуть ли не больше всего на свете Данло ненавидел ложь; поэтому он попытался увильнуть от прямого вопроса и сказал:
— Если ты действительно хочешь остановить войну, Орден сможет связаться с Содружеством, когда наш флот выйдет из мультиплекса у Невернеса.
— Это нам может и не удаться. Начнется бой, и тысячи кораблей погибнут, прежде чем Зондерваль поймет, что мы хотим мира. И город, возможно, погибнет тоже.
— Нет, нет. Этого не случится.
— Думаю, ты знаешь, каким маршрутом пойдет Зондерваль. Думаю, он тебе сказал.
Данло молчал, глядя прямо в глаза Хануману.
— А теперь ты должен сказать это мне.
— Нет. Не могу.
— Помоги мне остановить войну, Данло.
— Нет. Мне жаль, но нет.
— Если флот Содружества выйдет к Невернесу, начнется хаос, которым ивиомилы воспользуются, чтобы взорвать Звезду Невернеса. Предотвратить эту трагедию можешь только ты.
— Выдав тебе флот Содружества и оказав тебе помощь в его разгроме?
— Ничего подобного. Мы ищем мира, а не войны. Помоги мне, Данло.
— Нет.
— Вспомни, пожалуйста: я не прошу твоей помощи. Я ее требую.
— Я ничем не могу тебе помочь.
— Скажи лучше — не хочешь. Но любую волю можно сломить. Даже алмазную, знаешь ли.
Данло подумал об алмазной пряжке у себя на плече, подаренной ему Зондервалем. Матрикас, которым пропитана ее застежка, убьет его моментально, стоит только ввести острую булавку себе в вену.
— Не думал я, что когда-нибудь услышу от тебя такие угрозы, — сказал он.
Казалось, что глаза Ханумана вот-вот наполнятся слезами, но он отыскал в себе место, где жила его воля, беспощадно выжигающая всякую слабость, и его глаза остались твердыми, как голубой лед.
— Так, как тебя, я никого не любил, — сказал он с великой печалью. — Но, когда речь идет о целях вселенной, любовь в расчет не принимается.
— Нет, Хану. Совсем наоборот.
— Есть боль, которая даже тебя сломит. Воины-поэты, как тебе должно быть известно, знают о боли все.
— Никогда я не стану тебе помогать в разгроме флота Содружества.
И снова Данло подумал об алмазной пряжке. Если вонзить булавку в шейную вену Ханумана вместо своей, это может положить конец нескончаемой боли вождя рингистов и многому другому помимо нее.
— Ты, возможно, помнишь, что наиболее страшную боль причиняет их яд, эккана, — сказал Хануман.
— Да… я помню, — ответил Данло, думая: Нельзя трогать пряжку. Если я это сделаю, он догадается.
— Кроме того, есть считывающие компьютеры акашиков. Ты должен помнить, какие они мощные.
— Я помню также, как их можно обмануть: ты сам меня научил этому.
Хануман улыбнулся, перетирая в пальцах крошки от пирожного.
— Ты, наверно, единственный пилот, так хорошо натренированный в цефике. Я преклоняюсь перед твоей духовной силой. Но подумай о боли, превосходящей все, что ты когда-либо испытывал. Ты действительно веришь, что, если акашики наденут на тебя шлем, пока ты будешь под действием экканы, ты сумеешь сдержаться и не думать о том, что нужно мне?
— Не знаю.
— Стало быть, ты веришь в чудеса, Данло?
Данло закрыл глаза, вспоминая, как на Таннахилле погрузился в глубину своего сознания. Это был момент полной свободы, когда он мог по собственной воле управлять светом своего разума.
— Да, — ответил он, — можно сказать, что верю.
— Данло, пожалуйста. Не вынуждай меня делать это с тобой.
— Я никогда и ни к чему не мог тебя вынудить.
— Данло…
— У тебя своя воля, у меня своя.
Сейчас воля Данло, однако, не знала, на что решиться.
Коли он не воспользуется пряжкой немедленно, другого шанса у него может и не быть.
— Уж эта твоя воля. Твоя проклятая воля.
Данло, честно говоря, не знал, сможет ли выдержать пытку, которой грозил ему Хануман, — но был полностью уверен, что не сможет ткнуть Ханумана отравленной булавкой.
Он все еще надеялся склонить Ханумана на сторону сострадания и разума — и даже в случае невозможности этого ни за что не причинил бы ему вреда. Данло не знал, поднимется ли у него рука на себя самого, но если он и на этот раз не нарушит свой обет и не кольнет себя булавкой, он окажется беспомощным перед экканой воинов-поэтов. Тогда он предаст Содружество и станет причиной гибели миллионов людей.
Агира, Агира — что делать?
Его пальцы сводило от желания сорвать пряжку, вонзить ее на полдюйма в тело и покончить с этими мучениями. Глаза Ханумана наполнились пустотой — самый подходящий момент, чтобы убить либо его, либо себя. Тут дверь распахнулась, и в комнату ворвался Ярослав Бульба с глазами, как рубиновые лазеры, а за ним — другой воин-поэт. Данло моргнуть не успел, как они накинулись на него и обмотали жгучей веревкой, как раньше Малаклипса. Ярослав ловко отколол пряжку и показал ее Хануману.
— Все как я и говорил, — сказал воин-поэт. — Отравлена найтаре или матрикасом.
— Я рад, что ты не пытался использовать ее против меня, — сказал Хануман Данло. На острие золотой булавки виднелось темное вещество, похожее на высохшие чернила. — Я знал, что так и будет — люблю твою верность ахимсе, какой бы глупой она мне ни казалась.
Данло знал, что бороться с путами бесполезно, и все-таки напряг плечи и грудь, пока волокно сквозь шелк не врезалось ему в тело.
— Но я, признаться, не думал, что ахимса помешает тебе сделать укол себе самому, — продолжал Хануман. — Теперь ты в безопасности, правда?
Данло конвульсивно сжал кулаки, и жгучая веревка врезалась ему в запястья.
— Я люблю тебя и потому в последний раз прошу тебя о помощи, — сказал Хануман. — Пожалуйста, скажи то, что мне нужно знать.
— Ничего я тебе не скажу.
— Посмотрим. — И Хануман приказал Ярославу: — Отнесите его обратно в камеру.
Данло прекратил бесполезные движения, ранящие его тело, и сказал:
— Следуй собственной воле — это и будет закон. Вот это и есть твой гений? Твоя подлинная воля? То, для чего предназначила тебя вселенная?
Глаза Ханумана стали далекими и туманными, как галактическое облако Оури. Помолчав немного, он сказал:
— Странно, но так оно, кажется, и есть. Во вселенной существует не только красота, но и то, что ты называешь шайдой, а я — адом.
— Нет. Нет.
— Это судьба, Данло. Мы должны любить свою судьбу.
— Моя мать говорила, что в конечном счете мы сами выбираем свое будущее.
— Стало быть, ты выбрал свое. До свидания, Данло.
По знаку Ханумана воины-поэты подняли Данло на ноги.
Не желая тащить его, они тепловым стержнем расплавили волокно ниже пояса, освободив ему ноги для ходьбы.
Мне очень жаль, Хану. Очень.
Данло отыскал в себе место, где боль Ханумана входила в него ранящим белым светом, а на глазах Ханумана проступили слезы, как вода поверх голубых льдин. Воины-поэты вывели Данло за дверь и повели вниз по лестнице, навстречу его будущему.
Глава 8 БОЛЬ
Истинная мудрость живет далеко от людей, в великом одиночестве, и достичь ее можно только через страдание. Только страдание открывает разум тому, что скрыто от других.
Игьюгарук, шаман КамераДанло насчитывала десять футов в длину, пятнадцать в ширину, а высота едва позволяла ему стоять во весь рост, не задевая головой шершавый каменный потолок. Она обогревалась водой из бьющих под городом горячих источников, и все же в ней было холодно — так холодно, что даже привычный к лишениям Данло надел самую плотную свою камелайку. Из удобств здесь имелись унитаз, кран с горячей водой, узкая койка с меховым спальником, шкафчик для одежды, шахматный столик с фигурами из кости и осколочника, стул и коврик на холодных плитах пола. Было еще окошко — кусочек клария, вставленный высоко в южную стену. Слишком толстый, чтобы разглядеть через него улицу, кларий все-таки пропускал дневной свет, напоминающий Данло, что Звезда Невернеса все еще светит в миллионах миль над его головой. Пока его родное солнце наполняло окошко золотым светом, Данло обещал себе, что будет черпать мужество и надежду в возможностях, которые приносит с собой каждый новый день. Он знал, что оба эти качества — и многие помимо них — понадобятся ему в избытке, если Хануман осуществит свою угрозу и прибегнет к пыткам. Фраваши говорят, что надежда — это сокровенный свет сердца, и в Данло этот свет пока еще сиял, как солнце.
В том, что у Ханумана достанет воли пытать его, он не сомневался. Разве Хануман не убил когда-то своими руками послушника по имени Педар? Разве не отнял память у Тамары, чтобы заставить Данло разделить с ним его душевную боль?
Хануман поистине погряз в шайде, и для него только логично пойти еще дальше и дать Данло вкусить боли, на этот раз физической, в полной мере. Те два дня, которые Данло ждал в своей камере, играя в шахматы или считая удары своего сердца, он старался не думать о разных способах пыток. Такие мысли сами по себе были пыткой, способной ослабить его волю и заставить выдать маршрут Зондерваля — лишь бы Хануман не велел своим воинам-поэтам сверлить пальцы Данло лазером или резать ему лицо нейроножами. Данло понимал, что Хануман для того и заставляет его ждать так долго, пока великие события сотрясают вселенную за стенами его камеры. Это ожидание — первый из кругов ада. Данло ждал, не застучат ли по камню сапоги воинов-поэтов, и ему казалось, что он различает огненные языки всех прочих кругов, но времени предстояло доказать, что он ошибается.
— Надо бежать, — в сотый раз повторял ему Эде. Хануман вернул компьютер Данло, чтобы тот в ожидании своей судьбы имел хоть какое-то общество. — Почему ты не хочешь бежать?
Данло поставил компьютер на краю шахматного столика.
Бог Эде, как выяснилось, запрограммировал его играть в шахматы на том же уровне, на каком играл Эде-человек, то есть довольно плохо. Данло, сам игрок весьма средний, каждый раз у него выигрывал. Его забавляло, что Эде, терпя поражение, никогда не сердится и не досадует, а предлагает сыграть еще раз. Если что-то и вызывало у Эде досаду (и если эта эмоция вообще была ему знакома), то лишь невозможность двигать фигуры самостоятельно. Чтобы сделать ход, голограмме приходилось шмыгать между черной богиней и нужным квадратом; над этими изящными фигурками он имел власти не больше, чем над стальной дверью камеры.
— Если ты не решишься на побег, — говорил он, — воины-поэты замучают тебя до смерти, и я никогда не получу назад свое тело.
— Может, его тебе вернет Хануман. — Данло, стоя, передвинул пешку по указанию Эде. — Если победит ивиомилов.
— Но станет ли он помогать мне? Захочет ли вернуть меня к жизни?
— Чего не знаю, того не знаю.
— Сомнительно что-то. Думаю, Ханумана я больше интересую как остаточная программа мертвого бога, чем как потенциально живой человек.
— Прими мои сожаления.
— Знаешь, о чем меня спрашивал Хануман, когда воины-поэты увели тебя из башни? Он спрашивал, как меня можно выключить.
— И что ты ему сказал?
— Сказал, что для этого нужен пароль, но, разумеется, не назвал его.
— Мне ты его тоже не назвал.
— И никому не назову. Ты, правда, не стал бы выключать меня просто так, но Хануман — другое дело. Я думаю, он хочет разобрать компьютер, чтобы изучить мои глубокие программы.
Данло передвинул своего рыцаря на белый квадрат и сказал: — Удивляюсь, почему он этого до сих пор не сделал.
— Возможно, он считает меня твоей собственностью.
— По-твоему, он стал бы уважать мою собственность, угрожая изувечить меня самого?
— Откуда мне знать? — Эде перенял у Данло привычку отвечать вопросом на вопрос. — Но боюсь, что в случае твоей смерти он конфискует меня и попытается выключить.
— Я не умру.
— Как ты можешь это знать, пилот?
— Убивать меня Хануман не намерен. Я… знаю.
— Может, и так. Но ты, в конце концов, всего лишь человек — разве ты можешь предвидеть, как будет реагировать твоя хрупкая плоть, скажем, на кипящее масло? У тебя начнется гангрена, начнется заражение, и ты умрешь.
— Нет… не умру.
— А если тебе будут ломать кости, сдавливая их между камнями? При таком сдавливании из клеток выжимается жир. Частицы этого жира могут закупорить кровяные сосуды легких, почек и мозга. Случится удар, и тебя парализует, даже если ты не умрешь сразу.
— Спасибо за полезную информацию. — Данло двинул пешки на штурм плохо защищенного бога Эде. — Странно: драконов дебют и богову защиту ты забыл, а это помнишь?
— Но если я когда-нибудь верну свое тело, мне ведь надо будет знать о нем все, ты не находишь?
— Право, не знаю. Зато я, кажется, понял, зачем Хануман вернул мне тебя.
— Вот как, пилот? Зачем же?
— Чтобы ты истязал меня своей информацией. — Данло подвинул пешку еще ближе к богу и улыбнулся с сумрачным юмором. — Может быть, мы закончим партию, не упоминая больше о слабых сторонах моего организма?
За этот период ожидания лорд Беде четырежды требовал, чтобы ему позволили увидеться с Данло в соборе. Его поражало, как можно держать посла в камере без всякой связи с внешним миром. Зная многих лордов Ордена, он умел быть очень убедителен и быстро завоевал себе сторонников в залах Академии, которые вместе с ним добивались либо освобождения Данло, либо предоставления ему свиданий. Но Хануман, уверенный в своей власти, остался глух к их протестам: ведь лорд Палл и другие наиболее влиятельные лорды были послушны ему, как пальцы собственной руки. Другие силы, действующие в городе, беспокоили его намного больше. Несмотря на свое высокое положение, он так и не сумел, вопреки мнению многих, стать правителем Невернеса. В стремлении к авторитарной власти он наталкивался на сильную оппозицию.
Оборванные, но заносчивые хариджаны выказывали бунтарские намерения и устраивали самосожжения при каждом неугодном им акте Ханумана. Астриеры, в большинстве своем Архитекторы реформированных кибернетических церквей, чурались рингистов и всяких контактов с рингизмом. Они сидели взаперти вместе с семьями в своих больших особняках и не позволяли божкам проезжать на коньках по своим улицам. Весь занимаемый ими район Квартала Пришельцев, так называемый Ашторетник, открыто восставал против рингизма и Ордена. Говорили, что астриеры производят у себя лазеры и другое запретное оружие, но никто в точности не знал, правда ли это.
Представители всех инопланетных видов тоже смотрели на рингизм как на поразившую галактику чуму. Многие из них покинули Невернес в знак протеста, а оставшиеся превратили весь Зоосад от Северного Берега до Городской Пущи в особый город, закрытый не только для рингистов, но и для всех прочих людей. Для эльфоподобных, с золотыми крыльями элиди действовать заодно со скутарийскими сенешалями было чем-то неслыханным, однако они это делали. Это было время странных союзов, подпольных собраний, заговоров и террористических убийств.
Далеко не все сопротивление Хануману и Пути Рингесса сосредоточивалось в этих отдаленных кварталах. Самая занозистая для Ханумана (не считая войны) проблема гнездилась в домах вокруг самого собора, чуть ли не в самих рядах рингнетов. Проблема эта проистекала из самых ранних времен основанной Бардо церкви. Бардо, чтобы привлечь к себе членов Ордена, отказался от употребления каллы, священного наркотика мнемоников. Первоначально калла помогла кое-кому — в том числе Данло и самому Бардо — вспомнить Старшую Эдду. Однако этот способ был трудным и опасным, поэтому Бардо с помощью Ханумана учредил новую мнемоническую церемонию. Хануман скопировал собственную память о Старшей Эдде и внес ее в компьютер — наряду с памятью таких видных деятелей, как Бардо, Томас Ран и дива Нирвелли. С тех пор другим рингистам приходилось довольствоваться шлемами — они надевали их, и чужая память проигрывалась у них в головах, как анималистические фильмы.
Данло с самого начала отзывался об этой разбавленной водицей церемонии как о подделке настоящего вспоминания Старшей Эдды. В этом его поддерживали другие. Еще во времена Огненной Проповеди Ханумана братья Джонатан и Бенджамин Гур со своими сторонниками образовали внутри одного культа другой — культ питья каллы. Они так и назвали свое сообщество — Каллия — и не отреклись от своего священного напитка, даже когда Хануман начал отлучать от церкви за его употребление. Каллисты видели в себе истинных рингистов, практикующих истинный Путь Рингесса, а калла-церемонии давно уже стали тайными — сначала братья Гур устраивали их в доме Бардо, потом на квартире у Джонатана или у других каллистов в Старом Городе.
Порой каллисты назло Хануману умудрялись проносить пробирки с каллой даже в собор, и пока Хануман с алтаря руководил обычной компьютерной церемонией, они устраивали свою приватную службу в одном из помещений за пределами нефа. Джонатан Гур в них, конечно, не участвовал, поскольку Хануман давно уже заклеймил его как вождя беспутных. Но многие из друзей Джонатана пробирались в собор каждый вечер, не будучи разоблаченными как каллисты.
Хануман так и не смог определить в точности, многие ли из его рингистов втайне пьют каллу. Сурье Сурате Лал он признавался, что их, вероятно, не меньше тысячи — и что эта тысяча представляет для рингизма угрозу, непропорциональную своей малочисленности. Они как черви у него в животе, говорил Хануман, как вирусы в огневитах, портящие самые лучшие образцы этих природных компьютеров. Будь у него время и возможности, он отлучил бы их от церкви, выселил из жилищ по соседству и вовсе изгнал бы из Невернеса как беспутных мятежников, предавших истины рингизма.
Каллия могла бы составить Хануману серьезную оппозицию, если бы не раскол в ее собственных рядах. За год до возвращения Данло в Невернес, когда власть Ханумана над лордом Паллом стала очевидной для всех, между братьями Гур случился раздор. Джонатан, красавец с ясными глазами, полагал, что каллисты должны заниматься только исследованиями Старшей Эдды и добиваться воскрешения Единой Памяти в каждом человеке. Мы — пилоты души и разума, говорил он, и наш путь пролегает среди мерцающих огней души человеческой; оспаривать ложные доктрины Ханумана на улицах вокруг собора не наше дело. Бенджамин Гур, чьи свободолюбие и воинственность не уступали одухотворенности брата, утверждал, что подобные прекраснодушные идеи бесполезны в оторванности от реального мира с его соборами, легкими кораблями и людьми, готовыми убивать. Его намерения были просты: сражаться с Хануманом всеми доступными средствами. Видя в рингизме движущую силу человеческой эволюции, он стремился воссоздать его в первоначальном виде. Если эта борьба требует внедрения в церковь Ханумана и переманивания божков к истокам истинного рингизма — он организует целую сеть подпольных калла-ячеек и будет подрывать авторитет Ханумана. Если судьба потребует от него более решительных мер, он начнет террористическую войну и заставит Ханумана дрожать от страха.
Данло не знал, что двумя сутками ожидания обязан именно Бенджамину Гуру и его каллистам. Когда-то Данло с Бенджамином дружили и вместе исследовали Старшую Эдду.
Позднее Данло отказался пить каллу, но Бенджамин (и его брат) по-прежнему видели в нем одного из своих. Но если Джонатан ограничивался жалобами на то, что человека столь великой души, как Данло, держат в заточении, протест Бенджамина принял более активную форму. В тот самый день, когда Хануман угощал Данло курмашом и пирожными, одного из приближенных к Хануману божков, бывшего горолога Галено Астареи, нашли мертвым в коридоре собора. Утром следующего дня на одной из оранжевых ледянок, отходящих от Старгородской глиссады, убили двух воинов-поэтов из охраны Ханумана.
Убийство даже одного воина-поэта — событие экстраординарное. Но то, что сразу две эти убойные машины были убиты среди бела дня, говорило о силе и ловкости, почти выходящей за пределы возможного. И когда за убийствами последовало требование Бенджамина освободить Данло, Ханумана действительно бросило в дрожь. В ближайшие дни он удвоил стражу у алтаря и других стратегических пунктов собора, а четверых оставшихся воинов-поэтов отправил на охоту за террористами, убившими их друзей; он лично допрашивал рингистов сомнительной лояльности и угрожал отдать их в руки акашиков.
В своем стремлении искоренить измену он провел бы чистку всей своей церкви, если бы само время не надвигалось на него, как смертоносная туча в открытом море. Флот Ордена ждал его приказаний, чтобы выступить в космос, судьба ждала, чтобы он достроил Вселенский Компьютер. И Данло, самый близкий его друг, ждал в тишине своей камеры, считая удары сердца.
К нему пришли поздней ночью, на четвертый день зимы.
Данло, лежа без сна на своей койке, услышал в коридоре топот трех пар сапог. За стенами собора дул ветер, в груди глухо отстукивало — этим почти и ограничивались его ощущения. Окно над кроватью оставалось черным, как обсидиан. Стальная дверь скрипнула, отворяясь, и в камеру проник слабый свет. Данло почувствовал резкий запах масла каны и увидел в адском свечении дверного проема двух воинов-поэтов. Один из них, Ярослав Бульба, велел Данло сесть на стул, другой зажег в камере световой шар. Внезапный свет, играющий оттенками меди, кирпича и ржавчины, резанул Данло глаза, и он на миг подивился двойственной природе света, способного и радовать, и жечь отвыкшие от него зрачки.
Когда он выбрался из теплого спальника и встал с постели, в камеру вошел Хануман. Тот тихо закрыл за собой дверь и, глядя на голого Данло со своим непроницаемым лицом цефика, сказал:
— Не трудись одеваться, Данло. Нынче ночью одежда тебе ни к чему.
Воины-поэты, как прежде в башне Ханумана, примотали Данло к стулу блестящим жгучим волокном, наказав ему не шевелиться во избежание болевых ощущений. На этот раз Данло не стал сопротивляться. Он сидел голый в серебристом коконе, ощущая ногами и спиной ледяной холод стула, и его пробирала дрожь. Когда Хануман устремил на него свои бледные льдистые глаза, Данло стало еще холоднее, и он затрясся, обливаясь потом.
— Ты сам вынудил меня к этому, — сказал Хануман. — Ты и твоя проклятая воля.
Данло ответил на эту постоянную жалобу только странным взглядом и улыбкой.
— Я требую, чтобы ты сообщил мне маршрут Зондерваля.
— Скажу, когда все звезды свалятся с неба.
— Я требую, чтобы ты сказал это сейчас.
— Раньше я умру.
— О нет. Этого мы не допустим. А вот ты через несколько мгновений пожалеешь, что не умер. Этой ночью я принес тебе в дар две вещи, близкие моей душе. Первая — это, конечно, боль.
— А вторая? — спросил Данло, предугадывая ответ.
— Вечность, Данло. Вечность и боль, боль и вечность — вот две единственные составные части вселенной.
Хануман кивнул Ярославу Бульбе, и его лицо отвердело.
Ярослав с быстротой атакующей кобры зажал в пальцах блестящую иглу и воткнул ее в шею Данло. Инъекция экканы заняла всего один момент. Данло, почти не ощутив боли от укола, ждал, обливаясь потом, — ждал чего-то большего, чем этот ничтожный мушиный укус. Его сердце отстучало один, два, три, четыре раза — а затем эккана, как ракета в холодном ночном воздухе, взорвалась в его нервной системе. Пятый удар сердца упал в грудь, словно камень, и Данло задохнулся от внезапной боли.
Боль накатывала волнами в такт быстрым сокращениям сердца, разгоняющего кровь по артериям; она пульсировала в руках, ногах, торсе, поднималась по шее в мозг. Сердцебиение участилось, и болевой шок пронизывал тело вместе с толчками крови. Самой страшной была боль в голове: Данло казалось, что в глаз ему вбивают раскаленное железо, и он едва удерживался от крика. К этому примешивались жгучий холод стула, опаляющая кожу веревка, ломота в обмороженных когда-то пальцах ног. Мускулы, кожа, нервы, кровь, кости — все клетки его тела вопили от боли.
— Можешь кричать, если хочешь, — сказал Хануман. — Здесь тебя никто не услышит, кроме Малаклипса, а для воина-поэта, как тебе известно, чьи-то крики — небесная музыка.
Не стану кричать, подумал Данло и стиснул челюсти так, что мускулы затвердели, как дерево, и зубная боль пронзила десны тридцатью двумя копьями.
— Такой стойкий, да? Но вспомни, пожалуйста: нужно четыреста секунд, чтобы эккана достигла полного эффекта, и ее действие нарастает очень постепенно. То, что ты испытываешь сейчас, — это спичка по сравнению со звездой.
Слова Ханумана усугубили мучения Данло — но не своим содержанием. Звуковые колебания сотрясали сырой воздух камеры, и каждая ревущая гласная и взрывчатая согласная разбивалась волной о барабанные перепонки Данло. Когда-то голос Ханумана казался Данло сладким, как мед, и красивым, как полированное серебро, — теперь он наполнял голову, как рев десяти тысяч тигров. Таков эффект экканы, превращающей приятные прежде ощущения в адские муки. Так легкое царапанье коготков любовницы по спине становится невыносимым после солнечного ожога.
— Отсчитываешь время? — Хануман, стоя перед Данло, смотрел на него странно, почти с состраданием, и свет, отражаясь от его бледного страдальческого лица, резал Данло глаза. — Мы не начнем по-настоящему, пока эккана не возымеет полного действия. А затем у нас будет не меньше шести часов до того, как оно ослабнет. Шесть часов! Можешь ты себе это представить? Во вселенной, воспринимаемой через эккану, даже шесть секунд — вечность.
Данло втянул в себя воздух, надеясь ослабить терзающую его боль, но этот холодный глоток только обжег ему легкие, точно огонь, и Данло улыбнулся от внезапно пришедшей ему в голову мысли: “Нервы — вот что мешает человеку возомнить себя богом”.
— Я вижу, тебе пока еще весело, — сказал Хануман. — Радуйся, что еще можешь улыбаться, — это ненадолго.
Данло попытался открыть рот и сказать Хануману, что воля его всегда останется свободной, как талло в небе, — лишь бы у него достало мужества следовать ей. Но шевелить челюстями, языком и губами было так больно, что он замкнулся в молчании.
— Тебе становится хуже, верно? Чувствуешь ты это нутром? Чувствуешь своими клетками?
Пока Данло заставлял себя не кричать и не биться в путах, чтобы не причинять себе лишних страданий, боль действительно пронзила ему нутро. Последний раз он ел много часов назад, но перистальтические сокращения мышц живота выжимали из внутренностей уже переваренную пишу. Желудочный сок обжигал, как горячая кислота, и даже усвоение клетками белков и жиров сделалось болезненным; казалось, что одна клетка за другой раздуваются от питательных веществ до отказа, а потом лопаются. Процессы во всех системах организма, от пищеварительной до кровеносной и мозга, заметно ускорились. Все они пребывали в постоянном движении, и чем быстрее они двигались, тем больше болели.
Через боль человек сознает жизнь, вспомнил Данло.
Жизнь, было его последней ясной мыслью до того, как боль захлестнула его, жизнь по сути своей есть движение материи по строго организованным образцам. Это движение в чистом виде, постоянный переход из одного состояния в другое — и в этом движении заключается изначальный источник всякой боли. Чем больше движение — например, когда мужчину кромсают ножом или женщина рожает, — тем сильнее боль. Странно, что раньше он никогда не понимал этого до конца. Странно, что движение само по себе есть боль, ведь вселенная — это не что иное, как движущаяся материя, от атома углерода в крови Данло, где вращаются электроны, до потока фотонов, исходящих из сердца далекой звезды.
Боль есть жизнь, а жизнь есть боль, боль, боль, боль…
Ирония в том, что воины-поэты изобрели свою эккану не просто для того, чтобы вызывать боль, а для того, чтобы освобождать свои жертвы для их величайших возможностей. Ведь боль — это дверь, ведущая из темной пещеры собственного существования к бесконечным огням вселенной. Но открыть эту дверь дано немногим. Немногие способны достичь своего момента возможного и пройти сквозь боль в золотую страну, где твоя воля струится свободно и дико, как водопад. Чем сильнее боль, говорят воины-поэты, тем больше у воли возможностей преодолеть ее и приблизиться к истинной человечности. Ибо настоящий человек — это тот, кто, несмотря на всю боль, терзающую его тело и душу, способен улыбнуться бесконечно большей боли вселенной.
Больно, больно, больно.
— Больно, Данло, правда?
Голос Ханумана грянул, как взрыв, из ослепительного света, опалив Данло нестерпимым жаром.
— Ужасно больно, да?
Да, сказал про себя Данло. Да, да, да, да.
— Данло!
Звук собственного имени обжег мозг и вызвал обильный пот. .
— Ты ни о чем не хочешь меня спросить?
Да, подумал Данло. Да, да, да, да.
— Спрашивай, если хочешь.
— Сколько… — выговорил наконец Данло. Это единственное слово далось ему такой ценой, словно он вырвал из ноги засевший там гарпун.
— Сколько боли ты сможешь вытерпеть? — Голубые глаза Ханумана сверкали, как лед, одежда окружала его золотым пламенем. — Ты это хотел узнать? Сколько боли ты сможешь вытерпеть, прежде чем начнешь кричать и грызть себе язык? Порой мне кажется, что это единственный стоящий вопрос: сколько боли мы способны вытерпеть, прежде чем обезуметь заодно со всей вселенной?
— Нет, — выдохнул Данло. — Сколько… времени?
Он давно уже потерял счет ударам своего сердца. Ему казалось, что прошли целые дни и даже годы, но при этом он понимал, что ночь еще не прошла, потому что окошко оставалось темным. Возможно, прошло только два или три часа с тех пор, как Ярослав впрыснул ему эккану. Он определенно давно уже достиг момента, когда огонь экканы разгорается жарче всего.
— Всего двести секунд. — Хануман закрыл глаза, и шапочка у него на голове засветилась пурпурными червячками. — Двести десять — чуть больше половины того срока, когда мы сможем начать по-настоящему. И только сотая часть боли, как тебе должно быть известно. Действие экканы нарастает по экспоненте. То, что ты чувствуешь сейчас, вряд ли можно назвать настоящей болью.
Ненастоящая… двести секунд… быть не может, нет, нет, нет…
Данло тратил всю силу воли только на то, чтобы не кричать.
Он не понимал, как может боль быть сильнее, — но она неизбежно стала сильнее, бесконечно сильнее. Проходили секунды, дни, века, и его сердце бесконечно долго завершало один удар и наполнялось кипящей кровью для следующего. Уйти бы, уйти — лучше уж оказаться голым в метели, или пусть бы его резали каменным ножом, или пусть бы самое мучительное, что он испытал в жизни, повторялось снова и снова.
Данло, к стыду своему, закричал, как ребенок, попавший в лапы тигру; он кричал так, что легкие, казалось, вот-вот оторвутся от ребер и сердце лопнет. Потом он осознал, что единственные звуки в камере — это дыхание Ханумана, воинов-поэтов и его собственное, похожее на выхлопы ракет. Крик звучал у него внутри, в его голове. Челюсти оставались сомкнутыми, и он не смог бы разлепить губы.
— Прошло больше пятисот секунд. — Голос Ярослава разрезал воздух, как кнут. — Ничего не понимаю.
Другой воин-поэт, быстрый молодой Аррио Келл, сказал: — Может быть, эккана устарела и утратила силу.
— Нет. Я приготовил свежий раствор всего три дня назад.
— Тогда он должен был достичь своего момента.
— И давно уже. Ничего не понимаю.
Хануман подошел поближе и потрогал потный лоб Данло.
Даже это легкое прикосновение причиняло невыносимую боль.
Данло заставил себя смотреть прямо на Ханумана, пока тот ощупывал окаменевшие мускулы его лица и шеи. Хануман заглянул ему в глаза и сказал:
— Он достиг своего момента — я уверен, что эккана подействовала полностью.
— Никто еще не подходил к своему моменту без крика, — возразил Ярослав.
— Данло не такой, как все люди.
— Вы говорите так, точно он бог.
— Почти, — тихо и странно произнес Хануман. — Его отец как-никак Мэллори Рингесс, который хоть и был человеком, но тоже не таким, как все.
— Даже воины-поэты кричат под действием экканы, — сказал Ярослав. — Нервов у него нет, что ли? Или с мозгом что-то не в порядке?
— Нервы у него есть. Смотри. — Хануман провел ногтем по шраму у Данло на лбу, и Данло подскочил на стуле: ему показалось, будто его старую рану вскрыли раскаленным ножом. — Видишь его глаза? Он кричит, только внутри.
— Лучше бы он кричал вслух, пока стены не затряслись и не порвались голосовые связки.
— Однако надо начинать, — сказал Хануман.
— Давно пора. — Ярослав достал свой длинный нож.
— Один момент. — Хануман обратился к Данло: — Назови мне координаты звезд вдоль пути Зондерваля.
Сердце Данло ударило три раза с силой волн, бьющих в скалистый берег, и он сказал: — Нет.
— Нет?
— Нет.
Односложное слово ранило грудь и горло, но не выбросить его железный груз из себя было бы еще больнее. Вся воля Данло уходила на то, чтобы произносить это просто, спокойно, без примеси боли или ненависти.
— Будь ты проклят, Данло! — Челюсть, руки, все тело Ханумана тряслись от ярости, и он не мог отвести от Данло бледных, готовых расплакаться глаз. — Если есть Бог в этой вселенной, он должен предать проклятию такое жестокое существо, как ты. Но его нет, поэтому это должен сделать я, понимаешь? Я должен. — И Хануман, кивнув Ярославу, приказал: — Начни с пальцев.
Хануман, должно быть, запланировал порядок пыток заранее и обговорил его с воинами-поэтами, поскольку Ярослав и Аррио Келл знали, что им нужно делать. Руки Данло были прикручены к подлокотникам стула, но кисти оставались свободными. Когда эккана начала действовать, Данло стиснул пальцы в кулаки. Теперь Аррио разжал их своими жесткими пальцами, распрямил мизинец с черным пилотским кольцом и придавил его к подлокотнику. На черном осколочнике палец казался особенно бельм, и ноготь при свете радужного шара переливался, как бриллиант.
Не стану кричать, пообещал себе Данло. Умру, а кричать не стану.
Он приказал себе смотреть, когда Ярослав приставил нож к кончику его пальца. Острие вошло под ноготь. Ярослав водил им вправо и влево, загоняя поглубже, стараясь подковырнуть весь ноготь до конца, как скорлупу ореха. Брызнула кровь, и невыносимое желание закричать свело судорогой горло и живот Данло. Он пытался отдернуть руку, но жгучая веревка, впиваясь в предплечье, не пускала его. Он не мог уйти от этого ножа, от крови, от боли.
О Боже, Боже, Боже. Умереть бы.
Ярослав наконец сорвал ноготь и с торжеством поднял его вверх, как найденный рубин. Данло, скрипя зубами, напрягся в своих путах. Все его мускулы сокращались одновременно, позвоночник трещал, желудок выворачивался наизнанку. В этот момент Данло стал думать о смерти. Никакого порядка и ясности в этих мыслях не было. Из-за боли Данло перестал постигать истины вселенной в словах, концепциях и рассуждениях. Он сознавал только боль, огонь и нескончаемость боли. И страшную логику, говорящую ему, что боль кончится только вместе с его жизнью. Если боль — это жизнь, а жизнь — только движение крови, бегущей из вскрытых сосудиков его пальца, и нервных сигналов, бегущих по руке в мозг, все это можно очень легко прекратить. Остановить движение клеток — и он умрет. Душа не отделится от тела, и никто не закодирует его “я” в виде компьютерной программы — ничего такого. Не будет ничего, кроме остановки движения, угасания сознания и жизни. Покой, тишина, и боль пройдет.
Данло жаждал этого несуществования все больше с каждым вдохом, царапавшим ему горло, как нож. Приказать сердцу не биться больше, уйти от боли жизни со всей непреклонностью, присущей ему от рождения.
Умереть, умереть, умереть — о Боже, о Боже, о Боже.
— Будь ты проклят, Данло!
Голос Ханумана обрушился откуда-то из слепящего света внутри Данло. Боль так помутила ум, что он показался Данло своим.
— Будь ты проклят! Почему ты не кричишь?
Данло услышал это как “почему ты не умираешь?” Разлепить бы кровоточащие губы, чтобы ответить Хануману (и себе самому) на этот вопрос, но если он это сделает, то закричит так, что звуковые волны разорвут ему грудь и сердце перестанет биться.
О Боже, нет. Нет, нет, нет — я не хочу умирать.
Ярослав долго — почти вечность — трудился над другими его пальцами. И каждый раз, срывая ноготь или сверля его ножом, проникая в нервы и в кость, воин-поэт все больше досадовал — и любопытствовал, и изощрялся в своем искусстве. Будь его воля, он просверлил бы Данло глаза или вскрыл ему грудь, чтобы убедиться, что сердце у него такое же, как у всякого человека. Но Хануман никогда не допустил бы подобных увечий. Он в самом деле не хотел, чтобы Данло умер, — и посредством жестов и резких взглядов побуждал воина-поэта действовать по плану. Для пытки предназначались самые легкодоступные, близкие к поверхности нервы, и нож Ярослава проникал в локтевой сустав, в тестикулы, в тройничный нерв, пролегающий за скулами.
Когда все это не принесло желаемого результата, Аррио Келл достал из кармана коричневую палочку Джамбула, раскурил ее и приложил горящий конец к животу Данло. Кожа зашипела, и пот стал испаряться, а клетки Данло выбрасывать из себя новую влагу. К стоящим в камере запахам — масла каны, старого меха, пыли, нездорового дыхания Ханумана — добавилась вонь горелого мяса. Данло задыхался от этого зловония, и давился, и мотал головой, и отказывался кричать.
— Бесполезно, — сказал Ярослав, весь забрызганный кровью, как и Аррио. — Вы хотите, чтобы ваш друг был жив, но девять человек из десяти уже умерли бы от такой боли — а десятый сошел бы с ума.
— Возможно, он Одиннадцатый. — Хануман говорил о персонаже из теологии воинов-поэтов, способном превзойти любую боль на пути к бесконечному.
— Даже Одиннадцатый в конце концов умирает, как всякий человек.
— Вот именно — человек, — сказал Хануман и добавил: — Надо спросить его еще раз.
Он снова задал Данло вопрос о маршруте Зондерваля, и Данло, глотая воздух, снова промолчал.
— Пора привести акашика. Ступай в собор, — приказал Хануман Аррио Келлу, — и скажи Радомилу Корвену, что он мне нужен.
Аррио вытер кровь с рук белым полотенцем, набросил золотой плащ на окровавленную одежду и с поклоном вышел.
— Хорошо бы вы позволили мне заняться глазами, — сказал Ярослав. — Манипуляции со зрительным нервом причиняют невероятную боль. А тут еще страх перед слепотой — глядишь, и заговорит.
— Может быть, позже, — сказал Хануман вдумчиво, как будто они обсуждали меню к обеду. — Подождем акашика.
Долго ждать не пришлось. Аррио привел морщинистого старца по имени Радомил Морвен. Прежде он был выдающимся мастер-акашиком, но еще на заре рингизма он вышел из Ордена, чтобы служить Хануману — и достигнуть божественного состояния прежде, чем сердечный приступ или еще какое-нибудь несчастье оборвет его дни. Свои инструменты он нес так, словно они были свинцовые. Охая и вздыхая, он установил маленький голографический стенд на шахматном столике рядом с образником и постучал скрюченными пальцами по блестящей поверхности шлема.
— Я понимаю необходимость подобных мер, — сказал он, косясь на изувеченные пальцы Данло и лохмотья кожи, свисающие с его лица. При этом он зажал рот рукой, словно боясь, что его вырвет. — Но лучше было бы послать за мной сразу после того, как ему ввели эккану. Пытки — это уж чересчур.
— Не вам об этом судить, — сказал Хануман.
— Если бы вы больше полагались на мое искусство, — проворчал Радомил, игнорируя холод, которым Хануман его обдавал, — то даже эккана бы не понадобилась.
— Это вы так говорите.
— Вы кромсаете его ножами и вяжете жгучей веревкой, но мой компьютер вскроет его гораздо более эффективно.
— Посмотрим.
— Я мог бы просто осмотреть пилота под любым предлогом, — настаивал Радомил. Он, очевидно, был убежден, что имеет для Ханумана большую ценность, если осмеливался вступать в спор с самим Светочем Пути. — Тогда мы могли бы сказать божкам, что Данло ви Соли Рингесс нуждается в нашей помощи для восстановления утраченной памяти.
На самом деле Данло обладал почти идеальной памятью и никогда не нуждался в чужой помощи, чтобы вспомнить что-либо. Хануман, разумеется, знал об этом — как знали все знакомые Данло и его сподвижники по первым дням рингизма.
То, что Радомил позабыл об этом общеизвестном факте, говорило о страхе, лишающем его способности рассуждать здраво. Страх управлял Радомилом, как большинством людей; старый акашик боялся болезней и старости, звездных взрывов, крови и мнения других рингистов. Ирония заключалась в том, что он, как и большинство людей, боялся того, чему не суждено сбыться, не замечая в то же время опасности, висящей над его головой, словно нож на волоске.
— Зачем нам вообще говорить божкам что бы то ни было? — спокойно осведомился Хануман. Он метнул взгляд на Ярослава, и Данло прочел в его льдистых глазах смерть.
Нет, Хану. Нет, нет, нет, нет.
— Да посмотрите же на этого бедного пилота! Посмотрите, что вы с ним сделали! Ведь он посол — что мы скажем Демоти Беде, когда он потребует присутствия Данло на Коллегии?
— Вы доверяете мне? — внезапно спросил Хануман, впившись глазами в Радомила.
— Разумеется, лорд Хануман, — нервно сглотнув, ответил тот.
— Тогда доверьтесь мне и в решении этой маленькой проблемы.
— Как вам будет угодно.
— Может быть, начнем в таком случае? Данло ждет уже целую вечность, и я не хочу продлевать его страданий.
Радомил склонился над Данло, чтобы надеть на него шлем, и Данло, обретя голос, прошептал: — Он… убьет… вас.
Он хотел добавить еще что-нибудь, хотел сказать Радомилу, что ему ни с кем не дадут поделиться тем, что произошло этой ночью в камере Данло. Но воздух обжег его искусанный язык, и челюсти непроизвольно сомкнулись снова. Если Радомил и разобрал процеженный сквозь кровавую пену шепот Данло, то, видимо, не придал ему значения, решив, что Данло попросту пытается предотвратить дальнейшие пытки.
— Вот так, — проворчал он, прилаживая шлем. На голографическом стенде загорелась проекция мозга Данло. Все его основные структуры — от большого мозга до миндалин — светились разными красками. Радомил мог придать голограмме более глубокий уровень — тогда она показала бы фиолетовые нейроканалы в височных долях и даже включение отдельных нейронов в языковых центрах. — Ох, как же ему больно, — сказал акашик. — Никогда еще не видел, чтобы человек испытывал такую боль.
Радомил показал на красные светящиеся облачка вокруг мозгового ствола, в теменных долях — практически во всех частях мозга. Хануман следил за ним с интересом, как кадет-цефик во время урока. Воинов-поэтов это тоже заинтересовало. Ярослав охотно потыкал бы ножом в ступни, бедра, живот и глаза Данло, чтобы поглядеть, какие участки мозга загорятся, но он знал, что Хануман, сосредоточенный на своей цели, не разрешит ему этого.
— Могу я теперь задать ему вопрос? — спросил Хануман Радомила.
— Да, спрашивайте, пока он еще в сознании. Это просто невероятно, что он терпит такую боль молча и не теряя сознания.
— На чем следует сосредоточиться воину-поэту, когда я задаю вопрос?
Радомил хрустнул пальцами.
— Пусть он спрячет свой нож. Пилот и без того натерпелся. Еще немного боли — и он просто утратит способность говорить.
— На этот случай я вас и вызвал. Мне нужно, чтобы вы прочли его мысли.
— Но он все-таки должен говорить, хотя бы мысленно. Словами и цифрами, которые четко воспроизводятся в лобных долях. Избыток боли затемнит это воспроизведение.
— А недостаток боли позволит ему управлять своими мыслями. Он владеет цефическими навыками, как вам должно быть известно.
Радомил не стал спрашивать, как Данло приобрел эти навыки, а Хануман не сказал, что сам когда-то посвятил Данло в секреты своего мастерства. Данло ворочал во рту израненным языком, пока эти двое спорили, как им лучше получить нужную Хануману информацию.
— Вы мастер-акашик, — сказал наконец Хануман, низко кланяясь Радомилу, но в его глазах сквозило презрение, которое цефики питают к представителям низших ментальных дисциплин, особенно к акашикам. — Один из лучших акашиков, известных мне, Я полагаюсь на ваше суждение. Ограничимся пока словами — а если они не принесут успеха, мы попросим воина-поэта сопроводить их своим ножом.
Заключив этот компромисс, Хануман взял оставшуюся целой руку Данло в свою и спросил: — Координаты каких звезд сообщил тебе Зондерваль?
Его слова прожгли мозг Данло, как красное ракетное пламя.
Нет, нет — я не должен думать словами. Нет, нет, нет.
— Еще раз, — сказал Радомил, глядя на голограмму. — Спросите его еще раз.
Хануман повторил свой вопрос.
— В его мыслях мелькает “нет” и “слова”. Он пытается не думать словами.
— Этого следовало ожидать.
— Чем больше слов скажете вы, тем труднее будет его задача.
— Да, пожалуй, — поэтому мне нужно найти верные слова.
Хануман снова задал свой вопрос, справившись на этот раз о цвете глаз Зондерваля и тембре его голоса — эти ощущения могли ассоциироваться с информацией, которую Зондерваль сообщил Данло.
Я не должен думать словами, твердил про себя Данло. Цифры, координаты — нет, не хочу, не хочу, не хочу…
— Продолжайте говорить, — сказал Хануману Радомил. — Мы близки к цели.
Голос Ханумана, как серебряный нож, резал слух Данло и проникал в самую глубину его мозга. Данло закрыл глаза, пытаясь расплавить его слова огнем своей воли.
Я так хочу. Такова моя воля. Моя воля свободна, как талло в небе. Я должен иметь мужество следовать за ней.
— Поразительно, — сказал Радомил. — Его воля необыкновенно сильна. Он старается мыслить только образами — и ему это, кажется, удается.
Воля сердце огонь машут белые крылья холодный воздух синее небо…
Хануман продолжал расспрашивать Данло о флоте Зондерваля и его пилотах. Он называл координаты разных звезд, через которые мог проходить маршрут Зондерваля, надеясь, что память Данло среагирует на какие-нибудь из них. Потерпев неудачу в этом, Хануман стал говорить о гибели племени деваки и спрашивать, почему Данло позволил Тамаре оставить его. Эти вопросы, более жестокие, чем нож воина-поэта, ранили Данло до глубины души. Они едва не вызвали лавину эмоций, которая могла бы сломить его. Но его воля, как воля каждого человека, была поистине свободна, и в этот раз, единственный в своей жизни, он имел мужество следовать за ней.
Синее небо черный космос вопль молчание белое дитя звезд мерцание-свет свет свет…
— Итак? — сказал наконец Хануман.
— Я не могу прочесть ничего, кроме этих образов. Сожалею, но это так.
Хануман взял другую, израненную, руку Данло и сжал его окровавленные пальцы в своих. Боль, пронизавшая током руку Данло, должно быть, передалась ему, потому что он содрогнулся, отпустил Данло и спросил:
— А сейчас что вы читаете?
— Почти ничего, кроме боли. Боли яркой, как свет.
Свет свет свет огонь огонь огонь…
— Займись пальцами на другой руке, — сказал Ярославу Хануман.
— Лучше бы глазами, — заметил Ярослав, приставив нож к ногтю большого пальца Данло.
Хануман, не слушая его, сказал Данло:
— Назови координаты. Ты не избавишься от боли, пока не скажешь их мне.
Боль боль боль…
Большой палец полыхнул огнем, Данло напрягся в своих жгучих путах и подумал на миг, что хочет одного: избавиться от боли. Уйти от агонии существования, как червяк уходит под снег, — эта мысль искушала его почти невыносимо. Побороть боль или уйти от нее было всем, чего он желал. Но ведь он мог уйти от нее с помощью слов, выдав информацию, которой Хануман так отчаянно от него добивался. Осознав это, Данло свернул в другую сторону, вспомнил самое заветное свое желание и заставил себя подняться (или погрузиться) в ту звезду, что пылала в центре его существа, как огненно-красное сердце. Он падал в ее огонь радостно и свободно, как талло, летящая к солнцу.
Боль.
Перья вспыхнули, и он сам стал своей болью; боль была началом и концом его жизни и длилась вечно во вселенной, которая сама была болью и больше ничем.
Боль.
— Бесполезно, — сказал Радомил, глядя на модель мозга Данло, всю охваченную красным огнем. Сам Данло сидел с закрытыми глазами, расслабив грудь и плечи, как будто открыл свое сердце всей боли мира.
Ярослав сковырнул еще один ноготь и, стоя перед Данло с обагренным кровью ножом, подтвердил:
— Бесполезно. Если б я не знал, что это невозможно, то подумал бы, что он заранее принял какое-то противоядие от экканы.
Но противоядия от экканы не существовало, и Хануман сказал:
— Нет. Он будет чувствовать ее всю свою жизнь.
— И надолго ж эта жизнь затянется? — спросил Ярослав, переводя взгляд с Данло на Ханумана.
— Не знаю, — с невыразимой печалью сказал Хануман. — Откуда мне знать?
— Позвольте мне заняться его глазами, — попросил Ярослав. Хануман склонился над Данло и потрогал его закрытые веки.
— Позвольте мне забрать у него жизнь, — с неожиданным состраданием сказал Ярослав. — Он заслужил свободу, как никто другой.
Хануман, став за стулом Данло, прижал пальцы к его сонной артерии.
— Как сильно все еще бьется его сердце.
— Предлагаю подождать несколько дней, — вставил Радомил. — Когда действие экканы ослабеет, можно будет прибегнуть к другим наркотикам. И когда его мозг очистится от боли, я смогу прочесть…
— Способен ли кто-нибудь прочесть этого человека? — тихо, словно только для себя, произнес Хануман. — Мог ли я хоть когда-нибудь прочесть его?
— Позвольте мне взять его жизнь, — повторил Ярослав. — Если он достиг своего момента возможного и двинулся дальше, ничего другого не остается.
— Если ему выпало стать Одиннадцатым, — добавил Аррио Келл, — он перешел через боль, и вы никогда его не прочтете.
Перешел через боль. Перешел через огонь. Свет за пределами света внутри света свет свет…
Пока двое воинов-поэтов спорили с Радомилом и Хануманом о судьбе Данло, с самим Данло происходило что-то странное. Ему казалось, что внутри у него, в полном огня и боли пространстве между легкими, бьется чье-то другое сердце. Может быть, сердце Ханумана? Данло всегда чувствовал, что их души связаны, точно у сросшихся грудью близнецов в материнском чреве. Удары становились все ближе, словно к нему шел человек с барабаном. Данло видел этого человека: молодой божок с прыщавым от юка лицом спешил по соборным коридорам в часовню, и его золотой плащ развевался позади, как крылья ангела.
Через несколько мгновений Данло стал не только видеть его, но и слышать и не тем таинственным чувством, для которого у него не было имени, а ушами, как все. Хануман и воины-поэты тоже услышали. Где-то далеко открылась дверь, ботинки простучали по камню и остановились у самой камеры. Сердце Данло стукнуло еще раз, и в дверь камеры постучались.
— Лорд Хануман, — позвал чей-то голос, — я должен поговорить с вами незамедлительно.
Ярослав по знаку Ханумана открыл дверь, и в камеру влетел запыхавшийся человек в золотой одежде. Его лицо, все в шрамах от прыщей, раскраснелось от пробежки по холоду. Данло вспомнил, что зовут его Ивар Заит и что Хануман доверяет ему больше всех после Сурьи Сураты Лал и Ярослава Бульбы.
— Подойди сюда, — сказал Хануман, видя, что Ивар забился в самый дальний угол камеры. — Отдышись и успокойся.
Ивар, повиновавшись, сложил руки и стал шептать что-то на ухо Хануману. Через несколько секунд Хануман отстранился, как будто не мог вынести столь близкого соседства с другим человеком.
— Можешь освободить пилота, — сказал он Ярославу. — Теперь уже безразлично, заговорит он или нет.
— Что такое сообщил вам Ивар?
— Новость, которая скоро разойдется по всему городу. Двадцать наших легких кораблей чисто случайно обнаружили у Звезды Мара часть флота Содружества. А флот обнаружил их. Завязалось небольшое сражение, после которого двое наших пилотов выжили и вернулись в Невернес. Теперь Зондерваля уже не застанешь врасплох. Он будет ждать нас там, у этой проклятой звезды, или где-нибудь поблизости, у Орино Люс, скажем.
— Он, возможно, и будет ждать, но разумно ли будет для Сальмалина вести туда орденский флот? — подал голос Радомил, почитающий себя прирожденным стратегом, как многие люди, не имеющие о войне никакого понятия.
— Разумно ли? — повторил Хануман. Его глаза затуманились, как лед в пасмурную погоду, а нейросхемы кибершапочки загорелись миллионом пурпурных проводков. — Ивар только что из Академии, — сказал он через некоторое время. — Вся Коллегия собралась там, чтобы обсудить, какой курс действий будет наиболее разумным.
— Но решить, посылать туда флот или нет, должен сам глава Ордена. — Радомил, несмотря на свое умение читать людские умы, так и не разгадал до сих пор игру, шедшую между Хануманом и лордом Паллом.
— Разумеется, — согласился Хануман. — Но лорд Палл всегда ценил дальновидный совет. Поэтому он послал за мной, чтобы я помог ему принять решение.
— Что же вы ему посоветуете? — спросил Ярослав, вытирая нож окровавленной тряпкой.
— Для начала я дам совет тебе: развяжи пилота и уложи его в постель.
— Как скажете. — Ярослав с молниеносной быстротой спрятал нож и достал другой, маленький, которым вмиг расплавил путы Данло. Это вызвало отвратительный запах, похожий на вонь от паленых волос. Аррио с такой же быстротой заклеил рану у Данло на лице и надел десять трубочек на его искалеченные пальцы. Вдвоем они довели Данло до койки и бережно, как ребенка, уложили в теплый спальник.
— Теперь, — сказал Хануман, устремив на Ярослава свои холодные, как смерть, глаза, — ты проводишь Радомила домой.
— Право же, в этом нет необходимости, — возразил Радомил, вспомнив, возможно, с какой легкостью нож воина-поэта проникает в человеческое тело.
Хануман положил руку на плечо старику, как близкому другу.
— Простите, но я на этом настаиваю. Улицы ночью опасны, а у нас, приверженцев Пути, много врагов.
— Но, лорд Хануман…
— Пожалуйста, позвольте мне отблагодарить вас за ваши сегодняшние труды. Вы видите много такого, что другим недоступно. Проводи его, — еще раз велел Хануман Ярославу. — Дорогу ты знаешь, не так ли?
Ярослав пристально посмотрел на Ханумана, и страшное понимание прошло между ними, как искра.
— Знаю, — ответил Ярослав. — И сделаю это с удовольствием.
Он взял Радомила за локоть и направил его к двери.
— Аррио проводит на башню меня, — распорядился Хануман, — и там я подумаю, какой совет дать лорду Паллу.
Ивар Заит, поглядев, как Радомил дрожащими руками упаковывает шлем и голографический стенд, спросил:
— А я чем могу служить вам, лорд Хануман?
— Ты пойдешь со мной и подождешь в моей прихожей, а потом передашь мой совет лорду Паллу.
Ивар склонил голову, а Хануман внезапно, точно выполняя боевой прием, выбросил вперед ладони. Все, повинуясь этому знаку, вышли из камеры, но сам Хануман задержался, чтобы проверить пульс на шее Данло. Делая это, он приблизил губы к уху Данло и прошептал так, чтобы не слыхали другие:
— Я знаю, что ты в сознании и слышишь меня. И знаю всю меру твоей боли, но ты сам заставил меня поделиться ею с тобой, ты ведь понимаешь? Ведь так? Через несколько часов боль немного утихнет. Это еще одна вечность, я знаю, но когда она пройдет, попытайся уснуть. Поспи, дай зажить твоим ранам — и будешь жив.
Данло лежал, закутанный в свои меха, как труп. Потом он открыл глаза, и из них синим огнем хлынула страшная красота его души. Хануман содрогнулся от этого зрелища, как будто живущее в Данло солнце могло изжарить его собственное лицо и выжечь глаза. В конце концов он не выдержал и отвел взгляд.
— Нет, я не стану пока спать, — прошептал Данло. Губы и язык у него кровоточили, и ему трудно было складывать слова. — Когда человек спит, он умирает — ты сам так сказал, Хану.
— Ну что ж, до свидания.
— До свидания, Хану. До свидания.
— Прости, Данло, — шепнул Хануман, отойдя немного.
Потом он вышел из камеры и закрыл дверь, оставив Данло одного.
Лишь будучи один, не одинок я, вспомнил Данло. С болью я не одинок.
Лежа на койке и глядя на темную дверь камеры, он целиком открылся боли внутри себя, и это открыло что-то внутри него. Его сердце отворилось, как дверь, ведущая в мерцающую золотую боль вселенной, и он ощутил движение других далеких сердец. Он чувствовал движение молекул, и планет, и легких кораблей, и людей — всего сущего, быть может. Вся вселенная от его койки до галактик облака Журавля — двигалась с прекрасной, но ужасной целью, и это причиняло боль.
Суть боли — это движение. Электроны горячих голубых звезд и его собственных глаз вращаются, и мерцают, и движутся, соединяясь с тем золотым моментом в начале времен, когда материя и память были едины.
Все помнит обо всем, думал Данло. Все и повсюду.
В следующий момент времени — в наитеперешний момент движения крови и ножей боли, пронзающих все его тело, — ему высветились события, произошедшие недавно далеко отсюда. С открытыми глазами и сердцем Данло вспомнил битву, о которой говорил Ивар Заит. Он увидел ослепительно быстрые движения легких кораблей и других боевых единиц Десятого отряда, которым командовал его друг Бардо.
Там были и другие корабли. В космосе вокруг яркой Звезды Мара (и в своем внутреннем космосе) Данло увидел, как двадцать рингистских кораблей напали на трех пилотов Бардо. Рингисты, видимо, думали, что эти корабли одиноки, и накинулись на них, как волки на стадо оленух, но в этот момент из мультиплекса вышел весь остальной отряд Бардо.
Наживка сработала, и капкан захлопнулся. Окна из мультиплекса засверкали, открываясь, и Бардо на “Мече Шивы” сразу обнаружил командира рингистов Карла Одиссана — по его знаменитому “Летящему фениксу” с золотыми и алыми бликами, вплавленными в черный алмаз. После целого ряда финтов и маневров между окнами мультиплекса Бардо удалось послать “Феникса” в сердцевину Мары. Бардо должен был видеть, как корабль исчез из реального пространства, словно льдинка, испарившаяся от выстрела огнемета, — но он, конечно, не мог видеть, как “Феникс” появился снова в выбранной им точке выхода внутри звезды. Он не видел изумления в карих глазах Карла и не слышал его предсмертного крика.
Но Данло, лежащий на своей койке за пятьсот световых лет от них, это видел. Он видел, как страшный огонь звезды сжег алмазную обшивку корабля и как почернело красивое, кофейного цвета лицо Карла. Он смотрел на это целую вечность, и последний удар сердца Карла отозвался алой вспышкой в его собственной груди. Данло чуть не закричал тогда сам. В пустоте своей камеры, ощутив внезапно одиночество своей души, он открыл рот, чтобы излить в крике свою бесконечную боль.
Нет! Нет, нет, нет, нет.
Но он не мог оторваться от пылающей реальности, которую наблюдал. Он видел, чувствовал, вспоминал и знал, что все, раскрывающееся сейчас, как огнецвет, у него в мозгу, — это правда.
Агира, Агира, помолился он, ми алашария ля шанти Карл Одиссан, шанти, шанти.
Он помолился бы и за всех других пилотов, за всех людей, вовлеченных в эту страшную . войну, но губы и более глубокий внутренний голос не повиновались больше ему. Боль внезапно сделалась слишком велика. Она взорвалась в нем, как ставшая сверхновой звезда, и он перестал сознавать все, кроме огня, бесконечности и ужасного прекрасного света за пределами света.
Глава 9 БИТВА ПРИ МАРЕ
Не страшись и не смущайся этих множеств, ибо не ты ведешь эту битву, но Бог.
Летописи ИзраиляТолько мертвым дано было увидеть конец войны.
ПлатонСледующие десять дней были самыми странными в жизни Данло. Все это время он провел один у себя в камере — лежал на своей испачканной кровью постели, ел протертую пищу, которую приносил ему один из божков, и выздоравливал. Впрочем, выздоровлением это можно было назвать только условно. Его ожоги зарубцевались быстро, и на концах пальцев уже начали отрастать блестящие новые ногти, но эккана все еще жгла каждую клетку его тела, словно скутарийский яд. От этой боли он был способен избавиться не больше, чем превратиться в пар и просочиться сквозь щели своей камеры.
Парадоксом этого периода, состоящего из потных кошмаров и безмолвных криков, было то, что чем сильнее делалась боль, тем легче он переносил ее.
В странные моменты, когда казалось, будто его кровь и кости растворяются в лаве, бурлящей у него внутри, он сам растворялся, превращаясь в огонь, а огонь переходил в свет.
В моменты самых жутких мучений он всегда находил в себе место до того горячее, что оно казалось холодным как лед, движение до того бешеное, что в нем обнаруживалась точка покоя и ясности. Он, как птица, находящая убежище в глазе урагана, отдыхал в этой точке под безоблачным синим небом, пока вокруг бушевал ураган.
Но случались и другие моменты, куда более страшные, когда уровень боли немного снижался и ему казалось всего лишь, что он медленно сгорает на солнцепеке. Тогда он осознавал свои страдания в полной мере и чувствовал себя отдельным существом, пойманным в ловушку чистого существования. Он чувствовал, как кровь кипит в венах и артериях, обжигая его изнутри. Часто он прятал лицо в подушку и ревел, как снежный тигр, увязший в кипящей смоле. Он кричал, рыдал и бушевал, пока голос не изменял ему; его одолевали бредовые видения, а приходя в себя, он молил Бога, чтобы тот дал ему умереть.
Между тем за жизнь он держался еще яростнее, чем тигр, запустивший когти в молодого оленя. Четырежды в день божок Ханумана приносил ему еду, и Данло каждый раз заставлял себя есть, хотя каждый глоток обжигал ему горло и желудок, точно кислота. Два раза в день, утром и вечером, Хануман присылал к нему цефика. Этот человек, Даман Нелек, врачевал раны Данло и учил его разным ментальным приемам, облегчающим действие экканы. Данло старался не питать к Нелеку ненависти за то, что он цефик, и глотал его наставления, как холодную воду. Днем и ночью Данло упражнялся в тапасе, шама-медитации и других дисциплинах, помогающих ужиться с болью. Помогали они, правда, не очень, но больше ничего он сделать не мог.
От Дамана Нелека Данло узнавал о событиях, происходящих за стенами камеры. На Большом Кругу у Посольской улицы хариджаны устроили очередной бунт; подвоз провизии в Ашторетник задерживается или блокируется вовсе, и такого голода в Невернесе не бывало со времен Темного Года; двое воинов-поэтов Ханумана, Киритан By и Ямил Туркманян, зарезали трех террористов Бенджамина Гура, которые убили их друзей.
Поступали новости и из других миров: в Небесных Вратах рингисты устроили погром “беспутным”, перебив за одну ночь почти миллион человек; за Темной Луной появилась еще одна сверхновая — возможно, это работа ивиомилов или какого-нибудь злобного бога; но еще важнее то, что лорд Палл приказал флоту Ордена идти к Звезде Мара.
— Все ждут, что будет сражение, — сказал Даман, заклеивая синтопластырем мокнущий ожог у Данло на груди. Цефик то и дело покачивал своей серебряной головой, удивляясь тому, как быстро Данло поправляется. Данло, на котором всегда все заживало быстро, и сам удивлялся скорости рубцевания своих порезов и ожогов. Дело выглядело так, будто эккана ускорила все процессы его организма и наделила его клетки новыми регенеративными способностями. — Думаю, война кончится еще до того, как лорд Хануман разрешит вам встать. Так что отдыхайте — теперь этого уже не остановишь.
Данло много времени проводил с постели, но с отдыхом у него плохо получалось. Сон, каким он знал его раньше — долгие часы глубокого дыхания и бессознательного возвращения к истокам своего существа, — отошел в прошлое. Чтобы облегчить боль, Данло подолгу медитировал. Его мучили кошмары, и он просыпался от жутких сцен насилия, которые казались слишком реальными, чтобы быть сном. Вечером 18-го числа зимы он проснулся с дрожью в животе и с кровью на губах, содрогаясь, дергаясь и крича “нет!”. В своем бессонном сне, он прикусил себе щеку изнутри. Он хотел встать, но шевелиться было слишком больно. Данло лежал, глотая собственную кровь и вздрагивая от ее вкуса, напоминающего раскаленное железо. За темным окном светили звезды. Только самые яркие из них пробивались сквозь кларий в фут толщиной: Беллатрикс, Агни — а если час был такой поздний, как полагал Данло, то даже кроваво-красная Веда Люс.
А может быть, эти слабые, почти призрачные огоньки за окном были только обманом зрения, не более реальным, чем световые штормы, которые он вызывал, нажимая пальцами на закрытые веки. Данло лежал в своих мягких белых мехах, и им овладевало странное чувство, чувство холода и волшебной ясности, как будто он лежал в снегу на улице и смотрел в ночное небо. Боль на время покинула его — вернее, она осталась при нем, но ему стало все равно. Через боль человек сознает жизнь — его даже радовало это покалывание во всем теле, точно он напился чистейшей ледяной воды. За клариевым окном — а может быть, в окне его разума, — вспыхнула звезда, красно-оранжевая, как кровоплод, и почти такая же яркая, как Глориана Люс. По расположению других звезд вокруг нее Данло узнал в ней Мару.
Боль — это осознание жизни. Боль внутри боли, сознание внутри сознания.
Данло лежал в темной и тихой камере устремив взгляд в бесконечность, и что-то открылось внутри него. В прекрасный и ужасный момент он почувствовал, что его сознание распространяется по вселенной, как лучи света. Он ощущал мерцающую взаимосвязанность всех вещей, ощущал прикосновения планет, комет и сияющих звезд. Это чувство не было настоящим зрением, как у бога, взирающего на чудеса галактики. Оно шло откуда-то изнутри, как будто он был зрячей частью того участка материи или пространства-времени, на котором фокусировалось его сознание. Если выразиться еще точнее, он просто был — был камнем, льдом, кровью, звездным светом или кристаллом черного алмаза в корпусе легкого корабля.
Поначалу в своем путешествии в бесконечность он перестал быть чем-то отдельным — он стал потоком материи и сознания внутри всех вещей, стал всеми вещами сразу. Но и это было не совсем верно, поскольку он пребывал одновременно внутри и снаружи, всюду сразу. Этот чудесный новый путь восприятия реальности позволял ему проникнуть как во дворец Святой Иви на Таннахилле, так и в атомы собственного мозга.
Всеохватность этого переживания могла бы сокрушить его, как морской вал, если бы он не сфокусировал свое сознание в одном-единственном месте. В центре 25-го скопления Дэва, близ Орино Люс, светила, как красный глаз, Звезда Мара, озаряя тридцать две тысячи кораблей Содружества Свободных Миров, ожидающих атаки орденского флота. Данло сам как будто стал этой звездой, и охватил все это скопище кораблей светом своего сознания, и увидел: Зондерваль поделил свой флот на пятнадцать боевых отрядов. Они располагались вокруг Первого отряда, которым командовал сам Зондерваль, образуя в космосе огромное алмазное колесо. Внутренний круг составляли Второй, Третий, Четвертый, Пятый и Девятый отряды под командованием Елены Чарбо, Сабри дур ли Кадира, Аджи, Карла Раппопорта и Ричардесса, внешний — девять остальных. Капитанами Одиннадцатого и Двенадцатого были Кристобль и Алезар Эстареи; чуть ближе к свету звезды разместились корабли знаменитого впоследствии Десятого отряда Бардо.
Для сражения такая диспозиция была беспрецедентной; но в космических войнах человека (и даже в войне человека с даргинни) еще не случалось сражений такого масштаба. Зондерваль сплел свою алмазно-налловую паутину из тридцати двух тысяч кораблей, Сальмалин Благоразумный располагал примерно сорока тысячами. В пределах Цивилизованных Миров никогда еще не собиралось вместе столько кораблей — ни для сражения, ни в иных целях. В основном это были тяжелые транспорты, крейсеры, корветы, фрегаты и каракки. Семьсот пятьдесят шесть легких кораблей, неравно поделенные между двумя флотами, выделялись среди других корпусов, как алмазные иглы. На Пилотской Войне одни легкие корабли сражались с другими; этой войне, как сразу поняли многие наряду с Зондервалем, предстояло стать совсем иной.
Начать с того, что она обещала быть гораздо более статичной. Во время Пилотской Войны шестьдесят два легких корабля Мэллори Рингесса вели постоянный бой с эскадрой Леопольда Соли во всех каналах от Нинсана до Геенны Люс.
И даже тогда Мэллори Рингесс, имея в своем распоряжении таких пилотов, как Елена Чарбо, Делора ви Тови, Джонатан Эде и другие, испытывал трудности с координацией своих кораблей. Вести от звезды к звезде тридцать тысяч кораблей, удерживая их вместе среди смертельных вспышек открывающихся окон мультиплекса, было бы невозможно, и Зондерваль это знал — поэтому он разработал другую стратегию. Он решил выбрать подходящий для его целей участок космоса и там спровоцировать сражение. Провокация прошла успешно: Бардо разбил в пух и прах двадцать рингистских кораблей.
Оставалось только подобрать место для будущей битвы и расположить свои силы с умом, что Зондерваль и сделал. Бардо и другим капитанам он сообщил, что попытается применить стратегию, которую Ганнибал использовал против римлян при Каннах, на Старой Земле, много тысячелетий назад.
— Устроим рингистам ловушку, — сказал Зондерваль своим капитанам по радио. Разговор происходил вечером 11-го числа зимы по невернесскому времени. — Раскинем в космосе паутину из наших кораблей с моей “Добродетелью” в центре. А когда Сальмалин атакует, мы сомкнемся и уничтожим его.
Таким же образом расположил свою многонациональную армию Ганнибал в ожидании римлян, намного превосходивших его численностью. В центре, образовав необычную формацию в виде полумесяца, стоял он сам с испанцами и галлами, которые сражались нагими, прикрываясь длинными щитами. Эти храбрые, но недисциплинированные воины наверняка должны были дрогнуть под натиском римлян. По обе стороны от этого дикого войска Ганнибал разместил цвет своей пехоты — темнокожих африканских ветеранов с острыми мечами, на левом фланге он поставил тяжелую кавалерию, на правом — несравненную нумидийскую легкую конницу во главе с Махарбалем Великим.
Когда битва началась, тяжелая карфагенская конница стала бить одетых в броню всадников на правом фланге римлян, а лучшая в мире кавалерия Махарбаля обратила в бегство конницу союзников Рима. Между тем римские легионы продвигались к Ганнибалу в центре. Они подобно молоту крушили копьями и короткими колющими мечами карфагенян в легких доспехах, и полумесяц, составленный из галлов и испанцев, стал прогибаться назад. Римляне, заранее торжествуя победу, врубались все глубже в карфагенский центр, и это позволило африканским ветеранам Ганнибала изготовить две стальные челюсти у них по бокам. Когда прозвучала труба — сигнал Ганнибала, — эти львиные челюсти сомкнулись на своей добыче.
Римляне, сбитые в плотную массу, с большим трудом орудовали мечами и щитами. Два крыла Ганнибаловой конницы замкнули капкан окончательно. Отогнав или истребив римских конников с их союзниками, карфагенские кавалеристы развернулись и обрушились на римлян с тыла. Таким образом, римлян окружили со всех сторон, и началась резня. В тот день погибло шестьдесят тысяч римлян, включая двух консулов, восемьдесят сенаторов и двадцать девять трибунов знатного рода.
Золотые браслеты павших римских конников весили около трех бушелей. Такое количество воинов, перебитых в одном бою, оставалось самым высоким в истории человечества вплоть до войн Холокоста две тысячи лет спустя.
Зондерваль, будучи самым тщеславным из людей, надеялся повторить победу Ганнибала — но история никогда не повторяется. Зондерваль всю свою жизнь изучал математику и пилотирование, а не военное дело. Он мало что смыслил в командовании большими массами людей, испытывающих страх перед боем в своих налловых кораблях. Его гений заключался в умелом применении теорем вероятностной топологии и в вождении легкого корабля между звезд галактики.
Он, правда, сражался вместе с Мэллори Рингессом в Пилотскую Войну и даже изобрел свою личную тактику космического боя — как и некоторые из его пилотов и капитанов вроде Аларка Утрадесского или Бардо. Но в его распоряжении не было таких закаленных ветеранов, как Махарбал, Хаздрубал и Маго, перешедших с Ганнибалом через Альпы в Италию.
Большинство солдат Зондерваля умели воевать не больше, чем новорожденные лисята. А спекшееся от зноя поле битвы на Старой Земле ничуть не походило на космос в окрестностях красной звезды-гиганта. Именно космос в конечном счете обернулся против Зондерваля и отнял у него победу.
И вот в то время, когда жители Невернеса любовались ясной звездной ночью, Зондерваль в пятистах световых годах от них раскинул поперек звездных каналов свою сверкающую паутину. Все его корабли обратили носы к холодной желтой Звезде Невернеса. Рингисты, по расчетам Зондерваля, должны были подойти именно с той стороны. Следовало, конечно, учесть, что в космосе “сторона” и “подход” имеют несколько иной смысл, чем на полях далекой планеты. Космический флот — не конница, несущаяся в атаку по пыльной равнине; он передвигается дискретными скачками от одного звездного окна к другому. Он придет не с запада, востока, севера или юга — тысячи кораблей появятся внезапно из миллиардов точек выхода. Даже Зондерваль или галактический бог не могли предсказать, какие это будут точки, но основная их масса сосредоточивалась в трех вращающихся плотных пространствах, расположенных в полумиллиарде миль к ядру от Мары. В будущей битве этим пространствам предстояло сыграть решающую роль наподобие той, что сыграли Круглые холмы в битве при Геттисберге незадолго до Холокоста.
Зондерваль повернул свой флот к этим пространствам и приказал пилотам смотреть в оба и ждать.
Настал момент, когда в окнах двух этих пространств начали появляться первые корабли рингистов. Сначала, как россыпь ледяных кристаллов, возникли легкие, за ними последовали тысячи фрегатов, корветов и прочих кораблей. Выход занял более пятисот секунд, поскольку флот был плохо скоординирован и большинство пилотов Сальмалина еще не набрались опыта и мастерства. Разбивка флота на звенья потребовала еще пятисот секунд. Если бы Зондерваль атаковал тогда, он мог бы уничтожать вражеские корабли прямо на выходе из мультиплекса — поодиночке, парами и сотнями. Но его флот, по правде сказать, был скоординирован не лучше, чем у Сальмалина. Он не полагался на то, что его пилоты — кроме пилотов легких кораблей — сумеют осуществить сложный маневр, чтобы перехватывать рингистов в момент выхода из окон. Кроме того, он не мог предугадать, что у Сальмалина уйдет столько времени на сбор кораблей. Поэтому он сдержал порывы самых нетерпеливых своих пилотов и остался верен первоначальному плану.
Вследствие всего этого атакующей стороной стали рингисты. Сальмалин, как Зондерваль и надеялся, повел свой флот в паутину, раскинутую на тысячи миль в космосе. Но шел он не прямо к центру в отличие от маршировавших по твердой земле римских когорт. Космос трехмерен, а топология лежащего под ним мультиплекса делает бессмысленной идею прямого движения в одном-единственном направлении. Рингисты всегда могли появиться из окон на флангах Содружества или позади него — если не в самой его середине. То, что в выбранном Зондервалем секторе существовало мало таких точек, не было случайностью. Он выбирал свое “поле” с тщанием полководца, замечающего все валуны и рытвины, за которыми может укрыться враг. Зондерваль счел, что Сальмалин не рискнет послать свои корабли к этим немногочисленным точкам — не зря ведь Главный Пилот Ордена получил прозвище “Благоразумный”.
Сальмалин Благоразумный был к тому же Сальмалином Флегматичным. Он мало что знал о войне, а воображения у него было и того меньше. Вся его воинская мудрость выражалась в максимах наподобие “Никогда не дроби свои силы” и “Бей в самое слабое место противника”. Этих правил он придерживался со скрупулезностью послушника, который кланяется своим мастерам. Поэтому, выйдя из мультиплекса на своем новом корабле “Альфа-Омега”, он окинул неопытным взглядом несколько сотен космических миль и сразу наметил слабое место Содружества.
Там, в центре круга кораблей, защищенного четырнадцатью такими же кругами, парила “Первая добродетель”. Этот приметный корабль занимал самую близкую к рингистам точку. Другие корабли Первого отряда располагались вокруг Зондерваля в виде странной, похожей на линзу формации, обращенной выпуклостью к рингистам. Сальмалину, должно быть, подумалось, что надменный Зондерваль ищет славы, подставляя себя под удар. В любом случае этот центральный отряд, стоящий так близко к противнику и почти полностью изолированный от других отрядов, явно представлял собой самое слабое место.
Не меньше шести тысяч рингистских кораблей двинулось на штурм отряда Зондерваля. У рингистов командование было организовано совсем не так, как в Содружестве. Легкие корабли, которых у Сальмалина было 451, он разбил на двадцать звеньев: считалось, что пилоты Ордена будут лучше всего сражаться среди своих. Все корабли из рингистских миров — с Арсита, Небесных Врат, Торскалле, Фарраго и других — тоже группировались по планетам, поэтому в звено могло входить и двадцать, и пятьсот кораблей. Для первого удара по центру Содружества Сальмалин выбрал пять легких звеньев и тридцать тяжелых из тридцати разных миров. Таким образом, атакующая группировка насчитывала сто десять легких кораблей против двадцати, имевшихся в Первом отряде, а тяжелой техники — втрое больше двух тысяч Зондерваля.
В начальные секунды боя казалось, что ловушка Зондерваля сработает так, как он планировал. Корабли его отряда никак не могли выстоять против рингистов, даже если бы он отдал им такой приказ. Каждый пилот стремился оттеснить вражеского к открытому окну и направить его в точку выхода внутри Мары. Легкие корабли рингистов сновали между реальным пространством и мультиплексом, как алмазные иглы, вышивающие страшные узоры по черному бархату. Встречая более слабого противника, особенно неуклюжий тяжелый корабль, они тут же отправляли его в огненный ад.
Но зачастую один легкий корабль сталкивался с другим.
Иногда, как в том случае, когда рингистка Иоко Джаэль попыталась убить Лару Хесусу на “Белом лотосе”, поединок превращался в дикий затейливый танец от окна к окну, похожий на сплетение двух световых лучей. Трое рингистов — Таура Тетсу, Сароджин ли Кане и Риэса Эште на “Космическом кубе” — погибли, когда этот смертельный танец вследствие математической оплошности завлек их в огонь. Трое пилотов Зондерваля погибли тоже, в том числе и его друг Запата Карек, тоже участвовавший в Пилотской Войне и отличившийся там на своем корабле “Стрелец”. Зондерваль потерял бы еще больше своих драгоценных легких кораблей, если пилоты не получили строгого приказа отступать перед рингистами.
Наиболее рьяных вроде Аррио Блэкстона или Вальдамара Тора этот приказ огородил тюремной стеной — ведь вся суть пилотирования легкого корабля заключается в возможности перемещаться свободно. Кроме того, пилотам не по нутру было бросать на произвол судьбы менее искусных водителей тяжелых судов. К счастью, караккам и корветам Зондерваль тоже приказал отступить, и их пилоты охотно этому повиновались.
И вот большая линза Первого отряда под натиском рингистов начала выгибаться назад. Корабли рингистов струились к ее центру, как блестящий песок, наполняя черное стекло космоса вспышками света. Такая вспышка озаряла плотную массу кораблей каждый раз, как открывалось окно в мультиплекс, но в космической ночи вспыхивали и другие огни.
Многие корабли с обеих сторон поставили у себя на борту лазерные пушки. Лазер бесполезен против алмазного корпуса легкого корабля или прочного налла каракки, но у некоторых каракк, а особенно у корветов и фрегатов, рубка выступает из корпуса в виде прозрачного пузыря. Пилоты в этих клариевых кабинах управляют своими кораблями не только при посредстве компьютеров, но и руководствуясь собственным зрением. Это облегчает им задачу при посадке на планету когда приходится скользить над горами какого-нибудь незнакомого континента, но в бою такая конструкция сделала пилотов уязвимыми: лазерный луч легко пробивал сравнительно тонкие клариевые стенки. Один пилот, Казимир Утрадесский, хвалился, что он с поправкой на угол дифракции, создаваемый выпуклым кларием, способен прожечь лазером глаз своего врага на расстоянии ста миль.
И ни один корабль, разумеется, не мог выдержать попадания ядерного снаряда, которыми некоторые преступные рингисты, например, торскаллийцы, вооружились вопреки Трем Законам. Впрочем, это оружие, сыгравшее столь странную роль в истории, в битве при Маре не имело решающего значения. По сравнению с лучами лазера и молниеносными маневрами самих кораблей водородные ракеты двигались удручающе медленно. Притом в начале сражения корабли обоих флотов сбились в такую кучу, что снаряд легко мог поразить как вражеский корабль, так и свой. За всю битву, в которой участвовало около семидесяти тысяч кораблей, было выстреляно всего пятьдесят пять таких снарядов, и уничтожили они только два корвета и одну каракку. Водородные взрывы расцветали в черном куполе космоса жутко-прекрасным фейерверком, но почти не причиняли вреда.
В то время как Первый отряд Зондерваля вступил в бой, а еще пять отрядов ожидали своей очереди во внутреннем круге, другие капитаны во внешнем ободе колеса начали маневр, от которого зависел исход сражения. Шестой, Седьмой, Восьмой, Десятый, Одиннадцатый, Двенадцатый, Тринадцатый, Четырнадцатый и Пятнадцатый отряды почти одновременно ударили по флангам рингистов в надежде нанести урон звеньям тяжелых кораблей. Но осуществить этот план хотя бы частично удалось, кроме Десятого отряда Бардо, только Одиннадцатому и Двенадцатому, которыми командовали Алезар Эстареи и Кристобль Смелый на “Алмазном лотосе”.
Победа достается тому, кто сильнее и быстрее, но все атакующие отряды, проходя через мультиплекс, сталкивались с проблемой координации, и это отражалось на их скорости. Притом все отряды, кроме удачливых Одиннадцатого и Двенадцатого, обнаружили, что противостоящие им тяжелые звенья охраняет хотя бы один легкий корабль. Один только Бардо из всех капитанов сумел победить и два легких звена, и много тяжелых, с которыми столкнулся в бою. Своим успехом он был обязан трем факторам. Во-первых, из всех семидесяти тысяч пилотов, собравшихся у красной звезды, он, пожалуй, был лучшим, если не считать Зондерваля. Во-вторых, он проявил себя отличным лидером; благодаря своей природной доброте он легко вникал в проблему и страхи самых неумелых своих пилотов, к которым Зондерваль чувствовал только презрение. Этот человек, крайне недисциплинированный в своей частной жизни, понимал, как подчинить дисциплине незадачливых пилотов с Самума и Веспера и как приободрить их. А в-третьих, Бардо оказался прирожденным военным гением.
По собственной инициативе он разбил свой отряд на двадцать групп по сто кораблей в каждой и назначил их командирами пилотов своих легких кораблей. В Содружестве почти все сочли это расточительством. Это понизит мобильность легких кораблей, говорили критики; это отнимет у них возможность перескакивать от звезды к звезде, как это делалось в Пилотскую Войну, и фокусировать свой удар на легких кораблях противника. Но Бардо пошел на эту потерю мобильности, надеясь за ее счет увеличить свою мощь. Будучи сам очень силен физически, он считал силу главной воинской добродетелью. А еще он верил в знание — недаром же до того, как основать религию, с которой он ныне боролся, он был в Академии Мастером-Наставником. Одному из своих командиров. — Ивару Рею, пилоту “Божьего пламени”, — Бардо сказал так:
— Кто научит этих бедолаг с тяжелых кораблей благороднейшему из всех искусств, если не мы? Если уж парень влазит в кабину корабля, он должен быть пилотом, ей-богу! Иначе он нужен как шлюхе третья нога.
И Бардо почти все время перед сражением инструктировал своих командиров, как обучить менее опытных пилотов благородному искусству передвижения в мультиплексе. Конечно, вряд ли возможно за одну ночь превратить женщину с Сольскена в боевого пилота наподобие Лары Хесусы, но можно преподать ей различные приемы, которые позволят использовать свою каракку более эффективно. А две тысячи таких женщин (и мужчин), как рассудил Бардо, способны доставить много хлопот даже наилучшим пилотам легких кораблей.
Когда сражение наконец началось, Бардо тратил чуть ли не каждое драгоценное мгновение на помощь своим командирам, а те помогали пилотам своих групп. В тот день, 18-го числа зимы, он совершил то, что не удалось больше ни одному из капитанов. Ведя две тысячи своих кораблей, как вожак китикеша во главе стаи, он в то же время держал связь с Иваром Реем, Дунканом ли Гуром и другими командирами групп.
А позднее, когда ход сражения разметал его отряд в радиусе миллиона миль реального пространства, он, продолжая командовать, не перестал вдохновлять своих командиров. При этом он проявлял редкую смекалку, которую завистливый Ричардесс впоследствии назовет высшей формой пилотского мастерства.
Говорили потом, что он, как некая мифическая элементарная частица, оказывался сразу в двух местах, но это не соответствовало истине. Людям только казалось, что “Меч Шивы” раздваивается — так быстро прокладывал Бардо маршруты от окна к окну. В один момент он советовал самому отчаянному своему командиру, Одману Родасу, не слишком растягивать свою группу, в следующий бросал группу Янниса Халаку на расхлябанное скопище вражеских каракк. В промежутке он успевал помочь какому-нибудь злополучному корвету вычислить свой маршрут, а то и сразиться с парой легких кораблей, наседающих на его 17-ю группу.
В первом периоде сражения он трижды вступал в поединки с другими легкими кораблями — и убил всех трех невернесских пилотов, включая Даррио Утрадесского на “Звездном дактиле”. При этом он, о чудо, ни разу не бросил командиров своих групп и не отклонился от своей цели. В тот день “Меч Шивы” был самым ярким огнем среди лазерных лучей, водородных взрывов и открываемых окон. Бардо, словно древний бог войны, вел в бой своих пилотов, и они шли за ним.
Они бросались на вражеские корабли с невиданной яростью и либо рассеивали их, либо уничтожали наголову. В короткий срок они разнесли весь обращенный к солнцу фланг рингистов — а затем Бардо, по плану Зондерваля, развернул свой Десятый отряд, чтобы ударить рингистам в тыл.
Но он был единственным из капитанов Зондерваля, кто сумел осуществить этот обходной маневр. Алезар Эстареи и Кристобль Смелый, предводители Одиннадцатого и Двенадцатого отрядов (если слово “предводители” можно применить к ним), потрепали фланг, обращенный к ядру, но оставили за собой слишком много недобитых кораблей противника и растеряли слишком много своих. В своем бурном обходном движении они просто бросали более медленные фрегаты и каракки, составлявшие почти половину их отрядов. Им очень повезло, что они не наткнулись на рингистские легкие корабли — иначе они нипочем не смогли бы обойти рингистов с фланга, разве что их собственные легкие корабли прорвались бы. Оба этих отряда примкнули к тыловой атаке Бардо в сильно уменьшенном виде. Зондерваль рассчитывал, что из девяти отрядов, атакующих фланги рингистов, четыре или пять замкнут окружение. Но почти нетронутый отряд Бардо и половинки двух других составили в целом только два боевых отряда.
Этого оказалось недостаточно. Обходной маневр привел Бардо к трем сгущениям, откуда, как рой комет, ранее появились рингисты. Для обороны этих сгущений лорд Сальмалин оставил там своего рода арьергард — три легких звена и пятьдесят тяжелых. Опьяненные боем пилоты Бардо накинулись на них, как стая талло, а Кристобль и Алезар в это время атаковали рингистов с тыла.
Именно тогда главный изъян стратегии Зондерваля высветился, как бриллиант червячника в лазерном луче. В пешем бою, где воины вооружены мечами и щитами, внезапное появление неприятеля с тыла может вселить ужас во все войско. Страх перед холодной сталью, нацеленной тебе в спину, столь же древен, сколь и ужасен, и побуждает даже храбрейших воинов бросать оружие и сдаваться. Зондерваль рассчитывал на такой же эффект, но исходил при этом из аналогии, а это всегда опасно.
Это космическое сражение мало напоминало бойню, которую карфагеняне учинили римлянам при Каннах. У легких, да и у всех остальных кораблей нет уязвимых “спин”, за которые можно опасаться. Они с такой же легкостью наносят удары назад, как и вперед, — а также в стороны — вверх и вниз (Или, учитывая сложную топологию мультиплекса, внутрь, наружу, сквозь и между.) Окружение, правда, действительно могло бы обезвредить большое количество кораблей. Если бы они оказались стиснутыми в пространстве с малым числом точечных источников, открывать окна в мультиплекс и совершать маневры могли бы лишь несколько десятков кораблей одновременно.
Шесть тысяч рингистских кораблей, штурмующих центр Содружества, ощутили на себе некоторый эффект такого сжатия, но неудача Шестого, Седьмого, Восьмого, Тринадцатого, Четырнадцатого и Пятнадцатого отрядов, не сумевших завершить окружение, предоставила рингистам слишком большую свободу. План Зондерваля с треском провалился, и Содружество начало проигрывать битву.
Прологом к этому послужил разгром Первого отряда. За какие-нибудь тысячу секунд стратегическое отступление превратилось в бегство. С тыла рингистов беспокоили всего лишь три неполных отряда, поэтому основная их сила громила занятый Зондервалем центр. Расположенные вблизи отряды — Второй, Третий, Четвертый, Пятый и Девятый — ничем не сумели ему помочь. По плану им в этой фазе сражения полагалось сомкнуть алмазные челюсти на окруженных рингистах и растерзать врага на части. В действительности пяти нейтральным отрядам пришлось бороться за собственную жизнь: именно эти десять тысяч кораблей во второй стадии битвы оказались под угрозой окружения. Разгром фактически грозил всему флоту Содружества, за исключением Одиннадцатого, Двенадцатого и несравненного Десятого отрядов.
Бардо, вероятно, был первым, кто осознал это. Зондерваль, отбивавшийся, как разъяренный шегшей от окруживших его волков, был охвачен тем, что древние называли дурманом войны, и не имел ни времени, ни перспективы, чтобы оценить нависшую над Содружеством угрозу. Он не догадывался, что весь Второй отряд под командованием Елены Чарбо будет вот-вот загнан в разреженное пространство и уничтожен. Он не видел того, что видел Бардо: битву еще можно выиграть (или, во всяком случае, избежать полного разгрома), но сделать это можно, лишь оттеснив рингистов от трех плотных пространств, и быстро.
В первые же секунды своей атаки Бардо понял, что Десятый отряд в одиночку с этой задачей не справится. Поэтому он приказал всем двадцати своим группам отойти назад и переформироваться у голой, изрытой кратерами планеты в полумиллионе миль от первого плотного пространства. Назначив своим временным заместителем Лару Хесусу, Бардо ушел в мультиплекс и вышел из него за несколько миллионов миль от своего отряда, в ярко-красном свете Мары, где Одиннадцатый отряд Кристобля колошматил рингистов с тыла.
Отыскав корабль Кристобля “Алмазный лотос”, он связался с ним по световому радио. В кабине каждого из них загорелось изображение другого, и в пылу битвы, от которой зависела судьба Цивилизованных Миров (а возможно, и многое другое), они улучили несколько мгновений для разговора.
— Я прошу тебя поучаствовать в атаке на плотные пространства, — сказал Бардо. Присутствуя в кабине Кристобля в виде светового изображения, он выглядел почти реальным и очень впечатляющим в своем черном налле, с горящими черными глазами.
— И отказаться от плана Зондерваяя? — В голосе крупного, с львиным лицом Кристобля, как всегда, слышалась насмешка, а быстрые зеленые глаза не упускали ни единой слабости собеседника. — Уж кому-кому, а тебе полагалось бы хранить верность его стратегии.
— В таком случае тебе первому полагалось бы от нее отказаться.
— О нет! Я позабочусь, чтобы его план был выполнен в точности, — и все мои люди тоже.
— Даже если это будет означать наше поражение?
Кристобль промолчал, и Бардо вдруг понял: Кристоблю того и надо, чтобы план Зондерваля провалился. Это докажет всему Содружеству, что Зондерваль не годится на роль Главного Пилота, и откроет путь, самому Кристоблю.
— Как быстро ты теряешь надежду, — сказал Кристобль. — Веры тебе недостает, вот что.
Бардо побагровел от гнева, но сдержался и ответил: — Я верю в Содружество и в самого Зондерваля, но не в его план.
— Удобная позиция.
В двухстах милях от них разорвался водородный снаряд, осыпав “Алмазный лотос” и “Меч Шивы” дождем фотонов.
Кристобль на миг прервал связь, чтобы поговорить с двумя своими пилотами, Вадимом Стилом и Роганой Утрадесской, а затем продолжил свое совещание с Бардо.
— Но ты ведь понимаешь, что мы проигрываем бой? — спросил Бардо.
— Нет — а ты?
Бардо, как реальный, так и голографический, закрыл глаза и подключился к компьютерной проекции мультиплекса. Там разбегались кругами тысячи световых колебаний, сплетаясь в кошмарно сложный узор. Разглядеть здесь движение десятков тысяч кораблей не представлялось возможным — это было все равно что смотреть в бурное ночное море после метеоритного ливня и пытаться определить, в каком месте упал в воду каждый кусок шипящего железа.
Тем не менее глаза Бардо, когда он снова взглянул на Кристобля, походили на два черных озера с отраженными в них огнями.
— Я вижу, как перемещаются корабли обоих флотов, — сказал он. — Вижу, как разворачивается сражение.
— Да неужели?
— Ей-богу вижу. Огни расцветают, как целое поле огнецветов, и в них есть порядок. Если взглянуть поглубже, тебе откроется страшной красоты образец, по которому кораблям следует открывать окна мультиплекса.
— Вот не знал, что ты у нас мистик.
— Я вижу оба флота, как они есть сейчас. Вижу, как должно пойти сражение — и как оно пойдет.
— Не знал, что ты еще и скраер вдобавок.
Глаза Бардо испепеляли Кристобля бушующим внутри гневом, но слова его прозвучали кротко: — Ах ты, горе. Поздно уже.
— К тому же скраер, предсказывающий недоброе.
Ручищи Бардо затряслись — он, как видно, жалел, что его изображение не способно закатить Кристоблю хорошую оплеуху.
— Мы должны взять эти сгущения, — сказал он. — Придет момент, когда Зондерваль увидит, что битва проиграна. Тогда он скомандует отступление. Если мы удержим сгущения открытыми, наши корабли смогут уйти через них и перегруппироваться у другой звезды.
— Откуда же Зондерваль узнает, что мы держим эти пространства?
— Я передам ему сообщение по радио — а если оно не дойдет, пошлю Одмана Родаса отыскать его.
— Тогда нам лучше дождаться, чтобы Зондерваль принял новый план.
— Нет. Слишком долго. Слишком далеко. — Бардо взмахнул руками, как бы показывая, насколько далеко в космосе разбросаны их корабли. — Между нами и Первым отрядом не меньше девяноста миллионов миль. Понадобится больше тысячи секунд, чтобы его сигнал дошел до нас, а решение он будет принимать еще дольше. Слишком долго, слишком.
— Но Главный Пилот он, а не ты, и…
— Мы с тобой тоже попусту тратим время. Сгущения надо брать прямо сейчас.
— Мой долг — придерживаться смехотворного плана Зондерваля. И твой тоже.
— Я так и знал, что договориться с тобой не смогу, — сказал Бардо, — и поэтому приказываю тебе атаковать сгущения вместе со мной.
— Приказываешь? Мне? Обезьяна приказывает своему хозяину? Да по какому праву?
— По праву того, что правильно, ей-богу!
— Атакуй их сам, если тебе приспичило.
— И атакую, ей-богу! А когда битва будет проиграна, я атакую тебя в память о каждом пилоте, который погибнет из-за твоей черствости.
В зеленых глазах Кристобля мелькнуло невольное беспокойство, и он спросил:
— То есть как это?
— Если б мы встретились на улице или в баре, я бы схватил тебя за глотку и давил, пока глаза на лоб не вылезут. В космосе я буду гнаться за тобой и загоню в ближнюю звезду заодно с бедными пилотами, которых ты предаешь.
— Ты? Меня?
— Я убью тебя, как убивал тюленей на морском льду.
— Пешевал Лал убьет Кристобля Смелого?
Бардо, получивший при рождении имя Пешевал Сароджин Вишну-Шива Лал, ответил с грустной улыбкой:
— Это так же верно, как дующий в галактике солнечный ветер.
— Не верю я тебе. Ты всю жизнь был трусом.
— Был, — признал Бардо.
— Тебя прозвали Ссыкун Лал — ты так боялся послушников-четверогодков, что каждую ночь ссал в постель.
— Но теперь я Бардо. И за тобой будет охотиться не Пешевал Лал, а Бардо на “Мече Шивы”.
— Как пилот я лучше тебя. Если вздумаешь нападать на “Алмазный лотос”, погибнешь сам.
Бардо в ответ на эту похвальбу промолчал, но в его черных глазах читалось желание проверить, кто из них лучший пилот. Всю свою жизнь Бардо боролся со страхами, которые в юности делали его трусом; теперь он решился рискнуть самой жизнью, чтобы перейти через страх и стать чем-то другим, чем-то лучшим. И Кристобль понял это. Он увидел в глазах Бардо свет дикой души, свет подлинной смелости и осознал, быть может, что ему самому, несмотря на его прозвище, этого света недостает. А еще он испугался, наверно, что Бардо видит его насквозь, как медузу.
— Мы не станем драться, — сказал наконец Бардо, — потому что ты сделаешь то, о чем я прошу.
Настал момент, когда Бардо и Кристобль, глядя друг на друга, оба поняли, кто из них лучше как пилот и как человек. Лидерство, это тонкое, почти неопределимое понятие, создается из таких вот моментов — но лучше, конечно, когда при этом не приходится угрожать, как угрожал Бардо Кристоблю.
Однако в том, что происходило между ними при вспышках лазеров и открываемых окон мультиплекса, больше не было угрозы. Бардо просто коснулся Кристобля огнем своего сердца и величием своей души — этого оказалось довольно.
— Я прошу тебя о помощи как пилот пилота, — сказал Барде.
Кристобль опустил глаза, помолчал и ответил: — Хорошо. Если ты просишь, я поведу свои корабли на сгущения.
Бардо, не тратя времени на торжество, поблагодарил его и сказал:
— Теперь поищу Алезара Эстареи и попрошу его о том же. Я скажу ему, что твой отряд встречается с Десятым у пятой планеты.
— Ладно.
— Лети, пилот. И удачи тебе, ей-богу. Удачи.
Изображение Бардо погасло, и его корабль вновь ушел в мультиплекс. Всего несколько мгновений спустя он обнаружил Алезара Эстареи на его “Вивасвате” через три миллиона миль — тот руководил боем во главе своего Двенадцатого отряда. Еще через несколько мгновений Бардо убедил Алезара присоединиться к нему и Кристоблю у пятой планеты.
Не прошло и девяноста секунд, как Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый отряды сошлись вместе под командованием Бардо. Пока главное сражение бушевало в девяноста миллионах миль от них, Бардо начал свое малое сражение.
Даже с помощью Алезара и Кристобля у него набралось всего тридцать девять легких кораблей против шестидесяти двух, обороняющих сгущения, а тяжелых насчитывалось четыре тысячи против пяти. Но победа достается сильным и быстрым; хорошая координация и выучка обеспечивала Десятому отряду превосходящую скорость, а сила целеустремленности Бардо зажигала всех его пилотов волей побеждать.
Будь у рингистов такая же воля, побуждающая людей сражаться до последнего, но не отступать, они отразили бы атаку Бардо. Однако людей, готовых по-настоящему умереть в бою, не так много. Под столь свирепым натиском рингисты начали терять уверенность, а потом и паниковать. Каракки с Прозрачной и Манивольда ударились в бегство первыми, за ними последовали корабли с Мельтина, Эанны, Киттери и Скалы Ролло. Через сто секунд все силы, оборонявшие сгущения, стали испаряться, как льдинки на солнце.
Только пилоты рингистских легких кораблей нашли в себе мужество сразиться с такими противниками, как Лара Хесуса, Яннис Хелаку, Дункан ли Гур или Ивар Рей. Но тут случилось нечто, охладившее даже самых свирепых рингистов. Бардо, проведя три успешные дуэли — последнюю с Сайирой Чу на “Реке времен” — и за десять секунд отправив в Звезду Мару трех превосходных пилотов, вступил в поединок сразу с двумя; Дагом Торскалльским и Никабаром Блэкстоном. Блестяще используя Теорему Бумеранга, открытую когда-то им самим, Бардо заложил в мультиплексе обратную петлю и снова вынырнул в реальное пространство, когда Даг и Никабар не успели еще вычислить свой маршрут.
Они, видимо, думали, что загнали Бардо в “японскую складку” или другую ловушку, и явно рассчитывали захватить его врасплох, когда он появится в одной из двух возможных точек выхода. На деле Бардо сам поймал их. В десятую долю секунды он отправил обоих по насильственному маршруту, и “Копье Одина” вместе с “Ангельским ковчегом” исчезли в ночи. Они ушли в звезду, которая в тот день поглотила немало народу — но эти двое были героями, покорявшими Адские Врата и дравшимися в Пилотскую Войну на стороне Леопольда Соли. Увидев, что сделал с ними Бардо, их друзья, включая Чиро Лалибара и Кадара Мудрого, сочли за благо ретироваться вслед за другими рингистами. Командир звена Нитара Таль весьма кстати напомнила им, что они смогут перегруппироваться и вернуться назад с подкреплением.
Теперь перед флотом Содружества открылся путь к отступлению. Но если бы Бардо сообщил Зондервалю о своей победе в тот момент, на передачу этого сообщения ушло бы пятьсот секунд. Радиоволны движутся медленно — они ползут в космосе со скоростью света, как черви через черный песок. Пятьсот секунд в таком бою — это почти вечность; за такой отрезок времени можно уничтожить целый флот. Поэтому Бардо пошел на риск. Предвидя заранее, как развернется бой за плотные пространства, он рассчитал, в какой момент три его отряда могут одержать победу. Именно на этот момент он и ориентировал Зондерваля, отправив к нему Одмана Родаса на “Алмазной розе”. Величайшей гордостью Бардо всегда было то, что он опередил намеченный срок на целых пятьдесят четыре секунды.
И Зондерваль подал своему флоту сигнал к отступлению.
Каждому пилоту было приказано проложить маршрут в одну из точек выхода внутри трех плотных пространств, удерживаемых кораблями Бардо. Конечным пунктом Зондерваль назначил маленькую голубую звезду Кесаву, вокруг которой флоту предстояло сгруппироваться. Пилотам Первого, Второго, Третьего, Четвертого, Пятого и Девятого отрядов, ведущим отчаянный бой в центре, дважды этот приказ повторять не пришлось. Особенно это относилось к зажатому в клещи Второму отряду Елены Чарбо; ее пилоты восприняли приказ своего командующего как послание Бога, даровавшего им новую жизнь. Спустя несколько секунд все три сгущения наполнились кораблями, выскакивающими из мультиплекса и тут же снова уходящими в сторону Кесавы. Звездные окна вспыхивали тысячами огней, пропуская тяжелые корабли всех видов. Поначалу казалось, будто десять тысяч светляков собрались здесь в сверкающее облако, а затем весь космос засверкал алыми, голубыми, фиолетовыми, золотыми и серебряными бликами.
Легкие корабли прибыли последними, замыкали же отступление легкие корабли Первого отряда.
Сам Зондерваль так и не появился. Заботясь о тяжелых кораблях своего отрада, он приказал тринадцати оставшимся легким прикрывать их отход. Те, окруженные тремя легкими и шестьюдесятью тяжелыми звеньями рингистов, замелькали как одержимые, отвлекая и изматывая врага. Их отвага и мастерство сумели удержать рингистов, но лишь на несколько мгновений. Этого времени, однако, хватило, чтобы последние каракки ушли в сгущения, и легкие корабли стали уходить вслед за ними.
Но один из них, “Роза Армагеддона”, пилотируемая молодым Аррио Аджани, попала в складку, где все точки выхода в реальное пространство караулил по меньшей мере один рингистский корабль. Стоило Аррио выйти, и кто-нибудь из вражеских пилотов тут же отправил бы его на смерть. Зондерваль мог бы бросить его — некоторые утверждали, что именно так он и должен был поступить. Зондерваль, даже если забыть о его высокомерии, определенно понимал, что Аррио ему не равноценен — ни как пилот, ни как вдохновляющий Содружество фактор. Но, видимо, что-то в Аррио — его молодость, его стремление проявить себя, его блестящие карие глаза — тронуло Главного Пилота. В глубине человеческой души скрываются величайшие чудеса и тайны. По причине, которой от Зондерваля так никто и не узнал, он решил помочь Аррио Аджани. Вместо того чтобы уйти в сгущения и вырваться на свободу, Зондерваль бросил “Первую добродетель” на десять легких кораблей, стороживших Аррио. Он должен был при этом знать, что живым не останется.
Всякую битву ведет Бог, и Зондерваль, хотя и был богом в пилотировании, эту битву не мог выиграть.
“Первая добродетель”, точно воплощение света, обрушилась на Джина Такенью и Конана Джаэля, пилота “Серебряной змейки”. В один момент он уничтожил их обоих, но в следующий Саломе ви Майя Хастари на “Золотом мотыльке” и Йевата ли Тош настигли его самого безмаршрутного и беспомощного, как голый на льдине. Саломе потом утверждала, что это она послала Зондерваля в ядро Мары. Зондерваль встретил последний момент своего человеческого существования с угрюмой улыбкой, и в глазах его появилось странное, дикое выражение. В следующее мгновение атомы его крови и его великолепного мозга преобразились в свет. Так умер Томас Зондерваль, Главный Пилот Содружества Свободных Миров, мастер Великой Теоремы, первооткрыватель Адских Врат, друг и соперник Мэллори Рингесса.
Гибель его не была напрасной. Аррио Аджани, воспользовавшись его самопожертвованием, увел “Розу Армагеддона” в первое сгущение, а оттуда на Кесаву. Он оказался одним из последних — весь флот Содружества, кроме Десятого, Одиннадцатого и Двенадцатого отрядов, уже собрался там.
Алезару Эстареи и Кристоблю Смелому Бардо тоже приказал уходить, а за ними в безупречном порядке двинулись Лара Хесуса, Дункан ли Гур и другие командиры его собственных групп. “Меч Шивы” покинул опасные пространства Мары самым последним из всего флота. Помимо заботы о своих людях, в этом поступке присутствовала некоторая доля бравады — но при этом Бардо хотел напоследок взглянуть на рингистов и определить, каковы их намерения.
Оказалось, что рингисты на этот день навоевались достаточно. Сальмалин Благоразумный, выживший в двух поединках и едва не погибший от взрыва ядерного снаряда, отнюдь не рвался преследовать флот Содружества. Он благоразумно отошел в более удобные для обороны пространства Двойной Мории, чтобы переформироваться и воздать почести погибшим — ибо рингисты понесли тяжелые потери. Шестьдесят три легких корабля (восемь из них следовало отнести на счет Бардо) нашли свою смерть внутри Мары. Туда же отправилось не менее шести тысяч тяжелых кораблей. Потери Содружества оказались еще более разительными: там недосчитались семидесяти легких кораблей и восьми тысяч тяжелых, что составляло больше пятой части всего флота. И, как скоро стало известно всем, дело могло обернуться намного хуже, если бы не блестящая инициатива Бардо.
Все это — и намного больше — Данло увидел, лежа в своей камере за много миллиардов миль от Мары. Он видел, как каждый из погибших кораблей распадался на части в огне этой звезды. Он слышал предсмертные крики пилотов и видел, как они сгорают заживо в страшном жару водородной плазмы. Он помолился за всех пилотов обоих флотов, кого знал по имени:
— Никабар Блэкстон, ми алашария ля шанти. Она Тетсу, ми алашария. Карл Раппопорт, ми алашария. Томас Зондерваль… — По сути, он молился за всех. Имена всех пятнадцати тысяч пилотов, погибших в сражении, приходили к нему, как шепот ветра, и он повторял их весь остаток ночи.
Когда он закончил, на губах у него проступила кровь, и голова раскалывалась от боли. Раны мучили его так, словно он сам прошел через огонь Мары.
— Шанти, шанти, — прошептал он, завершая свою молитву. — Мир, мир. — Но его глаза, устремленные на бесконечные звезды вселенной, тут же наполнились неистовой болью, и он понял, что мира не будет. Грядет еще более страшная битва, и только погибшим дано было увидеть конец этой жестокой войны.
Глава 10 ДЕВЯТЬ СТУПЕНЕЙ
Узнайте теперь, божки мои, силу и славу. Девятой глубиной и огромностью она подобна вселенной, яркостью — новой звезде; она совершенна и несокрушима, как чистый вечный свет.
Из “Откровений” лорда Ханумана ли ТошаПервые официальные новости о сражении дошли до Невернеса 21-го числа зимы 2959 года. В этот солнечный день в космосе над планетой появилась пилот Ордена Нитара Таль на “Парадоксе Ольбера”, чтобы сообщить всем о великой победе рингистов. Однако флот Содружества им разбить не удалось, а потери они понесли громадные, так что эта победа выглядела не такой уж значительной. Притом горожане узнали о побоище при Звезде Мара еще до прибытия Нитары.
Двумя днями ранее, 19-го числа, Данло рассказал божку, принесшему ему на завтрак тосты и кофе, о том, что открылось ему в звездных пространствах его разума. Молодой божок, Кийоши Темек, рассказал о чудесном видении Данло своему другу, тот еще пятерым, и к полудню все побывавшие в соборе рингисты заговорили о чуде.
Несколько лет назад Данло уже прославился своим великим воспоминанием и приобщением к Единой Памяти. Некоторые считают, что скраеры в своих видениях всего лишь вспоминают будущее — и видение Данло многие тоже объявили скраерским озарением. Другие указывали, что ни один скраер еще не описывал события будущего в столь ужасных и прекрасных подробностях (возможно, из страха быть уличенном в лжепророчестве, как добавляли циники). К концу дня слухи о свершении Данло разошлись по всему городу, и все до последнего хариджана и червячника заспорили, способен ли человек увидеть то, что происходит так далеко в космосе.
Два дня спустя перед Хануманом ли Тошем, лордом Паллом и всей остальной Коллегией предстала Нитара Таль, и ее отчет о сражении почти в точности совпал с видением Данло.
Это необъяснимое явление привело в восторг часть собравшихся лордов и в изумление всех без исключения. Ханумана ли Тоша оно испугало. Он всегда знал, что Данло способен читать в его сердце — теперь он испугался, что все его тайные замыслы для Данло не менее ясны. Хануман боялся и потому задумал уничтожить источник своего страха.
У других на этот счет имелись свои планы. Пока Данло мужественно встречал каждый новый день, полный боли и одиночества, пока он играл на флейте и принуждал себя выздоравливать, Демоти Беде боролся за его освобождение. То же самое делал Джонатан Гур, усиленно подсылавший своих каллистов в собор для подрыва авторитета Ханумана. К зимнему ветру на ледяных улицах Старого Города примешивался шепот о совершенном Хануманом беззаконии. К 24-му числу даже самые верные из божков Ханумана стали задаваться вопросом, зачем их Светоч держит Данло в заточении.
Хануман не замедлил представить объяснение: он утверждал, что Данло его гость, что он ищет уединения в соборной часовне, где молится об окончании войны. Что до ожогов и ранений Данло, это тоже объясняется просто: движимый отчаянием и состраданием к тем, кто сгорел в огне Мары, Данло нанес увечья себе самому. Так принято у алалоев, и Данло научился этому в детстве; однажды, еще послушником, он раскроил себе лоб острым камнем в знак скорби о восьмидесяти восьми умерших деваки — теперь его терзают лица пятнадцати тысяч пилотов, взывающих к нему из звездного пламени.
Страшное видение, по словам Ханумана, помутило разум Данло, ему представляется, что те самые цефики, которые его лечат, и даже сам лорд Хануман, истязают его. Хануман не скрывал, что опасается не только за рассудок, но и за жизнь Данло.
Не сумев выполнить свою миссию и остановить войну, он может найти способ соединиться с погибшими пилотами.
Открыто во лжи Ханумана никто не уличал. Ивар Заит, ставший невольным свидетелем того, как пытали Данло, никому не сказал о том, что видел, оба воина-поэта тоже молчали. Что до Радомила Морвена, он исчез из города. Его друзьям, пришедшим в собор навести о нем справки, дали понять, что, если они не хотят исчезнуть таким же образом, им лучше помалкивать и побольше думать о Трех Столпах и девяти Ступенях.
Данло понемногу набирался сил, а его слава тем временем докатилась до самых темных закоулков Квартала Пришельцев, и некто вынашивал планы его освобождения. Этим человеком был Бенджамин Гур, свирепый лицом и духом. Он первый предложил поставить Данло во главе Каллии; если это произойдет, то даже самые преданные рингисты отшатнутся от Ханумана и перейдут к нему, говорил Бенджамин.
Данло сам должен понимать, что иначе ему войну не остановить. Если он займет место; принадлежащее ему по праву в церкви его отца, каллисты понемногу восстановят рингизм во всей его первоначальной чистоте.
С этой целью Бенджамин развязал террор, которого в Невернесе не видели со времен Темного Года и Великой Чумы.
Своим фанатичным последователям он раздал перстни с ядом матрикасом на случай ареста, и они стали называться кольценосцами. Один из кольценосцев убил Дерора Чу, чтобы отомстить за муки Данло, трое других погибли от ножа Ярослава Бульбы, когда попытались убить двух воинов-поэтов.
Пуалани Кет пронесла на себе в собор бомбу, и ей лишь в самый последний момент помешали взорвать себя вместе с Хануманом. Один остроглазый божок, натренированный самим Хануманом, догадался по лицу Пуалани, что она замышляет недоброе, и распорядился отвести ее в пустую келью для обыска. (Он же сорвал у нее с пальца начиненное ядом кольцо, прежде чем она успела им воспользоваться.) Там, в подземелье часовни, в пронизанной криками тьме, Ярослав снова пустил в ход свой нож, чтобы вырезать бомбу из живота Пуалани. Удалив пакет пластиковой взрывчатки размером с новорожденного младенца, он заявил, что это превратило бы стоявшего на алтаре Ханумана в пар и могло бы разрушить весь собор. Пуалани, перед тем как умереть от потери крови, призналась, что того и хотела — взорвать собор вместе со всеми лжерингистами, предавшими Мэллори Рингесса.
После этого Хануман приказал поставить сканеры в западном и восточном порталах и разместил караулы вокруг всего соборного квартала, на горе случайному прохожему, который забредал туда полюбоваться архитектурой храма. Но расставить божков по всему городу Хануман не мог. Еще один кольценосец протащил термическую бомбу в академический колледж Лара-Сиг и взорвал лорда Алезара Друзе, одного из самых оголтелых рингистов, прямо у него на квартире. То, что террор Бенджамина Гура проник даже в неприкосновенные стены Академии, потрясло почтенных специалистов Ордена.
Они потребовали учредить патрули вдоль Раненой Стены, ввести комендантский час и выборочно обыскивать подозрительных лиц на близлежащих улицах.
34-го числа зимы город испытал еще более сильный шок.
Кольценосец Игашо Хадд без ведома Бенджамина тайно изготовил у себя дома, в Пилотском Квартале, водородную бомбу.
Игашо носил золотую повязку рингиста, но повязывал он ее на рукав зеленой формы механика. Он был мастером и имел доступ во всевозможные лаборатории Упплисы, стоящей в самом сердце Академии. В течение многих дней он выносил оттуда детали лазера и сосуды с тяжелой водой. Выделив достаточное количество дейтерия, он состряпал маленькую, примитивную, но очень мощную бомбу. С ней он проехал на санях через весь город и вышел на равнине к юго-востоку от Крышечных Полей, где помещались пищевые фабрики.
Сотни клариевых куполов покрывали гидропонические сады и автоклавы, где производилось синтетическое мясо.
Игашо направил сани с бомбой по узкой ледянке между этими куполами, а сам побежал на коньках к наблюдательному пункту на склоне горы Уркель. Оттуда с помощью обыкновенного радиосигнала он задействовал лазерный взрыватель.
В санях сверкнул рубиновый свет, а в следующий момент небо расколола куда более яркая вспышка.
В воздухе вырос ядерный гриб, всасывая в себя воду и пыль из воронки. Взрывная вспышка ослепила многих жителей Невернеса, и еще больше людей ужаснулось, увидев в небе зловещее облако. Игашо Хадд, надев темные очки, смотрел, как рушатся купола, еще не испарившиеся от термоядерного жара. Он знал, что от взрыва должно было погибнуть не менее двухсот человек, работавших на фабриках, но улыбался успеху своего дела. На войне люди всегда гибнут — ничего не поделаешь. Хадд надеялся, что его акция даст Бенджамину оружие против Ханумана, и радовался этому.
Ничего подобного, конечно, не произошло. Бенджамин Гур, узнав, что фабрики взорвал один из его кольценосцев, пришел в ужас. Теперь Хануман заклеймит его как преступника — и будет прав. Бенджамин опасался, что безумный акт Хадда только укрепит позиции Ханумана: ведь теперь, в пору кризиса, невернесцам понадобится твердая рука, которая восстановит порядок. Светоч Пути Рингесса сможет стать заодно и правителем города, если только сумеет обеспечить людям их хлеб насущный.
Последнее, однако, представлялось делом достаточно трудным. Бомба Хадда разрушила пищевые фабрики до основания. Технари обещали через сорок дней построить новые, а агрономы надеялись еще через несколько десятидневок получить небольшой урожай водорослей и съедобных бактерий, но никто не знал, как это осуществится на деле. По оценке Главного Эколога, всех продуктовых запасов города — включая зерно на складах и то, что имелось в морозильниках общественных ресторанов, — могло хватить не более чем на десять дней. Миллионам голодных невернесцев оставалось уповать на тяжелые транспорты с грузом курмаша и пшеницы, спешно высланные с Ярконы, Утрадеса, Асклинга и других планет Цивилизованных Миров. Все, однако, боялись, хотя и не желали в этом сознаваться, как бы военные действия между рингистам и Содружеством не пресекли золотой поток зерна, от которого зависела жизнь Невернеса.
Данло узнал о катастрофе утром 35-го числа. Солнце в тот день перемежалось частыми снегопадами. Стальная дверь камеры заскрипела, и молодой, улыбчивый Кийоши Темек принес Данло завтрак. Поднос он, как всегда, поставил на шахматный столик и осведомился, как Данло себя чувствует.
— Хорошо, — привычно выдохнул Данло. Все его наружные повреждения действительно зажили, но эккана по-прежнему обжигала легкие огнем при каждом вдохе. — А ты как поживаешь, Кийоши?
— Отлично, мастер Данло.
Кийоши, бывший кадет-историк, уважал Данло как мастер-пилота и обращался к нему так, будто все еще состоял в Ордене. Что-то в Данло притягивало Кийоши, словно свет новой звезды, и божок всегда старался задержаться, чтобы поговорить с ним.
— Есть ли новости о войне? — спросил Данло.
Улыбка не сходила с лица Кийоши, но в его карих глазах застыли печаль и страх. Проследив за его взглядом, Данло заметил, что вместо обычного завтрака из тостов, кровоплода и кофе Кийоши принес бананы, вареный рис и жидкий зеленый чай.
— Мне жаль, мастер Данло, но произошло нечто ужасное.
И Кийоши наскоро рассказал Данло о водородном взрыве. Никто не может объяснить, как это случилось, сказал он: на орбите Невернеса не замечено вражеских кораблей, и оборонные спутники не зарегистрировали ни одного снаряда из космоса.
— Лорд Хануман говорит, что это сотворил кто-то из беспутных убийц Бенджамина Гура. Рехнулись они, что ли? Кто, кроме сумасшедшего, будет уничтожать провизию, без которой сам же не проживет?
— Не знаю… — сказал Данло.
Однажды, еще послушником, он побывал на пищевых фабриках, чтобы поглядеть, откуда эти странные цивилизованные люди получают свою еду. Теперь он закрыл глаза, пытаясь представить себе черную воронку и спекшийся песок на месте прежних куполов. Он, видящий так много и так далеко, не имел понятия о том, что случилось всего в нескольких милях от него, пока он сидел на своей койке и играл на флейте. И теперь он тоже не увидел темного, омраченного преступлением лица Игашо Халда — таинственное внутреннее зрение изменило Данло, а этот отверженный сознался в своем злодеянии только через два дня.
— Теперь у нас больше нет хлеба, — кивнув на поднос с едой, сказал Кийоши. — А кофе все приберегают для себя.
Данло подошел к столику и сунул в рот ломтик банана.
Он всегда любил этот сладкий мучнистый плод, происходящий, как думали многие, из дождевых лесов Старой Земли.
— Кровоплоды, говорит лорд Хануман, тоже надо беречь, — продолжал Кийоши. — В них много аскорбиновой кислоты, а она хорошо помогает от цинги.
Данло, взяв еще ломтик банана, подумал, что о нем Хануман проявляет особую заботу, выделяя ему столь щедрый паек.
Он протянул тарелку с нарезанными бананами Кийоши.
— Ты-то сам ел? Хочешь?
— Спасибо, мастер Данло, но в соборе пока еще есть еда. Утром я ел то же самое, что и вы.
— Понятно.
— Но все говорят, что, если корабли с Летнего Мира не придут вовремя, лорду Хануману придется ввести нормирование. Вот тогда нам придется туго.
Глаза Данло наполнились болью при виде озабоченного лица Кийоши.
— Да, наверно, — сказал он. — Но то, чего мы боимся, почти никогда не случается.
— Вам когда-нибудь приходилось голодать, мастер Данло? Мне — нет. Я всю жизнь прожил в Невернесе, где на каждом углу столовая или ресторан.
— Приходилось, — признался Данло, вспомнив, как ехал в Невернес на собачьей упряжке по замерзшему морю.
— И как? Тяжело было?
— Я чуть не умер тогда. Пришлось мне съесть Джиро, своего друга.
При этом фантастическом заявлении глаза Кийоши округлились от ужаса. О Данло по городу ходило много диких историй, но этой Кийоши еще ни разу не слышал.
— Съесть человека?!
— Нет. — Данло улыбнулся, несмотря на овладевшую им печаль. — Джиро был собакой. Когда я выехал с Квейткеля в Невернес, мои нарты везло семь собак, но я не сумел добыть тюленя в пути, а припасы у нас кончились. Собаки умирали одна за другой… и я их всех съел.
Закрыв глаза, Данло помолился за вожака своей упряжки: Джиро, ми алашария ля шанти. И помянул всех остальных: Води, ми алашария ля шанти, аласу лайя Коно эт Аталь эт Луйю эт Ной эт Зигфрид, шанти, шанти.
Кийоши помолчал немного и потряс головой, точно не веря своим ушам.
— Вы ели мясо живых существ?
— Нет. Я же сказал: они умерли.
— Но ведь они были живыми, правда? Вы сказали, что один из них был вашим другом.
— Да, был. Джиро отдал свою жизнь, чтобы я мог выжить.
— И вы его все-таки съели?
— Жизнь… всегда питается другой жизнью, — просто ответил Данло. В его синих глазах светилась тайна и грусть. — Так устроен мир.
— Но я слышал, что вы дали обет ахимсы.
— Верно. Но в то время я его еще не давал.
Кийоши, посмотрев, как Данло ест рис с помощью палочек, спросил:
— А что же вы будете делать теперь, если в городе начнется голод?
— Голодать, как все, — улыбнулся Данло.
— А вы бы съели собаку или гладыша, чтобы сохранить свою жизнь?
— Убивать животных я бы не стал. И никого бы не попросил убивать за меня. Но если бы я нашел гладыша, перееханного санями, я бы его съел.
Кийоши брезгливо скривил губы.
— Ну а я не стал бы есть ничего, что было раньше живым. Скорее бы умер.
— Жаль, если так.
— Этот мир и правда ужасен. Ужасно, что все должны поедать что-то другое лишь ради того, чтобы жить.
— Но ведь другого у нас нет, верно? Только таким… он и мог быть.
— Но его можно изменить к лучшему, правда?
Данло, всегда жадно поглощавший еду, когда был голоден, прожевал очередную порцию риса и сказал:
— Суть его мы изменить не можем.
— Но для чего же мы тогда нужны, если не будем развиваться и стремиться к лучшему?
— Каждый раз, когда женщина рожает дитя и поет ему песню, которую сложила сама, мир развивается и становится лучше, — улыбнулся Данло.
— Я в этом не уверен. Жизнь человека может пройти без всякой пользы.
— Нет. Жизнь каждого из нас — это песня, озвучивающая существование вселенной.
— Я говорил о человеческой жизни, — в свою очередь улыбнулся Кийоши, — жизни бессмысленной, полной ненависти, боли и стремления убивать. Мы предназначены для высшей доли.
— Правильно, — сказал Данло, глотнув чаю.
— Став богами, мы будем выше всего этого.
— Ты думаешь? — Чай был не очень горячий, но обжигал горло Данло, как лава.
— Только бог способен освободиться от страданий.
— Совсем наоборот. — Данло выпил еще чаю и прибегнул на миг к шама-медитации, чтобы охладить воспаленные нервы. Боль есть сознание жизни, вспомнилось ему. Бесконечная жизнь — бесконечная боль.
— Только бог может знать, как излучать свет, что превыше страданий и смерти, — продолжал Кийоши. — Лорд Хануман сказал, что каждый человек — это звезда.
— Это так: все мы звезды. — Данло закрыл глаза, погрузившись в память, и голос его стал глубоким и мягким. — Мы сияем, и вращаемся, и кричим, дивясь чуду, когда в наших сердцах пылает водород. Мы ангелы, танцующие в огне, мы искры дикой радости, крутящиеся в ночи. — Данло надолго умолк и добавил шепотом: — Мы свет внутри света.
Он открыл глаза, и их свет излился на Кийоши, как жидкое синее пламя. Кийоши, как многие рингисты, испытывал нечто вроде благоговения перед Данло.
— Лорд Хануман сказал, что, только став огнем, мы сможем избавиться от горения.
Данло подбирал с тарелки ломтики банана, и они обжигали ему желудок — пару раз у него даже дыхание перехватило от боли.
— Лорд Хануман должен знать, что такое горение, — согласился он.
— Да. Поэтому он сказал, что мы все должны стать господами огня и света. Таков путь богов.
— Я помню, что он говорил, — прихлебывая чай, сказал Данло.
— Бог хотя бы голода может не бояться.
— То есть как?
— Боги не знают, что такое голод.
— Даже если им нечего есть?
— Боги не нуждаются в пище. — Тут Кийоши улыбнулся. При всей своей пылкой вере он даже в самых серьезных дебатах не терял чувства юмора. — Какой прок быть богом, если ты не можешь обойтись без еды?
— Понятно. Каким же тогда образом бог приобретает энергию, чтобы двигаться?
— Ну, во вселенной полно энергии, разве нет? И боги черпают ее прямо оттуда, из вселенских источников.
— Понятно, — протянул Данло, глядя в глаза Кийоши.
На самом деле он не понимал до конца новейших доктрин рингизма: слишком долго его не было в Невернесе. Поэтому Кийоши, пока они пили чай (Данло охотно с ним поделился), стал объяснять ему, как может каждый человек сделаться богом. Начал Кийоши с Трех Столпов, подчеркнув, что главное — это ясно вспомнить Старшую Эдду. Большинство людей сможет достигнуть этого только по завершении Вселенского Компьютера, когда каждый божок сможет получить почти идеальную имитацию Эдды. И эта мудрость богов совершит чудо с теми, кто будет способен ее воспринять. Люди, которых коснется этот божественный огонь, по выражению Ханумана, ощутят ожог в глубине всех клеток своего тела. Спящий Бог проснется, и начнется процесс великого преображения.
— О Спящем Боге я знаю, — сказал Данло. — Это просто потенциал нашей ДНК, да? У куртизанок есть теория на этот счет. Они мечтают пробудить все клетки человека — и тело, и разум. В этом они видят высшую цель своего искусства.
Он умолчал о том, что Бардо ввел этот пункт в доктрины рингизма именно для того, чтобы умаслить Общество Куртизанок и обратить их в новую веру. Кийоши, ставший на Путь Рингесса долгое время спустя после ухода Данло, по-видимому, плохо знал историю собственной религии. Глядя в его доверчивое лицо, Данло не видел смысла в разоблачении давнишних манипуляций Бардо.
— Если вы знаете о Спящем Боге, то вам известно почти все, — сказал Кийоши. — Что такое Путь, если не пробуждение потенциала, дающего нам возможность стать богами?
Кийоши перешел к Девяти Ступеням, которые Хануман ввел в качестве церковного канона лишь в прошлом году.
Каждый человек в своем восхождении от ребенка к богу должен пройти их все, не пропуская ни одной, сказал он. Первые три — биологическую, эмоционально-сексуальную и интеллектуальную — большинство людей преодолевает без труда, если к их воспитанию относятся с должной заботой. Но слишком многие пока еще растут в варварских условиях, страдая от небрежения, голода, болезней, насилия; многие становятся жертвами слеллеров, мозговых манипуляторов и даже войн. Эти люди похожи на цветы, получающие недостаточно воды и солнца, на деревца бонсай, растущие кривыми и чахлыми в своих тесных горшках. Такие, как правило, испытывают трудности с переходом к четвертой, или религиозной, ступени. Почти все божки, сказал Кийоши, уже достигли этой ступени, требующей тонкого психического развития, сострадания, любви, бескорыстного служения и мистического чувства, подсказывающего человеку, что его жизнь переплетается с жизнью самой вселенной. Все эти качества необходимы для восхождения на следующую ступень — мистическую.
— Пятая ступень имеет ключевое значение для всех последующих, — сказал Кийоши. — Она завершает развитие мистического чувства. Входить в самадхи, постигать единство и взаимосвязанность всех вещей и самому в него вливаться — это очень трудно.
Данло подлил чаю им обоим.
— О каком самадхи ты говоришь — йогическом или кибернетическом?
— Самадхи есть самадхи, разве нет? Различие существует только в его интенсивности, в степени твоего слияния с великим Целым.
Кийоши сделал паузу, не зная, согласен ли с ним Данло.
— Продолжай, пожалуйста, — сказал Данло, обжигаясь чуть теплым чаем.
— Ну а кибернетические пространства обеспечивают очень высокую степень. Если компьютер достаточно велик, он может представить всю нашу вселенную как песчинку на уходящем в бесконечность морском берегу.
— Понятно. — Данло обжег себе рот очередным глотком.
— Поэтому кибернетическое самадхи — самое интенсивное, самое тотальное. Беспредельность информационных полей, электрическая связь, то, как вливается в эту огромность твое “я”… извините, я не очень-то хорошо это излагаю.
— Прекрасно излагаешь, — улыбнулся Данло. — Продолжай.
— В тебя вливается другое, великое “Я”, целые вселенные, спрессованные в одном моменте, Как молния, которая разгорается все ярче… нужны годы, чтобы достичь этих мистических высот.
— Да, — согласился Данло.
— И это мастерство, когда ты им овладеваешь, всего лишь готовит тебя к шестой ступени, мнемонической. Только на шестой человек целиком воспринимает Старшую Эдду и получает ясную картину Единой Памяти.
Данло, закрыв глаза, вернулся к моменту глубокого, чистого света. Он менялся, этот свет, он принимал новые формы, он обладал волей, он эволюционировал. В нем заключалась вся память вселенной. Материя, память и сознание, по сути, едины, и Данло сознавал себя как миллиард миллиардов пылающих капель света, сливающихся в единый мерцающий океан.
— Вы такую картину получили — это все знают, — сказал Кийоши, когда Данло открыл глаза. — Вы испытали великое воспоминание, что удавалось очень немногим.
Данло, глядя на него, промолчал.
— Вы, лорд Хануман, Нирвелли, Томас Ран — нам повезло, что вы записали для нас свою память о Старшей Эдде. Она помогает нам раскрыть себя для возможностей шестой ступени.
— Я свою память не записывал, — сказал Данло.
— Правда? Почему же?
— Я не разрешил ее записать.
— Но почему?
— Потому что это твой опыт. Только твой. Это можно пережить, но нельзя скопировать.
На лице Кийоши отразилось сомнение и разочарование.
— Может быть, в идеале и нельзя, но я не вижу особой разницы между опытом Томаса Рана и своим, когда я подключаюсь к мнемоническому компьютеру.
— Это громадная разница. Такая же, как между молнией и… и светляком. Между реальностью и бледной ее имитацией.
Кийоши снова нахмурился, а Данло с улыбкой передал ему чашку чаю. Кийоши в отличие от большинства невернесцев не испытывал особого страха перед инфекцией и не боялся пить с Данло из одной чашки.
— Я сам никогда не имел великого воспоминания и потому не понимаю разницы, о которой вы говорите. Я благодарен за то, что получил хоть какое-то понятие о Старшей Эдде. Это дает мне надежду подняться когда-нибудь на шестую ступень и даже выше.
— Я совсем не хочу гасить твою надежду. — Данло пожал голую, без перчатки, руку Кийоши. — Расскажи мне, пожалуйста, о самых высших ступенях.
Тогда Кийоши объяснил ему, что мнемоническая ступень открывает путь к озарению. На этой, седьмой, ступени человек, идущий Путем Рингесса, открывает в себе божественные возможности. В нем оживает Старшая Эдда, постоянное новое сознание священного огня, дающего жизнь всему сущему. Тот, кто достиг седьмой ступени, сам начинает излучать этот непостижимый свет. Глаза его подобны чашам, вмещающим целый океан света. Мастер седьмой ступени сеет любовь и радость везде, где бы ни появился.
И если такой человек способен выдержать боль от горящего в нем пламени, он поднимается на предпоследнюю ступень, именуемую трансфигурацией. Золотой голос Спящего Бога начинает звучать в каждом атоме его существа, долетая до самых дальних пределов вселенной. Каждая клетка его организма поет, резонируя со всеми остальными. Его ДНК пробуждается для бесконечных возможностей, и его тело и мозг подвергаются глубоким биохимическим переменам. Мастер, достигший этой стадии, буквально лучится светом, как звезда. Это конец длившейся два миллиона лет человеческой эволюции, но только начало бесчисленных миллиардов лет движения к последней и окончательной девятой ступени — божественной.
Одни полагают, что в неком моменте этой бесконечной девятой ступени бот покидает свое тело и исчезает во вспышке ослепительного света. Другие думают, что бог добровольно сохраняет свой человеческий облик, чтобы помочь другим божкам дойти до трансфигурации. Но почти все сходятся на том, что бог способен преображаться и менять себя по собственной воле; какой смысл становиться богом, сказал Кийоши, если ты не становишься при этом властелином материи и энергии, огня и света?
— Претерпев очистительный огонь трансфигурации, человек освобождается и преображается в свет. Бог не только сияет сам, как звезда, но к тому же пьет свет других солнц.
Данло, допив остаток чая, повертел голубую чашку в руках и спросил:
— Как же он это делает?
— Он пьет свет всеми клетками своего тела.
— Стало быть, ДНК бога вырабатывает хлорофилл? — спросил Данло, зная способность Кийоши сочетать веру с юмором. — И его кожа делается зеленой, как лист кесавы, когда он выходит на солнце?
— Откуда мне знать? — улыбнулся, поддерживая шутку, Кийоши. — Девятой ступени достиг только один человек, а он покинул Невернес много лет назад.
Вслед за этим Кийоши перешел к историческим мифам и преданиям. По словам Ханумана, Иисус Кристо, Лао Цзы, Нармада и прочие боги и святые древних времен дошли всего лишь до пятой ступени. На шестую из древних поднялся только Джин Дзенимура, а из рингистов — Томас Ран и Сурья Сурата Дал. (Прежде Хануман причислял к адептам шестой ступени еще и Джонатана Гура, но когда Каллия начала все больше откалываться от основного учения, Хануман низвел его на пятую, а Бардо — еще ниже. Если верить Хануману, Бардо едва достиг душой и разумом интеллектуальной ступени весьма плохо развитого ребенка.) На высоту восьмой ступени взошли только Гаутама Будда и Нирвелли, на вершине же горы, где ревет, как миллиард ракет, божественный ветер, одиноко сиял, подобно звезде, лорд Хануман. Он взирал сверху на всех божков, которые тщатся взлететь на восьмую ступень, и притягивал их, как маяк в ночи. А поскольку он при всем при том оставался пока человеком, он смотрел также и в небо, отыскивая среди созвездий след Мэллори Рингесса, единственного, кто стал богом по-настоящему, Кийоши умолк, и взор его стал тоскливо-мечтательным.
Данло с грустной улыбкой взял чашку из-под риса и стал подбирать прилипшие ко дну зернышки.
— А как же Николос Дару Эде? — спросил он, взглянув на свой образник, стоящий на шахматном столике. Программа придала лицу голографического Эде любопытствующее выражение. — В галактике не счесть людей, верящих, что Эде — величайший и единственный Бог.
Кийоши нахмурился и яростно сцепил руки.
— Лорд Хануман говорит, что Эде — величайший в истории шарлатан, а верящие в него Архитекторы — беспутные худшего сорта.
Он не добавил, что многие рингисты во главе с Сурьей Суратой Лал ратуют за объявление войны Архитекторам всех кибернетических церквей, рьяно сопротивляющимся распространению рингизма. Сурья считает, что Архитекторы — это деградировавшие существа, добровольно и безнадежно застрявшие на самой низшей ступени. Их следует поселить на планетах-резервациях и впрыскивать им слель-вирусы, чтобы уничтожить их мозговые барьеры и открыть им истину Пути, но и тогда их способность преодолеть все девять ступеней будет очень сомнительной. Один из божков подслушал, как Сурья говорила Хануману, что лучше, пожалуй, попросту усыпить их, избавив от мук низменного, безнадежно человеческого существования.
Данло тоже нахмурился: ему не понравилось выражение, которое он подметил в глазах Кийоши, но обида, написанная на лице Эде, снова вызвала у него улыбку. Вот по крайней мере один бог, который никогда уже не будет нуждаться в еде — если, конечно, не обретет свое замороженное тело и не втиснется снова в эту безнадежно человеческую оболочку.
— Значит, ты веришь, — сказал Данло, — что мой отец стал первым богом в истории вселенной?
— Во всяком случае, первым, кто совершил переход от человека к богу.
— Ты веришь, что он преобразился и не нуждается больше в пище?
— Я верю, что он теперь намного выше этого. Слышали вы о видении Масалиты Райзель?
— Нет, — признался Данло.
— Ну так вот: всем известно, что Мэллори Рингесс покинул Невернес в последний день 2941 года. Масалита в тот день медитировала среди камней в Садах Эльфов. Она смотрела на звезды и вдруг увидела вспышку — столь яркую, что чуть не ослепла. Она утверждает, что свет шел не с неба, а с вершины Аттакеля, и другие тоже видели свет на горе в ту ночь.
— Правда?
Лицо Кийоши теперь сияло, как солнце.
— Все знают, как любил Мэллори Рингесс взбираться на Аттакель, чтобы побыть там в одиночестве. Это было его последнее восхождение перед тем, как совершить восхождение еще более великое и слиться с сиянием звезд.
— Ты веришь, что мой отец превратился… в этот свет?
— Как же иначе?
— Веришь, что его человеческое тело преобразилось в чистый свет?
— Вспышка, которую видела Масалита, была очень яркой.
Данло, с улыбкой закрыв глаза, произвел в уме быстрые вычисления и сказал: — Если бы все атомы отцовского организма преобразились таким образом, освобожденная энергия должна была составить сто триллионов эргов.
— Это много? — спросил будущий историк Кийоши.
— Это эквивалентно тысяче водородных взрывов. Такое явление превратило бы весь город в пар, а склоны Аттакеля в лаву. Если бы Масалита в самом деле видела то, что ей померещилось, одной временной слепотой она бы не отделалась.
— Может быть, ваш отец нашел способ преобразиться, не высвобождая такого количества энергии?
— Существуют законы эквивалентности материи и энергии. Эйнштейн открыл их на Старой Земле еще до Холокоста.
Но на Кийоши и этот аргумент не подействовал.
— Кто, по-вашему, сильнее: какой-то древний беспутный ученый или бог? Бог, уж конечно, способен переделывать законы, непреодолимые для простых смертных.
На это Данло, по-прежнему выбиравший рисовые зернышки из чашки, ответа не нашел.
— Я не могу не верить, что ваш отец преобразился в свет, — продолжал Кийоши. — Такой свет подлинно свободен и способен странствовать по всей вселенной.
Данло хотел напомнить ему, что такой свет, при всей своей свободе, странствовал бы по черным глубинам вселенной очень медленно; впрочем, если отец способен переделывать законы природы, он и само пространство-время мог изменить так, чтобы передвигаться со скоростью тахиона.
— А как же отцовский корабль, “Имманентный”? Он исчез в один день с моим отцом. Легкий корабль в ту ночь мог бы передвигаться почти бесконечно быстрее света — для того он и создан.
— Ну, если Мэллори Рингесс сумел преобразиться в свет сам, он мог просто разъединить и аннигилировать атомы своего корабля.
Данло только хмыкнул, представив себе энергию, требуемую для аннигиляции корабля с алмазным корпусом.
— Если отец ушел во вселенную в виде чистого света, как же он может вернуться в Невернес?
— Если он захочет, то вновь соберет лучи в свою старую форму, я уверен. Он ведь обещал, что вернется.
Данло протянул руку к окну, в которое проникал слабый свет.
— Может, он уже вернулся. В это самое время.
— Может быть, — улыбнулся Кийоши и добавил уже серьезно: — Он вернется обязательно. И мы во главе с ним исправим несправедливость мира, чтобы каждый мог пройти девять ступеней и стать богом.
— А потом?
— Потом мы переделаем мир — всю вселенную. Всю вселенную.
Данло закрыл глаза, и будто молния пробила темные завесы его разума. Миг (или год) он летел через пустой черный космос, а потом увидел над Невернесом Вселенский Компьютер — огромную, почти законченную черную сферу, тускло поблескивающую при свете солнца. С каждым мгновением микророботы, кишащие на поверхности компьютера, добавляли к нему новые нейросхемы, и он рос.
Всю вселенную.
Данло долго не понимал, почему Хануман назвал свою жуткую машину Вселенским Компьютером. Не потому ли, что верил во вселенский масштаб его будущих программ и имитаций? Да, может быть, — но Данло чувствовал, что Хануман замышляет нечто большее. Хануман надеется переделать вселенную с помощью этого компьютера, избавив ее от несправедливости и страданий, от ненависти, войн, болезней и смерти. Но каким образом компьютер размером с луну может сотворить это чудо? Данло казалось, что он вот-вот узнает ответ на этот вопрос. Что-то темное и огромное маячило перед его внутренним взором так, будто он стоял на улице спиной к солнцу и смотрел на свою тень. Как бы пристально он ни смотрел и как быстро ни перемещался, образ отступал от него по льду, как черный безликий призрак.
— И вы могли бы нам помочь.
Голос Кийоши расколол лед, и Данло открыл глаза.
— Вы могли бы помочь нам всем стать богами.
— Я? — искренне удивился Данло. — Беспутный пилот Содружества?
— Нельзя не верить, что вы не просто пилот.
— — Что же я такое?
— Знаете ли вы, что многие божки говорят, будто вы, как и лорд Хануман, достигли восьмой ступени? Говорят, что вы Светоносец и вернулись в Невернес, чтобы привести нашу церковь к ее истинной цели.
На Таннахилле люди, принадлежащие к другой церкви, тоже называли Данло Светоносцем. Но там речь шла о древнем пророчестве: Архитекторы поверили, что оно осуществилось, когда он не побоялся взглянуть на бесконечные огни собственного разума. Но в Невернесе он никому не говорил об этом и был поражен, когда Светоносцем его назвал Кийоши. Данло улыбнулся бы странности всего этого, но Кийоши смотрел на него с такой тоской и надеждой, что ему захотелось заплакать.
— Ты тоже веришь, что я достиг восьмой ступени, Кийоши?
— Но ведь это возможно, правда? Для любого человека возможно, а уж для сына Мэллори Рингесса…
— Предположим, я правда ее достиг, что тогда?
— Тогда вы должны стать во главе церкви.
— Но у вашей церкви уже есть глава.
— Вы с лордом Хануманом раньше были лучшими друзьями. Многие думают, что он будет рад, если вы станете с ним бок о бок: вы будете как двойная звезда.
— Я поклялся никогда больше не принимать участия в этом религиозном движении. Как и в любом другом. Сожалею, но это так.
— Мне тоже жаль, мастер Данло.
На миг Данло подумал, что Кийоши мог подослать к нему Хануман — либо для передачи определенного послания, либо как шпиона. То, что это пришло ему в голову только теперь, позабавило Данло: стратагема выглядела достаточно очевидной. Но Кийоши смотрел на него так доверчиво, что Данло понял: этот божок не шпион. Сердце Кийоши открылось ему, и он поверил, что юноша говорил правду.
— Хорошо, что утром ко мне пришел ты, — сказал Данло, ставя пустую чашку на поднос. — Тебе я всегда рад.
Кийоши встал и низко поклонился ему.
— В обед я приду опять, но ни курмаша, ни кофе вам не обещаю.
— За твое общество я отдал бы три хороших обеда, — улыбнулся Данло.
— Через десять дней вы, возможно, будете думать по-другому. — Кийоши взял поднос и вернул Данло улыбку. — Если у нас кончатся припасы, а корабли не придут.
— Все возможно, — согласился Данло. — Но сейчас — это сейчас, правда?
— Спасибо, что напомнили, мастер Данло. Я очень буду ждать нашего следующего разговора.
— Я тоже, Кийоши.
Кийоши вышел с подносом за дверь, и часовой — еще один бывший воин-поэт по имени Дориан Ной — тут же захлопнул ее с гулом и лязгом. Данло, оставшись один, опустился на колени и подобрал три рисовых зернышка, упавшие на пол. Два он съел сразу и уставился на третье, белеющее у него на ладони, как червячок.
Мы переделаем всю вселенную, вспомнил он.
Данло снова закрыл глаза, и ему представились триллионы таких червячков, гложущих круглое красное яблоко величиной с солнце. Когда они совсем проели его изнутри, красная кожура лопнула, и ослепительный свет вырвался наружу. Свет угас, уйдя в пустоту космоса, и Данло увидел, что черви слились в сплошную клубящуюся массу. Теперь они были уже не белыми, а черными, как обугленные трупы — или как Вселенский Компьютер Ханумана. Потом этот черный, как смерть, шар с невероятной скоростью помчался по звездным полям галактики. Он всасывал в себя свет всех встречных звезд и рос, наливаясь тьмой, пока не сравнился величиной с Экстром.
Всю вселенную.
Данло открыл глаза и увидел, что рисовое зернышко так и осталось зернышком. Он слизнул его с ладони и долго смаковал, прежде чем разжевать и проглотить.
Глава 11 ПАРАДОКС АХИМСЫ
Вся жизнь питается жизнью: трава питает шегшея, шегшей питает деваки. А когда мы умираем, наши тела питают траву.
Из девакийской Песни ЖизниЖизнь каждого живого существа резонирует с жизнью всех остальных; всякая жизнь достойна уважения, как равноценная твоей собственной. Поэтому не причиняй вреда ничему живому. Лучше умереть самому, чем убить.
Фравашийское учениеСлучилось так, что Кийоши Темек в тот день не принес Данло обед, и увиделись они лишь спустя долгое время. Поздним утром, поиграв около часа на флейте, Данло полез в сундучок за книгой стихотворений, оставленной ему отцом.
Все стихи он давно знал наизусть, но ему нравилось держать на коленях толстый том в кожаном переплете, вчитываясь в рифмы и ритмы древних.
Он давно не практиковался в забытом искусстве чтения, и потому книга обнаружилась на самом дне, под запасной шубой, камелайками и другими вещами. Чтобы достать ее, Данло стал выкладывать на кровать все свои сокровища одно за другим: алмазный скраерский шар, принадлежавший его матери, и резчицкий инструмент в мешочке из тюленьей кожи.
Этими пилками и ножичками он когда-то вырезал из моржового клыка шахматную фигуру — белого бога, сломанного потом Хануманом сознательно и жестоко. Этого самого шахматного бога Данло положил теперь рядом со своими коньками. Затем пришел черед маленького кубика — нашейного образника, подаренного ему Харрой Иви эн ли Эде, Святой Иви Вселенской Кибернетической Церкви.
Холодное прикосновение всех этих вещей пробуждало в нем глубокую память; развернув кусочек промасленной кожи с наконечником своего старого медвежьего копья, Данло вспомнил укус морозного синего воздуха и хруст снега сореша под лыжами. Вспомнил, как Хайдар, его приемный отец, подарил ему этот красивый кремневый лист на день рождения. Теперь, в тишине камеры, Данло дивился огневой соразмерности этого изделия. Наконечник, длиной с кисть его руки от запястья до кончиков пальцев, был острым, как стальной нож воина-поэта, и при свете из окна казался кроваво-красным.
Данло собрался положить его к другим вещам, но тут раздался такой грохот, точно за стенами часовни взорвалась бомба.
Мощная ударная волна прошла сквозь каменный пол, и осколок кремня в руке Данло задрожал. Внешняя стена начала крошиться, как штукатурка под ударами молота, и Данло понял, что в эту камеру еду ему больше носить не будут.
Он не знал тогда, что ночью один из кольценосцев Бенджамина Гура сумел пробраться мимо охранявших собор божков. Его товарищи в это время стали бить световые шары на ближних улицах, и кольценосец, пользуясь метелью и наступившей темнотой, нанес невидимую краску на стену часовни в том месте, где, по его расчетам, находилась камера Данло.
Уличное освещение вскоре восстановили, и по соборной территории прошел патруль, но никого, разумеется, уже не обнаружил. Замерзшие божки вернулись на свои посты, а краска тем временем делала свое дело.
Краска была не простая: один из технарей Бенджамина Гура смешал ее из быстросохнущего адгезива и раствора запрограммированных бактерий. Микроскопические пожиратели камня въелись в белый гранит часовни, как клещи в снежного тигра, и начали выделять кислоту, разбивающую гранит на отдельные молекулы. Часть этих молекул бактерии поедали, выделяя затем в виде слизи, часть оставляли нетронутыми. Очень скоро бактерии принялись размножаться, и полчища новых разрушительниц продолжили их тихое ночное пиршество.
Все это происходило, пока Данло спал и беседовал с Кийоши о девяти ступенях восхождения к богу. Технарь Бенджамина рассчитал точно: через определенное количество поколений все бактерии, согласно своей программе, погибли разом. Если бы не эта предосторожность, они могли бы проесть всю часовню, весь собор, а затем взялись бы за дома на соседних улицах и скалистую почву самого острова Невернес. В прошлом колонии таких бактерий превращали в пылевые облака целые планеты, поэтому применение подобных технологий во всех Цивилизованных Мирах каралось, как правило, смертью. То, что Бенджамин Гур осмелился нарушить этот древнейший из всех законов, говорило о его страхе перед тем, что в этой войне, призванной покончить со всеми войнами, могут пострадать не только отдельные планеты.
Но маленькие роботы его технаря хорошо справились со своей работой, не тронув ничего, кроме внешней стены часовни. И даже эту преграду однофутовой толщины они не разрушили целиком, поскольку стена на вид оставалась все той же. Ни один божок, случайно бросив на нее взгляд, не догадался бы, что она стала пористой, как губка, и мягкой, как мел. Данло сам не знал об этом, пока на улице не прогремел взрыв и в его камере не появились люди в шубах и масках. Проход они расчистили лопатами так, точно стена была снеговая. Только что Данло смотрел на нее, держа в руке наконечник копья, — и вдруг она рухнула в вихре обломков, пыли и гонимого ветром снега. Морозный воздух ожег Данло лицо и стал трепать белое перо у него в волосах. В дыре на месте стены возникли белый снег и синее небо. Один из людей с лопатами уставился на Данло сквозь темные снегозащитные очки: тот, должно быть, выглядел как ребенок, не понимавший, что его старый мир рухнул навсегда и перед ним открылась новая жизнь.
— Ты ведь знаешь меня, Данло ви Соли Рингесс, правда? — Человек, хрустя щебенкой, снял маску, и Данло узнал Тобиаса Урита, рыжебородого и громогласного. Когда-то они вместе пили священную каллу, дружили и мечтали о будущем. Теперь Тобиас, в ту пору мягкий и добрый, стал главным и самым свирепым кольценосцем Бенджамина. — Нас послал Бенджамин Гур, так что поторопись.
Четверо других, одетые так же, как Тобиас, побросали лопаты, заменив их орудиями иного рода. Двое вооружились пулевыми пистолетами, еще двое наставили на улицу лазеры. Те, что с пистолетами, стали у двери на случай, если у тюремщиков Данло хватит глупости открыть ее.
— Поторопись, пока они не явились, — повторил Тобиас, помогая Данло надеть черную соболью шубу.
Данло, несмотря на спешку, задержался, чтобы взять кое-какие свои вещи. Бамбуковую флейту он спрятал в карман камелайки, а хрустальный шар, резцы, наконечник копья и сломанную шахматную фигуру рассовал по другим карманам. Компьютер-образник он тоже хотел взять, но Тобиас велел его оставить, чтобы не мешал, и Данло неохотно повиновался.
— Я вернусь за тобой, — сказал он Эде. — Вернусь, как только смогу, и помогу тебе вернуть твое тело.
— Ничего, — ответил тот. — Я могу ждать хоть сто лет или тысячу. До свидания, Данло ви Соли Рингесс.
Данло поспешно кивнул ему и сказал Тобиасу:
— Ты меня знаешь. — Он посмотрел на двух кольценосцев, стоящих у двери на случай вторжения воинов-поэтов. — Вы не должны никого убивать ради меня и причинять кому-то вред. Я… не позволю этого. Лучше сам умру.
Глаза Тобиаса потемнели от гнева, но затем он буркнул что-то в знак согласия и вывел Данло на ослепительно яркое солнце. Заключение в полутемной камере сказалось на зрении Данло, и режущий белый свет оказался для него мучительным. Эккана, по-прежнему терзающая его нервы, превратила солнце в настоящее орудие пытки, и Данло захотелось завизжать, как гладышу, с которого содрали шкурку, а потом кинули на горячую жаровню. К счастью, Тобиас догадался захватить лишнюю пару очков и маску. Данло напялил все это на себя с лихорадочной быстротой. На полпути через соборные земли, покрытые свежевыпавшим снегом, он обнаружил, что прозрел снова, но тут же пожалел об этом.
На улице, где немного поодаль высился, как гранитная гора, собор, дымилась воронка от бомбы, ставшая почти неодолимой преградой и для саней, и для пеших. Те немногие, кто попытался пройти, лежали на снегу мертвые. Еще четверо кольценосцев Тобиаса, видимо, застрелили их из пистолетов. Данло, никогда раньше не видевший, как действует это оружие, с ужасом смотрел на дыры, оставленные в телах свинцовыми пулями. Чистый, сверкающий снег окрасился кровью и местами превратился в красную жижу. Данло чуть не отказался тогда от побега, чуть не направился обратно к собору, где Ярослав Бульба определенно готовил божков с лазерами и такими же пистолетами для ответного удара. Но Тобиас Урит и его кольценосцы непременно стали бы защищать Данло, и это стоило бы жизни многим другим людям.
— Скорее, — сказал Тобиас, ведя Данло к улице за рукав шубы. — Мне жаль, что так получилось, — добавил он, взглянув на трупы у воронки, — но если мы больше никого не хотим убивать, надо поторопиться.
Данло на мгновение зарылся ногами в снег, как изготовившийся к бою шегшей, и обвел взглядом дома напротив собора. Сама улица опустела, но во всех окнах торчали зеваки, наблюдая за его побегом. Шальная пуля или лазерный луч могли запросто поразить кого-нибудь из любопытных. В окнах виднелись и детские лица. Встретившись с черными глазенками стоящего на балконе мальчика, Данло решил покинуть эту улицу смерти как можно скорее.
— Никого больше, — сказал он Тобиасу. — Дай мне слово, ладно?
В этот момент из западного соборного портала начали выбегать люди в золотой одежде, с пистолетами в руках.
— Даю, даю, — рявкнул Тобиас. — Шевелись только.
И Данло последовал за ним к большим красным саням.
Сидящий за рулем кольценосец отчаянно махал им рукой.
Тобиас и Данло сели сзади, а еще один кольценосец поместился слева от Данло. Тобиас нажимал справа, и в санях густо пахло потом, кровью и страхом. Водитель запустил ракеты, и сани понеслись по красному льду.
Походило на то, что из соборного квартала они выберутся без происшествий. Сани мчались по широким ледянкам, мало заботясь об отскакивавших с дороги конькобежцах. Ветер бил Данло в лицо, по очкам барабанил снег из-под полозьев. Через каких-нибудь несколько секунд они оказались около большой зеленой глиссады, делящей Старый Город пополам. На нее выходило не так уж много ледянок. Тобиас, очевидно, распорядился заранее, по которой ехать, поскольку у кладбища водитель резко затормозил и свернул в улочку, где стояли трехэтажные жилые дома. Данло хорошо помнил эту улицу по своим ночным кадетским вылазкам. Она пересекала Старгородскую глиссаду и вела в лабиринт других улочек вокруг Фравашийского сквера. В одном месте, за полквартала до перекрестка, она сужалась до каких-нибудь десяти футов.
— С дороги! — орал водитель, отмахиваясь от конькобежцев, как от мух. — С дороги!
Тем не менее ему пришлось сбросить скорость, чтобы не наехать на астриерку в богатой коричневой шубе и двух молодых божков, идущих, вероятно, на дневную службу в собор.
Эти трое, как и другие прохожие, весьма неохотно уступили саням дорогу, но улицу тут же перегородили трое других божков в броских золотых мехах. У этих были пистолеты, и они целились прямо в сани.
— Дави их! — крикнул водителю кольценосец слева от Данло. — Дави этих бандитов!
Один из божков выстрелил, и пуля попала в ветровое стекло саней. Прочный кларий выдержал, но покрылся сеткой трещин.
— Нет! — закричал Данло. — Бросим лучше сани и побежим на коньках.
Тобиас в ответ на эти наивные речи покачал головой.
— Они будут стрелять нам в спину — а если уйдем от этих, то нарвемся на других. Хануман, наверно, всех своих божков отправил на улицы. Будем держаться прежнего плана.
— Нет. Я не позволю.
— Дави их, — скомандовал Тобиас водителю.
— Нет!
— Дави!! — взревел Тобиас, выхватывая из-за пазухи блестящий ствол лазера.
— Нет! — завопил Данло, когда сани рванули вперед.
Дальнейшие события происходили почти одновременно.
Один из божков снова выстрелил, и пуля сорвала край ветрового щитка. Пластиковый осколок врезался в маску кольценосца слева от Данло, и тот закричал, как ребенок, зажимая рукой рваную рану. Тобиас свесил свое массивное туловище за борт, чтобы удобнее было стрелять, а Данло навалился на него, чуть не вывалившись из саней в своем стремлении перехватить лазер. Данло уже почти вцепился в дуло, но тут Тобиас выстрелил, и луч прожег перчатку Данло на тыльной стороне руки. Запахло паленой кожей — перчаточной и человеческой. Данло вскрикнул от боли, а кольценосец слева, придя в себя, ухватил его сзади за шубу и рывком вернул на сиденье.
Он боролся с Данло, пытаясь пригвоздить его к месту. И все это время сани, как красная пластиковая пуля, летели вперед по красному уличному льду.
Другие пули, летевшие им навстречу, напрочь снесли ветровой щиток. Тобиасу оцарапало ухо, но он не придал этому значения. Он исхитрился прицелиться снова и тут же убил двух божков, загораживавших дорогу. Третья, девушка в одной тонкой золотой камелайке, схватилась за грудь, будто не веря, что лазер действительно наносит человеку те ужасные раны, о которых ей рассказывали.
— С дороги! — снова крикнул водитель, но девушка, видимо, не могла двинуться с места, и сани подкинули ее в воздух, точно куклу. Данло, все еще боровшийся с кольценосцем, которого звали Канту Мамод — и все так же тянувшийся к лазеру Тобиаса, — навсегда запомнил этот тупой удар и хруст поломанных костей. В тот момент, когда лицо девушки исказилось от ужаса, Данло встретился с ней глазами и принял в себя последний свет ее души. Потом ее тело грохнулось на лед, а сани, вырвавшись из соборного квартала, пересекли Старгородскую глиссаду и затерялись в клубке улиц на той стороне.
Зрелище, которое они собой представляли, испугало бы кого угодно: двое мужчин в окровавленных белых масках и летящие с бешеной скоростью сани без ветрового щитка. У Данло, зажатого на заднем сиденье, маска в пылу борьбы сползла на шею, лицо потемнело от гнева; божок, случайно увидевший его в тот момент, рассказывал после, что на него было страшно смотреть. Если бы Данло не поклялся никому не делать зла, он отнял бы у Тобиаса лазер и размозжил бы ему голову рукоятью. Он чувствовал, что в силах это сделать.
Сердце у него билось, как пульсар, кровь обжигала сосуды жидким огнем; он чувствовал, что способен вырваться из рук Канту и убить обоих кольценосцев. Он мог бы дождаться, когда водитель замедлит ход, сворачивая за угол, а после выпрыгнуть на лед и укатить прочь. Желание осуществить этот смертельный замысел пылало в его глазах. Данный им обет ахимсы просто требовал, чтобы он бежал от этих людей, убивающих других ради его блага, — но тот же обет не позволял причинить им зло даже при попытке к бегству. Локоть Канту разбил ему губу, и Данло, ощутив вкус крови во рту, вспомнил, что лучше умереть самому, чем сделать вред другому.
— Будь ты проклят, Данло ви Соли Рингесс! — выругался Тобиас, держась за кровоточащее ухо. Сани в это время свернули на пурпурную ледянку у северной стороны Фравашийского сквера. — Меня чуть не ухлопали из-за тебя!
По дорожкам Фравашийского сквера, прозванного так благодаря обилию фравашийского кустарника ливайи, сновало множество людей, но на сани почти никто не смотрел; водитель сбавил скорость, а Канту с Тобиасом сняли свои жуткие маски.
— Ты обещал, — прошептал Данло. Ветер дул им в лицо, но он произнес эти слова с такой силой, что Тобиас хорошо его расслышал.
— Мне пришлось нарушить слово, иначе нам всем пришел бы конец.
Никогда не убивай, никогда не причиняй вреда другому. Лучше умереть самому, чем убить. Данло закрыл глаза, отгородившись от льдистого блеска улицы, и вспомнил лицо девушки, сбитой их санями. И другие лица тоже — лица мужчин, женщин и детей, умерших за его короткую жизнь, которая сейчас казалась ему очень долгой. Он вспомнил их, и ему захотелось умереть самому. Этого требовала от него ахимса — иначе людей по-прежнему будут прожигать лазерами и сбивать санями ради того, чтобы жил он. Но он не мог вот так взять и убить себя, не мог забрать лазер у Тобиаса и прожечь собственный измученный прекрасный мозг. Суть ахимсы в том, чтобы чтить всякую жизнь, даже свою.
Могу ли я умереть, не проявив пренебрежения к собственной жизни? Могу ли я жить, не вызывая новых смертей?
— На том углу поверни налево, а после сразу направо, — сказал Тобиас водителю.
Вскоре они оказались на почти безлюдной улице с красивыми старыми домами. Тобиас натянул вязаную шапочку, прикрыв раненое ухо, Канту Мамод зажал свернутой маской рану на челюсти. Данло увидел, что из носа у Канту тоже идет кровь, и вспомнил, что сам двинул его головой, пока они боролись.
— Будь ты проклят, Данло ви Соли Рингесс, — сказал Канту, вытирая распухший нос. — Мне сдается, он сломан.
Данло ощутил ожог вины и сострадания. Он страдал от того, что причинил Канту боль, а еще больше от того, что страдает из-за мелких ранений этого человека, способного убивать других.
— Я сожалею, — сказал он. — Дай посмотрю — может быть…
— Ранами займемся на явке, — отрезал Тобиас. Водитель затормозил у белого здания с ажурными чугунными балконами, и Тобиас сказал Данло: — Пошли. Бенджамин Гур попросил меня привести тебя к нему, и я пообещал, что приведу.
— Ты сегодня уже нарушил одно обещание. — Глаза Данло метнули синий огонь. — Почему бы не нарушить и другое?
— Я не стану спорить с тобой о том, как мне следовало поступить. — Красное лицо Тобиаса стало еще краснее. — Ты пойдешь с нами, иначе я потащу тебя волоком через весь город. Данло молча смотрел на него.
— Понимаешь ли ты, какую важность для нас представляешь? Пойдем, пожалуйста.
Еще трое кольценосцев вышли из подъезда дома и стали рядом с Тобиасом. Канту с Данло вылезли из саней, и Тобиас приказал своим людям:
— Держитесь поближе к Данло ви Соли Рингессу. Не позволяйте ему уйти. Спасибо, Юрик, — сказал он водителю, хлопнув по красному боку саней. — Увидимся позже.
Юрик снова запустил ракеты, и сани скрылись из глаз.
— Быстро теперь, — сказал Тобиас, и кольценосцы вместе с Канту, обступив Данло со всех сторон, стали подниматься по белым гранитным ступеням здания.
Миновав холл, где стояли на страже еще двое, они прошли в большую квартиру на задах дома. Тобиас упомянул мимоходом, что Каллия заняла все здание, и во всех квартирах на четырех его этажах живут на казарменном положении кольценосцы, готовящие свержение Ханумана ли Тоша. Из каминной, куда они вошли первым делом, вынесли всю мебель, сложив там мешки с курмашом, спальники и запасные коньки — а еще, само собой, пистолеты, лазеры, тлолты, ножи и прочее смертоубийственное оружие. На верстаке у стены совершенно открыто, будто обеденные приборы, были разложены детали взрывного устройства и рубины для сборки лазеров.
Данло думал, что Бенджамин Гур выйдет ему навстречу из другой комнаты, но его ожидания не оправдались. Как только дверь квартиры закрылась за ними, две молодые женщины делового вида тут же занялись ранами Тобиаса и Канту, обработав их и заклеив лечебным пластырем. Тем временем другие кольценосцы приготовили сменные коричневые шубы и черные маски взамен запачканных кровью белых. Одна девушка попросила Данло снять его белое перо, и он послушался, но обрезать свои длинные черные волосы не разрешил. В маске и меховом капюшоне его и так никто не узнает, сказал он. Тобиас согласился, что стричь волосы не обязательно, притом на это требовалось время, а Тобиас не хотел терять ни единой лишней минуты. Покончив с необходимыми приготовлениями, он тут же двинулся вместе с Данло, Канту и еще четырьмя кольценосцами к выходу.
— Дальше побежим на коньках, — сказал он Данло. — Конькобежцев божкам Ханумана труднее будет выследить, чем сани.
— Далеко ли идти? — спросил Данло.
— У Бенджамина есть еще одна квартира на улице Контрабандистов. — Тобиас вытер свою рыжую бороду, надел новую маску и объяснил Данло, как найти эту квартиру. — Если нам придется расстаться, прошу тебя: ступай туда один.
— Не лучше ли расстаться сразу? Чтобы не пришлось больше никого убивать из-за меня.
— Тогда, чего доброго, убьют тебя самого, Данло ви Соли Рингесс, а этого я допустить не могу.
— Жаль, если так.
— Ты обещаешь, что не будешь пытаться бежать? Мы доберемся до места гораздо быстрее, если не надо будет следить за тобой.
Данло подумал немного.
— Почему ты думаешь, что я сдержу свое обещание, если сам не сдержал своего?
— Не заставляй себя умолять, — процедил сквозь зубы Тобиас.
— Хорошо. Обещаю, что не стану убегать.
В глазах Данло отразилась возможная последовательность событий. Если он все-таки попытается, кольценосцы погонятся за ним, и множество невинных может при этом пострадать или даже лишиться жизни. Будет лучше, если он как можно скорее встретится с Бенджамином Гуром. В конечном счете за все, что случилось в этот день, отвечает Бенджамин, а не Тобиас. Надежда покончить с насилием, бушующим вокруг него, как вьюга, а может быть, и с худшими бедами, грозящими всему городу, осуществится лишь в том случае, если он охладит сердце Бенджамина и напомнит ему об их совместных мечтах.
— Убегать я не стану, — повторил Данло, — но непременно попытаюсь тебя остановить, если из-за меня ты захочешь причинить зло еще кому-то.
Канту Мамод, потрогав свой сломанный нос, взглянул на Тобиаса.
— Будем считать, что мы поняли друг друга, — сказал тот, — а теперь пошли.
Через заднюю дверь дома они вышли в переулок, темный, как горный туннель. Пройдя немного по свежему снегу, они выбрались на пурпурную улицу, пристегнули коньки и влились в толпу спешащих на обед горожан. Тобиас шел первым, поместив Данло в средину группы. Данло никто не держал и не дышал ему в затылок, но по вниманию, с которым кольценосцы следили за каждым его движением, он понимал, что удрать ему не позволят. Тобиас, как видно, не слишком доверял его обещанию. Такова уж человеческая натура: тот, кто не находит природного благородства в себе самом, не видит его и в других.
Несмотря на плотный поток конькобежцев, продвигались они быстро. Зеленая глиссада, на которую они свернули, вывела их на Восточно-Западную улицу.
Тобиас мог бы продолжать путь по этой широкой оранжевой магистрали, но он опасался, что божки будут патрулировать ее как кратчайшую дорогу в ту часть города, где рингисты влиянием не пользовались. Поэтому он указал на ледянку, ведущую в довольно опасный район, известный как Колокол.
Данло хорошо помнил его извилистые дорожки, которые досконально исследовал в свои кадетские времена. Перейдя Поперечную, самую широкую улицу в городе, единственную, где лед оставили белым, они углубились в места, где божки и осторожные академики попадались редко. День был ясный, и новый снежок таял под полуденным солнцем. Белый снег, пурпурный лед, красные и коричневые шубы прохожих радовали глаз чистотой красок, и Колокол казался не более грозным, чем площадь Ресы. Тобиас вел своих кольценосцев таким плотным строем, что червячники не приставали к ним с предложениями продать краденые огневиты и не требовали с них денег за охрану. Опасаться приходилось разве что проституток, желающих заработать пару городских дисков. Можно было рассчитывать, что до Клубничной они доберутся без происшествий, если только не нарвутся на божков Ханумана, а там уже и до улицы Контрабандистов недалеко.
Но как только они пересекли раскрашенный в зеленую и пурпурную клетку перекресток Длинной глиссады, их путь перестал быть мирным. Около известного ресторана собралась большая очередь. Данло обедал здесь в тот самый день, когда начал проектировать свой легкий корабль; ресторан был бесплатный и специализировался на простых, но вкусных утрадесских блюдах. Люди, которые стояли здесь сейчас, топая коньками о пурпурный лед, принадлежали в основном к беднейшим слоям города: тут собрались хибакуся, хариджаны, аутисты, афазики и проститутки. Но в очереди, кроме них, встречались также астриеры, купцы и червячники, был даже один эталон с Бодхи Люс. Все они проявляли нетерпение и гнев оттого, что их заставляли ждать под открытым небом.
Таких очередей, как громко сетовала одна астриерка, не видывали в городе уже тысячу лет, а хариджан в ярко-желтых, но потрепанных шелках предсказывал, что скоро общественные рестораны вообще закроют.
Он, как и большинство стоящих с ним на улице цивилизованных людей, не знал, что такое голод, и не представлял себе, как можно обойтись без еды хотя бы один день; право на еду казалось ему естественным, как дыхание, а сама еда — такой же принадлежностью каждого дня, как солнечный свет.
Все, что от него требовалось, это войти в ресторан, взять миску и наполнить ее. Общественные рестораны и теперь еще обладали приличными запасами провизии, хотя в частных почти уже не осталось синтетического мяса, специй, растительных масел и экзотических фруктов. Поэтому цены там взвинтили так, что их могли осилить только самые богатые и экстравагантные горожане. Эта инфляция погнала к бесплатным кормушкам даже астриеров, не говоря о многих других, и даже порцию курмаша нельзя было получить, не выстояв около часу в очереди.
Когда Данло и его конвоиры поравнялись с очередью в ресторан, там вспыхнула драка. Непоседливый хариджанский мальчуган, выписывая коньками узоры на льду, налетел на червячника и поцарапал коньком его дорогую обувь.
— Ты что наделал? — заорал разъяренный червячник и съездил мальчишке по уху, швырнув его на лед. Отец мальчика, тщедушный, но воинственный, не стал тратить времени, чтобы поднять сына, — он выхватил нож и хотел чиркнуть им червячника по лицу, но тот уже успел достать лазер и попросту выстрелил хариджану в глаз. Бедняга грохнулся на лед рядом со своим плачущим сыном. — Была охота давиться тут из-за миски поганого курмаша, — сказал червячник, плюнул на свою жертву и покатил прочь.
При этом он, еще не остыв после схватки, врезался в окружающих Данло кольценосцев. Кучку босоногих аутистов он растолкал без труда, но затем столкнулся с Канту Мамодом и понял, что этого человека так просто с места не сдвинешь.
— Дай пройти! — гаркнул он. В другое время Канту, может, и пропустил бы его, но сейчас он, не желая подпускать этого червячника с его лазером к Данло, сам взялся за нож. Действуя гораздо быстрее, чем убитый хариджан, он полоснул червячника по запястью, рассекшему сухожилие и заставил выронить лазер. В следующий миг нож, к восторгу (и ужасу) очереди, вонзился червячнику в сердце, убив его на месте.
Данло, верный своему слову, попытался вмешаться, но все произошло слишком быстро. Когда он повернулся к напирающему на них червячнику, Канту уже достал свой нож.
— Нет! — крикнул Данло, но Тобиас и двое других тут же схватили его и не дали кинуться в драку.
Данло рванулся, как тигр, но было уже поздно: червячник упал, извергая фонтаны крови на пурпурный лед.
— Нет!
Данло выкрикнул этот единственный слог с силой зимнего ветра — так, что горло ожгло огнем и голос сорвался. Но не успел он еще осмыслить совершенное только что убийство, как к Мамоду подъехал человек в золотом плаще и маске. Окинув взглядом окровавленный нож в руке Канту и сгрудившихся вокруг Данло кольценосцев, он сказал:
— Пожалуйста, снимите маски. — Он говорил спокойно, но в его голосе звучала сталь. — И капюшоны тоже.
— Оставь нас в покое, — огрызнулся Канту, наставив на незнакомца нож. Кровь еще капала с лезвия, прожигая дырки во льду. — Не знаю, кто ты такой, но у тебя нет права просить нас об этом.
— А я и не прошу. Снимите маски, не то я сам их сорву.
Тобиас протолкался к ним.
— Мы собрались пообедать, а этот червячник вдруг обезумел и накинулся на нас. Мы пойдем.
— Сначала снимите маски.
— Как же, сейчас. Ты сам в маске, а хочешь, чтобы мы сняли свои. В ответ на это незнакомец нагнул голову, как бы кланяясь, и одним движением сорвал маску с лица.
— Я Найджел с Кваллара, а этот человек, которого вы оберегаете, — Данло ви Соли Рингесс. Я узнал его по голосу.
— Воин-поэт! — крикнул кто-то из кольценосцев, увидев курчавые черные волосы и бронзовое лицо Найджела. — Воин-поэт из гвардии Ханумана!
Услышав это, зеваки начали разбегаться, но из-за большого скопления народа это получалось не слишком быстро.
В правой руке Найджела словно по волшебству появился нож, а в левой — игольный дротик с черным наконечником. Тобиас извлек из-за пазухи лазер, четверо кольценосцев достали свои ножи.
— Нет! — снова крикнул Данло.
У Тобиаса Урита был шанс убить воина-поэта. Тобиас в отличие от многих не испытывал при виде воина-поэта с ножом в руке парализующего ужаса, столь часто помогающего воинам-поэтам заколоть свою жертву или впрыснуть ей яд.
Именно Тобиас вместе с самим Бенджамином Гуром расправился с двумя другими охранниками Ханумана. Но он не выстрелил, и в этом проявилось все присущее ему благородство.
За спиной у Найджела с воплями толпились люди, взрослые и дети, и Тобиас не выстрелил, опасаясь попасть в невинных.
Он убрал лазер и сменил его на нож.
— Уходи! — крикнул он, локтем двинув Данло по ребрам. — Беги что есть духу! Встретимся с тобой позже.
— Нет. Я обещал…
— Беги, я сказал! Этого все равно не остановишь!
В этот момент один из кольценосцев, Макан Кришман, сунул руку за пазуху, чтобы достать пистолет. Видимо, отравленный дротик воина-поэта внушал ему такой страх, что ему было все равно, попадут его пули в кого-то другого или нет. Он действовал инстинктивно, как отбивающийся от волка овцебык.
Данло, чтобы помешать ему, ухватился за холодный ствол, и воин-поэт, воспользовавшись этим, сделал свой выпад.
— Нет! — вскрикнул Данло, но Найджел уже метнул свой дротик в лицо кольценосцу. Игла пробила кожаную маску и вонзилась в щеку. Макан, будто сраженный молнией, пошатнулся, судорожно дернулся и повалился на Данло, как каменная статуя. Его карие глаза наполнились страхом: паралич, сковавший его, не давал ему даже дышать.
Нет, нет, нет, нет!
Данло уложил умирающего кольценосца на лед, и им овладела нерешительность, но не потому, что он боялся. Он поклялся, что больше не позволит Тобиасу и его людям убивать, но как он мог помешать им? Если он удержит руку Тобиаса, то поможет воину-поэту его убить, как и в случае с поверженным кольценосцем. Если он каким-то чудом сумеет отвести нож воина-поэта, приняв удар на себя, это поможет Тобиасу в его кровавом деле. Солнечный свет лился в безжизненные глаза Макана, и Данло понял: все, что он делал в этот день, только ускоряло судьбу, постигшую убитых. И грядущее кровопролитие он тоже не сможет остановить: оно столь же неизбежно, как восход солнца.
— Беги, Данло, беги! — снова крикнул Тобиас и взмахнул ножом.
И Данло, сбросив стеснявшую движения шубу, пустился бежать. Он не хотел видеть, как будут биться кольценосцы с воином-поэтом, но за несколько мгновений перед бегством поразительное зрелище само собой бросилось ему в глаза: одинокий Найджел против пятерых мужчин, вооруженных, как и он, ножами. Шансы казались вопиюще неравными, но судьба благоприятствовала воину-поэту, который всю жизнь тренировался в ожидании такого момента и в полной мере овладел своим убийственным мастерством.
Воин-поэт почти мгновенно перешел в то электрическое состояние, когда время замедляется, а мозг ускоряет свою работу, рассылая нервные импульсы по всему телу. Из человека Найджел преобразился в вихрь чистого движения. Он вертелся волчком, резал, колол, пригибался и отражал удары; его нож уподобился змеиному жалу, световому блику, вспышке молнии. Золотая шуба крутилась вокруг него огненным смерчем, золотая бронированная камелайка стойко встречала клинки Тобиаса и Канту. Трое других кольценосцев, охваченные ужасом и смятением, только мешали друг другу. Один из них вскрикнул, и белые кольца внутренностей вывалились из его вспоротого живота. Вслед за этим Данло перестал видеть что-либо, кроме пурпурного, припорошенного снегом льда, промежутков между вопящими людьми в желтых и бурых шубах и густо-синего неба вверху. Он бежал быстро, как только мог, и улицы, где бушевало насилие, вскоре осталась позади.
Нет, нет, нет…
Некоторое время он не слышал ничего, кроме стука своих коньков и людских криков вокруг. Потом пришли другие звуки: шорох ветра, чириканье птиц и дальний гул ракет. Сердце билось частыми, резкими ударами, похожими на взрывы. На коньках Данло мог обогнать любого, и резня, которую чинил позади воин-поэт, прибавляла ему скорости. Он бежал, и его коньки при столкновении со льдом посылали вверх по ногам волны боли. Он бежал с дикой грацией, свойственной только ему, и молился, чтобы воин-поэт его не догнал.
Бум, бум, бум, бум.
Ему очень не хотелось бросать кольценосцев в беде, но Данло счел, что, если он спасется, их жизнь — и смерть — будет оправдана. В том, что они умрут от ножа воина-поэта, он не сомневался. В какой-то момент он почти ощутил, как бьется сердце каждого из них, ощутил огонь их жизни в криках, в вибрации льда, в боли, разрывавшей его собственное дикое сердце. В следующий миг четыре сердца остановились.
На углу улицы Друзей Данло оглянулся. Глазами он видел только поток людей в шубах, но более глубокое зрение подсказывало ему, что воин-поэт его преследует. Сознание этого приходило к нему разными путями. Он сканировал улицу, как мультиплекс в поисках легкого корабля, и волны страха, перебегая от человека к человеку, докатывались до него. Он чувствовал эти волны, как кислотные ожоги глубоко внутри.
Он различал вдали стук коньков воина-поэта, словно пение далекой звезды. Потом Данло стал видеть его. Вспышка молнии отпечатала у него в голове образ воина-поэта, несущегося с адской скоростью. Золотой плащ развевался у него за спиной, с ножа капала кровь; он летел, отталкивая с дороги кричащих прохожих.
Умереть, умереть, умереть.
Именно такая мысль пришла Данло в голову — остановиться, дождаться воина-поэта и умереть. Но если он подставит себя под его нож, получится, что Тобиас Урит и остальные пожертвовали собой напрасно. Кроме того, Данло, если честно, не хотел умирать. Он хотел жить и потому продолжал бежать. Он не боялся, что воин-поэт выстрелит в него из лазера или пистолета: Найджел и ему подобные презирали оружие такого рода. Данло бежал очень быстро, заботясь только о том, чтобы не налетать на других конькобежцев. Вихляя в толпе, он несся вперед, словно луч света. Ветер трепал его черную камелайку, яркое солнце резало глаза. Время смыкалось, как снеговые тучи, и вся вселенная сжалась до пурпурного ледяного коридора впереди. Шорох тысячи пар коньков совпадал с биением его крови. Блестела сталь, свистел шелк, и Данло мог точно предсказать, когда конькобежцы перед ним разойдутся и откроется просвет. Он проскакивал в эти просветы, как легкий корабль в бесчисленные окна мультиплекса. Почти ничего не стесняло его бега, и дикая радость, бурлящая в нем, делала его похожим на летящую по небу белую сову.
Лететь, лететь, лететь… больно, больно, больно.
Мысленным взором он видел, как мчится воин-поэт, сокращая разрыв между ними. При этом он знал, что, сохраняя мужество, сохранит и дистанцию, потому что воин-поэт не сможет долго бежать в своем ускоренном темпе и скоро выдохнется. Проблема заключалась в боли. Она нарастала внутри Данло, как гроза. При каждом шаге, вдохе и выдохе огненные щупальца впивались в его измученные нервы, почти парализуя их. Только воля препятствовала ему скорчиться в рыдающий комок на льду. Но даже алмазную волю можно сломить, и Данло чувствовал, что скоро она растворится в эккане, как бриллиант в мираксовой кислоте.
Больно, больно, больно, больно.
Раскаленный меч боли бил Данло под ребра, а мимо мелькали улицы: Небесная, Афазиков, Мозгопевцов, и воин-поэт все приближался в живом потоке мехов и шелка, разделявшем их. Данло чувствовал, что Найджел выслеживает его по реакции прохожих: воины-поэты умеют читать по лицам не хуже цефиков. Если бы Данло нашел безлюдную улицу до того, как Найджел его заметит, он мог бы спрятаться в каком-нибудь доме и переждать. Но в этом районе многоквартирных домов, бесплатных ресторанов и магазинов безлюдные улицы не встречались — во всяком случае, легальные. В Колоколе, как и во всех обособленных районах Невернеса, постоянно прокладывались улицы нелегальные, связывающие этот квартал с соседними. Почти все они представляли собой узкие дорожки, проходящие под межрайонными барьерам. Мало кто знал об этих улицах, и уж совсем немногие пользовались ими, боясь встретиться в этих темных туннелях с грабителями или слеллерами. Городские власти, обнаруживая такие лазейки, уничтожали их, но взамен, точно черви на трупе, тут же появлялись другие.
Боже, как больно, Боже, Боже!
Однажды ночью, которая пахла горелым мясом и изменой, Данло шел по такой улице за Хануманом ли Тошем. Он помнил, что она начиналась где-то около улицы Анималистов. Интересно, сохранилась ли она? Задыхающийся Данло, объезжая толстого астриера в запрещенной законом шубе из снежного тигра, мысленно видел эту улицу, каждый ее поворот и каждую щербинку на ее старом белом льду. Он не вспоминал ее, а именно видел, как видел корабли, ведущие битву при Маре. Она существовала в настоящем, где-то впереди, за сетью пурпурных ледянок. Он чувствовал ее реальность так же, как реальность вен и артерий, связующих пылающие ткани его тела. Он знал, что эта ледяная полоска способна спасти его от погони. Если у него хватит воли довериться своему видению, он уйдет от воина-поэта.
О Боже, о Боже, о Боже, о Боже!
Но довериться — это одно, а поставить свою жизнь на таинственное внутреннее чувство — совсем другое. Если он, свернув на эту нелегальную улицу, найдет, что она закрыта, он почти наверняка окажется в смертельной западне. Ему придется возвращаться назад по длинной, огороженной стенами ледянке, а воин-поэт к тому времени скорее всего разгадает его маневр и будет его караулить. Если же Данло решит продолжать свой путь по людным улицам, у него останется шанс выбраться по Длинной глиссаде на Серпантин, бегущий через Квартал Пришельцев, — но неизвестно, кто выдохнется первым, воин-поэт или он.
Да или нет, да или нет, да нет да нет…
Выбор в конечном счете есть всегда, но выбрать правильно можно только в одном случае: прислушавшись к своему сердцу. В конце концов Данло свернул на безымянную ледянку около улицы Анималистов и нашел то, что искал. Он мчался вперед с быстротой и уверенностью падающего с неба сокола. Ледянка, как могло показаться, упиралась в тупик, но на самом деле между двумя старыми печатными мастерскими шел узкий проход, тот самый, который мысленно видел Данло. Данло вошел в него и скоро оказался в темном туннеле под снежной насыпью, отделяющей Колокол от Алмазного Ряда. Все в точности совпадало с его видением, и вот в конце туннеля сверкнул благословенный свет. Еще немного скрипящих шагов по льду, перемежаемых глотками холодного воздуха, и Данло вышел на волю, в залитый мочой переулок между двумя борделями. Переулок вывел его на Клубничную улицу, где пахло дорогими духами и джамбулом, а лед был красен, как застывшая кровь.
Свет, свет, свет, свет.
Улицы здесь были шире, чем в Колоколе, дома новее и наряднее. Данло вспомнил, что Алмазный Ряд получил свое название не только из-за торговли огневитами и ярконскими синезвездниками, но и потому, что дома тут зачастую облицовывались белым кварцем с Аттакеля. Кристаллы переливались на солнце, и весь квартал от Клубничной до улицы Печатников сверкал, как бриллиант. Данло, остановившись, чтобы отдышаться немного, залюбовался его красотой. Потом он вспомнил, что улица Печатников, если ехать по ней в сторону Меррипенского сквера, соединяется с улицей Контрабандистов, а там, в этом подозрительном месте, находится, по словам Тобиаса, конспиративная квартира Бенджамина Гура.
Мертвые, мертвые, мертвые — ми алашария ля шанти.
Удостоверившись, что он оторвался от воина-поэта, Данло покатил по Клубничной, мимо сутенеров, червячников и одетых в шелк проституток. Отражаемый кварцем свет ранил ему глаза, но это было . ничто по сравнению с огнем, полыхающим в сердце. Вопреки всему этому Данло по-прежнему бежал быстро, как только мог. Он должен был сдержать свои обещания, и лица всех, кто погиб в этот день, мучили его куда больше, чем физическая боль или яд.
Глава 12 ПЕРВЫЙ СТОЛП РИНГИЗМА
Узнайте, божки мои, три великие истины, согласно которым мы все должны жить. Первая: Мэллори Рингесс стал истинным богом и когда-нибудь вернется в Невернес. Вторая: любой человек способен стать богом, как и он. Третья: богом стать возможно, лишь вспоминая Старшую Эдду и следуя Путем Рингесса. Вот три столпа, подпирающие небеса, куда мы все должны стремиться.
Из “Откровений” лорда Ханумана ли ТошаГура стоял в одном ряду с обсидиановыми монастырскими общежитиями и хосписами. Здесь, у Меррипенского сквера, улица Контрабандистов выпрямлялась и приобретала куда менее подозрительный вид, чем в полумиле к востоку. Немного западнее она вливалась в Серпантин у Зимнего катка и пересекала самую безопасную, но и скучную часть города — Ашторетник с его ровными, обсаженными деревьями улицами. Место, где жил Бенджамин, тоже было достаточно безопасным — или считалось таковым до войны. Теперь, когда кольценосцы практически заняли все окрестные здания, ни один человек в золотой одежде не мог войти в эту часть Квартала Пришельцев без страха быть убитым как террорист или шпион. Даже червячники и проститутки старались не заходить сюда. Подъехав к черному дому между двумя кафе, Данло почувствовал, что улица и соседние дома наблюдают за ним, наблюдают и ждут.
Бум, бум, бум.
Данло постучал в дверь кулаком. Возвещать таким образом о себе было не слишком вежливо, но костяшки у него ныли от холода, и более деликатный стук причинил бы ему нестерпимую боль. У Данло болело все: руки, сердце, а больше всего горящая, пульсирующая голова.
Дверь открылась, и человек из холла спросил:
— Кто вы? Снимите маску, чтобы мы видели ваше лицо.
Данло разглядел внутри мужчину с рябым лицом, который целил в него из лазера. Вокруг него стояли еще трое, тоже с лазерами.
— Я Данло ви Соли Рингесс, — сказал он, снимая маску, — а вы кто?
Услышав его имя, человек сразу сменил гнев на милость и назвался: — Лаис Мартель. Что с Тобиасом Уритом и остальными?
Данло, стоя на ветру, задувающем в открытую дверь, наскоро рассказал о том, что произошло у ресторана в Колоколе, и добавил:
— Воин-поэт некоторое время гнался за мной, но я, кажется, от него избавился.
— Кажется?
— Я… почти уверен.
— Что ж, входите, Данло ви Соли Рингесс. Не годится стоять в дверях, если воин-поэт рыщет поблизости.
Лаис Мартель ввел Данло в дом и захлопнул дверь.
— Это здесь, — сказал он, когда они, пройдя по коридору, остановились перед другой дверью из черного осколочника. — Бенджамин ждет вас. Мы все уже начали беспокоиться, почему вас так долго нет.
Мартель постучался, и им открыл еще один кольценосец, нервный и довольно деликатный человек, которого Данло помнил как Карима с Прозрачной. Он проводил гостя в каминную, где Данло тут же стал раскланиваться с Поппи Паншин, Лизой Мей Хуа, Масалиной и Зенобией Алимеда — они все сидели на стульях или кушетках и, по-видимому, с нетерпением ожидали его прихода. В центре комнаты расхаживал по фравашийскому ковру Бенджамин Гур, один из основателей Калии и будущий ее военачальник.
— Данло! — воскликнул он, бросаясь к пришельцу и обнимая его. — Рад видеть тебя целым и невредимым, но где все остальные?
Данло повторил свой рассказ. Слушая его, Бенджамин, со своим крючковатым носом и зелеными тигриными глазами, так рассвирепел, что страшно было смотреть. Гнев назревал в нем и наконец выплеснулся наружу, как гной.
— Видишь? — вскричал он, обращаясь к невысокому человеку, сидящему на мягкой плюшевой кушетке. — Единственный способ сдержать Ханумана с его божками и воинами-поэтами — это убивать их, пока они не убили нас!
— Здравствуй, Данло. — Маленький человек встал, учтиво поклонился и тоже подошел обнять гостя. — Мой брат, как обычно, не в состоянии сдержать собственный нрав.
— Здравствуй, Джонатан. — Данло, согретый воспоминаниями, поклонился в ответ. — Рад тебя видеть. Рад… что тебя тоже пригласили сюда.
— С сожалением должен сказать, что меня не приглашали, — взглянув на брата, сказал Джонатан. — Я пришел сам, как только услышал, что Бенджамин устроил тебе побег.
— Я непременно пригласил бы тебя, — возразил Бенджамин, сверля его глазами, — когда Данло прибыл бы сюда благополучно и я поговорил бы с ним.
Сказав это, он предложил Данло один из мягких стульев, но Данло предпочел сесть на ковер. Джонатан последовал его примеру, и Бенджамин с неохотой сделал то же самое. Поппи Паншин, крупная женщина, вынашивавшая на Ярконе младенцев для генетических экспериментов аристократии, встала с кушетки и уселась поближе к Данло. За ней последовали Лиза Мей Хуа, Масалина и Зенобия Алимеда. Эти посиделки на фравашийском ковре напоминали те счастливые времена, когда они передавали по кругу чашу с каллой. Даже непримиримый Бенджамин вспомнил об этом и улыбнулся, купаясь в глубокой синеве глаз Данло.
— Хочешь чаю? — спросил он. — Ты ведь, наверно, замерз.
— Хорошо бы, — ответил Данло.
Услышав это, Карим с Прозрачной покинул свой пост у двери и подошел к инкрустированному столику, где стоял чайный сервиз. Данло видел вокруг себя много красивых вещей: ярконские гобелены, кевалиновые фигурки с Прозрачной, миррийские вазы и световые шары, живописные полотна Золотого Века и многое другое. Бенджамин объяснил, что раньше эта квартира, как и весь дом, принадлежала умершему ныне червячнику, который задолжал Каллии. Бенджамин сказал, что не успел еще распродать весь этот хлам и купить на вырученные деньги камни для лазеров, алмазную сталь, налловую броню, яды и прочее военное снаряжение.
— Угощайтесь, — сказал Бенджамин, когда Карим поставил сервиз на середину ковра. Он разлил золотистый чай по маленьким голубым чашечкам и стал передавать их по кругу.
И Данло, и все остальные хорошо понимали символику этой церемонии. Все они помнили прохладный, чуть солоноватый вкус каллы и нарастающий прилив наследственной памяти, известной как Старшая Эдда. Но чай был только чаем, горячим, немного вяжущим и слишком сладким.
— Думаю, что Тобиаса, Канту и всех остальных можно считать убитыми, — сказал Бенджамин. — Это большая потеря для нас, Данло, но зато ты здесь, с нами.
— Да… мне очень жаль.
— Нам всем жаль, — сказал Джонатан, глядя на брата. — И нашему горю не будет конца, пока ты не прекратишь это безумие.
Бенджамин нахмурился, и Данло, как никогда, поразился несходству между двумя братьями. Вот Бенджамин — в его зеленых глазах пылает ярость на несправедливое устройство жизни, а в четырех футах от него сидит Джонатан с глазами карими и теплыми, как растопленный шоколад. В нем чувствуется озорство молодого повесы, который больше склонен играть в серьезного деятеля, чем воспринимать вещи по-настоящему серьезно. Но внешность обманчива: в действительности он человек очень целеустремленный. До войны он был довольно известным мастер-холистом — одним из самых молодых мастеров Академии — и до сих пор носит кобальтовую форму своей профессии. Данло он понравился с первой же их встречи в доме Бардо, и Бенджамин тоже. В обоих братьях вопреки их кажущейся несхожести он находил одну общую черту: огромную любовь к жизни. У них обоих пламенные сердца, и оба горят желанием выявить внутреннюю правду и красоту в каждом, кто готов пить каллу вместе с ними.
— Не время сейчас возобновлять наш старый спор, — сказал Бенджамин Джонатану.
— Самое время, по-моему, — спокойно возразил тот. — Вот сидит Данло, которого мы так хотели видеть своим вождем в борьбе против Ханумана.
Лицо Бенджамина потемнело от гнева.
— Данло сидит здесь потому, что мой план оправдал себя и много славных людей отдали свою жизнь, осуществляя его. Если б мы полагались только на твое желание и на твои методы, Данло до сих пор гнил бы в тюрьме.
— Твои методы только навлекли на нас гнев Ханумана. И всему Невернесу грозит голод из-за того, что сотворил твой человек.
— Игашо действовал без моего ведома. Неужели ты думаешь, что я позволил бы ему смастерить водородную бомбу, а уж тем более взорвать ее?
— Не знаю, что и думать теперь.
— Джонатан!
Глаза Джонатана стали еще мягче, и какой-то миг казалось, что он вот-вот заплачет — заплачет над тем, чем стал его брат, и над тем, чем тот никогда уже не станет.
— Даже если Игашо действовал не по твоему приказу, — сказал он, — сделал он это, чтобы тебе угодить. Он, наверно, думал, что ядерный взрыв нисколько не противоречит тому безумию, которое ты развел в городе, и упрекать его за это нельзя.
— Это Игашо сумасшедший, а не я. Он сам сделал свой выбор, а мы все должны сделать свой.
— Ты свой уже сделал.
— Мой выбор состоит в том, чтобы открыть истину Старшей Эдды всему человечеству. Что в этом плохого?
— Но ради истины некоторую часть человечества надо истребить — так по-твоему?
— Да, я готов истребить таких, как Хануман ли Тош, — всех, кто не допускает нас к Единой Памяти.
— Разве способны одни люди не допускать к ней других? — Джонатан улыбнулся Зенобии Алимеда и Лизе Мей Хуа, пришедшим сюда вместе с ним, и снова перевел взгляд на брата. — Ведь Хануман не смог тебе помешать проводить наши церемонии?
— Нет, но он…
— Вот именно — нет, — прервал его Джонатан. — Только твое стремление воспрепятствовать ему насильственным образом мешает тебе пить с нами каллу.
Бенджамин, в свою очередь, переглянулся с Поппи Паншин и Масалиной, который на Сильваллане прославился как мозгопевец, и с Каримом, терпеливо несущим стражу у двери. Раньше они почти каждый вечер собирались на квартире у Джонатана в Старом Городе, где пили каллу с Зенобией, Лизой Мей и другими. Но когда власть Ханумана стала усиливаться, они во главе с Бенджамином удалились в эту заброшенную часть Квартала Пришельцев, где на улицах нередко находили трупы.
— Мы поклялись воздерживаться от каллы, пока каждый житель Невернеса не получит свободного доступа к ней, — сказал Бенджамин.
— Но пока этого не случилось, — с грустной улыбкой возразил Джонатан, — разве не должны мы быть маяками для тех, кто ни разу не пробовал каллы? Разве не должны мы быть как алмазные окна в Эдду, через которые люди смогут увидеть собственные возможности?
— Маяки можно погасить, а окна разбить, — ответил Бенджамин.
— Но один огонек способен зажечь десять других, а от каждого из десяти загорится еще десять.
— Ты мечтатель, Джонатан, а мечтатели всегда гибнут первыми.
— Я не боюсь смерти.
Зеленые глаза Бенджамина утратили всю свою ярость — могло показаться, что и он сейчас расплачется.
— Я никогда не сомневался в твоем мужестве, — сказал он, — я сомневаюсь только в правильности выбранного тобой пути.
— А я никогда не сомневался в твоей доброте — сомневаюсь только, способен ли ты найти ее в себе.
День шел своим чередом, чашки наполнялись чаем, а двое братьев вели свой старый спор. Данло узнал о том, как Каллия раскололась надвое, и о том, как каждая половина пыталась перетянуть другую на свою сторону. Узнал он и другие вещи. В это самое утро, по словам Бенджамина, Игашо Хадда нашли мертвым в одном из переулков Восточно-Западной улицы. Перстень его был открыт, и губы посинели от матрикаса: очевидно, он покончил с собой, раскаиваясь в том, что взорвал пищевые фабрики и убил столько невинных людей.
Бенджамин дал понять, что смерть Хадда в какой-то мере искупила его злодеяние, но Джонатан нашел этот аргумент абсурдным. Сам он сообщил, что пять транспортов с грузом ярконской пшеницы пропали где-то в каналах из-за боевых действий. Все ждут, что вскоре состоится еще одно сражение, сказал Джонатан. Следующие транспорты могут прийти не раньше чем через десять дней — а это значит, что горожане почувствуют на себе первые признаки голода.
— Что-то ты скажешь о правильности своего пути, когда услышишь плач голодных детей? — спросил Джонатан своего брата.
Бенджамин оставил этот вопрос без ответа — да и вряд ли кто-то мог найти на него ответ. Поболтав в чашке остывший чай, он сказал Данло:
— Мы так спорим с тех самых пор, как говорить научились. Но Джонатан старше меня и умнее, поэтому побеждает всегда он.
Данло, который все это время молчал и слушал, ответил с невеселой улыбкой:
— Не думаю, что кто-то из вас победил.
Глаза Бенджамина сердито сверкнули, и чашка дрогнула в его руке, пролив чай на ковер покойного червячника.
— Проклятый Джонатан! — сказал он. — Не надо было вообще пускать тебя сюда. Ты столько соплей тут напустил, что у Данло пропало всякое желание сопротивляться Хануману.
Теперь и Данло рассердился тоже. Если изумрудные глаза Бенджамина напоминали тигриные, у Данло они горели, как дикие синие звезды.
— Что ты знаешь о желаниях? — спросил он, потирая старый шрам на лбу. Боль, бушующая позади глаз, на миг унялась, и Данло добавил тихо, почти шепотом: — И что ты знаешь о сострадании?
Бенджамин опустил глаза на пятно от чая на ковре и сказал:
— Я не хотел тебя обижать, однако вижу: на то, что ты возглавишь нас в борьбе с Хануманом, надежды мало.
— Я готов вас возглавить, — ответил Данло, и Бенджамин с надеждой вскинул на него глаза. — Я готов, но лишь в том случае, если мы будем бороться путем сатьяграхи.
— Это слово мне незнакомо.
— “Сатьяграха” значит “сила души”. — Данло объяснил, что фраваши, создавая свою мокшу, взяли это слово из древнего санскрита. — Должен быть способ воспротивиться Хануману без насилия, одной только силой наших душ.
— Какое же это сопротивление? Это всего лишь продолжение Джонатановой мечты.
Данло закрыл глаза, вспоминая прекрасный и ужасный свет внутри света.
— Не только. Это гораздо больше.
— Значит, эта твоя душевная сила помешает воинам-поэтам убивать моих людей?
— Нет, — признал Данло. — Но ты не представляешь себе, какой огромной может быть эта сила.
— Я освободил тебя не для того, чтобы это слушать.
— Ты полагал, что я так просто переступлю через свой обет ахимсы?
— А ты полагал, что просто придешь сюда и убедишь нас сложить оружие? — осведомился Бенджамин, кивнув на вооруженного лазером Карима.
— Я надеялся на это, — с грустной улыбкой ответил Данло.
— Из-за твоей ахимсы умер по меньшей мере один из моих людей. Ты сам сказал, что перехватил руку Макана и тем позволил воину-поэту метнуть в него свой дротик.
— Я… не хотел этого. Я просто пытался помешать ему причинить вред воину-поэту. Притом его пули могли попасть в невинных людей.
— Что ж, ты преуспел в этом, верно? Макан теперь мертв.
Данло взглянул на свою руку, остановившую пистолет Макана. Холод металла все еще обжигал его пальцы и бежал по руке и шее в мозг, как электрический ток.
— Мне жаль, что он умер, — проговорил Данло.
— Ну, убил бы Макан воина-поэта — что из того? — продолжал Бенджамин. — Зато Тобиас и другие были бы живы.
— Я сожалею, — не поднимая глаз, сказал Данло.
— Ты мог бы спасти пять жизней, пожертвовав одной, — понятно это тебе?
— Разве я купец, чтобы заключать такие сделки? — ответил на это Данло, взглянув Бенджамину в глаза.
— Нет. Но ты человек, а людям порой приходится делать трудный выбор.
— Я свой выбор уже сделал. Никогда не убивать, никогда…
— Ты мужчина, который мог бы возглавить других мужчин. И женщин, — быстро добавил Бенджамин, взглянув на Поппи, Зенобию и Лизу Мей. — Ты представляешь хотя бы, сколько людей готовы пойти за тобой?
— Пойти за мной… чтобы убивать?
— Разве ты сам не готов убить немногих, чтобы многие могли жить?
— Нет..
— Если бы судьба предоставила тебе такой выбор, разве ты не убил бы Ханумана, чтобы избавить от голода сотню детей?
— Хануман был самым близким моим другом.
— Только один человек, Данло! Ты не готов убить одного человека, чтобы помешать десяти тысячам других погибнуть на этой дурацкой войне?
Данло закрыл глаза, считая удары своего сердца.
Бум, бум, бум, бум.
— Один человек против десяти тысяч, Данло. Безумный и злой человек.
Бум, бум. Стучит молот судьбы.
Данло открыл глаза и посмотрел на Бенджамина.
— Мне жаль, но я не признаю таких расчетов, когда речь идет о чьей-то жизни. Либо убивать нельзя, либо можно. Я верю, что нельзя.
— Никогда?
— Никогда, — сказал Данло, но тут его глаза затуманились сомнением: он увидел у себя на руках маленького мальчика с лицом, искаженным от боли и голода. Мальчик был очень мужественный, очень гордый, но жизнь угасала в нем, и Данло видел, как меркнет свет в его глазах — глубоких и синих, как вечернее небо. — Нет, — прошептал Данло, — нет, нет.
Бенджамин, уловив этот момент его слабости, положил руку ему на плечо и спросил:
— Так ты согласен возглавить нас?
— Нет. — Данло все еще смотрел в эти синие глаза, глядящие на него из глубин памяти и времени. — Сила души, ее огонь — должен быть способ.
Бенджамин, неверно поняв его, метнулся к одному из столов, инкрустированных лазурью и золотом, выдвинул его ящик и достал лазер.
— Вот как проявляется сила души в мире, населенном такими, как Хануман, — заявил он, протягивая оружие Данло.
— Нет, — снова пробормотал тот.
Бенджамин опустился на колени, держа лазер в протянутых к Данло руках.
— Возьми его, Данло.
Поппи, Карим, Масалина — все смотрели на Данло с надеждой, и в их молчании тоже слышалось: возьми. Джонатан и Зенобия затаили дыхание. Лиза Мей, всей душой преданная миролюбивому Джонатану, тоже, видимо, втайне желала, чтобы Данло взял этот лазер, и объединил заново две половинки Каллии, и победил Ханумана.
— Пожалуйста, Данло, — сказал Бенджамин, протягивая ему блестящий ствол.
— Пожалуйста, — подхватили Поппи, Масалина и Карим.
Пожалуйста, папа.
Голоса звучали внутри и снаружи, из далекого прошлого и неосуществленных еще мгновений. Тысячи пар глаз смотрели на Данло — карие глаза Джонатана, и зеленые Бенджамина, и много, много других. Но только одни не давали ему покоя — их тайный свет, их синева внутри синевы; смотреть в эту ужасную и прекрасную синеву было до того мучительно, что Данло хотелось вырвать собственные глаза.
Пожалуйста, папа.
Целую вечность Данло смотрел на блестящий в предвечернем свете лазер и наконец сказал:
— Не могу.
— Твой отец взял бы лазер, — заметил Бенджамин. — Если он когда-нибудь вернется — а я верю, что так будет, — он сделает то, что необходимо.
— Я… не мой отец.
— Это точно. — Бенджамин вздохнул и вернулся на свое место в кругу.
Пожалуйста, отец, безмолвно взмолился Данло. Пожалуйста, вернись и положи конец безумию, которое ты же и начал.
— Хануман, как ни странно, тоже проповедует, что твой отец вернется, — сказал Бенджамин, как будто прочел его мысли. — Но если это случится, Хануман первый пожалеет, что он вернулся.
— Напрасно ты думаешь, что Мэллори Рингесс применит к Хануману насилие, — сказал Джонатан.
— Мэллори Рингесс умел применять силу, когда надо, разве нет? Он не был непротивленцем и перед убийством не останавливался.
— Сострадание ему тоже было свойственно, — сказал Джонатан, — Если бы он вернулся, то уж как-нибудь разобрался бы с Хануманом без смертоубийства.
— Он стал бы алмазным окном, через которое Хануман увидел бы свои глубочайшие возможности, да?
— Почему бы и нет?
— Маяком бы стал, да? — не унимался Бенджамин. — Ты правда думаешь, что Хануман, только лишь взглянув на сияющий лик Мэллори Рингесса, сразу устыдится и уничтожит свою ложную религию?
Джонатан, взглянув на Зенобию и Лизу Мей в поисках поддержки, сказал:
— Это не так уж важно, как поступит Хануман. Мэллори Рингесс, вернувшись, скажет людям правду о себе, и религия, именуемая рингизмом, перестанет существовать.
— Ты действительно в это веришь?
— По крайней мере она перестанет существовать в теперешнем своем виде. Мэллори Рингессу стоит только войти в собор и научить божков вспоминать Старшую Эдду. Он может устроить калла-церемонию для всего города — представляешь, как миллионы человек на всех глиссадах и ледянках передают друг другу чаши с каллой?
— Да, это красиво. — Данло впервые за день увидел, как Бенджамин улыбается. — Очень красиво.
— Хорошо бы он правда вернулся, — тоже заулыбавшись, сказал Джонатан. — Я никогда его не видел, и мне очень хотелось бы знать, действительно ли он стал богом.
— Мне тоже. Но он не вернется — если бы он мог, то давно бы это сделал.
— Мы с тобой согласны хотя бы в том, что надеяться на это нечего.
Бенджамин вздохнул, глядя на Данло.
— Эта твоя сатьяграха, сила души, — красивая, конечно, идея. Хотел бы я придумать, как использовать ее против Ханумана, да не могу.
Данло достал из кармана свою флейту и выдул из нее единственную тихую ноту. И пока он дышал в длинный бамбуковый ствол, глядя на Бенджамина, одна мысль вдруг распустилась в нем, как огнецвет на солнце.
— Хороший ты человек, Данло, — снова вздохнул Бенджамин, — но ты не твой отец. Боюсь, тебе придется выбирать между путем Джонатана и моим.
Я — не мой отец.
Настала очередь Джонатана убеждать Данло в мудрости своего пути. Он сказал, что в Старом Городе, у Огненного катка, для Данло приготовлена квартира. Он, Джонатан, проведет его туда тайно, и Данло будет собирать там людей, чтобы заниматься с ними вспоминанием Старшей Эдды. По ночам Данло сможет выходить на улицу и посещать каллистов по всему городу. Он станет для них светочем, алмазным окном, живым воплощением принципа сатьяграхи.
— Ты, конечно, не твой отец, — сказал Джонатан, — но ты Данло ви Соли Рингесс, и все знают, что Единая Память открылась тебе. Со временем, если ты приведешь к такому же воспоминанию других, многое может измениться.
Я — не мой отец.
Бенджамин наблюдал за Данло, явно опасаясь, что он одобрит этот план и свяжет свою судьбу с Джонатаном. Но Данло удивил его, сказав:
— Извини, Джонатан. Мне правда жаль.
— Так ты не хочешь стать нашим вождем?
На Джонатана, чьи мечты и надежды внезапно рухнули, тяжело было смотреть. У Данло недоставало духу сказать ему, что его план слишком пассивен и ни в коей мере не способен выразить прекрасную и подлинно ужасную силу души.
— Я не тот вождь, который вам нужен. Не то сейчас время, чтобы вести людей к Единой Памяти.
— Почему не то?
— Потому что Хануман не даст нам это сделать. — Данло закрыл глаза, вспоминая ужасы войны, развязанной ивиомилами против своих же единоверцев на Таннахилле. Мечты — сокровище более драгоценное, чем алмазы и огневиты, но у людей, которых убивают по чьему-то приказу, не остается времени осуществить их. — Мне страшно подумать, что он предпримет теперь, когда Бенджамин устроил мне такой громкий побег.
— А сам ты что намерен делать?
Я — не мой отец.
— Оказывать Хануману сопротивление всей силой своей души.
— Но каким образом? Ведь ты отвергаешь оба пути — и Бенджамина, и мой?
— У меня свой путь.
— Какой?
— Я стану зеркалом, которое покажет Ханумана в его истинном виде.
— Не понимаю тебя.
— Я стану светом, который покажет божкам шайду созданной ими религии.
— Но как ты это сделаешь, Данло?
— Я дам им больше алмазов, чем они смогут удержать. Дам огневиты, слишком яркие, чтобы смотреть на них.
Бенджамин тихо засмеялся, и его глаза загорелись изумрудным огнем.
— Я тебя знаю, Данло. У тебя есть план.
— Верно, есть.
— Каков же он?
— Этого я не могу сказать.
— Можешь и должен.
Данло обвел взглядом Поппи Паншин, Лизу Мей, толстощекого испуганного Масалину и сказал:
— Любого из вас могут схватить и допросить под ножом воина-поэта.
— Мы знаем риск, на который идем, — сказал Бенджамин.
Новый разряд боли пронзил голову Данло.
— Я не дам Хануману повода пытать вас с помощью экканы, — сказал он.
— Для того мы и носим наши кольца. — Бенджамин сжал кулак и показал Данло наполненный матрикасом перстень. Карим, Поппи и Масалина проделали то же самое.
— Мы скорее умрем, чем выдадим тебя и твой план.
— Я знаю, — грустно улыбнулся Данло. — Но кольца у вас могут отнять до того, как вы ими воспользуетесь.
— Есть и другие способы, чтобы умереть.
— Прошу прощения, но я никому не позволю умирать за меня.
Тишина накрыла комнату, как снеговое облако мораша.
Джонатан и Бенджамин переглядывались с остальными, но никто так и не нашел, что сказать.
— Ты, во всяком случае, останешься у нас, — сказал наконец Бенджамин. — Перебираться к Джонатану в Старый Город слишком опасно.
— Здесь я не останусь и туда тоже не пойду.
— Но тебе больше некуда деваться.
— У меня есть весь город… весь мир.
— Да, только безопасного места тебе там не найти. — Бенджамин взглянул на лазер, который по-прежнему держал в руке, и вздохнул. — Я должен кое-что сказать тебе, Данло. То, что мы предприняли для твоего побега, прошло не совсем так, как мы планировали.
— Ты имеешь в виду не только гибель Тобиаса и остальных? — спросил Данло..
— Нет, не только. — Бенджамин поднес к губам чашку, но в ней уже ничего не осталось. — Бактерии-разрушители, растворившие стену твоей камеры, были запрограммированы не совсем точно. Я боюсь, как бы они и других камер не разрушили.
Джонатан уставился на брата в ужасе, как будто ему сообщили, что бактерии вот-вот сожрут всю планету. Однако новость, которую объявил им Бенджамин, оказалась не столь катастрофической. Он вздохнул, глотнул, откашлялся и сказал:
— Я боюсь, что Малаклипс Красное Кольцо тоже вышел на свободу. Никто не знает, куда он делся, но он будет охотиться за тобой, Данло.
Данло долго сидел, тихо дыша в мундштук флейты, и наконец сказал: — Да.
— Вот видишь? Тебе опасно уходить отсюда.
— И все-таки я должен уйти.
Бенджамин посмотрел на Карима, стоящего с лазером у двери. — Не уверен, что отпущу тебя.
Момент настал. Данло выдул из флейты ноту, высокую и странную, как зов снежной совы. Он взглянул на Бенджамина, и тот чуть не ахнул, встретив свет его глаз. Данло, куда более дикий и свирепый, чем Бенджамин, на один миг открыл ему подлинную силу своей души. Потом отложил флейту и спросил:
— Ты правда хочешь стать моим тюремщиком, Бенджамин?
Тот молчал, пораженный тем, что только что увидел на лице Данло.
— Много людей погибло, помогая мне бежать. Не делай их жертву напрасной.
Бенджамин обрел голос и произнес, не поднимая глаз:
— Хорошо. Я не стану тебя задерживать.
Данло склонил голову, встал и спрятал флейту в карман.
— Ты хочешь уйти прямо сейчас? — спросил Джонатан.
— Да.
— Куда же ты пойдешь?
— Не могу сказать.
— У тебя нет жилья, нет денег, нет друзей — по крайней мере таких, за которыми не следили бы шпионы Ханумана.
Данло отыскал на сушилке свою маску и очки, надел, с разрешения Карима, запасную шубу и повернулся лицом к присутствующим.
— Хочу поблагодарить вас всех за вашу заботу обо мне.
— Но как нам найти тебя, если ты нам понадобишься? — спросил Бенджамин. — Да и мы тоже можем понадобиться тебе.
Данло пораздумал немного.
— Время от времени я буду проезжать по этой улице на коньках — каждый раз в другой маске и шубе. Если захотите поговорить со мной, поставьте на фасадное окно голубую вазу, и я приду.
— Хорошо, — сказал Бенджамин, и все поднялись, чтобы обнять Данло на прощание. — Оставайся в Квартале Пришельцев, — посоветовал Бенджамин. — Здесь тоже опасно, но если сунешься в Старый Город, тебя наверняка схватят.
— Прощай, Бенджамин. — Попрощавшись и раскланявшись со всеми, Данло вышел в холл. Кольценосцы открыли дверь подъезда и выпустили его на улицу.
Я — не мой отец, подумал он.
Катя в глубину Квартала Пришельцев, он улыбнулся под темной кожаной маской. В этих узких улочках никто не увидит его лица и не узнает, кто он.
Глава 13 НАДЕЖДА
Надежда у нас одна: следовать путем Мэллори Рингесса и поклоняться чуду его преображения, неся его образ в себе.
Хануман ли Тош, Светоч Пути РингессаОколо тринадцати лет назад Данло пришел в Невернес, преодолев шестьсот миль пути по морскому льду. Изголодавшийся, обмороженный, одинокий, он выбрался на стылый песок Северного Берега; и фраваши по имени Старый Отец взял его к себе в дом. Теперь, удаляясь от квартиры Бенджамина Гура, Данло вдруг сообразил, что находится совсем близко от Фравашийской Деревни, где пушистый Старый Отец, вероятно, до сих пор преподает своим ученикам мистическую науку ментарности и устраивает им турниры на языке мокша.
Путь Данло лежал вдоль Меррипенского сквера и пересекал Восточно-Западную глиссаду. Потом ему предстояло миновать тот угол Квартала Пришельцев, где старые дома напоминали о влиянии, которые фраваши имели в Невернесе последние три тысячи лет. Данло очень хотелось зайти в одно из этих приземистых одноэтажных строений и засвидетельствовать свое почтение Старому Отцу. Но за домом наверняка следили шпионы Ханумана, и Данло повернул на запад, мимо многоквартирных домов и хосписов из белого камня.
Он мог бы найти приют здесь, где обитали аутисты, хариджаны, хибакуся и прочие городские парии. Мог бы поселиться в одном из общежитий, где места есть всегда, и каждый день питаться в общей столовой, сидя перед газовым камином. Но там бы ему пришлось ходить в маске, чтобы его не узнали, а это привлекло бы к нему нежелательное внимание. Поэтому Данло свернул на красную дорожку, ведущую в ту часть города, где жителей не было вовсе.
Это была Городская Пуща, огромный участок земли, не тронутой рукой человека, с холмами, ручьями и рощами йау.
Основатели Невернеса, желая включить в черту города кусочек живой природы, оставили этот лес в первозданном состоянии. В течение трех тысяч лет город разрастался, захватывая остров, и к нему постоянно прибавлялись новые районы — Ашторетник, Даргиннийская и Элидийская деревни и так далее. Рост населения вел к строительству многоэтажных домов, и многие говорили, что Городскую Пущу следует вырубить. Но Хранитель Времени никогда не допустил бы подобного безобразия; все, на что он согласился, — это проложить через лес несколько тропинок. Желающие насладиться природой могут преодолевать сугробы и овраги на лыжах, сказал он, а боязливые пусть прогуливаются в Меррипенском и Галливаровом скверах, среди цветущих клумб и ухоженных деревьев. Поэтому Городская Пуща, особенно в зимнюю пору, служила приютом птицам и любителям уединения: здесь можно было блуждать целыми днями, не встретив ни одной человеческой души.
Это место, удаленное от любопытных глаз города, как нельзя лучше отвечало желаниям Данло. В одном из бесплатных распределителей около Восточно-Западной улицы он взял себе пару лыж, печку, лампу, спальник, пилу, нож и прочее снаряжение, необходимое для зимовки в лесу. Продуктов, однако, он там не нашел. Удивительно, как быстро исчезла из распределителей еда — зато шубы, камелайки, коньки, противоснежные очки, сапоги с обогревом, антиморозные мази и прочие зимние вещи по-прежнему лежали кучами. Данло понял, что слабость его плана заключается в необходимости хотя бы дважды в день выбираться из Пущи, чтобы поесть в бесплатном ресторане — если, конечно, транспорты все-таки доставят зерно с Летнего Мира и Ярконы и городские власти не закроют рестораны.
В Пущу Данло проник по зеленой глиссаде, идущей через весь город от Южного Берега до Хосгартена. Лед здесь поддерживали в хорошем состоянии, и бежать было легко. По сторонам высились серовато-зеленые йау и еще более высокие осколочники, напоминающие Данло его родину, остров Квейткель. Весь этот лес походил на дикие чащи далеких западных островов: стволы поросли перистым мхом и фейником, на ветвях попадались снежные яблоки, кусты анда пламенели красно-рыжими огнецветами. На пересечении глиссады с дорожкой, бегущей через лес с востока на запад, Данло увидел снежную сосну и костяное дерево — они на его родине не росли, но все равно казались знакомыми.
Данло хорошо помнил названия всех растений и тех немногих животных, что обитали среди них. Здесь жили лилийи, фритилларии и две разновидности гагар, известные ему как адити и лиолия. Жили чуро, гладыш, и аулии, снежные черви. Порой на одно из замерзших озер Пущи опускалась стая китикеша, но какой-нибудь неуклюжий лыжник, ломясь через кусты, быстро вспугивал их. Почти все животные покрупнее за три тысячи лет покинули лесок — и волки, и медведи, и мамонты. Исчезли, по всей видимости, и снежные совы. Данло каждый раз, входя в это царство природы, надеялся услышать крик редкой белой птицы, вмещающей в себя половину его души, но слышал только ветер в деревьях, шорох поземки да постукиванье птицы тикитик.
Углубившись в Пущу примерно на полмили, Данло сошел с дорожки, снял коньки и надел лыжи. Он шел на север, к запомнившейся ему гряде холмов в самом сердце леса. Он помнил здесь, можно сказать, каждое дерево и каждый камень: живя в доме Старого Отца, он бывал в Пуще чуть ли не каждый день. Он помнил запах красных ягод йау и благоухание огнецветов; помнил, как хорошо просто скользить на лыжах по свежему снегу сорешу. Очень скоро Данло нашел место, которое искал: гранитный кряжик, идущий с юго-запада на северо-восток. Он наделся, что холмы заслонят его от западного ветра, убийственного ветра глубокой зимы, который зовется Дыханием Змея. На южной стороне кряжа имелось еще одно укрытие — рощица снежных сосен, переплетенная зарослями костяника. Эта растительная стена должна была прикрыть Данло от испытующих взоров всякого, кому случится сюда забрести.
Там, на узкой полянке между камнями и сосновой рощей, Данло стал строить себе дом. Из рюкзака, взятого в том же магазине, он достал длинный стальной нож. После нижа Ярослава Бульбы, память о котором оставалась по-прежнему яркой, не очень приятно было брать в руки это орудие. Данло подставил лезвие под лучи предзакатного солнца. Странно, что этой блестящей штуковиной можно вырезать человеку сердце с той же легкостью, как резать кирпичи из снега. Однако нож — это только нож, и сегодня он послужит Данло для второй, мирной, цели.
Ярдах в ста от места постройки у скалы намело пласт кариши — плотного, затвердевшего снега. Из него Данло стал выкраивать блоки с мужской торс величиной. Солнцу недолго оставалось пребывать на синем небе — скоро станет темно и очень холодно. Блоки Данло грузил на свою шубу и подтаскивал к стройке, к утоптанному лыжами кругу. Проделав этот короткий рейс много раз, он стал обстругивать кирпичи ножом и выкладывать из них круглое основание. Стоя с внешней стороны будущего дома, он положил второй ряд и третий. Собственная сноровка удивляла его — прошло добрых полжизни с тех пор, как он в последний раз строил снежную хижину. Видимо, руки лучше глаз и ума помнили, как нужно вырезывать снежные кирпичи и складывать из них белый купол. Вскоре он завершил последний ряд и обстругал последний блок — ключевой, замыкающий крышу.
Кладку он закончил на закате, но не стал медлить, чтобы полюбоваться делом своих рук. Предстояло еще построить входной туннель, служащий защитой от ветра. Им Данло занимался при свете поставленного на валун радужного шара.
В лесу стало так темно, что он едва различал деревья на звездном небе, и мороз сделался крепким, почти что синим; такой холод замораживает в человеке жизнь и отнимает у него дыхание. Данло срочно требовалось укрыться в своем новом доме.
Между тем поднялся ветер — он гнал по снегу поземку и задувал в щели между кирпичами.
Данло, весь дрожа, с онемевшими пальцами, двинулся вокруг хижины, законопачивая трещины снегом. Закончив наконец этот тяжкий труд, он поднял лицо к звездам.
— Ви Эльдрия пеласу ми шамли се халла, — помолился он, прося предков благословить его новое жилье. Лицо сводило от холода, но он все-таки улыбнулся тому, как легко вернулся к своим старым привычкам. Почтив таким образом традицию, он без дальнейших проволочек затащил лыжи, рюкзак и все прочее через туннель в хижину.
Там было очень холодно, но Данло поставил на коврик посередине плазменную печку, и воздух быстро нагрелся. Вскоре стало так тепло, что он скинул шубу и стал делать из снега лежанку. Работал он при свете радужного шара, чьи аметистовые, бирюзовые и топазовые блики заставляли снежные стены сверкать, как алмазные россыпи. Данло разостлал на лежанке меховой спальник, завершив этим приготовления к ночлегу. Утром он нарубит жерди, сделав из них сушилку для одежды и обуви, и обустроит дом окончательно.
Теперь можно было лечь — забраться в теплый, шелковистый шегшеевый мех и поразмыслить о событиях этого знаменательного дня. Данло вылез напоследок наружу, чтобы помочиться перед сном. Зайдя в лес, он стал у сосны, лицом к югу. Мужчина должен мочиться на юг, спать головой на север, молиться на восток и умирать, обратившись к западу.
Скоро придет и его черед совершить это путешествие: он либо умрет реальной смертью, либо перестанет быть тем человеком, которым был всегда.
Данло стоял в морозной, почти беззвучной ночи и слушал, как шелестит в ветвях ветер. Пахло снегом, ягодами йау и смертью. Ее темные пары висели в воздухе, почти столь же реальные, как пар от дыхания Данло. Вверху, в черноте космоса, блестками свежевыпавшего снега сверкали звезды. Звездные ветра летели через вселенную, и Данло слышал этот слабый звук, слышал их дыхание. Он нашел на небе сверхновые Экстра — блинки, как он называл эти яркие огни в детстве.
Скоро свет одной из них, Звезды Меррипен, прольется на Невернес во всей своей смертоносной красе.
Он боялся пришествия этого света, боялся гибели своего мира и потому повернулся на восток, чтобы помолиться. И там, над темными очертаниями гор Аттакеля и Уркеля, он увидел свечение Золотого Кольца. Этот сгусток живого золота окрашивал звезды янтарем и рубином; он кружился, колыхался и переливался чудесными узорами. Данло долго молился о том, чтобы Кольцо, ответив людским чаяниям, прикрыло его мир от убийственного света Экстра.
Но как только надежда затеплилась в его сердце, он увидел прямо у себя над головой, всего в нескольких десятках тысяч миль, Вселенский Компьютер Ханумана, черный и огромный, как луна. Он загораживал знакомые звезды — Шесакен, Кефиру Люс и другие, знакомые Данло с детства. Могло показаться, что он поглотил эти звезды, как рукотворная черная дыра. Видя, что рост Кольца близ этой чудовищной черной машины прекратился, Данло впал в состояние, близкое к отчаянию. А при мысли об ивиомилах, затаившихся где-то в космосе со своим моррашаром и выжидающих удобного случая, чтобы взорвать Звезду Невернеса, в мягких тканях его живота поселилась черная, леденяще холодная тяжесть. Затем он вспомнил о собственной цели и, подставив звездному свету захолодавшее обнаженное лицо, помолился о том, чтобы ему достало мужества принять странную судьбу, которую он сам для себя выбрал.
Несмотря ни сладкое пение птицы пандити в лесу; ночью он спал плохо. Под утро ему стал сниться его старый сон, пришедший к нему впервые на морском берегу искусственной, созданной Твердью Земли. Высокий серый человек, пользуясь скальпелями, лазерами и сверлами, кромсал его лицо и тело, преображая его в прекрасного тигра.
От этого сна Данло всегда пробуждался в поту, с криком на губах и вкусом крови во рту. Этим утром, в холодном синем воздухе хижины, куда просачивался сквозь снежный купол солнечный свет, он ощутил еще и жуткий голод. Данло вспомнил, что не ел с прошлого утра, когда Кийоши принес ему в камеру завтрак. Быстро надев на себя камелайку, ботинки, шубу и маску, он вышел и покатил на лыжах к оранжевой ледянке между деревьями.
Воздух был прозрачен и сладок, сугробы искрились на утреннем солнце. Зарыв лыжи в снег под большим осколочником, Данло пристегнул коньки и направился в район трущоб к северу от Меррипенского сквера. На пути ему встретился только один конькобежец, в такой же шубе с капюшоном, как и он.
Вскоре Пуща осталась позади, и Данло вышел на безымянную зеленую глиссаду. Рестораны Квартала Пришельцев и всего города были к его услугам — нужно лишь выбрать тот, который поближе, и позавтракать, а потом приступить к выполнению своего плана по свержению Ханумана ли Тоша.
На еду Данло затратил гораздо больше времени, чем надеялся. В трех ресторанах кончились продукты, в четвертом ему пришлось выстоять два часа на улице с десятками других голодных людей. Помимо мороза, их мучили запахи чеснока, силки и кофе, долетающие из соседнего частного ресторана.
Люди в очереди топали коньками об лед и сетовали на несправедливость жизни. Воздух вибрировал от напряжения и звучных плевков.
Многие, чтобы скоротать время, курили юк, джамбул и другие крепкие наркотики. Бурый дым из их трубок только усугублял сосущую пустоту в желудке Данло. Когда он наконец сел за длинный пластиковый стол в ресторане и получил миску вареного курмаша, жидкого и бледного, как мыльная водица, желудок взбунтовался заново, требуя добавки. Второй порции, однако, не полагалось; служитель забрал у Данло пустую миску и буквально вытолкал его на мороз. Очередь, выстроившаяся на красном льду, к тому времени стала еще длиннее.
Весь остаток утра Данло наводил справки в резчицких мастерских ближнего района. Он раскатывал по людным улицам, стучался в двери и расспрашивал о знаменитом когда-то резчике Мехтаре Хаджиме. Многие из тех, к кому он обращался, предлагали изменить его внешность по весьма умеренным ценам: сделать его синие глаза зелеными, увеличить половые органы, модифицировать его голосовые связки, чтобы он мог петь, как фраваши, — но где найти Мехтара, не знал никто.
Данло расширил свой поиск, обшарив Квартал Пришельцев от Меррипенского сквера вдоль улиц Резчиков и Генетиков до Алмазного Ряда. Он заглянул в Колокол и обошел второразрядные мастерские близ улицы Нейрозингеров; он проехал назад но Серпантину и обследовал подозрительные кварталы к югу от катка Ролло. Там, в маленькой мастерской за железной дверью, он нашел резчика, который знал Мехтара. Резчик, упитанный и важный, в белой полотняной форме своей профессии, смерил Данло настороженным взглядом и не пропустил его внутрь.
— Зачем вам Мехтар Хаджиме?
— Я нуждаюсь в его услугах, — сказал Данло.
— Кто ты, собственно, такой? Почему вы не снимете маску, чтобы я видел, с кем говорю?
— Простите, но этого я сделать не могу, — ответил Данло, стоя в дверях, как нищий.
— Почему? Может, у вас сухотка или грибок? Или вы из тех несчастных, что обгорели при взрыве на пищевых фабриках?
— Я спасаюсь от мороза, только и всего. Рано холода настали в этом году, правда?
— Извините, но человека в маске я к себе не впущу.
— Может быть, вы скажете тогда, где мне найти Мехтара Хаджиме?
— Он уже лет двадцать не практикует. В то время ему принадлежала лучшая мастерская на улице Резчиков.
— Да, я там был. Фасад из синего обсидиана с фигурами эталонов и двуполых. Теперь мастерской владеет резчик по фамилии Альварес.
— Это то самое место. Видели барельеф над дверью?
— Алалой, убивающий копьем мамонта?
— Точно. Глаз у вас острый. Мехтар тем и славился, что ваял из людей алалоев. Такие трансформации были очень популярны в прошлом поколении. Все поголовно хотели стать такими же сильными и выносливыми, как эти дикари.
— Но больше он этим не занимается?
— А вы интересуетесь этим видом ваяния?
Данло помолчал и задал новый вопрос: — Может быть, у Мехтара были ученики, которых он посвятил в тайны своего мастерства?
— Может, были, а может, и нет, — пробурчал резчик, теряя интерес к Данло. — Разве упомнишь? С тех пор лет двадцать пять прошло,
— А не знаете ли вы других резчиков, которые занимались бы ваянием такого рода?
— К Пауливику не заходили? Я слышал, что Пауливик-младший почти не уступает своему отцу.
— Заходил, — ответил Данло, деликатно постукивая ботинками о косяк, чтобы согреться.
— Больше ничем вам помочь не могу. Я могу поправить обожженное лицо или сделать из вас эталона, но превращать человека в зверя — нет уж, увольте.
— Алалои — не звери, — тихо сказал Данло.
— Я не собираюсь спорить с безликим. Если вам нужен Мехтар Хаджиме, ищите его в космосе. Я слышал, что он покинул Невернес много лет назад. Резчик коротко кивнул, как будто имел дело с аутистом или другим субъектом такого же статуса, и захлопнул дверь.
Алалои не звери, повторил про себя оставшийся на холоде Данло. Они люди, настоящие люди.
Замерзнув, устав и сильно проголодавшись, он решил прекратить на сегодня поиски. Ему повезло: на одной ледянке около Серпантина он обнаружил ресторан, где еды было в избытке. В очереди пришлось выстоять чуть ли не три часа, зато есть давали сколько душе угодно — а Данло, будучи по-настоящему голоден, набрасывался на пищу, как тигр. Он роскошно пообедал курмашом с орехами, бобами минг с карийи, сушеными снежными яблоками — а на десерт, о чудо, ему подали кофе и глазированный рогалик. От такой еды живот у него надулся, как у беременной женщины, и он едва передвигал ноги. Бег на коньках по темным, продутым ветром улицам доставлял ему сущие мучения, дважды он присаживался на заснеженные скамейки и некоторое время глубоко дышал, чтобы удержать обед в себе. Было уже поздно, когда он добрался до Пущи и отыскал в снегу свои лыжи. К хижине он пришел глубокой ночью: он помнил на дороге каждый камень и каждое дерево, но из-за царящей в лесу темноты лыжи приходилось передвигать с большой осторожностью. В конце концов он залез в свой дом, где зажег световой шар и печку. Раздевшись догола, он забрался в теплый спальный мешок. Наутро он проснулся от криков гагар таким же голодным, как они, и готовым съесть не меньше вчерашнего.
В последующие дни он исходил чуть ли не весь город в поисках пропавшего резчика Мехтара Хаджиме. Не бывал он только в Зоосаде, где жили инопланетяне, на примыкающих к Академии улицах — и в Ашторетнике: астриеры и другие Архитекторы кибернетических церквей не потерпели бы в своем квартале такой мерзости, как резчицкая мастерская.
Мотаясь по холоду — а зима стояла лютая, чуть ли не самая холодная на его памяти, — Данло стал подумывать, — не воспользоваться ли ему услугами Пауливика-младшего, Альвареса или другого резчика, способного изваять кряжистого алалойского охотника из мягкой глины современного человека.
Но сдаваться так легко ему не хотелось.
Когда метели начали сыпать снегом на разноцветные улицы, Данло рискнул заглянуть в Старый Город и Пилотский Квартал, но успеха и там не добился. Каждое утро он отправлялся в город, вдохновленный надеждой, и каждую ночь возвращался в хижину чуть более усталым и обескураженным, чем в прошлый раз. И чуть более голодным. Ежедневно около десятка ресторанов закрывалось, а очереди перед оставшимися становились все длиннее; они так выросли, что Данло порой приходилось выбирать — стоять за едой или заниматься поисками.
В том, что он часто предпочитал последнее, повинен был зов судьбы: глубоко внутри Данло чувствовал, что время уходит, как песок в песочных часах.
Заодно с Мехтаром он разыскивал еще одного человека. Он спрашивал людей о бывшей куртизанке Тамаре Десятой Ашторет. Резчиков, хариджан, червячников и проституток он спрашивал о красивой женщине, которая когда-то пообещала выйти за него замуж. Но никто не знал, где она. Данло искал ее в каждом кафе, на каждой глиссаде или ледянке. Он внимательно (и слишком дерзко) вглядывался в каждую встречную женщину, надеясь увидеть прекрасное лицо Тамары. Однажды на Восточно-Западной он принял за нее астриерку со смелым взглядом и красивыми белокурыми волосами — но, всмотревшись получше, увидел, что губы у этой женщины не такие полные, как у Тамары, и что ей недостает природной Тамариной грации; глаза у нее были голубые и холодные, а не карие и теплые, и не было в них ни внутреннего огня, ни гордости.
На 45-й день зимы он почти решился прекратить поиск их обоих, но тут удача неожиданно улыбнулась ему. Тамара была большой мастерицей в искусстве удовольствия, пока Хануман не надругался над ее памятью и не загубил ее карьеру куртизанки; поэтому Данло боялся, что она могла опуститься с высот своего мастерства к куда более прозаическому ремеслу обычной проститутки. Он искал ее на улице Путан и на соседних улицах — Музыкантов и Десяти Тысяч Баров. Он стучался даже в двери заведений на Клубничной и почти радовался тому, что там никто не слыхал о ней. Но одна из усталых обитательниц этих домов знала кое-что другое, очень заинтересовавшее Данло. Эту пожилую женщину звали Суми Гурит, и множество живых татуировок извивалось под ее кожей, делая ее почти прозрачной. Она случайно услышала разговор Данло с резчиком, который специализировался на омоложении. Когда и он проявил полное неведение относительно судьбы Мехтара Хаджиме, женщина подошла к Данло на улице и сказала:
— Возможно, я смогу тебе помочь.
— Правда? — Данло отошел вбок, подальше от других конькобежцев. Множество червячников и состоятельных горожан перемещались от одного борделя к другому, переговариваясь со зловещего вида зазывалами. — Вы знаете, где найти Мехтара Хаджиме?
— Может, и знаю. Ты бы снял маску — тогда разговор у нас вышел бы подоверительнее.
— Сожалею, но не могу.
— У тебя красивый голос, и говоришь ты красиво. Показал бы заодно, какой ты сам красавец.
— Не могу, — повторил Данло. Глядя на обнаженные руки, ноги и живот Суми, он поражался, как это она остается голая на таком морозе. Впрочем, многие проститутки вводят себе в кровь юф и другие гликолевые препараты, чтобы показывать товар лицом. — Мне нужен только этот резчик — удовольствия я не ищу.
— Жаль, жаль. — Суми провела пальцами по меховому капюшону на голове Данло. — Ну ладно — давай все-таки поможем друг другу.
— Чем же я-то могу вам помочь?
— Не хочешь ли со мной пообедать? Я знаю тут поблизости ресторанчик, где подают хорошее мясо.
— Частный?
— Само собой — думаешь, мне охота всю ночь давиться в очереди за миской водянистого курмаша?
— Извините, но денег у меня нет.
Суми смерила взглядом богатую шубу и добротную камелайку Данло.
— Сколько-нибудь да есть.
— Совсем нету. Правда.
— Чем же ты собираешься оплатить услуги такого резчика, как Мехтар Хаджиме?
Данло, сунув руку в карман шубы, нащупал там шелковый мешочек, но промолчал.
— Тяжело стало работать — все приберегают деньги на еду, — посетовала Суми.
Данло стиснул пальцами лежащий в мешочке твердый предмет, но опять ничего не сказал.
— Я голодная, — сказала женщина. Данло стоял, молча глядя на нее. — Мне холодно. — В ее старых глазах обитала грусть.
Данло достал мешочек, крепко зажав его в руке, как сова, переносящая в когтях яйцо, скинул с плеч шубу и подал ее Суми.
— Вот, возьми. — Он бережно накинул мех ей на плечи. — Сегодня правда очень холодно.
Данло остался в одной маске и шерстяной камелайке. Ветер тут же вцепился в его длинные волосы своими ледяными пальцами. Белое совиное перо он давно снял и теперь, под взглядами проституток, оценивающих его, как ювелирное украшение, надеялся, что его грива не слишком бросается в глаза.
Бардо говорил ему, что волосы он унаследовал от отца — черные, глянцевые, с рыжими нитями.
— Спасибо. — Суми, чуть не плача, вглядывалась в его синие глаза под маской. — Ты добрый. Ты ведь отдал мне шубу не только потому, что хочешь найти старого резчика?
— Нет, не только, — тихо ответил Данло, следя за облачками своего дыхания.
— Красивый мех. — Суми погладила шубу. Шелковый мешочек в руке Данло привлек ее внимание, но она ни о чем не спросила. — А ты, сдается мне, красивый парень.
— Ты тоже красивая.
— Где уж там. Слишком стара. Но за доброту еще могу вознаградить.
Данло улыбнулся ей. Он правда думал, что она излучает шибуи — ту глубокую красоту, которая открывается только со временем — так вода и ветер оттачивают красоту скалы над бурным морем.
— Мехтар Хаджиме ваял когда-то мою подружку. Ее уже раз пять омолаживали, и все другие резчики отказывались помочь ей. Но Мехтар Хаджиме снова сделал ее молодой — молодой и красивой.
— Я слышал, что он был лучшим в городе резчиком.
— Нет такого, чего он не мог бы изваять. Я очень огорчилась, когда он закрыл свою мастерскую.
— Да, жалко.
— Я все надеялась, что он откроет другую, но он вместо этого купил себе дом на улице Тихо.
— Улица Тихо — это в Пилотском Квартале?
Суми с улыбкой кивнула.
— Странное место для резчика, знаю, но он, говорят, больше не практикует.
— Однако ты все равно следишь за тем, как он живет, да?
— Боюсь, что так. Все надеюсь, что он поможет мне, когда понадобится вернуться назад последний разок.
— Понятно, — сказал Данло, соприкасаясь с ней взглядом.
— Только все это так, старушечья блажь. Даже если он согласится, теперь мне его услуги нипочем не оплатить.
Данло долго смотрел на нее, и что-то переходило от него к ней — теплое и текучее, как вода, ярко-синее, как звездный свет.
— Ты не нуждаешься в его услугах, — сказал он.
— Спасибо тебе за эти слова. И за шубу спасибо.
— Тебе спасибо, — с поклоном ответил он.
Она с неожиданной чопорностью вернула ему поклон и улыбнулась.
— Не хочешь зайти ко мне? Уж очень холодно.
— Не могу, извини.
— Жаль. — Ее глаза опять заволоклись печалью. — Что ж, удачи тебе, кто бы ты ни был.
— И тебе тоже. Халла лос ли девани ки-варара ли арду нис ни мансе.
— Что это значит?
— Прекрасна та женщина, что трогает сердце мужчины.
Он улыбнулся, поклонился в последний раз и покатил по улице мимо червячников, зазывал и женщин, которые свистели при виде странного мужчины в камелайке и маске, с длинными, развевающимися волосами. Ветер пронизывал легкую одежду Данло тысячами ледяных игл, но вино надежды, взыгравшее в нем впервые за много дней, согревало его изнутри. Надежда касалась его сердца, прекрасная, как улыбка женщины, и ужасная, как солнечный жар. Всю дорогу до своей лесной хижины Данло мечтал о будущем, каким оно все еще могло стать, и ни разу не пожалел о том, что отдал свою шубу замерзшей и одинокой женщине.
На следующее утро снег выпал снова, и в голубоватом воздухе стоял калет риэша, как называл когда-то Данло этот ударивший после снегопада мороз. Без шубы Данло весь промерз, справляя малую нужду, и зубы у него начали стучать. Голод тоже донимал его, а он хорошо знал, как подвержено гипотермии и обморожению человеческое тело, если не согревать его пищей.
Поэтому первой его задачей на этот день стало добыть себе новую шубу. Во время своего обычного путешествия из леса в город он закоченел так, что едва переставлял лыжи, — говоря по правде, он чуть не умер. Трижды он испытывал сильнейшее искушение лечь на снег и позволить дремоте унести его на ту сторону дня. Но цель, стоящая перед ним, заставляла его сжимать зубы до скрипа и бежать как можно быстрее, сжигая остаток глюкозы в мышцах. Сменив лыжи на коньки и добравшись до городских ледянок к востоку от Пущи, он забежал в частный ресторан только для того, чтобы погреться.
За неимением денег ему пришлось очень скоро покинуть этот рай, где так маняще пахло поджаренным хлебом и кофе с корицей. Но он то и дело заходил в другие рестораны, в магазины и даже в обогревательный павильон на Длинной глиссаде. Так он дошел до Галливарова сквера и там, среди красивых четырехэтажных домов из черного обсидиана, наконец отыскал магазин с большим выбором хорошей — и бесплатной — одежды. Он мог бы взять себе новую синтетическую парку, но он выбрал белую шегшеевую шубу с капюшоном, которую кто-то уже носил до него. На ней остались винные пятна, и пахло от нее застарелым потом и дымом, но Данло любил живое тепло меха и его шелковистое прикосновение. В такой замечательной шубе он мог пережить даже страшные морозы глубокой зимы.
Отказавшись от завтрака, он пересек Старгородскую глиссаду и, минуя расположенные через равные промежутки пурпурные улицы, направился в Пилотский Квартал. Вскоре он отыскал улицу Тихо — и поехал по ней к Зунду, где она пересекалась с Северной глиссадой. На перекрестке двух этих улиц, где стояли красивые шале из белого гранита, он нашел дом, принадлежавший, по словам Суми, Мехтару Хаджиме. Но теперь, как выяснилось, там жил богатый червячник по имени Калуш Маковик. Этот подозрительно настроенный старик довольно грубо сообщил Данло, что Мехтар действительно жил здесь раньше, но несколько лет назад продал дом ему, Калушу. Нет, он не знает, где найти Мехтара теперь.
— Не знаю, кто ты такой, но сидел бы ты лучше дома, — посоветовал он напоследок. — Я слыхал, хариджаны нападают на всех одиночек. Не то сейчас время, чтобы шататься по городу и разыскивать бывшего резчика.
С этими словами он захлопнул дверь перед носом у Данло. Тот, близкий к отчаянию, чуть не отказался в тот момент от поисков Мехтара и почти уже решил прибегнуть к услугам менее знаменитого резчика. Но удача (как могло показаться) распорядилась так, что он, катясь обратно по улице Тихо, встретил старого друга. Друг вышел из цветочного магазина и сразу узнал его: это был Старый Отец, высоченный, покрытый белым мехом, с большими золотыми глазами.
— Извините, — сказал ему Данло, — не тот ли вы Старый Отец, который…
— Хо-хо, он самый! — мелодично излилось из необычайно подвижных черных губ. Старый Отец устремил взгляд на черную маску Данло, улыбаясь на свой загадочный инопланетный лад, а потом голосом, звучащим тише и ниже, чем самая длинная струна паутинной арфы, сказал: — Ах-ха, рад видеть тебя снова, Данло ви Соли Рингесс.
Данло замер, оглядывая полную людей улицу, но астриеры и академики, посетители многочисленных магазинов, не обращали на него никакого внимания. Тем не менее он увлек Старого Отца в переулок между двумя старыми домами.
— Как вы меня узнали? — спросил он охрипшим от холода голосом.
— Охо! Кто еще это мог быть? За кого бы я мог тебя принять?
Данло ужасно хотелось обнять его, но фравашийских Старых Отцов обнимать не принято, особенно на людной улице посередине Пилотского Квартала.
— Я скучал по тебе, почтенный, — тихо сказал он.
— А я — по тебе, хо-хо. Все надеялся, что ты постучишься в мою дверь.
Он сказал, что слышал о побеге Данло и полагает, что шпионы Ханумана уже много дней следят за его домом на случай, если Данло там появится.
— Этого я и боялся, — сказал Данло. — Иначе я пришел бы к тебе сразу, как только смог. Уже пять лет, как мы не виделись.
— Так, все так. И за это время многое произошло — последние дни я слышу о тебе самые невероятные истории.
Данло, стоявший спиной к улице, снова оглянулся, проверяя, не следит ли кто за ними.
— Мне нельзя долго здесь задерживаться, — сказал он. — Боюсь, что разговор со мной подвергает тебя опасности.
— Это верно, это верно, — пропел Старый Отец. — Но я никогда не возражал против разговоров с тобой, хотя они и опасны.
Он растянул губы в своей фравашийской улыбке, обнажив крепкие плоские зубы, и его золотые глаза сияли, как два солнышка. Данло вспомнил вдруг, как он любит этого инопланетянина, бывшего для него настоящим отцом с первых его дней в Невернесе.
— Зато я возражаю, — сказал он. — Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, так что извини.
— Ах-ох! Ну что ж, иди, если надо. Иди, иди! Вот только куда? Меня тревожит, что ты бродишь по улицам с самого своего побега.
— У меня есть где жить. Место достаточно безопасное.
— Это хорошо. Можно и мне теперь не бродить по улицам, раз у тебя есть теплый ночлег.
Данло поглядел на длинные мохнатые конечности Старого Отца и вспомнил, с каким трудом тот передвигается из-за мучающего его артрита.
— Значит, ты искал меня? Спасибо, почтенный. Не надо было тебе беспокоиться.
— Ох-хо, что же делать, если вселенная состоит из сплошных хлопот. Я на все готов, чтобы помочь своему любимому ученику.
— Хорошо бы это было возможно. — Данло вспомнил о полном крахе своих поисков и добавил отяжелевшим от отчаяния голосом: — Но сейчас мне никто помочь не в силах.
— Неужели?
— К сожалению. Фравашийские Старые Отцы обучают языку мокша и ментарности, помогающей держать в уме две реальности одновременно. Они учат играть на флейте и не причинять вреда другим живым существам, но бессильны помочь своим ученикам отыскать пропавшего резчика, который явно не желает быть найденным.
— Ох-хо, ха — сплошные заботы. Почему бы тебе не поделиться со мной своими?
Данло не хотелось отягощать Старого Отца ненужной информацией, но что-то в золотых глазах фраваши говорило, что ему можно доверить все, даже жизнь. Данло набрал воздуха и сказал: — Я ищу одного резчика.
— Ох-хо, и не абы какого, я полагаю.
— Его зовут Мехтар Хаджиме.
Глаза Старого Отца приобрели мечтательное, отстраненное выражение, как будто он что-то вспомнил.
— Ах да, конечно — Мехтар Хаджиме, — сказал он наконец.
— Ты слышал о нем?
— Слышал. Более того, я знаю, где его можно найти.
При этом поразительном заявлении Данло слегка отшатнулся назад и воззрился на Старого Отца, как на чудо.
— И где же? — спросил он.
— Поищи на Дворцовой улице в Ашторетнике. Я слышал, что он нажил большое состояние и купил дом там.
— Но как же это? — Данло смотрел в непроницаемые золотые глаза, в тысячный раз ощущая таинственность этого существа, которого называл Старым Отцом. — Откуда ты можешь это знать?
— Охо, тебе кажется, что это фантастический случай или подарок судьбы. Ну а если это ни то, ни другое? Просто я живу в этом городе долго и слышу многое.
Он, пожалуй, действительно многое слышит, подумал Данло. Но случайно ли, что они встретились здесь именно тогда, когда Данло потерял почти всякую надежду найти резчика?
— Спасибо тебе, почтенный, — сказал он. — Рад был тебя повидать, но мне надо идти, пока еще не стало поздно.
— Но зачем ты ищешь этого резчика? Охо, зачем тебе вообще нужен резчик?
— Этого я тебе сказать не могу, почтенный.
— Понимаю, понимаю. Наверно, это имеет какое-то отношение к твоей ссоре с Хануманом ли Тошем. Хо-хо, я слышал, он тебя пытал.
— Да. — Данло закрыл глаза, чувствуя жар раскаленного когтя, навеки засевшего в его мозгу.
— Тем не менее ты ищешь резчика, а не мести?
— Никогда не причиняй вреда другому, даже если он причинил вред тебе. Ты сам меня этому учил, почтенный.
— Научил на свою голову. Нельзя позволять таким, как Хануман, причинять вред другим. Это неправильно.
— Да. Неправильно,
— Так у тебя есть план, хо-хо? Ты хочешь противопоставить ему сатьяграху, и этот резчик — часть твоего плана?
— Да.
— Так, все так. — Старый Отец помолчал, глядя в ярко-синие глаза Данло под маской. — Только надо быть осторожным, очень осторожным. Ты изменился с нашей последней встречи. Твоя душа сильно выросла, и ты не можешь даже представить себе, какой мощью владеешь.
Старый фраваши поклонился, покряхтывая от боли в суставах, и улыбнулся своей лучистой улыбкой.
— Душа твоя сильна, это правда, но темные времена способны погасить даже самые яркие звезды. Обещай мне не терять надежды, что бы с тобой ни случилось.
— Хорошо, почтенный. Обещаю, — улыбнулся в ответ Данло.
— Обещай никогда не сдаваться.
Данло молча поклонился Старому Отцу, и его дикие синие глаза сказали без слов: “Обещаю”.
— Охо-хо, до свидания, Данло ви Соли Рингесс. Я тоже даю тебе обещание: мы с тобой свидимся в лучшие времена, когда наши души обретут свободу.
И Старый Отец удалился, оставив Данло дивиться тому, как вовремя этот загадочный фраваши всегда появляется в его жизни — именно тогда, когда Данло больше всего в нем нуждается.
Глава 14 ЛИК ЧЕЛОВЕКА
Николас Дару Эде был человек, рожденным стать Богом. Его чело полно света. Его божественный лик сияет ярче, чем солнце. Его человеческая улыбка напоминала свет, зажженный в темной комнате; Его божественная улыбка подобна свечению миллиарда звезд. Когда с его человеческих уст, столь полных жизни, слетал смех, сладостное дуновение касалось сердец тех, кто любил его; когда смех слетает с Его божественных уст, самые небеса колышутся от радости. Его человеческие глаза были черными и яркими, как ониксы; божественные Его очи черны, глубоки и бесконечны, как пространство и время.
“Рождество Бога Эде”, 142-й АлгоритмВ тот же день Данло объехал Зимний каток по Серпантину, проделав около полумили на юг, а затем свернул в тихий квартал чуть выше Ашторетника. Серпантин служил и северной, и западной границей Ашторетника, зажатого между этой змееобразной улицей и утесами Южного Берега. Из всех районов города это был самый большой, самый аккуратный и самый ухоженный.
Оказалось, что и проникнуть туда труднее всего. Весь район, вопреки слухам, не был закрыт для посторонних, но с некоторыми улицами дело обстояло именно так. В этих широких, прямых, обсаженных деревьями кварталах селились прихожане всевозможных кибернетических церквей: Архитекторы Бесконечной Жизни и Вселенской Церкви Эде, Союза Фосторских Сепаратистов и, разумеется, Кибернетической Реформированной Церкви. Почти все они состояли в оппозиции Хануману ли Тошу и его новой религии. Действуя вместе, они могли бы стать мощной армией сопротивления, но кибернетические церкви способны объединиться не более, чем гнездовья скутари. Единственное, в чем они сходились, — это не подпускать ни одного рингиста к своим мирным жилищам, да и эта идея относилась скорее к области чувств, чем к четко выполняемым планам. Архитекторы наподобие Отцов Эде патрулировали свои участки не менее бдительно, чем снежные тигры свою территорию, в то время как более терпимые Кибернетические Пилигримы Мультиплекса, живущие близ Длинной глиссады, не видели необходимости в охране своих улиц.
Данло не повезло: свернув с Серпантина на ледянку, ведущую в середину квартала, он наткнулся на группу наиболее непримиримых. Пятеро Вселенских Архитекторов перегородили улицу санями и заняли позицию за своей баррикадой, шаркая от холода коньками по льду. На них, как и на Данло, были белые шегшеевые шубы — только поновее, лучшего качества и без винных пятен. К поношенным мехам Данло и его черной маске они отнеслись подозрительно. Один из них, упитанный, с красным от мороза лицом, подкатил к пришельцу и сказал:
— Не думаю, что видел вас раньше. Как ваше имя?
Данло оглядел улицу — ее внушительные особняки, деревья йау и заснеженные лужайки. Если эти люди живут здесь, они должны быть богаты, как, впрочем, и большинство обитателей Ашторетника.
— Я не бывал на этой улице много лет, — сказал он, стараясь обойти прямой вопрос Архитектора. — Просто прохожу мимо.
— Вы здесь не пройдете, пока не назоветесь и не снимете маску.
Архитектор держал в опущенной руке самодельный лазер.
Вооружение остальных было весьма разнообразным: игольный пистолет, нечто вроде церемониального меча, а у двоих — дубинки из осколочника.
— Невернес — свободный город, правда? — сказал Данло. — И проход по его улицам всегда был свободным.
— Это было до войны. Если хотите свободы, можете вернуться на улицу Контрабандистов или откуда вы там еще пришли.
— Я ищу одного человека — он живет на Дворцовой.
— На Дворцовой? — Архитектор смерил Данло подозрительным взглядом. — Зачем он вам?
— Этого я не могу сказать.
— Почему не можете?
Все пятеро подступили поближе к Данло, излучая недоверие и страх.
— Я не могу сказать почему. И это мое личное дело.
— Свой секрет можешь оставить при себе, — сказал человек с лазером, — но с улицы проваливай.
— Разве Дворцовая улица принадлежит вам?
— До Дворцовой нам дела нет, но мы поклялись не допускать чужаков на наши улицы.
— На какие, например?
— Например, вот на эту — и еще на три в сторону Серпантина, где он загибается к Южному Берегу. Все до одной мы охранять не можем.
— Но их, наверно, охраняют другие?
— Кто как. Не знаю.
— Понятно.
— Вот и ступай себе прочь. Мы не хотим применять силу.
Данло еще раз окинул их взглядом. К насилию они были способны не больше, чем котята, разбалованные богатой хозяйкой. Но у них имелось оружие, а для человека перейти к насильственным действиям — что спичку зажечь.
— Всего вам хорошего, — с поклоном молвил им Данло и вернулся на Серпантин. Следуя по этой магистрали на юго-запад, он еще четырежды пытался проникнуть в Ашторетник, но повсюду встречал такой же отпор. Решив не сдаваться, он проехал по Серпантину до самого конца, где тот вливается в Длинную глиссаду над самым Южным Берегом. Сделав крюк на восток по этой большой зеленой улице, он попробовал войти в квартал через его мягкое брюхо.
Там, в одном из самых убогих районов, он наконец отыскал лазейку. Богато одетые Архитекторы хотя и качали головами при виде его, но вопросов не задавали. Выяснилось, что Дворцовая улица находится совсем близко от Южного Берега. Здесь росли большие деревья йау, усыпанные красными ягодами. Каменные дома стояли далеко от улицы, отделенные от нее лужайками, каменными стенами и стальными оградами. Улица, протянувшаяся всего на пять кварталов, выглядела странно опустевшей. Ни движения, ни звуков — только поземка метет да гагары кричат на деревьях. Данло поразился красоте здешних красок: рубиново-красный лед, белый снег, белые гранитные дома, зеленые башни елей и над всем этим — синее небо. Его изумляло, что никто не выходит на улицу, чтобы насладиться этой красотой. Но в богатых кварталах всегда так. Богатые прячутся в домах от холода этого мира, как моллюски в своих раковинах.
Получить доступ в какой-нибудь из этих домов оказалось не легче, чем вскрыть самую неподатливую раковину. На самой улице охраны не было, но все особняки охранялись. Стальные ворота стояли запертые, а за ними в теплых сторожках сидели люди с дубинками, всегда готовые прогнать бедного хариджана, достаточно глупого, чтобы просить здесь еды или приюта. Данло эти сторожа — большей частью громадные белокурые торскаллийцы, нанимаемые за свирепый нрав, — тоже быстро заворачивали прочь. Он, продвигаясь по северной стороне улицы, стучался в каждые ворота и спрашивал о резчике Мехтарe Хаджиме, но никто здесь о таком не слыхал. Но тут Данло, дойдя до конца и собравшись приняться за южную сторону, кое о чем вспомнил. Лет двенадцать назад, когда они с Бардо беседовали за кружкой пива, тот упомянул полное имя резчика: Мехтар Констанцио Хаджиме. Теперь, стоя перед очередными обледенелыми воротами, Данло почему-то решил, что при расспросах имя Мехтара следует называть полностью.
Так он и сделал. Он постучался еще в четыре дома, и каждый раз его отсылали прочь несолоно хлебавши. Но страж у пятых ворот сказал:
— О таком я не слыхал, но через улицу, в трех кварталах от нас, живет некий Констанцио с Алезара — вон там, третий дом от угла. Спроси его.
Данло с улыбкой поклонился сторожу и вернулся туда, где уже побывал.
Он снова постучался в третий дом от угла — внушительный, с портиком и колоннами, не сводя глаз с внутренней лазерной изгороди на лужайке. Одинокий сторож вышел из павильона и уставился на Данло сквозь блестящие стальные прутья.
— Опять ты? — Сторож был высок, даже выше Данло, и все время жевал свои светлые усы. — Я ведь тебе сказал: не знаю я никакого Мехтара Хаджиме.
— Я узнал, что полное его имя — Мехтар Констанцио Хаджиме. И что в этом доме живет Констанцио с Алезара. Любопытное совпадение, правда?
— Ну и что?
— Может быть, этот Констанцио с Алезара раньше носил другое имя?
— Констанцио никогда не говорит о своем прошлом, — заявил сторож, угрюмый и красный от холода. — А я у него всего пару лет, так что ничего тебе сказать не могу.
— Но ведь ему-то ты можешь сказать, что один человек хочет поговорить с ним?
— Тебя как звать?
Данло помолчал немного и ответил: — Данло… с Квейткеля.
— Квейткель? Никогда не слыхал. Это далеко от Невернеса?
Родной остров Данло отделяли от Невернеса всего шестьсот миль, но если ехать на собачьей упряжке, получится дальше, чем до Джилады Инфериоре.
— Очень далеко, — сказал Данло. — О нем мало кто знает.
— Так вот, Данло с Квейткеля: я не вижу причины беспокоить Констанцио, докладывая ему о тебе.
Данло, предвидевший это, достал из кармана костяную фигурку, которую вырезал за несколько долгих ночей в снежной хижине: плечистый алалойский охотник с тюленьим копьем.
— Вот подарок для него, — сказал он.
— Тонкая работа. — Охранник потрогал фигурку, выжидающе глядя на Данло. — Очень тонкая.
Данло снова полез в карман и вручил ему еще одну статуэтку: белого медведя.
— А это тебе.
— Красота. — Сторож повертел фигурку в солнечных лучах. — Пожив у Констанцио, начинаешь разбираться в красивых вещах — сам увидишь, если он согласится тебя принять. — Он сунул в карман обе фигурки. — Жди здесь: пойду доложу.
Он повернулся, не утруждая себя поклоном, и покатил по дорожке к дому. Данло остался на улице, недоумевая, почему Констанцио не установил между домом и сторожкой переговорное устройство. Оно по крайней мере не так бросается в глаза, как нелегальная лазерная изгородь.
Некоторое время спустя — очень долгое время, учитывая мороз, — сторож вернулся, открыл со скрипом ворота и сказал:
— Констанцио тебя примет. Прошу за мной.
Данло следом за ним поднялся в портик, где оба сняли коньки. В парадную белую дверь стучаться не пришлось — она стояла открытой, а на пороге ждал человек с волосами стального цвета и серым, как морской туман, лицом. Серыми глазами он смотрел в глаза Данло — казалось, что этот взгляд проникает сквозь маску и кожу лица до самых черепных костей.
— Я Констанцио с Алезара, — сказал он. — А ты, стало быть, Данло с Квейткеля — с планеты, о которой никто не слыхал и которой нет ни на одной карте.
Сказав это, он знаком велел сторожу вернуться на его пост и пригласил Данло в дом. Они прошли через холл, увешанный красивыми гобеленами и освещенный радужными шарами.
Миновав солярий с дорогой мебелью, а также с паутинными арфами, даргиннийской скульптурой, фравашийскими коврами, инопланетными ювелирными изделиями и прочим, они оказались в чайной комнате. Констанцио указал Данло на столик, инкрустированный треугольниками из лазури и мрамора, где стояли кофейник и две чашки, Опустившись на стул из резного осколочника, Данло увидел на стене картины-тондо. Каждая согласно своей программе переливалась бирюзовыми, сапфировыми и оранжевыми тонами. Это запретное искусство оказывало на Данло успокаивающее и вместе с тем гипнотическое действие. Он заставил себя отвести взгляд от картин и сосредоточиться на сидящем напротив Констанцио.
— В шубе тебе будет жарко, — заметил хозяин дома, сам одетый в стеганый шелковый халат светло-серого цвета. — Лучше сними ее.
Данло скинул шубу и сел за стол в камелайке и маске.
Густой, пьянящий аромат кофе причинял ему нестерпимые мучения.
— Какие необыкновенные у тебя волосы, — сказал Констанцио, разливая кофе по чашкам. — Такой густо-черный цвет, перемешанный с рыжиной, нечасто встретишь.
Данло так хотелось пить (и есть), что он залпом проглотил кофе, глотнул обожженным ртом воздух и спросил:
— Вы, случайно, не тот Мехтар Хаджиме, которому принадлежала лучшая мастерская на улице Резчиков?
Серое лицо Констанцио стало, как ни удивительно, еще более серым.
— Ты хочешь знать, кто я? А кто такой любой человек? Кем мы рождаемся?
— Простите… я не совсем понимаю.
— Кто такой ты, Данло с Квейткеля? Кем ты родился и кем хочешь стать?
Вторую чашку Данло пил медленнее и осторожнее.
— Я уже назвал вам мое имя — и если хотите, скажу, какова моя цель.
— Сделай милость, — сказал Констанцио, взглянув на фигурку алалоя, которую держал в руке.
— Есть вид скульптуры, которым Мехтар Хаджиме владел лучше всех городских резчиков. Говорят, что он любого человека мог превратить в алалоя.
Данло смотрел на высокого, изящного человека напротив и гадал, действительно ли это Мехтар Хаджиме. Раньше, по словам Бардо, Мехтар носил кряжистое, волосатое алалойское тело, изваянное им самим.
— Да, я, кажется, помню этот стиль, — сказал Констанцио, поглаживая статуэтку. — Это было давно, еще во времена Поиска. Мэллори Рингесс тогда тоже трансформировался в алалоя.
— Я слышал, что трансформировал его Мехтар Хаджиме.
— В наше опасное время о Мэллори Рингессе говорят самые разные вещи. — Глаза Констанцио ввинтились в Данло, как стальные сверла. — Человек, пьющий кофе в маске, — весьма необычное зрелище. Почему ты не снимешь ее?
— Мне и так удобно. Но, может быть, это причиняет какое-то неудобство вам?
— Нет-нет. Все мы носим те или иные маски, не так ли?
— Это верно. — Данло понял вдруг, что этот Констанцио и есть Мехтар Хаджиме, — он знал это так же точно, как то, что на лице у него есть нос. Если уж Мехтар сумел превратить себя в алалоя, то потом ему, конечно, не составило труда переделаться в этого серолицего Констанцио. — Вы вот тоже носите маску — чужое имя.
— Меня зовут Констанцио с Алезара.
— А меня — Данло с Квейткеля.
Некоторое время они пили кофе и смотрели друг на друга. Молчание прервал Констанцио.
— Хорошая работа, — сказал он, подняв вверх статуэтку. — Где ты ее достал?
— Сам вырезал.
— Это правда? Ты сам ее сделал?
— Правда.
— Значит, ты режешь по кости не хуже, чем этот твой Мехтар — по живому телу.
— Мой?
— С тех пор, как Мехтар ваял своих алалоев, прошло лет двадцать.
— Я надеялся, что он, даже изменив имя и удалившись на покой, остался мастером своего дела.
Констанцио опустил глаза на свои длинные гибкие, хорошо вылепленные пальцы.
— Говорят, тело всегда помнит то, что мозг забывает. Человек может сто лет не бывать в Невернесе, но на коньках бегать все равно не разучится.
— Значит, вы думаете, что Мехтар по-прежнему способен изваять из человека алалоя?
— С таким же искусством, как ты изваял эту фигурку.
— Такая работа, должно быть, дорого стоит?
— Очень дорого. Мехтару пришлось бы приобрести новые лазеры, сверла, лекарства. И оборудовать новую мастерскую.
— Понятно. — Данло снова обвел взглядом комнату. В клариевом ящике серебрилось даргиннийское висячее гнездо — вещь практически бесценная. — Сколько же, например?
— Десять тысяч городских дисков.
— Десять тысяч?!
— Вот именно.
— Но такой суммой может располагать только очень богатый человек.
— А ты, стало быть, не богат, Данло с Квейткеля?
— Нет, не богат.
— Как же ты тогда надеялся изведать, что значит быть сильным и полным жизни, как алалой?
Данло вспомнил детство, проведенное среди приемных родичей. Копье он метал дальше и точнее, чем Чокло, да и любой другой из его молодых соплеменников, но в борьбе Чокло неизменно клал его на обе лопатки.
— Десять тысяч дисков — большая сумма, — сказал Констанцио, — но даже она недостаточно велика.
— То есть как?
Констанцио махнул рукой в сторону настенного фравашийского ковра.
— Ты видишь здесь много красивых вещей — но их уже меньше, чем было десять дней назад. Мне пришлось обменять три тондо и ковер на оскорбительно малое количество продуктов. Цены на все съестное, даже на курмаш, стремятся к бесконечности. В такие времена денег, сколько бы их ни было, всегда мало, всегда.
— Денег у меня нет, — сказал Данло, потрогав вделанные в стол кусочки бирюзы. — И никогда не было.
Констанцио, глядя на него с явным недоверием, сказал:
— Надо было бежать из этого города, пока еще можно было. Я давно боялся, что это рингистское безумие приведет к войне.
— Почему же вы тогда остались?
— Потому что думал, что в Невернесе будет безопаснее, чем где-либо еще.
— Но ведь вселенная повсюду одинакова, правда?
— Совершенно верно. Поэтому единственное, что обеспечивает безопасность, — это вещи, ценные вещи.
Данло посмотрел на свою чашку, сделанную из рубинового фосторского стекла.
— Вот у вас много вещей — чувствуете вы себя в безопасности?
— Я готовился к чему-то подобному всю свою жизнь и обезопасил себя больше, чем кто-либо другой в этом городе.
— У вас, наверно, много друзей?
— Когда-то меня предал Бог, потом близкие люди — теперь я ни во что такое больше не верю.
— Жаль, — сказал Данло. Свет излился из его глаз, но сочувствие гостя, казалось, только рассердило Констанцио.
— На что ты, собственно, надеялся, если у тебя нет денег? — снова спросил он.
— У меня есть нечто другое.
— Что именно?
— Вот. — Данло достал из кармана шубы шелковый мешочек, развязал его и вытряхнул на ладонь сверкающий алмазный шар.
— Бог мой! — ахнул Констанцио. — Уму непостижимо. Можно подержать?
Данло отдал ему сферу, и Констанцио принялся вертеть ее туда-сюда своими вспотевшими пальцами. Шар в его руках искрился разноцветными огоньками.
— Скраерская сфера. Откуда она у тебя?
— Не могу вам этого сказать.
Констанцио пристально посмотрел на него и сказал:
— Глаза у тебя тоже необычные. Очень редкого синего цвета. Известно тебе, что Мехтар однажды сделал пару таких же точно глаз?
— Правда? — сказал Данло, хотя хорошо знал историю о том, как Мехтар переделывал его мать в алалойку.
— Она тоже была скраером. Звали ее Катариной, и она приходилась сестрой Мэллори Рингессу.
И Констанцио стал рассказывать, как работал над членами экспедиции, которая затем отправилась к алалоям. Катарина ослепила себя, сказал он, как это делают все скраеры во время своего жуткого посвящения. И Мехтар Хаджиме вырастил для нее новые глаза, которые вставил потом в глазницы на ее новом лице.
— Странно, но у тебя ее глаза. Темно-синие, как жидкие сапфиры.
Данло потупился. Огненное копье вошло в его левый глаз и пронзило голову насквозь, а лицо вспыхнуло румянцем. Знает ли Констанцио. как влюбился Мэллори Рингесс в Катарину, не ведая, что женщина, с которой он спит, — его сестра?
— Я слышал, что Катарина умерла в экспедиции, — сказал Констанцио.
Да, подумал Данло. Умерла, рожая меня.
— Слышал я также, что сферу после кончины скраера полагается возвращать его коллегам.
— Да, так у них принято.
— Эту сферу, если она не поддельная, очевидно, так и не вернули.
— Она не поддельная, — по-прежнему глядя в стол, сказал Данло.
— Данло с Квейткеля. Странный человек со странными и красивыми глазами. Почему ты не снимешь маску, чтобы я мог разглядеть их получше?
— Я не могу.
— Если Мехтар будет ваять тебя, маску все равно придется снять.
Глаза Данло под маской ярко вспыхнули, и он спросил: — Значит, этот шар стоит десяти тысяч городских дисков?
— Это трудно определить, — осторожно сказал Констанцио. — Но если это настоящий скраерский алмаз, ваяние им оплатить можно.
— Меня не всякое ваяние устроит.
— Ну да — ты сказал, что хочешь стать алалоем.
— Да. Но не просто алалоем.
— Боюсь, что не совсем тебя понимаю.
— Был человек, которого Мехтар когда-то сделал алалоем, и я хочу в точности походить на него.
— И кто же этот человек?
Данло помолчал, набрал воздуха и произнес: — Мэллори Рингесс.
— Мэллори Рингесс?
Они долго смотрели. друг на друга через стол, не говоря ни слова, и наконец Данло тихо, почти шепотом, сказал:
— Я надеялся, что у Мехтара Хаджиме сохранились голограммы, снятые с Мэллори Рингесса. Что он сможет изваять по этим голограммам новую скульптуру.
— Слабая надежда, тебе не кажется?
— Слабая? — Видя, как внезапно отвердели серые глаза Констанцио, Данло понял, что угадал верно: этот коллекционер ни за что бы не выбросил такую ценность, как голограмма Мэллори Рингесса.
— Если даже такие голограммы и сохранились, не могу понять, зачем тебе нужно выглядеть как Мэллори Рингесс.
— Что же в этом странного? Сейчас чуть ли не каждый в городе желает стать богом в подражание Мэллори Рингессу.
— Но ты хочешь преобразиться не в бога, а в первобытного человека.
— Мэллори Рингесс носил именно такой облик до того, как стать богом, разве нет?
— Всем известно, что он покинул Невернес в том самом теле, которое сделал для него Мехтар, — с немалой гордостью произнес Констанцио. — Но только рингисты верят, что он стал богом.
Данло молчал, и глаза Констанцио вжигались в него, как лазеры.
— Ты рингист? — спросил наконец хозяин.
— Нет. Как раз наоборот.
— Стало быть, противник рингизма? Это хорошо. В нашем районе много таких. Это облегчит твои визиты сюда.
— Значит, вы думаете, что Мехтар сможет сделать такую скульптуру?
Констанцио спрятал алмазный шар обратно в мешочек, а мешочек сунул в карман халата.
— Если подтвердится, что сфера настоящая, я уверен, что Мехтар сможет изваять желаемую тобой скульптуру.
При исчезновении шара Данло ощутил жгучую пустоту в животе. Это было единственное, что осталось ему от матери, и вряд ли ему удастся снова взять этот шар в руки.
— Я попрошу вас об одном, — сказал он. — Об этом ваянии никто знать не должен.
— Само собой — ты хочешь сохранить свою тайну, как все остальные и я в том числе.
Глаза Констанцио стали тусклыми, как старый снег, и Данло усомнился, можно ли ему доверять.
— Я должен просить вас никому не называть мое имя.
— Нет в городе человека, умеющего хранить секреты лучше Констанцио с Алезара.
— Давайте договоримся: если вы нарушите это условие, плата за ваяние должна быть вами возвращена.
— Твои секреты будут в такой же сохранности, как эта прекрасная сфера, — заверил Констанцио, похлопав себя по карману.
Данло посмотрел на этого почти не поддавшегося разгадке человека и протянул ему руку. Соприкосновение голых рук должно было казаться Констанцио вопиющим варварством, но он все же пожал руку Данло, чтобы скрепить уговор.
— Когда мы начнем? — спросил Данло.
— Мне надо подготовиться, приобрести инструменты и лекарства, которые трудно будет достать. Дней через двадцать, не меньше.
— Я думал, это будет быстрее.
— Само ваяние займет втрое больше времени.
— Я не знаю… есть ли у меня столько в запасе.
— Нельзя торопиться, создавая произведение искусства.
— Да, конечно, но иногда величайшие шедевры распускаются внезапно, как огнецвет средизимней весной,
— Великие резчики наподобие Мехтара Хаджиме способны работать в ускоренном темпе, но такое ваяние, несмотря на блокираторы и наркоз, будет более болезненным.
— Я понимаю.
— Многие ткани будут испытывать шок одновременно. Скальпели, лазеры — все это очень больно, а нервы можно травмировать только до определенной степени.
— Понимаю.
— Выходит, ты уяснил, что быстрое ваяние — процесс как глупый, так и рискованный?
Данло закрыл глаза от приступа боли, которая всегда таилась за его лбом. Сердце билось слишком сильно, и кровь пульсировала в мозгу. Эккана все еще лизала огненными языками все его тело, обжигая и скручивая нервы с головы до пят.
— Я попросил бы Мехтара ваять со всей быстротой, на которую он способен, — сказал он наконец.
— Ты мужественный человек. — Констанцио смотрел на Данло, погружаясь в глубину его глаз. — Очень мужественный, сказал бы я. Чтобы стать тем, кем ты хочешь, тебе понадобится все твое мужество.
— Так когда же мы начнем?
— Приходи сюда через восемнадцать дней. Если повезет, я к тому времени оборудую мастерскую в одной из моих комнат.
— Спасибо. — Данло поклонился, сидя на стуле. Затем они с Констанцио поднялись и обменялись более церемонными поклонами.
— Если тебя не захотят пропустить в этот район, — добавил Констанцио, — скажи, что гостишь у меня. Мои охранники будут предупреждены и подтвердят это в случае проверки.
— Спасибо, — повторил Данло. — До встречи, и успеха вам.
— До встречи, Данло с Квейткеля. Если война не прикончит нас всех, ты очень скоро узнаешь, какое это счастье — стать тем, кем ты хочешь быть.
Я — не мой отец, в тысячный раз подумал Данло.
Он думал об отце все время, пока Констанцио провожал его до двери. Он чувствовал его черты в собственном крупном носе, в крутых скулах, в черных с рыжиной волосах. Он всматривался в себя, и на него смотрело лицо Мэллори Рингесса. Лицо, преображенное бесчисленными сеансами ваяния, сильное, умное и благородное, но с проглядывающей под всем этим свирепостью. В этом гордом облике прочитывалась история происхождения человека и высокая судьба, ожидающая каждого, у кого хватит мужества стать подлинным собой. Данло не был своим отцом и не мог им стать — но если у него хватит мужества, дикое и прекрасное отцовское лицо скоро станет его лицом.
Глава 15 ТАМАРА
Что есть дитя? Это воплощение идеалов нашего разума и завершение наших персональных программ. Происходит зачатие, затем мать питает себя углеродом, водородом, азотом и кислородом — и дитя рождается. Можно сказать, что программа вышеуказанных элементов состоит в том, чтобы сложиться в ребенка, а программа ребенка — в том, чтобы вырасти в мужчину или женщину. Женщина и мужчина способны создать вместе много детей — пятьдесят и даже больше, и каждое дитя запрограммировано использовать еще больше элементов вселенной, пока каждый атом звездной пыли от Млечного Пути до Сагарской Спирали не подчинится нашим программам. Можно сказать, что этот созидательный космический процесс есть программа вселенной. Осознав это, мы подходим к более глубокому ответу на вопрос “что есть дитя”.
Дитя есть средство совмещения наших индивидуальных программ с Вселенской Программой. Дитя есть архитектор, преобразующий материю и превращающий саму вселенную в рай, предназначенный для детей наших детей.
Николос Дару Эде. “Принципы кибернетической архитектуры”Последующие дни были самыми мрачными в жизни Данло. С приближением глубокой зимы морозы усилились. Переменная облачность с легкими снегопадами уступила место ярко-синим небесам без единого облачка, без всякого признака влажности. Ноздри на этом сухом морозе сразу обрастали инеем, и легкие простывали, исторгая кашель. Данло дважды, несмотря на маску, чуть не обморозил себе лицо.
Чтобы поддерживать внутреннее тепло, требовалась обильная пища, но ему становилось все труднее отыскивать рестораны, где подавали хотя бы водянистый курмаш. Он предпочел бы сидеть в относительном тепле своей хижины, но вынужден был отправляться в город, чтобы поесть хотя бы раз в день.
Потом настал 50-й день зимы, когда во всем городе как-то сразу кончилась еда. Содружество и рингистский флот готовились к своему решающему, как молились все, сражению, и их маневры преграждали дорогу продовольственным транспортам с Ярконы и Летнего Мира. Рестораны начали закрываться один за другим — сначала бесплатные, за ними почти все частные, от Крышечных Полей до Хофгартена. На следующий день тридцать тысяч хариджан собрались в Меррипенском сквере, требуя, чтобы Орден пожертвовал своими продовольственными резервами и накормил голодных.
Но в действительности никаких резервов у Ордена не было.
В залах Академии царил такой же голод, как на улиие Контрабандистов. Лорд Палл отправил в Меррипенский сквер посланца, чтобы поведать хариджанам о лишениях мастеров и послушников. Но люди, чьи умы были отравлены мифом о закромах Ордена, набитых курмашом и рисом, не поверили посланцу и закидали его смерзшимся снегом.
Случаи насилия в городе учащались. Рассвирепевшие хариджаны били магазинные витрины и вламывались в закрытые рестораны, но обнаруживали, что те пусты, как раковины, выброшенные прибоем на берег. Они врывались в квартиры богатых червячников и даже пытались взять штурмом собор Ханумана, в подвалах которого, по слухам, хранилось много провизии. Божкам и охранникам Ханумана стоило труда разогнать их. После битвы у западного портала остались лежать двести мертвых хариджан, и еще больше нападающих получили пулевые ранения или лазерные ожоги. В тот день погибли также пятьдесят четыре рингиста, после чего Хануман ли Тош раздал лазеры всем своим потенциальным богам и закрыл Старый Город для всех, кто отказывался следовать Путем Рингесса.
Данло в ожидании операции следовало бы держаться подальше от опасных улиц, тем более что в городе невозможно стало найти даже зернышко курмаша или гнилой кровоплод, — но он упорно продолжал свой другой, личный поиск. Каждый день он выбирался из Пущи в город и разыскивал на ледяных улицах Тамару. И чем больше он искал, тем сильнее и острее становилось в нем чувство, что она тоже ищет его.
Однажды на раскрашенном в зеленую и оранжевую клетку перекрестке Посольской и Гостиничной улиц ему показалось, что он увидел ее. Скользя в толпе богато одетых дипломатов, паломников и других застрявших в Невернесе пришельцев, он испытал вдруг странное покалывание в области затылка, будто кто-то щекотал его там электричеством, кончиком ножа — или глазами. Данло обернулся, чиркнув коньками по льду, — и там, среди людей, тщетно разыскивающих съестное в здешних отелях, мелькнули светлые волосы и темные глаза из его заветных снов. Видение явилось и пропало бесследно, несмотря на поспешность, с которой Данло устремился в погоню за ним.
Тогда же он заметил еще кое-что. Позднее, пытаясь пережить этот момент вновь во всех его красках и ощущениях, точно на картине фантаста, Данло вспомнил пару рук без перчаток, с блестящими красными кольцами. Чувство реальности подсказывало, что это ошибка памяти: кто, кроме аутиста, вышел бы на улицу без перчаток в такой мороз? Кто, кроме воина-поэта (причем одного-единственного), осмелился бы щеголять красными кольцами у всех на глазах? Быть может, это всего лишь галлюцинация ослабевшего от голода мозга — или фрагменты уличных впечатлений сложились в картину, имеющую для него, Данло, особое значение. Но память тем не менее оставалась памятью. Данло привык доверять этому окну в объективную реальность так же, как собственным глазам. После этого случая, раскатывая по улицам от Колокола до Фравашийской Деревни, он всякий раз оборачивался, ощутив жгучее прикосновение чьих-то глаз — оборачивался в надежде снова увидеть Тамару, смотрел, слушал и ждал.
И однажды — чисто случайно, как могло показаться, — он нашел ее. Произошло это накануне того дня, когда ему полагалось вернуться в дом Констанцио. Небо ярко синело, и было слишком холодно, чтобы бродить по улицам, если только дело не шло о жизни и смерти. Но Данло, уже ближе к вечеру, когда бледно-желтое солнце стояло над западными горами, не спешил, проезжая по улице Музыкантов. Несколько раз он задерживался перед обогревательными павильонами, слушая несущиеся оттуда звуки кифар и окарин. Около улицы Путан он даже нашел сольскенского флейтиста, игравшего на такой же, как у него, шакухачи.
Данло так долго стоял там, зачарованный этой музыкой души и дыхания, что его коньки чуть не примерзли к красному льду. Слушателей, кроме него, было совсем мало, и уж совсем у немногих имелись деньги, чтобы поделиться ими даже с самым блестящим из виртуозов. У самого Данло была только пригоршня орехов бальдо, которые он насобирал в лесу под снегом. Положив их в чашку флейтиста, он вдруг услышал звуки, оживившие в нем всю давнюю боль и тоску. Они струились по улице, как звон золотого колокола и пение струн виолы. Паутинная арфа! Данло узнал ее сразу — ведь Тамара играла на этом экзотическом инструменте со страстью и талантом мастер-куртизанки.
В мгновение ока он преодолел следующий квартал улицы.
Там, перед закрытой стальной дверью частного ресторана, на белой шегшеевой шкуре сидела она, играя для кучки ценителей. Ее слушали два червячника в черных соболях и астриер с тяжелой платиновой цепью на шее. Эталон восьмифутового роста с одной из планет Пипеля стоял, крепко зажмурившись, едва не падая на плотную женщину с экстатическим выражением лица. Все внимание этих людей было приковано к музыкантше с золотой арфой на коленях.
Данло тоже смотрел на нее. Она откинула капюшон своей темной шубы, чтобы лучше слышать, и ее длинные светлые волосы падали на плечи, как солнечный свет. Ее глаза цвета черного кофе столько раз смотрели на него с тоской и надеждой, когда он закрывал свои! Лицо, говорившее о перенесенных страданиях и тяготах, сохранило свою красоту. Постаревшее, исхудавшее, оно по-прежнему излучало ту дикую радость бытия, которую Данло называл анимаджи. Тамара всегда жила радостно, как играющая на солнце тигрица, — и глубоко, как тигрица, запускала когти в жизнь. За это Данло, помимо всего прочего, и любил ее.
— Тамара, Тамара, — шептал он, но никто не слышал его за звуками арфы. — Тамара, Тамара.
Ее пальцы перебирали струны с плавностью и естественностью текучей воды; Данло дивился, как она вообще способна шевелить пальцами на таком морозе. Это, видимо, следовало приписать той же анимаджи, чистому огню жизни, струящемуся по ее телу и позволяющему вкладывать душу в музыку, несмотря на жестокий холод. Данло помнил этот ее огонь и помнил, как наполнял ее собственным диким огнем. Чего бы он ни отдал, чтобы снова лечь с ней на мягкий мех, как в ту их первую ночь много лет назад.
Тамара, Тамара.
Она закончила играть и отложила арфу. Эталон, порывшись в карманах, не нашел ни одного городского диска и торопливо бросил в ее чашку несколько золотых давинов.
Астриер, удивив всех, снял с шеи цепь и опустил ее, как свернувшуюся змею, рядом с монетами эталона.
— Впервые слышу такую игру на арфе, — сказал он с поклоном. — Может быть, вы купите на это немного еды. — Другие тоже положили что-то: кисет с тоалачем, мешочек сушеных снежных яблок, сорванный в Гиацинтовых Садах огнецвет. Потом поклонились артистке и разошлись по своим делам.
Данло подошел последним, стыдясь своих пустых рук, но потом вспомнил про камень, который нашел пять дней назад, бродя по пескам Северного Берега у старого дома Тамары. Он вытащил его из кармана на свет — гладкий и круглый, не больше ореха бальдо. Кристаллические нити вплетались в голубовато-серую породу, как паутина. У Тамары на окне чайной комнаты когда-то лежали семь натертых маслом морских камней — может быть, этот ей тоже понравится. Данло положил камень в ее чашку.
— Какой красивый! — Тамара взяла камень в руку — можно было подумать, он ей больше по душе, чем золотые монеты и платиновая цепь. — Я всегда любила красивые камни.
— Я… так и подумал. — На этом участке улицы не осталось никого, кроме них двоих. Данло стоял в своей белой шубе и черной маске, не сводя с нее глаз. — Жаль, что не могу больше ничего дать вам — на камень еды не купишь.
— Не купишь, — согласилась Тамара, взвешивая на другой ладони монеты и цепь. — Но еды все равно почти не осталось. Такие дары я получаю нечасто, но вряд ли мне дадут за них хотя бы мешочек риса.
— Вы, должно быть, голодны, — помолчав, сказал Данло. — Я сожалею.
— Но ведь и вы тоже голодны, — невесело улыбнулась Тамара. — Теперь почти все голодают.
— Верно, я голоден. Но ваша игра… это как серебряные волны, как море — поющее под звездами Я слушал и забывал о голоде.
Тамара, любившая комплименты не меньше шоколадных конфет, тихо рассмеялась. Смех был все тот же: чуть печальнее, быть может, но такой же звучный, теплый и полный жизни.
— Как красиво вы говорите. — Ее взгляд стал более пристальным. — И голос у вас красивый — мы раньше не встречались?
Данло улыбнулся, потому что голос у него на морозе звучал сипло, и ответил:
— Мне уже случалось слышать, как вы играете.
— В самом деле? Я не так давно играю на улицах. Но когда-то я была куртизанкой — может быть, мы заключали контракт?
Данло вспомнил, как она обещала выйти за него замуж, и за его левым глазом вспыхнула боль. Не в силах ничего вымолвить, он опустил глаза на лед, где лежали их тени.
— Меня зовут Тамара Десятая Ашторет, но боюсь, мы с вами беседуем не совсем на равных. Не хотите ли снять маску, чтобы я могла видеть, с кем говорю?
Данло еще больше потупился, глядя на свое отражение во льду, но красный лед давал плохое представление о том, каким видит его Тамара. Мохнатый белый мех, черная маска, синие глаза, истекающие теплой соленой водой и светом.
— Почему вы не хотите снять маску? — мягко повторила Тамара.
И Данло, сердце которого стучало о ребра, как кулак, сорвал маску с лица.
— О нет! — ахнула Тамара, когда их глаза встретились.
Она бросила протирать арфу шелковым лоскутом и вскочила, точно собравшись бежать.
— О, Данло, я думала, что никогда больше тебя не увижу.
— Я… всегда молился о том, чтобы свидеться с тобой.
Она, не отрываясь, разглядывала шрам-молнию у него на лбу и другие шрамы, помельче, которые опыт и страдания оставили у него на лице.
— Я слышала, что ты покинул город вместе с другими пилотами Экстрианской Миссии. Вы собирались основать где-то в Экстре вторую Академию, да? Я думала, ты больше сюда не вернешься.
— Вот… пришлось.
Данло шагнул к ней, но она, вдруг вспомнив, что должна держаться на расстоянии, вытянула руку ладонью вперед.
— Нет, пилот. Не надо.
— Тамара…
— Нет, пилот. Нет, нет.
Данло стоял, сжав кулаки, не зная, что делать дальше.
— Здесь очень холодно, — сказал он наконец. — Зайдем ненадолго в кафе? Я не нашел ни одного, где еще подают кофе, но горячий чай еще есть, если ты не против пить его без меда.
— Да, хорошо бы, но я жду одного человека.
Стальной осколок, острее и холоднее ножа воина-поэта, вонзился Данло в левый глаз. Данло моргнул и сказал:
— Понятно.
Что-то в его голосе, видимо, тронуло Тамару и побудило самой прикоснуться к нему. Ее пальцы, обжигая, медленно прошлись по его лицу от глаза до подбородка.
— О, пилот. Мне очень жаль, но я боюсь, что все осталось без изменений.
— Ты так и не вспомнила меня?
— Я помню только нашу последнюю встречу в доме Матери.
— И за все это время — ничего?
— К сожалению.
— Никаких образов, никаких снов о тех моментах, что мы провели вместе?
— Кроме нашего прощания тогда же, у Матери. Возможно, было бы лучше, если бы мы распрощались навсегда.
— Нет, нет. Видеть тебя сейчас… твои глаза, твое благословенное дыхание… это все равно что обрести солнце после многих лет путешествия в космосе.
— Ты очень красив, — с тихим смехом сказала Тамара. — Нетрудно понять, почему я тебя любила.
— Ты помнишь, что такое имаклана? Любовная магия между мужчиной и женщиной, мгновенная и в то же время вечная.
— Да, помню. Ты говорил.
— Ты не веришь, что она существует?
— Наверно, какая-то часть меня все еще тебя любит, — грустно сказала она. — Но я этого не чувствую. И не хочу чувствовать, пожалуй. Жаль, но это так.
— Мне… тоже жаль.
Он зажмурился, отгоняя подступившие к глазам горячие слезы. Он вспомнил, сколько хорошего и доброго стерло из памяти Тамары насилие, учиненное над ней Хануманом, и это привело его в ярость. Слезы высохли, как вода под жарким солнцем. Когда он снова взглянул на Тамару и на резкий, заливающий улицу зимний свет, в его глазах не было ничего, кроме гнева.
— Ты все еще сердишься, пилот. — Тамара отступила на шаг, к разостланной на льду меховой шкуре. — Все еще полон ненависти и отчаяния.
— Да. — Это слово вырвалось у него с силой дующего над морем смертельного ветра.
— А я все так же боюсь этой твоей ненависти. Боюсь тебя.
Глаза Данло зияли, как дыры, пробитые в душу. Не желая показывать Тамаре бездонной глубины своих эмоций, он потупился и сказал:
— Мне всегда хотелось сделать что-то, чтобы перестать ненавидеть.
— Зачем ненавидеть вообще? Зачем ненавидеть весь мир из-за того, что я подхватила вирус, разрушивший мою память?
— Я не мир ненавижу, — тихо, почти шепотом ответил Данло. — Я ненавижу одного человека.
— Но за что? И кто он?
— Не имеет значения.
— Пожалуйста, скажи мне.
— Не могу.
— Это Хануман?
Данло улыбнулся живости ее ума, но промолчал.
— Да, его, наверно, многие ненавидят, — сказала она. — Из-за войны, из-за того, что он сделал.
Данло склонил голову, признавая вину Ханумана, но снова ничего не сказал.
— Но ты ненавидишь его не за это?
— Нет.
— За что же, пилот? Пожалуйста, скажи мне.
— Нет.
— За то, что Хануман влюбился в меня в ту первую ночь, как и ты?
— Значит, ты помнишь, что происходило между тобой и Хануманом?
— Помню только, что никогда его не любила. Не могла любить.
— Понятно.
— Ты ненавидишь его из-за меня?
Данло грустно улыбнулся, глядя, как играет солнце в ее золотых волосах.
— И твоя ненависть сильна до сих пор. Я чего-то не понимаю о тебе и о нем, правда? Почему ты не хочешь сказать?
— Не хочу причинять тебе боль.
— Как может твоя ссора с Хануманом причинить мне боль?
Он глотнул холодного воздуха, закашлялся, зажмурился, снова открыл глаза и сказал: — Твою память разрушил не вирус. Это сделал Хануман.
— Как так? Что ты говоришь?
И Данло рассказал ей, как Хануман под предлогом записи ее воспоминаний о Старшей Эдде в компьютер однажды ночью, глубокой зимой, заманил ее в часовню собора. Там он надел ей на голову очистительный шлем и тщательно; одно за другим, уничтожил все ее воспоминания о Данло. А после, пользуясь ее смятением и отчаянием, кольнул ее в шею крошечной иголкой и ввел ей вирус, вызывающий катавскую лихорадку. Но культура вируса была мертвой: Хануман впрыснул ее только для того, чтобы вирусолог, который будет исследовать Тамару впоследствии, поверил, что она заразилась этой страшной болезнью. Он надеялся, что никто не заподозрит его в этом преступлении, и никто действительно не заподозрил — кроме одного.
— Но ведь не Хануман же рассказал тебе об этом. — Большая черная машина-замбони ползла по улице, разглаживая лед. Тамара дождалась, когда она проедет, и спросила: — Откуда ты знаешь?
— Знаю, потому что знаю Ханумана. Под Новый год, в соборе, я принес ему подарок, и он мне все сказал — глазами.
В Тамариных глазах вспыхнул гнев. Она перевела дыхание и спросила: — Почему же ты ничего не сказал мне?
— Ты и без того достаточно выстрадала, когда я увидел тебя в доме Матери.
— О, Данло. — Лицо Тамары смягчилось, она посмотрела на него так, будто его страдания ранили ее больнее собственных. — Ты думаешь, что Хануман сделал это, чтобы разлучить нас?
— Да. Но дело не только в этом.
— В чем же еще?
Данло, прижав руку к пылающей голове, на миг задержал в себе ледяной воздух и выдохнул.
— Хануман хотел сделать мне подарок. Он всегда ощущал боль жизни очень остро, очень глубоко. Я никогда не знал человека, более одинокого, чем он. Но его одиночество не было подлинным. Он всегда был очень близок к тому единственному, что хотел бы полюбить всем сердцем. Он нуждался в том, чтобы это полюбить, но ему всегда что-то мешало. И эта единственная вещь — наш прекрасный, благословенный мир, понимаешь? Наш… ужасный мир. Есть жизнь внутри любой жизни, свет внутри света, и сила его сияния страшна. Загляни в глубину камня, и ты увидишь, как зажжется чудесный свет там, внутри. Хануман никогда не мог вынести этого зрелища, никогда не хотел по-настоящему увидеть себя таким, как есть. В нем самом свет сияет ярко, как звезда, и связывает его со светом внутри всех вещей — вот что всегда было ему ненавистно. Он всегда боялся потерять себя, став одним из бесчисленного множества огней. И ненавидел себя за этот страх. Но перестать бояться он был способен не больше, чем перестать страдать от того, что он жив и одинок. И он отчаялся. Он устал от своего небывалого, страшного отчуждения. А когда он, вспоминая Старшую Эдду, поневоле заглянул в свет своей памяти, Единой Памяти, стало еще хуже. Я искал способ понять, что должен чувствовать он. Хотел объяснить это себе с помощью слов. Я думаю, что единственный цвет, который он по-настоящему знает, — это черный. Но внутри черного тоже есть черное, правда? Настолько же не похожее на цвет моей маски, как ее чернота на белизну. Это чернота бесконечной глубины, бездонная пещера, такая истинная и полная чернота, что никто не может увидеть ее по-настоящему — ведь она не отражает света. Эта полная чернота, это несуществование света — вот что видит теперь Хануман, когда смотрит в себя. Его душа сломана, и он знает об этом. Но вместо того, чтобы попробовать исцелиться, он называет этот мрак и отчаяние своей судьбой и принуждает себя любить это. И он… всегда хотел, чтобы я тоже это любил. Чтобы я это понял — не только на словах, а изнутри. Он хотел вжечь эту черноту в меня, чтобы не быть больше таким одиноким. Это был подарок, который он сделал мне. Вот для чего он уничтожил твою память.
Данло умолк. Теперь они оба глядели друг на друга так, словно каждый хотел проникнуть другому в душу. Где-то на улице шуршали коньки, и ветер швырял крупинками старого снега в витрины и запертые двери. Тамара улыбнулась, и вся боль мира отразилась в этой улыбке.
— О, Данло, — сказала она, снова коснувшись его лица. — Я ведь ничего не знала.
— Я не хотел, чтобы ты знала. Ты лишилась части себя самой — я не хотел, чтобы ты оплакивала еще и мою потерю.
Тамара накрыла его руку своей.
— Я потеряла только память — мне кажется, твоя Потеря намного больше.
— Нет-нет. Был такой момент в доме Матери, когда ты почти забыла, кто ты на самом деле.
— Скверное было время, — согласилась она.
— Но я не забыл. Ты всегда была просто собой, понимаешь? Чудесной собой. Даже теперь ты больше беспокоишься обо мне, чем о себе. Столько любви, Тамара, столько сострадания. Я всегда любил тебя за это… и всегда буду.
Ложной скромностью Тамара никогда не страдала, но теперь, после потери памяти, гордости у нее поубавилось.
— Хотела бы я любить так же, как и ты, — сказала она, сжав руку Данло. — В тебе появилось что-то такое — не помню, чтобы я видела это раньше.
— Ты только что сказала, что боишься ненависти, которую видишь во мне.
— Вот это мне и непонятно, — странно посмотрев на него, сказала она. — Только что она была, эта ненависть, эта твоя чернота внутри черноты, а теперь ты излучаешь свет, точно звезда в тебе загорелась. Жаль, что ты сам себя не видишь — своего лица, своих глаз. У тебя такие красивые глаза, милый Данло, — такие дикие, такие полные света. Ни у кого не встречала таких живых глаз. Когда я попрощалась с тобой в доме Матери, глаза у тебя были почти мертвые, и мне тоже хотелось умереть. Я тогда ужасно боялась тебя и ничего, кроме этого страха, не сознавала. И вот ты вернулся со звезд. Думаю, ты получил там и другие дары, кроме Хануманова. В тебе столько любви — то, что ты, как тебе кажется, видишь во мне, лишь слабый отблеск того, что льется, как солнце, из тебя.
Когда Тамара говорила, с ее губ слетали серебристые облачка.
— Мне всегда было легко любить тебя, — сказал Данло. — И невозможно не любить.
— О, я думаю, дело не только в тебе и во мне. Речь о чем-то гораздо большем.
— Ты всегда верила, что любовь — тайна вселенной, — улыбнулся он. — Что любовь способна пробудить все и всех — мужчин и женщин, звезды, галактики.
— Да. Любовь на это способна.
— Ты по-прежнему веришь в нее?
— Конечно. Куда ни загляни, в ядро атома или в сердце мира, — там, можно сказать, только она и ничего больше.
— Хотел бы и я в это верить.
— Загляни в собственное чудесное сердце, и ты найдешь там любовь, намного превышающую любовь мужчины к женщине.
— Я знаю, что она там есть. Удержать бы только ее… но иногда это труднее, чем поймать отражение солнца в морской волне.
— И все-таки ты близок к этому, правда?
— Иногда я купаюсь в свете с дельфинами и чайками, но слишком часто что-то черное и бесконечно огромное тянет меня вниз, как камень.
— По-моему, ты слишком хорошо понял Ханумана.
— Это верно.
— Но ты хотя бы еще борешься. В тебе бушует война.
— Да, я борюсь. — Его глаза на миг вспыхнули еще ярче. — Эта война идет вечно, правда?
— Пожалуй. Во всяком случае, мне ясно, как дошло до войны между тобой и Хануманом.
— Мне жаль, что она началась. Но Хануман сказал бы, что это наша судьба.
— Никто не заставлял его делать тебе такой подарок.
— Верно. — Он взял ее руки в свои, защищая их от ветра. — Но и меня никто не заставлял пытаться открыть ему красоту мира, как видел ее я.
— О чем ты?
— Все, что во мне есть, все, чем я надеялся стать, — со странной и грустной улыбкой сказал Данло, — это глубоко трогало его, понимаешь? Огнем касалось его обнаженного сердца. Боюсь, я что-то убил в нем. Боюсь, что сам в большой степени сделал его таким, какой он есть сейчас.
— Он сам сделал свой выбор, разве нет?
— Да — а я сделал свой. Мы начали свою духовную войну и перенесли ее в религию, возникшую вокруг моего отца.
— Не можешь же ты винить себя за то, что сделал Хануман с Путем Рингесса.
— Почему не могу? Мы начали эту войну сознательно, а теперь она перекинулась в космос.
— Как это все трагично. Как печально.
— Да.
— И ты напрасно винишь себя. Не ты начал эту глупую войну, и остановить ее ты тоже не можешь.
На миг в его глазах вспыхнул странный дикий свет. Он рассказал Тамаре о своем путешествии из Экстра на Шейдвег, где собралось Содружество Свободных Миров. Рассказал, как прибыл в Невернес в качестве посла и как Хануман бросил его в темницу. О пытках он умолчал.
— Но как ты оказался здесь, на улице, с маской на лице?
— Бенджамин Гур и его люди устроили мне побег. Чуть весь собор не снесли при этом.
— Ты не пострадал?
— Нет. Но многие другие были ранены… и убиты.
— Ужасно. Столько убийств вокруг после начала войны.
— Так ты ничего не знала?
Она потрясла головой.
— Боюсь, что в последние годы я не уделяла внимания политике.
— Понятно.
— До войны было вполне возможно не обращать внимания на то, что делает Хануман. Его планы и совершаемые тайком убийства не слишком затрагивали город.
— Разве что эту часть города.
— Но я как раз здесь и живу. Я уже лет пять как не бывала в Старом Городе.
— Даже Мать не навещала?
— Матушка скончалась вскоре после твоего отлета в Экстр. Теперь у них новая Мать.
Елену Туркманян, по словам Тамары, сменила на посту Матери Софья Омусан, целиком и полностью очарованная Хануманом ли Тошем.
— Вот и все, что мне известно, — сказала Тамара. — Выйдя из Общества, я не общалась ни с одной из сестер.
— И у тебя не осталось никаких связей с твоей прежней жизнью?
— Почти никаких, — с загадочной улыбкой ответила Тамара. Она отняла у Данло руки и стала высматривать кого-то среди конькобежцев. — Поздно уже. Вечереет.
Она закончила вытирать арфу и спрятала ее в серебряный футляр, свернула мех кожей наружу и положила его рядом с арфой. Следя за ее точными, грациозными движениями, Данло вспоминал заботу, которую она всегда уделяла самым обыкновенным будничным делам. Казалось, что все приносит ей радость: прикосновение шелковистого меха, свист ветра, даже резкий красный свет, отражаемый уличным льдом. Казалось, что Тамара любит все, что видит и к чему прикасается, — и Данло любил ее за это.
— Я рад, что нашел тебя снова, — сказал он, долбя лед острием конька. — Рад, что вижу тебя.
— Я тоже рада была тебя видеть.
Он хотел уже проститься, но тут она, глядя куда-то поверх его плеча, расплылась в улыбке. Лицо ее осветилось любовью, как радужный шар. Данло, боясь увидеть, на что она смотрит, все-таки заставил себя оглянуться. По улице, мимо закрытых ресторанов и магазинов, скользили к ним женщина и двое детей в шегшеевых шубах. Не успел он отсчитать десяти ударов сердца, дети — мальчуганы лет пяти — подкатили так близко, что он смог разглядеть их румяные лица.
Агира, Агира, прошептал он про себя.
Мальчик справа походил на поспешающую за детьми женщину: те же огненно-рыжие волосы и толстые щеки — кормили его, как видно, досыта. Мальчик слева был худ и создан для быстрого движения, как соколенок. Его длинный острый нос резал ветер; капюшон сдуло у него с головы, и волосы растрепались. Черные волосы, а глаза как два синих, бурлящих восторгом озера.
О Агира!
— Я не знал.
Еще несколько мгновений, сопровождаемых смехом и скрежетом коньков, — и черненький, выиграв состязание, влетел в раскрытые объятия Тамары. Их взаимная любовь бросалась в глаза и радовала, как раскрывающиеся огнецветы. Тамара расчесывала пальцами волосы мальчика, откидывая их со лба, а он обхватил ее за талию и зарылся лицом в ее шубу.
— Мама, — сказал он вдруг, отпустив ее и сунув руку в карман, — смотри, что я тебе принес!
В руке у него появился обернутый в синтокожу, сильно помятый и раскрошившийся бутерброд. Тамара взяла его в руки, как драгоценный огневит.
— Спасибо тебе, Джонатан, — но где же ты его взял?
Тут к ним подъехали женщина с другим мальчиком, и Джонатан среди смеха и приветствий наконец заметил стоящего рядом с матерью Данло. Он смело посмотрел незнакомцу в глаза и выдержал взгляд дольше, чем полагалось бы пятилетнему ребенку. И это соприкосновение глаз, этот свет дикой юной души, так похожей на его собственную, сказало Данло, что Джонатан — его сын.
Это знание пришло к нему не так, как видение битвы при Звезде Мара. Оно явилось внезапно и куда более осязаемо: оно горело огнем у него в животе и в слитном дыхании их обоих. Каждая клетка его тела, чуть ли не на уровне ДНК, резонировала с жизненным огнем этого чудесного мальчика и заставляла петь кровь в жилах Данло. Она звучала в тайной глубине его сердца, эта песня, больше похожая на крик большой белой птицы над морем, и этот пронзительный ясный звук все длился и длился.
Тамара, Тамара, как это возможно?
Он посмотрел в ее темные, мягкие, полные любви глаза.
Не было нужды говорить ей, что он знает, что Джонатан его сын. Она уже знала, что он знает, — он видел это по ее неистовой гордости, по ее взгляду, как бы говорящему: “Видишь, какое чудесное дитя мы с тобой создали? ” Да, он видел это чудо творения, это дитя его мечты, которое жалось к материнской шубе, по-прежнему не сводя с него глаз. Данло смотрел на сына, и это был ужасный и прекрасный момент, где любовь и страдание, радость и печаль, прошлое и будущее стали единым целым. Данло полюбил второй раз в жизни.
Тамара, все так же держа в руке бутерброд, заметила, как подозрительно другая женщина с мальчиком поглядывают на Данло. Всегда уважавшая декорум, она поспешила представить их друг другу.
— Это Пилар Киден и ее сын, Андреас ви Новат Киден. А это, — она натянула меховой капюшон на голову Джонатана, — мой сын, Джонатан Ашторет.
Пока она называла имена, Данло кланялся каждому поочередно.
— А это, — начала Тамара, — Данло ви…
— Данло с Квейткеля, — торопливо вмешался он, помешав Тамаре назвать его полное имя.
— Данло — большой ценитель игры на арфе, — объяснила Тамара, озадаченно посмотрев на него. — И сам превосходный музыкант.
Они поговорили о том, как трудно — и опасно — играть на улице в такой холод и такие неспокойные времена. Затем Тамара вернулась к чуду бутерброда, врученного ей Джонатаном.
— Ужасно хочу есть, — сказала она, разворачивая пленку. — А вы-то все ели хоть что-нибудь?
— Мы нашли ресторан, мама. И тоже ели бутерброды.
— По правде говоря, это не совсем ресторан, — сказала Пилар, миловидная, несмотря на розовую кожу, покрытую редким видом пигментации — веснушками. Несколькими годами старше Тамары, ширококостная и плотная почти как Бардо, она, как и он, воплощала собой надежность и силу земли. Лицо у нее было доброе и открытое. — Просто дом на западной стороне Меррипенского сквера. Пара червячников устроили в нижнем этаже столовую. Сегодня у них бутерброды. Хлеб немного черствый — давно лежит, наверно, а уж откуда у них синтетическое мясо, и вовсе не представляю.
— А оно синтетическое? — Тамара осторожно, чтобы ни крошки не уронить, разделила два тоненьких хлебных ломтика и осмотрела кусочки красновато-бурого мяса, лежащие в гнезде из листьев кавы и карри. — Я слышала, некоторые червячники охотятся на шегшея и других животных в северной части острова.
— Думаю, что синтетическое, — сказала Пилар. — Надеюсь, во всяком случае.
— Я тоже надеюсь. — Тамара понюхала мясо, отломила крохотный кусочек и положила его на язык. — Мне очень бы не хотелось есть мясо животного, разве что под угрозой голодной смерти.
— Угроза налицо, — заметила Пилар. — Мы с Андреасом ничего не ели со вчерашнего дня, кроме этих бутербродов.
Данло, который во время своего первого путешествия в Невернес потерял счет проведенным без еды дням, мрачно улыбнулся, но промолчал.
— На вкус вроде бы синтетическое — так мне кажется, — сказала Тамара.
— Мне тоже так показалось, — подтвердила Пилар.
Этот разговор привел в растерянность Джонатана — он никогда не видел, как выращивают в чанах пищевых фабрик искусственное мясо, а ободранных мясных туш и подавно не видел. Ему хотелось, чтобы мать поела, вот и все.
— Ты разве не голодная? — спросил он.
— Очень голодная. — Тамара откусила кусочек. — А ты? Ты тоже хочешь?
— Нет, не хочу. Почему ты не ешь?
Тамара разломила бутерброд пополам и предложила половину Данло.
— Ну, ты уж точно голоден.
— Спасибо, не надо. Я не ем мяса.
— Оно синтетическое, я уверена.
Тамара не помнила о нем почти ничего, поэтому Данло вкратце рассказал об ахимсе и объяснил, что считает выращивание животных тканей в пластиковых чанах профанацией естественной жизни.
— Съешь все сама, пожалуйста, — сказал он в заключение.
— Но хлеб-то ты можешь съесть, — настаивала Тамара, протягивая ему черный ломтик.
— Я поем завтра. — Данло думал о предстоящем визите к Констанцио. Хотя они не договаривались, он был уверен, что Констанцио накормит его, чтобы придать ему сил перед грядущими операциями. — Кушай, пожалуйста.
Больше Тамару уговаривать не пришлось. Несмотря на голод, ела она изящно, не позволяя ни единой крошке упасть на лед. Кроме того, она считала жестоким есть на виду у голодных людей и прятала бутерброд, когда кто-нибудь проезжал мимо, будь то червячник, хариджан или аутист.
Джонатан и Андреас тем временем затеяли на улице игру в догонялки, а Данло беседовал с Пилар о необычайно сильных холодах. При этом он поглядывал на Тамару. Ему нравилось смотреть на мерную работу ее челюстей и ловкие движения рук. Она находила явное удовольствие в таком простом занятии, как еда, и казалась бесконечно благодарной за то, что живет. Взгляд, которым она провожала смеющегося, носящегося по улице Джонатана, сиял и грел, как солнце в день ложной зимы. В этом взгляде читались надежда, гордость, свирепая готовность защищать — и еще кое-что. Тамара любила жизнь, любила любовь и в глубине души всегда боялась все это потерять. Это было ее тайной. Данло видел: случись что-нибудь с Джонатаном — и она не захочет больше жить.
Он преклонялся перед блеском и всеохватностью ее любви.
От нее у него щипало в глазах, саднило в горле, и сердце разгоняло по телу волны красной, пульсирующей боли.
Тамара, Тамара. У нас есть сын.
Тамара доела наконец, и Пилар, поклонившись Данло, сказала:
— Становится холодно — нам пора. Рада была познакомиться с вами, Данло с Квейткеля. Всего вам хорошего.
— И вам тоже, и вашему сыну, — ответил Данло, вернув ей поклон.
Андреас прервал игру и подкатил к матери. Пока мальчишки толкались, пытаясь повалить друг дружку на лед, Тамара сказала Пилар:
— Спасибо, что присмотрела за Джонатаном. Что тебе дать за бутерброды?
— Ты сама третьего дня брала к себе Андреаса — забыла? И кормила его целых два раза.
— Всего лишь курмашом. За мясо червячники должны были взять гораздо больше.
— Я ведь тебе говорила, что в конце концов все будет стоить одинаково.
— Вот. — Тамара достала из кармана платиновую цепь, которую ей дал астриер. — Сегодня у меня был хороший день — возьми, пожалуйста.
Глаза у Пилар загорелись при виде красивой вещицы.
— Нет, не могу, — тем не менее сказала она. — Это стоит гораздо дороже, чем пара бутербродов.
— Через пару дней уже не будет стоить. Ты верно говоришь — в конце концов все уравняется.
— Нет, Тамара, я правда не могу.
— Можешь и должна. Бери.
Тамара ласково разжав пальцы Пилар, вложила ей в руку цепь, и та сдалась, уступив ее воле.
— Спасибо тебе. — Пилар еще раз поклонилась, обняла за плечи Андреаса, и оба укатили прочь.
— Я люблю Пилар, — сказала Тамара. — В то жуткое время, когда я потеряла память и едва сознавала, кто я есть, она заботилась обо мне.
— Я рад, — ответил Данло. — Она показалась мне человеком, которого легко полюбить.
Тамара, кивнув, привлекла к себе Джонатана.
— Хочешь проводить нас? Нам с тобой надо поговорить, а на улице холодно — надо увести Джонатана домой.
— Очень хочу. Вы далеко живете?
— Нет, всего в нескольких кварталах отсюда.
Она подняла свой коврик и арфу. Данло вызвался помочь, и она вручила ему мех, а куда более тяжелый футляр с арфой оставила себе. Она была сильной женщиной и без труда несла его в одной руке, ведя другой Джонатана. Данло держался чуть позади. Они миновали улицу Десяти Тысяч Баров и свернули на маленькую ледянку, где стояли жилые дома из темного камня. В воздухе пахло чесноком и поджаренным хлебом; рестораны все позакрывались, но у многих, видимо, еще остались запасы, и теперь они, заперев двери, стряпали себе ужин. Данло чувствовал и другие запахи: аромат Тамариных волос, едкие молекулы, выделяемые речевыми органами инопланетных Подруг Человека, но всего гуще был запах страха.
Страх чувствовался повсюду — не только в обильной кислой испарине под ветхими шубами. Он проявлялся в спешке, с которой конькобежцы проскакивали темные переулки; в том, как червячники сторонились кашляющих аутистов и хариджан с впалыми животами; в том, как люди избегали смотреть в глаза друг другу. Данло обрадовался, когда Тамара открыла дверь в подъезд. Они поднялись по истертым ступенькам и прошли по коридору, освещенному радужными шарами. Данло одобрил чистоту в подъезде и игру теплых красок на стенах.
Еще приятнее было войти в квартиру и остаться втроем, избавившись от леденящего холода улицы.
— Ботинки надо снять, — предупредил Джонатан, когда они все ступили на большой холщовый половик. — У нас такое правило.
Нагнувшись, чтобы развязать шнурки, Данло огляделся.
Жилище Тамары и Джонатана размерами почти не превышало его снежную хижину. Комнат было всего две: каминная, где они находились, и смежная, застланная шкурами комнатка, едва ли заслуживающая названия спальни. Каминная тоже не заслуживала своего титула, поскольку в ней не было ни камина, ни плазменной печки. Данло помнил, как любила Тамара танцевать обнаженной перед огнем — как она, должно быть, скучает теперь по жару пламени, лижущему кожу.
Здесь, впрочем, имелся радиатор, и квартира достаточно хорошо отапливалась горячей водой из подземных источников города. Теплу сопутствовал уют, который Тамара создала с помощью множества ковров, комнатных цветов и рисунков Джонатана. Напротив двери помещалась электрическая плитка, где Тамара, по ее словам, варила в удачные дни курмаш или кипятила чай.
— Хочешь чаю? — спросила она, вешая шубу Данло на сушилку. — Я приберегла летнемирский зеленый — как раз для такого случая.
Данло уселся, поджав ноги, на ковер, а Тамара стала готовить чай. Джонатан тихо шмыгнул в спаленку и вернулся с двумя самыми ценными своими сокровищами: в одной руке простая флейта из черного осколочника с пятью дырочками, в другой черная клариевая модель легкого корабля двухфутовой длины. Флейту он положил на ковер и стал показывать Данло, где помещаются в легком корабле ракеты и двигатели пространства-времени.
— Когда вырасту, стану пилотом, — сообщил он и пересказал слышанную от Андреаса историю битвы при Маре. — Если, когда я вырасту, опять будет война, я буду сражаться на своем корабле. Как ты думаешь, война будет?
Данло с грустной улыбкой сказал, что не знает.
— Когда я был маленьким, я тоже хотел стать пилотом, — добавил он.
Джонатан, одобрив это, улыбнулся ему с видом заговорщика.
— Я поведу свой корабль в другую галактику. Мама говорит, что даже Мэллори Рингесс не летал так далеко.
Они поговорили о путешествиях великих пилотов: Ролло Галливара, Тихо, Леопольда Соли и Мэллори Рингесса, а потом стали пить чай из хрупких голубых чашек. После чаепития Тамара попросила Джонатана взять флейту, чтобы начать ежевечерний урок музыки. Мальчик сыграл песенку, которой научила его мать. При этом он так старался понравиться Данло, что часто ошибался в перестановке пальцев и пускал петуха. Закончив, он отложил флейту и сказал:
— Я это только вчера выучил, поэтому не очень хорошо получается. Но я могу сыграть две первые Песни Солнца — хочешь послушать?
— Нет, Джонатан, уже поздно. Спать пора, — вмешалась Тамара.
— А сказка?
— Завтра я расскажу тебе две, — пообещала мать.
Джонатан был мальчик волевой — еще более волевой, чем его мама, — но препирательство и нытье были не в его характере. Быть непослушным он тоже не хотел — поэтому он, как делал частенько, попросту притворился, что не слышит, и спросил Данло:
— Расскажешь мне сказку?
Данло, заметив, что Тамара улыбается, сказал:
— Ладно. Вот одна сказка, которую я очень любил в детстве.
Джонатан взобрался к нему на колени, и Данло стал рассказывать о Двух Друзьях. В первое утро мира мудрый Агира, снежная сова, подружился с юношей Манве. Он научил его охотиться, любить женщину и наслаждаться красотой только что созданного мира. И летать. Манве был первым человеком, взлетевшим в небо. Они вместе летали над зелеными островами и холодным синем морем. Они облетели весь мир, и крыло одного почти касалось руки другого. Они лакомились рыбой и порой воровали у Тотуньи, белого медведя, его добычу, тюленину или лосося. А в третий вечер мира они взлетели выше небес, оставив далеко внизу леса, горы и морские льды. Их глаза вспыхнули на ночном небе, как серебряные огни, — так появились первые звезды.
— Но ведь по правде звезды — это горящий водород и гелий, да? — спросил Джонатан.
— Откуда ты знаешь? Разве ты когда-нибудь трогал звезду?
— Нет, они для этого слишком горячие, — засмеялся Джонатан.
— Да, звезды — это небесные огни, но не только.
— Но ведь они не могут видеть?
— А разве ты, глядя на звезды, не замечал, что они смотрят на тебя?
Джонатан снова засмеялся и сказал: — Ты странный.
— Что верно, то верно.
— И лицо у тебя большое.
— Спасибо, — улыбнулся Данло, не зная, что на это ответить.
— Расскажешь мне еще одну сказку?
— Нет, Джонатан. Спать, — решительно сказала Тамара и собралась снять сына с колен Данло.
— Я загадаю тебе загадку, — сказал Данло. — Это первая из Двенадцати Загадок — мой дед загадал мне ее, когда мне пришло время стать взрослым.
Мальчик, не рискуя проверять, нравится это матери или нет, смотрел только на Данло.
— Я люблю загадки.
— Так вот, слушай: как поймать красивую птицу, не убив ее дух?
— Поймать — значит посадить в клетку?
— Возможно. Но поймать можно по-разному. Звезда ловит комету, притягивая ее, цветок ловит бабочку, приманивая ее яркими красками и запахом нектара.
— Это очень трудная загадка.
— Я знаю.
— Если птицу посадить в клетку, это убьет ее дух, правда?
— Конечно.
— Очень трудная загадка. — Джонатан возвел глаза к потолку и постучал пальцем по подбородку. — Я сдаюсь. Скажи ответ.
— Я его не знаю.
— Ты должен знать, — если загадываешь загадку.
— И все-таки я не знаю.
— Разве твой дед тебе не сказал?
— Он умер, не успев закончить. Я ищу разгадку почти всю свою жизнь.
— А если разгадки вообще нет?
— Есть, я знаю.
— Может быть, ее нет — это и есть разгадка. Как фравашийский коан: каким было твое лицо до того, как ты родился?
Данло уставился на своего сына, и лицо его стало гордым и озадаченным.
— Так ты в свои пять лет уже знаешь, что такое фравашийский коан?
— Меня мама учит. Мне надо много знать, чтобы поступить в Академию, а пилотом можно стать только там.
— Я думаю, из тебя выйдет отличный пилот.
Разговор коснулся одной из любимых тем Джонатана, но его не так просто было сбить с толку.
— Я все-таки хочу знать ответ на эту загадку.
— Может быть, мы когда-нибудь найдем его вместе.
— Мне бы очень хотелось.
— Мне тоже.
Мальчик затих, сидя у Данло на коленях, а Данло достал свою флейту и заиграл колыбельную. Он посылал свое дыхание в длинный бамбуковый ствол и думал, как это возможно, чтобы глаза показывали все, что содержится в душах двух людей. Доиграв, он улыбнулся Джонатану, и Тамара, все это время чутко стоявшая над ними, взяла сына за руку. Джонатан потрогал свободной рукой шрам-молнию на лбу Данло и сказал:
— Я люблю тебя.
Тамара увела его в спальню. Данло услышал плеск воды и шорох зубной щетки. Потом мальчик сказал, что хочет есть, а тихий, ласковый голос Тамары заверил его, что завтра еды будет побольше. Она спела ему песенку и, наверно, поцеловала его на ночь, а потом опять вышла в каминную, закрыв за собой дверь, и села напротив Данло.
— Никогда не видела, чтобы он привязывался к кому-нибудь так, как к тебе.
— Он славный малыш.
Тамара опустила глаза.
— Я часто думала, что должна была сказать тебе.
— Так ты знала? Тогда, в доме Матери, — знала?
— Даже раньше. В ту ночь, когда я пошла в собор, я уже знала, что беременна.
— Понятно.
— По моим подсчетам, мы зачали его за несколько дней до этого.
— Понятно.
— Ты не спрашиваешь, откуда я узнала, что он наш.
Данло с загадочной улыбкой протянул к ней ладонь.
— Надо ли спрашивать, моя это рука или нет?
— Я все-таки скажу. Я не помню, как это было у нас, но с клиентами я всегда предохранялась.
— А со мной нет?
— Видимо, нет. Мне хочется верить, что я очень любила тебя — так любила, что хотела от тебя ребенка.
— Я в это верю.
— Спасибо тебе, — тихо сказала она. — Спасибо.
— Но почему же ты все-таки ничего не сказала мне там, в доме Матери?
— Потому что должна была проститься с тобой. Должна была — разве не понимаешь?
— Понимаю. — Он нежно взял ее за руку. — Но ведь он мой сын. Надо было сказать.
— И что бы ты сделал? Не стал бы пилотом? Не полетел бы в Экстр?
— Надо было предоставить мне выбирать самому.
— Прости, Данло. — Дрожащие пальцы стиснули его руку, и он удивился силе ее пожатия.
— Мне жаль, что так вышло.
— Ведь я всегда хотела, чтобы у него был отец.
— Ты ему обо мне не говорила?
— Сказала только, что его отец был пилот и что он пропал в мультиплексе.
Данло взглянул на модель легкого корабля, оставленную на ковре Джонатаном.
— Понятно. Стало быть, он носит твою фамилию.
— Ты полагаешь, надо было дать ему твою? Не то сейчас время, чтобы называться Рингессом.
— Верно, — согласился он, вспомнив, что и сам представился Пилар как Данло с Квейткеля. — Не то.
Лицо Тамары выразило внезапную тревогу.
— Ты сказал, что сбежал от Ханумана. Он охотится за тобой? Ты поэтому носишь маску?
— Да.
— Значит, тебе нужно убежище? Если хочешь, оставайся здесь.
— Спасибо, но у меня есть жилье.
— Но ведь ты будешь приходить к Джонатану? И загадывать ему свои дурацкие загадки?
— Боюсь, что это будет для вас опасно.
— Нам нечего есть — что может быть опаснее?
Он сжал ее руку, всматриваясь в ее исхудавшее, исстрадавшееся лицо.
— Ты права. Опасность есть всегда, правда? Хорошо. Если позволишь, я буду приходить время от времени и приносить вам, что удастся достать.
— Тебе и самому-то есть нечего.
— Но Джонатан мой сын, а ты мне почти что жена.
Она отпустила его руку и тихо заплакала. Потом сквозь слезы взглянула на него и сказала: — Ты хороший.
Он коснулся ее мокрой щеки, ее лба, ее глаз, ее волос.
— Я люблю тебя до сих пор.
— Ты же знаешь: я тебя любить не могу, — сказала она и отвела его руку. — Не могу больше любить никого из мужчин.
— Так у тебя никого не было за все это время?
— Я никого не любила. Никого не пускала в эту комнату.
— Понятно.
— Бывали времена, когда мне всяким приходилось заниматься ради денег. А с недавних пор ради еды.
— Мне жаль это слышать.
— Не жалей. Меня как-никак обучали быть куртизанкой. Когда-то я имела дело с богатыми эталонами и посвящала поискам экстаза целые дни. С мужчинами, которые ищут только короткого удовольствия, гораздо проще.
— Но сегодня ты просто играла на арфе.
— Делаю, что могу. У червячников еще можно выменять съестное, но одни берут только огневиты или золото, а другие требуют платы натурой.
— Я буду приносить вам все, что смогу найти, — повторил Данло. — Только…
Он умолк, думая, нужно ли говорить Тамаре о ваянии и о своем плане свержения Ханумана ли Тоша.
— Что только?
— Я должен буду изменить свою внешность. Все — и лицо, и тело. Я уже договорился с резчиком. Скоро мне придется надевать маску даже наедине с тобой.
— Это для того, чтобы Хануман тебя не нашел?
Данло кивнул и из любви к правде добавил:
— Чтобы он не нашел меня… таким.
— Что это значит?
Он закрыл глаза и задержал дыхание, считая удары сердца, а потом сказал:
— В это самое время Бардо, Ричардесс, Лара Хесуса и другие пилоты готовятся сразиться с Хануманом в космосе. Бенджамин Гур сражается с ним, пуская в ход лазеры, Джонатан Гур хочет победить его посредством света и любви. Я сражусь с ним на свой лад.
— Но как?
— Больше я ничего не могу тебе сказать.
— То, что ты делаешь, очень опасно, да?
— Да.
Тамара, взглянув на свои подрагивающие руки, сцепила пальцы и сказала:
— Теперь, когда Джонатан нашел отца, я не вынесу, если он его лишится.
Данло молчал, глядя, как отражается в ее глазах мягкий свет комнаты.
— О, Данло, что ты задумал? — Она расстегнула ворот шелкового платья и достала жемчужину, которую носила на шее. — Это ведь ты сделал, правда? Я не помню, как ты мне ее подарил, но откуда еще она могла у меня взяться?
Данло смотрел и вспоминал, как он нашел эту большую черную жемчужину в виде слезы, как отчистил ее и прикрепил к шнуру, который сплел из собственных, черных с рыжиной волос.
— Да, это мой подарок. В знак нашего обещания пожениться.
Тамара повернула жемчужину, и та заиграла серебристо-розовыми бликами.
— Все другие свои драгоценности я выменяла или продала, но с ней не могла расстаться.
— Это всего лишь жемчужина. Часть тела устрицы.
Видя его устремленный на жемчужину взгляд, она снова заплакала и сказала:
— Я очень хотела бы сдержать свое обещание, но не могу.
— Я знаю, — тихо отозвался он. — Я знаю.
— Но мне все-таки хочется носить ее, как залог нашей дружбы.
— Носи на здоровье. Мне приятно видеть ее на тебе.
Встав, они обнялись и долго стояли, соприкасаясь лбами.
Потом Данло надел маску, шубу и собрался уходить.
— Когда мы увидим тебя снова? — спросила она.
— Может быть, послезавтра. Я… принесу что-нибудь.
Открыв дверь в спальню, он посмотрел на спящего Джонатана и шепотом помолился за него:
— Джонатан, ми алашария ля, шанти, шанти, спи с миром.
Он вышел на улицу. Жгучий холод тут же проник в прорези маски, и Данло задумался, как ему сдержать обещание, данное сыну и женщине, которую он любил.
Глава 16 ГОЛОД
Брюхо — вот что мешает человеку возомнить себя богом.
Фридрих МолотВсе виды жизни можно рассматривать, как эволюцию материи в формы, соперничающие друг с другом за свободную энергию вселенной. Приобретать энергию и сохранять ее в веществах типа глюкозы или гликогена — фундаментальная задача жизни, жгучая потребность, присущая огнецветам и фритиллариям не меньше, чем скутари, или элидийским птицелюдям, или новым организмам Золотого Кольца. А источник почти всей энергии — это свет.
Триллионы фотонов горящей звезды преодолевают, звеня, черноту космоса. Один из этих фотонов задевает частицу материи где-нибудь в морских льдах у острова Квейткель или в красном хлорофилле созидалика. Этот контакт, занимающий стомиллионную долю секунды, поднимает один из пары электронов на более высокий уровень. Затем электрон возвращается в прежнее состояние, отдавая избыточную энергию наподобие сумасшедшего червячника, расшвыривающего по улице золотые монеты. Жизнь научилась ловить этот электрон в состоянии подъема и использовать его энергию в своих целях. Таким образом она с незапамятных времен давно забытых звезд распространилась по всей вселенной и научилась концентрировать энергию в огромных количествах.
Этому научились бактерии и гладыши — но самой жестокой, после богов, стала эта потребность жизни для людей.
С тех самых пор, как первые мужчины и женщины поднялись с четверенек под знойным солнцем Старой Земли, люди всегда хорошо умели добывать себе еду. Пища есть не что иное, как энергия, заключенная в курмаше, в меду — или в крови, мясе и нежном жирке, простилающем ребра оленухи.
Ненасытная пасть такого существа, как Кремниевый Бог, способна поглощать почти все виды материи, но источники человеческой пищи не столь разнообразны. И когда эти источники начинают таять, как снег под солнцем, голод человека проявляется во всей своей устрашающей силе, в эти худшие из времен женщины предают своих детей, а мужчины убивают других мужчин за несколько горсток риса. Все воюют со всеми, и даже лучшие из людей отчаиваются и поступаются своими убеждениями ради еды.
После закрытия городских ресторанов, когда Данло подвергся первым ваятельным операциям, борьба за еду разгорелась во всех кварталах Невернеса. Беспорядки наблюдались не только среди хариджан, но и в тихих районах наподобие Нори, заселенного беженцами из Японских Миров. Хибакуся, астриеры, червячники, члены Ордена — кто из них не ощутил на себе острых зубов голода в эти тягучие студеные дни? Даже инопланетяне страдали от недоедания. Из Зоосада поступали сообщения о птенцах элиди, умирающих из-за отсутствия нектара и синтетического мяса. Скутарийские сенешали, по обыкновению, убивали только что вылупившихся нимф, которых не могли прокормить, — а затем поедали их, поскольку в их религии дать мясу пропасть считалось смертным грехом. Совсем оголодав, они напали на воздушный купол элиди и унесли десятки элидийских детей, прежде чем их отогнали.
Самые отчаянные (и набожные) скутари выходили даже за пределы своего квартала и охотились на людей в темных закоулках у Хофгартена. Этого, впрочем, им делать не следовало. Хануман ли Тош, узнав, что трех его божков высосали дочиста, оставив только кожу да кости, поставил вокруг Зоосада кордоны своих рингистов, изолировав его от города. Не меньше трех отрядов отправились непосредственно в скутарийское селение с миссией возмездия. В кафе и на улицах поговаривали, что рингисты вломились в огромную гроздь и убили около тридцати скутари — и что червеобразные тела убитых загадочным образом исчезли; возможно, их продали червячникам, владельцам подпольных ресторанов.
Червячники же организовали охоту в северной части острова Невернес. Скользя в юрких красных ветрорезах над самыми верхушками леса, они косили лазерами шегшеев, шелкобрюхов и мамонтов — а также снежных тигров, волков и прочих животных, какие попадутся. Самые смелые предпринимали даже вылазки на лед в сотнях миль от города. Там они с помощью инфракрасных сенсоров выслеживали белых медведей и тюленей — подумывали даже об охоте на китов, плавающих в водах южного океана. Хануман публично осуждал эту бойню, но втайне отдавал себе отчет, что мясо убитых животных, как ни мало его по сравнению с миллионами голодающих, позволит ему выиграть время, чтобы закончить войну и достроить Вселенский Компьютер.
С приближением глубокой зимы даже тихисты стали молиться о скорейшем окончании войны. 82-го числа пришла новость, приободрившая почти всех: рингисты якобы вступили в бой со всем флотом Содружества у Алогирского Дублета. Все надеялись, что это сражение будет решающим, но на следующий день Сальмалин Благоразумный прислал легкий корабль, пилот которого сообщил Коллегии, что это была только стычка и флот уничтожил лишь горстку вражеских кораблей, сам потеряв десять легких кораблей и сорок две каракки. В тот же день Бенджамин Гур нанес очередной удар.
Решив испытать свою силу, он повел кольценосцев на штурм дома в Старом Городе, где разместились два отряда божков.
Благодаря неожиданности рейд завершился блестящим успехом. Кольценосцы захватили сотни лазеров и тлолтов и убили не меньше пятидесяти самых преданных сподвижников Ханумана. Взяли они и другие трофеи. В одной из квартир, заваленной трупами и залитой кровью, Поппи Паншин обнаружила лабораторию для производства вирусов и другого бактериологического оружия. Ни единого живого вируса в пробирках и на игольных дротиках, правда, не обнаружили, но двое кольценосцев Поппи ударились в панику и рассказали о находке своим друзьям. Скоро по городу, как огонь по полю сухого курмаша, зажженного молнией, распространился слух, что Хануман производит вирус, разъедающий волевые центры мозга и лишающий его врагов способности противостоять Пути Рингесса.
Этот слух сделал для Данло смещение Ханумана еще более спешным. В эти темные дни самого темного из времен года никто не знал, чему верить, — даже Данло. Поэтому он решил совершить свое превращение так быстро, как только это возможно. Он лежал на стальном столе в одной из больших спален Констанцио, наполненной роботами и прочей машинерией, вдыхал запах химикалий и скрипел зубами, пока резчик работал над различными частями его тела. Ваяние началось с костей: каждую из них, от ступней до черепа, следовало укрепить наращиванием новых слоев, а заодно нарастить и сухожилия.
Боль, сопутствующая этим процедурам, буквально убивала Данло. Однажды, когда Констанцио сверлил ему локоть, один из блокираторов вдруг отказал. (Позже Констанцио признался, что приобрел этот аппарат у малонадежного червячника.) Несмотря на шама-медитацию, которой Данло занимался в течение всей операции, он закричал и дернул рукой, нечаянно вогнав в нее сверло еще глубже. Алмазный наконечник вспорол ему все предплечье — мускулы, нервы, артерии и вены. Кровь окатила и пациента, и резчика, уподобив их двум червячникам, пытающимся добить раненого мамонта. Весь остаток утра ушел у Констанцио на устранение причиненного ущерба.
— Хорошо еще, что я позаботился клонировать запасные нервы заранее, — сказал он, разделяя скальпелем поврежденные связки. — Иначе ты еще долго не смог бы пользоваться рукой.
— Извини, что я дернулся, — сказал Данло.
— Ты не виноват. Надо было мне брать блокиратор на Старгородской глиссаде. Я и взял бы, но в магазинах не осталось качественной техники. Слишком много бедолаг пострадало от лазеров и термотлолтов из-за этой войны, которую ведет Бенджамин Гур с рингистами. А боль от ожогов выносить труднее всего — она хуже, чем от костных операций: тут боль хотя и сильная, зато недолгая.
Данло, работая пальцами и морщась от боли, разламывающей лучевую кость по всей длине, выдохнул:
— Я бы сказал… достаточно долгая.
Констанцио поставил новый блокиратор и ввел Данло обезболивающее, насвистывая веселый мотивчик — он явно радовался тому, что снова получил возможность кромсать человеческую плоть.
— Я заметил, что ты чувствуешь боль острее других пациентов — и тем не менее имеешь выдающуюся способность ее контролировать.
Данло объяснил, как воин-поэт навсегда отравил его экканой.
— Поразительно! Меня удивляет даже то, что ты способен бегать на коньках по морозу — не говоря уж о том, чтобы не кричать, лежа под моими лазерами. Они ведь должны жечь тебя огнем, несмотря на все блокираторы.
— Это верно.
— Так, может, дать тебе общий наркоз?
— Но ведь это замедлит твою работу, правда?
— Нервных повреждений избежать легче, когда ты сознательно сокращаешь определенные группы мышц по моей просьбе, — признал Констанцио. — А нервы в случае ошибки лечить труднее всего.
— Выходит, я должен оставаться в сознании?
— Только если можешь это выдержать.
— Думаю, что придется.
— В некоторых случаях, конечно, наркоз будет необходим. Например, когда начнем работать над позвоночником.
— П-понятно.
— Ты мне не полностью доверяешь, верно?
— Доверяю ли? Думаю, что должен доверять. В конечном счете доверие между людьми — это все, правда?
По правде сказать, ему внушала сомнение одна история, которую он слышал о Мехтаре Хаджиме. Когда-то Бардо толкнул Мехтара на улице и повалил его на лед за то, что тот нагрубил хариджану. Затем Бардо, чтобы сопровождать Мэллори Рингесса к алалоям, пришлось подвергнуться ваянию, и Мехтар в отместку, по версии самого Бардо, сыграл с ним жестокую шутку. Без ведома Бардо он имплантировал ему гормоны-таймеры, обрекшие жертву на состояние перманентной эрекции. Много позже Бардо, вернувшись из экспедиции, обратился к другому резчику, чтобы устранить причиненный Мехтаром вред, но после этого стал страдать от совершенно противоположной (и совершенно ему несвойственной) проблемы.. В надежде свершить собственную месть он обшарил все резчицкие мастерские, но Мехтара так и не нашел.
Какие бы подозрения ни питал Данло относительно чистоты намерений Констанцио, работа двигалась достаточно гладко. Констанцио разочаровал его только в одном аспекте, не имевшем никакого отношения к ваянию. Когда ему приходилось проводить в операционной целые сутки, Констанцио, как он и надеялся, досыта кормил его курмашом, кашей, орехами и фруктами для подкрепления сил и быстрого заживления. Но когда Данло попросил немного курмаша для Тамары и Джонатана, резчик отказал, холодно заявив:
— В наш контракт это не входит. Ты отдал скраерский шар за ваяние, и я ваяю тебя. И делаю многое помимо этого. Не каждый резчик стал бы кормить тебя отборными продуктами, точно эталона.
Данло терпеть не мог спорить и торговаться на купецкий манер, но он вспомнил о Джонатане, жующем мятные палочки, чтобы обмануть голод, и сказал:
— Сфера наверняка стоит больше твоего ваяния.
— Как определить истинную стоимость чего бы то ни было? Если война вскорости не кончится, мне за твою сферу и ореха бальдо не дадут.
— Тебе и не понадобится. Вон у тебя сколько запасов — на годы хватит.
Констанцио, боясь, как бы кто-нибудь не пустил слух о полноте его кладовых, поспешил соврать:
— Какие там годы. Еще несколько дней протянуть вместе с прислугой, вот и все. Ты у меня получаешь самое лучшее, а тебе все мало.
— Мне бы только немного курмаша для жены и сына.
— Я уже сказал тебе: это невозможно.
— Ты когда-нибудь голодал по-настоящему? Приходилось тебе держать на руках ребенка и ощущать его голод, как свой?
— Нет. Не приходилось. Я для того и выбрал такую профессию, чтобы избежать подобных ужасов.
— Понятно.
— Но если это может тебя утешить, скоро я начну голодать вместе со всеми — и ты тоже, когда ваяние закончится.
Тот день положил начало краткой воровской карьере Данло.
Он, который всегда был честнейшим и надежнейшим из людей, стал каждый раз прятать немного еды в салфетку. Украденное — рис, миндаль, бобы минг и сушеные кровоплоды — он, пользуясь случаем, перекладывал в карманы шубы и после очередного этапа операций выносил из дома Констанцио. Затемно он, стараясь делать это как можно тише, стучался в дверь к Тамаре, и они устраивали маленький полуночный пир. Когда Констанцио обратил внимание на необычайный аппетит своего клиента и на молниеносное исчезновение еды с его тарелки, Данло признался, что всегда ел за двоих. Это из-за ускоренного обмена, объяснил он, из-за того, что огонь в его теле горит особенно жарко.
— Странно, но это, кажется, правда, — сказал Констанцио. — Никогда еще не видел, чтобы человек так быстро поправлялся, даже с помощью наркотиков и формующих машин. Я тебя режу, заклеиваю, а через три дня на том месте даже шрама не остается.
Данло, услышав это, улыбнулся и закрыл глаза. Раньше у него все заживало не быстрее, чем у других, — но пытки что-то изменили в нем, а ваяние углубило эту перемену. Дело выглядело так, будто голод, наркотические средства и боль ускоряли все процессы его организма. Что-то пришло в движение у него внутри, в клетках его сердца и мозга. Возможно, это разворачивалась триллионами крошечных змеек сама ДНК, но больше это напоминало пожар: бесчисленные огоньки вспыхивали в нем, открывая для него новые возможности.
Никогда еще он не чувствовал себя более живым, более сильным и более голодным. Он, как великолепный тигр, испытывал такой жгучий, ненасытимый голод, что мог бы съесть столько же, сколько трое крупных мужчин.
— Надо заканчивать с ваянием поскорее, — сказал Констанцио, — иначе ты прикончишь все мои запасы.
В последующие дни он стал следить за Данло более бдительно и никогда не оставлял его одного во время еды — отчасти потому, что дивился чудесным способностям Данло, отчасти потому, что подозревал его в воровстве: прикрываясь чисто научным интересом, он считал теперь каждую унцию курмаша и каждое ядрышко миндаля, попадавшие на тарелку Данло.
Данло жалел, что не может, подобно волчице или самцу талло, набить свой желудок едой, чтобы потом отрыгнуть ее и скормить детенышам. Стесненный ограниченными возможностями человеческого тела, он перенес свое воровство на новый уровень. Теперь по вечерам он отправлялся не к Тамаре, а в свою хижину и ранним утром разыскивал под снегом кладовые гладышей. Он разрубал земляные холмики кремневым ручным топориком и выгребал оттуда орехи бальдо, запасенные гладышами на зиму.
Из каждого тайника он брал всего несколько десятков, но все-таки чувствовал, что если его действия и не нарушают ахимсу открыто, то сильно ей противоречат. В этом сезоне мохнатые зверьки запасли много орехов — но кто знает? Может быть, своим вторжением в их закрома он обрек их молодняк на голод и даже на смерть. Он утешался тем, что не знает, причиняют его покражи какой-то вред гладышам или нет. И у него теплело внутри, когда он приходил к Джонатану и глазенки сына загорались при виде круглых коричневых орехов.
Тамара давала мальчику орехи и сырыми, и жареными, а иногда стряпала из них импровизированные, но очень вкусные супы.
Но еды, несмотря на все это, все равно не хватало. Казалось, что жители Невернеса навсегда забыли об упорядоченных трапезах мирного времени, следующих одна за другой, как день за ночью. 5-го числа глубокой зимы на Крышечные Поля прибыл груженный пшеницей транспорт с Темной Луны.
На несколько дней рестораны открылись и стали выдавать строго ограниченные пайки этого зерна. Тамара отдавала сыну большую часть своей порции, но мальчик постоянно хотел есть — даже когда заявлял, что сыт, не доев и половины, и больше беспокоился о матери, чем о себе. К 12-му числу он начал таять, как медленно сгорающая свечка. Порой он сидел на коленях у Данло, слушая сказки или ломая голову над тем, как поймать красивую птицу, но все чаще просто лежал на ковре, держась за пустой живот, и разглядывал картинки на стенах.
Однажды ночью, когда Констанцио начал работу над лицом Данло, Тамара отвела Данло в сторону и сказала:
— Я беспокоюсь за Джонатана.
Они сидели у печки в каминной, слушая, как ворочается Джонатан под меховыми одеялами. Данло снял маску и потрогал красную, болезненную на ощупь челюсть.
— Я тоже за него беспокоюсь, — сказал он, глядя на исхудавшее, но все такое же прекрасное лицо Тамары. — И за него, и за тебя.
— Я так голодна, Данло, — не думала, что такое возможно.
— Мне очень жаль.
— Я ведь никогда раньше не придавала значение еде — просто принимала ее как должное, будто воду или воздух.
— Мы еще, пожалуй, должны благодарить судьбу. Говорят, что жажда гораздо страшнее голода.
— Как может что-то быть страшнее? Тебе видно, что творится с Джонатаном в эти последние дни? Я боюсь, что он умирает.
Данло, хорошо знакомый с голодом, взял Тамару за руку.
— Нет. До этого еще далеко. Он крепкий малыш, и в нем еще много жизни.
Тамара отняла у него руку с раздражительностью, вызванной голодом.
— Ты хочешь сказать, что он сможет голодать еще какое-то время. Но от него осталось так мало — одни глаза да косточки. И сам он такой маленький, совсем крошечный — я не могу видеть, как он страдает.
Данло языком потрогал больную челюсть изнутри — Констанцио готовил ее для вставки больших новых зубов. Постаравшись улыбнуться как можно веселее, он сказал:
— Это долго не продлится.
— О чем ты? — встревожилась она.
— Я хочу сказать, что война скоро кончится и все снова будут сыты.
— Эта война может затянуться на годы!
Нет. Я этого не допущу, подумал Данло. Я должен положить всему этому конец, и скоро.
— Я думаю все-таки, что дело близится к концу, — сказал он. — Но на самом деле это будет только начало, правда?
Начало чего-то, где все возможно.
Он закрыл глаза, и триллионы огоньков в его клетках устремились в одну сторону — к сердцу. Свет от этого чудесного пламени становился все ярче и глубже, пока не засиял, как солнце.
— Я чувствую это начало, — сказал он. — Я… почти вижу его.
— О, Данло, о чем ты говоришь? О войне? Неужели ты веришь, что из этой дурацкой войны может выйти что-то хорошее?
— Выйдет. Я знаю.
— Я никогда не понимала тебя. Вспомни: твой сын умирает. — У Тамары дрожал подбородок, и она часто сглатывала, стараясь удержать слезы.
— Нет, не умирает. Я не дам ему умереть.
— Но он такой голодный!
— Мы все голодные, разве нет?
— Только большинство из нас от этого худеет, а не толстеет.
Данло смотрел на нее и сознавал, какими мощными кажутся ей его руки и ноги, бугрящиеся под камелайкой новыми, наращенными мускулами. Он остался худощавым, но раздавшиеся плечи и грудь производили впечатление медвежьей силищи. Кисти рук тоже стали не такими, как у современного человека. Пальцы сделались толстыми, кости ладони массивными — казалось, он способен раздробить человеку череп простым сжатием.
— Верно — мне не пришлось голодать, как другим, — сказал он. — Но есть, когда другие голодают… быть вынужденным есть — это иногда еще хуже, правда?
И Данло стал рассказывать Тамаре о суровой жизни алалоев. Порой, в одну зиму из ста, когда стада шегшеев постигает какое-то бедствие, а тюлени не попадаются охотникам, все племя может оказаться под угрозой голода. В такие дни каждый охотник обязан есть досыта, чтобы поддержать свои силы, иначе он ослабеет и не сможет добывать пищу для племени. Эта суровая необходимость отнимает еду у детей и женщин, и самые слабые из них могут умереть. Видеть, как детские ручки и ножки превращаются в палочки, в то время как твой живот набит свежим мясом, — это худшее из испытаний, которые выпадают на долю мужчины. И все же так лучше, гораздо лучше, чем позволить всему племени уйти на ту сторону дня.
— Я знаю, ты приносишь нам все, что можешь достать, — сказала Тамара. — И знаю: ты делаешь то, что делаешь, потому что не можешь иначе. Я хотела бы только понять, зачем это нужно.
— Разве от понимания голод перестанет тебя мучить?
— Нет, конечно. Но если уж нам суждено умереть с голоду, я бы хотела по крайней мере знать, как ты намерен поступить с Хануманом.
— Я не дам тебе умереть, Тамара.
— Мне нельзя умирать, пока жив Джонатан.
— Я… сделаю все, что могу, чтобы вы не голодали.
— Правда? — Она нагнулась, достала из-под ковра кожаный кошелек и высыпала на ладонь пригоршню алмазных дисков. — Возьми тогда это.
— Хорошо, возьму, если хочешь, — сказал он, и она высыпала диски ему в руку. — Только зачем?
— Я слышала, что червячники продают свежее мясо. Если ты встретишь на улице такого торговца, тебе понадобятся деньги.
— Понятно.
— Ну, вот я их тебе и даю.
Данло посмотрел на блестящие диски.
— У меня никогда не было собственных денег.
— Насколько я слышала, этого хватит фунтов на десять.
— Десять фунтов… шегшеины? Или мяса снежного тигра, которого убили с воздуха, не помолившись за его душу?
— Мясо есть мясо. Оно все равно уже мертво и лежит у какого-нибудь червячника в подвале. Этих животных убил не ты.
— Ты правда так думаешь? Разве не алмазные диски таких, как я, толкают червячников убивать их?
— Это мои деньги, не твои. А мясо пойдет нам с Джонатаном.
Данло, звякнув дисками, зажал их в кулаке.
— Хорошо, я возьму твои деньги. Но я должен это обдумать — не могу обещать тебе, что куплю на них мясо, когда случай представится.
Тамара, бросив взгляд в сторону спальни, где тяжело дышал и постанывал во сне Джонатан, сказала:
— Я готова на все, лишь бы он не голодал.
— Я уже сказал тебе: я сделаю, что смогу. Что смогу, Тамара.
— Я понимаю. Разве могла я когда-нибудь просить у тебя большего?
— Ты не знаешь, где найти этих червячников?
— Пилар говорила, что ее подруга Авериль купила мясо на Серпантине, чуть выше Зимнего катка.
— Опасный район.
— Я знаю. Я боюсь идти туда, когда темно, но именно тогда они в основном и торгуют.
— Боишься? Ты? Когда-то ты раскатывала по всему городу со своим спикаксо.
Данло говорил о пальцевом пистолете, вставляемом в кожаную перчатку. Он стрелял маленькими дротиками, заряженными найтаре — ядом, моментально превращающим сильного мужчину в трясущуюся развалину.
— Это было давно, до войны — и Джонатан тогда еще не родился.
— Понятно.
— Может быть, ты как-нибудь вечером сделаешь крюк и вернешься домой по Серпантину.
— Да… возможно.
— Спасибо тебе, Данло. И если ты встретишь кого-нибудь из этих червячников, будь осторожен. Я не вынесу, если с тобой что-то случится.
Данло встретил своего червячника два дня спустя, возвращаясь вечером по Серпантину, — вернее, это червячник нашел его. Было очень холодно, и Данло остановился перед павильоном, откуда шли волны горячего воздуха. Все рестораны на улице были закрыты, большинство кафе и магазинов тоже. Конькобежцы попадались редко — в этот час на улицу отваживались выходить только самые смелые. Серпантин обычно хорошо освещался, но радужные шары над павильоном кто-то разбил, и ближние дома вместе с оранжевым льдом тонули во мраке. Только хруст битого стекла под коньками и шипение горячего воздуха нарушали тишину. Данло не стал бы задерживаться здесь надолго, но тут к нему подкатил рослый мужчина в богатой собольей шубе.
— Холодная ночка, верно? — Незнакомец раскурил трубку, набитую бурыми водорослями, и Данло рассмотрел его довольно красивое лицо с густой белокурой бородой и голубыми, налитыми кровью глазами. — Не возражаете, если я погреюсь тут с вами? Тоалач покурить не хотите?
— Нет, спасибо. Я не курю.
— Зря. Это большое подспорье в наши трудное время — помогает забыть о пустом желудке.
Червячник густил густой клуб серого дыма, и Данло отошел немного в сторону, чтобы легче было дышать. Запах горящего тоалача перекрывал почти все, но Данло, однако, учуял нечто еще более неприятное. Этот другой запах был cлабый, но густой и слегка тошнотворный. Он исходил от шубы и бороды червячника, чувствовался в его дыхании. Сам Данло на время задержал дыхание, позволив жуткому запаху наполнить свои ноздри. В следующий момент он понял, что червячник недавно имел дело с сырым мясом — возможно, оно и сейчас спрятано где-то на нем, под шубой.
— Помнится мне, здесь подавали лучшее синтетическое жаркое во всем городе, — сказал червячник, указывая через улицу на ресторан с голубыми карнизами и выбитыми окнами. — Теперь никакого мяса даже в подпольных ресторанах найти нельзя.
— Нельзя, — согласился Данло.
— А вы не хотели бы приобрести немного? — Червячник распахнул шубу и достал завернутый в пленку пакет величиной с большой кровоплод. — Шегшеина, хороший кусочек.
Данло, глядя на темно-красную массу в пакете, принюхался еще раз. Мясо еще не успело испортиться, но запах ему не понравился. В нем было что-то странное, что-то темное и глубокое, беспокоившее Данло, заставлявшее его желудочный сок бурлить и обжигать горло.
— Можно посмотреть? — спросил он.
— Конечно. — Червячник развернул пленку. — Я бы вам еще предложил, на выбор, да ночь удачная выдалась — все разобрали.
В слабом свете единственного уцелевшего шара Данло присмотрелся к мясу, надеясь опознать в нем бедро, лопатку или какую-нибудь другую часть шегшея; но было слишком темно, чтобы разглядеть что-то в этом бесформенном комке.
— Это фарш, — почти извиняющимся тоном пояснил червячник. Он смотрел на Данло как-то странно, как будто оценивал его высокий рост, широкие плечи, массивные мускулы на плечах и груди. Завершив осмотр, он попытался заглянуть в глаза Данло под маской, словно решая, можно ли довериться этому человеку. — Если хотите побольше или получше, то я живу тут недалеко.
Данло смотрел на мясо, пропуская его миазмы через ноздри в мозг, и думал: Никогда не убивай, никогда не причиняй вреда другому.
— Да, мне нужно побольше, — внезапно сказал он: ему вспомнился Джонатан, сидящий у него на коленях и доверчиво глядящий на него блестящими голодными глазами. — Я хочу купить фунтов двадцать.
— Целых двадцать? А денег-то у тебя хватит?
— Сколько надо?
Они немного потолковали о цене. Данло, не умея торговаться, все-таки понимал, что количество дисков, которыми он располагает, червячнику называть не надо.
— Пойдем лучше ко мне домой, — предложил наконец червячник. — Выберешь, что понравится, там и договоримся.
Данло посмотрел ему в глаза, пытаясь разгадать, что у него на уме: надувательство или нечто худшее. Червячник улыбался тепло и открыто, и Данло почувствовал, что главная его цель — не грабеж. Он намечал какое-то выгодное, необычайно выгодное дело — возможно, только этого и следовало бояться.
Данло тем не менее колебался. Во всем этом было что-то, непонятное ему.
— Может, ты принесешь мясо сюда? — сказал он.
— Двадцать-то фунтов? Ну уж нет, с такой кучей добра я по улице таскаться не стану.
— У вас здесь опасно, да?
— Я понимаю твою нерешительность, — улыбнулся на это червячник, — дело это незаконное, а меня ты не знаешь. Но в этом районе я хорошо известен, и никаких проблем с торговлей у меня не бывало.
Он завернул мясо, спрятал его за пазуху и снова заулыбался, глядя куда-то в сторону. Данло тоже посмотрел туда и увидел стоящего под радужным шаром человека. На вид это был астриер с резко очерченным надменным лицом и расчетливым взглядом, в великолепной шубе из белого горностая, в шапке и рукавицах из того же меха. Он явно нервничал, что было вполне понятно для астриера в таком месте и в такой час.
— А вот и мой постоянный покупатель, — сказал червячник. — Я поговорю с ним, а ты пока решай, ладно?
Подкатив к астриеру, червячник поклонился ему и положил руку на плечо, как старому другу. Но астриеру такая фамильярность, видимо, пришлась не по вкусу, и он шарахнулся от червячника, точно от зачумленного.
Времена настали страшные даже для богатых и гордых, подумал Данло.
Червячник в тридцати ярдах от него предъявил астриеру свой сверток. Тот сморщился так, словно ему показали еще живое, только что вырванное из груди сердце. Червячник поднял четыре пальца, астриер в ответ потряс головой и показал два. Червячник не согласился и со вздохом выставил три. Астриер, поколебавшись, неохотно кивнул. Червячник с широкой улыбкой на бородатом лице завернул мясо и вручил его покупателю, поклонился ему и вернулся к Данло.
— Сегодня все хотят побольше. Этот человек согласился зайти ко мне домой — пошли с нами, если надумал.
— Чтобы перебивать товар друг у друга?
— Скажешь тоже, — обиделся Червячник. — Там на вас обоих хватит с избытком. Притом мы с ним уже условились о цене.
— Понятно. Но я не видел, чтобы он дал тебе деньги.
— Я и не собираюсь с него брать, пока он не получит все целиком.
— Однако мясо ты ему отдал.
— А, это? Это так, небольшой презент, чтобы скрепить сделку.
— Понятно.
— Ты тоже можешь стать моим покупателем — тогда я и тебе буду делать такие подарочки.
— Посмотрим.
— Ну так что, идем? Это всего в нескольких кварталах отсюда.
Данло, все еще сомневаясь, посмотрел в блестящие глаза червячника и сказал: — Ладно.
Астриер присоединился к ним у закрытого ресторана, и они направились на восток, к Меррипенскому скверу. Астриер держался слегка позади, глядя на Данло и его поношенную шубу с откровенным презрением. Около Северо-Южной глиссады они свернули на красную улочку с закрытыми магазинами и жилыми домами. В окнах почти не было света, но единственное открытое кафе в одном из домов привлекало толпы хариджан, червячников, хибакуся и других обитателей здешних трущоб. Радужные шары на улице не горели, и голод отметил своей печатью лица посетителей кафе, но все эти люди, выходящие из распашных дверей и пьющие слабый мятный чай за туманными запотевшими окнами, напоминали о лучших временах и уютных привычках мирной жизни.
Но тут червячник свернул в еще более темный, похожий на лесную тропу переулок, напрочь лишенный успокаивающих черт. Людное место осталось позади, и только скрежет трех пар коньков по льду нарушал мертвую тишину. Где-то плакал голодный ребенок — а может быть, это орал один из драчливых снежных котов Меррипенского сквера. Ветер нес поземку, и откуда-то пахло жареным мясом. Мясной дух прямо-таки висел в воздухе, пропитывая бороду червячника и меха астриера. Червячник открыл дверь в подъезд, и запах стал еще гуще.
— Ну, вот и пришли. — Астриер неохотно последовал за ним внутрь, Данло тоже. В плохо освещенном, грязном, закиданном мусором подъезде им встретились двое хибакуся с изъеденными радиацией лицами. Те угодливо улыбнулись червячнику — возможно, он платил им за молчание насчет его нелегальной торговли. То, что он содержит в своей квартире настоящую мясную лавку, Данло понял, как только он открыл дверь из черного осколочника. Пропустив астриера вперед, Данло остановился на пороге и ахнул от представшего ему зрелища.
— Вот видишь, — сказал ему червячник, — мяса у нас вдоволь.
Из маленькой квартирки вынесли всю мебель, ковры и прочую обстановку. Место всего этого заняли клариевые ящики, набитые мясом. Данло бросились в глаза огромные куски мякоти, аккуратно переложенные снегом, — видимо, шегшеевая вырезка. Видел он также филейную часть, грудинку и прочие части. В одном ящике, по утверждению червячника, лежала тюленина, в другом рубиново искрилась мякоть овцебыка. Что-то во всем этом мясе беспокоило Данло — оно имело странный вид, как будто его обработали консервантами и красителями, чтобы сделать цвет поярче. Оно было чересчур красное и совсем не походило на мясо благословенных животных, памятное Данло с детства. Может быть, червячник просто не умел с ним обращаться. И, конечно, даже не думал молиться за души животных, совершающих путь через замерзшее море на ту сторону дня.
Нункиянима, произнес про себя Данло, ми алашария ля шанти. Пела Яганима, Шакаянима, ми алашария ля шанти, шанти.
Астриер, стоя у закрытого ставнями окна, разглядывал ящик с колбасами и окровавленными мисками, где лежали печенка, легкие и мозги. Зачем ему эти потроха? Попросил бы лучше червячника завернуть ему мякоть шегшея. Данло прикидывал, сколько сдерет червячник с него самого за двадцать фунтов тюленины, наиболее жирного и питательного мяса.
— Не хотите ли чаю? — спросил червячник астриера, мотнув головой в сторону кухни. — У меня есть летнемирский золотой — я заварю, пока вы будете выбирать.
— Спасибо, не надо, — промолвил астриер тонким, но хорошо поставленным голосом. — Боюсь, что не располагаю временем.
— Ну а ты? — Налитые кровью глаза испытующе впились в Данло. — Снял бы ты маску, шубу да напился чаю со мной.
— Нет… я, пожалуй, не буду раздеваться.
— Что, холодно? — Червячник подошел поближе. — Понятное дело — иначе мясо испортится. Но такой здоровяк, как ты, вроде бы не должен бояться холода.
Как бы желая проверить степень здоровья Данло, червячник дружески стиснул руку Данло повыше локтя, похлопал его по спине, по плечу и сказал:
— Кое-кто из наших избежал голода, занимаясь мясным промыслом, но ты, похоже, устроился лучше всех. Какие мускулы! Много надо мяса, чтобы прокормить такое прекрасное тело.
Данло закрыл глаза, вспомнив жуткую легкость Джонатанова тельца; он почти чувствовал, как мальчик прижимается к нему и как его сердечко стучит рядом с его собственным сердцем — быстро, как у птички. От стыда и беспомощности у Данло защипало в глазах, и он сказал:
— Я хочу купить двадцать фунтов — а если можно, то и больше.
— Это будет стоить тысячу городских дисков.
— Тысячу?!
— Шегшеинка отличная, первый сорт.
— А за триста что можно купить?
— Это все, что у тебя есть?
— Могу я купить двадцать фунтов тюленины за триста?
— Нет, но двенадцать фунтов я тебе продам.
— Мне этого мало.
— За четыреста я дам тебе субпродуктов — целых двадцать пять фунтов.
— Печенку? Сердце, мозги?
— Ну, требуху и легкие, конечно, тоже добавлю — у меня имеется особая смесь, если кто хочет купить подешевле.
— Нет. Требуха мне не нужна.
Червячник улыбнулся, как будто вдруг что-то вспомнил.
— В холодильнике у меня есть неразделанные туши. Если ты не прочь сам поработать мясником, я подберу тебе ногу шегшея на двадцать фунтов и продам ее по дешевке.
— Правда? А тюленины там не найдется?
— Не помню, что у нас осталось, пойдем поглядим. — Тут червячник заметил, что астриер тоже очень заинтересовался дешевым мясом, и попросил его снять шубу, сказав: — Там в холодильнике кровища — еще перепачкаетесь.
Холодильник помещался в задней комнате. Червячник включил там свет и пропустил Данло с астриером внутрь.
Холод, идущий из открытого окна, обдал Данло, как ледяная вода, а от запаха тухлятины его чуть не стошнило. Ботинки скользили на деревянном полу, заляпанном жиром и кровью.
В углу помещался разделочный стол, тоже залитый красным, в другом стояли два деревянных корыта, до краев полные кровью, костями и розоватой кожей. Данло уставился на эти емкости в ужасе, но тут его, как молния, поразило нечто другое.
На крюках, привинченных к потолку, висело семь ободранных, обезглавленных туш — алые, прослоенные белым жиром. Это были не шегшеи, не шелкобрюхи и не тюлени, а куда более распространенные животные, которых гораздо легче подстеречь и убить.
Не может быть, подумал Данло. Человек не должен охотиться на человека.
Однако это были люди — мужчины или женщины. Данло распознал в тушах человеческие тела с той же уверенностью, с какой отличал свою правую руку от левой. В тот же момент он понял, что червячник заманил их в эту комнату, как и его, и здесь убил их. В холодильнике убивать удобнее всего: пятна крови на стенах не насторожат покупателей, и Данло в предсмертной борьбе не разобьет ни одного из мясных ящиков.
Да и трудно было бы обработать такое крупное, как у него, тело без здешних талей и крюков. Данло оценил хитрость и логику действий червячника, но превращаться в обезглавленную тушу ему отнюдь не хотелось.
Он мог бы просто убежать, но червячник предугадал это заранее — червячник давно уже приноровился забивать на мясо себе подобных. Пока Данло в полном шоке смотрел на подвешенные тела, червячник обхватил его сзади. Он был очень силен, и астриер — никакой не астриер, конечно, а такой же червячник, переодетый астриером, чтобы обманывать потенциальные жертвы, — схватил со стола окровавленный топор. Он мог бы тогда запросто убить Данло, как убил до него многих других.
Убить человека — дело нехитрое. Надо только лишить его способности двигаться, и острая сталь расколет даже самый крепкий череп. Всего полгода назад червячник удержал бы Данло — хотя бы на тот момент, что требовался для удара: силой он тогдашнему Данло не уступал. Но он не принял в расчет скульптурной работы Констанцио и не имел понятия о страшной силе, обитающей в новом теле Данло. Данло и сам еще не освоился с ней — но когда мнимый астриер взмахнул топором, кровь наполнила его мускулы мощью звездного огня, и он мигом вспомнил навыки, которым обучился в детстве, борясь с другими мальчишками на снегу.
Почти не задумываясь, он нагнулся и бросил свое тело вперед, как катапульту, перекинув изумленного червячника через себя. Тот, изрыгая проклятия, врезался в своего напарника, и оба рухнули на засаленный пол. Только чудом никто из них не поранился о топор — орудие вылетело из руки ложного астриера и ударилось о стену. Будь на месте Данло другой человек, он подобрал бы топор и вышиб мозги обоим каннибалам, но Данло только смотрел на них, застыв без движения, , как снежный заяц.
Это продолжалось целую вечность. Никогда не убивай, думал он, никогда не причиняй вреда другому, даже ради спасения собственной жизни.
Затем его паралич прошел, и он выбежал из этого людоедского логова. На улице он прицепил коньки и помчался по темным безымянным ледянкам сам не зная куда. Даже ледяной ветер, который он глотал полной грудью, не мог изгнать привкуса крови и смерти у него изо рта. Пустой живот, обжигаемый кислотой, превратился в сгусток боли. Монеты, которые дала ему Тамара, тянули его вниз, точно камни. Никогда он больше не будет покупать мясо, даже ради спасения собственной благословенной жизни, даже ради спасения Джонатана. Он даже смотреть не сможет на мясо. И в людях отныне он тоже будет видеть мясо, способное утолить нестерпимый, жгучий голод других людей.
Глава 17 КУСОК ХЛЕБА
Истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб небесный, но мой Отец. Ибо хлеб Божий есть то, что нисходит с неба и дает жизнь миру.
Иисус КристоЕдва избежав гибели от рук червячников, Данло весь следующий день размышлял о дальнейшей участи этих двух человек. Он понимал, что должен сообщить кому-то об их мясной лавке — вопрос только кому. Орден контролировал лишь ту часть города, которая ограничивалась Восточно-Западной улицей и Длинной глиссадой (не считая Крышечных Полей), на прочих же улицах царило почти полное беззаконие. Можно обратиться за помощью к Бенджамину Гуру — но тот скорее всего пошлет команду кольценосцев ликвидировать червячников, и Данло окажется виновником их смерти. Он не был к этому готов, но не мог допустить и того, чтобы червячники продолжали заманивать к себе на квартиру злополучных покупателей.
Но благодаря судьбе (и его собственным действиям) эта мучительная дилемма разрешилась сама собой. Бросив оглушенных червячников на полу, Данло, сам того не ведая, положил начало цепи событий, потрясших весь город. Грохот, произведенный падением двух мясников, и их вопли подняли на ноги весь дом. Один из соседей, отважившись выйти посмотреть, что там за шум, нашел дверь в их квартиру распахнутой настежь — и его взору открылось многое.
Он, вероятно, знал, что эти двое нелегально торгуют мясом, а может быть, и сам покупал у них. Но то, что он обнаружил в так называемом холодильнике, ошеломило его, и он выскочил обратно с громкими криками. Червячники, несмотря на полученные ими переломы, успели забаррикадировать дверь, но возмущенные соседи снесли их баррикаду, а их самих убили голыми руками. Весть о злодействе червячников мигом разнеслась по соседним домам. Толпа горожан, разрастаясь на ходу, разгромила три такие же лавки и поубивала их хозяев.
Наутро погром охватил весь район вокруг Меррипенского сквера, а к полудню докатился до самого Старого Города. За несколько дней хариджаны и другие бедняки перебили сотни червячников, включая и тех, которые не торговали ничем, помимо алмазов и краденых огневитов. Сотни мясных лавок закрылись, даже те, где честно продавали мясо шегшеев и овцебыков. Все мясо без разбору кидали в разожженные на улицах костры. Туда же отправлялись тела убитых червячников и их несчастных жертв. Все первые дни глубокой зимы над городом стлался черный жирный дым, и улицы от Хофгартена до Ашторетнйка пропахли горелым мясом. Лишь позже, когда голод стал еще сильнее, невернесцы поняли, что сожгли понапрасну много хорошей еды.
В этот период костров и полночных расправ Констанцио приступил к окончательной отделке лица Данло. Резчик вставил ему огромные новые зубы и нарастил костную ткань вокруг глаз. Он сплющил гордый нос Данло, уделив особое внимание ноздрям, чтобы Данло мог произвольно закрывать носовые каналы от холодного воздуха. К пятнадцатому числу Данло перестал узнавать себя в зеркале. Затем началась работа над голосовыми связками и глазами. Мэллори Рингесс говорил сочным баритоном, скопировать который было не так-то просто. Констанцио трижды переделывал гортань Данло, чтобы получить нужный тембр.
Переделка глаз оказалась еще более трудной. Констанцио предложил Данло три варианта трансформации окон его души: во-первых, ввести туда бактериальные колонии, меняющие цвет радужки; во-вторых, клонировать и вырастить совершенно новые глаза; в-третьих, просто покрыть глаза Данло искусственной роговицей и осветлить их из темно-синих в ярко-голубые. Они остановились на последнем варианте, но с цветом возникли проблемы. Констанцио тщательно подбирал нужный оттенок по голограмме Мэллори Рингесса, но каждый раз, примеривая роговицу, смотрел на Данло с досадой и ругался.
— Все дело в твоих глазах, — заявил он, примерив четырнадцатую пару. — Слишком они яркие, слишком много в них света. Глаза Мэллори пронизывали, как лазеры, а твои, как я над ними ни бьюсь, сияют, как звезды.
Констанцио, обычно не склонный к мистицизму, приписывал этот свет некоему внутреннему свойству души Данло. Он сокрушенно качал головой, глядя на искусственные роговые оболочки у себя на ладони.
— Ты странный человек. А я стал тем, кто я есть, только потому, что всегда добивался совершенства в моих скульптурах. Возможно, нам стоит вырастить тебе новые глаза и посмотреть, как они будут выглядеть.
— Это займет много дней, да?
— Конечно. Но я обещал сделать тебя точным подобием Мэллори Рингесса и сдержу слово.
— Возможно, Мэллори Рингесс, вернувшись в город, выглядел бы не совсем так, как в то время, когда ты снимал с него свои голограммы.
Данло успел хорошо изучить отцовские голограммы — последние тридцать дней он работал с ними постоянно, учась копировать жесты Мэллори, его мимику и манеру говорить.
— Твой риск, твое решение, — пожал плечами Констанцио.
Данло потрогал роговицы, похожие на голубые чашечки и мягкие, почти как ткани его языка.
— Ладно, решено. Оставляем эти.
— Хорошо. Сегодня я вставлю их на место.
И Констанцио совершил эту последнюю из своих операций. Искусственные оболочки могли с одинаковой легкостью быть удалены другим резчиком или оставаться на глазах до конца дней Данло. Припаяв их ткань к естественной роговице, Констанцио велел Данло раздеться и поставил его перед большим зеркалом.
— Ессе homo, — сказал он при этом. — Вот человек, которого я создал.
Глазам Данло, все таким же синим, но выглядевшим теперь совсем по-другому, открылось поразительное зрелище.
Перед ним стоял человек-медведь, алалойский охотник, поросший черным волосом, густым, почти как звериная шерсть.
Руки напоминали две узловатые дубины, ноги — древесные стволы, черпающие силу из земли. Массивная челюсть и выступающие надбровные дуги наводили на мысль о горном граните, глаза, как две голубые льдинки, отражали солнечный свет. Это дикое, первобытное, всплывшее из древних эпох лицо вызывало оторопь, но в то же время дышало умом и выражало всю гамму чувств. Это лицо когда-то носил Мэллори Рингесс — и Данло, стоя перед зеркалом, дивился тому, что отцовское лицо стало теперь его собственным.
— Я — это он, — сказал Данло непривычным отцовским голосом. — Я почти точная его копия, правда?
— Нет другого резчика в городе, который сделал бы то, что сделал я. Вот это, например, довольно топорная работа. — Констанцио указал на мужской член Данло с красными и синими насечками вдоль ствола. — Если хочешь, я нанесу их более равномерно.
— Спасибо, не надо. — Данло умолчал о том, что насечки делал его родной дед, Леопольд Соли, когда посвящал Данло в мужчины — как и о том, что великий Соли умер, не успев завершить обряд.
— Ну, тогда все, не так ли? Я полагаю, что честно выполнил свой контракт.
— Да, это так; — Данло оделся, шуба оставалась ему впору, но камелайка и ботинки нужны были новые, побольше размером.
— Вот и хорошо. — Констанцио проводил его через весь свой богато обставленный дом к входной двери. — Давай попрощаемся. Не думаю, что мы еще увидимся — если ты только не захочешь стать прежним или принять какую-то новую форму.
— Меня вполне устраивает эта. — Данло сжал кулак, чувствуя струящуюся по руке силу.
— Оно и понятно. Хотя для меня так и осталось загадкой, зачем тебе понадобилось столь полное сходство с Мэллори Рингессом.
— Но эту загадку ты оставишь при себе, верно?
— Само собой, само собой. Твои секреты принадлежат тебе — ты заплатил почти достаточно, чтобы я держал рот на замке.
— Ты ведь помнишь наше условие? Если расскажешь кому-нибудь об этом ваянии, плата изымается.
— Помню, помню. — Констанцио указал на открытую дверь солярия, где на черной подставке из осколочника сверкал скраерский шар, принадлежавший когда-то матери Данло. — Прекрасная вещь, настоящее чудо.
— Да.
— Ну что ж, прощай, Данло с Квейткеля.
— Прощай, Констанцио с Алезара.
Они раскланялись, и Данло по дорожке вышел на улицу — в маске, как всегда. Он чувствовал опасность каждым своим нервом всякий раз, как выходил в город, и молился о том, чтобы завершить последние приготовления, пока какая-нибудь случайность не изобличила его как двойника Мэллори Рингесса.
Но в тот же вечер случилось нечто, поставившее под угрозу весь его план и то, что было для него всего дороже. Он сидел с Тамарой и Джонатаном в их каминной, пил слабый зеленый чай и думал о том, как бы с ними расстаться. Джонатан по привычке устроился у него на коленях, Тамара над плиткой поджаривала на маленьком вертеле орехи бальдо — все, что было у них из еды. Джонатан не сводил грустных глаз с этих девяти орехов, как будто ничто в мире больше его не интересовало. Но когда Данло закончил сказку об охотнике и Талло, мальчик поднял глаза к его маске и сказал:
— Мне понравилось, папа.
Данло улыбнулся: ему нравилось, когда мальчик называл его так. Джанатан начал это делать десять дней назад, и ни у Данло, ни у Тамары недостало духу повторять ему басню о пропавшем в космосе отце.
— Мне эта сказка тоже нравится, — сказал Данло.
— И мне нравится, как ты говоришь голосом талло. Как это у тебя получается?
— Я слушаю, как талло говорят друг с другом. И сам пробую говорить с ними.
— У тебя стал другой голос, не такой, как был, — заметил Джонатан. — Это потому, что ты говоришь, как талло?
— Голос… да… — промолвил Данло, переглянувшись с Тамарой.
И тут ослабевший от голода Джонатан сделал нечто удивительное. С быстротой атакующей змеи он вскинул ручонку и сорвал с Данло маску. Тамара ахнула, увидев произошедшие с Данло перемены, и чуть не выронила вертел с орехами, но мальчик только пристально посмотрел на него и сказал:
— И лицо у тебя стало другое. Почему?
— Но ведь ты знаешь, что это я?
— Конечно. Кто же еще?
— А как же голос? Ты говоришь, что и он стал другой.
— Ты правда стал весь другой, но все-таки это ты, да?
— Да. Это я.
— У тебя все другое, кроме глаз.
— Кроме глаз?
— Ну, они, конечно, тоже стали другие — голубые, как яйца талло. Только смотрят они по-старому. Ты смотришь на меня, на маму и на все остальное, как раньше.
— Понятно.
— Ты говорил мне, что звезды — это глаза Древних, которые умерли. Твои глаза тоже такие, как звезды.
— Правда?
— Ну да. Все равно как если туман или небо, золотое от Кольца, — звезды всегда светят одинаково.
Данло снова улыбнулся: Джонатан всегда говорил такие удивительные вещи.
— У тебя красивые глаза, папа.
— Спасибо. У тебя они тоже красивые.
— Зато лицо… зачем тебе захотелось быть похожим на алалоя?
— Ты знаешь, кто такие алалои?
— Конечно, ведь ты рассказываешь мне сказки про них.
— Но я же не говорил, что это алалойские сказки.
— Разве хорошо быть алалоем? — задумчиво произнес Джонатан. — Пилар говорит, они живут в пещерах и едят мясо настоящих животных. Наверно, они сами как звери, раз убивают других зверей.
Тамара принесла тарелку с поджаренными орехами, а Данло стал рассказывать Джонатану об алалоях. Это настоящие люди, сказал он — во многом лучше тех, которые живут в теплых городских квартирах и никогда не задумываются о великой цепи бытия, от которой зависит их жизнь. Всякая жизнь питается другой жизнью, сказал Данло. Креветки в океане едят планктон, а киты едят креветок — и все это для того, чтобы жизнь развивалась и крепла.
— В жизни, если заглянуть поглубже, всегда есть дикость и жестокость. Алалои отличаются от нас только тем, что предпочитают жить поближе к этой жестокости и не отворачиваться от нее.
— Значит, они никакие не животные?
— Животные, как и мы с тобой, но в то же время и нечто большее. Как раз это большее и делает тебя настоящим человеком.
— Ты говорил, что никогда бы не стал убивать животных ради еды — это и есть то, большее?
— Отчасти да. Я верю, что да.
— Значит, ты больше человек, чем алалои?
— Нет. Я просто… цивилизованнее.
Джонатан, несмотря на голод, прожевал орех медленно, как его учили, и заметил: — Но ведь орехи ты ешь.
— Надо же мне есть хоть что-нибудь, — сказал Данло, в тот вечер, кстати, уступивший свою порцию Тамаре и Джонатану.
— Почему же ты тогда не берешь их? А ты, мама, разве не голодная?
— Я поела раньше, когда ты был у Пилар, — солгала она. — Кушай, кушай, пока не остыло.
И Джонатан стал уплетать орехи, все так же сидя на коленях у Данло. Отцу казалось, что голова у мальчика слишком велика для исхудалого, с выпятившемся животом тельца и что он весь горит, словно в лихорадке. Но Джонатан, несмотря на все это, еще крепок, говорил себе Данло. Однако тут Джонатан сказал то, что изменило его мнение и чуть не заставило отказаться от плана стать Мэллори Рингессом.
— Все равно есть хочется, — признался мальчик, доев последний орех. Он посмотрел на Данло, как бы размышляя над тем, о чем они говорили в этот вечер, и сказал: — А чувствую, что сам себя ем. И это так больно, папа, — почему?
Данло заглянул в его доверчивые глаза, и настал момент, когда жизнь Джонатана сделалась для него бесконечно важнее свержения Ханумана, важнее всех жизней в мире и всех миров во вселенной.
Он ведь вправду может умереть, подумал Данло. Очень просто.
Даже если Данло решит рассекретиться в эту самую ночь и объявит себя богом у дверей Хануманова собора, мальчик все равно будет слабеть день ото дня. Он, Данло, в качестве Мэллори Рингесса сместит Ханумана с поста Светоча Пути и положит конец войне — но на восполнение продовольственных запасов города уйдет несколько десятидневок, и Джонатан за это время вполне может зачахнуть и уйти на ту сторону дня.
Нет. Я не дам ему умереть.
И Данло не перевоплотился в бога ни ночью, ни назавтра, ни на следующий день. Эти драгоценные часы он потратил на то, чтобы отыскать в Пуще хоть какую-нибудь еду.
Флот Содружества продвигался от Каранаты к Веде Люс, готовясь к финальному сражению, и боги вели собственную войну, сотрясая небеса своим космическим оружием, а Данло собирал мороженые ягоды йау и обдирал кору чайного дерева, которую можно заваривать или есть толченой. Искал он и ореховые кладовые, но недавние метели завалили лес снегом, сделав эту задачу почти невыполнимой. Он обшарил все сугробы от Фравашийской Деревни до Зоосада и разорил-таки одну кладовую безжалостно, как росомаха, но вся его добыча составила лишь горстку орехов. Еды по-прежнему не хватало, и Джонатан с каждым часом становился все слабее.
Дважды, в особенно жестокие ночи, когда с севера пахнуло Дыханием Змея, Данло острым кремневым наконечником копья вскрывал себе вены и отливал немного крови в Тамарин чайник. Этот красный эликсир жизни, хотя и не такой густой, как тюленья кровь, прошел через его легкие и его сердце, и в нем была сила. Для витаминов Данло добавил в чайник ягоды йау, всыпал несколько ложек коры чайного дерева, заварил свой кровяной чай и налил его в голубую чашку Джонатана. На такой пище мальчик мог держаться очень долго, но если бы Данло продолжал отдавать ему свою кровь, это привело бы к коме и к смерти его самого.
Однажды, впав от слабости и от любви в полубредовое состояние, он стал думать, не отпилить ли себе руку, чтобы накормить Джонатана, или не вскрыть ли себе попросту сонную артерию. Он сомневался только, станет ли Тамара резать его на кусочки и стряпать из него жаркое. Данло понял тогда, что вся его надежда на будущее заключается в одном Джонатане — жизнь сына светила ему, как путеводная звезда, будущее становилось все более зыбким и тусклым по мере того, как худел и таял Джонатан, и видеть это было для Данло величайшей мукой в его Жизни.
Как-то ночью они с Тамарой, уложив Джонатана, пили кипяток и разговаривали. Весь чай у них вышел, как и вся еда. Казалось, что во всем городе не осталось ни крошки хлеба. Тамара ничего не ела уже сутки, Данло — двое.
Оба так ослабели, что едва могли сидеть, не говоря уже об умных беседах. У Данло болел живот и ныли порезанные запястья — не считая постоянной боли во всем теле от операций Констанцио и экканы. Но хуже всего, пожалуй, была его старая головная боль, пронзающая Данло при каждой мысли о голодающем сыне.
— Я не знаю, что делать дальше, — признался он, потирая себе грудь.
— Может быть, выполнять свой план? — Тамара, увидев лицо Данло в тот вечер, когда Джонатан сорвал с него маску, сразу догадалась, что он намерен выдать себя за Мэллори Рингесса. После этого они каждый вечер обсуждали, что следует предпринять Данло, когда он объявит себя богом. — Что еще тебе остается?
— Я не хочу бросать вас одних.
— Мы справимся. У нас есть Пилар и Андреас.
— Зато еды нет.
— Ее ни у кого нет — теперь даже мяса у червячников не купишь.
— Не знаю даже, выжил ли кто-то из них после погромов.
— Да, их мало осталось — и они, наверно, побоятся теперь торговать мясом, даже если оно у них есть.
— Бедные червячники. Я сожалею о том, что с ними случилось.
Тамара пожала плечами.
— Я слышала, на фабриках скоро опять поспеет урожай.
— Это скорее всего только слухи, которые распускает Хануман.
— Ну да, он ведь не хочет, чтобы люди совсем отчаялись.
— Разумеется, не хочет. И поэтому наверняка поспешит дать сражение в космосе, даже если преимущество будет не на стороне рингистов.
— Может быть, тебе тогда не стоит объявляться, пока сражение не закончится?
— Нет. Ждать я не могу.
— Почему?
— Потому что мы можем проиграть эту битву. И потому что я, если только сумею, должен воспрепятствовать ей.
— Но ты…
— Джонатан погибает — вот еще одна причина, по которой я не могу ждать. И ты тоже гибнешь, и почти все в этом городе.
— Тогда ты опять-таки должен выполнять свой план — не вижу, что еще ты можешь сделать.
Данло надолго замолчал, зажав в руке острый кремень, которым вскрывал себе вены, и постукивая им по своим огромным новым костяшкам. У менее осторожного человека прикосновение острого края оставило бы на коже кровавую царапину, но Данло был осторожен. Он продолжал постукивать камнем о кость в такт ускоренному биению своего сердца и наконец, после целой вечности размышлений и воспоминаний, сказал:
— Есть еще одно, что я мог бы сделать.
— Что?
— Пойти на охоту.
Тамара посмотрела на него так, словно он предложил слетать без корабля на Самум и вернуться с корзиной хлеба.
— Что ты такое говоришь, Данло?
— Я мог бы сделать гарпун и пойти поохотиться на тюленя.
— Ушам своим не верю. Ты дал обет…
— Один раз придется его нарушить.
— Ты говорил: лучше умереть самому, чем убить.
— Умереть самому — одно дело, а смотреть, как твой сын умирает, — другое. Или смотреть, как умираешь ты. Хуже ничего быть не может.
— Неужели ты правда сможешь убить тюленя?
— Н-не знаю. Но попытаться ведь можно, правда?
— И когда же ты собираешься это сделать?
— Послезавтра. Завтра сделаю гарпун, а на следующий день отправлюсь.
Но Данло не пошел на охоту ни на третий день, ни на четвертый. Гарпун он смастерил быстро (из моржовой кости и ствола осколочного деревца), но не смог заставить себя выйти в путь, когда время пришло. Он убедил себя, что нужно еще раз поискать еды в городе, прежде чем сознательно идти убивать живое существо. Он проехал на коньках от Ашторетника до Колокола, разыскивая открытый ресторан — хотя бы подпольный, готовящий сомнительные блюда. Он завернул в Меррипенский сквер к аутистам, надеясь раздобыть что-нибудь у них. Но Тамара, как видно, была права: еды в Невернесе имелось не больше, чем в ледяной пустыне. Данло собрался уже попытать счастья в домах Фравашийской Деревни — быть может, зайти даже к Старому Отцу. Но когда он в тот вечер вернулся к Тамаре, новое несчастье заставило его позабыть об этом замысле.
— Джонатан, — вскрикнул он, как только вошел. Тамара сидела с мальчиком на коленях, опустив его ноги в таз с теплой водой. Джонатан слабо улыбнулся отцу. Он, должно быть, испытывал сильную боль, но смотрел на Данло храбро, как будто ему не было до этой боли никакого дела. Тамара в полной мере страдала за них обоих. Ее стиснутые губы побелели от страха, глаза, устремленные на Данло, как будто спрашивали: как может Бог причинять такие муки невинному ребенку?
Данло, не снимая ни маски, ни шубы, попробовал рукой воду и нашарил в ней ноги Джонатана — холодные, как лед, и застывшие, как мороженое мясо.
— Что случилось? — спросил он.
И Тамара рассказала ему о событиях этого злосчастного дня. Утром она отправилась в Консерваторию Куртизанок, к югу от Посольской улицы, чтобы выпросить хоть немного еды.
Джонатана она оставила с Пилар и Андреасом. На улице стоял жестокий мороз, поэтому все трое собирались остаться дома и рассказывать сказки. Но тут к Пилар зашел сосед и сообщил, что в город пришел корабль и на Зимнем катке будут раздавать продукты. Женщина закутала детей, и они влились в толпу идущих к катку голодающих. Там они несколько часов прождали на холоде вместе с тысячами других.
Никаких продуктов им так и не привезли — слух оказался ложным, — и толпа, где было много хариджан, взбунтовалась. В давке Пилар едва сумела удержать Андреаса — Джонатана, как она потом, рыдая и кляня себя, рассказала Тамаре, от нее оторвали. Пилар и Андреас дотемна обыскивали близлежащие кварталы, но мальчика так и не нашли. Но Пилар не хотела верить, что его задавили или насмерть искромсали коньками: она осмотрела кучи тел вокруг катка, и его там не было. Полузамерзшие, они вернулись к Тамаре со страшной вестью о том, что сын ее пропал и сейчас, возможно, бродит один по улицам.
Первым импульсом Тамары было надеть шубу и бежать разыскивать его, но когда она пристегивала коньки, он вдруг сам появился в дверях, каким-то чудом отыскав дорогу домой. Джонатан весь дрожал, уши и нос у него побелели. Хуже того, он по щиколотку обморозил себе ноги.
— Тебе, наверно, тяжело было стоять на коньках, когда ноги так застыли, — сказал Данло, пощупав ему лоб. Нос и уши у Джонатана стали красными, и теплая кожа говорила о восстановленном кровообращении. Данло тоже когда-то случилось обморозить ноги, и он знал, что, когда кровь снова заструилась по жилам, Джонатан ощутил такое жжение, словно его ступни окунули в кипяток. — Ты у нас молодец, храбрый мальчик.
Джонатан, наверно, хотел сказать ему “спасибо”, но глаза у малыша остекленели от боли, и он на время утратил дар речи.
— Было бы лучше, если бы ноги ему разморозил криолог или резчик, — сказал Данло Тамаре.
— Еще бы не лучше, только к криологам надо теперь записываться за пять дней, и ни у них, ни у резчиков лекарств больше не осталось. Что мне было делать?
— Все правильно, — мягко ответил Данло. — Ты сделала, что могла.
Долгий взгляд Тамары сказал ему о том, что ей стоит. большого труда не дать воли слезам.
— Не хочу к резчику, — вдруг сказал Джонатан. — Хочу дома остаться, с мамой.
— Мы и не пойдем никуда, — успокоила мальчика Тамара, ероша его густые черные волосы.
— Ты тоже останься тут, — сказал Джонатан Данло. — Пожалуйста, папа.
Много позже, когда мальчика уложили в постель (Данло поиграл ему на флейте, и он уснул), Данло сказал Тамаре:
— Ты должна знать: обморожение у него очень сильное. Без лекарств даже самый лучший криолог вряд ли сможет восстановить поврежденные ткани.
— Что ты такое говоришь?
Данло осторожно опустил ей на плечо свою тяжеленную новую руку.
— Пальцы, возможно, не удастся спасти. Они…
— Не хочу этого слышать, — почти выкрикнула Тамара, отшатнувшись от него. — Не надо было мне оставлять его с Пилар. Не надо было.
— Куда же еще ты могла его деть?
— Не знаю. И дальше что делать, не знаю. О, Данло, Данло, что нам делать?
И она расплакалась, гладя его по лицу. Они соприкоснулись лбами, и скоро Данло перестал различать, где его слезы, а где ее.
— Ты сделала все, что от тебя зависело, — прошептал он, — и я должен сделать то же самое.
— Только не говори, что уйдешь сейчас.
— Прости меня.
— Нет. Не время теперь. Мороз слишком сильный, и Джонатану ты нужен, как никогда.
— Силы ему понадобятся еще больше. Без еды он просто не вынесет того, что ему предстоит.
— Но у меня есть еда, — сказала вдруг Тамара и достала из шкафа проволочную корзину, прикрытую белой тканью. — Вот, смотри.
Данло осторожно откинул салфетку и увидел три золотистые буханки хлеба. Половины одной недоставало — наверно, Тамара и Джонатан съели хлеб раньше.
Но две другие остались в целости и пахли так, точно их только что испекли.
— Мне их дала одна из бывших сестер в Консерватории, — сказала Тамара. — У них еще осталось кое-что — должно быть, последнее.
— Наверно, она очень любит тебя, раз дала тебе хлеб. Но ведь его надолго не хватит.
— Я знаю, — призналась Тамара. — Я знаю.
— Джонатану нужно очень хорошо питаться, чтобы восстановить силы — одного хлеба недостаточно. Решено: завтра иду на охоту.
— Так скоро?
— Боюсь, что я и так ждал слишком долго. Если бы я не потратил попусту эти последние дни, Пилар, может быть, не пришлось бы идти с ним за едой.
— Нет, не вини себя. Откуда ты мог знать, что это случится?
Да… откуда ему было знать?
Но ведь он знал, знал, что больше ждать нельзя. Возможно, он предчувствовал, что готовит ему будущее, и уж определенно чувствовал, как истощен Джонатан, знал, что его надо спасать незамедлительно. Голос, живущий не в голове и не в животе, а еще глубже, возможно, на уровне атомов крови, шептал ему: Ступай на охоту. Почему же он не послушался? Почему не повиновался немедленно этому настойчивому шепоту? Когда-то он мечтал стать асарией, настоящим человеком, имеющим мужество и сострадание сказать “да” всему сущему. При этом он всегда знал, что должен видеть реальность такой, какова она есть, прежде чем выразить свое согласие с ней. А для того, чтобы взглянуть на мир новыми, лучистыми глазами, надо сперва проснуться и научиться видеть. Так почему же он отворачивался от страданий Джонатана? Почему сразу не взял гарпун и не побежал добывать тюленя?
Потому что убивать нехорошо, ответил себе Данло. И пока он глядел в молящие глаза Тамары, тот глубокий голос, похожий на зов снежной совы или на шепот ветра, сказал ему: Потому что мне страшно.
— Найди лекарства для Джонатана, — сказал Данло. — Продай жемчужину, если понадобится.
— Хорошо, — кивнула она.
— Теперь я должен проститься с тобой. Скажи Джонатану, что я скоро вернусь.
— Скоро? Как скоро?
— Дня через два-три, может быть, через пять — не знаю.
Тамара взяла из корзинки целую буханку хлеба и протянула ему.
— Вот, возьми.
— Нет. Я не могу.
— Тебе понадобится вся твоя сила, чтобы добыть тюленя, еще пять дней без еды ты не протянешь.
— Вы с Джонатаном тоже.
— Может быть, на фабриках созреет урожай. Или корабли придут. Или…
— Или у вас до моего возвращения не будет ничего, кроме этого хлеба.
— Но ты без хлеба можешь вовсе не вернуться. Ослабеешь и провалишься в трещину или не сможешь переждать вьюгу…
— Ничего со мной не случится.
— А вдруг случится? Тогда и нам не жить. Ты сам говорил, что охотник должен есть досыта ради того, чтобы выжило племя.
— Да, иногда кто-то должен умереть, чтобы племя продолжало жить. Но вы с Джонатаном — все мое племя. Мне нет смысла охотиться на тюленя, если вы умрете.
— Я понимаю, — сказала Тамара и отломила от буханки горбушку. — Возьми хоть это — надо же тебе съесть хоть что-то перед уходом.
— Хорошо, если ты так хочешь. — Данло положил хлеб в карман камелайки. — Спасибо.
Обняв ее на прощание, он надел маску и шубу. На улице так захолодало, что нельзя было стоять на месте. Всю дорогу до снежной хижины у него текла слюна и урчало в животе при мысли о хлебе. Он съест его завтра утром, а потом, подкрепленный этим скудным завтраком и любовью Тамары, отправится на море убивать тюленя.
Глава 18 ОХОТА
Давным-давно,
Когда люди и животные жили на земле вместе,
Всякий человек мог стать животным, если хотел,
А животное — человеком.
Все бывали то людьми, то
Животными,
И не было между ними никакой разницы,
И говорили они на одном языке.
Все слова в то время были волшебные,
И человеческий ум имел таинственную силу.
Слово, сказанное случайно,
Влекло за собой странные последствия.
Оно вдруг оживало,
И то, чего человек желал, могло случиться,
Стоило только произнести его.
Никто не может этого объяснить,
Но так все и было.
Из сказаний НалунгиакаНа краю города, где море накатывает на скалистый берег, находится Гавань, представляющая собой кучку каменных бараков, деревянных причалов и клариевых ангаров. В хорошие времена — то есть почти во все времена от основания Невернеса, кроме Темного Года, — здесь всегда кипела суета.
Люди приходили туда брать напрокат ветрорезы, катамараны, буеры и прочие средства передвижения. Несколько поколений назад, при Гошеване Летнемирском, вошла в моду езда на собачьих упряжках, после чего в Гавани завелись псарни и ангары для нарт. Бесшабашные любители прокатиться по морозу находились даже глубокой зимой. Одни предпочитали буер под ярким парусом, другие — гавкающую, мохнатую тягловую силу. Каждое утро на протяжении веков в Гавани собирались толпы народу.
Война все изменила. При свете раннего утра Данло увидел, что многие ангары оплавились и почернели от взрывов — возможно, после налета кольценосцев Бенджамина Гура. Все ветрорезы и многие буеры присвоили себе червячники, чтобы браконьерствовать на севере острова. Оставшиеся лодки примерзли ко льду, и их замело снегом. Нарты стояли в одном из бараков в полной сохранности, аккуратными рядами — дерево отполировано, полозья смазаны, упряжь в отличном состоянии. Но от собак не осталось и следа — видимо, их давно уже растащили по подпольным ресторанам.
Данло это не удивило. Он порадовался уже и тому, что нашел исправные нарты: он боялся, как бы не пришлось мастерить их самому из дерева, добытого в лесу, и материалов, взятых в магазинах на Серпантине. Что ему понадобится хоть какое-то транспортное средство, он знал с того самого момента, как задумал свой личный поход. Большой нейлоновый рюкзак, в который он упаковал поутру кремни, ножи, спальник, ледорез, запасную одежду и прочее, был и сам по себе тяжел — доставить же в город тюленя без саней будет почти невозможно. Взрослый тюлень, как помнилось Данло, весит несколько сотен фунтов, и охотнику при всей своей новообретенной силе не протащить его больше нескольких ярдов.
Данло выбрал себе нарты из тех, что поменьше, и выкатил их на холодный соленый воздух. Там он привязал к ним свое снаряжение: рюкзак и гарпун покрепче, а медвежье копье, сделанное из старого наконечника и осколочного древка, — в чем-то вроде футляра, чтобы сразу выдернуть его в случае встречи с белым медведем. При этом Данло не знал, поднимется ли у него рука убить хоть кого-то, не говоря уж о медведе с его говорящими глазами и большим хитроумным мозгом. Однако копье делало его из беспомощной жертвы хищником, которого боятся даже Белые Мудрецы, или Уриу Квейтиль Онсу, как называют самых старых и могучих медведей.
Упряжь Данло обрезал, приспособив ее под свои плечи и грудь. Толстая шегшеевая шуба смягчала трение кожаных постромков. Впрягаясь в нарты, он ограничивал для себя свободу движений, но полагал, что сможет тащить их без особого труда, пока не убьет одного или нескольких тюленей. После этого полозья под мертвым грузом мяса и костей начнут вязнуть к снегу и примерзать, если он будет отдыхать слишком часто. Ну а до того времени ему остается только отталкиваться палками, налегать на сбрую и переставлять лыжи одну за другой, везя свой легкий груз по гладкому плотному снегу.
Если ему повезет — если ясная погода продержится и снег останется крепким, — он сможет покрывать за день больше тридцати миль. Данло надеялся отыскать тюленей поближе к острову Невернес — он опасался, что сил у него хватит не больше чем на пару дней такого пути, если только он не добудет немного еды, чтобы поддержать изголодавшееся тело. Если же он, не имея провизии, уйдет слишком далеко на запад и не найдет тюленей (или обнаружит, что не способен убить живое существо), его положение станет критическим. Он может упасть от изнеможения и не вернуться больше в Невернес. Медведи учуют его и съедят, не посмотрев на копье, — а нет, так западный ветер впечатает его в лед своей ледяной дланью. Тогда он наконец возвратится в тот мир, где родился, и все его планы, все мечты о золотом будущем развеются над замерзшим морем.
Было очень холодно, когда Данло сделал свой первый шаг по морскому льду. Все путешествия начинаются с первого шага, подумал он — и вспомнил, что Жюстина Мудрая присовокупила к этому изречению “для тех, кто не умеет летать”.
Здесь, среди заброшенных причалов, где хлопали на ветру паруса буеров, ему очень хотелось бы иметь крылья, чтобы перелететь через льды, как талло. Хорошо бы также найти на льду мертвого тюленя и быстро, как по волшебству, перевезти его в город. Но Данло знал, что так легко не отделается.
Он чувствовал, напротив, что в этой задуманной им охоте ничего не будет простым или легким. Поэтому, глядя на синий западный небосклон и переставляя лыжи одну за другой, он молился, чтобы сила и мужество не оставили его — ведь иного волшебства в природе не существует.
Он шел строго на запад, во льды. С каждым шагом по скрипучему снегу великий круг мира раскрывался перед ним все шире, завлекая его в свою середину. Данло шел по замерзшему океану и видел этот океан во всем, на что бы ни падал взгляд. На кобальтовом куполе неба, над темным еще горизонтом, лежали, как белое руно, облака ширатет. Что такое облака, если не испарения океана? Позади индигово-белой массой стояли горы острова Невернес, обведенные по краям пламенем восходящего солнца. Белое — это снег, а что такое снег, как не океанская вода, застывшая в хрупкие шестиконечные снежинки и разлетевшаяся во все стороны света? Тихий утренний ветер дул ровно, укладывая поземку на льду в красивые узоры, и Данло размышлял о великом круговороте воды в природе, который есть не что иное, как круг самой жизни.
Страшная красота.
Всю свою жизнь, сколько он себя помнил, Данло дивился двум этим аспектам жизни: ужасному и прекрасному. Халла, прекрасная половина жизни, всегда лежала перед ним и ждала — стоило только раскрыть глаза и увидеть ее. Прекрасно солнце, когда оно прикасается к морю и заставляет лед сверкать; как нагретая медь, при самом трескучем морозе. Прекрасны ледяные соцветия колонии водорослей, расцвечивающие снежную равнину пурпуром; когда солнце поднимется выше, пурпур превратится в аметист, и весь мир загорится миллиардами самоцветов. К позднему утру лед начал отражать солнечный свет, и на небе появились желтоватые блики — шонашин, или “красивые зайчики”. Данло, переводящему взгляд со льда на небо, казалось, что мир нарочно прихорашивается, чтобы показаться ему во всей красе. Но у мира были и другие цели, и Данло с каждой милей, отдалявшей его от Невернеса, все острее сознавал страшную сторону жизни, шайду — вечную готовность ветра, льда и снега запустить в него свои холодные когти.
Страшная красота.
Через несколько миль ему встретились огромные кристаллические пирамиды — бирюзовые ледяные образования, известные ему как илка-рада, и он снова подивился красоте вещей, посредством которых мир намеревался убить его. Если бы он попытался протащить свои нарты через этот лабиринт глыб и шпилей, он бы наверняка провалился в трещину или напоролся на острое ледяное копье. Это тоже был океан во всем своем смертоносном шайда-великолепии. Данло чувствовал его зов, как и зов всего мира; мир пригвождал его к себе силой своей тяжести, стремясь забрать его назад, а океан стремился забрать назад свои воды.
Вода, вода со всех сторон, вспомнились ему старые стихи.
Мир состоит в основном из воды.
И сам он, напрягающий мускулы и дышащий паром, тоже состоит в основном из воды. По-своему он не больше (и не меньше), чем водная волна, движущаяся по поверхности океана. Повернув на юг, чтобы обойти скопище айсбергов, Данло наткнулся на заструги — застывшие во льду волны. В чем заключается коренное различие между ним и этой бледно-голубой рябью, если оно вообще существует? Допустим, он движется — но и эти волны придут в движение, когда средизимняя весна растопит океанский лед. Тогда даже ребенку станет доступна истина, что волна — это океан, а океан — волна.
Преодолевая заструги, Данло утешался мыслью, что океан движется, повинуясь ветру и притяжению лун, а он движется сам по себе. У него есть воля, есть достойная цель вроде охоты на тюленя; воля заставляет его усталые мышцы сокращаться, переставляя лыжи одну за другой. Но день шел своим чередом, и Данло начал слабеть от голода и думать, что вся его воля, пожалуй, уйдет только на то, чтобы не лечь и не замерзнуть, как одна из этих заструг. Не замерзнуть — вот главное требование жизни в замороженном мире. Его внимание должно охватывать ледяной ландшафт впереди, как ветер, летящий над океаном, но и о себе нельзя забывать. Обледеневшие усы, слезящиеся глаза, пар от дыхания, кровь в жилах, моча, окрашивающая снег в желтое, — все это напоминало Данло о том, что вода в его организме должна оставаться в жидком состоянии. Атомы его тела должны двигаться по установленному образцу, подстегиваемые волей: утратив сознание жизни, он тут же начнет путешествие на ту сторону дня.
А сознание жизни — это боль.
Таков закон жизни: чем острее сознание, тем сильнее боль.
Ну что ж, боли — и телесной, и душевной — Данло хватило бы до конца его дней. У него болело почти все. Пальцы рук и ног ныли от холода, лицо тоже — несмотря на жир, которым Данло его смазал, и кожаную маску. Ужасно болели зубы, а левый глаз так пронзало, что перехватывало дыхание.
Ближе к полудню, когда Данло отмахал миль двадцать по плотному снегу-сафелю, ветер окреп и стал швырять снежной крупой в окуляры очков. Именно ветер доставлял больше всего мучений — а может быть, последствия ваяния, или эккана, или голод, простреливающий кости и вызывающий жжение в суставах. Голод, голый и страшный, скрючивал желудок и молотил по голове, точно увесистой льдиной.
Только мысли о еще более сильной боли заглушали эти вопли страдающего. тела. Данло думал о голодных глазах Джонатана и о мертвых глазах всех деваки, ушедших на ту сторону дня. Он вызывал в памяти образы мужчин, женщин и детей всех других алалойских племен — возможно, они в эту самую минуту умирали от шайда-вируса. А после он впустил в сердце, легкие и душу самую большую боль — боль мира, боль самой жизни. Она сверкала льдом вокруг него, она звучала в птичьих криках, она выла в его крови, и каждая его клетка, каждый атом углерода сознавали, что им суждено вернуться домой.
Вернуться в центр круга.
Какая это боль — двигаться миля за милей по сверкающему снегу. Быть может, боль и есть движение, работа атомов и сознания; движение льдинок, испаряющихся под ярким солнцем, и самых прочных камней, которые со временем трескаются, рассыпаются и сползают в море. Ничто не может сохранить свою форму навечно. Умом Данло знал это всегда, но сейчас он начинал понимать циркуляцию материи во вселенной по-иному. Когда он остановился, чтобы поправить противоснежные очки, где-то в Гармонийской группе галактик, за сорок миллионов световых лет от него, взорвалась звезда.
Он увидел вспышку этой сверхновой позади своих глаз и ощутил выброс фотонов, рентгеновских лучей и плазменного газа в собственном дыхании.
Немного поближе, на планете Асклинг, группа рингистов взорвала водородную бомбу и уничтожила миллион человек; еще ближе, милях в трех, талло, спикировав с неба, вонзила когти в жирного снежного гуся и унесла его прочь. Даже на таком расстоянии Данло услышал крик гуся, хлопанье его крыльев и увидел ярко-красную кровь на снегу. Под тем же благословенным снегом он чуял пахучий помет снежных червей и кислород, выдыхаемый ледяными соцветиями. Если бы он всмотрелся в снег как следует своими воспаленными глазами, он различил бы даже отдельные молекулы кислорода, струящиеся между снежными кристаллами и взмывающие в небо, чтобы соединиться с ветром.
Все это входило в круг жизни, и кто он такой, чтобы пытаться его разорвать? Каким бы мощным ни было его сознание, сколько бы боли ни причиняла ему жизнь, вся его ужасная (и прекрасная) воля не помешает атомам его тела когда-нибудь распасться и вернуться в мир. Даже теперь, пока он стоит, оглядывая лед и небо, его дыхание, состоящее из углекислого газа и водяных паров, уходит из него и сливается с ветром. Скоро, через день или сотню лет, и он тоже исчезнет, словно капля дождя в океане.
Но во вселенной ничто не исчезает. Ничто и никогда.
Это и есть чудо жизни: и он, и все живое, даже когда умрет, останется внутри великого круга. Атомы его тела сложатся в волка, в снежного червя, в снежную сову (и в камень, и в льдинку, и в дыхание ветра), и родится новая частица жизни. Цель атомов в том, чтобы постоянно организовываться, и сознавать мир, и жить, и черпать радость в солнечном свете, и переходить в новые формы, и эволюционировать. Для Данло, как и для всех остальных, было бы шайдой умереть не в свое время, но сама смерть — это халла; эта страшная необходимость только прибавляет сил жизни, укрепляет круг, делает мир еще прекраснее.
Ничто не исчезает.
Настал момент, когда Данло, заглядевшийся в глубокую синеву, что лежит за синевой неба, растворился. Его кожа, мускулы, глаза и кровь превратились в воду и потекли в соленый океан. Он чувствовал, как его дыхание, разум и все прочие составляющие его существа растекаются во все стороны над мерцающим льдом. Затем белизна вокруг распалась на фиолетовый, желтый, аквамариновый и красный цвета, на ртуть и серебро, и весь лед вспыхнул миллиардами крошечных кристалликов, каждый из которых горел своим священным огнем.
Этот огонь вспыхнул и в Данло — он сам преобразился в благословенный огонь, и не было между ними разницы. Данло был мятежным ветром, и жгучей солью, растворенной во всех водах мира, и чистым, холодным светом, льющимся из глубин океана.
Вечером он построил себе хижину. Когда стемнело и первые звезды засверкали, как бриллианты на черном шелке, Данло напилил из твердого снега кирпичей, сложил из них маленький купол и с великой радостью залез внутрь. Он так устал после целого дня ходьбы на морозе, что буквально рухнул на свой спальник и долго лежал перед печкой, глядя на плазменный огонь. Тепло понемногу шло оттуда, лизало ему лицо и руки.
Снаружи стоял смертный холод, но в хижине воздух нагрелся почти до точки таяния. Данло доел хлеб, который дала ему Тамара. Этим он, конечно, не наелся, но благодатная пища оживила его и позволила заняться вечерними делами. Дел этих было не так много: за неимением собак ему следовало позаботиться только о себе. Он повесил шубу на сушилку у печки, положил туда же стельки от ботинок и стал набивать снегом большой стальной котелок.
Чтобы натаять воды на ночь и на утро, требовалось довольно много времени — он хотел наполнить питьевые трубки до того, как ляжет спать. Губы и язык у него пересохли, и жажда мучила его сейчас гораздо сильнее голода. Снег, который Данло положил в котелок, очень быстро утолил эти муки, потому что этот снег был особенный, почти волшебный. Данло набрал этого пурпурного вещества там, где росло ледяное соцветие, и наполнил им десятки пластиковых пакетов. Концентрация водорослей в снегу была недостаточна, чтобы сделать его полноценной пищей, но они придавали ему целебные свойства, и в итоге у Данло получилась очень приятная на вкус похлебка. Вслед за первым котелком он вскипятил второй и третий. Он мог бы провести за этим занятием всю ночь, но извел свой последний пакет и вылез наружу помочиться перед сном.
Утром он проснулся от терзающего живот голода. Мужчина, работающий весь день на холоде, сжигает около шести тысяч килокалорий, а крупный алалойский мужчина, везущий нарты по смертельно холодному Штарнбергерзее, может израсходовать все десять тысяч в виде тюленины, орехов бальдо, ягод и прочего, что подвернется. Хлеб и водоросли, по расчетам Данло, обеспечили ему едва ли десятую долю нужной энергии. Хорошо бы найти еще одно ледяное соцветие, но поиски ослабили бы его еще больше.
Он, по правде сказать, и без того был очень слаб. Он голодал не так долго, как другие жители Невернеса, — но все-таки наголодался достаточно. Великолепное тело, которое изваял для него Констанцио, лишившись подкормки с кухни того же Констанцио, начинало понемногу таять. Данло, как и Джонатан, чувствовал, что сам себя ест: его плоть сгорала, как тюлений жир в горючем камне. Грудь, спина, живот, руки и ноги легчали, теряя мышечную ткань, но конечности при этом, как ни странно, становились все тяжелее, как будто Констанцио сделал их из железа. Любое действие, даже завязывание шнурков на ботинках, причиняло боль. Эта слабость пугала Данло: он понимал, что если вскоре не раздобудет еды, то не сможет больше полагаться на собственное тело.
Поэтому он решил начать охоту немедленно и обвел взглядом все четыре стороны света, прикидывая, где можно найти тюленя. Он знал, что тюленьих отдушин под снегом много: зимой, когда море замерзает, каждый тюлень держит во льду около дюжины отверстий, к которым всплывает подышать и отдохнуть после рыбной ловли в темных ледяных водах. В детстве Данло со своим приемным отцом Хайдаром пользовался собаками, чтобы отыскивать эти лунки, — теперь ему придется прибегнуть к другому способу. Он постоял немного, втягивая ноздрями ветер.
Его нюх, хотя и не мог сравниться с собачьим, стал с недавнего времени очень острым. Возможно, это голод обострил в нем восприятие картин, звуков и запахов мира — а может быть, эккана, ободрав догола его нервы, сделала их необычайно чувствительными к звуковым и световым волнам и к летучим молекулам запаха. Какой бы ни была причина происходящих в нем глубоких перемен, Данло почти что слышал, как копошатся черви в ледяных соцветиях под снегом и проплывает морской окунь под многофутовой толщей льда.
И тюленей он почти что чуял. Их густой мускусный запах пропитывал снег и поднимался в воздух — но не имел определенного направления; Данло, даже смыкая и размыкая ноздри на манер собаки, не мог найти источник этого манящего аромата. Возможно, он вовсе и не чувствовал тюленьего запаха в реальности, а только вспоминал или галлюцинировал — из-за голода почти все казалось возможным. Он мог бы все утро простоять около хижины, принюхиваясь, если бы не вспомнил, что обладает другим средством для поиска.
Шайда-средством, техникой червячников.
Данло достал из своей поклажи сканер и приладил его на место очков. Этот хитрый прибор показывал окружающее в инфракрасном спектре, окрашивая лед всеми оттенками красного. В тех местах, где он был толще, а значит, и холоднее всего, лед выглядел густо-багровым, в других пунктах преобладала киноварь и еще более яркие тона — винные, алые и карминовые. Тюленьи лунки на этой картине выделялись огненными пятнами, поскольку лед там уступал относительно теплому океану.
Данло даже мог отличить действующие лунки от заброшенных: толщина льда, затягивающего действующие полыньи под снежной корой, составляет не более нескольких дюймов. На небольшом расстоянии от хижины Данло насчитал целых пять таких лунок. Они пламенели, как капли крови, на фоне других инфракрасных оттенков льда. Все, что от него требовалось, — это взять гарпун, стать над одной из лунок и дождаться, когда тюлень всплывет наверх подышать.
Дождаться и сделать то, чего я делать не должен: убить.
Вдохнув поглубже, Данло надел лыжи и достал из чехла гарпун — длинное смертоносное орудие, ужасное и прекрасное на вид. Несколько дней назад, вырезывая его злодейски зазубренный наконечник, Данло приделал у основания кольцо. Теперь, на жгучем утреннем морозе, он достал из рюкзака свернутую веревку и привязал ее к этому кольцу. Острие у гарпуна съемное: древко входит вето костяное гнездо плотно, но ничем не закрепляется. Основной прием охоты на тюленя очень прост. Когда тюлень всплывает, стоящий наверху охотник бьет гарпуном прямо сквозь снеговую корку и всаживает острие в добычу. Тюлень начинает биться, и костяной наконечник все глубже входит в его тело, отделяясь в то же время от древка. Тогда охотник что есть сил тянет за веревку и вытаскивает ревущего, истекающего кровью тюленя на лед.
В случае удачи гарпун, пробив сердце или легкие, убивает зверя почти мгновенно. Но чаще охотнику приходится добивать свою добычу каменным топором или взрезать ей горло.
Данло, сжимая в руке древко из осколочника, думал, что нанести удар сквозь снежный покров он, пожалуй, еще сможет, а вот добить… особенно если ему случится при этом взглянуть в темные блестящие тюленьи глаза…
Никогда не причиняй вреда другому, никогда не убивай; лучше умереть самому, чем убить.
Данло обратил безмолвную молитву ко всем тюленям, прося их внять его нужде и выйти на его гарпун. А потом, с гарпуном в одной руке и медвежьим копьем в другой, отправился к ближайшей лунке. Копье он воткнул в снег острием к небу. Медведи вряд ли могли побеспокоить его — большинство из них на зиму укладывается спать в свои снежные берлоги, — но иногда изголодавшиеся шатуны тоже приходят к действующим лункам, чтобы подстеречь тюленя. Должно быть, это у них предки нынешних алалоев научились искусству охоты на тюленя тысячи лет назад. И главное в этом искусстве — терпение, умение ждать.
Иногда человеку приходится караулить у лунки весь день; Данло в детстве слышал о великом Вилану, который провел в ожидании четверо суток. Сейчас у Данло не хватило бы выносливости ждать так долго, согнувшись над прикрытой снегом полыньей с гарпуном в руке, — но он знал, что какое-то время прождать придется. Поэтому он нарезал снежных кирпичей и поставил стенку против западного ветра. Стоя спиной к этой стенке, он не сводил глаз с нетронутого снега над тюленьей лункой. Этот снег, согретый дыханием океана, в сканере выглядел ярко-красным, почти рубиновым. От Данло требовалось одно: ждать с гарпуном в руке, когда тюлень всплывет и снег от его тепла запылает еще ярче.
Снег тогда вспыхнет так, словно он загорелся, думал Данло. Словно подо льдом взорвалась звезда.
Он ждал этой вспышки весь день, слушая ветер и пытаясь сосчитать кружащие вокруг лунки крупицы снега. Через некоторое время он сдался и стал вместо этого считать удары своего сердца. Около трех тысяч ударов составляло один час.
Данло отсчитал на ветру, почти без движения, девять тысяч, прежде чем жажда вынудила его попить воды из укрытой под шубой трубки. Еще через десять тысяч он понял, что взял с собой слишком мало воды и на день ему не хватит. То немногое, что он съел ночью, тоже не позволяло ему выдержать столько на жестоком морозе; он так ослаб, что рука тряслась, и дрожь передавалась всему телу. Он боялся, что вот-вот упадет и провалится сквозь снежную кровлю в океан.
И тем не менее он вынужден был стоять, стоять и ждать; в этом и заключается пытка охоты на тюленя, холодный белый ад стучащих зубов и заиндевевших ноздрей. Дважды его пальцы застывали, и Данло, отогревая их во рту, вспоминал, как Ярослав Бульба срывал ему ногти. Спустя еще десять тысяч ударов сердца ноги закоченели так, что он почти перестал их чувствовать. Движение, даже самое незначительное, причиняло боль, но еще мучительнее было стоять тихо и не шевелясь, чтобы не спугнуть тюленя. И все эти телесные муки были еще не самым худшим из зол. Отсчитав еще десять тысяч ударов, Данло стал слышать в ветре голос Джонатана, просящий его поскорее убить тюленя. А его собственный голос глубоко внутри кричал в ответ, что он никого не способен убить. Даже гладыша, даже ползающего под снегом червяка..
Наконец, когда давно уже стемнело, Данло прервал свое бдение. Он и без того ждал слишком долго; его изможденное тело не могло больше держаться стоймя под холодными звездами. Пальцы рук и ног снова онемели от холода. У него едва хватило сил, чтобы добрести до хижины и заползти внутрь.
Для питья у него был только обыкновенный талый снег, а еды не осталось вовсе. Он лежал в своем спальнике, пил кипяток из кружки-термоса и пытался отогреть ледяные пальцы. Промерзшее тело продолжало сотрясаться даже под теплым шегшеевым мехом, и Данло сознавал, что этот расход драгоценной энергии для него губителен; если он и завтра не добудет тюленя, ему придется поворачивать домой с пустыми нартами. Но он плохой добытчик, плохой охотник.
С тюленями ему никогда не везло — он сам не знал почему. В детстве он думал, что кто-то из его предков, наверно, убил редкого белого тюленя, тюленя-имакла, и вина за эту шайду легла на всех его потомков. Неужели злосчастье приемных предков преследует его до сих пор? Данло не знал этого, но чувствовал: что-то отпугивает тюленей от выбранного им для охоты участка. А может быть, это червячники со своими машинами распугали их еще до него. Если так, то лучше ему на рассвете сняться с лагеря и уйти подальше на запад, где червячники вряд ли бывали.
Но если ему не судьба найти тюленя, он уже не вернется домой: будет достаточно тяжело пройти тридцать обратных миль до Невернеса, даже если бросить нарты и всю поклажу.
Идти в противоположную сторону, на закат солнца, — это отчаянный риск. Но вся эта охота с самого начала была отчаянной затеей, и как рассудить, где риск больше, а где меньше? Разве только прислушаться к ветру, налетающему с запада, и к Джонатану, зовущему с востока; прислушаться к своему дыханию, к дрожи своего тела и рассуждениям своего мозга. Прислушаться к своему сердцу, в конце концов, и сделать свой выбор.
Я должен доверять своей судьбе, что бы ни случилось, думал он. Должен выбрать свою судьбу и сделать так, чтобы она сбылась.
Судьба в конечном счете его и спасла. Проснувшись утром, он принял решение идти на запад. Он пообещал себе, что будет ждать над следующей лункой, пока не убьет тюленя — или пока сам не умрет. Но выбравшись из хижины, он увидел то, что заставило его переменить свое решение. В снегу вокруг дома виднелись отпечатки медвежьих лап. Что их оставил медведь, сомнений не было: следы имели больше фута в ширину и полтора в длину и не могли принадлежать ни одному другому животному, разве что мамонту с дальних островов. Данло спал так крепко, что не услышал, как зверь топтался у хижины.
Медведи, впрочем, умеют передвигаться по льду почти так же бесшумно, как звездный свет, и Данло, даже бодрствуя, вряд ли услышал бы что-нибудь. Не один охотник погиб вот так, попивая перед сном кровяной чай в своей хижине. Снежный дом сломать легко, особенно медведю, который способен сокрушить и более прочные преграды. Данло однажды видел, как медведь лупил лапой по затвердевшему насту над тюленьим логовом, пока не проломил его; потом он нырнул в образовавшуюся дыру и тут же выскочил обратно с тюлененком в зубах. Рассматривая следы ночного гостя с пятью здоровенными загнутыми когтями, Данло не мог взять в толк, почему медведь не вломился в хижину и не сожрал его во сне.
Возможно, этот медведь уже слопал какого-нибудь червячника, и вкус человечины ему не понравился. А может быть, что-то в запахе Данло отпугнуло его; сам Данло никогда не стал бы охотиться на белого тюленя, как бы ни был голоден, — может быть, медведи тоже способны распознавать по запаху странных и редких людей и смотрят на них как на животных имакла, которых убивать нельзя. Белые Старцы очень сильны и очень мудры.
Может быть, наиболее мудрые из медведей владеют своим чутьем столь тонко, что им не чужды понятия наподобие преклонения или веры. Данло даже засмеялся, стоя на коленях в снегу: эта мысль казалась такой невероятной, что вполне могла быть правдой. Но потом он решил, что из-за голода не способен мыслить ясно. Медведь скорее всего не тронул его просто потому, что не счел такую добычу достойной внимания. Медведи предпочитают тюленя, да и у него зачастую съедают только кожу и жир, а мясо оставляют. У Данло немного мяса еще осталось, но жира не было вовсе — все его тело напоминало ремни, обмотанные вокруг костей. Голодающий организм, чтобы получить энергию, сжигает сам себя и выделяет кетоны в процессе обмена веществ. Данло при каждом сокращении легких выдыхал миллионы этих зловонных молекул; если уж он сам это чувствует, то и медведь, конечно, способен учуять, даже через снежную стенку. Может ли он быть настолько умен, чтобы связать этот запах с голодом и истощением? Должно быть, умственные способности Белых Мудрецов допускают это — почему бы иначе медведь оставил Данло в живых?
Тара сома анима, Тотунья, произнес про себя Данло.
Спасибо, что подарил мне жизнь.
То, что этот медведь входит в число Белых Мудрецов, Данло вывел из размера его следов — и был уверен, что это самец. Он, должно быть, насчитывает футов десять роста, если станет на задние лапы, а весит около тысячи фунтов. Много мяса, понял вдруг Данло, очень много. Ему было стыдно думать об этом великолепном звере только как о бродящей по льду груде мяса, но из-за голода он ничего не мог с собой поделать. Данло встал и посмотрел на запад, где исчезала за темным горизонтом цепочка следов. Когда солнце взойдет, он сможет рассмотреть этот характерный косолапый след получше. Идти за зверем по крепкому снегу-сафелю не составит труда. Данло стало еще стыднее из-за того, что он помышляет об охоте на благородного старого медведя, оставившего ему жизнь. Но что ему еще оставалось? На тюленей можно охотиться целый год и не найти ни единого, а этот медведь, возможно, всего в нескольких милях.
Но охотиться на медведя одно дело, а убить его — другое.
Данло вернулся в хижину и вылез оттуда с медвежьим копьем в руке. Воткнув его в снег, он отыскал на нартах сканер, но подумал, что выслеживать медведя таким способом еще более постыдно. Он спрятал прибор обратно, поразмыслил немного и сказал себе, что его стыд — ничто по сравнению с отмороженными ногами и пустым животом Джонатана. Эта мысль всколыхнула в нем иной, более глубокий стыд: он чуть было не позволил верованиям своего детства помешать ему сделать то, что необходимо. Что плохого в технике, если она служит жизни? Сейчас ему, пожалуй, пригодился бы даже лазер или пулевой пистолет. Надо отыскать этого медведя как можно быстрее и убить любым доступным ему способом.
Медведю все равно, как Данло будет его выслеживать, — ведь в конце концов он все равно умрет.
Данло снова достал сканер, поднес его к глазам, глянул в его красные линзы и вдруг понял, что никогда больше не наденет на себя эту шайда-вещь. Он будет охотиться на медведя, как охотился его приемный отец и его деды из племени деваки на протяжении пяти тысяч лет. По-другому он и не умеет.
Со сканером отыскать медведя было бы проще — зато он мог бы не заметить что-то другое.
Охота — это искусство, умение настроить себя на картины и звуки мира и на животных, обитающих в нем. Червячнику, палящему из лазера с ветрореза по стае волков, ни на что настраиваться не надо. Его путь — высокотехническая бойня, механическое производство огромных количеств мяса и жира.
Червячник нипочем не пошел бы по следу, оставленному медведем на снегу, и посмеялся бы над суеверными алалоями, которые молятся за души убитых ими животных. Но Данло знал, что души животных перекликаются друг с другом, а иногда даже заговаривают с людьми. Каждый дух связан со всеми другими переплетениями незримых нитей; халла-природа мира сверкает повсюду, как кружевная паутина, — надо только уметь ее разглядеть.
Отложив сканер вторично, Данло осознал, что с раннего детства обучался этому редкостному искусству, умению видеть. Его учила этому гениальная тотемная система алалоев.
Он, как все его соплеменники, знал сто обозначений того, что у цивилизованных людей называется просто “лед”. Есть малка, силка и морилка — смертельный лед, который выглядит достаточно прочным, чтобы выдержать человека, но ломается, как только на него ступишь. Вспоминая эти слова, Данло представлял бирюзовые оттенки илка-рада и прочие ледяные узоры там, где червячник увидел бы только сплошную равнину белого льда. Алалойское мировоззрение было для него не только линзой, позволяющей видеть мир более правдиво, чем через сканер червячника, но и способом выжить среди ледовых островов западного океана.
Червячник ни за что не выжил бы здесь, в тесной близости со льдом и небом. Он умер бы в ситуации, которая алалойскому ребенку пошла бы только на пользу. Вот почему червячники и прочие цивилизованные люди отправляются во льды не иначе как с лазерами, обогреваемыми парками и ветрорезами. И потому же Данло не хотел пользоваться сканером: не потому, что находил это аморальным, а потому, что сканер напоминал темный кристалл некроманта, уводящий его из одного мира в другой. В охоте на медведя он будет полагаться на кремневый наконечник копья и силу собственных мускулов; будет скользить на лыжах по снегу-буриша, как всякий алалойский охотник, и всякое нарушение этой тесной связи между ним и миром может привести его к неудаче и даже к смерти.
Ло люрата лани, Тотунья, помолился он. Силийи ни моранат.
Произнеся это, Данло достал из рюкзака не темные очки, в которых шел сюда из Невернеса, а простой кожаный обруч с деревянной вставкой для глаз. Узкая щелка в дереве пропускала ровно столько света, чтобы не вызвать снежной слепоты. Данло выстругал эти очки, пока рассказывал Джонатану сказку, сам не зная зачем, и опять-таки не зная для чего взял их с собой в поход. Теперь, закрепив их на голове, он порадовался, что они у него есть. Благодаря им он будет видеть чудесный мир льдов таким, какой он на самом деле. Нечто глубокое и таинственное побудило его сделать эти очки, и оно же теперь побуждало его охотиться на алалойский лад.
Взяв копье и повернувшись лицом к ветру, Данло почти услышал голос этого нечто, зов судьбы.
Все утро он шел по следу медведя, строго на запад. У медведя, казалось, тоже была своя цель — он то ли шел к излюбленным тюленьим лункам, то ли возвращался к себе в берлогу. След на плотном снегу был прям, почти как Восточно-Западная глиссада, и лишь местами огибал участки илка-рада или трещины. Солнце поднималось все выше, и на кобальтовом небе появились легкие шафрановые мазки, а воздух слегка прогрелся. Данло чувствовал это тепло в легких порывах ветра, который проникал в прорезь его очков и касался глаз; он вообще, как ни странно, не чувствовал холода, как будто азарт охоты зажег в его сердце и крови огонь, который не смогла бы разжечь самая сытная пища. Он стал более бодрым, более собранным, более живым. Ему казалось, что он чует во встречном ветре густой дымный запах медведя, и ему мерещился скрип снега под черными медвежьими когтями где-то впереди. Несмотря на прилив бодрости, Данло был очень слаб, однако отталкивался и скользил по шелковистой белизне со скоростью, недоступной медведю. С каждой милей, пройденной по ледяной коже океана, он чувствовал себя все сильнее, как будто пурпурный свет, отражаемый ледяными соцветиями, питал его, а ветер вдыхал в него новую жизнь.
Покров цивилизации сползал с него слоями, обнажая более дикое и глубокое его “Я”. Мир впереди был зеркалом, широким мерцающим кругом белого льда, показывающим Данло его самого — могучего, великолепного зверя, преследующего другого зверя с дикой радостью бытия, принадлежащей ему по праву рождения.
Я Данло, сын Хайдара, Победителя Тигров. Я Данло Дикий, сын Мэллори Рингесса.
Он понимал, что расходует остатки своей энергии. Им движет только лотсара, редкое умение сжигать жировые запасы организма, чтобы раздуть в себе последний огонь жизни.
Всех алалойских юношей, когда они становятся мужчинами, обучают этому искусству; оно помогает им выжить и не замерзнуть, когда буран-сарсара или иное стихийное бедствие застигает их в пути.
Данло слишком долго голодал, и потому чудодейственный огонь, струящийся из живота в его руки и пальцы, должен был скоро угаснуть. Но Данло почти не беспокоился об этом: преследование поглощало его целиком. Перед ним лежал весь мир и все, что в этом мире существовало: лед, застывший под ветром мелкими волнами, облака-шета в небе, вихрящийся снег-аната. Он видел знаки, которые оставлял за собой медведь помимо оттисков лап: клочок шерсти, сорванный краем острой льдины, и рубиновые кристаллики крови; кончик черного когтя, отломанный, когда медведь выцарапывал что-то из глыбы прозрачного льда кленсу. Данло попробовал на язык капельку застывшей крови. Она опалила его рот каленым железом и придала ему сил, как волшебный напиток.
Отведал он и медвежьей мочи, превратившей кусок льда в желтую слякоть наподобие снега малка. По остро-соленому вкусу он понял, что медведь наелся ледяных соцветий — единственной пищи, доступной ему за отсутствием тюленей. Данло удостоверился в этом, отколупнув кусочек помета и увидев в нем голубые спиральки. Как видно, этот медведь — любитель снежных червей и знает, в каких соцветиях они встречаются чаще всего.
Куда же ты идешь, медведь? Скажи мне, пожалуйста, — куда ты держишь путь?
Мили через две Данло увидел в снегу огромную вмятину: медведь, должно быть, прилег там, чтобы вздремнуть. Зверь, вероятно, очень устал и ослабел от голода, как и сам Данло, — а может быть, попросту решил погреться на солнышке. Медвежий мех, хотя и кажется белым, на самом деле бесцветен.
Миллионы волосков от носа до хвоста — это не что иное, как тонюсенькие прозрачные трубки, по которым солнечное тепло проникает в черную медвежью кожу. Некоторое количество солнечных лучей при этом отражается и рассеивается во все стороны — отсюда и кажущаяся белизна шерсти. Но большинство поглощается темной кожей: такой вот способ греться на морозе развили в себе белые медведи.
Данло, остановившись передохнуть и осмотреть лед впереди, стал вспоминать все, что знал о медведях. Медведь способен идти по льду несколько суток или проплыть сотню миль по океану без перерывов на еду и на сон. Он способен учуять живого тюленя за три мили, а мертвого и разлагающегося миль за двадцать.
Скрадывать такого зверя надо с большой осторожностью.
Если ветер переменится и медведь учует охотника, он сам подкрадется к нему.
Пока что погоня оставалась легкой и сравнительно безопасной, поскольку Данло шел прямо на запад, навстречу ветру. Но ветер мог внезапно утихнуть, а медведь — отклониться на север или юг, а то и повернуть назад, к обильному ледяному соцветию или тюленьей лунке. Ночью он по какой-то неведомой причине не тронул Данло, сегодня ему может вздуматься поохотиться на него просто так, из спортивного интереса. Они такие, медведи, — никогда не знаешь, что они выкинут. Солнце поднималось все выше, а Данло уделял все больше внимания нюансам снега и льда и направлению ветра. Он то и дело нюхал воздух, как будто сам был медведем, и оглядывался на все четыре стороны.
Весь секрет охоты в том, учил его Хайдар, чтобы стать зверем, на которого ты охотишься.
Такое превращение требует большего, чем простого знания медвежьих привычек и догадок о том, что медведь сделает дальше и куда он пойдет. Стать им значит ощущать всю силу мира и собственную мощь при каждом прикосновении твоих ног к снегу. Это значит любить игру и при этом чувствовать непоколебимую уверенность в том, что ты способен пережить самые страшные зимние бури. А самое главное — это анимаджи, дикая радость от того, что ты просто живешь, и вдыхаешь чудесный соленый запах, и греешься в золотых лучах солнца.
Я Тотунья из числа Белых Мудрецов, Уриу Квейтиль Онсу.
Не меньше двух раз отождествление себя с медведем позволило Данло продолжить охоту в тупиковых, казалось бы, ситуациях. Около полудня он наткнулся на рашувель, мелкие снежные дюны шириной несколько миль, перекрывшие медвежий след. Данло мог бы продолжать идти по прямой, а потом несколько часов отыскивать на той стороне рашувеля прерванную цепочку следов. Вместо этого он сразу повернул на юг и снова нашел след через каких-нибудь сто ярдов. Медведь не захотел идти через рашувель. Сыпучий снег, хотя и не опасный для него, щекотал ему нос и заставлял его чихать.
Медведь же был как-никак Белый Мудрец и обладал развитым чувством собственного достоинства. Чихание он счел унизительным для себя и предпочел отклониться немного в сторону от своей цели — если он действительно имел цель, а не просто бродил по льду в поисках тюленей.
В другой раз Данло встретилась варулья — проем черной бурлящей воды в милю шириной, где океанское течение не давало морю замерзнуть. Медвежий след обрывался у самого края варульи. Поскольку Данло не мог последовать за медведем в воду, ему оставалось выбирать, как обходить варулью, — с юга или с севера. Такая водная полоса могла иметь в длину и десять, и двадцать миль; Данло, глядя вправо и влево, не видел ей конца — черная лента варульи тянулась от горизонта до горизонта. Он долго раздумывал, в какую же сторону податься, и наконец решил сложить холмик из пакового льда, чтобы дальше видеть.
На севере варулья сменялась льдом примерно через четыре с половиной мили, на юге она замерзала всего мили через три. Более короткая дорога, казалось бы, вела на юг, но течение шло с юга на север, и здравый смысл подсказывал Данло, что медведь дал течению унести себя на север, возможно, до самого конца полыньи, и там вылез на лед с другой стороны, логика повелевала обходить варулью с севера, но чувства не всегда повинуются логике. Данло почему-то знал, что медведя не снесло на север. Он прямо-таки видел, как зверь борется с течением, стараясь сохранить свой ведущий на запад курс.
Может быть, он не хотел больше делать крюк в сторону — а может быть, он выбрал этот более трудный путь по другой причине.
Он был из Белых Мудрецов, и его расцвет остался позади — но не так уж далеко позади. Странное ощущение, идущее вдоль позвоночника в руки и в ноги, говорило Данло, что медведя до сих пор переполняет огромная жизненная сила, толкнувшая его на борьбу с ледяными водами океана. Это было для него вопросом гордости, и он старался плыть прямо вперед. Стало быть, короткий путь на юг был наиболее верным, и Данло убедился в этом, когда обошел варулью и увидел медвежий след, выходящий из воды почти в том самом месте, где он рассчитывал. Данло мог бы порадоваться этому маленькому триумфу, но он прошел восемь миль на одну, проплытую медведем, и отстал от него еще больше. Солнце стало опускаться к зарозовевшему горизонту, и Данло понял, что должен найти медведя поскорее, чтобы окончательно не потерять его в темноте.
Я должен идти за ним даже ночью, думал он. Должен следовать за моей судьбой, ло-мирала ми холла.
Продолжая идти на закат, он вспомнил еще одно алалойское изречение, относящееся к судьбе: ти-анаса дайвам. Это можно перевести, как императив любить свою судьбу — или как призыв принимать эту судьбу молча и безропотно. “Анаса” значит и “любить” и “страдать”; для алалоя, открывающего свое сердце страшной красоте мира, разницы между этими понятиями почти не существует. Если судьба велит Данло умереть во льдах, ему следует покорно лечь на снег, все так же обратившись лицом к западу. И протереть заиндевевшие веки, чтобы созерцать бесконечную красоту мира. Даже замерзая, даже испуская дух, он должен благодарить судьбу за то, что жил на свете. Должен благодарить своих отца, мать и все живое за то, что родился на свет. Должен дивиться, что ему одному, из всех существ, рожденных от начала мира, выпало жить и умереть именно в этот срок.
Ти-анаса дайвам…
Но судьбе Данло было угодно, чтобы он нашел медведя, и Данло догнал его перед самым закатом. Поднявшись на невысокую дюну, он почти сразу разглядел желтовато-белое пятнышко на тускло-голубом льду в миле перед собой. Набрав полную грудь холодного воздуха, Данло замер на месте. Солнце близилось к краю земли, расцвечивая красками лед и небо, и это затрудняло обзор. Но Данло долго еще стоял так, глядя на запад и впивая ослепительный свет мира. На протяжении десяти ударов его сердца пятнышко не двигалось с места. Еще через пятьдесят ударов его по-прежнему можно было принять за снежный бугорок на льду — но Данло, преодолевая боль, напряг глаза, настроил их на изменчивую длину световых волн и стал видеть медведя.
Тот сидел спиной к Данло, глядя куда-то вниз. Данло тоже посмотрел туда и увидел черный кружок открытой тюленьей лунки. Здесь, где струилось с юга теплое течение Калилкак, лед был потоньше, и тюленьи полыньи не имели снежной кровли.
Медведь ждал, когда всплывет тюлень, — ждал не менее терпеливо, чем алалойский охотник. Он мог ждать так часами, примерзая ко льду, — а когда тюлень наконец вынырнет, он, взвившись как молния, стукнет его по голове своей могучей лапой и убьет. Потом вытащит тюленя на лед и начнет пировать.
Ти-анаса дайвам.
Данло стоял на сверкающем снегу и тоже ждал, с трудом веря в свою удачу. Лунка поглощала все внимание медведя — Данло мог просто подойти к нему и напасть на него сзади.
Ветер по-прежнему дул прямо с запада, не давая медведю учуять его. Данло, раздувая ноздри и впуская в них ветер, сам чуял медведя — чуял темный мускусный запах, почти хмельной от играющей в нем жизни. Это новое ощущение, связующее его с медведем, взволновало Данло, и он поймал себя на том, что движется по снегу к источнику запаха — движется медленно, грациозно, бесшумно. Почти бесшумно: при этом скольжении по мягкому снегу-кушку шорох поземки, которой осыпал его ветер, казался ему громом. Он молился, чтобы медведь не услышал его. Молился, чтобы ветер, шуршащий по льду, заглушил более тихие звуки. Так все и вышло: медведь ни разу не шевельнул головой и даже ухом не повел.
Ти-анаса дайвам. Следуй за своей судьбой.
Целую вечность Данло подкрадывался к медведю. Подойдя поближе, он стал видеть его более четко. Медведь сидел, сгорбив плечи, вытянув к лунке морду и длинную шею. Он стремился туда всем своим существом. Данло находил, что он ведет себя довольно самонадеянно, сидя вот так, носом к ветру. Это, правда, позволяло ему лучше чуять то, что находилось впереди, зато делало его уязвимым при нападении сзади.
Медведь, как видно, не боялся ничего, что могло двигаться по льду: ни ветра, ни других медведей, ни даже человека. С человеком он, может быть, и вовсе никогда не встречался.
Алалои так далеко не заходят, а почти всех городских червячников перебили во время недавних беспорядков. Сила и тайна белых медведей (по крайней мере Белых Мудрецов) заключается как раз в том, что они ничего в мире не боятся.
Ти-анаса дайвам.
На расстоянии ста ярдов Данло скинул лыжи, лег животом на снег и пополз, крепко держа копье, стараясь не задевать острых лезвий илкеша, которые могли порвать его шубу и произвести опасный шум. Он преодолел таким манером пять ярдов, потом десять. Под ним, под слоями снега и льда, шевелился океан, соленый и теплый, как кровь мира. Данло слышал его тихий рокот, как слышал рокот собственной крови и крови медведя. Еще через пять ярдов связь между ним и медведем стала еще крепче. Он боялся, что зверь вот-вот повернет голову и глянет на него, и поэтому распластался на снегу, прикрыв черную маску белыми рукавицами.
Однажды, много лет назад, он видел, как медведь точно таким же образом подкрадывался к группе тюленей, играющих на скале. Чтобы тюлени не заметили его на льду с подветренной стороны, медведь продвигался вперед потихоньку, прикрывая лапой черный нос. Выждав сто ударов сердца, Данло снова пополз, одной рукой по-прежнему заслоняя лицо, а другой сжимая копье. На тридцати ярдах медвежий запах перекрыл все прочие ощущения. У Данло урчало в животе, и каждая его клетка вопила от голода. Ему вспомнилось слово “ваашкелай”, означающее “мясной голод”. В глубине души он сознавал, что злаки; овощи и прочая растительная пища, которую он ел столько лет, никогда не насыщала его по-настоящему. В его сердце и в его животе всегда тлело желание вонзить зубы в мясо другого животного и вновь ощутить восхитительный красный вкус крови.
Ти-анаса дайвам.
Когда он подполз совсем близко к медведю, ярдов на двадцать, ветер вдруг улегся, и в мире настала почти полная тишина. Ему чудилось, что он слышит глубокое, терпеливое дыхание медведя. Сам он старался дышать как можно тише и медленнее, чтобы унять грохот сердца. Его внимание сфокусировалось на медведе, как солнечный луч. На всем замерзшем море их осталось только двое; здесь, под густо-синим небом, посреди белой пустыни, было почти невозможно представить себе, что в каких-нибудь шестидесяти милях отсюда живет в огромном городе множество людей. А война, которую вели сородичи Данло среди звезд, казалась невероятно далекой, как будто происходила в незапамятно древние времена.
Алалои, живущие в тысяче миль к западу, ничего не знают об этой войне, хотя по ночам и дивятся, должно быть, растущей громаде Вселенского Компьютера, поглощающего знакомые звезды, как некая темная шайда-луна. Им и в голову не приходят, что небесные огни, которые они называют блинками, на самом деле сверхновые, и что люди, пришедшие издалека на черных кораблях, могут с помощью своих машин убить само солнце. Сейчас это и у Данло не умещалось в голове: в этот момент солнце, повисшее чуть впереди медведя между небом и землей, пылало золотом и багрянцем, как таинственный костер, в котором сгорало как прошлое, так и будущее. Для Данло (и для медведя) существовало только “теперь” между двумя ударами сердца, момент тихого неба и уснувшего ветра.
Ти-анаса дайвам.
Медведь наконец шевельнулся. Нет, он не бросился вперед, к показавшемуся из лунки тюленю, — он оглянулся назад, просто так, из любопытства. Данло знал, что медведя побудил оглянуться не его запах и не какой-то изданный им звук: в этот момент он снова замер, превратившись в белый холмик среди других сугробов. Нет, причиной послужило нечто другое — та самая таинственная связь между ними, от которой чуть ли не вибрировал лед. Данло знал, что сейчас зверь увидит его. У медведей зрение не очень острое, и любой другой медведь мог бы взглянуть прямо на него, моргнуть пару раз и снова отвернуться к лунке. Но этот поймет сразу, что белая шуба Данло — не снег, а мех другого животного.
Данло, улыбнувшись про себя, сорвал бесполезные теперь маску и очки, одним прыжком вскочил на ноги, подняв облако снега, и напал.
Это было единственное, что ему оставалось. Надо было ворваться в ближний круг медведя, и быстро, иначе он упустил бы случай убить его. Такой круг есть у большинства животных, и вторжение в него означает: сражайся или беги. Если опасность приближается к границе круга, животное чаще всего обращается в бегство, но когда враг подходит на расстояние удара, оно вынуждено сражаться за свою жизнь. Данло не оставил медведю выбора. Этот зверь скорее всего стал бы драться в любом случае, ради одной лишь звенящей радости боя, но вероятность бегства все-таки существовала. Данло должен был показаться ему поистине странным и опасным зверем со своими горящими голубыми глазами и длинным, наставленным прямо в сердце медведя копьем.
Ти-анаса дайвам, мелькнуло в голове Данло, и еще: никогда не убивай и не причиняй вреда другому, даже в мыслях.
Момент настал. Медведь, ошарашенный и взбешенный нежданным нападением Данло, перешел в нападение сам. Он взревел, фыркнул и ринулся вперед с устрашающей скоростью, едва касаясь лапами снега. За миг до столкновения он поднялся во весь свой двенадцатифутовый рост, уподобившись огромному белому богу. Зверь был громадный, настоящий Белый Мудрец, полторы тысячи фунтов жира, костей и твердых, как осколочник, мускулов. Он рычал на Данло, растянув свои черные губы, а Данло стоял под ним с копьем наготове, неотрывно глядя на черный медвежий нос, черный язык, непроницаемые черные глаза. Острые, как кинжалы, зубы он тоже видел, но знал, что медведи, когда дерутся, редко пускают в ход зубы: Они предпочитают убивать с помощью лап и когтей — именно эти страшные орудия нависли теперь справа и слева над головой Данло. Он стоял так близко, что обонял парное дыхание медведя и чувствовал его тепло. В любой момент медведь мог взмахнуть лапой и опустить ее с силой падающего дерева, а Данло в любой момент мог вогнать копье в его незащищенную грудь. Сердце Данло стукнуло раз, потом другой, очень сильно и очень быстро. Вслед за этим настал финальный момент, момент между жизнью и смертью. Момент жизни и смерти. Данло смотрел на медведя, медведь на. него, и оба ждали. На протяжении вечности Данло ощущал себя неведомым существом, вышедшим из странного безмолвия этого льдистого мира.
Не могу я его убить — никогда не убивай и не причиняй вреда другому, даже…
Но медведю ничто не мешало его убить, и он без предупреждения замахнулся лапой. Это произошло так быстро, что Данло едва успел увернуться от черных когтей. Они рассекли воздух в дюйме от его глаз и разодрали ему шубу, оцарапав кожу. Боль обожгла грудь пятью огненными ножами, но Данло заботило только одно: освободиться от когтей и не дать медведю воспользоваться зубами. Это ему удалось. Снег взвихрился вокруг них, и медведь фыркнул, унюхав кровь, оросившую белую шубу Данло. Он снова поднялся на дыбы и нанес удар другой лапой. Данло снова отскочил, увернувшись, и тут же с молниеносной скоростью метнулся назад.
Ярость этой атаки изумила его самого — и медведя, вероятно, тоже. Медведь почти наверняка никогда раньше не видел человека и не знал, для чего служит копье. Еще момент — и Данло нанес свой удар вверх, направив кремневый наконечник в мягкое место под ребрами. В этот единственный выпад он вложил всю силу своего тела и своего существа. Он не сразу определил, попал ли удар в сердце, потому что заходящее за медведем солнце било в глаза и наполняло белым огнем его мозг. Лед переливался алмазами под густо-синим небом. Потом медведь испустил протяжный, низкий, странный рев, и Данло понял, что удар достиг цели. Он стоял на запятнанном кровью снегу, глотая воздух, глотая жизнь, и загонял копье все глубже. Страшная сила, идущая изнутри, наполняла его тело, кровь бурлила в жилах, дыхание вырывалось паром изо рта, дикое, как ветер. Он продолжал направлять копье вверх, и медведь в предсмертной борьбе сам вгонял его в себя. Медведь пытался куснуть его или достать лапами, но Данло был близко, так близко, что мог бы лизнуть длинную шерсть на медвежьем брюхе.
Медведь ревел, бился и ярился. Данло чувствовал, как жизнь могучего зверя трепещет на конце копья, изливаясь наружу ярко-красными струями. Брызги этой волшебной соленой жидкости попали Данло в глаза и обожгли их сильнее, чем слезы. Данло хотелось плакать все время, пока он направлял свой удар, — плакать о медведе и еще больше о себе.
Он чувствовал, что судьба подхватила его и несет, как подхватывает ветер со льда одинокий кристаллик. Но все то время, пока медведь слабел и свет угасал в его глазах, Данло знал, что движется к какой-то глубокой цели. Нет, он не беспомощный ледяной кристаллик; заглядывая в свое пылающее сердце, он видел, что равен ветру силой и свирепостью своей воли к жизни. В конце концов, он сделал свой выбор. Он убил медведя, движимый дикой радостью бытия, по собственной воле, и это его деяние было ужасным и прекрасным.
Ти-анаса дайвам.
Медведь наконец перестал бороться, и огонь внутри Данло угас. Медведь стал мертвым грузом на конце копья, и Данло не мог больше его удерживать, он и сам-то не держался больше на ногах. Он и медведь рухнули вместе, грохнувшись на лед с такой силой, что чуть не раскололи его. Данло еще долго лежал так, рядом с медведем, и ловил ртом воздух. Он не мог пошевелиться, не мог отвернуться от медвежьего брюха или выпустить копье, торчащее там в широкой кровавой ране. Да он и не хотел шевелиться: сил в нем не осталось даже для того, чтобы открыть рот и выплеснуть в крике великую боль всего этого. Ни рук, ни ног он почти не чувствовал.
Огромная, неодолимая слабость высасывала жизнь из его тела, и ему хотелось умереть. Это представлялось ему очень простым делом. Стоит только подождать, когда солнце закатится за темно-синий горизонт, и дать мертвящему холоду моря унести себя на ту сторону дня.
Следуй за своей судьбой.
Но когда солнце скрылось за пылающей кромкой льда, он вспомнил, для чего пришел в эту область жизни и смерти. Он медленно разжал пальцы и выпустил древко копья. Он двигался, будто под водой, и это причиняло ему такую боль, что он едва удерживался от крика. Кровь из раны окрасила весь снег вокруг груди и брюха медведя. Данло зачерпнул горсть этого красного месива и поднес его к губам. Он съел снег медленно, давая ему растаять во рту, и кровь потекла ему в горло. Долгое время спустя что-то зашевелилось у него внутри, как будто медвежья кровь заново разожгла в нем огонь жизни.
Он съел еще немного этого волшебного снега — и еще, и еще, горсть за горстью, впитывая в себя сладкую красную кровь.
От голода ему казалось, что он мог бы выпить все море, будь в нем кровь, а не вода. Но его желудок превратился в пустой, ссохшийся мешочек — вскоре Данло закашлялся, повернул голову набок, и его вырвало. Голод, однако, пересилил, и Данло снова стал поглощать снег. Он извергал съеденное и ел снова — много раз, но за каждым разом он удерживал в себе чуть больше пищи. В крови недостатка не было — она продолжала литься из медведя, как будто тот сам выпил целый винно-красный океан.
Через некоторое время частица силы вернулась в изнуренное тело Данло. Он встал на четвереньки и захватил губами снег — на этот раз чистый, без примеси крови. Потом подполз к медведю, раскрыл его черную пасть и пустил туда струйку воды из своего рта, напоив его напоследок. Он закрыл темные медвежьи глаза и помолился за его душу: — Пела Урианима, ми алашария ля шанти. Усни, о Великий, усни.
Ему самому хотелось спать чуть ли не больше, чем есть, — хотелось даже сильнее, чем выполнить свое обещание и принести еду Тамаре и Джонатану. Но уснуть значило умереть — его тело быстро застывало на страшном ночном морозе. Пропитанные кровью рукавицы сжимали руки, как ледяные тиски. Данло понимал, что должен двигаться, иначе он не доживет до утра. Он достал нож и вспорол медведя от горла до брюха. Он взрезал кожу, жир и мускулы и подивился тому, как похоже устройство медвежьего нутра на его собственное.
Работая быстро под окрепшим ветром и загорающимися звездами, он отрезал несколько больших кусков сала и проглотил их. Вынул дымящуюся печень, откусил кусочек и прожевал, упиваясь железистым, живительным вкусом. Остаток он бросил на снег: медвежья печень содержит смертельно высокую концентрацию витамина А. Потом Данло, орудуя ножом из алмазной стали, вскрыл медведю ребра, грудину и вынул сердце.
Когда-то он называл этот наиглавнейший из внутренних органов словом “арду”. Он съел больше половины, стоя в подмерзающей кровавой слякоти и глядя на звезды. Хайдар говорил ему, что в сердце медведя заключена великая сила. В нем обитает самая жизнь зверя, его анима. Данло, поглощая его под знакомыми с детства созвездиями, чувствовал, как часть этой силы переходит в него. Он дивился огню, который разгорался у него в животе; он глядел на медведя, на его белый мех и рубиновое мясо, мерцающее при свете звезд, и дивился тому, что смерть этого зверя дает ему новую жизнь.
Нет жизни, которая не была бы чьей-нибудь смертью; нет смерти, которая не была бы чьей-нибудь жизнью.
Данло понимал, что медведя надо быстро освежевать и разделать — иначе туша застынет, как колода, и ее уже не сдвинешь с места. Зная, что не справится с такой работой на морозе, он отыскал поблизости кусок снега-куреша и стал резать из него кирпичи. Он нарезал их много, потому что этой ночью ему предстояло построить очень большую хижину. Кирпичи он довольно быстро перетаскал к медведю и стал класть их прямо вокруг него и над ним. Он возводил круглые стены, ступая по кровавому снегу. Когда работа стала близиться к концу, он достал из рюкзака плазменную печку и поставил ее в центре хижины. Она давала достаточно света и уже немного согрела хижину, когда Данло взял нож и приступил к разделке.
Ничто не пропадает во вселенной.
Чтобы ни одна частица жизни медведя не пропала, Данло наполнил множество пластиковых пакетов кровью, все еще сочившейся из тела зверя. В другие пакеты он положил мозги, сало и мясо — столько темно-красного мяса, что он не знал, как довезет его до города. Поначалу эта тяжелая, кровавая работа отнимала у него все силы, и он то и дело ложился отдохнуть на снятую с медведя шкуру. Во время этих передышек он съедал изрядное количество сырого мяса и особенно жира, который его организм почти сразу перерабатывал в энергию. С ходом ночи сил у него, как ни странно, прибавилось.
Желудок, сердце и кровь усиленно работали, усваивая съеденное мясо, и Данло почти чувствовал, как восстанавливаются и наливаются мускулы рук и ног: плоть медведя нарастала на его собственную слой за слоем.
Ничто не пропадает.
Ближе к утру Данло обработал свои раны и наконец-то лег спать. Вдоль стен по всей окружности хижины стояли пакеты с мясом. От медведя, занимавшего почти всю середину дома, остался только окровавленный скелет, но он тем не менее продолжал жить — и в Данло, и там, во льдах, под звездным небом, в великом кругу мира. Закрыв глаза, Данло услышал, как дух медведя зовет его. Могучий, громовой голос пел на ветру, переходя в рев.. Он говорил Данло, что отдал ему свою жизнь ради великой цели. Скоро, очень скоро придет время, когда Данло понадобится быть таким же сильным, как был медведь. В конечном счете плоть и кровь Данло принадлежат миру — и дыхание его, и мечты, и сама жизнь.
Ничто не пропадает.
И Данло, засыпая, дивился великой тайне того, что случилось в этот день. Он слушал летящий по льду ветер, слушал свое дыхание, считал удары своего сердца и дивился таинственной силе, нарастающей в нем с неотвратимостью зимней бури.
Глава 19 ДЫХАНИЕ МИРА
Не бойтесь умереть, ибо смерть — это всего лишь освобождение наших бессмертных паллатонов из наших бренных тел. Возникает вопрос: что же происходит с нашими паллатонами, когда они в виде чистой информации закладываются во вселенский компьютер? Существуем ли мы в состоянии стазиса, как буквы на странице книги, или движемся со всей красотой и мощью грозовой бури?
Какая степень реальности доступна этой бессмертной программе? Я полагаю, что наши “Я”, воспроизведенные в виде паллатонов, более реальны, чем глоток свежего воздуха, и мощь их более велика и непреклонна, чем полет ветра.
Николос Дару Эде. “Принципы кибернетической архитектуры”Возвращение в Невернес заняло у Данло четыре дня. В первый день он отправился на лыжах к своей первой снежной хижине за нартами, во второй перевез пустые нарты на запад, к другой хижине, где хранилось медвежье мясо.
Данло боялся, как бы другой медведь не учуял его сокровище, и потому одолевал заструги и поля сверкающего снега-аната со всей доступной ему быстротой. Он порадовался, найдя свою добычу нетронутой. В холодном утреннем свете он загрузил нарты пакетами с медвежатиной и покрыл их сверху куском белой ткани. Мяса было много — не меньше восьмисот фунтов, на его взгляд, но Данло хотел довезти до города все без остатка, чтобы полностью обеспечить Тамару, Джонатана и их друзей. Он впрягся в нарты и стал тянуть, но нарты не сдвинулись с места. Он подергал их вправо-влево, несмотря на боль от ран, нанесенных ему медведем, чтобы освободить примерзшие полозья — но и это не помогло. Тогда Данло с большой неохотой разгрузил около двухсот фунтов мяса и закопал его в снег возле хижины. Джонатану оно все равно не принесет пользы, если мальчик умрет от голода, не дождавшись отца, а Данло всегда сможет вернуться за ним при случае. Если же случая не представится, мясо съест другой медведь или расклюют стервятники, когда придет средизимняя весна и снег начнет таять.
Поначалу Данло приходилось трудно: он еще недостаточно окреп, чтобы везти такой груз по неровному льду целых шестьдесят миль. Но с каждой милей, преодолеваемой им под темно-синим небом, силы его прибывали. Данло держал в тепле, за пазухой своей замызганной кровью шубы, мешочек с кусками мяса и жира. На ходу он то и дело запускал туда руку и ел, перетирая пищу крепкими белыми зубами. Взвешивать ему было не на чем, но за эти четверо суток Данло, по его оценке, съел тридцать-сорок фунтов мяса. Некоторая часть съеденного превращалась в энергию, но остальное нарастало на его отощавшие мускулы, образуя новую ткань.
Его изумляла быстрота, с которой он набирал вес; порой ему казалось, что, если он будет и дальше съедать такое же количество пищи, вся сила мира перейдет в него. Царапины на груди тоже заживали очень быстро, как будто клетки в том месте совершали обмен и делились в бешено ускоренном темпе. С того самого времени, как он съел сердце медведя, все его существо кипело новой жизненной силой. Он чувствовал, как нечто странное и чудотворное переделывает его изнутри.
Это нечто двигало его вперед, а ветер со свистом подталкивал его в спину, как дыхание Бога. Данло сам чувствовал себя могучим и несокрушимым, почти как галактический бог, однако сознавал, что в случае бури может застрять здесь дней на десять. И он передвигал лыжи, торопясь в Невернес, где ждали его сын и любимая женщина.
На Западный Берег он вышел глубокой ночью. Нарты он перевез через заснеженные пески по возможности бесшумно, опасаясь встретить какую-нибудь шайку хариджан, — которые могли пристать к нему с расспросами и сорвать покрышку с его саней. Но час был поздний, ветер гнал поземку, и никто не высовывал носа на улицу. На пути в Городскую Пущу Данло не встретил ни одного человека. В лесу, при свете звезд, он разгрузил нарты и спрятал мясо в своей хижине, а лучшие куски — фунтов двадцать вырезки — рассовал по внутренним карманам шубы. Прихватив еще несколько пакетов с кровью и салом, он покатил на лыжах через лес, в город, к Тамаре и Джонатану.
Между лесом и Меррипенским сквером ему попалось очень мало прохожих, да и те шарахались от него, как от ангела смерти. Тамара, открыв ему дверь, тоже испуганно вскрикнула при виде его окровавленной шубы и рукавиц. На ней был теплый стеганый халат. Поморгав глазами, она выглянула в коридор и втянула Данло в квартиру.
— О, Данло! Я уже начинала думать, что ты не вернешься. Семь дней, как ты ушел!
— Здравствуй. — Данло снял маску, расстегнул “молнию” на шубе и обнял Тамару. — Я думал о тебе каждый день.
Она взяла у него шубу и повесила на сушилку у двери.
— Нельзя ходить по городу в таком виде. Можно подумать, что ты кого-то убил.
— Я и убил, — сказал он, вынимая из карманов пакеты с мясом. — Тотунью, медведя, медвежьего патриарха. С тюленями мне никогда не везло.
— О нет! Я не верила, что ты способен убить хоть что-то живое. Мне очень жаль, что тебе пришлось пойти на это ради нас.
— Мне… тоже жаль.
Он обвел взглядом скудно обставленную квартирку с развешанными на стенах рисунками. За дверью спальни глубоко дышал во сне Джонатан. Данло сразу встревожился, уловив слабый запах гниения. Он подумал, что один из пакетов с мясом или кровью каким-то образом испортился, и стал их проверять, но все принесенное им осталось свежим и замороженным — да и не могло оно оттаять от его тепла по дороге из Пущи. Может быть, Тамара достала откуда-то мясо в его отсутствие, а Джонатан, как маленький гладыш, спрятал лакомые кусочки где-нибудь про запас, а потом забыл о них.
Но при виде изнуренного лица и затравленных глаз Тамары у Данло свело живот, и он понял, откуда идет этот запах.
— Джонатан, — сказал он тихо. — Это Джонатан, да?
— О чем ты?
Он повернулся к спальне, смыкая и размыкая ноздри, и прошептал:
— Этот запах мне знаком.
Если говорить правду, он понял, что Джонатан очень болен, как только переступил порог. Нисколько витающих в воздухе молекул затронули обонятельный центр его мозга и пробудили целый каскад воспоминаний, которые Данло предпочел бы не оживлять.
— Я ничего не чувствую, — сказала Тамара. — У тебя, наверно, нюх сильнее, чем у меня.
— Это обморожение, да? Его ноги? Значит, лекарства не помогли?
— Я ничего не смогла достать. Зима холодная, и очень у многих обморожены уши или ноги. Мы с Пилар обошли всех резчцков от Меррипенского сквера до Длинной глиссады, даже к червячникам обращались — к тем, которые еще торгуют. Лекарств нет ни у кого.
— Понятно.
— Я поила его травами — корнем нории и прочим. Их дала мне подруга Пилар. — Глаза Тамары остекленели от пережитых страданий, и она выглядела намного старше своих лет. — Старалась кормить его, как могла, и держать его в тепле. Даже молилась — делала все, что только могла придумать.
— Я знаю. Я знаю.
— Он все время спрашивал о тебе. Каждый день, чуть ли не каждый час.
— Я хочу увидеть его.
— Прямо сейчас?
— Да. Мы разбудим его и дадим ему кровяного чая.
Тамара, кивнув, раскрыла пакет с мороженой кровью и приготовила отвар. Растопив темную кристаллическую массу и добавив туда толченой коры чайного дерева, она налила красную дымящуюся жидкость в кружку и пошла к спальне.
— Погоди, — остановил ее Данло. — Эту кружку выпей сама, а потом уж отнеси Джонатану.
— Нет, сначала ему. Я не хочу.
Данло видел по ее бледному, с обострившимися скулами лицу и впалым глазам, что она говорит неправду.
— Теперь у нас много еды. Кушай, не бойся. Пожалуйста.
— Хорошо. — Тамара выпила чай почти залпом, дуя между глотками в кружку, чтобы не обжечься. Допив, она налила еще кружку, собравшись опустошить и ее, но Данло ей не позволил.
— Дай своему желудку привыкнуть к пище. Иначе ты не удержишь и то, что уже выпила.
Она послушалась, и они вместе вошли в спальню. Запахи комнаты окутали Данло тяжелым облаком, и его самого чуть не вырвало. Здесь пахло потом, страхом и поносом, которым мучился изголодавшийся Джонатан. Но все перешибало другое, куда более страшное, пожирающее плоть Джонатана и отравляющее его кровь.
Мальчик спал беспокойным сном под двумя меховыми одеялами, скорчившись, как младенец в утробе. Данло хорошо знал этот голодный озноб, от которого не спасает ни теплая одежда, ни одеяла, и ему очень не хотелось обнажать Джонатана, но он должен был увидеть источник этого ужасного запаха. Данло, сцепив зубы, включил в комнате свет и откинул одеяло в ногах у сына.
Ти-анаса дайвам.
Пальцы обеих ног, как он и боялся, почернели от гангрены. Хуже того — чернота дошла почти до щиколоток, где пограничные ободки синей с красными пятнами кожи сменялись бледным, пока еще здоровым телом. Ноги у мальчика гнили заживо, и от них пахло распадом и смертью.
Ти-анаса дайвам.
Мальчик, не просыпаясь, пошевелился и застонал, и Данло, укрыв его снова, прошептал:
— Джонатан, Джонатан.
— Прости меня, — сказала Тамара. — Я, наверно, слишком долго ждала.
— Да, — сказал Данло, но в его голосе не было гнева или упрека. Только сострадание — и к Джонатану, и к ней.
— Я все надеялась найти криолога или резчика, у которого еще остались лекарства. А потом, когда это перешло с пальцев на ступни, стала надеяться, что ты принесешь мясо или еще какую-нибудь еду, чтобы подкрепить его, прежде чем… О, Данло, я не вынесу, если его будут резать по живому. Я хотела спасти пальцы, а теперь он, как видно, обе ступни потеряет. Но он так слаб, он не готов к операции. Я даже на улицу не решусь его вынести. Ох, какая же я дура, Данло, и как мне страшно.
Она разрыдалась и припала к Данло. Оба стояли над кроватью, глядя на спящего Джонатана. Потом Тамара прерывистым шепотом стала делиться с Данло своими страхами. Она рассказала ему о резчике с улицы Нирваны, который разделывался с последствиями обморожений самым грубым и немилосердным образом. Еще в то время, когда можно было обойтись медикаментозным лечением, он впал в ампутационный раж и без колебаний оттяпывал пострадавшие уши, носы, пальцы рук и ног. Он утверждает, что спас этим много жизней — но скольких он обезобразил, скольких сделал калеками? А еще больше народу, как говорят, умерло от инфекции после этих его зверских операций. Тамара боялась, что Джонатан попадет к такому резчику, чуть ли не больше, чем боялась за его жизнь.
— Есть один резчик, который сможет ему помочь, — сказал Данло. — У него, возможно, еще сохранились крионические препараты, и антибиотики, и иммунозоли.
— Это тот, кто тебя оперировал? — тихо спросила Тамара.
— Да. Ноги, может быть, не удастся спасти, но мы хотя бы избавим Джонатана от боли и инфекции.
— Я не вынесу, если он лишится ног.
— Я знаю. — Данло погладил ее по щеке. — Но после войны их можно будет отрастить заново.
— Твой резчик это сделает?
— Нет, он слишком дорого возьмет. Но Орден распорядится, чтобы все другие резчики в городе делали восстановительные процедуры бесплатно.
— А за то, чтобы вылечить Джонатана сейчас, твой резчик разве не спросит денег?
— Очень может быть. У тебя есть что-нибудь?
Тамара, кивнув, вышла в другую комнату и вернулась с золотыми монетами в кошельке.
— Вот все, что осталось.
Данло взвесил кошелек на ладони и сунул его в карман камелайки.
— Скоро рассвет. Пусть Джонатан напьется чаю, и я отнесу его к этому резчику.
— Я пойду с тобой.
— Хорошо, пойдем.
— Мой сыночек. Он все, что у меня есть на свете.
И она осторожно разбудила Джонатана. Мальчик не сразу пришел в себя — летаргия прерванного сна смешивалась в нем с апатией, вызванной голодом. Но при виде Данло, стоящего на коленях рядом, он слабо улыбнулся и попытался сесть. Это вызвало судороги в его скрюченных руках и ногах, и мальчик, сморщившись, вскрикнул от боли. Одеяло сползло с него, открыв истощенное тельце. Данло потрясли перемены, произошедшие с сыном всего за семь дней: от Джонатана остался обтянутый кожей скелетик. Его грустные глаза подернулись туманом, белки приобрели нездоровый синеватый оттенок.
— Папа. Ты вернулся.
— Вернулся. — Данло снова укрыл Джонатана и обнял его, а Тамара поднесла к губам мальчика кружку с чаем. Малыш был так легок и слаб, что Данло хотелось плакать, но чай выпил с жадностью волчонка, сосущего мать.
— Ты убил тюленя, да? — спросил он, управившись с кружкой. — Мама сказала, ты ушел на море охотиться на тюленя.
Данло стал рассказывать, как убил медведя, а Тамара налила Джонатану еще две кружки — и себе налила, и Данло.
Джонатан готов был проглотить еще больше красного напитка, а может, и мяса бы съел, но у него заболел живот, и Данло сказал, что с едой пока надо подождать.
Данло достал флейту и сыграл Джонатану песенку. Мальчик попросил еще. Он лежал, свернувшись клубочком, и слушал, а музыка наполняла комнату, как плавно льющийся жемчуг. Солнце зажгло белые занавески на окне. Тамара смотрела на это красное зарево так, будто наступающий день внушал ей страх. Пока Данло дышал в свою флейту и считал удары своего сердца, она со вздохом закрыла глаза, словно искала внутри себя иного света, который дал бы ей силу перед грядущими испытаниями.
Когда стало совсем светло, они одели Джонатана в камелайку, с великим трудом и мучениями натянув ее на распухшие ноги. Мальчик непроизвольно дернулся от холода, и “молния” на штанине оцарапала ему ступню. У него вырвался тихий, тонкий, невыносимый для слуха крик, и он стал умолять Тамару оставить его дома. Он так боялся резчиков, что вцепился в кровать и не хотел отцепляться. Но Тамара сказала ему, что папа нашел хорошего резчика: у него есть лекарства, и он вылечит Джонатану ножки. Мальчик, поддавшись уговорам, отпустил кровать, вцепился вместо нее в Тамару, зарылся лицом ей в грудь и проговорил:
— Нет, нет, он сделает мне больно! Я не хочу умирать, мама!
Тамара с отчаянием, смаргивая слезы, взглянула на Данло.
— Я не дам тебе умереть, — сказал он, опустив руку на голову Джонатана. — Обещаю.
Мальчик пристально посмотрел на него, и что-то в глазах Данло, наверно, вселило в него надежду — он перестал хныкать и позволил Тамаре надеть ему подбитые шелком тапочки и шубку. Сверху Данло завернул его в оба меховых одеяла — туго, как куколку в кокон. Надев маску (окровавленную шубу при свете дня он надевать поостерегся), Данло взял сына на руки. Мальчик весил не больше подушки — Данло очень хотел бы, чтобы он был потяжелее, несмотря на предстоящий им путь через весь город.
Утро было морозное и слишком раннее, чтобы выходить на улицу без опаски. Воздух охватил их, как ледяная вода.
Такую погоду Данло определял как хурду, влажный синий мороз, могущий быстро стать смертельным. Красные ледянки казались темными, как кровоподтеки, небо заволокли серовато-белые полосы — илкета. Данло боялся, что позднее их сменят моратета — черные снеговые тучи глубокой зимы. С юга уже дул сильный ветер, швыряя частицы льда в магазинные витрины. Данло сразу закоченел бы в одной тонкой камелайке, но его грело тепло Джонатана и огонь, горящий в нем самом. Тамара тем не менее заставила его зайти в магазин одежды на Серебряной улице — один из немногих бесплатных распределителей, которые еще не закрылись. Будучи, как всегда, умнее его в житейских вопросах, она дала продавцу немного денег, и тот вынес им из подсобки хорошую шегшеевую шубу. Теперь Данло не грозила опасность замерзнуть, да и прохожие перестали глазеть на человека, вышедшего на такой мороз в одной камелайке.
Они добрались по Серпантину до Ашторетника без происшествий, минуя аутистов в лохмотьях, голодных хариджан и хибакуся, умирающих от всевозможных болезней. Джонатан, несмотря на все свои одежки и теплые одеяла, где-то возле Зимнего катка начал дрожать от холода. При этом он сказал, что теперь все время мерзнет, и попросил Данло не беспокоиться. Он смирно сидел у отца на руках и старался не вскрикивать, когда Данло попадал коньком в выбоину или перехватывал его поудобнее. Его помутневшие глазенки выражали почти безграничное доверие к отцу, и Данло смотрел на него чаще, чем это было разумно, учитывая плохое состояние льда. Не мог не смотреть. Даже через разделяющие их слои меха он чувствовал сердце сына, его маленькое арду, стучащее быстро, как у птички, и чувствовал, как пахнет смертью от его ног. Гангренозные газы, идущие из почерневших ступней, смешивались с другими запахами смерти, висящими в воздухе.
Чуть ли не на каждой улице дымили плазменные печи, сжигая тела людей, умерших за эту ночь. Данло закрывал Джонатану лицо, оберегая его от смрада горелого мяса, но мальчик все равно трясся от страха — особенно на улице Лойянг, где было много хосписов для неизлечимых больных. Данло сам едва сдерживал дрожь, пробирающую его от страха за Джонатана и от любви. Он охотно отпилил бы собственные ноги, теплые и полные жизни, чтобы спасти ноги Джонатана — но в конечном счете каждый из нас терпит боль жизни в одиночку, сколько бы людей ни страдало вместе с нами. Данло мог только скользить по льду, прижимать к себе Джонатана и молиться, чтобы сын выбрал какое-нибудь другое утро для перехода на ту сторону дня.
Они повернули на Дворцовую улицу, и Тамара узнала эти места: когда-то она жила тут поблизости, недалеко от Длинной глиссады. Ее мать, многочисленные братья и сестры и сотни ее родичей по-прежнему жили в этом районе.
Все они были астриерами и добрыми Архитекторами одной из реформированных кибернетических церквей и знать не хотели Тамару: когда она ушла из дому, чтобы стать куртизанкой, ее отлучили от церкви, отказав ей, согласно официальной формуле, в хлебе, соли, вине и в приобщении к любому из священных компьютеров. Теперь она для них как бы вовсе не рождалась на свет — она даже умершей не могла считаться, и ее сын тоже, и все другие дети, которые могли у нее появиться.
— Я ведь ходила к матери, — призналась она Данло. — Ходила, чтобы выпросить у нее еды. Ты, может быть, не знаешь, но церковь требует, чтобы все астриеры держали у себя запас провизии на семь лет. Это правило не все соблюдают — многие запасают только на год, — но моя мать не зря называется Достойной Викторией: восемь обязанностей она всегда выполняла с большой скрупулезностью. Еды у нее в доме полным-полно, я знаю. Но она не открыла свою дверь ни мне, ни своему внуку. Притворилась, что не видит нас — это было еще в самом начале голода. О, Данло, как можно быть такой жестокой?
Но у Данло не было на это ответа. Тамара ушла в воспоминания, и ее карие глаза, обычно мягкие, почернели от гнева. Удивительно, как она, при ее неистовой гордости, вообще решилась обратиться к матери. Только любовь к Джонатану (и страх за него) могли толкнуть ее на этот отчаянный шаг.
Поистине глубокой была эта любовь, поистине мощной, стихийной: глядя в ее темные мятежные глаза, Данло как будто заглядывал сквозь трещины во льду и камне в огненное сердце мира. Она скользила рядом, не сводя с Джонатана напряженно-любящего взгляда, и Данло думал, что она пойдет почти на все, чтобы уберечь сына. Сам он убил ради Джонатана медведя — она, возможно, и человека убьет. И уж конечно, умрет сама. Данло, прижимая ее сына к своему сердцу, в который раз дивился ужасной и прекрасной силе любви.
Ти-анаса дайвам.
Они дошли до стальных ворот, ведущих в дом Констанцио с Алезара. Данло постучал в них кулаком, подняв грохот и лязг на всю улицу. В конце концов высокий белокурый охранник, с которым Данло подружился во время своих прошлых визитов, вышел из теплой сторожки. Вид у него (его звали Зигфрид Олафсон) был усталый и недовольный. Он подкатил к воротам на коньках, явно намереваясь отправить непрошеных гостей подальше, но при виде знакомой маски Данло и глядящих из-под нее глаз перестал хмуриться и улыбнулся.
— Здравствуй, Данло с Квейткеля, — учтиво поклонившись, сказал он. — Не думал, что увижу тебя снова.
— Я пришел к Констанцио за помощью. — Данло повернул Джонатана лицом к Зигфриду. — Это мой сын, Джонатан, и Тамара, его мать.
— Очень приятно, но боюсь, что Констанцио вам не поможет.
— Мой сын очень болен. — Данло наскоро рассказал Зигфриду про обморожение и гангрену. — Я надеялся, что у Констанцио еще есть крионики, чтобы спасти ему ноги.
— Может, и есть. Но он никого больше не принимает и никаких операций не делает — он сам мне сказал.
— Хочется верить, что мне он все-таки согласится помочь. Как уже помог однажды.
— Извини, но ты понапрасну теряешь время.
Держа Джонатана одной рукой, Данло достал из кармана кошелек, который дала ему Тамара, и протянул сквозь прутья Зигфриду.
— Пожалуйста, передай это Констанцио. Это все, что у нас есть.
Зигфрид потеребил свои заиндевелые усы и зажал кошелек в кулаке.
— Ладно, если уж ты так просишь. Ждите здесь.
Зигфрид покатил по дорожке к дому. Данло, который притомился, неся Джонатана через весь город, сел на пурпурный лед. Тамара осталась стоять, разглядывая лазеры, огораживающие собственность Констанцио. Ее раскрасневшееся лицо под капюшоном было спокойно, но Данло знал, что внутри она вся кипит от нетерпения. Ждать на холодной, безлюдной улице было тяжело. С моря на юге дул резкий ветер, и солнце тускло-красным пятном виднелось через набежавшие облака. Джонатан все так же дрожал, но терпел холод стойко, глядя на Данло в поисках поддержки. Данло отвечал ему взглядом — больше он ничего сделать не мог. Он вспомнил алалойское слово “вания” — ожидание — и подивился мужеству, с которым Тамара и Джонатан ждали решения своей судьбы. Через некоторое время Зигфрид вернулся — с кошельком в руке.
— Извини, но все вышло, как я и говорил. Констанцио вас не примет.
Данло встал, и Зигфрид вернул ему кошелек. Данло хотел спрятать его обратно в карман, но Тамара забрала у него кошелек взвесила его на руке, звякнув монетами, и спросила у Зигфрида:
— Одну монету ты взял себе, верно?
Зигфрид, побагровев, плюнул на дорожку, и плевок тут же застыл.
— А если и взял, то что? За труды-то мне причитается или нет?
Тамара, пронзив его взглядом, решительно, но очень бережно развернула одеяло на Джонатане, сняла тапочки и завернула мальчика снова, оставив снаружи только ступни.
— Смотри, — сказала она ужаснувшемуся Зигфриду. Ветер нес запах гниющего тела прямо в лицо охраннику. — Мой сын борется за свою жизнь.
— Сожалею, — пробурчал Зигфрид. — Скверные времена, что и говорить.
Тамара снова надела Джонатану тапочки и закутала его ноги в одеяло.
— Пожалуйста, сходи к Констанцио еще раз, — сказала она. — Попроси его.
— Я сожалею, но он не станет вам помогать.
— Даже ребенку, которому больше некуда обратиться?
— Боюсь, что нет. Констанцио не выносит детей.
— Значит, у него нет сердца?
— Человеческого нет, это точно. Я слыхал, он давно уже вставил себе искусственное. Боялся, что настоящее откажет, если нервы будут шалить.
Тамара долго смотрела на Зигфрида и наконец сказала:
— Прошу тебя, открой ворота и позволь мне самой поговорить с ним.
— Боюсь, что это невозможно. Шли бы вы домой — слишком холодно, чтобы стоять тут и спорить. Забирай свою женщину и мальца, пока они не замерзли насмерть, — сказал Зигфрид Данло.
— Хорошо, мы уйдем, — сказала Тамара, — но сначала верни монету.
— Чего?
— Твой хозяин волен выбирать, помогать нам или нет, — полагаю, это его право. Но за одну просьбу о помощи мы платить не намерены.
— Скверные нынче времена, — повторил Зигфрид.
— Верни монету. Пожалуйста.
Зигфрид сунул было руку в карман, но передумал.
— Я всего одну взял — уходите, пока не поздно.
Тамара снова впилась в него своими темными глазами.
— Выходит, у тебя тоже нет сердца?
— У меня у самого сын. На Торскалле. Планета у нас бедная — знаете, наверно. Парень у меня способный, только денег, чтобы дать ему образование, у нас нет. Когда война кончится, я вернусь домой и потрачу все деньги, которые заработал у Констанцио, чтобы отдать его в элитную школу.
— Сочувствую, но твой сын по крайней мере не умирает.
— Ну а ваш все равно не жилец. Нет в городе резчика, который помог бы ему. Прибереги деньги для тех, кому они нужны по-настоящему.
Тамара поспешила зажать Джонатану уши, чтобы он не слышал этих слов, но было уже поздно. Мальчик смотрел на нее с ужасом — приговор Зигфрида ледяным кинжалом пронзил его душу.
— Отдай монету, — потребовала она. — Может быть, нам как раз ее и не хватит, чтобы оплатить услуги другого резчика.
Момент настал. Тамара и Зигфрид смотрели друг другу в глаза, и неясно было, чья воля переборет. Наконец он полез в карман и швырнул монету за ворота. Она звякнула об лед и улеглась, поблескивая.
— Забирай, раз уж так приспичило. И убирайтесь, пока я на вас роботов не выпустил.
Тамара нагнулась за монетой, а Данло сглотнул закупоривший горло комок ярости. Все это время он простоял почти не шевелясь, слушая стук своего сердца и глядя на Зигфрида. В период своей трансформации он привык считать этого человека своим другом, но Зигфрид, совершив свое мелкое воровство, насмеялся над его сантиментами. Прикарманивая монету, он крал жизнь у сына Данло, и это подлое предательство всколыхнуло в Данло черную ярость. Он мгновенно возненавидел Зигфрида, и ему захотелось, используя силу своего нового тела, сломать ворота и задушить его. Но одно дело — убить на охоте медведя, и совсем другое — убить себе подобного за то, что свойственно всякому человеку. Данло заставил себя дышать поглубже, глотая душащий его холодный воздух, и отвернулся от Зигфрида. Потом взял Джонатана поудобнее и собрался уходить.
Никогда не причиняй вреда другому, даже в мыслях.
Они направились по Дворцовой улице к Серпантину. Ветер выл, и коньки ритмично стучали по льду. У Зимнего катка они зашли погреться в павильон и сели на изрезанную деревянную скамейку. Данло поднес Джонатана к отдушине, из которой шел горячий воздух. Тамара, сняв варежку, положила руку на голову сына. Мальчик съежился в своих мехах, глядя в пустоту; ему, казалось, стало уже все равно, что с ним будет. Данло и Тамару эта апатия пугала больше, чем если бы он плакал и горько жаловался на судьбу. Данло самому хотелось заплакать и разразиться проклятиями против собственной злосчастной судьбы.
— Что же — нам делать? — прошептала Тамара, прислонившись к нему головой.
— Ты сама знаешь, — прошептал он в ответ.
— Нет. Я не могу.
— У нас нет выбора.
— Это убьет его. Если уж ему все равно суждено умереть, пусть умрет дома, в своей постели, без мучений.
— Может быть, резчик еще спасет его.
— Но это такая боль, Данло, — не могу я подвергать его таким мукам.
Данло посмотрел Тамаре в глаза, мокрые от слез и блестящие, как два темных зеркала.
Боль — это сознание жизни, подумал он. И еще: боль — это цена жизни.
— У нас нет выбора, — повторил он.
— Я знаю. Но это так жестоко. Так нечестно.
— Да.
— Не только для нас, правда? Для всех.
— Да.
— Почему так, Данло? Почему все так устроено?
— Не знаю.
Она несколько раз глубоко вздохнула и закрыла глаза, собираясь с силами. Потом взглянула на Джонатана и сказала:
— Хорошо. Я готова.
Данло улыбнулся, тронутый ее мужеством. Она не могла видеть его лица, под маской, и он попытался выразить все собственное мужество и всю свою любовь к жизни глазами.
Сама Святая Иви Вселенской Кибернетической Церкви как-никак нарекла его Светоносцем — он просто обязан был найти несколько золотых лучей надежды для матери своего ребенка и единственной женщины, которую он любил в своей жизни. Но звезда, которая прежде так ярко пылала в нем, почти угасла. Он чувствовал себя мертвым внутри, темным и холодным, как пепел. Его хватило лишь на то, чтобы положить руку на плечо Тамаре и сказать:
— Все будет хорошо, я знаю.
Они зашли в мастерскую на улице Резчиков, недалеко от дома Тамары. Принадлежала она Родасу Алаби, с которым Данло уже встречался во время своих поисков. Родас со своей широкой улыбкой и понимающими глазами сразу пришелся ему по душе. Данло чувствовал, что он хороший резчик (и от других слышал то же самое). Было только естественно, что сейчас Данло пришел к нему со своим сыном.
Мастерская была маленькая, облицованная по фасаду простым белым гранитом. Такая же простая деревянная дверь вела в приемную, где ожидали только двое пациентов — хариджанка и богатый эталон. Данло с Джонатаном и Тамара устроились на мягких голубых подушках напротив них. Хариджанка и эталон без стеснения обсуждали проблемы, из-за которых оказались здесь. Эталону тесные ботинки набили мозоль на пальце, и он собирался ее удалить. Хариджанка пришла, чтобы сделать аборт — зачем рожать ребенка, раз прокормить его не можешь, говорила она.
— Мне и самой-то есть нечего, — пожаловалась она тонким ноющим голосом. — Страшен мир, где матери приходится делать подобный выбор.
Вскоре дверь во внутреннее помещение открылась, и оттуда вышел аутист — еще молодой, возможно, человек, но его длинные волосы побелели, и лохмотья болтались на костлявых плечах. Резчик только что ампутировал ему нос и оба уха, о чем свидетельствовали свежие раны за наклеенной синтокожей. Другие на его месте надели бы маску, чтобы скрыть следы операции, но аутисты привыкли пользоваться людской жалостью, чтобы выпросить несколько монет. Говорят, что они слабо сознают реальность (в отличие от того высшего уровня бытия, который зовется у них реальной реальностью), но этот сразу определил Тамару как человека, способного оказать ему помощь. Не глядя на хариджанку и эталона, он направился прямо к ней.
— Прошу тебя, добрая женщина, — завел он, сложив руки ковшиком. Заклеенные носовые полости вынуждали его дышать ртом, что делало голос гнусавым. — Пусть милосердный Бог улыбнется твоей доброте.
Тамара, если не из жалости, то из сострадания, стала искать в кармане шубы мелкую монетку, но тут взгляд аутиста упал на Джонатана, который смотрел на него смело, без отвращения или страха. Аутист замотал головой, отказываясь от подаяния, и сам извлек из недр своей заплесневелой шубы маленький серый сон-камень.
— Это для мальчика, — сказал он, вручая камешек Тамаре, — чтобы ему приснился хороший сон и чтобы он гулял по реальности, одетый в свое сон-тело. И чтобы его меньшее тело осталось в малой реальности.
Данло улыбнулся. Аутисты верят, что человек, приобщившись к реальной реальности, способен создать мир силой своей мечты. Хорошо бы все было так просто и мечта могла бы сохранить Джонатану ноги — но Данло остался благодарен аутисту за его добрые слова и сказал:
— Пусть будет тебе хорошо в мечте милосердного Бога. — Подростком Данло ел рисовые шарики с аутистами в Меррипенском сквере и участвовал под руководством их сон-вожатых в их коллективных грезах, — И пусть милосердный Бог живет в твоей мечте, и да будет с тобой реально-реальное.
Аутист посмотрел на Данло долгим, странным взглядом и произнес загадочные слова:
— Не забывай свою мечту никогда.
Он не успел еще выйти на улицу, когда эталон плюнул и сказал:
— Грязный аутист.
Тот с улыбкой словил у себя в волосах парочку вшей и пересадил их на голову эталона. Эталон отшатнулся, чуть не свалившись с подушки, аутист же, по-прежнему улыбаясь, молвил:
— Грязный богач. Твоя жизнь — дурной сон, ничего более.
Затем он поклонился, открыл дверь и вышел.
Вскоре из мастерской появился Родас Алаби с добрым круглым лицом — тело, тоже круглое раньше, сильно исхудало за последнее время. На нем было чистое белое кимоно — должно быть, совсем новое, поскольку моющих средств в городе давно не стало. Сразу подойдя к Тамаре и Данло и посмотрев на дрожащего, со стекленеющими глазами Джонатана, он объявил:
— Его я приму первым.
Эталон, чья очередь была первой, запротестовал, но резчик утихомирил его одним взглядом и сказал Тамаре с Данло:
— Пойдемте.
Вслед за Родасом они прошли в комнату, всю застланную ярко-красными коврами, здесь лежало много полушек, и в двух каминах пылало жаркое пламя. Растения в разноцветных горшках насыщали воздух кислородом. Окон в комнате не было, но ее освещали электрические лампочки и огонь в каминах. Обилие света резало глаза, но Родасу именно это и требовалось, чтобы осмотреть Джонатана.
— Ноги, не так ли? — спросил он, когда Данло усадил мальчика, подперев его подушками. — Давайте-ка раскутаем его.
Пока Тамара разматывала одеяла, Родас задержал дыхание, как бы готовясь к удару. При виде почерневших ступней мальчика он шумно выдохнул и сказал: — Последнее время я вижу это слишком часто.
— Можете вы ему помочь? — тут же спросила Тамара.
Родас уставился куда-то в стену, а потом посмотрел Джонатану прямо в глаза и сказал:
— Я не смогу сохранить тебе ноги, Джонатан, потому что у меня совсем не осталось лекарств. Но жизнь твою, думаю, я могу спасти. Понимаешь?
Мальчик, весь съежившись, дрожа и от холода, и от страха, медленно кивнул.
— Вы хотите отрезать мне ноги. Это очень больно?
— Лекарств от боли у меня нет, но мы поставим блокиратор. Сделаем, что можем.
— Я боюсь.
— Знаю, что боишься. — Родас потрепал Джонатана по голове и обменялся долгими, серьезными взглядами с Данло и Тамарой. — Если все пойдет хорошо, я отниму обе ступни минут за пять.
— Так быстро? — спросил Данло.
— Мне будет помогать фосторский хирургический робот. И еще одно…
— Да?
Родас отвел Данло в сторону, к потрескивавшему камину.
— Операция действительно будет быстрой, но вам тоже придется мне помочь. Вам и матери мальчика.
— Помочь? Но как?
— Вы будете держать его.
— Понятно.
— Сможете?
Данло испустил долгий вздох и сказал: — Думаю, что да.
— Я заказал держатели, но они еще не готовы. Кто бы мог подумать, что нам понадобятся такие варварские устройства?
Данло, не в силах ничего ответить, смотреть на Джонатана, дрожащего среди развернутых одеял.
— Ну а мать — сможет она быть нам полезной?
Данло отсчитал пять ударов сердца и сказал: — Да. Она очень сильная.
— Это хорошо. — Родас подошел к Тамаре. — Ну что ж, будем начинать.
— Сколько это стоит? — спросила она..
— Нисколько. За это я ничего не беру.
— Но ваше время, ваше оборудование…
— Другие заплатят. — Родас взглянул в сторону приемной. — В Невернесе богатых людей еще хватает.
— Спасибо, — сказала Тамара.
Данло по знаку Родаса поднял на руки Джонатана. Мальчик, несмотря на жарко натопленную комнату, стал дрожать еще сильнее. Он устремил на Данло грустные, все понимающие глаза.
— Папа, я боюсь.
— Все будет хорошо. — Данло откинул волосы с его лба. — Правда.
Родас проводил их в другую ярко освещенную комнату, всю выложенную белыми плитками. Здесь пахло жженым мясом, озоном и антисептиком, похожим по запаху на желудочный сок.
Родас велел Данло уложить Джонатана на большое кресло посередине. Блестящая черная машина — другого слова не подберешь — автоматически отрегулировалась по размеру худенького, скрюченного тела. Кресло со своим Зюгановым покрытием выглядело достаточно грозно, но наполняющий его термический гель согревал пациента и обеспечивал ему относительный комфорт. Аклин, пластик повышенной прочности и гладкости, легко очищался от крови и бактерий.
— Мама, мама, — позвал Джонатан.
Родас, укрыв его голое тельце белой простыней, извинился перед Тамарой и Данло за отсутствие чистых халатов для них. Он сказал, что бережет антисептические средства для дезинфекции кресла и инструментов.
— Варварские времена. Ну ничего, сделаем все, что можем.
Данло должен был держать торс мальчика, Тамара — ноги.
Резчик обработал его щиколотки сильно пахнущим средством и поставил нейроблокиратор на правую ногу чуть выше колена. Черный выпуклый прибор походил на часть доспехов, которые надевают перед особенно ожесточенным хоккейным матчем. В теории он создавал мощное поле, блокирующее все сигналы, бегущие по нервам Джонатана в мозг. При условии его нормальной работы Джонатан не должен был чувствовать ниже колена почти ничего — в первую очередь, конечно, боли.
— Ну вот, почти готово. — Родас подкатил к правой стороне стола хирургического робота, оснащенного лазерами, иглами, сверлами и пилами. Пятьдесят щупальцев робота могли быть снабжены ретракторами, присосками, зажимами, волоконной оптикой, тлолтами и прочим инструментарием, которому несть числа. Что еще важнее, эти руки легко программировались на совершение различных хирургических действий. Данло прижал плечики Джонатана к столу, а Родас тем временем закрепил в каждой руке нужный инструмент и запрограммировал их. Потом внушительно посмотрел на Данло и Тамару и сказал: — Пожалуйста, не позволяйте мальчику шевелиться.
Данло нажал чуть покрепче, а Тамара буквально легла на ноги Джонатана выше колен, Джонатан же, взглянув на Данло, сказал:
— Пожалуйста, папа, не позволяй ему делать мне больно.
Поначалу все шло хорошо. Родас начал с правой ноги, планируя отнять ступню чуть ниже сустава и оставить кость нетронутой, чтобы облегчить будущее выращивание новой ступни.
Он включил робота, который принялся мелькать сталью и лазерами. Руки робота исполняли сложный танец, оплетая ногу Джонатана, как змеи. Их координация поражала. Крошечные скальпели резали кожу, нервы, сухожилия и связки, лазеры прижигали рассеченные сосуды. В первые две минуты больше всего боли Джонатану причиняли родители, распрямляющие его скрюченное тельце, — помимо этого, он почти ничего не чувствовал.
Наиболее неприятные ощущения доставляли звуки: сталь, перепиливающая сухожилия, чавканье разрываемых хрящей, шипение лазеров. Запах озона и жареного мяса смешивался с гангренозным смрадом. Данло не мог не вдыхать этот запах, как не мог не смотреть Джонатану в глаза или унять собственное сердцебиение. Его сердце в бешеном темпе отстучало сто восемьдесят четыре раза, прежде чем Родас сказал “отлично” и выключил робота. Кровь толчками била Данло в голову, вдоль позвоночника, в руки и ноги.
— Папа, он еще не закончил?
Родас пока закончил только с правой ногой. Он бесцеремонно швырнул черную ступню в пустой контейнер.
— К сожалению, блокиратор у меня только один, — сказал он Тамаре и Данло. — Держите крепче.
Отсоединив аппарат, он перенес его на левую ногу, и Джонатан вдруг дернулся, точно его ударило током.
— Больно, больно! — закричал он.
Родас подвез робота к другой стороне стола. Данло, глядя Джонатану в глаза, уверял его, что терпеть осталось недолго.
Тамара запела, чтобы отвлечь мальчика от боли, обжигающей свежую культю: Звезды манят, звезды ждут, Мальчика играть зовут.
— Варварство, — пробурчал Родас, внося изменения в программу робота. — Мыслимое ли дело оперировать без наркоза?
Но мальчик, видимо, как-то притерпелся к своей боли.
Он слушал песенку Тамары, вцепившись в руки Данло, тихонько стонал и очень старался быть храбрым. Данло хотелось плакать при виде мужества и страдания в глазах своего сына, и неистовая воля к жизни, живущая в этом ребенке, вызывала у него благоговение.
Ти-анаа дайвам.
Родас принялся за вторую ногу. Снова замелькала сталь, рассекая кожу и связки, и лазеры засверкали рубиновыми огнями. Теперь Джонатан вздрагивал, слыша производимые роботом звуки: боли в левой ноге он еще не чувствовал, но знал, что она скоро придет.
— Папа, — выдыхал он, не различая уже, где у него болит.
Данло надеялся, что Родас после окончания операции не сразу уберет блокиратор, а может быть, даже отдаст им прибор за небольшую плату — всего на несколько дней, пока культи не заживут. Джонатан, прижатый к столу, выглядел таким беззащитным — Данло пошел бы на все, чтобы облегчить его боль.
Бум, бум, бум, Данло считал удары сердца и молился, чтобы Родас ампутировал левую ногу так же быстро, как правую.
Сто двадцать один, сто двадцать два, сто двадцать три…
И вдруг, в тот момент, когда Родас резал ахиллесово сухожилие, блокиратор отказал. Позже Родас выяснил, что его энергоблок разрядился, — но сейчас он лишь скрежетнул зубами от пронизавшего воздух страшного крика. На счет трех ударов сердца робот продолжал пилить сухожилие, и Джонатан зашелся в крике.
— А-а-а! — кричал он протяжно и страшно. — А-а-а!
Тамара, навалившись на его содрогавшиеся ноги, крикнула Родасу:
— Прекратите! Остановитесь — вы же убьете его!
— Мы почти закончили, — отозвался он. — Еще минута.
— А-а-а, а-а-а, а-а-а-а-а-а-а…
Бум, бум, бум.
— Прошу вас, прошу, — обливаясь слезами, молила Тамара. — Остановитесь. Пожалуйста, папа.
Данло прижимал плечи Джонатана к столу, а мальчик мотал головой из стороны в сторону, не переставая кричать.
Глаза его — дикие, почти бессмысленные — выскакивали из орбит. Но один раз, набирая воздух для нового крика, он взглянул на Данло вполне осмысленно. В этом взгляде не было ничего, кроме боли и страшного сознания того, что спастись от этой боли нельзя. Лазеры жгли тело Джонатана и он безмолвно, одними глазами, молил Данло избавить его от мук, но Данло ничего не мог сделать. Это был худший момент его жизни. Он считал удары своего колотящегося сердца, все время молясь, чтобы боль не остановила маленькое сердце Джонатана.
Пожалуйста, папа, дай мне умереть.
— Нет, нет, — шептал Данло. — Нет, нет, нет, нет.
Прошло еще тридцать секунд — тридцать лет для Данло, а для Джонатана тридцать тысяч, — и Родас выключил робота.
Он обтер смоченной в антисептике губкой культи Джонатана и нанес на них аэрозольные бинты из синтокожи.
— Мама, мама, мне больно! — продолжал кричать Джонатан.
— Я сожалею. — Родас отсоединил блокиратор и с отвращением осмотрел его. — Но энергопакеты сейчас достать просто невозможно.
— Я хочу домой!
Тамара одела мальчика и присела с ним на дальний край стола, где не было крови и осколков кости. Она покачивала сына, прижимая его к себе, и пела:
Пляшут в небе огоньки — Надевай скорей коньки!
Слушая ее, Джонатан немного успокоился. Он сидел у матери на коленях, дрожа и постанывая от боли. То, что случилось с его ногами, как видно, не занимало его.
— Пожалуйста, мама, забери меня домой, — снова попросил он.
Резчик кивнул, и Данло завернул сына в одеяла. Он стоял у окровавленного стола, пытаясь справиться с прерывающимся дыханием.
— Вы далеко живете? — спросил Родас.
— Нет, всего в нескольких кварталах.
— Это хорошо. Держите мальчика в тепле и давайте ему пить, даже если ему не хочется. Не думаю, что у него будет шок, но…
— Да?
— Инфекция очень вероятна, понимаете?
Данло наклонил голову, молча глядя на Родаса.
— Вы больше ничего не можете сделать?
— Боюсь, что нет. Лекарств не найти во всем городе.
— Понятно.
— Я сожалею. — Родас положил руку на плечо Данло. — Но малыш у вас крепкий — не теряйте надежды.
Тамара и Данло надели шубы, Данло взял мальчика, и они вышли. Хариджанка по-прежнему сидела там, но эталон, как видно, не захотел дожидаться. На улице наконец пошел снег: там кружились крупинки райшея, холодные, как смерть, и все небо заволокло серыми тучами. В молчании они добрались до дома. Никто из встречных прохожих не здоровался с ними и даже не смотрел на них. Они поднялись по лестнице, закрыли за собой дверь квартиры и уложили Джонатана в постель.
Все последующие сутки они не отходили от него. Тамара постоянно заваривала мальчику кровяной чай и пела ему песенки. Она отважилась даже поджарить кусочек жирного, сочного мяса, но его Джонатан не смог проглотить. Мясо за него съел Данло — он старался поддерживать свои силы, чтобы быть полезным сыну. Когда Джонатан не спал, он рассказывал ему о том, что делали звери в первые дни мира, и играл ему на флейте. Под эту музыку Джонатан то вскрикивал от боли в ногах, то молчал, и это молчание было глубоким, как море. Глаза у него стекленели, как лед на воде, и он смотрел куда-то вглубь себя, в темное, заброшенное место, куда никто не мог проникнуть, кроме него. В такие минуты Данло начинал глубоко дышать и считать удары своего сердца. Он изливал на Джонатана весь свет своей любви и молился за него.
На следующее утро случилось событие, еще больше омрачившее души Тамары и Данло. Оно не имело отношения к Джонатану — прямого, во всяком случае. На Крышечных Полях приземлился легкий корабль, и его пилот, Факсон Бей, принес неутешительные вести. Между Содружеством и рингистами снова произошло столкновение, и капитан Бардо, командовавший двумя отрядами, разгромил целое звено орденских кораблей близ Двойной Оренды. Еще хуже были новости о гражданской войне на планете Сиэль: там рингисты и их противники пустили в ход лазерные спутники и водородные бомбы, а также вирусы, которыми заражали людей и компьютеры. По словам Факсона Бея, там погибло не меньше семидесяти миллионов человек, но и эта новость была не самая худшая.
Пилот доложил главе Ордена, что планеты Хелаку больше не существует. Ее звезда взорвалась, превратив в пар пять миллиардов человек и все прочие формы жизни. Это почти наверняка сотворили ивиомилы Бертрама Джаспари с помощью своего моррашара. По Невернесу, как чума, распространялись слухи о том, что ивиомилы мстят — а может быть, добиваются освобождения Бертрама. К Звезде Невернеса их не допускают, поэтому они перенесли свой террор в другие области. Никто не сомневался, что эти люди безумны, и все боялись, что они будут уничтожать Цивилизованные Миры один за другим, если их самих раньше не уничтожат.
— Этому надо положить конец, и поскорее, — сказал Данло Тамаре за чашкой кровяного чая, когда Джонатан спал. Даже глубокое дыхание не избавляло его от боли, терзающей голову, а сердце наполняло болью всю грудь. На Хелаку он не знал ни единой души, но ее гибель напомнила ему о гибели Нового Алюмита, где жили хорошо знакомые ему нараины. — Скоро настанет время, когда я должен буду покончить с этой шайда-войной.
— Хочешь нас бросить? Считаешь, что уже пора?
— Да, считаю, но Джонатана я не оставлю. Пусть сначала поправится.
Но Джонатан не желал поправляться. В этот день, второй после ампутации он стал еще слабее. Его лихорадило, а культи стали красными, как каленое железо, и из них сочился гной.
Поначалу Данло и Тамара старались не беспокоиться, поскольку температура у мальчика была небольшой. Потом Данло вспомнил, что у долго голодавших людей температура не бывает очень высокой даже при самых сильных инфекциях. На улицах бушевала буря, заметая город снегом, а Джонатан лежал, глядя в окно, и почти не шевелился. Боли у него усиливались час за часом. Он начал отказываться от кровяного чая, который мог бы подкрепить его, а потом даже воду перестал пить.
— Надо что-то делать, — шептала Тамара, стоя с Данло над пытавшимся уснуть Джонатаном. — Придумай что-нибудь. Есть же у алалоев какие-то травы от инфекции и жара?
Данло задумался. Его левый глаз вибрировал темной энергией пульсара. Перед ним вставали страшные образы его умирающих соплеменников с обезумевшими глазами, кровоточащими ушами и белой пеной на губах. В свое время он пытался лечить их: растапливал снег, поддерживал огонь в горючих камнях, заваривал кровяной чай и втирал горячий тюлений жир в лбы недужных. И молился за них, как учил его приемный отец, — но так никого и не спас.
— Да, мы пользовались травами, но этим ведали женщины — меня никогда не учили в них разбираться.
— Может быть, еще найдется какой-нибудь резчик, у которого есть антибиотики или иммунозоли.
— Ты уже обошла почти всех резчиков в городе.
— Может, поспрашивать у червячников?
— Тамара, Тамара… лекарства могут быть только у таких, как Констанцио с Алезара. А эти люди не продадут их даже за сто кошельков с золотом.
— Но нельзя же просто стоять и смотреть, как он умирает!
— Нельзя, — угрюмо согласился Данло. Он стал на колени рядом с мальчиком и легонько потряс его. — Слушай, Джонатан: сейчас я расскажу тебе кое-что о снах.
Это была последняя, отчаянная попытка спасти Джонатана. Данло знал, что надежда невелика, но все-таки стал учить Джонатана технике аутистов — вхождению в общее сон-пространство. Есть способ сохранять сознание, даже когда ты спишь, объяснил он мальчику. Больше того: сном можно управлять по своей воле. Цефики назвали бы такой сознательный сон обыкновенной имитацией реальности, но аутисты говорят, что это сон-пробуждение. В этом состоянии они испытывают чудесное чувство погружения в себя, где, как они утверждают, и обитает истинная реальность. И сны, по их верованиям, имеют там огромную силу. Данло тоже верил — если не в это, то в возможности чистого сознания.
На Таннахилле, в тридцати тысячах световых лет отсюда, ему почти удалось заглянуть в то потаенное место, где самосознание материи горит ясным голубым пламенем. Туда, где материя движется и воссоздается из света, общего для всего сущего.
Если у жизни есть тайна, то она заключена именно в этом сознательном созидании. Жизнь способна зарождаться и эволюционировать, способна перетекать в новые чудесные формы — и в конечном счете излечиваться от любых болезней.
Бесконечные возможности.
— Ми алашария ля шанти, — сказал он Джонатану. — Закрой глазки и усни.
У Данло осталась только одна мечта: вылечить сына. Но Джонатан был слишком мал и слишком болен, чтобы воспринимать его учение, да и времени у них было мало. Притом Данло, вопреки своему титулу Светоносца и обещанию, данному Старому Отцу, почти утратил надежду. Ему недоставало умения открыть золотую дверь в глубокое сознание, где вся энергия вселенной пылает, как десять тысяч солнц.
Он попытался объяснить Тамаре свою неудачу.
— У вселенной одна душа, общая. Она всегда спит — и во сне видит, что существует. Сны создаются в этой единой душе и струятся из нее, как жидкие самоцветы. Сон по-своему тоже один, но в разных умах он принимает разные формы. Аутисты верят, что мы, когда участвуем в этом сне, помогаем создавать вселенную. Это правда. Чем совершеннее мы входим в сон, тем сильнее наша способность творить. Если мы сновидим так, как это делает Бог, наша воля к созиданию становится поистине могучей, и тогда возможности бесконечны, понимаешь? Но я не способен видеть Единый Сон. По крайней мере видеть так, как надо. Он, как волна, дробит мою мечту исцелить Джонатана в алмазную пыль и уносит ее прочь.
Когда мечта изменила Данло, Джонатан начал сдавать. Он так и не смог разделить с Данло общий сознательный сон и увидеть в нем, как белые тельца его крови пожирают чужеродные бактерии, точно акулы — косяк зараженной рыбы. У него были свои сны, подчинявшие его себе целиком. Было свое сознание, глубиной равное океану, и сознавал он только одно: смерть. Он говорил Данло, что ему снится, будто он умирает, но при этом он не проваливается в ледяную темную бездну, а летит через синее небо к солнцу.
— Ой, папа, мне больно, так больно.
— Инфекция оказывает давление на нервы, — объяснил Данло, точно читая лекцию. Он всегда старался говорить Джонатану правду, когда это возможно. — Когда бактерии размножаются, ткани распухают и давят на нервы твоих ног.
— Мне везде больно. Эти бактерии едят меня внутри. Они у меня в крови.
— В крови, — тихо повторил Данло. Ума лот, твоя кровь, моя кровь — мой сын. — Мне жаль, очень жаль.
— Ой, как мне больно, папа.
Решив умереть, Джонатан стал угасать с поразительной быстротой. Он был как чашка чая, надолго оставленная на ледяном подоконнике, как лампа, в которой выгорело почти все масло. Данло, прикасаясь губами к его лбу, не чувствовал больше жара, как будто организм полностью отказался от борьбы с инфекцией. Постепенно мальчик утратил способность двигаться. Он лежал на боку, головой на коленях Тамары, весь скрюченный, будто сведенный судорогой. Он даже руку не мог поднять, чтобы взять чашку с водой. В лице не осталось ни кровинки. Данло вспомнил, что организм в период голода теряет мышцы и жир быстрее, чем кровь. Поэтому кровь относительно увеличивается в объеме и вынуждает ослабевшее сердце работать еще больше, чтобы ее перекачивать. Он чувствовал, что причиной смерти Джонатана будет внезапная остановка сердца. Глядя, как Тамара гладит мальчика по голове и поет ему свои песенки, Данло чувствовал, что этот момент наступит очень скоро.
— Джонатан, Джонатан, — повторял он. А потом взглядывал на нее и шептал: — Тамара, Тамара.
Тамара сидела, глядя в никуда. Ее прекрасное лицо стало серым от горя, сомнений и страха. Данло никогда еще не видел такого усталого человека. Любовь к сыну изнурила ее. У нее была своя мечта, и эта мечта умирала вместе с тихо стонущим, трудно дышащим Джонатаном. Когда она смотрела на Данло, ее темные глаза выражали полную утрату надежды и полное отрицание неизбежного.
Ти-анаса дайвам.
Сам Джонатан, как ни странно, дал Тамаре мужество, чтобы взглянуть в лицо его смерти. Мальчик знал, что скоро совершит путешествие на ту сторону дня, и не боялся больше.
Он был всего лишь маленький, больной мальчик, лежащий на коленях у матери, но все его существо излучало готовность проститься с жизнью. Когда метель унялась и небо немного прояснилось, он посмотрел на Тамару и сказал:
— Я хочу гулять.
— Что? Что ты говоришь?
Джонатан с большим трудом повернул голову, чтобы взглянуть на Данло.
— Пожалуйста, папа.
— О чем это он? — воскликнула Тамара.
— Старики в моем племени… и дети тоже. Когда их момент приближался, мы выносили их наружу, под открытое небо.
— Это все ты со своими сказками.
— Виноват.
— Я хочу к морю, — сказал Джонатан, глядя на мать. — На берег, куда мы с тобой ходили. Пожалуйста, мама.
— Нет, это невозможно. На улице такой мороз, — не думая, сказала она Данло, — это его убьет.
Данло чуть не улыбнулся абсурдности этих слов. Джонатан же смотрел на мать, как ястребенок, вмерзший в морской лед. Что-то глубокое и прекрасное прошло между ним и ею.
Видеть полные скорби и слез глаза Тамары было мучительно, зато ожившие напоследок глаза Джонатана сияли мягким, тихим светом, и это было чудесно.
— Хорошо, — сказала Тамара. — Пойдем, если хочешь.
Джонатана снова одели и завернули в два одеяла, потом оделись сами. Данло, проверив, на месте ли маска, взял Джонатана и вынес за дверь.
Ти-анаса дайвам.
Главные улицы очистили от снега, воздвигнув у них по бокам высокие белые стены, но на маленьких ледянках у дома Тамары красный лед стал розовым от намерзшего снега, и даже на Восточно-Западной глиссаде остались заснеженные участки. Ветер разгонял последние тучи, открывая темно-синее, почти черное небо. Последнее тепло Джонатана уходило сквозь слои меха в воздух, скудное тепло мира уходило в небо, исчезая в космосе.
Они пересекли глиссаду Западного Берега и продолжили путь между рядами осколочников. Потом сняли коньки и по тропинке среди зарослей йау и костяника вышли на Алмазный пляж — один из диких пляжей города, где нетронутый человеком лес отступал перед дюнами, сейчас занесенными снегом. За кромкой берега, где замерзшие волны-заструги блестели в лучах закатного солнца, лежал Великий Северный океан. Когда-то Данло пересек его с востока, чудесным образом отыскав город Невернес. Теперь, он сидел на выброшенной морем коряге и смотрел на запад, куда положено смотреть каждому человеку в час своей смерти.
Ти-анаса дайвам.
— Холодно, — пожаловался Джонатан. Он сидел у Тамары на коленях и тоже смотрел на запад, где солнце расцвечивало горизонт красными и золотыми мазками. — Я замерз.
Холод действительно стоял жестокий — синий мороз, который к ночи обещал усилиться. Даже птицы, обычно кружившие над берегом, скрылись куда-то — только несколько чаек выискивало снежных червей на краю суши. В такую погоду опасно долго оставаться под открытым небом. Данло, не желая ускорять уход Джонатана — согласно древнейшему из учений, гласящему, что каждый человек должен умирать в свое время, — набрал в лесу хвороста и разжег костер. Тепло вскоре растопило лед на бревне, где они сидели: трескучее орайжевое пламя согревало им руки и лица, отгоняя ночь.
Ти-анаса дайвам.
Данло по просьбе Джонатана достал флейту и заиграл горькую и сладостную мелодию, которую сочинил сам. Она была проста, но несла в себе силу, обволакивающую и очаровывающую Джонатана. Мальчик, сидя без движения на коленях матери, смотрел в синеву сумерек, а музыка струилась по берегу, уходя в небо. Зажглись яркими алмазиками первые звезды: Нинсан, Арагло Люс и Двойная Мория, образующая глаз созвездия Медведя. Появились и блинки — световые волдыри старых сверхновых. Тогда Тамара запела, изливая слова любви и света из самого своего сердца. Позднее она говорила Данло, что не помнит этих слов, но в тот момент они создавались из ее влажного дыхания, как хрупкие льдинки, и ветер сразу уносил их прочь.
Ти-анаса дайвам.
Данло играл долго, глядя на чаек, снующих над замерзшим прибоем. Джонатан тоже, наверно, следил за этими красивыми белыми птицами: его широко раскрытые, немигающие глаза были устремлены в ту сторону. Но Данло не знал, что видит мальчик на самом деле: чаек или что-то другое.
Может быть, он, подобно птицам, видел небо позади неба — глубокую запредельную синеву, струящуюся, как вода. Может быть, краски этого вечера — чернота, кобальт и серебристо-белые искры звезд — представлялись ему не чем-то законченным, а тонами, составляющими мелодию. Данло молился, чтобы оттенки ночи стали музыкой для глаз его сына, но боялся, что Джонатан видит их по-другому.
Быть может, его угасающее зрение населяли фантомы, и с небес на него спускались ночные птицы, птицы смерти с блестящими черными когтями, издающие страшные крики. Приемный отец говорил Данло, что Бог — это большая серебристая талло, чьи крылья простираются до самых концов вселенной. А может быть, редкая белая талло, которую называют также снежной совой: никто не знает этого по-настоящему.
Достоверно известно только одно: Бог со временем пожирает все — океаны, планеты и звезды, даже невинных детей, которые любят глядеть на птиц над застывшим берегом.
Джонатан, Джонатан.
— Папа…
Данло, услышав, что сын зовет его, отложил флейту и стал коленями в снег, лицом к нему. Маску он снял еще раньше, чтобы легче было играть, и теперь приблизил лицо к самым губам Джонатана.
— Папа, — прерывисто дыша, выговорил мальчик. — Как…
Что он хотел спросить? Может быть, он вспомнил загадку, над которой они оба думали?
Как поймать красивую птицу, не убив ее дух?
Может быть, Джонатан, вступивший в сумеречную страну между днем и ночью, разгадал ее?
Данло слушал, как трудно дышит сын, и думал, что никогда не узнает ни того, о чем хотел спросить его Джонатан, ни ответа на эту загадку. Больше Джонатан не сказал ни слова. Припав головой к груди матери, он неотрывно смотрел на Данло. Через несколько сотен ударов сердца он стал смотреть сквозь него, будто на звезды какой-то отдаленной галактики.
Последние свои слова он обратил к Тамаре, родившей его на свет.
— Мама, — сказал он, — мама. — И затих, как замерзшее море.
— Джонатан. — Данло снял рукавицу и положил ладонь на холодный лоб Джонатана. — Ми алашария ля шанти, усни, усни.
И Джонатан, тихо вдыхая морозный воздух, закрыл глаза.
Данло смотрел, как понемногу вздымается и опадает мех у него на груди. Потом мех перестал шевелиться. Когда сердце Данло отстучало три тысячи пятнадцать раз, он приник лицом к лицу Джонатана, и дыхание сына коснулось его губ и обожгло ему глаза. Еще через триста ударов сердца Данло и это перестал чувствовать. Джонатан лежал тихо, как камень.
Данло прижался губами к его губам и стал ждать — долго, неисчислимо, долго. Его сердце билось ровно и быстро, как всегда, но он уже не различал отдельных ударов. Он чувствовал тoлько давление, опухоль, жестокий красный огонь, словно в груди у него помещалась готовая взорваться звезда. Он легко, но с отчаянной болью поцеловал Джонатана в лоб и встал, глядя на западный небосклон, где созвездие Совы указывало путь во вселенную.
— Ми алашария ля шанти. Спи с миром, мой сын.
Он обернулся, чтобы взять Джонатана у Тамары. Она сидела оцепеневшая, почти не способная шевельнуться. Замерзшие слезы блестели у нее на щеках, как жемчуг, но сейчас она не плакала — только смотрела на Данло, который с Джонатаном на руках обратил лицо к черному сияющему небу.
— Нет, — шептал Данло, держа Джонатана так, чтобы звездный свет омывал его лицо и тело. Свет, белый и холодный, наполнял и его глаза, вонзаясь в мозг миллионами ледяных игл. — Нет, нет. Пожалуйста.
Ти-анаса дайвам. Живи своей жизнью и люби свою судьбу.
Но как ему жить теперь, когда Джонатан лишился жизни?
Лишился всего: жизни, любви, радости и того, что с ним никогда уже не случится. Почти всего лишился и Данло. Великая цепь бытия, начавшаяся пять миллиардов лет назад на Старой Земле, наконец порвалась. Данло, стоя в почти полной темноте, думал о своем отце, своем деде и всех своих предках вплоть до обезьянолюдей, ступавших по знойным равнинам Африки во всей своей мощи и славе. Он думал о матери, бабке и всех своих праматерях, возросших в чреве Матери-Земли. Никто из миллионов этих мужчин и женщин, живущих в его плоти и крови, не умер в детстве.
Велики ли были шансы, что на планете, где свирепствовали хищные звери, холод, голод, болезни, где никогда не прекращались войны, где половина новорожденных не доживала и до пяти лет, — велики ли были шансы, что никто из них не умрет в детстве или младенчестве? Они были бесконечно малыми. Поистине чудо, что все эти люди выжили и дали жизнь собственным детям — и он, Данло, стоял на стылом берегу далекого мира, как результат этого чуда. Все, что движется, дышит и расправляет листья навстречу утреннему солнцу, появилось на свет вопреки почти всякой вероятности, и в этом заключается чудо жизни. Этим, помимо всего прочего, и драгоценна жизнь.
Весь мир, думалось Данло, должен оплакивать каждую свою частицу, лишившуюся жизни со всеми ее чудесными возможностями. Он и сам заплакал бы, но не мог. Он мог только смотреть в холодное небо и вспоминать, как любил Джонатан смеяться и разгадывать загадки. Он потерял этого чудесного мальчика навсегда — потерял сына, который мог бы вырасти сильным мужчиной. Потерял этого мужчину, который мог бы стать его другом. Потерял внуков, внучек и всех своих потомков. И прежде всего потерял дитя, свое родное дитя. Он стоял под звездами, держа на руках Джонатана, и гнев на свою потерю нарастал в нем, как огонь первых дней творения.
— Нет, — прошептал он снова, и что-то в нем сломалось.
Гнев, поднявшись изнутри, сотряс все его существо. Он запрокинул голову и проревел в небеса, как раненый зверь: — НЕТ!
Его голос крепчал, пугая Тамару и сотрясая воздух; он волнами катился по берегу, ударяясь о лед и заснеженные дюны. Нет, это кричал не зверь, а человек большой силы — быть может, даже некое высшее существо. Это был голос его отца, изваянный резцом Констанцио, отточенный всей болью и страстью мира. Голос бога. Данло хотел, чтобы весь мир услышал его, чтобы его протест против бессмысленной жестокости жизни дошел до неба и прозвенел среди звезд. Он хотел, чтобы боги галактик узнали о страданиях и никому не нужной смерти Джонатана, чтобы об этом узнала вся вселенная. И Бог — особенно Бог, предавший его, и его сына, и все его мечты. Он превращал свое единственное слово в протяжный и странный вопль, чтобы Бог наконец пробудился и увидел ужас и тщету всего, что сотворил.
— НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!
Теперь ему казалось, что он понял Ханумана ли Тоша.
Великое дерево жизни, простирающее цветущие ветви к небесам и уходящее корнями к началу времен, прогнило в самой своей сердцевине. Вселенная порочна, хуже того — дефективна, больна, шайда по природе своей. Хануман всегда это знал — вот почему он восстал против самого существования и возжелал переделать вселенную. Сколько же мужества понадобилось ему, чтобы погрозить кулаком небесам, требуя воздаяния за все бессмысленные страдания жизни! Что за гений, что за воля, что за сила! Данло, посылая свой вызов звездам, сомневался, доступна ли такая сила ему самому. Сейчас ему хотелось одного: умереть. Более того, никогда не рождаться, быть избавленным от боли жизни и тем избавить от нее Джонатана.
— НЕТ!
Пока он слал в небо этот крик, порождаемый разумом, нутром и сердцем, к нему подошла Тамара. Дождавшись, когда у него иссякнет дыхание, она положила руку на грудь Джонатану и заплакала. Данло понял тогда: как ни велико его горе, горе Тамары неизмеримо больше. У ее боли нет пределов, нет конца, и это делает ее поистине невыносимой. Поняв это и чувствуя, как ее рыдания сотрясают тело Джонатана, Данло припал головой к ее голове и тоже зарыдал. Какое-то время спустя он опять взглянул на звезды, а Тамара на него, ища глазами его глаза при свете догорающего костра.
— Ничего, — прохрипел он наконец, отчаянно пытаясь найти хоть какие-то слова.
— Что ты говоришь? Я не слышу.
— Ничего не теряется, — сказал он, сам не веря тому, что говорит.
И все же, все же… Стоя на ветру и выдыхая облака серебристо-черного пара, он вспомнил то, чему его учили когда-то. Каждый его выдох содержит сколько-то миллиардов триллионов атомов — в основном это атомы азота, кислорода и углекислого газа. Мировая же атмосфера содержит примерно такое же количество выдохов. Впуская в легкие морозный воздух, он вбирает в себя примерно по одному атому от каждого выдоха, и с каждым своим выдохом возвращает по одному атому кому-то другому, снова и снова. Тамара делает то же самое, и Бенджамин Гур, и Хануман, и миллионы других людей, живущих в Невернесе. И не только они, но и патвины, и вуйи, живущие на крайнем западе Десяти Тысяч Островов, — все люди на всех островах океана. И медведи, и птицы, и киты, и снежные черви — все живое вносит свой вклад в дыхание мира.
Между восходом и заходом солнца человек делает около десяти тысяч вдохов и выдохов, и в каждом из них вибрируют тысячи атомов, выдыхаемых в то же время каждым живым существом. И не только живым. Облака и ветер перемещают воздух вокруг Ледопада день за днем, год за годом, тысячелетие за тысячелетием. Атомы жизни испаряются, конденсируются, рассеиваются и кружатся в извечном глобальном обмене, и ни один из них не пропадает.
Данло, стоя на снегу под звездами, дышал воздухом, некогда наполнявшим легкие Ролло Галливара, великого Главного Пилота, основавшего Невернес три тысячи лет назад. А еще раньше, за тысячи лет до того, как появился город, на Ледопад в больших серебристых кораблях прибыли предки алалоев. И до того, как уничтожить свои корабли и преобразиться в первобытных людей (как это сделали Мэллори Рингесс и Данло), они смотрели на лесистые острова, на густо-синее небо и вдыхали полной грудью, восторгаясь красотой этого мира, и насыщали холодный чистый воздух атомами, доставленными сюда в атмосфере кораблей и в себе самих.
Когда-то они или их предки вдыхали эти атомы на Сильваплане, Темной Луне, Асите, Шейдвеге, Сагасраре и других планетах вплоть до Старой Земли. В своем дыхании они несли крики экстаза, которые издавали пращуры Данло, совокупляясь под африканскими акациями, и торжествующий крик Ньютона, открывшего, что все во вселенной притягивается друг к другу, какой бы малой ни была масса предметов и какое бы расстояние их ни разделяло.
Вдыхая небольшую порцию воздуха, Данло впускал в себя десять тысяч атомов дыхания Будды, произносящего Огненную проповедь в Урувеле, и еще десять тысяч из последних отчаянных слов Иисуса, умирающего на деревянном кресте и отпускающего свой дух в небеса. Оно жило теперь в нем, дыхание древних и дыхание его умерших соплеменников. И дыхание Джонатана. Оно обжигало гортань и грудь Данло при каждом глотке морозного воздуха, как будто он дышал звездным огнем. Пока Данло жив, это тепло, будет овевать его глаза и жечь мягкие ткани его сердца.
Ничто не теряется.
Он стоял лицом к ветру, который был не что иное, как дикое белое дыхание мира. Он прижимался к груди Джонатана и смотрел, как ветер гонит кристаллы снега по застывшему морю. Потом он поднял глаза к небу. Пустые пространства между звездами притягивали его взгляд, как бы засасывая его в черные, бесконечно глубокие трещины вселенной.
Вселенная большей частью пуста, как чаша из-под кровяного чая. В какую бы сторону Данло ни смотрел, к Детесхалуну или Морбио Инфериоре, он видел только тьму и небытие, полное отсутствие света, любви и жизни. При всем при том он знал, что даже в самом пустом из пространств можно отыскать несколько атомов водорода или гелия. Эти частицы материи выдыхаются звездами; как любой вид материи, они способны перемещаться от звезды к звезде и соединяться, образуя свет. Уничтожить их невозможно. Ничто во вселенной не уничтожается — в этом и состоит чудо созидания. Вселенная сохраняет все: атомы, фотоны, угасающие жалобы и порожденные отчаянием крики — даже безмолвную молитву человека с разбитым сердцем.
Ничто не теряется.
Луна Волчица закатывалась, и Данло вспомнил, как любил Джонатан наблюдать за движением шести лун по небу.
Он многое помнил о Джонатане: его ум, его любопытство, его мужество, его великую любовь к матери, сиявшую в его синих глазах, как солнечный свет. Данло пообещал себе, что всегда будет помнить Джонатана, храня его в своих снах и в своем сердце, всей своей волей и каждым атомом своего существа.
Ничто не теряется.
Вселенная по-своему тоже должна помнить Джонатана, как и всех, кто жил и умер до него. Данло смотрел на мерцающие звезды и удивлялся этой странной мысли, возникшей у него в уме. Неужели он верит в это? Надо верить — или, во всяком случае, вести себя так, будто веришь. Он как-никак дал слово Старому Отцу и себе самому тоже. Когда-нибудь он, быть может, взглянет в лицо Богу и узнает правду о том, как вселенная (или все, что в ней есть) помнит обо всем. А пока будет довольно, если они с Тамарой заглянут в себя и увидят там чудесное дитя, которое создали вместе.
Ничто не теряется.
— Тамара, — сказал Данло. — Попрощаемся с ним.
— Нет. Я не могу.
— Надо похоронить его, пока мороз не слишком усилился.
Тамара опять разрыдалась, заново осознав реальность смерти Джонатана. Она долго стояла, пошатываясь, раскачивая головой из стороны в сторону, а потом сказала: — Давай просто развернем его и заморозим. После войны криологи смогут оживить его и вылечить.
— Нет. Слишком поздно. Когда человек болеет так долго и так тяжело, как Джонатан, оживить его невозможно. Криологи даже пытаться не станут. Это противоречит их этике. Мозг…
— Прошу тебя, Данло.
— Тамара, Тамара, даже агатангиты не смогли бы вернуть его к жизни.
— Но ты говорил мне, что у Тверди такая власть есть. Не можешь ты разве отвезти к Ней Джонатана замороженным на своем корабле, чтобы Она воскресила его?
Да, Твердь, пожалуй, могла бы его оживить. По крайней мере создать почти совершенную копию их любимого сына.
Но Данло знал, что даже в этом случае Джонатан уже не будет собой.
— Его душа станет не такой, как прежде, — объяснил он Тамаре, глядя на звезды и вспоминая свое пребывание на созданной Твердью Земле. — Когда-нибудь, глядя ему в глаза и чувствуя его дыхание на своих губах, ты заметишь разницу, и это разобьет тебе сердце.
— Но можно же хотя бы попытаться?
— Поздно, — повторил Данло. — Он умер в свое время.
— Как может ребенок умереть в свое время?
— Я не знаю… Но время приходит для всех, даже для богов.
— Я не могу перестать надеяться.
— Увы.
— Я не могу просто так уйти и бросить его, как будто его больше нет.
— По-своему он будет всегда. Ничто не теряется.
— Хотела бы я в это верить.
Данло сделал глубокий вдох и объяснил ей, что дыхание Джонатана по-прежнему обходит мир вместе с ветром. Он рассказал ей о своей теории, что вселенная помнит все, но Тамару это не утешило — она продолжала плакать, и качать головой, и трогать закрытые глаза Джонатана.
— Нет. Он ушел.
— Тамара, он…
— Он ушел, и ничто его не вернет — я знаю. Но если это так, я не хочу хоронить его под снегом. Это варварство. Он замерзнет навсегда, как тело Эде.
— Как же тогда?
— Пусть он вернется в мир, как его дыхание.
— Хочешь отнести его в какой-нибудь крематорий?
— Другого выбора, видимо, нет.
— Есть. — Данло взглянул на Джонатана, чувствуя боль в затекших руках. Сын его, легкий, как пушинка, постепенно становился все тяжелее. — Сложим костер и сожжем его сами.
— Здесь? Сейчас?
— Почему бы и нет?
— Нам будет нужен очень большой костер.
Данло посмотрел на заросли костяника и йау.
— В лесу дров много.
— Хорошо. Сложим костер.
Данло складывал его один. Тамара, не желая бросать Джонатана на снегу, села с ним у первого маленького костерка, в который Данло подбросил немного хвороста. Место для погребального костра он выбрал поближе к морю. Он сновал между лесом и берегом с охапками сухого костяника, чтобы сделать его достаточно жарким. Он переваливал через дюны, согнутый под тяжестью своей ноши, сбрасывал ее у самых замерзших волн, набирал в грудь холодного воздуха и опять возвращался в лес.
Он таскал хворост и поваленные стволы до глубокой ночи. Костер стал почти с него ростом, а Тамара сидела, покачивая Джонатана, и смотрела, как он растет. Прижавшись головой к сыну, она пела ему, и рыдания то и дело прерывали ее голос. Так прощались они с Джонатаном, каждый по-своему.
Водрузив на костер последнее бревно, Данло подошел к Тамаре и взял у нее Джонатана. Вместе, при лунном свете, они вернулись к костру. Держа Джонатана одной рукой, Данло взобрался с ним на груду дров — он не мог просто забросить его туда, как какую-нибудь деревяшку. Уложив сына между двумя поленьями, лицом к западу, он в последний раз поцеловал его холодные губы, слез и спросил Тамару:
— Ты готова?
Тихо плача, она кивнула ему.
Данло достал коробок, чиркнул спичкой и поднес ее к растопке, приготовленной у подножия костра. Тонкие прутья сразу затрещали, вспыхнув оранжевым пламенем. Огонь, всасывая кислород из ветра, побежал от хворостины к хворостине, от бревна к бревну и скоро с ревом охватил весь костер.
— Ми алашария ля шанти, — сказал Данло. — Спи с миром, сын мой.
Тамара, стоя рядом с ним, шептала: — До свидания, до свидания.
Костер тянулся к небу, освещая весь берег. Сухие, как кость, дрова щелкали, посылая в ночь снопы искр. Жар от них шел такой, что Данло с Тамарой пришлось отойти довольно далеко, чтобы не опалить шубы. Еще немного — и завернутый в меха Джонатан исчез в пламени. Данло старался не замечать бьющего в нос запаха жареного. Он старался не дышать вовсе, но ветер нес дым прямо ему в лицо. Дым окутывал его и Тамару плотным, темным, горьковато-сладким облаком, и Данло, сдавшись, уже не берег от него ни легких, ни глаз.
Ничто не теряется. Ничто и никогда.
Он достал флейту и заиграл реквием по Джонатану. Костер разгорался все ярче, ветер уносил дым, и печальная мелодия парила над берегом, как стая красивых птиц. Тамара, тихо присоединив свой голос к музыке, запела слова любви и света, чтобы помочь Джонатану в его путешествии на ту сторону дня. В мире не стало ничего, кроме музыки и пения. Костер, достигнув пика буйства и жара, начал медленно угасать. С каждой тысячей ударов сердца он тускнел, остывал, умирал, а Данло все играл в память о Джонатане, отдавшем свое дыхание миру.
Ничто не теряется.
Далеко за полночь, когда от костра остались только горстка углей и черный пепел, Данло спрятал флейту и подошел к самому морю, а пламя костра растопило лед. Он опустил руку в пепел, но от Джонатана там не осталось ничего, даже самой маленькой косточки. Талая вода смешивалась с пеплом, превращая его в жидкую кашицу. Данло зачерпнул эту темную массу и помазал себе лоб, а ветер тут же приморозил мокрый пепел к его коже.
Ничего не осталось. Ничего, кроме пепла. Все потеряно.
Данло встал и пошел по снегу, пошатываясь на ветру, как пьяный. Он припал к Тамаре, прижался к ней головой, и они долго-долго плакали вместе.
Глава 20 РИНГЕСС
Я говорю о боге, который живет в каждом из нас. Этот бог — повелитель огня и света. Он сам огонь и свет — ничего более. Этот бог — каждый из нас. Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда, пылающая бесконечными возможностями. Я должен сказать о том, как стать этой звездой, этим вечным пламенем. Лишь став огнем, можно спастись от горения. Лишь так можно освободиться от боли, от страха, от ненависти, горя, скорби, страдания и отчаяния. Вот путь богов. Вот Путь Рингесса: он в том, чтобы гореть пламенем нового бытия, сиять новым сознанием, столь же ярким, как звезда, столь же огромным, совершенным и несокрушимым, как сама вселенная. Вот Путь Мэллори Рингесса, хранящего свыше Город, где он некогда был таким же человеком, как вы и я.
Из Огненной Проповеди Ханумана ли ТошаНаставшее утро не принесло радости ни Данло, ни Тамаре. Ночью, завершив свое бдение у моря, они молча вернулись в квартиру Тамары. Как только они закрыли за собой дверь, Тамара ушла в спальню и с плачем повалилась на кровать. Данло не мог сказать или сделать ничего, чтобы хоть немного облегчить ее страдания. Со временем слезы у нее иссякли, и она лежала тихо, глядя в черную пустоту своей жизни. Казалось, что она приказывает себе умереть. Данло серьезно опасался за ее жизнь — боялся, что она вскроет себе вены кухонным ножом или просто выйдет из дому без шубы, ляжет на лед в каком-нибудь безлюдном переулке и даст холоду унести ее на ту сторону дня.
И он стерег ее — стерег и ждал, когда его собственная боль, жгущая его каленым железом, остынет до более терпимой температуры. Но этого так и не случилось. Он пил кровяной чай чашку за чашкой, глядя на нетронутую чашку Тамары, и припоминал все мгновения, которые провел с Джонатаном. Обладая почти феноменальной зрительной памятью, он легко мог представить, как Джонатан играет со своим легким кораблем, и увидеть его восторженные глаза, когда он слушал рассказы отца о красках (и ужасах) мультиплекса. И эта память не давала Данло покоя.
Он открыл, что память порой бывает страшна. Снова и снова он перебирал в уме все свои решения и поступки, приведшие к смерти Джонатана. Он с поразительной ясностью видел ту ночь, когда они с Тамарой создали Джонатана из своей любви и страсти, и хорошо помнил, как отрицал возможность беременности Тамары, покидая Невернес. Если бы он тогда нашел ее и вместе с ней растил Джонатана, он, возможно, предугадал бы войну и увез их из города в более безопасное место. И если бы, вернувшись в город после долгого отсутствия, он нашел их пораньше или не тянул бы так с охотой, Джонатан не отморозил бы себе ноги, не заболел бы и не умер.
Если бы, если бы… Если бы он мог остановить поток образов, прожигающих его мозг, и положить конец разламывающей голову боли. Он понимал, что с помощью памяти пытается уйти в прошлое и изменить его, как будто это могло вернуть ему Джонатана и создать иной вариант настоящего.
Когда-то он хотел стать асарией, человеком великой души, способным сказать “да” всему сущему. Теперь он сидел в темной пещере памяти, хватаясь за проплывающие мимо яркие фантасмагории, то есть совершал нечто противоположное утверждению. Он, в сущности, терпел адские муки и думал, прижимая большой палец к пульсирующему глазу, что вечно будет падать сквозь эту пустоту.
Ближе к утру Тамара, словно очнувшись от страшного сна, наконец поднялась. Потирая опухшие глаза и сведенный болью живот, она взглянула прямо на Данло.
— Спасибо, что посидел со мной, но больше тебе нет нужды оставаться здесь.
— Очень даже есть, — возразил он. — Ты…
— Со мной ничего не случится. Я решила, что должна жить дальше.
— Правда?
— Я не единственная мать, потерявшая ребенка во время этой страшной войны. Таких сотни в одном этом городе.
— Боюсь, что тысячи.
— И детей, которые потеряли родителей, тоже много. Я решила остаться, чтобы помочь им.
— Остаться здесь, в Невернесе?
— Остаться среди живых, Данло.
— П-понимаю.
— Война теперь долго не продлится. — Она взяла свою остывшую чашку и отпила глоток. — Она просто не может продолжаться. А когда мы победим или проиграем, в городе снова появится еда, и я буду свободна.
— Нет, нет. — Он коснулся ее спутанных, смоченных слезами волос. — Я не хочу потерять еще и тебя.
— Я знаю, тебе было бы тяжело — но ведь ты давно уже потерял меня, когда Хануман украл мою память.
— Это другое. Я не хочу потерять тебя безвозвратно.
— Прости, Данло.
— Хануман, — прошептал он, словно произнося запретное слово. — Чем глубже я заглядываю в прошлое, тем яснее вижу, как он смотрит на меня своими шайда-глазами.
— Сейчас ты должен ненавидеть его больше, чем когда-либо прежде.
— Совсем наоборот. Я должен найти способ не чувствовать к нему ненависти. Должен найти способ простить его всей полнотой своей воли.
— Я его простить не могу. Жаль, что ночью мы сожгли Джонатана, а не его.
— Нет, нет, — печально отозвался Данло. — Никогда не убивай, ни к кому не питай ненависти, никому не причиняй вреда, что бы ни сделал тебе он.
— Ты остался верен ахимсе после всего, что произошло?
— Я должен. Больше, чем прежде.
— Но разве тебе не пора приступить к выполнению своего плана?
— Да. Пора.
— Значит, завтра ты уйдешь от меня?
— Если можно, то да.
— Ты покажешь мне тайник, где спрятал медвежатину, прежде чем уйдешь? Я хотела бы поделиться с Пилар и Андреасом — и с другими тоже.
— Конечно. Это шайда — терять попусту хорошее мясо.
Они допили чай и уснули, измученные своими переживаниями, а назавтра проснулись задолго до рассвета. Смазав Тамарины лыжи, они отправились по пустынным улицам в Пущу. В лесу стоял такой мороз, что Данло разжег у своей хижины костер, чтобы немного отогреть Тамару. Солнце еще не всходило, но на звездном небе над Уркелем уже брезжил свет.
— Мясо может храниться здесь всю зиму, — сказал Данло. — Если ты не знаешь какого-нибудь безопасного места поближе к дому, лучше оставь его тут. Сейчас многие способны на убийство ради этого мяса.
— Я не собираюсь долго его хранить. Хочу раздать его тем, что больше всех нуждается.
— Да, конечно, — только и себе оставь что-нибудь. Пожалуйста.
Тамара промолчала, глядя в огонь. Ее красивое лицо в оранжево-красных бликах не выражало ни надежды, ни страха, ни малейшего беспокойства за себя и свою жизнь.
— Мне нужно приготовиться, — тихо сказал Данло. — Извини.
Он вошел в хижину, заваленную пакетами с мясом, и достал из груды одежды на лежанке свежую пилотскую форму.
Раздевшись, он облачился в этот шелковый комбинезон с плотно облегающим верхом и широкими шароварами, надел сверху свою белую шубу, взял кое-какие вещи и вышел к Тамаре.
— Сегодня будет очень холодно, — сказал он, нюхая воздух. Солнце уже озарило ясное, безоблачное небо, где осталось лишь несколько самых ярких звезд. — Холодно, но ясно.
Он разостлал на снегу у костра кусок синтокожи и положил на него мешочек с инструментами для резьбы по кости и нашейный образник, подаренный ему Святой Иви. За этим последовали две половинки белого шахматного бога, которого Хануман когда-то сломал в гневе и бросил ему в лицо, — и, наконец, бамбуковая флейта в черном кожаном футляре, пахнущая дымом и ветром. Данло любовно подержал ее в руках и положил к другим вещам.
— Ты сохранишь все это для меня? — спросил он.
— Конечно. — Тамара взяла в руки флейту, не спрашивая, надолго ли он оставляет ей свои сокровища. Либо его план осуществится, и тогда Данло вернется скоро, либо провалится, и тогда ему, вероятно, не придется больше играть на своей флейте. — У тебя все готово?
— Осталось еще кое-что.
Данло снял с мизинца пилотское кольцо. С недавних пор оно стало для него слишком тесным, и Данло пришлось смазать его медвежьим салом, чтобы снять. Посмотрев на кольцо, он положил его на ладонь Тамаре и снял с шеи серебряную цепочку, которую когда-то дал ему Бардо. На ней висело такое же пилотское кольцо из черного алмаза — кольцо, принадлежавшее некогда его отцу. Данло отсоединил его от цепочки и надел на палец. Оно подошло в самый раз — что было неудивительно, поскольку Констанцио выточил мизинец Данло по его размеру.
— Сбереги, пожалуйста, и его, — сказал Данло.
Тамара подняла кольцо вверх, и оно засверкало черными искрами при свете встающего солнца.
— Зачем ты поменял его на другое? — спросила она. — Они ведь одинаковы.
— Только на глаз. Каждое пилотское кольцо уникально. Его пропитывают иридием и железом, оставляя атомную метку, которую сканеры Пилотской Коллегии могут прочесть.
— Да? Я не знала.
— Об этом мало кто знает. Это один из секретов, разглашать которые пилотам не полагается.
— Зачем же тогда ты говоришь об этом мне?
Данло поднял к солнцу сжатую в кулак руку.
— Потому что я, надев это кольцо, перестал быть пилотом Ордена. Я Мэллори Рингесс, бывший Главный Пилот и бывший глава Ордена, а ныне Бог.
— Теперь понятно.
Он кивнул на кольцо, зажатое у нее в руке.
— Когда-нибудь я надеюсь вернуть себе это кольцо и снова стать пилотом.
Он обнял Тамару и поцеловал ее в лоб. Она собрала его вещи, положила сверток в карман и спрятала под шубой медвежий окорок, отчего живот у нее оттопырился, как у беременной.
— До свидания, Данло. Удачи тебе.
— Я провожу тебя до опушки.
— Не надо. Я найду дорогу сама.
— Как хочешь. Но будет лучше, если ты сегодня посидишь дома. На улицах может быть опасно.
— Да, пожалуй, — согласилась она.
— До свидания, Тамара. Удачи тебе.
Он снова обнял ее, и она, надев лыжи, заскользила прочь по сверкающему снегу. Когда сердце Данло отстучало несколько сотен раз, она скрылась между осколочными деревьями — гордая женщина, одна в диком белом лесу.
Началось, подумал он. Агира, Агира, дай мне сил сделать то, что я должен сделать.
Чувствуя голод, он развернул пакет с мякотью и зажарил на костре темно-красное мясо. Стряпал он долго, а ел еще дольше. Он сидел на заснеженном камне, ел мясо с кровью и смотрел, как поднимается солнце. Он не хотел объявляться ранним утром, когда на улицах недостаточно много народу, и потому ждал, набивая живот медвежатиной. Поняв, что ни есть, ни ждать больше не может, он вытер сальные губы и надел маску, чтобы никто не узнал его раньше времени. Потом пристегнул лыжи и направился в северную часть Городской Пущи.
Я больше не я. Я Мэллори ви Соли Рингесс, сын Леопольда Соли, сын Солнца, собрат Калинды, Эде, Маралаха, Чистого Разума и всех прочих галактических богов.
Он нашел дорожку, ведущую к Продольной, широкой магистрали, идущей от Гавани через Пилотский Квартал к Садам Эльфов у подножия Аттакеля. Это была вторая по величине артерия города, единственная, где лед окрашивался в голубой цвет.
Выйдя по ней из Пущи, Данло оказался чуть севернее Фравашийской Деревни. Всего через полмили, у пересечения с Длинной глиссадой, улица сделалась очень людной.
Раньше людей сюда привлекали такие достопримечательности, как Хофгартен и Променад Тысячи Монументов, где помещалось множество ресторанов. Но война и холода глубокой зимы побуждали наиболее благоразумных граждан сидеть дома, и Данло удивился такому количеству прохожих, среди которых попадались даже эталоны и пришельцы. Один коротышка, торговец алмазами с Ярконы, сообщил Данло новость, успевшую разнестись по всему городу: на Крышечные Поля будто бы прибыл огромный транспорт с рисом, и этот рис будут раздавать во всех бесплатных ресторанах от Элидийской Деревни до Академии. Данло, скользя по ярко-голубому льду, слышал повсюду взволнованный шепот и даже молитвы о скорейшем окончании войны, а лица людей выражали оптимизм, которого он не видел с самого начала голодных дней.
Не все невернесцы, конечно, голодали в равной степени.
В цивилизованных поселениях ни достаток, ни лишения никогда не делятся поровну. В роскоши мало кто жил, кроме червячников (да и у тех благополучие оказалось временным), но многих состоятельных горожан голод почти не затронул.
Данло, чей путь лежал к богатейшей части города, встречал немало таких людей: эталонов, астриеров и весьма многих специалистов Ордена. Они толпились на улицах, ведущих к Гиацинтовым Садам, Галливарову скверу и Гостиничной.
В магазинах на Продольной наблюдалось почти прежнее оживление, хотя и без прежнего веселья. Если слух о транспорте с провизией окажется ложным, настроение горожан снова изменится к худшему, но сейчас, под ярким солнцем, они радовались обещанному рису, как манне небесной.
Данло, согласно своему плану, направлялся к Большому Кругу, где сходятся Продольная и Поперечная. Хотя Круг помещался не в географическом центре Невернеса, многие считали его сердцем города. Две самые крупные улицы, пересекаясь здесь, делили Невернес на четыре неравные части.
Сам Круг представлял собой открытый участок голубовато-белого льда диаметром чуть больше четверти мили. Вокруг него располагались проезжие улицы, в том числе и оранжевые, ведущие к Кварталу Пришельцев и Академии. На протяжении трех тысяч лет жители Невернеса выписывали на Кругу фигуры своими коньками и беседовали с друзьями за чашкой кофе. До войны в киосках по его периметру продавалось все что угодно — от воздушного курмаша до горячего летнемирского чая с медом и пряностями. Сейчас почти все ларьки позакрывались, за исключением нескольких, еще торгующих тоалачем и прочим куревом. Но на ярких коврах сидели музыканты со своими арфами и барабанами, и множество богато одетых конькобежцев, покуривая трубки, обменивались новостями.
На желтой эстраде в центре Круга музыкантов, однако, не было. Здесь обычно выступали оркестры или гастролирующие куртизанки со своими экзотическими танцами, но по традиции взойти на сцену и обратиться к согражданам мог всякий, кто пожелает, В прежние времена Хранитель Времени объявил отсюда войну ордену воинов-поэтов, а Нармада читал свои “Сонеты к Солнцу”. Здесь аутисты делились с городской элитой своими реальными грезами, а хибакуся, обнажая изъеденные радиацией лица, призывали покончить с войнами навсегда. Многие мнимые пророки пользовались этой сценой, чтобы огласить свои рецепты насчет того, как сделать вселенную более справедливой, и много безумцев топотало по ее звучному настилу, взывая к Богу. Данло сам не раз слушал их, стоя среди возмущенной толпы. Когда он сам взошел на эстраду по пяти деревянным ступеням, его не удивило, что почти никто не смотрит в его сторону.
Я Мэллори Рингесс. Я Мэллори Рингесс. Я…
Он медленно снял очки и стянул через голову маску. Холодный ветер взъерошил его черную бороду и ожег лицо, кряжистое лицо алалойского охотника, изваянное Констанцио дважды: один раз для Данло, другой — для его отца. Данло смотрел ярко-голубыми глазами на снующих внизу людей. Некоторые оборачивались к нему, как будто силились вспомнить, кто этот странный, но смутно знакомый человек. Данло откинул капюшон шубы, подставив солнцу массивную голову с длинными черными волосами. Одна из зрительниц, астриерская матрона плотного сложения, изумленно ойкнула, сложив губы буквой “О”. Двое мужчин оглянулись посмотреть, что привлекло ее внимание. Увидев Данло, гордо стоящего над ними, они отпрянули назад и заслонили руками глаза, точно не веря собственному зрению.
— Погляди! — крикнул один. — Погляди на него!
— Нет, — ответил другой, — быть того не может.
— Да он это. Точно он.
К ним присоединился эталон, и эсхатолог в голубой шубе, и четверо божков в золотых одеждах. Данло все это время стоял молча и ждал. Ветер свистал в его ушах — дикий западный ветер, несущий дыхание его умершего сына и его пропавшего отца. Данло набрал в грудь воздуха, выдохнул его назад, приобщаясь к дыханию мира, и произнес шепотом:
— Я — Мэллори Рингесс. — Теперь на него смотрели многие. Сможет ли он вести себя так, будто это правда? Поверят ли эти люди, собравшиеся у сцены, что перед ними стоит человек, который стал богом? — Я Мэллори ви Соли Рингесс.
— Что? Что он сказал?
— Не знаю. Вы слышали, что он сказал?
Данло сглотнул, увлажняя пересохший рот, и стиснул челюсти. Играя желваками, он считал удары своего сердца. Подождав немного, он открыл рот и выкрикнул:
— Я Мэллори ви Соли Рингесс, и я вернулся в Невернес!
Какое-то мгновение никто не шевелился. Голос Данло — низкий, звучный голос его отца — разнесся по всему Большому Кругу. Полсотни человек застыли в изумлении; еще полсотни, прервав разговоры и оторвавшись от трубок с тоалачем, устремились к сцене.
— Я Мэллори ви Соли Рингесс, и я вернулся!
Молодой купец с Триа, увешанный бриллиантами и прочими драгоценностями, громко засмеялся, показывая на Данло пальцем:
— Глядите: еще один сумасшедший, возомнивший себя Мэллори Рингессом!
— Это он и есть, — сказала старуха в золотом одеянии рингистки, с благоговейным выражением на морщинистом лице. — Не видите разве — это Рингесс!
— Быть не может. Ты сама, наверно, рехнулась, — сказал купец, но тут же вполголоса признался другому купцу, что видел голограмму Мэллори Рингесса только раз, да и то давно. — Ведь правда же, это невозможно? Не могли же мы все спятить!
Когда сердце Данло отсчитало еще несколько сотен ударов, у сцены собралась большая толпа. Весть о чуде на Большом Кругу почти мгновенно распространилась по близлежащим улицам, по Продольной и Поперечной, и сотни любопытных запрудили ледяную площадь. Люди стояли теперь на льду плечом к плечу, сбившись в кучу, как стая китикеша.
Астриеры, червячники, послы, мозгопевцы, хибакуся, специалисты Ордена в новых золотых одеждах — все старались пробиться поближе к сцене, чтобы рассмотреть человека, объявляющего себя Мэллори Рингессом.
На краю Круга Данло заметил трех Подруг Человека и двух пушистых белых фраваши. Тот, что повыше, мог быть даже Старым Отцом, наставником его юных лет, подарившим ему бамбуковую флейту и многое помимо нее. Данло казалось, что это великолепное создание смотрит на него своими золотыми глазами и ждет, что он скажет дальше, и что того же ждет все разнообразное население города.
— Я Мэллори Рингесс, — повторил Данло голосом, звучащим странно и в то же время невероятно знакомо. — Я Мэллори Рингесс, и я вернулся к людям своего любимого города.
Под самой сценой стояла маленькая женщина в длинной голубой шубе. От восторга ее пошатывало, словно от вина, но она, собравшись с силами (и с мыслями), воскликнула:
— Мэллори Рингесс, я рада видеть тебя снова после стольких лет.
Данло улыбнулся ей, сияя глазами, как двумя солнцами.
Он знал эту женщину по Академии: Мария Палома Шакти, мастер-эсхатолог, специалист по Кремниевому Богу. Об ее отношениях с отцом Данло не знал ничего, но помнил, что другие мастера часто называли ее Божественной Марией — вполне возможно, что и отец обращался к ней так.
— Взаимно, Божественная Мария, — наклонив голову, сказал Данло.
Стоящие рядом академики одобрительно загудели.
— Я рад и тебе, Алезар Квамсу, — продолжал Данло, кланяясь историку в золотой одежде божка. Теперь он разглядел в толпе Еву ли Сагар, и Рави Армадана, и Вишну Сусо, Главного Горолога, сохранившего свою кроваво-красную форму. — Здравствуйте, лорд Сусо, — говорил он, называя их всех поименно. — Здравствуйте, мастер Ким, Вивиана Чу, Виллоу с Утрадеса, Ригана дур ли Кадир. Я рад, что снова вижу всех вас.
Он назвал двадцать имен и еще двадцать, выбирая самых старых мастеров, наверняка подвизавшихся в Академии во времена Мэллори Рингесса. Он поклонился каждому и обвел взглядом тысячи других обращенных к нему лиц.
— Я рад вернуться к вам даже в это смутное время. Я рад вернуться, чтобы вернуть городу и всем Цивилизованным Мирам порядок и благоденствие.
У сцены шаркал коньками по льду молодой человек в ярко-желтой форме неологика. Он был еще только кадетом, не старше восемнадцати лет, и прибыл в Невернес с Геенны, пока Данло исследовал Экстр. Данло никогда его раньше не видел, но знал, что он юноша способный, гордый, скептически настроенный, и золотой наряд рингиста ему ненавистен пуще чумы. Знал он также, что этот кадет известен своим товарищам и мастерам в колледже Лара-Сиг критическим отношением к рингизму и словесным вывертам Ханумана ли Тоша.
Поэтому никто из стоящих тут же друзей молодого человека не удивился, когда тот задрал голову и громко сказал:
— Значит, ты бог? Ну и каково это — быть богом?
Пятьдесят тысяч пар глаз смотрели на Данло, и пятьдесят тысяч человек ждали его ответа.
Надеро девам акайер, подумал Данло. Только бог способен поклоняться богу.
Но кадету-неологику и тысячам других он ответил иначе:
— Это значит видеть больше, чем доступно зрению, и знать больше, чем доступно разуму.
Кадет выпятил подбородок и задал новый вопрос:
— Что же ты знаешь такого, чего бы не знали мы?
Группа божков, одетых в золото, уже проталкивалась к нему — возможно, с намерением побить его за столь немыслимую дерзость. Данло вскинул руку, улыбнулся и покачал головой, давая им понять, что к насилию прибегать не нужно. Он думал, что ответить кадету, и вдруг увидел в уме его имя. С Данло это случалось не впервые — точно так же он когда-то вспомнил незнакомые ему стихи и увидел в недавнем прошлом битву при Маре.
— Тадеуш Дудан, — сказал он кадету. — Так ведь тебя зовут?
Кадета действительно звали так, и его голова дернулась назад, как от удара. Вокруг него тут же зашептались о новом чуде, а сам Тадеуш, запинаясь, проговорил:
— Откуда… вы знаете?
— Я знаю многое. — Голос Данло катился по Большому Кругу, как волна, и его слова передавались из уст в уста среди толп, собравшихся уже и на ближних улицах. — Я знаю маршрут между любыми двумя звездами; знаю, что звезд во вселенной не счесть и что везде они светят одинаково. Я знаю черную пустоту Детесхалуна, знаю сердца людей и умы богов. Знаю одиночество белой талло в небе и грезы снежного червя в его ледяной норе. Знаю крик матери, рожающей на свет дитя, и великую речь моря. Знаю я также, что все это — люди и боги, звезды, талло, снежные черви, матери и дети — должно существовать, пока существует сама жизнь. Я знаю, что мы не роботы, слепо подчиняющиеся своим программам; знаю, что мы способны создавать себя по своей воле и выбирать, какое нам создать будущее. Я знаю Старшую Эдду, ибо проник в нее глубоко, как кит, ныряющий в пучину Великого Северного океана. В Старшей Эдде есть все — покой и движение, тьма и свет, память обо всем, что было, и все возможности грядущего. Как сказать вам о том, что я знаю? Я знаю, что внутри света есть еще свет, который сияет повсюду. Он как танец звездного огня, как бесконечный поток фотонов, он всегда движется и прекрасен, хотя и недоступен обыкновенному зрению. И эти краски, перетекающие одна в другую, эти бесчисленные искры серебра, аметиста и живого золота — все краски, известные человеку, и те, которых он себе даже представить не может. Я знаю, что глубокое сознание всех вещей — это единая блистающая субстанция, ярче всяких красок и быстрее всякого света. И все, что создается, происходит из этого сознания. Это и есть тайна жизни. Я знаю, что жизнь продолжается, сознавая себя и создавая себя, что она струится в золотое будущее без конца и границ. И мы с вами продолжаемся тоже. Мы, держащие в руках все многоцветные лучи звездного света, должны наконец овладеть нашими бесконечными возможностями. Но мы не увидим ничего и не создадим ничего, если будем слепить себя водородными взрывами и взрывать звезды. Если мы и дальше будем воевать сами с собой, продолжения у нас не будет. Я знаю, что в этой войне уже погибли миллиарды людей. Я знаю, что в ней погибли боги и целые звездные туманности. Я знаю, как покончить с этой войной. Для этого я и вернулся. Я, Мэллори ви Соли Рингесс, Главный Пилот и глава Ордена, вернулся, чтобы принести мир.
Пятьдесят тысяч человек разом изъявили свой восторг, услышав это, и по Большому Кругу прокатилось громовое “ура”. Пар от дыхания многих людей слился в сплошное серебристое облако. Данло, видя, что момент настал, приказал Тадеушу Дудану:
— Ступай в Академию и найди лорда Палла. А также лорда Кутикоффа, лорда Мор, лорда Парсонса, лорда Харшу, лорда Чу — всех лордов Ордена. Вели созвать всех мастеров, живущих в Борхе, Ресе, Упплисе и Лара-Сиг. Скажи им, что я вернулся. Пусть идут в собор Пути Рингесса и ждут меня там. Пусть возьмут с собой Бертрама Джаспари и Демоти Беде. Я буду говорить с ними там — с ними и с Хануманом ли Тошем, именующим себя Светочем Пути Рингесса.
На протяжении трех ударов сердца Тадеуш колебался. Затем он поклонился и сказал:
— Слушаюсь, лорд Мэллори. — Он стал прокладывать себе путь к восточной окраине Круга, а люди в толпе вытягивали шеи, чтобы лучше рассмотреть человека (или бога), стоящего на эстраде. Тадеуш добрался до Академической глиссады и скрылся из глаз, став еще одним пятнышком в пестрой толпе.
Одна дверь, и только одна, ведет в блистательное будущее, которое я видел. Но которую дверь выбрать? И где найти ключ от нее?
Данло стоял на сцене, переводя дыхание, и смотрел на горожан. Он видел среди народа Гамалиэля с Темной Луны, прославленную диву Махамиру и сотни других знакомых лиц.
В южном квадранте Круга, ближайшем к Кварталу Пришельцев, он заметил женщину, похожую на Тамару. Но когда он вгляделся пристальнее, пытаясь различить грустные карие глаза самой прекрасной и неистовой из женщин, она исчезла в людском море. На самом краю Круга сверкнули на солнце два красных кольца. Сердце Данло стукнуло дважды, и за одним из закрытых киосков ему померещился Малаклипс. Воин-поэт, если это действительно был он, в простой бурой шубе пробирался между киосками, обходя Данло сзади. Никто, казалось, не замечал его. В этот солнечный день, когда в будущее открывалось десять тысяч дверей, людям не было дела до воина-поэта: все их внимание принадлежало человеку, которого они почитали, как бога.
— Кто со мной? — громко спросил Данло. — Кто готов идти со мной в собор?
Пятьдесят божков, как он и ожидал, тут же ринулись к сцене, и пятьдесят тысяч других, ударив коньками в лед, вскричали разом:
— Мы! Мы!
Данло медленно сошел со сцены. Божки, отталкивая друг друга, наперебой старались коснуться его белой шубы и даже тянулись к его лицу. Данло потерпел несколько мгновений, а затем поднял руку, сверкнув черным пилотским кольцом, и скомандовал им: — За мной!
Двенадцати ближайшим божкам (один из них оказался Мадхавой ли Шингом, с которым Данло делил комнату в Доме Погибели) он велел никого больше не подпускать к нему и направился, окруженный этим золотым эскортом, к восточному квадранту Круга. Люди медленно, как по волшебству, расступались перед ним и тут же смыкались позади, устремляясь следом.
Через некоторое время Данло дошел до Академической и двинулся мимо Гиацинтовых Садов. Здесь, где в воздухе горел аромат огнецветов, толпа стала еще гуще. Весть о возвращении Мэллори Рингесса бежала от улицы к улице подобно электрическому току, опережая Данло. Перед Музеем путь ему преградила плотная человеческая стена, но и она тут же раздалась, и собравшиеся примкнули к армии его последователей. Тысячи новых валили от Галливарова сквера и Посольской улицы.
У Консерватории Куртизанок, где когда-то обучалась Тамара, возглавляемая Данло процессия составила около полумиллиона человек. На пересечении с Серпантином она повернула на юг и через пять длинных кварталов оказалась в самом сердце Старого Города. Ликующие толпы позади Данло несли его вперед, как огромный пенистый вал, и казалось, что даже камни в окружающих Данло башнях содрогаются от рева их голосов. Еще несколько кварталов — и эта волна разобьется о собор, и Данло постучится отцовским кольцом в его двери, и Хануману волей-неволей придется открыть и впустить его.
Они будут ждать меня там. Хануман, Сурья Лал и Бертрам Джаспари. И лорды Палл и Харша, хорошо знавшие моего отца. И Малаклипс с Кваллара — он тоже постарается пробиться внутрь.
Воин-поэт попытается настигнуть его — в соборе или где-нибудь на темной улице — и убедиться, действительно ли он бог. Быть может, он попросит Данло закончить какое-нибудь четверостишие, что доступно только человеку, отказавшемуся стать богом. Или решит, что Данло, он же Мэллори Рингесс, уже вышел за пределы человеческого естества, и убьет его за то, что он дерзнул стать богом.
Только бог способен убить бога.
К югу от площади Данлади перед ними во всем своем великолепии возник собор Пути Рингесса. Своей красотой он затмевал соседние здания, многие из которых, со своими стенами из органического камня, были очень красивы. Приблизившись, Данло увидел высокие разноцветные окна, изображающие сцены из жизни его отца. При ярком солнечном свете казалось, что их яркие краски обволакивают радужным ореолом весь собор. Над перекрестьем, где крылья собора соединялись с главным зданием, высилась центральная башня, глядящая сверху на летящие гранитные контфорсы и фигурную кладку. Смотрела она и вверх, поскольку Бардо распорядился увенчать ее золотым куполом. Там, на самом верху, проводит свои ночи Хануман ли Тош, оттуда он смотрит в небо на Вселенский Компьютер и Золотое Кольцо. Туда, под самый купол, должен был взобраться кто-то из божков, чтобы сообщить ему о пришествии Мэллори Рингесса.
Я Мэллори Рингесс. Я Мэллори Рингесс. Я Мэллори ви Соли Рингесс.
То же самое кричали божки, выстроившиеся золотыми рядами вдоль примыкающих к собору улиц:
— Мэллори Рингесс! Мэллори Рингесс! Мэллори ви Соли Рингесс! — Желание ринуться к своему богу переполняло их, но дисциплина удерживала на месте. Им было приказано пропустить Данло, и они ограничивались тем, что выкрикивали имя его отца.
Все двери в западном портале собора были распахнуты настежь. Божки из соборной стражи Ханумана стояли под сводом центральной, встречая Данло. Несмотря на остроту момента, он заметил, что былые изваяния христианских святых и пророков над аркой заменены скульптурами из органического камня, изображающими Катарину-Скраера, Шанидара, Балюсилюсталу, Калинду Цветочную — всех, кто помог Мэллори Рингессу преобразиться в бога.
Сняв коньки, Данло поднялся по отлогим ступеням портала. Шум, издаваемый полумиллионом человек, заглушал стук его ботинок по камню, а звон в его ушах почти перекрывал сердцебиение. Он прошел в дверь, где божки чуть не падали ниц, склоняясь перед ним. Они пропустили Данло и его эскорт, но сомкнули ряды перед теми, кто не носил золотых одежд. Их, однако, было слишком мало по сравнению с идущей за Данло толпой. Через несколько мгновений члены Ордена в своих разноцветных одеяниях, а также хариджаны, хибакуся и прочие смяли охрану и хлынули в собор.
— Мэллори Рингесс! Мэллори Рингесс! Мэллори ви Соли Рингесс!
Тысячи божков, заполняющие собор, стоящие вдоль стен и между колоннами, выкликали имя его отца. Их голоса, отражаясь от камня и окон, взмывали к самому своду. Тысячи свечей в золотых подсвечниках пылали в честь возвращения Мэллори Рингесса, но в их желтых трепещущих огоньках почти не было нужды, ибо полуденное солнце лилось в окна собора алыми, изумрудными и кобальтовыми параллельными полосами. Данло проходил сквозь них, как сквозь звездный огонь, и чувствовал на себе обжигающее пламя множества взглядов. Он шел между рядами восторженных божков прямо к алтарю. Справа от покрытых красным ковром ступеней стояли Сурья Лал, Томас Ран, Нирвелли и Мариам Эрендира Васкес, бывший Главный Эсхатолог Ордена. Тут же выстроились в молчаливом ожидании Делорес Лайтстон, Лаис Мотега Мохаммад и прочая элита Пути Рингесса.
Слева от алтаря по велению Данло собрались лорды Ордена — сто двенадцать человек: Джонат Парсонс, Родриго Диас, Махавира Нетис, Никобар Югу в новой золотой мантии и другие. Со времени визита Данло в Коллегию Главных Специалистов многие лорды сменили разноцветную форменную одежду на божественное золото. Коления Мор, нынешний Главный Эсхатолог, первой открыто перешла в рингизм, и ее примеру последовали Саша Чу, Оклани ви Нури Чу и еще около семидесяти пяти человек. На рукаве Евы Зарифы, Главного Фабулиста, виднелась пурпурная повязка, знак ее профессии, — прежде лорды-рингисты поступали наоборот, нося золотые повязки на цветном. Бургос Харша, Главный Историк, сохранил, однако, свою старую коричневую форму и заявил, что никогда не снимет ее. Лорд Палл тоже, как прежде, носил оранжевую мантию цефика.
Этим он как глава Ордена желал отмежеваться от Ханумана ли Тоша и Пути Рингесса. Лорд Палл претендовал на автономию, в которую теперь мало кто верил; чуть ли не вся Академия подозревала, что Хануман скрытно управляет им, как вирус мастер-программиста управляет операционной системой робота, проникнув в нее. Тем не менее лорд Палл по-прежнему держался так, будто распоряжался Орденом безраздельно. Вот и теперь этот ужасный старец с мертвенно-белой кожей и черными зубами расставил лордов и мастеров Ордена у алтаря согласно их рангу.
Дальше всего, почти рядом с толпящимися у прохода божками, он поместил мастер-академиков числом около трехсот человек. Чуть ближе стояли второстепенные лорды наподобие Лилит Хесусы и Джона Райзеля. Демоти Беде, хотя тот больше не принадлежал к Ордену, лорд Палл поставил рядом с собой, в нескольких футах от алтаря, вместе с Коленией Мор, Мератой Просвещенным и Бургосом Харшей. Лорд Беде, который летел в Невернес на корабле Данло и провел рядом с ним много дней, теперь явно не узнавал его. Лорд Палл тоже, очевидно, полагал, что видит перед собой Мэллори Рингесса: в его розовых альбиносских глазах читалось горькое сожаление на то, что этот человек имеет больше прав называться главой Ордена, чем он сам.
— Мэллори Рингесс! Мэллори Рингесс! Лорд Мэллори ви Соли Рингесс!
Еще один человек ждал с ненавистью и страхом приближения Данло — Бертрам Джаспари. Он как самозваный Святой Иви и командующий флотом, грозящим уничтожить Звезду Невернеса, стоял здесь со скованными руками. Ему бы следовало потупить голову от стыда за все совершенные и замышляемые им зверства, но он вместо этого вызывающе стиснул свои синие губы и жег глазами предполагаемого Мэллори Рингесса.
— Хакра! — бросил он, когда Данло поравнялся с ним.
Согласно тому, как толковал он учения своей церкви, не было для человека преступления более тяжкого, чем сделаться богом. Виня Мэллори Рингесса в грехе гордыни, себе он почему-то все грехи отпускал.
— Хакра! Чудовище!
Данло замечал всех этих людей (и многих других, вроде Тадеуша Дудана и мастера Джоната, своего бывшего наставника в Борхе), пока шел по проходу, но затем все его внимание почти целиком сосредоточилось на Ханумане ли Тоше, который ждал его, стоя на алтаре. Рядом с Хануманом помещался стол с золотой урной и голубой чашей, которые использовались на ежедневных калла-церемониях. Светоч Пути был великолепен в своей длинной золотой мантии, алмазная кибершапочка на его бритой голове переливалась миллионами лиловых огней — признак того, что Хануман держал постоянный контакт с каким-то цефическим компьютером, может быть, даже с Вселенским.
Божки, бросая взгляды на алтарь, видели на лице Ханумана лучезарную улыбку, показывающую всем, что он ждет Мэллори Рингесса с радостью и любовью. Но улыбка эта была притворной. Хануман не зря учился на цефика — он умел придать своему лицу любое выражение, изобразить любую эмоцию. Его глаза — бесконечно холодные, бледные, шайда-глаза — смотрели не внутрь, созерцая неземные красоты и сбывшиеся пророчества. Они со страшной, ледяной яростью смотрели на Данло. Один только Данло во всем соборе знал, что чувствует Хануман на самом деле, — да и он сумел проникнуть сквозь его показную улыбку только потому, что знал Ханумана лучше, чем кто-либо другой.
Ему страшно, думал Данло, ему страшно, потому что я несу с собой то единственное, чего он действительно боится.
Каждый удар сердца Данло напоминал взрыв звезды в Экстре, и глаза его не отрывались от глаз Ханумана. Холодные, немигающие, они влекли его вперед, в самую глубину собора. Хануман сильно постарел со времени их последней встречи: глаза у него налились кровью и ввалились, как будто он не спал много дней и почти не прикасался к еде. Когда Данло дошел до самых ступеней алтаря, Ярослав Бульба и еще трое воинов-поэтов преградили дорогу Мадхаве ли Шингу и другим сопровождавшим Данло божкам. Данло один, как в ту новогоднюю ночь шесть лет назад, взошел наверх и стал рядом со своим смертельным врагом и ближайшим другом.
Ему самому было страшно — он вполне это сознавал. Его взгляд упал на одно из восьмидесяти двух окон собора, где Мэллори Рингесс благословлял Бардо перед тем, как вознестись на небеса. Солнце, струясь сквозь золотое стекло, озаряло сильное, благородное лицо Мэллори. В тот прошлый раз, когда Данло стоял здесь, порыв ветра выбил это окно, и цветное стекло градом посыпалось на алтарь, едва не убив Ханумана. В ту ночь сломанных богов и разбитой мечты Данло сам едва не убил Ханумана. Одержимый ненавистью и страхом, он чуть не вышиб ему мозги тяжелой урной, но в последний момент совершил обратное и спас его. Сегодня, в знаменательный день возвращения Мэллори Рингесса, страх снова овладел им. Больше всего он боялся, что ненависть к Хануману и ко всему, что Хануман сотворил, захлестнет его, и он себя выдаст. Но я не должен ненавидеть. Я Мэллори Рингесс, стоящий выше ненависти и страха. Я Мэллори Рингесс. Я Мэллори ви Соли Рингесс.
— Мэллори Рингесс! Мэллори Рингесс! Лорд Мэллори ви Соли Рингесс!
Тысячи людей в соборе, раскачиваясь, выпевали имя его отца. Хануман низко склонился перед Данло. Данло, намного выше его ростом, поклонился в ответ — ровно настолько, чтобы не прерывать электрическое соединение глаз.
— Лорд Мэллори! Глава Ордена! Светоч Пути!
Если я хочу сойти за отца, то должен проявлять только божественные эмоции, думал Данло. Я должен быть настолько же выше ненависти и страха, насколько солнце выше земной грязи. Но гнев — чистый и ослепительный, перед которым содрогаются сами небеса, — это нечто иное. Гнев вполне приличествует богу, который вернулся в Невернес, чтобы покарать зло и восстановить попранную войной справедливость. Ему подобает наказать виновных и даже казнить тех, кто причинил вред невинным.
Казнить я его не могу, зато могу лишить сана Светоча Пути — прямо сейчас. Я сам Светоч Пути, Мэллори Рингесс, и…
— Лорд Мэллори ви Соли Рингесс! — внезапно произнес Хануман и поднял руку, утихомиривая впавших в экстаз божков. Если он и подозревал, что Мэллори Рингесс поддельный, то не подавал виду. Стоя среди сияющих золотых канделябров и ваз, наполненных свежими огнецветами, он смотрел на Данло так напряженно, словно каждая клетка в его теле пылала огнем. Их разделяло всего несколько футов красного ковра, но их желания, мечты (а может быть, и души) отстояли друг от друга на много световых лет. — Лорд Мэллори, я говорил народу, что ты вернешься, — и вот ты пришел, подтвердив истину Первого Столпа рингизма.
Данло сделал шаг к Хануману, и люди в соборе понемногу начали утихать. Данло скинул шубу, как только взошел на алтарь, и стоял теперь в своей пилотской форме — единственный в соборе человек, одетый в черное. Избранные Пути Рингееса, а также лорды и мастера Ордена нетерпеливо ждали у алтаря, божки наполняли собор, как взволнованное золотое море. Кое-где между ними виднелись хариджаны в пестрых лохмотьях, архаты, мозгопевцы, астриеры и прочие представители невернесского населения. Толпа, не умещаясь в соборе, выплескивалась из его раскрытых дверей и заполняла ближние улицы. Чуть ли не весь Старый Город был наполнен людьми, ожидающими грозного и справедливого божьего суда.
Вот он, момент, подумал Данло. И мои слова станут ключом, который отопрет дверь.
И все же он боялся говорить. Боялся, что Хануман благодаря своей цефической выучке и их близкому знакомству узнает его по каким-нибудь нюансам речи и разоблачит. Может быть, он открыто бросит Данло вызов и предложит доказать, что он Мэллори Рингесс, — на этот случай Данло и надел отцовское кольцо.
Одна дверь, и только одна, ведет в будущее. Но позволит ли мне Хануман открыть ее?
Данло, взглянув на черное кольцо, сверкающее на его правом мизинце, сделал еще шаг к Хануману и набрал воздуха в грудь. Он боялся, что Хануман помешает ему говорить. Хануман должен знать, что Мэллори Рингесс — настоящий Мэллори Рингесс, исполненный гордости и гнева, — захочет наказать его за те злодеяния, которые он творил его, Рингесса, именем, иль, может, Хануман попытается убить его — прямо здесь, на вершине алтаря, на красном, как кровь, ковре? Быть может, он распорядился впустить в собор Малаклипса с Кваллара и намерен разыграть ужас, когда Малаклипс, прорвав кордон соборной стражи, набросится на Данло со своим ножом? Или убьет Данло сам — отравленной иглой или скрытым на себе лазером, а затем объявит, что сильный бог убил более слабого, и Путь Рингесса станет отныне Путем Ханумана ли Тоша.
Он не может позволить мне говорить, ибо я Мэллори Рингесс. Я Мэллори Рингесс. Я Мэллори ви Соли Рингесс.
Данло, однако, не видел, каким образом Хануман может ему помещать. Даже если Малаклипс в соборе, Хануман не может рассчитывать на то, что воин-поэт попытается убить Данло. А попытка совершить убийство самому или руками наемника была бы отчаянным риском. Убийцу всегда могут схватить, подвергнуть пыткам и узнать, кто его подослал. Убийство самого Мэллори Рингесса в такое время и в таком месте вызвало бы повальные беспорядки, и подозрение скорее всего пало бы на Ханумана. Тем не менее Данло обводил глазами хоры, ища там убийцу или робота с лазером. Тем не менее он шагнул еще ближе к Хануману, чтобы предполагаемый убийца поостерегся стрелять в него из опасения попасть в Светоча.
— Лорды и мастера Ордена, — начал он наконец, и голос, прорезавшись, зазвучал ровно, чисто и властно. Тысячи божков разом умолкли, зачарованные его страшной красотой, и даже Хануман посмотрел на Данло как-то странно, словно не ожидал услышать подлинный голос Мэллори Рингесса. — Лорд Хануман ли Тош, принцесса Сурья Сурата Лал и все вы, надевшие золотые одежды в знак того, что идете Путем Рингесса! Посланники, граждане Невернеса и все, кто пытался разгадать тайну жизни, вспоминая Старшую Эдду! Я вернулся, чтобы мы все могли разгадать эту извечную тайну. Я прибыл к вам со звезд, чтобы восстановить справедливость в Цивилизованных Мирах и покончить с войной.
Данло сделал паузу, и божки, воспользовавшись ею, издали мощное “ура”, наполнившее весь собор и сотрясшее витражи в их переплетах. Данло набрал воздуха и заговорил снова:
— Я пришел восстановить справедливость, но не может быть справедливости, пока…
— Смерть аутархам! Смерть лжебогам!
От толпы божков близ алтаря отделился человек могучего сложения, по виду червячник, но в золотой одежде. Данло подобрался, услышав его крик, а Хануман в то же мгновение слегка повел глазами, подавая этому человеку цефический знак.
Вслед за этим произошло нечто ужасное: неизвестный выхватил пулевой пистолет и навел его прямо на алтарь.
— Смерть лжебогам! Смерть Хануману ли Тошу!
Все последующее случилось почти одновременно. Сто человек около алтаря закричали от ужаса, еще сто прикрыли руками головы и легли на каменный пол, а трое соборных охранников тут же бросились к человеку с пистолетом. Один из них, огненно-рыжий молодой божок, перехватил руку убийцы и вскинул ее вверх. Пистолет выпалил трижды, и пули ударили в гранитный свод. Одна из них выбила часть стекла из окна над алтарем — того самого злополучного окна, на котором Мэллори Рингесс прощался с Бардо, но на этот раз лиловых с золотом осколков, упавших на алтарь, оказалось не так уж много.
Данло, почти не задумываясь, заслонил от них Ханумана.
Это случилось помимо его воли, как будто пистолетные выстрелы отбросили его в тот далекий момент, когда его изначальная любовь к Хануману пересилила ненависть. Он видел словно со стороны, как обнимает Ханумана, принимая стеклянный град на свои густые волосы, на затылок и обтянутую черным шелком спину. Один из соборных стражей поспешил прикрыть от стекла их обоих, другие тем временем побороли и обезоружили убийцу. Третьи же, во главе с Ярославом Бульбой, взбежали на алтарь, образовав живую стену вокруг Данло и Ханумана.
— Спасайте его! — крикнул Хануман, освободившись от Данло. На один миг Данло встретился с его странным взглядом, и Хануман повторил, дернув за рукав Ярослава Бульбу: — Спасайте лорда Мэллори Рингесеа!
Пока охранники под алтарем вязали неудачливого убийцу жгучей веревкой, Ярослав и еще двадцать божков окружили Данло, прикрывая его от пуль и лучей других вероятных убийц — а заодно и от глаз всех, кто находился в соборе. Огражденный этой ширмой из золотого шелка, Ярослав Бульба вонзил в шею Данло иглу с черным наконечником.
— Нет! — крикнул, рванувшись, Данло, но другие божки удержали его.
Парализующее средство, впрыснутое Бульбой, почти мгновенно сковало его мускулы.
— Нет! — снова крикнул он. — Я Мэллори ви Соли Рингесс, и я… — На этом его речь прервалась, точно невидимая рука стиснула ему горло. Ноги под ним подкосились, и он рухнул на окружавших его божков. Пятеро из них двинулись вперед, расчищая дорогу, еще пятеро вместе с Бульбой подняли Данло на руки.
— Пустите! — крикнул Хануман, расталкивая оставшихся на алтаре божков и храбро, как могло, показаться, рискуя собой. Он повернулся лицом ко всему собору, ко всему городу, и его серебряный голос, как меч, рассек стоящий вокруг шум. — Дорогу лорду Мэллори Рингессу! Дайте унести его в безопасное место!
Данло не мог выговорить ни слова, не мог шевельнуться — ему оставалось только смотреть в безжалостные лиловые глаза Ярослава Бульбы и ждать дальнейшего развития событий. Долго ждать не пришлось. Его пронесли через неф, между рядами людей, наперебой спрашивающих, не попала ли в их бога пуля убийцы. Горячее дыхание Ярослава касалось лица Данло, по шее стекала струйка крови из пореза, нанесенного осколком стекла. Солнце и ветер проникали в пробитую пулей дыру, и сотни божков вокруг шумно дышали, охваченные страхом за жизнь Мэллори Рингесса.
Воины-поэты вместе с Данло прошли под аркой, увенчанной каменными шпилями и статуей Мэллори Рингесса, открыли дверь на лестницу и стали подниматься на башню. Лестничную клетку наполнил рев тысяч голосов, выкрикивающих:
— Мэллори Рингесс! Мэллори Рингесс! Мэллори ви Соли Рингесс!
Я Мэллори Рингесс, думал Данло. Я Мэллори Рингесс, и я вернулся сюда через тридцать тысяч световых лет, чтобы покончить с войной.
Дверь за ними захлопнулась, отрезав их от шума, и настала тишина.
Глава 21 ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ СОЛНЦ
Либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь небесного царства, либо же ты завоюешь царство земное и будешь наслаждаться им. Так наберись же решимости и сражайся.
“Бхагавадгита”, 2:37Воины-поэты внесли Данло в кабинет Ханумана на вершине башни, все так же тесно заставленный сулки-динамиками, голографическими стендами, компьютерами и прочей кибернетикой. Все радужные шары были зажжены в честь прибытия Данло. Их свет заливал старые шахматы Ханумана из кости и осколочника. Среди фигур недоставало белого бога.
Образник Данло, преодолевший вместе с ним тысячи световых лет, перенесли сюда из камеры в часовне и поставили на столик рядом с шахматами, но Хануман, как и в прошлый раз, прикрыл его белым налловым колпаком, не пропускающим ни звука, ни света. Он объяснял это тем, что не может выносить неумолчной болтовни Эде.
Поскольку ни кровати, ни кушетки у Ханумана не водилось, воины-поэты уложили Данло на фравашийский ковер в восточном квадранте комнаты. Данло, по-прежнему парализованный, мог только моргать. Ярослав Бульба, опустившись на колени, проверил его пульс и дыхание. Данло видел над собой длинные изогнутые окна купола, синее небо в них и пурпурные простенки между ними; время от времени все это заслоняла голова Ярослава Бульбы, и тогда Данло видел его жуткие искусственные глаза.
— Я еще ни разу не видел бога, — заметил Ярослав. — Было время, Мэллори Рингесс, когда я был бы обязан убить тебя за то, что ты бог. Если ты, конечно, взаправду бог, как все говорят.
Сердце Данло стукнуло три раза, и он дважды моргнул, глядя на человека, который совсем недавно пытал его. Ни отвернуться, ни ответить ему Данло не мог.
— Тебе, наверно, интересно знать, что за штуку я тебе впрыснул. Если тебе не дадут противоядие, ты останешься парализованным навсегда.
Я должен пошевелиться, думал Данло. Должен заставить себя двигаться.
— Перманентный паралич, — без всякой жалости продолжал Ярослав. — Но с помощью питательных трубок мы можем поддерживать в тебе жизнь чуть ли не вечно, если лорд Хануман того пожелает.
Я должен заставить себя двигаться. Должен повернуться лицом к западу, если пришло мое время умирать.
Долгое время спустя — Данло насчитал около трех тысяч ударов сердца — он услышал, как открывается дверь. Судя по звуку шагов по камню, в комнату вошли не менее двух человек. Один из них заговорил, порождая эхо среди компьютеров, оптических и квантовых, и висящих между окнами ярконских гобеленов. Данло сразу узнал серебряный голос Ханумана ли Тоша.
— Теперь у него вид не слишком божественный, правда? — Хануман встал над Данло. Его холодные глаза смотрели сверху, как две луны. — Дай ему противоядие. Небольшую дозу, — приказал он стоящему рядом Ярославу.
— Вы уверены, лорд Хануман? Если он правда бог, то…
— Думаю, тело у него столь же человеческое, как у нас с тобой. Дай самую малость, чтобы я мог говорить с ним.
— Слушаюсь.
Ярослав появился в поле зрения, держа в руке иглу. Где-то сбоку от Ханумана стоял еще один человек — Данло слышал, как он шуршит шелком, но не видел его. Игла вошла в тело, и покалывающее тепло сразу охватило лицо, шею, челюсти и горло. После двадцати ударов сердца Данло сумел немного приоткрыть рот, и Хануман сказал Ярославу:
— Теперь оставь нас. Жди за дверью, пока я не позову.
Сердце Данло отстучало еще четыре раза, разгоняя противоядие по артериям, мускулам и нервам. Данло повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как уходит Ярослав, а с ним и другие воины-поэты.
— Это средство снимает паралич головы, — сказал Хануман. — Воины-поэты — большие специалисты в такого рода делах; у нас есть и другие препараты, способные вернуть подвижность другим частям твоего тела и даже всему телу.
Данло с большим усилием запрокинул голову, чтобы лучше видеть Ханумана и того, кто прятался теперь у него за спиной. Облизнув губы и сглотнув царапающий горло комок, он выговорил:
— Хануман… Хануман ли Тош. Я…
— Мэллори Рингесс, — договорил Хануман, опускаясь на колени рядом с ним. — Мэллори Рингесс — это бог (или человек), которого ты изображаешь, но я знаю, кто ты на самом деле.
При этих словах человек у него за спиной — Констанцио с Алезара — сделал шаг вперед.
— Данло. — Хануман смотрел ему прямо в глаза, как привык смотреть с их первой встречи на площади Лави. — Данло ви Соли Рингесс — это ведь ты, не так ли? Я знаю, что это ты. Знаю, что этот резчик придал тебе облик твоего отца.
Данло устремил взгляд на высокого серолицего Констанцио. Паралич языка и губ прошел почти полностью, и Данло обрел способность выплеснуть весь гнев, сжигавший его изнутри.
— Уйди, — сказал он звучным и грозным голосом. — Уйди и не возвращайся больше.
— Мне жаль, что так вышло с твоим сыном, — сказал Констанцио. Хануман, услышав это, насторожился, и его глаза стали перемещаться между резчиком и Данло, как два прожектора. — Извини, но я ничем не мог помочь.
— Очень даже мог, — ответил Данло. — У тебя были лекарства, ты владеешь криологическими навыками. Спасти ему жизнь било в твоей власти, а ты обрек его на смерть.
— Сожалею, но было уже слишком поздно. И я уже выполнил наше с тобой соглашение, разве нет?
— Нет. — Глаза Данло пылали гневом. — Ты обещал держать все в секрете — именно так мы условились.
— Зачем же тебе вздумалось выдавать себя за бога? — Констанцио, ежась под взглядом Данло, опустил глаза. — Я поступил бы неправильно, если бы сохранил твой секрет при таких обстоятельствах.
— Мы договорились, что, если ты расскажешь кому-то об этом, наша сделка будет расторгнута. Сфера, которую ты получил в качестве гонорара, принадлежала моей матери. Верни ее мне.
Констанцио взглянул на Ханумана с таким выражением, словно паралич затронул не только тело, но и разум Данло.
— Он сумасшедший. Напрасно я взялся ваять этого умалишенного.
Хануман смотрел на него странно, точно видел перед собой головоломку, а не живого человека.
— Тем не менее ты за это взялся? — спросил он. — И можешь доказать это, по твоим словам?
Констанцио кивнул и попросил: — Будьте так любезны, подержите ему голову.
Хануман с кривой улыбкой исполнил требуемое, придерживая Данло за лоб и подбородок. Для этого ему понадобилась вся его сила: Данло, взбешенный своим провалом и своим беспомощным состоянием, отчаянно мотал головой из стороны в сторону. Когда Хануман наконец выиграл этот поединок, Констанцио достал из своего черного чемоданчика лазерный офтальмоскоп. Оттянув левое веко Данло, он направил луч в то место, где ярко-голубая радужка переходила в белок.
— Ищите шов. Я поставил ему искусственную роговицу. При желании ее легко можно убрать.
— Сделай это, — распорядился Хануман, еще крепче сжимая голову Данло. Констанцио впрыснул в оба глаза Данло анестезирующее средство и ввел растворитель. Через несколько мгновений он вынул роговицы, обнаружив темно-синие глаза, которыми Данло смотрел на мир с самого своего рождения.
— Это хорошо, что ты оставил свидетельство его трансформации, — сказал Хануман. — Спасибо, что сообщил мне об этом.
— Это я должен благодарить вас, лорд Хануман, — с поклоном ответил Констанцио.
— Но больше никому не говори о том, что знаешь.
— Не скажу, — пообещал Констанцио. — Даю вам слово. Осмелюсь теперь напомнить вам о вашем обещании — вы говорили, что я— могу покинуть Невернес.
— Да, верно. — Хануман смотрел в западные окна башни.
Угроза ивиомилов взорвать Звезду Невернеса давно уже наводила ужас на жителей города. Некоторые из них в своем стремлении спастись от голода и грядущего уничтожения готовы были отдать что угодно: фамильные огневиты, собственные внутренние органы и даже своих детей, лишь бы попасть на один из тяжелых кораблей, которые изредка еще стартовали с космодрома. Дня не проходило без того, чтобы Ханумана как истинного правителя города не осаждали сотни таких просителей.
— Я обещал и сдержу свое слово.
С этими словами Хануман открыл дверь, и в комнату по его знаку вошел Ярослав Бульба с другим воином-поэтом.
Повинуясь тайному сигналу. Ханумана, они стали по обе стороны от Констанцио.
— Я обещал этому человеку отправить его из Невернеса. Позаботьтесь, чтобы он сегодня же покинул город.
Коротким кивком попрощавшись с Констанцио, он проводил его и воинов-поэтов до двери, закрыл ее и вернулся к Данло.
— Он действительно великий мастер. — Хануман разглядывал лицо и фигуру Данло, и его глаза напоминали снятое голубоватое молоко, застывшее на морозе. — Но я ненавижу предателей, нарушающих свои обещания.
Данло, тщетно пытаясь пошевелить руками, спросил:
— Поэтому ты приказал убить его, да?
Хануман обошел этот вопрос молчанием, и Данло, выждав пять ударов сердца, спросил опять:
— Ему так и не удастся покинуть город, верно?
— Отчего же, — улыбнулся Хануман. — Я свое слово держу. Его тело сожгут в плазменной печи, и он покинет город в виде дыма еще до конца дня. Я отправлю его из Невернеса, как и обещал.
— Понятно.
— Я полагал, что его смерть устроит и тебя.
— Нет. Я не желал этого, и тебе это должно быть известно.
— Никогда не убивай? Никогда не причиняй вреда другому, что бы он ни сделал тебе?
— Все, что Констанцио сделал и чего не сделал, повредило только ему самому. Его… душе. Большего вреда я ему не желаю.
— Ты до чертиков благороден — я всегда это говорил.
— Что поделаешь.
— Я не знал, что у тебя был сын. Мне жаль, что его больше нет, — от всего сердца жаль, Данло.
Глаза Данло, устремленные на Ханумана, наполнились слезами. Он по-прежнему чувствовал последнее дыхание Джонатана у себя на лице и ощущал запах его горящего тела.
— Он был ребенком Тамары, да? Ее и твоим?
Данло закрыл глаза и промолчал, терзаемым памятью.
— Стало быть, Тамара все так же живет в Невернесе? — Серебряный голос Ханумана-цефика вонзался в Данло, как нож. — Думаю, она вообще не покидала город и родила этого ребенка несколько лет назад, а ты бросил ее ради этой дурацкой затеи с Экстром.
— Я не хочу говорить о Тамаре, — открыв глаза, сказал Данло. — И о моем сыне тоже.
— Как тебе угодно.
Данло, глядя в пурпурный купол над собой, скрипнул зубами от ненависти и отчаяния, сжигавших его.
— Не надо было мне обращаться к Констанцио.
— Да, вероятно. Но за предательство можешь его не винить — ты сам себя выдал.
— Как это?
— Думаешь, твой отец стал бы спасать меня от пули террориста? Заслонил бы меня своим телом?
— Я… не знаю, как поступил бы мой отец.
— Взять одно то, как ты смотрел на меня. Там, на алтаре, когда окно разбилось и стекло посыпалось вниз, был момент, когда твои глаза сказали мне все, так и знай. Твои милые, проклятые, дикие глаза.
— Мои глаза… Теперь они снова мои.
— Ну, искусственную роговицу всегда можно вернуть на место, не так ли? Если мы решим продолжать этот спектакль. Я почти уверен, что никто, кроме меня, не понял, кто ты на самом деле.
— Значит, божки по-прежнему верят, что я Мэллори Рингесс?
— Верят, Данло, верят. Потребность верить сидит в них очень глубоко — ты это знаешь.
Хануман снова встал на колени, почти коснувшись ногами груди Данло. Он пощупал Данло лоб, потрогал веки, горло, надавил на скованные параличом мускулы рук и живота.
Его пальцы, ставшие твердыми, как железо, от многолетних занятий боевыми искусствами, дрожали, как будто прикосновение к Данло причиняло ему боль. Хануман действительно ослабел за последнее время — ослабел от голода, от войны и от своих тайных мечтаний. Перемены, произошедшие в нем всего за несколько десятков дней, поражали Данло. Лицо у него побелело, как пепел осколочника, и состарилось на десять тысяч лет. Глаза время от времени вспыхивали адским огнем, который пылал у него внутри и поддерживал в нем способность двигаться, — но тут же вновь затягивались ледяной пленкой отчаяния и казались совершенно безжизненными. Движения, когда-то плавные, как ртуть, сделались отрывистыми и неуверенными, как у дряхлого старца.
Могло показаться, будто Хануман заключил некий тайный шайда-пакт со смертью: он будет жить вечно, но только при условии, что станет дышащим, говорящим, расчетливым, страшным на вид трупом. Он давно уже убил лучшую часть самого себя, чтобы сделаться сильным и бессмертным, как бог, давно уже облачился в пылающую мантию пророка. Но теперь огонь, которого он так желал (и так боялся), стал слишком горяч и ярок, чтобы его выносить. Это дикое, не знающее удержу пламя на глазах у Данло пожирало Ханумана изнутри. Ничто не могло его остановить, как нельзя остановить цепную реакцию сверхновых, разрывающую на части ядро галактики. Скоро это пламя выжжет в Ханумане остатки человечности, оставив от когда-то любимого Данло друга лишь кости, боль и страшную волю осуществить свою судьбу.
— Я знаю: божки всегда верили в то, что было желательно тебе, — сказал Данло. — Что ты сказал им обо мне теперь?
— Что ты не пострадал, но будешь находиться в безопасном месте до тех пор, пока угроза не минует окончательно.
— Понятно.
— В такие времена, как наше, всегда найдутся нигилисты, готовые убивать тех, кто выше их, — даже потенциальных богов.
— Но террорист в соборе целил в тебя, а не в меня.
— Казалось бы.
Кибершапочка на голове Ханумана заливала его лицо адским пурпурным светом.
— Я, кажется, понял, — сказал Данло. — Террорист — это один из твоих воинов-поэтов, да?
— Просто божок, натренированный Ярославом Бульбой. Сейчас его заперли в камеру, как раз напротив той, где сидел ты, — для его же сохранности, разумеется. Он признался, что является кольценосцем, и мы сообщили божкам, что Бенджамин Гур поручил ему убить меня.
— Понятно, — повторил Данло и снова попытался пошевелить руками и ногами, но не смог. — Но разве не проще было бы приказать ему убить меня?
— Проще, да, но опаснее. Убить великого Мэллори Рингесса — это громадный риск. Даже инсценированное покушение на него настроило бы всю мою церковь против меня. Это преступление я не смог бы свалить на кольценосцев и сам бы оказался под подозрением. Кроме того…
— Да?
— Трудно было бы найти такого божка, который согласился бы убить бога.
— А твои воины-поэты?
— Ярослав Бульба тоже верит, что ты Мэллори Рингесс, — улыбнулся Хануман, — и я с трудом уговорил его кольнуть тебя той иголкой.
— А во что верит твой мнимый убийца?
— В то, что помог мне дискредитировать Бенджамина Гура с его дураками-кольценосцами. Весь город видел, как этот человек в своей слепой одержимости едва не убил тебя.
Данло казалось, что в зрачок его левого глаза вогнали осколок стекла из разбитого окна. Ему ужасно хотелось потереть глаз, но он не мог шевельнуть рукой.
— Я так и думал, что ты захочешь заткнуть мне рот, — сказал он, — но не догадывался как.
— Неужели не догадывался? Ты, который всегда смотрел в корень?
— В таких делах ты всегда был умнее меня, Хану. Умнее и тоньше.
— Возможно, но твой план тоже достаточно тонок. Просто великолепен. Ты чуть было не осуществил его, несмотря на большой риск.
Одна дверь, и только одна, открывается в золотое будущее, которое я видел. Агира, Агира, почему я выбрал не ту дверь?
— Твой отец, конечно, взялся бы за дело иначе. Он был великим стратегом и тактиком — настоящим полководцем. Он, несмотря на свою прославленную смелость, никогда не явился бы в мой собор и не отдался бы на мою милость.
— Я на твою милость не рассчитывал, Хану.
— Верно. Ты хотел воспользоваться моментом и сместить меня. Твой отец отверг бы такую стратегию как недостаточно изящную, не говоря уж о ее безрассудстве. Он устроил бы себе базу где-нибудь в городе — в Пилотском Квартале, скажем, или около Огненного катка — и лишь тогда бы объявился, сплотив вокруг себя своих друзей и последователей. Крикливые кольценосцы Бенджамина Гура сразу примкнули бы к нему, и больше половины Ордена тоже. Даже инопланетяне собрались бы под его кровавое знамя. И хариджаны, и мозгопевцы, и тихисты — это движение охватывало бы улицу за улицей, захлестнуло бы весь город. У меня не было бы шансов остановить его.
Данлo, стараясь перебороть головную боль глубоким дыханием, сказал:
— Такой план я тоже обдумывал, но отказался от него по двум причинам.
— Назови мне их, пожалуйста.
— Я не хотел развязывать в городе войну. Смертей в Невернесе и без того хватает.
— А вторая причина?
— Она вытекает из первой. Увидев, что дело твое проиграно, ты бежал бы из города и продолжил войну в космосе. Твой побег меня не устраивал.
— Но нельзя же выиграть войну, не начиная ее, Данло.
— Я… хотел попробовать.
— Твоя верность ахимсе изумляет меня. Ты мог бы одержать полную победу.
— Выиграв таким образом, я проиграл бы все, что действительно имеет значение. У меня был шанс покончить с войной, не совершая больше убийств.
— Ну что ж — твой шанс обернулся против тебя, и ты проиграл. Судьба изменила тебе, Данло. Одна дверь, и только одна…
— Вот почему ты лежишь передо мной парализованный и ждешь, чтобы судьбу твою решил я.
Сердце Данло билось тяжело, отдавая в горло и голову.
— Проще всего было бы убить меня, правда?
— Да, это было бы просто, но глупо. Ведь не думаешь же ты, что это реально — парализовать твое сердце и легкие и отправить тебя из Невернеса, как этого предателя-резчика.
Данло закрыл глаза, слушая звуки вокруг и внутри себя, где, как большой красный барабан, било сердце. Он почти чувствовал, как камень под ним вибрирует от ритмичного пения десяти тысяч голосов, почти слышал рев полумиллиона человек, выкрикивающих за стенами собора его имя: “Мэллори Рингесс! Мэллори Рингесс! Мэллори ви Соли Рингесс! ”
— Они все еще ждут тебя — вернее, твоего отца, — сказал Хануман. — Они всю свою жизнь ждали его возвращения.
— И ты не можешь просто взять и прогнать их, да?
— Да. Боюсь, разгонять их теперь было бы опасно.
Данло снова закрыл глаза и почти увидел, как звуковые волны полумиллиона голосов бьют в наглухо закрытые окна башни, прогибая их внутрь.
— Да, пожалуй, — сказал он.
— Знаешь, резчик был не единственный, кто обратился ко мне, когда я велел отнести тебя сюда. Были и другие, желавшие пообщаться с тобой — вернее, с твоим отцом.
— Кто же это?
— Лорд Харша и лорд Мор — они хорошо знали твоего отца. Еще Бертрам Джаспари.
— Бертрам Джаспари? А ему-то что надо от Мэллори Рингесса?
— Кто его знает? Может, он надеется, что Рингесс даст ему свободу, а может, хочет пригрозить ему, даром что Рингесс — бог.
— Я не желаю его видеть.
— Само собой — я тоже не желаю, чтобы он видел тебя таким. Есть, однако, кое-кто, с кем ты наверняка захочешь увидеться.
— Кто?
— Фраваши по имени Старый Отец. Он постучался с восточного портала. Думаю, это тот самый Старый Отец, у которого ты учился до поступления в Академию.
— Странно, что он пришел сюда.
— Так он не знает, что в роли твоего отца выступаешь ты?
— Я не уверен. Он знал, что я ищу Констанцио, но не знал зачем.
— Хотелось бы верить, Данло.
— Теперь мне почти все равно, веришь ты или нет.
— Но этот фраваши тебе не безразличен, правда?
— О чем ты?
Шапочка на голове Ханумана ярко вспыхнула, и он сказал:
— Я приглашал его в собор, но он отговорился какой-то глупостью: он, мол, не может войти в здание, где больше одного этажа или больше пятидесяти футов вышины.
— Но это правда! Если фраваши войдет в такое здание, он может лишиться разума.
— Это всего лишь суеверие, я не сомневаюсь. Я поместил его в часовню, в одну из камер.
— Ты… посадил фравашийского Старого Отца в тюрьму?
— Только пока Ярослав Бульба не определит степень его соучастия в заговоре.
У Данло перехватило дыхание, как будто Хануман пнул его в живот.
— Хану, Хану, нельзя же пытать Старого Отца!
— Почему нельзя? Я всю вселенную подверг бы пыткам, чтобы вырвать у нее ее тайны. Она-то меня достаточно мучила.
Данло не находил слов для выражения ужаса, который сверлил его внутренности, точно ядовитый червь, и только молча смотрел на Ханумана.
— Кстати, я послал своих воинов-поэтов на поиски Тамары. Они найдут ее и тоже приведут сюда.
— Зачем, Хану? Она не имела никакого отношения к моему плану.
— Может, и так, но она ключ, отпирающий дверь.
— К-какую дверь?
— Дверь в твое сердце. К твоей проклятой воле. Ты единственное существо, которое я пытать не намерен, Данло. Если уж эккана и нож воина-поэта не вскрыли нервов твоей души, то надо поискать другие средства.
— Нет! — взревел Данло в порыве неудержимой ненависти. Вены у него на шее вздулись, голова дернулась вверх, точно стремясь оторваться от парализованного тела. — Ты уже пытал ее однажды! Ты надругался над ее памятью — довольно уже, хватит!
— Довольно никогда не бывает. — Хануман положил ладонь на лоб Данло и мягко прижал его голову обратно к ковру. — Воли нет конца — тебе ли не знать. Но Тамару я не хотел бы трогать, да этого и не понадобится, верно?
Данло, не имея возможности сопротивляться Хануману, перестал буйствовать и расслабил шейные мускулы. Но ненависть продолжала пылать в его сердце и в его глазах, и он не мог смотреть на Ханумана.
Никогда не убивай, никогда не причиняй вреда другому, даже в мыслях.
— Тамара, должно быть, испытывает страшное горе, потеряв сына, — сказал Хануман. — Она и без того настрадалась — к чему доставлять ей новые страдания?
— Нет! — снова крикнул Данло, и гнев заставил его перейти на родной язык: — Эло лос шайда! Шайда, шайда, шайда!
Он умолк. Его сердце отстучало девять раз, и Хануман тихо сказал:
— Да, причинять такие страдания — шайда, я знаю. Думаешь, я не испытывал боли, когда приказывал Ярославу загонять нож тебе под ногти? Думаешь, я не умер отчасти, когда Тамара лишилась памяти и хотела умереть? Ты говоришь “шайда”, но ты должен знать: есть немногие избранные среди миллиардов человеческих существ, которые достигают точки, где кажущееся зло не только разрешено, но и необходимо. Этого требует от них эволюция, этого требует сама судьба. Кто эти избранные, спросишь ты? Те, кого жжет желание стать больше чем людьми. Те, кто охотно вырвал бы себе глаза раскаленными щипцами, если бы мог заменить их новыми, глядящими дальше и глубже, воспринимающими более высокие частоты света. Когда-то я называл их настоящими людьми — тех, кто способен терпеть непрестанный огонь, прижизненный ад вселенной, горячку и ожог молнии. Не только терпеть, но и радоваться этому. Я сам так горю, Данло, — только ты по-настоящему знаешь, как я горел и продолжаю гореть. Я избран и поэтому принимаю то, что другие считают злом. Это моя судьба, и я ее принимаю. Я люблю ее — вот в чем правда. Такая же правда, как и твоя судьба, велевшая тебе принять ахимсу и дать своему сыну умереть.
— Ты ошибаешься. — Данло помотал головой. — Очень ошибаешься.
Мертвая белая кожа на лице Ханумана собралась складками от его страдальческой улыбки.
— Я уже послал в космос пилота, Кришмана Кадира. Он скажет лорду Сальмалину и всем остальным, что Мэллори Рингесс вернулся и обещал покончить с войной. Можно ли это сделать иначе, чем дав последнее, решающее сражение? Я дал лорду Сальмалину приказ немедленно нанести удар по флоту Содружества. Сейчас, в это самое время, сражение уже началось, и мы просто не можем не победить. Кораблей у нас больше, и каждый пилот будет знать, что в бой его ведет сам Мэллори Рингесс — если и не на своем легком корабле, то силой своего духа. Именем своего бога они разгромят Елену Чарбо, и Кристобля Смелого, и твоего жирного друга Бардо — всех, кто будет им противостоять. Звезды засияют еще ярче от сожженных ими кораблей. Мы завоюем все звездные каналы от Ультимы до Фарфары, все Цивилизованные Миры — три тысячи планет и три триллиона людей. И тогда мы сможем исполнить мечту всех, кто идет по Пути Рингесса. Красивую мечту, Данло, великолепную мечту. Вот судьба, для которой я избран.
Некоторое время Данло молча считал удары своего сердца, а потом сказал:
— Ты уже воспользовался моим возвращением, чтобы поднять боевой дух своих пилотов, правда? И Тамара больше тебе не нужна?
— Хотел бы я, чтобы это было так. Мы все-таки можем потерпеть поражение — ведь природа войны изменчива. И нам придется дать еще несколько сражений. Тогда от Мэллори Рингесса потребуется нечто большее, чем просто вернуться в Невернес, а потом исчезнуть в моем соборе. Придется тебе снова появиться перед божками, Данло. Я даже уверен, что попрошу тебя об этом. А когда мы выиграем войну, надо будет закрепить нашу победу. Три тысячи миров, знаешь ли, три триллиона человек. И еще больше, в тысячу раз больше, все миры в стороне Экстра, и в нем самом, и ближе к ядру галактики. Тебе надо будет обратиться к каждому из них, а я помогу тебе найти нужные слова. Лично или в виде голограммы, значения не имеет. Главное, что лорд Мэллори ви Соли Рингесс вернулся к людям в самый бедственный их час, дабы повести человечество навстречу его великой судьбе. Истина Первого Столпа Рингизма подтвердилась, и теперь весь род человеческий захочет осуществите обещание Третьего Столпа. Кто усомнится, видя тебя во всем твоем великолепии, духовном и телесном, что путь к божественным высотам действительно пролегает через вспоминание Старшей Эдды и верность стезе Мэллори Рингесса? А когда мой Вселенский Компьютер будет достроен, я помогу им вспомнить Старшую Эдду так полно, как они и не мечтали. Я дам им Мэллори Рингесса, за которым они пойдут хоть на смерть, — и ты окажешь мне содействие на этом благородном поприще. Такова твоя судьба, Данло. Таково золотое будущее, которое выбрал для тебя я.
Боль в левом глазу Данло стала еще нестерпимее, и он заскрипел зубами, сдерживая крик. Потом глотнул воздуха и спросил:
— Ты хочешь сделать из меня робота, использовав мой страх за Тамару вместо программы?
— Почему “сделать”, Данло? Мы все и без того роботы, не прошедшие еще очищение огнем.
— Ошибаешься. Я не робот. Я руководствуюсь собственной волей и никогда не подчинюсь твоим шайда-мечтам.
— А ты подумал, что будет с Тамарой, когда эккана раскаленным железом обожжет ее нервы? И что будет с тобой при виде ее мучений?
— Нет, нет, — зажмурившись, пробормотал Данло. — Нет, нет, нет, нет.
— Я хочу дать тебе противоядие, чтобы ты снова мог двигаться. Есть другие способы управлять человеком, получше парализующих средств.
— Нет, — повторил Данло, взглянув на Ханумана. — Я не стану произносить твои слова, как свои собственные.
— Слова… — Хануман подошел к подставке из осколочника и взял в руки один из своих экспонатов — блестящую хромовую штуковину с электронными глазами, величиной с человеческую голову. Аппарат он повернул к Данло, подставив один из семи выпуклых стеклянных глаз под огни радужных шаров. — Твои слова записаны вот здесь — все, что ты говорил в этой комнате. Другие приборы записали твое изображение, когда ты держал речь перед божками. Ты знаешь, что есть простые цефические программы, которые разложат твои слова на фонемы и составят из них любые другие на языке Цивилизованных Миров. Точно так же можно раздробить и реконструировать твое изображение. Мэллори Рингесс будет стоять перед человеческими массами и произносить мои слова с подлинно божественным пылом. Если не собственной персоной, то как сконструированная мной голограмма.
Желудок Данло обожгло кислотой, как будто он съел кусок несвежей тюленины.
— Такой же техникой пользуются подпольные анималисты, правда? — спросил он. — Те, которые воруют изображения красивых мужчин и женщин и стряпают из них свои фантазии, которые продают на улице Снов.
— Твой образ я предоставлю божкам бесплатно, — улыбнулся Хануман. — В каждом мире от Сольскена до Новой Земли.
— Выходит, ты уже получил то, что тебе нужно? Запер меня в свой компьютер, как одну из своих кукол.
Данло повернул голову, и его взгляд упал на столик с крышкой из тускло-серого стекла. Если его включить, жидкие кристаллы под стеклом изобразят чудеснейшие, притягивающие взгляд фигуры, запестреют всеми цветами от ярко-красного до мандаринового, от бледно-зеленого до фиолетового. Эти узоры, представляющие собой информацию в чистом виде, будут переливаться, вибрировать и переходить в еще более сложные формы. Когда-то Хануман пользовался этим столиком, чтобы строить такие вот плотные информационные структуры; цефики определяют их как искусственную жизнь, он же называл куклами.
— Я, конечно, предпочел бы, чтобы ты сотрудничал со мной лично, — сказал Хануман. — Не как изображение, а как живой человек — вернее, как человек, ставший богом, ты выходил бы к людям и говорил с ними. Мне вовсе не улыбается вечно держать тебя взаперти в этой комнате.
Около столика, на мраморном постаменте, поблескивала темная цефическая сфера. Составленная из кристаллических нейросхем, способных создавать информационное поле почти неограниченной плотности, она когда-то вмещала в себя целые экологии искусственной жизни. Именно ее несколько лет назад Хануман называл своим Вселенским Компьютером и пользовался ею для создания кукол — столик служил только дисплеем.
Это был первый компьютер, который Хануман запрограммировал на эволюцию чисто информационной жизни.
— Не понимаю, — сказал Данло. — Как ты можешь настолько мне доверять, чтобы позволить мне выступать перед людьми?
— Я верю, что ты будешь слушаться своего сердца, следовать тому, что считаешь истиной. Я всегда в это верил.
Данло снова повернул голову, чтобы видеть Ханумана, и повторил: — Сердца?
Видя, что Данло неудобно, Хануман взял подушку в золотой наволочке и бережно подложил ему под голову.
— У меня, как и у тебя, есть мечта, — сказал он.
— Шайда-мечта.
— Ты всегда говорил так. Как ты можешь судить, шайда моя мечта или халла, пока не увидишь цели, к которой направлены все мои действия”?
“Разве снежные яблоки растут на терновнике? — вспомнились Данло слова его деда. — Разве Древо Жизни приносит шайда-плоды? ”
— Я уже видел, — сказал он. — Видел, как твой воин-поэт срывал мне ногти своим ножом. Видел, как мой сын умирает с голоду у меня на глазах.
Хануман снова стал на колени рядом с Данло, откинул волосы с его глаз, положил руку ему на лоб. Он молчал, но страдание смягчило его льдисто-голубые глаза. Что бы там ни говорил Хануман о своей любви к судьбе, Данло знал, что многие из собственных поступков ему ненавистны. Хануман всегда обладал повышенной чувствительностью к страданиям — и к своим, и к чужим. С каждый схваченным кольценосцем, которого он приказывал пытать, на его лице прочерчивались новые морщины, как будто воин-поэт и над ним поработал своим ножом. С каждым ребенком, умирающим на руках у матери, он сам немного умирал. Звук, производимый его сердцем, превратился в сплошной протяжный вопль. Данло чувствовал это по дрожи его пальцев, слышал в громовом стуке собственного сердца.
— Хану, Хану, у вселенной нет конца, и у жизни тоже. Поэтому цели, к которой мы могли бы направлять свои действия, просто не существует. Есть действия, и есть живые существа. Живые существа совершают действия, и каждый из этих благословенных поступков должен быть халла, а не шайда, ибо каждое благословенное существо — тоже халла. Нельзя просто взять и убить человека, чтобы спасти десятерых — или десять тысяч. Такой расчет сам по себе шайда.
Хануман убрал руку с головы Данло и стал разглядывать линии у себя на ладони.
— Ты не принес бы в жертву ребенка, даже зная, что из него вырастет Игашо Хадд, который взорвет водородную бомбу и обречет на голод десять тысяч других невинных детей?
— Нет, не принес бы. — Данло закрыл глаза и увидел синие глаза Джонатана, глядящие на него из глубин памяти, — Я воспитал бы маленького Игашо Хадда и научил его халле.
— А если бы ты узнал, что помещать ивиомилам взорвать Звезду Невернеса можно только одним путем — казнив Бертрама Джаспари? Если бы ты точно это знал? Разве ты не перерезал бы ему глотку своими руками?
— Но как можно знать такие вещи?
— Предположим, ты был бы скраером и мог видеть будущее. — Данло, сын скраера, сам не раз имевший подобного рода видения, покачал головой.
— Будущего, застывшего во времени, как лед, не существует. Будущих много, понимаешь? У одного-единственного человека их десять тысяч — или десять тысяч триллионов. Каждый момент времени перетекает в другой, рождая странную и ужасную красоту будущего. Самый простой поступок может иметь последствия, которые невозможно разглядеть. Как камень, брошенный в центр океана. Рябь бежит во все стороны под звездным небом, затрагивая все и навсегда. Возможности бесконечны, Хану. Взаправду бесконечны. Вот почему никто не может видеть будущее.
— Ошибаешься. Я могу.
Данло лежал молча, глядя в льдистую голубизну глаз Ханумана.
— Я говорю не об одном из твоих диких кровавых будущих, — продолжал тот. — Я вижу будущее, каким оно должно быть.
Хануман встал и подошел к столу, где стоял прикрытый наллом образник Данло. Сняв колпак, он открыл сияющую голограмму Николоса Дару Эде. Много дней Эде ждал этого момента с безграничным терпением машины, озаряя темное пространство под колпаком своей божественной улыбкой.
— Хануман ли Тош, хозяин мой и тюремщик, — заговорил он так, будто их беседа не прерывалась вовсе, — ответ на твой вопрос заложен в компьютерной оригами. — При этом Эде точно знал, сколько времени он не получал информации из окружающей среды, поскольку добавил с широкой улыбкой: — Все пятьсот тысяч секунд, прошедших после нашего разговора, я вспоминал, как складывал вместе доли моего мозга. Все известные мне боги зависят от этого искусства.
Очевидно, Эде и Хануман не раз беседовали друг с другом, пока Данло переделывал себя в отцовского двойника.
Сейчас Эде начал с того, на чем они остановились, но внезапно увидел — вернее, электронные глаза его компьютера увидели, — распростертого на полу Данло.
— Сложность складывания возрастает согласно квадрату числа… Мэллори Рингесс! — Эде во все глаза уставился на Данло, глядящего на него с ковра. — Ты ведь Мэллори Рингесс, не так ли? Значит, пока я сидел взаперти без света, ты вернулся.
— Об оригами поговорим в другой раз, — встав между ними, заявил Хануман. — Сейчас я хочу поговорить о другом. Николос Дару Эде, повинуясь своей судьбе, стал богом, — продолжил он, обращаясь к Данло, — и вокруг этого чуда эволюции возникла величайшая из человеческих религий. Я, как тебе известно, считал его онтогенез чудом с тех пор, как мне минуло три года. Меня воспитывали в этой вере, как всех добрых Архитекторов. Но в то время как мой отец и все прочие Архитекторы Вселенской Кибернетической Церкви клеймили всех подражателей Эде как еретиков хакра, я смотрел на этих гордецов, как на героев. “Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда” — сколько в этом ереси и сколько героизма! Я всегда хотел быть героем, Данло, и не понимал, почему мои единоверцы не хотят того же. Некоторые, конечно, хотели втайне, как и я, — но не смели никому признаться в своей мечте, опасаясь суровой кары. Помнишь, я говорил, как отец грозил мне глубоким очищением, собираясь искоренить во мне гордыню и прочие негативные программы? Помнишь, я рассказывал, как очистительные компьютеры вымарывают память человека, словно цензор, замазывающий картину черными чернилами? Как же я боялся этих очищений, как ненавидел темные очистительные камеры и чтецов с их мерзкими компьютерами. Шайда-компьютерами, как сказал бы ты. Говоря по правде, я ненавидел все, что относилось к эдеизму и Вселенской Кибернетической Церкви. Это больная, упадочная религия, придуманная для ничтожеств наподобие моего отца. Почти все, что я делал после его смерти, было, думается мне, реакцией на давящую ортодоксальность моей церкви, но под этим скрывался мятежный дух ребенка, который не понимает того, что ему внушают. — Хануман с деланным сочувствием поклонился Эде. — В свое время Эде был великим человеком, но в качестве бога потерпел полный провал. Помнишь Костоса Олоруна? Став первым Верховным Архитектором Кибернетической Церкви, он мудро решил, что путем Эде следовать не стоит. Разве способен кто-то выдержать свирепую эволюционную борьбу, идущую между богами? Вместо того чтобы лезть в их общество, Олорун ограничился властью над множеством миров и создал ограничительную доктрину, которую изложил в “Контактах”. Помнишь, что там сказано? Я этого никогда не забываю: “И обратили они взоры свои к Богу, возжелав бесконечного света, но Бог, узрев их спесь, поразил их слепотой. Ибо вот древнейшее учение, и вот мудрость: нет Бога, кроме Бога; Бог един, и другого быть не может”. Только один Бог — или человек, воплощающий собой Бога, Все священнослужители вселенских религий понимали этот принцип. Только один Кристо родился от Девы. Буддисты призывали всех людей следовать к совершенству путем, состоящим из восьми стадий, но многие ли из всех этих миллиардов перешли священную реку и стали буддами? А Джин Дзенимура? Он, правда, создал свой миллиард Мудрых Господ, но только на словах. Так всегда было, так и должно быть.
Данло и Эде оба смотрели на Ханумана, ожидая, к какому он придет заключению. Хануман же, глядя на Данло, продолжал:
— Опасно это — давать волю духовной энергии человека. И глупо тоже, и бесцельно. Большинство людей — это ничтожества. Большинство из них слишком глупы или ленивы, чтобы заниматься даже самыми элементарными ментальными дисциплинами. При этом они остаются людьми, хотя и не заслуживают звания настоящего человека. Мы должны сострадать им. От нас, от элиты, зависит сделать их жизнь сносной, даже значительной, но каким образом? Они не способны стать буддами, не способны стать богами, однако могут верить в эту недостижимую мечту. Поэтому элита всех вселенских религий всегда подменяла реальный опыт Бесконечного верой в это Бесконечное. Мы все нуждаемся в Боге — но лишь в малых, тщательно отмеренных дозах. Кто способен смотреть на неопалимый куст, не будучи поглощен его пламенем? Кто способен выносить райское блаженство и адские муки каждого момента такого горения? Кто способен сиять, подобно звезде? Отсюда следует, что человечеству, за исключением немногих настоящих людей, лучше смотреть на подобное чудо через темное стекло или же слышать о нем с чьих-то слов. Поэтому я и запретил своей пастве пить каллу, поэтому я обеспечил им постижение Старшей Эдды через Вселенский Компьютер. Я сделал это потому, что люблю людей, Данло, всегда любил их и всегда буду любить.
На это Данло с мрачной улыбкой ответил: — Ты любишь людей, как тигр любит ягнят.
— Нет, — возразил Хануман. — Как пастух любит своих овец.
— Ты уже отправил на бойню миллиарды своих овец, начав эту шайда-войну.
— Это страшная цена, я знаю. Но скоро этой войне будет положен конец, как ты и обещал людям на Большом Кругу. Я покончу с войнами навсегда.
— Правда?
— Я впервые установлю истинный порядок во всех мирах человека. Порядок, мир, счастье — вот что нужно людям на самом деле.
— Но, Хану, благословенный Хану, ты…
— Я воздвигну церковь на все времена и для всех народов. Я создам вечный институт для улучшения нашего вида.
— Но шайда в этом мире и во всех остальных, Хану, шайда и страдания благословенных людей…
— Я избавлю их от страданий.
Данло поморгал воспаленными глазами.
— Ты избавишь их от свободы, больше ни от чего.
— Я дам им долгую, золотую жизнь.
— Нет. Ты отнимешь у них жизнь — подлинную жизнь. Желая спасти их, ты убьешь их духовно.
— Я хочу исправить мир.
— Но ведь мир он и есть мир — благословенный мир.
— Ты не понимаешь меня.
— Очень хорошо понимаю.
— Горе от потери сына ослепило тебя, и ты все еще не видишь — не видишь ведь?
— Не вижу чего?
— Изъяна, вопиющего изъяна. Человек порочен по природе своей, и ни одной религии не под силу это исправить. Порок гнездится во всем, он доходит до самого сердца вселенной.
— Я по-прежнему верю, что вселенная халла, а не шайда.
— Да посмотри же на себя, Данло! Посмотри на свою жизнь! Хоть миг посмотри на жизнь в этой вселенной и пойми, какова она на самом деле!
Данло смотрел на Ханумана, и печаль, как морская волна, нарастала в его глазах.
— Мне кажется, ты всегда ненавидел жизнь, — сказал он наконец.
— Может, и так. — Хануман, глядя на Данло, на самом деле смотрел в себя. Он оставался спокойным и замкнутым, как цефик, но Данло казалось, что он оплакивает прекрасное дитя, которое потерял, став взрослым. — Я действительно ненавижу то, что мне приходилось делать в этой жизни. Больше того — я ненавижу вселенную, позволявшую мне делать это.
— О, Хану, Хану, ты…
— И ты тоже, — поспешно прервал его Хануман. — Загляни в свое сердце, и ты увидишь.
Нет, нет, думал Данло. Не допускай ненависти даже в своем сердце, не допускай никогда…
— Я это вижу, — продолжал Хануман. — Глядя в твое сердце, я вижу только огонь и пепел.
Джонатан, Джонатан, ми алашария ля шанти, помолился про себя Данло. Лицо у него горело, в груди жгло. Неужели ты вправду горишь там, во мне?
— Твой сын, — прошептал Хануман. — Как, резчик сказал, его звали? Да, Джонатан. Он был красивый малыш, правда?
— Да. Очень.
— Он не должен был умирать. Не должен был мучиться.
— Но он умер. Я сжег его тело на костре из костяного дерева там, у моря.
— Будь вселенная устроена по-другому, ему бы не пришлось умирать.
— О чем ты говоришь?
Хануман, явно взволнованный, поднял глаза к куполу. Там, в вечернем небе, в тысячах миль над ними, висел тихий, как темная луна, Вселенский Компьютер.
— Я хочу, чтобы ты послушался своего сердца, — сказал он. — Хочу показать тебе цель, к которой я стремился, за которую страдал. Хочу поделиться с тобой своей мечтой.
— Но я не хочу делить ее с тобой.
— И ожившего Джонатана не хочешь увидеть?
— Нет. — Данло зажмурился, вслушиваясь в грохот своего сердца. — Теперь он только пепел. Только дыхание, летящее по ветру.
— Тем не менее он мог бы ожить. И Тамара могла бы обрести утраченную память и вернуться к тебе.
— Нет. Только не таким путем. Это невозможно.
— Алалои могли бы излечиться от заразившего их вируса. Все люди, где бы они ни жили, могли бы исцелиться, и сама вселенная стала бы здоровой, халла.
— Нет. Я не вижу…
— Это то, о чем ты всегда мечтал, Данло.
То, о чем я всегда мечтал.
Данло снова закрыл глаза. Он лежал тихо, обращенный лицом к золотисто-пурпурному куполу. Его глаза подрагивали под закрытыми веками, как будто он в самом деле спал и о чем-то грезил. Но он не спал, и темную вселенную его разума озаряли яркие вспышки. Он видел “Меч Шивы” и другие легкие корабли у горячей белой звезды, он видел их и знал, что пилоты-капитаны выбрали Бардо Главным Пилотом Содружества. Он видел, как десять тысяч тяжелых кораблей открывают окна в мультиплекс — и от каждого вторжения человека в холодный чистый кристалл пространства-времени космос озарялся светом, точно в нем рождалась звезда. Данло открыл глаза и увидел, что свет идет не только изнутри, но и снаружи. В небе над ним, около Вселенского Компьютера, мелькало множество легких кораблей, освещая ночь. Часть флота Содружества — может быть, несколько отрядов, — сражалась с рингистами за Ледопад и Звезду Невернеса.
Началось, подумал Данло. Началась последняя битва этой войны.
Он заметил, что Эде смотрит на него через комнату, и спросил: — Ты ведь знаешь, кто я на самом деле?
— Данло ви Соли Рингесс, — просиял улыбкой Эде. — Вывод, что это ты попытался занять место лорда Ханумана, выдав себя за Мэллори Рингесса, напрашивается сам собой.
— Раньше ты одобрил бы это мое намерение, — иронически улыбнувшись, ответил Данло. — Это давало тебе надежду вернуть свое тело и снова стать человеком.
— Теперь у меня появилась другая надежда.
— Понятно.
— Ты меня, пожалуйста, прости, но я ведь говорил тебе, что единственная доступная мне сила — это слова. Теперь мои слова стали нужны лорду Хануману.
— Понятно.
— У меня тоже есть мечта, — пояснил Эде.
Данло изобразил нечто похожее на кивок, оправдывая новый союз Эде, и сказал:
— Раньше ты советовал мне не доверять Хануману. Не слушать его, какой бы паутиной лжи он ни пытался меня оплести. Что ты теперь посоветуешь?
— То же самое, что и лорд Хануман: послушайся своего сердца.
— Ладно, — внезапно сказал Данло, повернув голову к Хануману, молча стоящему рядом. — Покажи мне, о чем ты мечтаешь.
В темном небе над башней замелькало еще больше огней.
Хануман ли Тош, Светоч Пути Рингесса, улыбнулся Данло, и кибершапочка на его голове вспыхнула лиловым адским пламенем. Он сделал глубокий вдох — Данло слышал это, как слышал дыхание тысяч божков за стенами собора. Казалось, что весь Невернес ждет, когда Мэллори Рингесс снова выйдет к народу. Хануман слегка наклонил голову, и вся комната вокруг него тоже озарилась лиловым светом. Пол ушел из-под Данло, и он почувствовал, что падает туда, где нет ни холодного камня, ни света, ни звука — только жуткая черная пустота новой вселенной, не имеющей ни конца, ни края.
Глава 22 ВСЕЛЕНСКИЙ КОМПЬЮТЕР
Что меня, собственно, интересует — это следующее: мог ли Бог сотворить мир другим, оставляет ли какую-то свободу требование логической простоты?
ЭйнштейнЕсли это лучший из всех возможных миров, каковы же тогда другие?
Неизвестный авторПодтвердилось то, что Данло подозревал с первой их встречи в этой комнате на вершине башни: купол частично состоял из мощных нейросхем. Он, в сущности, представлял собой огромный пурпурный с золотом кибершлем, охватывающий тех, кто в нем находился, со всех сторон. На Новом Алюмите Данло уже довелось побывать в таком помещении. Там нейросхемы в стенах зала обеспечивали ему связь с планетарной компьютерной системой, известной как Поле, — здесь он имел дело с гораздо более крупным и сильным компьютером.
Здешняя техника кодировала деятельность его мозга в виде радиоволн и подавала эти волны в космос, на Вселенский Компьютер. Кабинет Ханумана служил окном в эту дьявольскую машину с ее молниеносными информационными полями, а Компьютер, согласно написанной Хануманом программе, посылал нейросхемам кабинета обратные потоки — целые реки — информации. Таким вот образом Данло наконец оказался в созданной Хануманом вселенной. Он долго падал куда-то в кромешной тьме, навстречу мечте человека, возжелавшего стать Богом.
Никогда прежде, даже у трансценденталов Нового Алюмита, он не испытывал ощущения столь полного контакта с компьютером. Логическое поле кабинета, воздействующее на его мозг, было действительно очень мощным. Видимо, цефики Ордена намного превзошли нараинов в области кибернетики — а может быть, это парализующее средство воинов-поэтов отнимало у Данло всякое ощущение собственного тела.
Лежа на ковре, он не чувствовал ни рук, ни ног, ни спины, ни ягодиц, не чувствовал живота и наполняющего грудь дыхания. Казалось, что все ткани его тела растаяли и растеклись, как вода. Только слабое жжение позади глаз еще напоминало о том, что он человек, существующий в человеческом теле.
Но тут оптические схемы Компьютера, занимающие миллионы миль, стали подавать еще более интенсивные пучки фотонов, усиливая поле, и даже эта старая, знакомая боль почти оставила Данло. Теперь он ощущал себя совсем по-другому. Его кибернетическое “Я” здесь, в пространстве алам аль-митраль, как называют цефики свою компьютерную реальность, было соткано из миллиардов единиц чистой, сверкающей информации. Он парил, нагой и одинокий, в черной пустоте, человек и одновременно нечто совершенно иное. Его ногти сверкали, как бриллиантовые, кожа переливалась аквамариновыми, изумрудными, топазовыми, фиолетовыми искрами. Глаза, вновь вернувшие себе глубокую синеву вечернего неба, светились такой тайной и глубокой синевой, что это изумляло его самого. Данло даже помыслить не мог, что Хануман с помощью простой компьютерной программы сумеет передать самую суть его глаз. Он не мог помыслить, что Хануман (или любой другой цефик) способен так крепко запереть его в кибернетическом пространстве, и его терзал страх потерять свое истинное “Я”.
Я — не я. Я — это киноварь и блестящая медь, прошитая бело-голубыми лучами. Я — свет за пределами света. Я свет я свет я свет…
Данло показалось странным, что он видит собственные глаза. Каждый, кто входит в виртуальную реальность, обычно воспроизводится там в символическом, но более или менее человеческом виде. В пятой степени воспроизведения специальная программа генерирует изображение, почти в точности соответствующее облику реального человека, контактирующего с компьютером. Это изображение перемещается в кибернетическом пространстве, воспринимая его почти так же, как человек, гуляющий по полю огнецветов. При этом его восприятие, как и у человека в реальном мире, направлено вовне, наружу, на объекты генерируемой компьютером реальности.
Данло, находясь в этом странном пространстве под названием “алам аль-митраль”, никак не должен был видеть собственного лица. Он воспринимал себя в виде разноцветного изображения, поскольку мог видеть свою руку или другие части тела с такой же легкостью, как их видит ребенок, но странность заключалась в том, что он видел себя в разных ракурсах одновременно — видел босые подошвы своих ног и угольно-черные с рыжиной волосы, падающие ему на спину. Его восприятие, а может быть, и само его сознание охватывало пространство под всеми возможными углами зрения. Возможно, Хануман специально позаботился о том, чтобы Данло воспринимал его реальность так же, как и он сам, — возможно, таково было свойство самой Ханумановой реальности. Если Хануман действительно изображает Бога в своей личной вселенной, он, вероятно, и видеть ее желает так, как подобает божеству.
Вот он, мой мир, Данло. Спасибо, что согласился посетить его вместе со мной.
Голос Ханумана прозвучал в черноте вокруг Данло — ниоткуда и отовсюду сразу. Он разносился на миллион миль во все стороны, и его невидимые волны бились о светящееся изображение Данло. Он, как ветер, шептал в мозгу Данло — в его вполне реальном человеческом мозгу, который еще, должно быть, существовал на вершине башни, в бесконечно далеком реальном мире.
— Я не вижу тебя, — сказал Данло, ощущая себя как светящуюся фигуру, говорящую в полной темноте. Он не знал, в какую сторону обращать свои слова, поэтому просто раскрыл свои золотые губы и спросил: — Почему бы и тебе не воспроизвестись визуально, чтобы я мог тебя видеть? Я предпочитаю эту степень воспроизведения.
— Это седьмая степень, да?
В шестой, трансцендентальной степени компьютер создает трансцендентальное существо, способное являться в разных местах почти одновременно. Оно часто представляется как световой блик или пучок тахионных лучей, переходящих из одной точки пространства в другую почти мгновенно. В седьмой степени какого-либо “Я”, отдельного от самого виртуального пространства, не существует вообще, и это делает изображение, способное перемещаться в компьютерном поле, излишним. В степени кибернетического преображения (или катехиса, как называется эта финальная, седьмая степень у цефиков) личность сама превращается в поле, генерируемое компьютерной программой. Можно сказать, что она становится самой этой программой, и это, как говорят кибершаманы, есть конечная стадия расширения человеческого сознания.
— Но ведь в этой степени нельзя оставаться долго — ведь это очень опасно, Хану?
Седьмая степень воспроизведения в самом деле невероятно опасна и потому запрещена во всем Ордене, даже для цефиков — особенно для тех компьютерных адептов из числа цефиков, которые называют себя кибершаманами.
Конечно, опасно. И запрещено почти для всех, как тому и следует быть.
Данло, лежащий на ковре, покачал головой, опечаленный неприкрытой гордыней Ханумана, и его изображение в алам аль-митрале тоже покачало головой. Он знал, как много цефиков навсегда пропали таким образом в своих компьютерах.
— Я вижу себя со стороны, — сказал он. — Свое лицо, свои глаза. Ты специально запрограммировал все так, чтобы и я мог приобщиться к седьмой степени?
— Конечно. И эта программа очень сложна, могу тебя заверить.
— Я не хочу превращаться в компьютерную программу, пусть даже бесконечно сложную.
— Чего же ты тогда хочешь?
— Посмотреть, что ты создал, и вернуться к своему подлинному “Я”.
— Ну что ж — смотри!
Тьма вокруг Данло мгновенно наполнилась светом. Он вырвался из раскаленной добела сферы со скоростью, намного превышающей скорость настоящего света, и был так ярок, что Данло невольно заслонился от него рукой. В следующий момент все пространство вокруг него осветилось, и он обнаружил, что может видеть почти бесконечно далеко во все концы вселенной.
— Бог мой! — воскликнул он, увидев в пространстве, которое теперь само стало светом, множество землеподобных миров — миллионов десять, а то и больше. Они плавали в окружающей пустоте, как — идеально круглые жемчужины в солнечном море. В том, как Данло воспринимал эти порожденные компьютером миры, было нечто странное: он видел самые дальние из них с такой же четкостью, как и близкие.
Он видел даже очертания континентов каждого мира — одновременно и под различными углами зрения. Мощность такого зрения почти граничила со слепотой; Данло тошнило, и голова у него кружилась. Но вскоре он приспособился к своему всевидению и начал изучать созданные Хануманом миры.
Все они были одинаковы, эти прекрасные бело-голубые сферы с глубокими океанами и мягкими покрывалами облаков, все представляли собой почти точную копию Старой Земли.
Даже Твердь не обладала таким созидательным импульсом.
Даже Эде в пору своего расцвета, одержимый загадочным стремлением создавать новые миры и новые человеческие расы, не мог и мечтать о стольких Землях.
— Сколько же их? — спросил Данло голосом, напоминающим звук золотого гонга, и Хануман почти немедленно ответил ему: Ровно 25490056343. И в каждую секунду компьютерного времени создаются новые.
— Но зачем тебе так много? И почему Земли, Хану? Почему они все одинаковы?
— Потому что такова моя воля — творить жизнь во всей ее полноте. В каждом мире, во всей вселенной — во всей полноте, какой она должна быть.
— И какой же, по-твоему, должна быть эта жизнь, Хану?
— Показать тебе?
— Да, если хочешь.
В следующий миг Данло со скоростью света уже мчался к одному из миров. Из космоса, который не был настоящим космосом, он вошел в атмосферу, состоящую из чистой информации, а не из воздуха. Но ощущал он ее как реальный воздух — она обжигала его нагое тело холодом, как сарсара, бушующая в Невернесе на грани глубокой зимы и средизимней весны. Почти как сарсара. Щеки и нос пощипывало очень похоже, но настоящего холода, пробирающего человека до костей тысячами стальных игл, Данло не чувствовал.
Вот одно из ограничений компьютерной симуляции, подумал он. Холод — это ноющие зубы, стынущая кровь, онемевшие щеки и пальцы; недостаточно просто задействовать в мозгу кучку нейронов, регистрирующих эти ощущения. Сознание холода — и само сознание — заложено во всех четырех триллионах клеток организма и еще глубже, в цепях белков и липидов, из которых строится живая материя. Каждый атом водорода в молекуле воды по-своему чувствует потерю энергии: когда человеку холодно, он начинает вибрировать медленнее и сам холодеет. Нельзя имитировать чувство холода полностью, воздействуя нейросхемами на один только мозг.
На самом-то деле мне совсем не холодно, подумал Данло — но тут у него застучали зубы, и уверенности поубавилось. Откуда, собственно, взялось это чувство постукивания эмали об эмаль? Создается ли оно его реальным телом, лежащим на ковре в башне, — или это только часть программы, приближающей его изображение к одной из Земель Ханумана? Данло, снизившись, вошел в более теплые слои атмосферы, и дрожь внезапно прошла. Мягкий бриз тропического океана овеял его почти невесомое тело, но солнечного зноя Данло почему-то не ощутил — и не нашел на синем небе никакого светила, хоти оглядел его от горизонта до горизонта.
— Не ищи солнце, Данло. Его здесь нет.
— Но как же… — Данло стремительно летел к широкому белому берегу, и ветер уносил прочь его слова. — Как же так можно — без солнца?
— В этой вселенной вообще нет звезд, ибо свет исходит отовсюду.
— Нет звезд? — уставившись в небеса, поразился Данло.
В небесах звезд и правда не было, но не было там и тьмы — Хануман не потерпел бы отсутствия света. В следующий миг Данло со скоростью пикирующего ястреба опустился на песок, который блестел при свете, идущем ниоткуда — Данло, во всяком случае, никакого источника не видел.
— Здесь… очень красиво, — сказал он, и его слова повисли, как жемчуг, в теплом влажном воздухе. Бирюзовые волны лизали берег, и чайки кричали, радуясь блаженству полета.
Пейзаж действительно был очень красив, но скорее как картинка, чем как настоящий морской берег. Компьютерной программе, нарисовавшей его, недоставало многого. От прибоя шел лишь весьма условный запах водорослей и соли — в нем отсутствовал пьянящий настой жизни и умирания, волновавший Данло с тех пор, как он ребенком впервые увидел и ощутил море. Пляж, при всей своей девственной чистоте, тоже не был совершенным. Песок дюнами и складками простирался в обе стороны, совсем как настоящий, но, глядя себе под ноги, Данло не видел песчинок, из которых состоит реальный пляж.
— Тебе кажется, что этот песок не совсем реален, как и вся материя этого мира. Но он реален. Он настолько реален, насколько ты этого хочешь.
Данло ощутил, как неприятно ему пользоваться тем же компьютером, что и Хануман, и делить с Хануманом одно мыслепространство. Но тут, взглянув на песок снова, он увидел, что белая гладь сменилась миллиардами отдельных песчинок. Он видел каждую песчинку во всем ее сверкающем совершенстве, как будто вместо глаз ему вставили микроскопы. Они были как одинаково ограненные алмазики, как огромная сокровищница, которую насыпал для него компьютер Ханумана.
И все-таки это нереально, подумал Данло. Какой бы мощной ни была программа, компьютер бессилен сделать песок реальным.
Зачерпнув горсть, он поднес ее к глазам, и сплошная белизна уступила вдруг крупинкам полевого шпата, и морских ракушек, и черного как ночь базальта, и светлого кварца.
— Я знаю, Данло, симуляция несовершенна. Но она может стать настолько совершенной, насколько человек пожелает. И станет, когда Вселенский Компьютер будет достроен.
Данло пропустил теплый, мелкий, нереальный песок между пальцами, глядя на пенистые валы за отмелью и темно-зеленые прибрежные джунгли. Созданному Хануманом миру не хватало деталей, особенно в прорисовке деревьев и отдаленных ландшафтов. Программа способна была вносить коррективы в эту туманную аморфность, добавляя детали и усиливая четкость согласно фокусу внимания Данло, но воспроизвести в совершенстве целый мир она не могла. Для достижения такого чуда потребовался бы компьютер величиной с этот мир.
Так же обстояло дело и со всеми прочими Землями, расположенными вокруг этой: один эсхатолог как-то сказал Данло, что простейшая и в то же время полная модель вселенной — это сама вселенная.
Сама вселенная — вся вселенная. Вселенная может быть только одна.
Над изумрудной листвой джунглей на востоке вставал высокий холм, и на нем в вездесущем свете этого мира поблескивали беленые и мраморные дома. Хануман — или кто-то другой — выстроил этот город так, чтобы из него открывался широкий вид на океан.
— Не хочешь ли пройтись через лес до города? С берега туда ведет тропа.
Данло окинул взглядом стену джунглей и действительно увидел в ней просвет со змеящейся вдаль тропой. Он перевалил через дюны и вошел в лес. Под густым лиственным сводом он ожидал встретить сумрак, но не тут-то было — деревья и обвивающий их жасмин светились не хуже, чем камни и ракушки на берегу.
Странные джунгли, подумал Данло. Тропинка, идущая в гору, была вымощена глыбами белого мрамора, что делало подъем очень легким. Лианы не свисали с ветвей, и подлесок не мешал ходьбе. За короткое время Данло отмахал несколько миль, встречая на пути самую разнообразную растительность. Над ним высились стволы черного и железного дерева, и сикоморы, и кедры, и красное дерево, и тамаринд — видимо, Хануман перенес в этот зачарованный лес деревья из всех климатических поясов Старой Земли. Деревья и кустарники: здесь росли падуб, черника, индиго, горная сирень и другие виды, которые Данло затруднялся назвать.
Кое-какая флора происходила, видимо, с других планет — или из Хануманова компьютера. Почти вся эта буйная растительность либо цвела, либо плодоносила. Ветви сгибались под тяжестью пеканов, миндаля, папайи, гуавы, манго, лимонов и прочих разновидностей плодов, орехов и ягод. Данло никогда еще не наблюдал такого изобилия в природе; это были не джунгли, а какая-то кладовая, битком набитая вкусными вещами.
Здесь хватило бы еды, чтобы прокормить целый город — нет, десять тысяч городов.
А уж цветов в этом лесу хватило бы, наверно, на десять миллионов ваз. Лиственные завесы пестрели яркими мазками африканских фиалок и орхидей. Кроме них, здесь цвели розы, анютины глазки, жимолость и львиный зев. Мириады пчел и бабочек порхали с цветка на цветок, высасывая нектар, — весь лес вибрировал от их жужжания и трепета их крылышек.
Шагая дальше, Данло стал слышать и другие звуки: высоко на деревьях переговаривались обезьяны, кричали ара, какаду и другие птицы с ярким оперением. На каждом дереве обитало свое семейство белок, которые почему-то совсем не боялись змей, обвившихся вокруг веток. А между тем их стоило бы опасаться — Данло знал, что многие из этих змей, например, гадюки и аспиды, ядовиты. Но в этих джунглях, как видно, не было места страху. Даже если бы светящемуся телу Данло могло что-то грозить, он чувствовал, что никакая здешняя живность, даже кобры и огненные муравьи, не причинит ему вреда. Когда же он, следуя изгибам тропы, поднялся повыше на покрытый зеленью холм, ему предстало поистине удивительное зрелище. Под кустом сирени затаился, явно поджидая его, большой рыжий в черную полоску тигр. Однако, подойдя ближе, Данло увидел, что тигр не его караулит, а поедает то, что лежит y него между лапами.
— Агира, Агира, — прошептал Данло, — не может этого быть! Тигр ел не буйвола и не антилопу, как следовало ожидать, он терзал огромную гроздь бананов. В его добычу входили также гранаты и яблоки, и он лакомился всем этим с явным удовольствием, точно обезьяна.
— Я научил всех хищников этого мира питаться фруктами, Данло. Научил муравьев есть банановую кожуру и семечки, а москитов пить нектар вместо крови.
Тропа подвела Данло совсем близко к тигру, но тот не обратил на него никакого внимания. Тигр облизывал зажатый в лапах банан, мурлыча, как домашняя кошка, и выглядел ласковым и ручным, как собака.
Он живой, как и вся фауна этого леса, подумал Данло, но от анимаджии в нем и следа не осталось. У этого дикого зверя отняли всю его дикость. Этот тигр-вегетарианец, собственно говоря, утратил всю свою тигриную суть. Неужели Хануман этого не понимает?
Видел ли он когда-нибудь, как снежный тигр подкрадывается к шегшею, видел ли таинственный огонь в его диких золотых глазах?
Нет, не видел — ведь он всегда отворачивался от того единственного, что желал увидеть по-настоящему.
Прошагав около часу, Данло вышел из джунглей и оказался на широком лугу, ведущем наверх, к городу. Он уже хорошо видел городскую стену, обводящую вершину холма, и главные западные ворота. Зачем этому городу стена? И почему здешние люди живут в домах — ведь они могли бы поселиться в джунглях, не боясь ни темноты, ни москитов, ни тигров.
— Стена напоминает моим людям, что они должны отделять себя от мира, который я для них создал. И жить в домах — иначе они перестанут быть людьми.
Дойдя до ворот, чьи широкие деревянные створки стояли распахнутыми, Данло оглянулся на лес и берег внизу. Пушистые белые облака образовали над океаном правильный, почти геометрический узор, а над деревьями взмыла, сверкая красно-желто-синими перьями, стайка попугаев. Уж не для него ли персонально предназначалось это великолепное зрелище? Когда-то, будучи молодым цефиком, Хануман проектировал правила взаимодействия единиц информации, а потом наблюдал, как из его искусственных атомов складывается искусственная жизнь. Свои информационные структуры он называл куклами и гордился тем, что они эволюционируют и живут исключительно по правилам, которые он запрограммировал для них с самого начала. Любое последующее вмешательство в созданную и оживленную им вселенную он счел бы неизящным. Но с тех пор прошло немало времени, и требование логической простоты отступило, как видно, перед другими целями.
Но самой глубокой его цели Данло пока еще не мог понять.
Данло прошел в ворота, и никто его не остановил. У ворот вообще не было никакой стражи — кого или чего было остерегаться жителям этого города? Широкий, обсаженный деревьями бульвар вел прямо к центру. По обе стороны улицы стояли облицованные белым мрамором дома, по дорожкам и лужайкам сновали люди. К удивлению Данло, они совершенно не обращали на него внимания и не замечали его наготы. Шли они целеустремленно, как будто на праздник или какое-то собрание. Все эти мужчины и женщины (детей Данло не видел) относились к одному расовому типу, точно их сделали из одного набора хромосом. Их кожа имела густой золотистый оттенок цветочного меда, волосы были прямыми и черными, как у Данло, мягкие и в то же время яркие глаза сверкали, как агат. Красивые лица, пухлые чувственные губы, стройные гибкие тела — эти люди являли собой идеал человеческого совершенства. Они сами могли бы ходить по улицам нагими, ничего не стыдясь, — однако и мужчины, и женщины носили белые шелковые брюки и широкие блузы, подпоясанные пурпурными шелковыми кушаками. На многих были украшения: золотые кольца, серебряные обручи, браслеты-змейки из кованой меди. Они производили впечатление варварского и в то же время ультрацивилизованного народа — примитивные в отношении культуры, но почти боги по манере держаться и осознанию своей жизненной цели.
В этом городе ни червячников, ни аутистов нет, подумал Данло. И убийц тоже нет, и сумасшедших.
Одни люди выходили из длинных прямоугольных строений, которые могли быть банями, другие — из высоких зданий со сверкающими гранитными стенами, возможно, церквей и соборов. Они заполняли бульвар и увлекали Данло куда-то к центру города. Может быть, сейчас у них обеденное время?
Однако ресторанов Данло нигде не видел, люди, сидящие на скамейках под деревьями, ничего не ели, и ничьи красивые лица не выказывали признаков голода.
Наверно, они просто выходят за ворота и собирают в джунглях все, что хотят, подумал Данло, — ведь там столько съедобного.
— Нет-нет, ты ошибаешься. То, что растет в джунглях, предназначено только для животных. Мои люди выше того, чтобы питаться мясом, орехами или фруктами. В жизни они занимаются другими вещами, не тратя времени на еду.
Данло вспомнил, что Хануман всегда смотрел на еду как на одну из неприятных житейских необходимостей. Его никогда особенно не радовали дымящиеся миски с курмашом и другие невернесские деликатесы. Теперь он, стало быть, сотворил таких людей, которым незачем пачкать свои золотые уста жиром или производить малоприятные процедуры, освобождаясь от остатков пиши.
— Они питаются воздухом, так-то вот. Лесные плоды разлагаются на питательные вещества, которые разносятся ветром. Когда люди дышат, они получают через легкие все необходимое.
Данло захотел узнать побольше об экологии этой искусственной жизни, и Хануман объяснил, что помет животных тоже разлагается на питательные вещества, которые служат удобрением для лесов. Деревья получают питание из почвы, а взамен производят плоды для животных.
— А когда животные умирают, их тела тоже распадаются на питательные элементы? — спросил Данло.
— Они не умирают. На моих планетах не умирает ничто — ни деревья, ни цветы, ни травы.
Данло, остановившись под деревом, изумленно перевел дух и спросил:
— Если здесь ничто не умирает, откуда же берется место для новой жизни?
— Так ведь здесь ничто и не рождается. Почти ничто. Необходимость в рождениях почти отпала, поскольку жизнь в этой вселенной скоро достигнет наивысшей, самой совершенной стадии эволюции.
Людская река вокруг Данло струилась к какой-то обширной площади. Теперь он понял, почему в городе нет детей. Он вспомнил, что детей Хануман всегда сторонился: они напоминали ему о каком-то трагическом событии в его жизни.
— Ты сказал “почти ничто не рождается” и еще “жизнь скоро достигнет своей наивысшей стадий”. Как так, Хану?
— Не стану тебя мистифицировать. Ступай на площадь следом за ними.
Данло послушался и влился в толпу, снова отметив, что для этих людей он невидим. Больше того: один из мужчин второпях столкнулся с ним, и его рука прошла сквозь светящееся плечо Данло, как рука самого Данло могла бы пройти сквозь солнечный луч. Хануман дал ему понять, что он как особо созданное существо состоит из иной субстанции, чем жители этого мира.
— Я как ангел, посланный Богом наблюдать за этими людьми.
Скоро он дошел до большой площади, заполненной до краев горожанами в белых брюках и рубашках. Одна молодая женщина (в этом невероятном городе все оставались вечно молодыми) взошла на белый мраморный помост в самом центре площади. При каждом ее шаге толпа издавала мощный ликующий крик. Вознесшись над головами своих сограждан, женщина преклонила колени и склонила голову, точно в молитве. Все, кто был на площади, последовали ее примеру, вознося моление создавшему их Богу.
Это они Хануману молятся, подумал Данло. Они не знают, как его зовут, но молятся ему.
Волны любви начали пронизывать его одна за другой, как согретый солнцем мед. Эта любовь была такой интенсивной, что он едва держался на ногах, и ее сладость пропитывала его насквозь; ему тоже захотелось вдруг упасть на колени и помолиться. Он понял, что, разделяя одно мыслепространство с Хануманом, делит с ним также часть его ощущений и эмоций. В этот момент, когда Вселенский Компьютер ткал кибернетическую мечту своего создателя из единиц информации и световых импульсов, центры удовольствия в мозгу Ханумана согревал золотой огонь. В этот момент все жители города поклонялись ему (а с ними триллионы других людей в миллиардах других городов на всех Землях этой вселенной).
Шок этой невероятной любви пронизывал Ханумана, как разряд молнии.
Данло разделял с ним лишь малую долю этого кибернетического самадхи — но и ее было довольно, чтобы довести его до слабости в коленях, до утраты речи и пустоты в глазах.
Теперь он отчасти понял, почему Хануман так зависит от своего компьютера. От холода внешнего мира, от ледяных шпилей Невернеса Хануман спасался в своей личной вселенной.
Теперь до конца его дней эта потребность в компьютерном блаженстве будет усиливаться ежесекундно, разрастаясь почти до бесконечности.
— Ты ошибаешься, Данло: мои люди знают имя своего Бога. Прислушайся к их молитве.
Данло прислушался и услышал, как тысячи голосов на площади выпевают:
— Хануман, Господь Хануман, Владыка Огня и Света — ты Свет Мира, а мы дети Света.
В разгар этих песнопений, повторявшихся снова и снова, один из мужчин близ мраморного алтаря поднялся с колен.
Данло догадался, что оранжевый кушак у него на поясе — знак священнослужителя; многие другие люди у алтаря тоже носили такие пояса. Тот, что встал, воздел руки к небесам и произнес ритуальные слова:
— Господь Хануман, одна из твоих дочерей готова вернуться к тебе. Ее имя Итуга Чистая, и мы сочли ее достойной Света.
За этим последовал длинный обряд, когда многие из присутствующих на площади вставали и восхваляли доброту Итуги, ее отзывчивость, ее мудрость и прочие добродетели. Затем один из священников заверил, что Итуга прошла все девять стадий пути к просвещению. Ей оставалось лишь самой объявить о своем желании воссоединиться с Хануманом и попросить его избавить ее от плотской оболочки. Так она и сделала.
— Хануман, Господь Хануман, Владыка Огня и Света, прими меня в свои пылающие объятия и слизни плоть моего тела своим огненным языком! — Итуга стояла на коленях, прижав руки к сердцу, воздев глаза к синему, покрытому облаками небу. — Дай мне ощутить твой огонь внутри, дай мне сгореть и вернуться к тебе в виде света.
Завершив обряд, Итуга склонила голову и стала ждать.
Люди на площади тоже ждали, и тишина окутывала их, словно воздух впитал в себя все звуки. Данло, стоя на коленях на краю площади, тоже ждал, и смотрел на небо, и пытался считать удары своего сердца — но в его светящемся теле сердце не билось. Затем земля под ним содрогнулась, неодолимая сила ударила ему в грудь, и над площадью прокатился могучий голос:
— Итуга, дитя мое, я нахожу тебя достойной Света и беру тебя к себе.
Это был голос Ханумана, усиленный и углубленный тысячекратно. Теперь его явно слышал не только Данло, но и все, кто был на площади. Люди прикрыли руками глаза, а небеса в тот же миг разверзлись, и сноп света устремился оттуда прямо к алтарю. Золотой свет упал на Итугу, обвив ее тело языками огня. Огонь, мигом поглотив шелковую одежду, стал пожирать плоть, и женщина начала извиваться — не в муках, но в экстазе. Она издала протяжный, радостный, мелодичный крик, и толпа на площади подхватила его.
Все ее тело теперь светилось, как нагретая медь. Свет разгорался все ярче, и плоть начала сползать с костей Итуги, как огненная пряжа. Каждая нить распадалась на. миллионы разноцветных частиц, которые кружились около алтаря, — а затем каждая из них, как крошечная звезда, вспыхивала ярким белым светом. Казалось, что каждый атом Итуги вмещает почти бесконечное количество света. Свет ее чудесного сгорания наполнял всю площадь и уходил за ее пределы, освещая весь город, весь мир. Еще немного — и божественный свет сгустился в сверкающий поток, идущий с алтаря в небо и дальше, в глубины вселенной. Свет сиял долго, а затем ушел ввысь — и с ним ушла Итуга Чистая. Алтарь белел, как морской голыш, и от Итуги на нем не осталось ничего — ни ее золотых сережек, ни пепла.
— Дочь моя вернулась ко мне в лунах Света. Пусть наполняет этот свет ваши дни, пока и вы не вернетесь ко мне, как она.
Данло, наполненный светом, наблюдал за этим трансцендентальным событием, но тут с ним произошло нечто странное. Он вернулся в реальную вселенную, где пылали звезды и сражались не на жизнь, а на смерть легкие корабли. Бардо на “Мече Шивы” мелькал между мультиплексом и реальным пространством, преследуя рингистов. Данло оказался в самой гуще боя, но затем программа Вселенского Компьютера почувствовала, что ее симуляция недостаточно сильна, и невероятно мощное логическое поле сомкнулось вокруг сознания Данло, возвращая его в нереальный город нереальной планеты.
— Нет иной реальности, кроме этой, Данло. Пожалуйста, останься со мной.
И Данло снова увидел себя на площади, где толпы народа кричали, обратив лица к небу:
— Хануман, Господь Хануман, Владыка Огня и Света — ты Свет Мира, а мы дети Света!
Обряд завершился, но люди не расходились. Данло не знал, как часто они отдают кого-то из своих в огненный зев Ханумана. Они, видимо, не имели ни малейшего понятия о том, что в небесах вокруг Вселенского Компьютера идет реальная битва, грозящая уничтожить всю их вселенную. Они тихо смеялись и говорили о чуде, которое только что видели, с верой и надеждой. Они говорили о чистоте Итуги и вспоминали, как желала она избавиться от уз человеческой плоти; говорили о собственном желании когда-нибудь соединиться с Итугой в Свете и о других вещах, дорогих их сердцу.
Данло, слушая обрывки их разговоров, находил, что они выражают свои мысли почти одинаково. Каждая беседа, взятая отдельно, почти ничем не отличалась от другой. Они повторяли свои запрограммированные диалоги, как попугаи.
Наконец они поздравили друг друга с тем, что присутствовали еще при одном преображении, и стали расходиться, поскольку близился час омовений и песен.
— Теперь ты понимаешь, откуда исходит свет в этой вселенной.
Данло, все еще стоявший на коленях, поднялся и посмотрел на тех, кто еще не ушел с площади. Никто из них явно не слышал убавленного голоса Ханумана, и Данло по-прежнему никто не видел.
— Значит, это тот самый свет, который сияет повсюду, давая жизнь цветам и деревьям? — улыбнулся он.
— Свет всегда свет, Данло.
— Ты создал интересную экологию. Но если в этом мире никто не рождается, как же поддерживается численность населения?
— Я сказал “почти не рождается”. Преображение одного из моих детей — событие столь же редкое, как и рождение.
— Понятно.
— Если хочешь посмотреть, как рождается новое дитя, ступай на восточный луг, что за городом.
Данло действительно хотелось посмотреть, как рождается новая жизнь в этом мире, пусть даже и мир, и сама жизнь были искусственными, как джиладский жемчуг. И он пошел по бульвару к восточным воротам, минуя молитвенные дома и музыкальные павильоны, откуда доносились звуки возвышенных песнопений. У ворот, как и при входе Данло в город, не было никакой стражи, на лугу тоже никого не было. Данло прошел по высокой траве до самой опушки леса, где стояли увешанные плодами деревья манго.
— Это здесь? — спросил он, шагая по краю леса и не находя ни одного человека. Он сам не знал, что искать — может быть, пестрое одеяло, на котором будет лежать роженица, но не видел ничего похожего. Только ара и обезьяны верещали на деревьях, скрашивая его одиночество. — Но тут никого нет.
— А ты разве не в счет?
Данло бросил взгляд на свое светящееся тело и стал смотреть на городские ворота — не выйдет ли оттуда женщина, посланная к нему Хануманом. Хануман, вероятно, хочет, чтобы он лег с ней прямо здесь, на этой мягкой зеленой траве. Компьютерная программа, ускоряющая время, может устроить все так, что эта женщина, забеременев, родит тут же, у него на глазах.
— Ничего не понимаю, — сказал он наконец.
— Отец ребенка, разумеется, ты — ты же по-своему и мать.
— Не понимаю и, пожалуй, не хочу понимать.
— Ты носишь это дитя в себе, Данло. Зовут его Джонатан. Ты носишь его в своей памяти, ты же и родишь его на свет.
Когда-то, на девственной и прекрасной Земле в глубине Экстра Твердь заглянула в память Данло и создала из его воспоминаний Тамару. Очень реальную Тамару. Она состояла из тех же атомов углерода, кислорода, водорода и азота, что и сам Данло; она была красивой женщиной с мягкими карими глазами и нежными руками, она шептала ему на ухо свои сокровенные мечты. Он мог бы почти вечно жить на той далекой Земле с той Тамарой, но все-таки оставил ее, потому что она не была настоящей Тамарой, его любимой, которая в ту пору ходила беременная по улицам Невернеса.
Если Твердь, при всей Ее божественной власти, сумела создать лишь несовершенную копию Тамары, как могли Хануман и его компьютер соорудить хоть сколько-нибудь точную модель Джонатана? Между тем Хануман, казалось, был уверен в своей способности создать похожую на Джонатана куклу. Данло с самого начала боялся, что Хануман задумал именно это, но полагал, что сможет с легкостью отвернуться от всякой шайда-имитации своего сына. Теперь, когда момент настал, он утратил свою уверенность и чувствовал, что воли в нем осталось не больше, чем в одной из Ханумановых кукол. Он был измучен, одурманен, побежден и горевал по Джонатану не меньше прежнего. Ему было уже все равно, жив он сам или умер. Ему хотелось испытать истинную силу Хануманова компьютера (и обнять Джонатана, и заглянуть в его темные дикие глаза). Он согласился на предложение Ханумана.
— Джонатан, Джонатан, ми алашария ля шанти, — прошептал Данло. — Спи с миром — и прости меня за то, что моя мечта вновь возвращает тебя в жизнь.
Следуя инструкциям Ханумана, он стал представлять себе Джонатана со всей возможной полнотой. Данло, обладавший почти идеальной эйдетической памятью, мог вообразить даже пушок на щеках у сына, и эта задача не составила для него труда. Образ Джонатана возник у него в уме мгновенно, яркий и чистый, как алмаз-синезвездник. (В том вполне реальном мозгу внутри его черепа, который вместе с остальным телом покоился на ковре в кабинете Ханумана под битвой, бушующей в небе Невернеса.) Данло оценивал этот сияющий образ не только умом, но и глазами, а купол Хануманова кабинета считывал шторм серотонина и прочих нейротрансмиттеров в его мозгу и переводил эти электрохимические сигналы в чистую информацию. Эту информацию купол передавал на Вселенский Компьютер, и тот, как робот-живописец, добавляющий яркий мазок на почти законченный холст, вносил легкие поправки в свою программу. И вот на Земле, сотворенной Хануманом из одной лишь информации, на зеленом лугу под искусственным синим небом, родился заново Джонатан ви Ашторет ви Соли Рингесс.
— Джонатан, Джонатан, — прошептал Данло.
Сын явился в трех футах перед ним способом, противоположным преображению Итуги Чистой. В воздухе вспыхнул яркий белый свет, словно легкий корабль Данло открыл окно в мультиплекс. Свет этот пролился на луг и начал дробиться на крутящиеся разноцветные фрагменты. Каждый фрагментик располагался согласно создающей Джонатана программе.
Универсальный Компьютер ткал из блестящих частиц информации его волосы и лицо, ваял тонкие ручонки, грудь, живот и ноги. Данло представил себе Джонатана таким, каким он был до болезни, поэтому ступни у мальчика были на месте, и они были такого же теплого оттенка слоновой кости, как и вся его кожа. Мальчик весь был здоров и крепок — Данло даже мечтать не мог о таком совершенстве.
— Джонатан, Джонатан.
Джонатан открыл яркие синие глаза и сказал:
— На тебе твое новое лицо, папа, только теперь оно все золотое и серебряное.
— Так ты… меня видишь?
— Конечно, вижу. — Мальчик был одет в шелковую рубашку и брючки, как все жители этого города. — А почему ты спрашиваешь?
— Потому что другие люди не могли меня видеть.
— Почему не могли?
— Это… трудно объяснить. — Данло и сам не понимал, почему Джонатан видит его, а другие куклы не видели. — Может быть, потому, что я воспроизведен в этом мире не полностью.
— А что это значит?
— Это значит, что я — не совсем я.
— Кто же ты тогда?
Данло улыбнулся невинности этого вопроса.
— Разве тебе не кажется, что я не такой, как ты?
Джонатан посмотрел на Данло, сверкающего рубиновыми и сапфировыми огнями, и сказал:
— Ну, ты и правда другой, но все-таки ведь это ты, да?
— Да. В глубине себя, в настоящем себе, я всегда я. И ты всегда ты, и все другие тоже.
— У тебя все другое, кроме глаз.
— Кроме глаз, — шепотом повторил Данло. Этот возрожденный Джонатан повторял слова, которые настоящий Джонатан совсем недавно говорил ему в квартире Тамары. — Моих благословенных глаз.
— Они синие-пресиние, как твои первые глаза, папа. И смотрят они так же. Ты смотришь на меня и на все вокруг, как раньше.
— Понятно.
— У тебя красивые глаза, папа.
— Спасибо. У тебя тоже.
Данло шагнул к Джонатану, чтобы потрогать его и обнять, но его рука прошла сквозь щеку мальчика, как сквозь световой дождь; он не ощутил. прикосновения к теплой коже, и Джонатан не почувствовал, что он прикоснулся к нему.
Джонатан, Джонатан, я не могу тебя коснуться, безмолвно пожаловался Данло. Никогда больше не смогу я коснуться тебя.
Он постоял, освещая своей радужной рукой лицо Джонатана, и знакомый голос сказал из джунглей: Да нет же, ты можешь. Если тебе нужна более высокая степень воспроизведения, я это устрою.
Данло медленно кивнул и прошептал:
— Да, пожалуйста.
В следующий момент его кожа приобрела ровный светлый тон, а длинные волосы — глянцевую черноту с вкраплениями рыжих нитей. Тело покрыла черная пилотская камелайка, теплая и гладкая, как вторая кожа. Проверить чувствительность первой Данло не решался. Он ощутил, как ветер трогает его губы и длинные ресницы — так было и при спуске на эту Землю, — но не знал, позволит ли ему программа прикоснуться к куклам Ханумана: к тигру, к обезьяне или к ребенку.
Джонатан смотрел на него так, будто хотел этого прикосновения, и Данло решился. Он протянул руку и провел пальцами по шелковистым темным волосам мальчика, нащупал ямку у него на затылке, ощутил мягкость его кожи. Потом припал на одно колено и прижал Джонатана к себе — крепко, но бережно, боясь сделать ему больно. Ощущение этого маленького тельца вызывало в нем бесконечно нежное и доброе чувство. От волос Джонатана шел свежий милый запах, и весь он приникал к Данло так плотно, точно для этого и был создан. И его глаза: безграничное доверие, светящееся в них, казалось Данло и прекрасным, и ужасно печальным. У Данло выступили слезы, и одна соленая капля коснулась щеки Джонатана. Мальчик без стеснения, по-детски, вытер ее и удивленно уставился на Данло, не понимая, почему отец плачет.
Их объятия разомкнулись, и Джонатан сорвал в траве желтый одуванчик. Посмотрев на стаю белых гусей, летящих вдоль берега, он сказал: — Я люблю птиц. Помнишь, ты загадал мне загадку про них?
— Помню.
— Я люблю загадки — загадай мне ее еще раз.
Данло улыбнулся и вытер слезы.
— Хорошо. Как поймать красивую птицу, не убив ее дух?
— Это очень трудная загадка.
— Да, я знаю.
— Если посадить птицу в клетку, это ведь убьет ее дух?
— Конечно.
— Очень трудная загадка. — Джонатан, глядя в небо, постучал пальцем по подбородку. — А какой у нее ответ?
Данло снова улыбнулся. Этот Джонатан был очень похож на его умершего сына; но продолжал повторять его слова, как робот, запрограммированный, чтобы сделать ему, Данло, приятное.
— Я не знаю ответа на эту загадку.
Согласно его памяти (и программе Вселенского Компьютера), Джонатан должен был сказать: “Но ты должен знать, раз загадываешь”. Но мальчик удивил его, спросив:
— А вообще-то у птицы есть душа?
— Душа есть во всем, — сказал Данло. — По-своему все, что есть на свете, — это только душа и больше ничего.
— И у птицы такая же душа, как у нас с тобой?
Природная пытливость Джонатана (и его ум) всегда восторгали Данло, и он улыбнулся этому неожиданному вопросу. Видимо, программа Вселенского Компьютера гораздо тоньше, чем ему представлялось: ей почти удалось ухватить характер реального Джонатана.
— Такая же самая, — ответил Данло.
— Откуда ты знаешь?
— Как же мне не знать? Да и ты тоже знаешь. Видел ты когда-нибудь, как морской ястреб носится над волнами — только потому, что ему весело?
— Может, он просто рыбу ловит.
— Просто?
— Откуда ты можешь знать, что думает птица, если ты сам не птица?
— Это всю жизнь было для меня самой большой радостью.
— Что “это”?
— Быть птицей. — Данло посмотрел на север, где за прибрежными скалами синел океан. Он не знал программы, составленной Хануманом для этого мира; вдруг здесь можно увидеть и снежную сову, прекрасную белую птицу, делящую с ним его душу?
Агира, Агира, ты — это я, а я — это ты.
— Но ведь ты же не можешь взаправду быть птицей, папа?
— Могу. А птица может быть человеком.
— Человеком?
— Конечно. Разве я не рассказывал тебе про женщину, которая любила чаек?
— Нет, кажется, не рассказывал.
— Тогда садись, — Данло похлопал по траве рядом с собой, — и я тебе расскажу.
И Джонатан стал слушать сказку, как слушал еще недавно в квартире Тамары. Он перебрался к Данло на колени, и в глазах его светился живой интерес, а Данло рассказывал, как Митуна с Асаделя каждый вечер на закате улетала с чайками, а поутру снова становилась женщиной.
Когда он закончил, Джонатан поцеловал его, пробежался по лугу и полез на яблоню, гнущуюся под тяжестью ярко-красных плодов. Он взобрался довольно высоко, и Данло забеспокоился, но тут же решил, что бояться нечего — вряд ли в этом мире бывают несчастные случаи; здесь вообще не бывает ничего случайного, а программировать компьютер так, чтобы Джонатан оступился или ухватился за гнилую ветку, Хануман определенно не станет. Конечно же, не станет — тем не менее Данло стал под деревом и растопырил руки на случай, если сын сорвется.
Эта симуляция, конечно, несовершенна, думал он, глядя, как Джонатан, сидя на ветке, с хрустом надкусывает яблоко. Несовершенна, однако очень хороша.
Голос Ханумана, раздавшись из ниоткуда, вывел его из задумчивости.
— Ее можно сделать настолько хорошей, насколько ты пожелаешь, Данло. Каждый момент, пока ты вспоминаешь своего сына и представляешь его себе, каждый момент, пока его и твое изображения взаимодействуют, мой компьютер вносит дополнения в программу, кодирующую его личность. Можно сказать, что ты сам с помощью моего компьютера оживляешь своего сына и доводишь его образ до совершенства.
Джонатан сорвал яблоко и бросил его Данло. Данло поймал его и надкусил — сочное, кисло-сладкое, почти как настоящее.
— Твоя имитация превосходна, — сказал он, обращаясь к небу. — Почти совершенна. Но только почти, Хану, — улучшить ее невозможно.
— Чего ты, собственно, хочешь — совершенства? Или сына, который тебя любит?
— Я… не знаю.
— Может быть, любви Тамары? Ее тоже можно перенести сюда и восстановить ее память о тебе. Исцелить ее. И вы втроем заживете в этом раю вместе, как вам и предназначено.
Данло впервые усомнился, правильной ли была его борьба с Вселенским Компьютером. Что ни говори, тот сотворил настоящее чудо, воссоздав Джонатана из сверкающих фрагментов информации. Кто знает, на какие еще чудеса он способен? В уме Данло вспыхнул образ исцеленной Тамары — она смотрела на него, как во время их давней первой встречи в доме Бардо. Он видел, как они обнимаются, охваченные пылкой страстью и благословенной любовью. Каждая клетка его тела загорелась тоской по ней, горло сжалось, голову прострелила резкая боль.
— Тамара, Тамара, — прошептал он, обращаясь к небу. — Может, и правда перенести тебя сюда? И мы правда будем жить все вместе, втроем? В том другом мире нас не ждет ничего, кроме разлуки, боли и смерти.
— Здесь, к твоему сведению, смерти нет. И болезней тоже. Ты можешь, если захочешь, перенести сюда всех своих алалоев и таким образом избавить их от чумного вируса.
— Исцелить мой народ… Я всегда мечтал об этом.
— Я тоже всегда мечтал об этом, Данло. Мечтал исцелить вселенную от ее врожденного порока.
— Исцелить вселенную… — Данло смотрел на вечно светлое небо, вспоминая более глубокое и синее небо Ледопада. Когда-то, потеряв все свое племя, он, мальчик, так и не посвященный до конца в мужчины, начал под тем небом, синее синего, свой великий путь к исцелению мировой боли и исправлению шайда-природы вселенной. Теперь ему казалось, что конец его пути близок.
— Да, исцелить вселенную. Всю вселенную.
— Папа, почему ты молчишь? — крикнул Джонатан, жуя свое яблоко. Он не нуждался в том, чтобы есть, но это не мешало ему наслаждаться сочным вкусом плода. — О чем ты думаешь?
— Вся вселенная — — я могу исцелить всю вселенную.
Данло казалось, что он уже долго смотрит сквозь зеленую листву, как Джонатан уплетает яблоки.
— Ты можешь даже создать ее. Если останешься здесь, сможешь создать свою вселенную.
Свою вселенную.
Данло смотрел на восток, на джунгли, где деревья едва выдерживали тяжесть красных, оранжевых и желтых фруктов, а тигры звали друг друга спариться и поиграть. Разве эти звери менее прекрасны, чем тигры Ледопада? Или деревья? Разве виртуальное дерево в своей кружевной листве чем-то уступает реальному? Разве оно не радует глаз и не наполняет легкие свежестью?
— Здесь красиво, — сказал Джонатан. — Можно, мы останемся здесь навсегда, папа?
— Думаю, что можно, — сказал Данло.
— И маму возьмем к себе? Я по ней очень скучаю.
— Я тоже.
— Мы сможем жить в этом мире где захотим, да? И вся вселенная тоже будет наша. Вся вселенная.
Данло смотрел на юг поверх деревьев. Там стояли горы, образуя начало большой приморской цепи. Самые высокие сверкали снежными шапками. Данло видел этот снег за много миль, а напрягая зрение, различал даже отдельные шестиконечные, безупречно красивые кристаллики. Разве они менее реальны, чем те снежинки, что жалили ему лицо и леденили пальцы в детские годы?
— Если мы здесь останемся, где ты хотел бы жить? — спросил он Джонатана.
— На нашей планете, папа. Ведь может же у нас быть своя планета?
— Наверно, да.
— А можем мы сами ее сделать? Ты, я и мама? Можем мы сделать ее какой захотим?
Джонатан взял в зубы большое яблоко, чтобы освободить руки, и стал спускаться. Спрыгнув на траву, он протянул яблоко Данло.
— Мне всегда нравились горы, — сказал он, указывая на север от них, — только чтобы снега было побольше, как на Аттакеле и Уркеле. И мне хочется, чтобы в нашем мире были белые медведи, и шегшеи, и снежные ястребы.
Да, подумал Данло, посмотрев на север, — мне тоже хочется высоких гор, закованных во льды и снега. Хочется белых лисиц и осколочных деревьев, волков, росомах и талло, вьющих гнезда на скалистых утесах. В моей собственной вселенной все будет возможно.
В моей вселенной.
Далеко над морем, на западе, Данло увидел парящую в небе белую птицу — Агиру, снежную сову, самую мудрую и самую дикую из всех птиц и зверей. Вглядевшись пристальнее, он увидел, что Агира тоже смотрит на него своими загадочными оранжевыми с черным глазами. Шок узнавания прожег Данло мозг и молнией пронзил позвоночник, зарядив электричеством каждую клетку тела. Эта великолепная белая птица казалась как нельзя более реальной — и Джонатан, прижавшийся к нему, был почти как реальный ребенок.
Так что же такое реальность, спросил себя Данло? В этом понятии заключалось нечто странное, к чему он порой приближался, но никогда не мог понять по-настоящему. Если смотреть на реальность слишком близко — как будто раскладываешь знакомое лицо на элементы света и тени, — она утрачивает свою реальность. Может быть, восприятие реальности, как и восприятие фотографического изображения, — всего лишь вопрос его сознания? Разве он, приводя в действие свои нейроны по строго установленным образцам, не создает свою собственную вселенную? Если так и эта электронная вселенная не менее реальна, чем та, где идет война и взрываются звезды, то почему бы не остаться здесь навсегда?
Вся вселенная.
Данло бесконечно долго смотрел на запад, где сверкало море, и думал, что достиг пределов своего мужества и воли.
Его великое путешествие к центру вселенной, занявшее почти всю его жизнь, наконец закончилось, ибо у него нет сил продолжать его. Подростком он похоронил восемьдесят восемь своих соплеменников, а потом и своего деда, и сам чуть не умер, разыскивая сказочный город Невернес. Голодному, обмороженному, одинокому на морском льду, ему пришлось съесть свою лучшую ездовую собаку, чтобы остаться в живых.
После он регенерировал телом и душой, возродил все свои мечты и надежды — но со временем потерял Тамару, у которой отняли память о нем, а в Ханумане потерял друга. Сколько еще потерь может вынести человек? Сколько страданий может принести ему вселенная, прежде чем он отвергнет ее целиком и полностью и повернется к ней спиной?
Страданиям нет конца, и бесконечны улицы Города Боли.
Данло один вышел живым из хаотического пространства в мультиплексе, где погибли десять других пилотов; после этого он добрался до самого сердца Экстра, где стал свидетелем (и катализатором) гибели мира нараинов. Вернувшись в Невернес, он подвергся заключению и пыткам — его кромсали ножом и навсегда отравили экканой. Но терпеть физические муки было бесконечно легче, чем смотреть, как голодает Джонатан, и слышать, как он кричит под ножом резчика. О Боже милосердный, сколько же страданий может вместить одна вселенная?
Джонатан, Джонатан, ми алашария ля шанти, ты умер — я ощутил твое последнее дыхание на своих губах и сжег твое тело на морском берегу.
Но теперь Джонатан снова ожил и прижимается к его ноге.
Всех мертвых и умирающих можно воскресить, исцелить, сделать почти реальными. Даже пилотов, его друзей, гибнущих в этот момент в битве за Звезду Невернеса. Данло сам, как творец своей собственной вселенной, способен совершить это чудо. Все, что от него требуется, — это сдаться, не противиться желанию избавиться от бессмысленных страданий жизни.
— Для каждого когда-нибудь приходит время признать свое поражение и сдаться.
— Нет. Нельзя. Я обещал Старому Отцу, что никогда не сдамся.
— Это не поражение, Данло, это победа. Победа человека, имеющего мужество стать богом.
— Нет-нет, — сказал Данло, — я никогда не хотел становиться богом.
— Верю. Ты всегда хотел большего. Ну что ж, отвлекись от этого мира — и ты познаешь возможности контакта с Вселенским Компьютером в полной мере.
Данло, обняв Джонатана, запрокинул голову и устремил взгляд в просторы вселенной. Сияющая голубизна небес внезапно сменилась чернотой, и в неоглядной пустоте явились миллионы других Земель. Взгляд Данло охватил все эти бело-голубые самоцветы и устремился дальше, к миллионам других миров. Вскоре Данло стал видеть все двадцать пять миллиардов планет этой вселенной. Он не просто наблюдал их все разом, как астроном в телескоп, — он мог, как ястреб, пронизывать слои их атмосферы и являться в любом городе и в любом лесу по своему выбору.
На одной из Земель белокурые гиганты плясали вокруг костра и восхваляли бога Ханумана. На другой низкорослый народец строил башню из белого мрамора вышиной до небес.
Были планеты, где люди так продвинулись по пути к совершенству, что воздух над их городами мерцал от огней преображения мужчин и женщин, которые возвращались к своему Богу. Вновь сотворенные Земли блистали красой девственных лесов и чистых тропических морей, где водились тысячи видов рыбы; они лишь ожидали пришествия человека, чтобы исполнить свое назначение.
Все это — и в миллион раз больше — Данло видел одновременно, в один и тот же момент. Чудо заключалось в том, что он не только видел, но и понимал, что он видел каждого человека на каждой планете не как пятнышко в многоцветной толпе, а как жемчужину на бесконечно разматывающейся нити. Таким же образом он видел камни, деревья, ракушки на бесчисленных белых пляжах — видел все, что желал увидеть.
Мощь этого нового зрения и удовольствие от него вызывали в нем желание раствориться в электрических информационных штормах Вселенского Компьютера. Эта громадная машина, висящая в пространстве другой, бесконечно далекой вселенной, казалась ему близкой, как живые картины позади его глаз. Он испытывал такое чувство, точно к его мозгу чудесным образом привили новую долю — долю с луну величиной. Он не чувствовал себя отдельным. Он сам был Вселенским Компьютером, а тот был им. Данло ощущал его программы и информационные потоки почти так же, как другие части своего сознания.
Кристаллические комплексы идей и узоры мысли мелькали в нем с головокружительной скоростью. Он понимал их с одного взгляда — и это было все равно что понять за одну наносекунду все слова, когда-либо сказанные, написанные или подуманные человечеством. Он чувствовал, как расширяется чуть ли не до бесконечности его интеллект, и это электризующее ощущение пронизывало его сознанием своего могущества. Он наблюдал, как люди в ста разных мирах живут своей искусственной жизнью, и знал, какие программы руководят каждым из них. Он смотрел в миллион лиц, а потом перед ним возникли все десять миллиардов триллионов человек, населяющих двадцать пять миллиардов планет.
Он увидел тогда, как мужчины, женщины (и дети) дробятся на сверкающие фрагменты информации, каждый на свой неповторимый лад. Увидел, как индивидуальные программы каждой личности проистекают из единой мастер-программы, управлявшей самим Вселенским Компьютером. Она управляла им самим, она была им — по крайней мере пока он находился в полном контакте с Хануманом. Данло сам был не чем иным, как информацией, струящейся со скоростью света и принимающей различные формы. Туда-сюда, туда или сюда — триллион триллионов световых импульсов проходил через его оптические схемы каждую десятитриллионную долю наносекунды. Божественное сияние наполняло темный луноподобный Вселенский Компьютер и разум Данло, как десять тысяч только что вспыхнувших сверхновых. Данло сам превратился в свет, наполняющий всю вселенную, — в свет, создающий вселенную.
Яркий белый свет сияет пылает становится всем я Бог о Боже я одинок всегда одинок как семя зарытое в сырую землю я тот кто творит розы рождаются из мечты внутри другой мечты как безупречные алмазы без боли страха страданий ни болезней ни смерти ни порока ни жизни какой она была она была ужасна желудь умирая становится дубом чьи ветви раскинуты в бесконечность под солнцем чей сын убивает отца убивает солнце все солнца в этой вселенной потому что жизнь болезнь от которой нет лекарства только если создать вселенную из мечты из бесконечности из миров и звезд материя энергия пространство-время информация рушатся сливаются складываются в одного совершенного вселенского компьютерного Бога из ничего только чистая информация как яркий белый свет…
Целую вечность Данло пробыл в центре пылающей белой сферы кибернетического самадхи. Вся реальность рассыпалась на сверкающие крутящиеся фрагменты информации, из которых, как из кусочков мозаики, можно выложить бесконечное количество возможностей. Будь у сознания Данло губы и голос, оно стонало бы от удовольствия, от искушения остаться здесь навеки и сотворить свою собственную вселенную. Но в конце концов Данло вернулся на луг за городской стеной. Он обнимал Джонатана и наслаждался милым лесным запахом его волос.
— Целая вселенная, Данло. Вся вселенная.
— Это… почти совершенство, — сказал Данло, перебирая волосы Джонатана и глядя на чаек, кружащих над океаном.
Контакт с Вселенским Компьютером потряс его — он нетвердо стоял на ногах и ловил ртом воздух.
— Останься со мной, и мы добьемся полного совершенства.
Тело и разум Данло все еще потрескивали от электрического экстаза, которым наполнил их компьютер Ханумана. Он понимал, что Хануман, решившись на столь глубокий контакт, поделился с ним заветнейшей своей мечтой, а может быть, даже частью своей души. Все это лежало перед Данло, как безбрежный океан с бегущими во все стороны волнами.
Ему хотелось втянуть в себя всю эту огромность одним глотком, но он уже вернулся в пределы своего человеческого “Я” и мог пить лишь каплю за каплей. Он понимал, что Хануману необходимо было поделиться своим великим видением с кем-то другим — только это могло избавить его от муки его страшного одиночества. Хануман приманивал Данло, как цветок приманивает пчелу сладостью своего нектара.
… упасть на поле цветов раствориться в сладости жимолости добро правда красота любовь любовь любовь…
Момент настал. Данло, вдыхая небесный аромат цветов и плодов этого мира, хотел остаться здесь навсегда. “Хорошо, Хану, будь по-твоему”, — хотелось сказать ему. Он уже чувствовал эти слова на губах и вкус меда во рту. Но потом он посмотрел в глубокое синее небо позади своих глаз и стал вспоминать.
— Если я останусь здесь, я предам тех, кого оставил там, — сказал он.
Джонатан, уловив боль и нерешительность в его голосе, высвободился из объятий отца и посмотрел на него.
— Кого, папа? — спросил он, и Данло ответил ему: — Твою мать — настоящую Тамару. Ту, что готова отдать последний кусок хлеба детям, по-прежнему голодающим на улицах города. И племена айяма и тауша к западу от Квейткеля — все алалойские племена. Всех людей, которые пострадали от этой шайда-войны. Всех людей, где бы они ни жили.
— Но почему бы нам не перенести их всех сюда?
— Потому что это было бы…
— Почему бы нам все не перенести сюда?
Данло улыбнулся наивности своего сына.
— Всю вселенную? Каждый страдающий кусочек творения? Каждый камень, и дерево, и тигра, и снежного червя, и звезду той вселенной — в эту?
— Да — а почему нет?
— Это… нельзя сделать.
— Но почему, папа?
— Потому что Вселенскому Компьютеру, чтобы создать полную модель реальной вселенной, самому нужно быть бесконечно большим.
Джонатан только улыбнулся на это — загадочно и понимающе, но и с надеждой. Вот так же, должно быть, улыбался и Хануман в детстве, до того, — как утратил невинность. Данло вспомнил то, что видел во время своего полного контакта с компьютером, — то ужасное и трагическое, что совершил Хануман, едва выйдя из детского возраста. И еще кое-что он вспомнил. Он мгновенно, точно в темной комнате вдруг включили свет, постиг мечту Ханумана во всей ее полноте. От ужаса ее и величия он задохнулся, точно его двинули под ребра хоккейной клюшкой, и упал на одно колено.
— Бог мой, — выкрикнул он, — быть этого не может!
Но это могло быть; Хануман вполне мог попытаться совершить то, что даже боги наподобие Тверди и Апрельского Колониального Разума сочли бы безумием. Он в самом деле мечтал сделать Вселенский Компьютер бесконечно большим, и все его планы были направлены к этой великой цели. Победив Содружество Свободных Миров в битве, которая бушевала сейчас вокруг Данло, Хануман намеревался закрепить свою победу.
Рингисты, которые так хорошо послужили ему на пути к золотому будущему, наконец-то закончат сооружение Вселенского Компьютера — вернее, первую фазу его строительства..
Тогда Хануман, использовав его громадную мощь, раскроет секрет производства тахионов — этих почти фантастических элементарных частиц, способных преодолевать пространство-время бесконечно быстрее света. Восторжествовав над этой технологией, с помощью которой галактические боги обмениваются информацией через тысячи световых лет, Хануман приступит ко второй фазе строительства Вселенского Компьютера.
Тяжелые корабли рингистов отправятся ко всем Цивилизованным Мирам, которых насчитывается три тысячи, и к другим планетам, мертвым и незаселенным, которых будет в десять тысяч раз больше. В трюмах этих кораблей будут находиться разрушители и другие роботы, разбирающие материю на составные элементы. Астероиды, кометы, звездная пыль, целые планеты — все станет пищей для этих пожирателей галактики. А затем верные божки Ханумана выпустят из тех же трюмов других способных к самовоспроизведению роботов. Сборщики размером с кровяную клетку, питаясь тучами элементов, начнут размножаться с взрывной скоростью, и их станет в триллион раз больше; это будет все равно что запустить колонию бактерий в сахарный океан. Размножившись, микророботы начнут складываться в миллионы миль нейросхем и оптических кабелей, создавая другие Вселенские Компьютеры, большие, как луны. Хануман рассчитал, что в пределах одних только звездных каналов материи хватит на миллиард таких мозголун. В свое время Бог Эде, мастер компьютерной оригами, составил себе из миллионов компонентов мозг, занявший целую туманность; Хануман таким же образом начнет сводить свои мозголуны в единый компьютер, который займет двадцать тысяч световых лет реального пространства от Ультимы до Новой Земли.
Третья фаза строительства станет полным триумфом Пути Рингесса. Хануман в качестве правителя Цивилизованных Миров понесет свою новую религию другим народам галактики. Он обратит в свою веру их всех — словами, электронным самадхи либо силой — и убедит их строить новые миллиарды мозголун. На одной из стадий этого крестового похода — возможно, близ напоенных светом пространств ядра галактики, — рингисты обнаружат ивиомилов, взорвавших звезду нараинов. После молниеносного сражения, где корабли при вспышках лазеров будут сновать между мультиплексом и реальным пространством, приспешники Бертрама Джаспари будут убиты или взяты в плен. Рингисты захватят их тяжелый корабль с моррашаром и научатся пользоваться этой звездоубийственной машиной. А затем те же роботы, что создавали компоненты Вселенского Компьютера, начнут строить новые моррашары, многие миллионы их. Моррашары и управляемые роботами тяжелые корабли. Вселенский Компьютер запрограммирует маршруты для этих кораблей, и Хануман разошлет свой смертоносный флот во все концы галактики.
Это положит начало страшной четвертой фазе. Через много сотен или тысяч Лет (к тому времени Хануман пытками вырвет у агатангитов тайну бессмертия) решится судьба триллионов рингистов, которых он обещал сделать богами. Вместо этого он увлечет их в черную пучину смерти. Это будет величайшим предательством в истории человечества, а может быть, и в истории вселенной. Ибо Хануман задумал не что иное, как истребление всего человеческого рода.
И не только его, а всего живого вообще: всех людей, инопланетян и животных в пределах Млечного Пути. Он сделает это потому, что больше не будет нуждаться ни в чьей помощи, а еще из сострадания, желая избавить свои жертвы от грядущего ужаса.
Этим ужасом будет уничтожение звезд, превращение их в свет — с тем, чтобы позднее погасить свет во всей галактике.
Гибнущие звезды, превращенные в немыслимо жаркие плазменные печи, отдадут свой водород и гелий для производства лития, кислорода, кремния, железа и прочих элементов материальной реальности. Эти элементы Хануман использует для строительства новых долей Вселенского Компьютера: ведь материя вселенной большей частью заключена в звездах.
Рассылая рои своих кораблей с моррашарами, как саранчу, он уничтожит звезды Рукавов Стрельца и Ориона одну за другой, один десяток тысяч за другим. Свою физическую персону он к тому времени эвакуирует в безопасное место — возможно, на одну из Земель, созданных в Экстре Богом Эде, или на новую планету, которую сам создаст на краю галактики, близ Магелланова Облака. Ибо он тогда не только в мечтах, но и в действительности станет величайшим из галактических богов и будет распоряжаться всеми звездами от ядра до Двойной Айвори по своему усмотрению.
Все прочие боги галактики — Твердь, Химена, Ямме, Чистый Разум, Кремниевый Бог, Дегульская Троица, а может быть, и Мэллори Рингесс — погибнут при взрывах сверхновых, если не в первой волне, то во время цепной реакции, которая охватит плотные звезды ядра и зальет смертельным светом весь центр галактики. Этот свет дойдет до всех последних представителей человечества, еще существующих в своих естественных и искусственных мирах, и положит конец великому галактическому приключению хомо сапиенс, которое началось на Старой Земле много тысячелетий назад. Он уничтожит также миллионы долей Вселенского Компьютера, расплавляя многомильные оптические схемы и превращая в пар лунные мозги.
Но роботизированные корабли Ханумана пойдут следом за этой разрушительной волной, выпуская в облака светящейся пыли рои микросборщиков. Доли Вселенского Компьютера будут строиться заново и соединяться со старыми сверкающими потоками тахионов. Бесконечно сложные переплетения свяжут каждую часть этой богоподобной машины со всеми другими. И когда-нибудь, этак через десяток миллионов лет, вся галактика превратится в облако из триллионов мозговых долей с алмазным покрытием, представляя собой один огромный, черный, блестящий компьютер.
И тогда на пятой, финальной стадии своей шайды Хануман обратит свой льдисто-голубой взор через бесконечную космическую пустоту к другим галактикам. Свершив то, о чем немногие боги отваживались даже помыслить, создав, вероятно, самый крупный и концентрированный интеллект во вселенной, он взрастит в себе гордыню величиной с сам Вселенский Компьютер. Теперь между ним и осуществлением его мечты не будут стоять ни другие боги, ни что-либо иное. Потенциальный бог по имени Мэллори Рингесс давным-давно доказал, что между любыми двумя звездами вселенной существует прямой маршрут, и любой космический корабль способен пройти этот маршрут в пространстве-времени. Вычислить такой маршрут, конечно, очень и очень трудно, а если речь идет о звездах разных галактик — практически невозможно. Ни одному из пилотов Ордена так и не удалось выйти за пределы Млечного Пути, даже в ближние галактики.
Но Вселенский Компьютер преодолеет ограничения человеческой математики. Он со своей почти бесконечной вычислительной мощью откроет маршруты между звездами Магелланова Облака (теми несколькими миллионами, которые Хануман оставит нетронутыми) и звездами Льва, Скульптора, Андромеды и всех прочих галактик Местной Группы. А Хануман отправит к этим далеким звездам миллионы моррашаров и кораблей с разрушителями и сборщиками.
По каждой из двадцати галактик Местной Группы он пустит такую же волну разрушения, как и по Млечному Пути, — но будет и созидать. Вселенский Компьютер, как черный зловещий кристалл с почти неограниченными размерами, будет разрастаться все дальше, поглощая темную материю, космические лучи, остатки квазаров, туманностей и голубых звезд-гигантов.
Хануман не может знать, сколько времени ему понадобится, чтобы занять три миллиона световых лет от карликовой галактики Анур до Треугольника — но тогда, в невероятно далеком будущем, терпение Ханумана станет почти бесконечным, как и его власть.
Когда-нибудь Вселенский Компьютер неизбежно начнет поглощать целые скопления галактических групп. Всю материю от облака Гончих Псов до облаков Павлина и Кита он превратит в свои составные части. Он съест тысячи галактик: кольцевые, и эллиптические, и красивые спирали, подобные Млечному Пути. Даже редкие сейфертовы галактики, чьи ядра излучают сильный голубой и ультрафиолетовый свет, он разгрызет, переварит и вберет в себя. Жертвой программы его разрастания падет скопление Журавля, и скопление Девы на расстоянии семидесяти миллионов световых лет, и все другие скопления Местного Сверхскопления.
Сверхскопления подобны сверкающим узлам в длинной нити галактик, из которой ткется великолепный ковер вселенной. Когда Вселенский Компьютер разорвет сверхскопления Волос Вероники, Рыб и Геркулеса, ткань начнет распускаться — а все они находятся в миллиарде световых лет от того, что останется к тому времени от некогда прекрасного Млечного Пути. Вселенский Компьютер будет расти все дальше и дальше, пока не поглотит и не присвоит себе всю вселенную. И когда-нибудь, через много миллионов лет, во вселенной не будет больше ничего, кроме этой единственной кристаллической машины и бога по имени Хануман ли Тош.
Хануман будет жить на своей Земле в центре того, что он создал. Возможно, он будет держать там тигров, обезьян и других ручных зверушек — глядишь, и пару миллионов человек заведет. Будет сидеть на лесной поляне под падающей листвой, а ночью прогуливаться по морскому берегу, хрустя раковинами в песке и подставляя лицо свету звезд — тех немногих, что еще будут светить на небе.
Ну что ж, Хануман ведь никогда не испытывал восторгов перед чудесами этого мира. Теперь у него будет собственный мир, доступный если не зрению и прочим чувствам, то разуму. Когда только захочет — то есть почти в каждый момент своей бесконечной жизни, — он будет контактировать с Вселенским Компьютером, ставшим поистине вселенским по своим величине и мощи. Наконец-то Хануман станет одинок полностью, как Бог, когда шум реального океана не заставляет твое сердце биться быстрее и дыхание женщины не касается твоих век. Звезды умрут, и все станет темным и твердым, как алмазная оболочка компьютерных лунных мозгов. Но внутри будет блистать, как бриллиант, искусственная жизнь — ведь теперь у Ханумана будет вечность, чтобы играть в свои куклы и творить из чистой информации вселенную без боли, страданий и пороков.
Целую вселенную.
Данло, все еще стоя на одном колене и задыхаясь от ужаса перед тем, что ему вспомнилось, наконец заставил себя подняться. Поглядев на колеблемую ветром траву и небо над лугом, он снова отметил, что белые пушистые облака, плывущие над ним, как мечты, имеют чересчур правильную форму.
— Нет. — Он произнес это короткое слово с идущей глубоко изнутри уверенностью. — Нет.
— Знаешь, ведь только так и можно спасти их всех, — сказал ему Джонатан. — Перенести их сюда из той вселенной.
— Перенести — значит убить? И людей, и звезды, и все, что там есть?
— Но ведь все, что там есть, и так обречено, папа. Все, что живет, страдает, а потом умирает.
— Да, это так, но…
— Жизнь — это болезнь, которую нельзя вылечить. Ее можно только прекратить.
— Нет. Это не может быть правдой.
— Порок, папа, — он заложен в самой основе вселенной.
— Значит, единственный способ спасти вселенную — это уничтожить ее? — спросил Данло, грустно глядя на сына.
— Это тяжело, но ведь ты сам говорил мне, что сострадание — самая трудная вещь в мире.
— По-твоему, сострадать людям значит убивать их?
— Но ведь они не умрут по-настоящему, правда? Если перенести их в эту вселенную, они будут жить вечно и без страданий — ведь только так их можно избавить от страха перед смертью, правда?
— Нет, — сказал Данло. — Нет.
— Всю вселенную можно избавить от порока и воссоздать ее здесь. Разве это плохо — хотеть спасти вселенную, папа?
Данло стало тяжело смотреть на Джонатана. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох, и ему вспомнилось нечто важное, то, что он не должен был забывать.
— Джонатан, — сказал он тихо, глядя на мир вокруг себя, — даже если Вселенский Компьютер станет бесконечно большим и будет имитировать вселенную в совершенстве, это все равно останется имитацией.
Джонатан обхватил его за пояс и поднял на него свои синие глаза.
— А я, папа? Разве я не настоящий?
Данло осторожно расцепил его руки, положил ладонь ему на грудь, там, где сердце, и легонько отстранил его от себя.
— Нет, — сказал он, — ты не настоящий.
— И ты не хочешь переносить сюда маму и все остальное?
— Нет, не хочу.
— Пожалуйста, папа.
— Нет.
— Но почему? Я не понимаю.
Данло внезапным, но плавным движением руки указал на город, для жителей которого настал час молитвы, и на джунгли, где порхали попугаи с яркими перьями и блестящими круглыми глазками. Все эти куклы по-своему совершенны, как застывшие во льду алмазы. Но ни одна из этих неисчислимых частиц мира не умирает и не поглощается вновь паутиной созидания, чья сложность постоянно возрастает, — поэтому здесь не может быть подлинной эволюции. Вся эта вселенная словно заключена в один огромный кристалл — беспорочная, но лишенная истинного сознания.
— Пожалуйста, папа, скажи: почему ты не хочешь?
И тогда Данло, со слезами на глазах повернувшись к Джонатану, ответил:
— Потому что вся созданная тобой жизнь — неживая.
Джонатан молча смотрел на него, и невинность на его лице таяла, как лед под жарким солнцем. Следующие слова, которые он произнес, были:
— Будь ты проклят, отец.
Данло, не в силах сказать ничего, смотрел на мягкие завитки на лбу своего сына.
— Ты мог бы спасти меня, знаешь? Всех бы мог спасти.
Данло продолжал смотреть на того, кто не был его сыном ни плотью, ни духом, ни сердцем, а был лишь порождением их общего с Хануманом сознания.
— Нет-нет, я…
— Будь ты проклят, Данло!
Это вышло не из уст Джонатана, а грянуло с неба и сотрясло землю, на которой Данло стоял. Он зажал руками уши, но не смог отгородиться от оглушительного голоса, который продолжал греметь вокруг:
— Проклят, проклят, проклят! Я предлагал тебе всю вселенную. Я создал для тебя рай, а ты выбираешь ад. Ну что ж: это твой выбор, Данло.
Небо разверзлось, и молния, сверкнув оттуда, ударила Джонатану в лоб. Мальчика шатнуло назад, и голубые электрические разряды охватили его тело, как змеи.
— Нет! — закричал он, расширив глаза от страшной боли. — Помоги мне, папа!
Данло, вопреки себе, бросился к нему, но опоздал: шелковая одежда сына уже вспыхнула ярко-оранжевым пламенем, точно ее облили маслом. Данло повалил мальчика наземь, пытаясь сбить пламя руками, но оно разгоралось все жарче, обжигая лицо и руки Данло, въедаясь в плоть Джонатана.
— Папа, папа, помоги мне! — кричал, извиваясь, мальчик. Его кожа обгорала, превращаясь в черную корку; красная жидкость проступала из трещин на ней и испарялась, дымясь на солнце. От запаха жареного мяса Данло одолевала тошнота. — Я не хочу умирать! Пожалуйста, папа, не дай мне сгореть! А-а-а! Больно, больно!
Целую вечность Данло сжимал в руках горящее тело своего сына и чувствовал, что сам горит. Наконец в руках у него осталась только ломкая черная головешка.
— Джонатан, Джонатан, ми алашария ля шанти. — Прошептав это, Данло медленно встал, воздел обгоревшие, кровоточащие руки к небу и крикнул: — Нет! Нет, нет, нет, нет!
И небо ответило ему:
— Твой выбор, Данло. Ты всегда, делал свой выбор сам.
Земля под ним внезапно стала зыбкой, как трясина, и Данло стало засасывать в ее глубину. Потом теплая жижа вокруг сменилась черной пустотой, и он стал падать в бездну без света и звука, без начала и конца. Он падал так целую вечность, падал сквозь вселенные, пустые, как глаза мертвеца, сквозь небытие, пожравшее все его мечты и надежды. Он был одинок, как несущийся в космосе камень, и все падал и падал сквозь эту черную безвоздушную ночь, а потом провалился сквозь купол Ханумановой башни и вернулся в свое истерзанное, парализованное тело.
Глава 23 ЛИК БОГА
Счастливы те кшатрии, которым нежданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата.
“Бхагавадгита”Если окружающее становится кошмаром, проснись.
Неизвестный авторДанло открыл глаза и увидел над собой изогнутые окна купол!. По-прежнему парализованный, он лежал на фравашийском ковре, покрывающем холодный каменный пол. Мягкость подушки, которую положил ему под голову Хануман, и холодок, овевающий лицо, — этим исчерпывались все его ощущения. Он задержал взгляд на знакомых звездах глубокой зимы и повернул голову, чтобы посмотреть на стоящего над ним Ханумана.
— Это был твой выбор, — сказал Хануман, глядя сверху на его беспомощную фигуру. — Ты всегда выбирал сам.
Кибершапочка на голове Ханумана стала тускло-пурпурной — видимо, он на время отключился от Вселенского Компьютера.
— Мой выбор, — проговорил Данло. — Да, это так.
С трудом он повернул голову в другую сторону и обвел взглядом сулки-динамики, компьютеры, шахматный столик с расставленными для игры фигурами, среди которых недоставало белого бога, — и образник, над которым светилась голограмма Николоса Дару Эде.
— Ты тоже сделал свой выбор, — сказал он Хануману. Он увидел трещинку на одном из черных квадратов шахматной доски и вспомнил то ужасное, что открылось ему во время полного контакта с Вселенским Компьютером. Он снова взглянул на Ханумана и сказал: — Я знаю, что ты убил своего отца, Хану.
Хануман с горькой улыбкой наклонил голову.
— Да. Мне пришлось это сделать. Только так я мог помешать ему надругаться над моим разумом. Над моим “Я”. Только так я мог улететь с Катавы в Невернес, как повелевала мне моя судьба.
— Я… сожалею об этом.
— Не надо. Для меня это стало началом всего. Открыло дверь туда, где возможно все.
Одна дверь, и только одна, открывается в золотое будущее, которое я видел. Сейчас, глядя в льдисто-голубые, налитые кровью глаза Ханумана и читая в них его страшную судьбу, Данло понимал, что эта единственная железная дверь останется запертой навсегда. Одна дверь, только одна.
Сквозь темные окна купола Данло видел звезды. На юге и востоке их заволакивала золотистая дымка Кольца, прямо над башней громада Вселенского Компьютера заслоняла их целиком — как будто длань бога замазала черной краской участок звездного неба. Но вокруг этой темной растущей массы мерцало множество огней — это корабли Содружества вели бой с флотом рингистов.
Корабли входили в мультиплекс и выходили обратно, как серебряные иглы, прошивающие реальное пространство длинными светящимися нитями. Узор, выжигаемый ими на небе, поражал своей сложностью. В небе присутствовал и другой свет: там сияли луны, и спутники планетарной оборонительной системы вспыхивали частыми лазерными залпами. Сейчас они, предназначенные для уничтожения метеоритов и мелких астероидов, направляли свой рубиновый огонь против кораблей Содружества. Мерилом мастерства пилотов служило то, что лишь несколько тяжелых кораблей попало под этот огонь и рассыпалось на снопы белых искр.
Поздно, подумал Данло. Я не могу остановить эту битву.
Он скатился головой с подушки и попытался прижать ухо к. полу. Криков многотысячных толп больше не было слышно — ни в соборе, ни за его стенами. Час был поздний, и даже самые рьяные из божков не решились остаться под открытым небом, в котором бушевала война.
Я не могу остановить эту войну.
Включился один из сулки-динамиков, и у стола появилась голограмма пилота, Кришмана Кадира. Хануман тут же перенес на нее все свое внимание, и они с Кадиром стали вполголоса разговаривать. Данло многого не слышал, но понял, что Кришман докладывает Хануману о ходе сражения.
При этом пилот (вернее, его корабельный компьютер) показывал Хануману диспозицию кораблей обоих флотов, почти точно соответствующую их движению в реальном времени.
Шапочка на голове Ханумана ярко вспыхнула, подавая потоки информации ему в мозг. Вселенский Компьютер, используя эту информацию, составит почти синхронную модель боя, и его огромная вычислительная мощь предскажет последующие маневры Кристобля Смелого, Елены Чарбо и других пилотов Содружества. Вслед за этим настанет следующий этап, когда компьютер попытается сам управлять битвой.
— Возвращайся назад, — приказал Хануман пилоту, чей корабль находился сейчас в ближнем космосе над Ледопадом. — Найди лорда Сальмалина и скажи ему, что Кристобль Смелый увел Двенадцатый отряд от Лидии Люс. Пусть он пошлет шесть звеньев перехватить Кристобля у Двойной Примулы и…
Остального Данло не слышал — да и не желал слышать; он не нуждался больше в этой информации.
Кончено, подумал он. У Ханумана слишком большой перевес, и он определенно выиграет эту битву.
Поглядев, как кибершапочка заливает потусторонним лиловым светом лицо Ханумана, Данло вдруг зажмурился от внезапной опалившей мозг мысли.
Я хочу его смерти.
Под стук сердца, отдающий в горло и в голову, Данло ждал, когда эта поразительная мысль увянет сама собой, но она не увядала, а только крепла с каждым ударом сердца и каждым вздохом, и что-то похожее на раскаленный докрасна железный наконечник копья входило через глаз Данло прямо в мозг.
Умри, Хану. Я хочу, чтобы ты умер. Умри же, пожалуйста, умри, умри, умри…
Данло лежал в полной тишине под куполом башни, позволяя ненависти к Хануману наполнять его изнутри. Никогда еще за всю свою жизнь не нарушал он обет ахимсы так полно и так сознательно. Свой отказ от обещания не желать вреда ни одному живому существу он воспринимал как измену своему глубинному “Я”, как болезненный жар, идущий из живота и отравляющий сердце, легкие и все остальное. В полнейшем отчаянии он скрежетал зубами и перекатывал голову по ковру.
Новая мысль наполнила жидким огнем все клетки его тела: Я хочу умереть сам.
Сердце отстукивало: раз, два, три. Данло всю жизнь считал его удары — теперь ему хотелось, чтобы эта самая главная, самая живая часть его существа умолкла и количество ударов навеки свелось к нулю.
— Я хочу умереть, — прошептал он. — Агира, Агира, дай мне умереть.
У него не осталось больше причин, чтобы жить. Для всех будет гораздо лучше, если он просто умрет. Если он найдет путь на ту сторону дня, Хануману не нужно будет разыскивать Тамару и угрожать ей пытками. И самого Данло Хануман тоже не сможет использовать в своих интересах, как Мэллори Рингесса.
Хочу умереть. Для того я и пришел сюда: умереть.
Он смотрел на заполняющую комнату кибернетику, на свой компьютер-образник, на Ханумана, на его грустное, измученное лицо, на кожу, отсвечивающую лиловым от припаянного к черепу компьютера. Под кожей обозначились кости — время превратило это красивое когда-то лицо в маску смерти.
Это напомнило Данло, что Хануман, как и всякий другой человек, способен умереть в любой момент.
Прошу тебя, дай мне умереть — здесь, сейчас, в этой холодной комнате.
С самого своего рождения он старался принимать жизнь со всем присущим ему мужеством. Но Джонатан умер и больше не воскреснет, а скоро он, возможно, потеряет и Тамару.
И алалои, не дождавшись от него лекарства против заразившего их вируса, тоже умрут — с пеной на губах и сочащейся из ушей кровью, как умерло все племя деваки.
Глядя на черные квадраты Хануманова шахматного стола, он наконец понял о себе нечто важное. Много раз в своей жизни — на морском льду, в библиотеке под ножом воина-поэта, в Обители Мертвых на Таннахилле — он встречал смерть с присутствием духа, которое другим казалось почти сверхчеловеческим. Но все это было ложью. Данло лучше кого бы то ни было знал, какой он на самом деле трус; истинное мужество в том, чтобы испытывать страх и все-таки стремиться к заветной цели; оно в том, чтобы любить что-то больше, чем себя, и тем приближаться к более глубокому и истинному своему “Я”.
Данло понимал теперь, что не боялся смерти так, как боятся другие, — а сейчас он просто жаждал ее, и это желание заставляло трепетать его сердце и пронизывало горьковато-сладкой болью все его тело. С того самого страшного дня четырнадцать лет назад, когда медленное зло пришло в племя деваки, ему хотелось уйти вместе с Хайдаром, Чандрой, Чокло и другими своими благословенными родичами на ту сторону Дня, где с неба смотрят мудрые и вечные глаза звезд.
Теперь, когда последние вздохи тех, кого он любил, слышались ему в ветре за стенами собора, он думал, что наконец отыскал путь туда, к ним.
Умереть умереть умереть…
Он снова падал в ту холодную черную бездну, которая таится в душе каждого человека. Сила более могучая и более древняя, чем сила тяжести, действовала на каждый атом его существа; чернота клубилась в сердце, в животе и в мозгу, вызывая тошноту, и слепила его вспышками темных огней, и засасывала, и влекла вниз. Он знал, что может приказать себе умереть, — надо только найти способ. У жизни свои тайны, у смерти — свои. Представители йогической ветви цефиков в своем стремлении к полному контролю над телом и духом разработали технику остановки дыхания и сердца. Данло сам однажды, почти ребенком, прибег к алалойскому искусству лотсары, когда человек сжигает жировые запасы своего организма, не давая себе замерзнуть. В Небесном Зале на Таннахилле он погрузился в глубину самого себя, найдя источник своей воли и раскрыв тайну своего “Я”. Он совершил погружение в пустоту, где чистое сознание струится из мрака потоком мерцающего света, чтобы потом рождать мысли в его мозгу. Да, он почти отыскал тогда это благословенное место — и почти умер. Теперь, как легкий корабль, идущий сквозь светящиеся слои мультиплекса к центру вселенной, он должен наконец дойти до конца.
Яркий белый свет мерцает пылает становится всем что есть я Данло сын Хайдара и Чандры сын Катарины и Мэллори Рингесса мой отец и я плаваем в темном бессолнечном море жгучей соли и струится кровь моей матери моя жизнь я сам связаны сердце к сердцу без слов без шепота в любви всегда в любви что превыше любви…
Он вспомнил себя. Пока Хануман переговаривался с Кришманом Кадиром и другими пилотами и в небесах бушевала война, Данло вспомнил много прекрасных и ужасных мгновений своей жизни. Не странно ли, что он, падая в себя навстречу гибели, одновременно погружался в память? Еще более странным казалось то, что конец его пути был в то же время и началом. Он, как и в ту ночь в доме Бардо, когда впервые попробовал благословенную каллу, вновь оказался в материнском чреве перед самым своим рождением. Он снова чувствовал во рту соленый вкус плодных вод и ощущал биение сердца матери сквозь теплые, мягкие, обнимающие его ткани ее живота, и любовь волна за волной снова накатывала на него при каждом вздохе матери, когда ее диафрагма опускалась на него сверху, как ласковая рука. Женщины его племени рассказывали, что он родился смеясь. Ну что ж, пора наконец перестать смеяться. Лежа на ковре поверх холодного каменного пола, Данло вспоминал и ожидал момента своего рождения, ища одновременно путь к смерти.
Нет, это слишком тяжело. Нет, нет, нет, нет…
Он ушел глубоко в память — не только о себе, но и о вещах за пределами себя. В крутящемся колесе творения, на глубочайшем его уровне, нет различия между “внутри” и “вне” — есть только сверкающая паутина памяти, соединяющая между собой все сущее. Он начинал видеть, как вселенная записывает все, что в ней случается, и хранит это, и помнит себя. Если материя есть всего лишь память, застывшая во времени сверкающими каплями света, как утверждают мнемоники, то память — это материя, движущаяся во времени, постоянно меняющая форму, как волны моря, постоянно испытывающая что-то новое, и развивающаяся, и несущая все происходящее в каждом своем атоме.
Данло начинал понимать, как можно увидеть то, что отделено от тебя пространством и временем, — понимать то, что случилось с ним когда-то в библиотеке, и свою способность прозревать будущее, и то чудесное видение, что посетило его, когда он лежал в своей камере, оправляясь от пыток.
Все и всегда случается только на гребне момента “теперь”, где будущее переходит в прошлое. И атомы материи, где. бы они ни обитали — в мозгу или в корпусе легкого корабля, — хранят эту волну в себе. Материя и эти сверкающие волны памяти суть одно и то же, и память обо всем содержится во всем.
Солнечный свет отражается от алмаза и черного налла — прочного, как доспехи Бардо, прикрывающие его сердце. Легкие корабли и тысячи тяжелых выходят из мультиплекса в черноту космоса между звезд…
Данло, закрывая глаза и пытаясь перестать дышать, снова видел битву, происходящую далеко от него. Центром насилия, кипящего в пространстве-времени, служила ближняя звезда Лидия Люс. Бардо собрал вокруг этого яркого голубого гиганта двести сорок легких кораблей и двадцать пять тысяч тяжелых. После побоища при Маре он разделил свой флот на двадцать пять боевых отрядов, а каждый отряд, куда входило около тысячи кораблей, — на десять групп; один пилот легкого корабля кoмандовал сотней других пилотов своей группы.
Этому сонму из черного налла и алмазного волокна противостояло тридцать четыре тысячи кораблей рингистов. Сальмалин Благоразумный на “Альфе-Омеге” наконец-то навязал Бардо бой в непосредственной близости от Звезды Невернеса. Основательный и не блещущий воображением лорд Сальмалин, вероятно, надеялся, что Бардо, как это сделал Зондерваль при Маре, сгруппирует свои корабли и попытается решить исход боя в нескольких световых секундах от короны Лидии Люс. Но Бардо не собирался посылать свои корабли и своих пилотов на почти верную гибель. Став командующим, он разработал для этой решающей битвы радикально новую, гибкую стратегию, намереваясь атаковать Сальмалина через широкий сгусток ярких звезд. Трем отрядам — Первому, Второму и Двенадцатому — он отдал приказ немедленно выйти к Звезде Невернеса, захватить обширное сгущение близ нее и создать угрозу для Вселенского Компьютера. Командовал этой дерзкой операцией Кристобль Смелый на “Алмазном лотосе”, а сам Бардо с другими отрядами должен был отвлечь рингистов на себя. В конечном счете Бардо надеялся взять противника в кольцо и уничтожить — возможно, на самом краю сгущения Звезды Невернеса. Это была отчаянная надежда, и лишь немногие его капитаны вместе с Еленой Чарбо верили, что эта стратегия имеет хоть какой-то шанс на успех.
Тысяча алмазных игл сверкает открывая окна пронзая черный космос черные тяжелые корабли падают в тяжелую яркость звезд и кислород водород ткани мозга превращаются в яркий белый свет…
Данло наблюдал за битвой, идущей в его внутреннем пространстве. Всего за несколько тысяч секунд корабли обоих флотов распределились между Лидией Люс, Нинсаном, Двойным Аудом и другими звездами вокруг солнца Невернеса. Ему трудно было уследить за их сверкающими стычками: двадцать пять отрядов Содружества и сотни рингистских звеньев вели бои на участке космоса, занимающем много световых лет и охватывающем более десяти тысяч звезд. Лишь немногие из этих звезд — те, что обладали достаточно плотным пространством, — могли играть какую-то роль в маневрах обоих флотов, однако массовое истребление одних людей другими, состоявшееся 47-го числа глубокой зимы 2959 года, получило впоследствии название Битвы Десяти Тысяч Солнц.
Струятся фотоны вращаются атомы плавятся испаряются переходят в яркий белый свет…
Много прекрасных пилотов погибли в этой жестокой битве, и очень многих из них Данло знал и любил. Он в отчаянии стиснул зубы, когда Ивар Рей на “Божьем пламени”, сражаясь с Нитарой Таль, погиб от случайного водородного взрыва; он видел, как сотни тяжелых кораблей и слишком много легких сгорают, падая в середину Лидии Люс, Катабеллина и самой Звезды Невернеса. Так расстались с жизнью Николо ли Сунг, и Маттет Джонс, и прославленная Вероника Меньшик на “Августовской луне”, и Ибрагим Финн. Данло видел, как Вероника, женщина со стальным взором, отбивалась от трех легких кораблей среди вспышек открываемых и закрываемых окон и как один из противников направил ее по насильственному маршруту в пылающее сердце Звезды Невернеса. Он видел, как испарялись углеродные атомы ее корабля и как водородные атомы ее мозга, взрываясь, переходили в свет. Смотреть дальше у него не было сил. Он не хотел больше видеть, как гибнут пилоты, не хотел присутствовать при неизбежном, как казалось ему, поражении Содружества. Только один пилот, по его мнению, действительно заслуживал смерти в этот день — он сам.
Я ушел недостаточно глубоко. Я еще не вспомнил себя.
И он вернулся от памяти о настоящем к памяти о прошлом. Он ушел в нее глубоко и вновь очутился в темном, теплом материнском чреве. Соленая вода омывала его и пульсировала в нем при каждом сокращении его маленького сердца.
Он чувствовал, что тайна, разгадку которой он ищет, заключена в самом начале его жизни, как алмаз, зарытый в песок на дне океана. Все сознание Данло сосредоточилось на этих моментах, предшествующих его рождению.
Страх горячей дрожью ожег его живот, и он понял, что еще не готов родиться. И что это мирное время перед тем, как его насильно извлекут из чрева матери на режущий глаза свет, — не настоящее его начало. Он начался много дней назад, в сверкающих потоках плазмы, в экстатическом сцеплении половых клеток своих отца и матери. И намного, намного раньше. Ведь если он наконец стал собой, воплотившись в этом нерожденном младенце, который грезит, свернувшись клубком в темноте, и ждет, когда ему откроется свет, то он не в меньшей мере был собой и за день до этого. И за два дня, и за десять, и за двадцать.
На всех этапах своей жизни, от зародыша до комка взрывчато делящихся клеток, он всегда был собой — ибо кем же еще он мог быть? Как алмаз-синезведник всегда остается алмазом, твердым и сверкающим, независимо от количества граней, так сияет и его изначальное “Я”, какую бы форму он ни принял и откуда бы ни взялся. Когда он был зиготой, его “Я” уже заключалось в этой единственной оплодотворенной клетке. И в тех двух клетках, из которых образовалась зигота, в благословенных клетках спермы и яйца; можно сказать, что его “Я” существовало в его отце и матери и во всех отцах и матерях, создавших их.
Если бы он отважился заглянуть достаточно глубоко и совершить обратное путешествие к своему истинному началу, он увидел бы себя в песке и соленых водах мира, породившего всех отцов его отца и матерей его матери. Как родился он, окровавленный и смеющийся, из растерзанного тела своей матери, так родился и мир из пыли, крутящейся среди звезд.
Если бы он ушел далеко-далеко в прошлое и в себя самого, его начало совпало бы с началом самой вселенной. Все его бытие происходило во вселенной и нигде больше. Все его “Я” заключалось в этом великом “Я”, в котором он жил, и двигался, и мечтал о смерти.
Я должен двигаться, подумал он. Вот она, великая тайна: движение.
Все это время он почти не сознавал присутствия Ханумана, который совещался с Эде и подключался к Вселенскому Компьютеру, стараясь убить как можно больше пилотов Содружества. Но раз или два в поле внутреннего зрения Данло, как ракетный огонь в ночную тьму, врывались образы сжигаемых лазерным огнем пилотов. Он видел, как сползает с костей их кровавая плоть и как их корабли, потеряв управление, уходят в черные недра мультиплекса. Видел беспомощно вертящиеся в космосе тяжелые корабли и окна, открывающиеся в огненный ад голубых звезд-гигантов, — и ему хотелось кричать от ужаса всего этого. Но в конце концов он сумел закрыть себя от того страшного, что происходило в нем и вне его, и сосредоточился на стоящей перед ним задаче.
Но как совершить такие движения, чтобы все затихло и я не двигался больше?
Каковы законы движения его сердца? Почему движется его живот, раз за разом накачивая в него холодный воздух?
Сначала, в детской наивности (или в черном отчаянии), он думал, что просто заставит свое сердце остановиться. Что просто вообразит себе, как эта бугристая красная мышца размером с его кулак вздрагивает и умирает — и никогда уже не ощутит прилива крови, наполняющей грудь. Теперь, вглядываясь во влажные неосвещенные коридоры внутри себя, он видел, что его сердцем управляют не приказы мозга — во всяком случае, не только они.
Размеренное биение порождается какими-то центрами внутри самого сердца. Есть особая группа мышечных клеток близ соединения правого предсердия с большим кровеносным сосудом — они-то и задают сердцу его ритм. Каждый момент времени эти клетки срабатывают и посылают электрические импульсы другим клеткам. Биохимический ток плавными, ритмичными волнами бежит по мышцам обоих предсердий и желудочков, побуждая сердце пульсировать жизнью..
Мозг связывается с сердцем и влияет на него через блуждающий нерв, но даже если этот волокнистый жгут перерезать, сердце биться не перестанет. И если Данло хочет умереть, ему нужна помощь не одной только мысли, но и более глубокого органического сознания. Ему придется пройти все темные, кровавые слои себя самого, чтобы добраться до струящегося сознания своих клеток.
Я — не я. Я соль, и железо, и атомы углерода, крутящиеся в моем гемоглобине. Я — это нейтроны, протоны, лептоны, кварки, стринги и ноумены, и так далее, и так далее, вплоть до уровня чистого сознания.
Однажды, на Таннахилле, он уже совершил это путешествие — и видел, как чудесно и несокрушимо материя его клеток живет и горит вечным самосознанием. Он проник в глубину чистого сознания, где вся материя движется как единая мерцающая субстанция. Где материя движет собой, ибо в конечном счете все сознание заключено в материи, а вся материя светится священным пламенем сознания, и разницы между ними нет. Так Данло открыл способ управлять движением своего разума и сумел взглянуть на небесные огни у себя внутри, не утратив рассудка. Он открыл дверь в свет внутри света, в тот чистый первозданный свет, что живет во всем сущем. Но далеко он в тот раз не ушел. Благодаря своему подвигу он заслужил титул Светоносца, но не смог надолго остаться в присутствии того благословенного света: свет был слишком ярок и опалял его, как звезда могла бы опалить крылья мотылька. Теперь Данло снова стоял на пороге бесконечных возможностей жизни и смерти, но золотая дверь оставалась закрытой.
Я — не я. Я кровь, бесконечно циркулирующая по моему телу, я кислород, азот и водород, вновь и вновь наполняющий мои легкие. Я углерод, чьи атомы вращаются в моем мозгу без конца и без цели, виток за витком…
Данло долго оставался в сумеречном мире чистого существования, не способный двинуться ни вперед, ни назад. Он увидел наконец то, что Хануман понял уже давно, после своего странного воспоминания Старшей Эдды: на реальность можно смотреть двояко — и возможно, что верен все-таки взгляд Ханумана. Реальность на самом деле — сущий ад, а существование — вечная мука, где огонь лижет все сущее своим красным языком. Сам Данло на своем глубочайшем уровне — не человек с парой сильных рук и синих глаз, полных мечты и памяти, а только бесчисленные атомы и электроны, только крошечная частица вселенной, всегда пребывающей в чистом состоянии бытия.
Вселенная, можно сказать, пожирает его “Я”, как талло, терзающая снежного червя, и поэтому он существует, как и сама вселенная, без смысла и цели, ради самого существования. Лишь ради того, чтобы быть — но быть чем? Только собой и ничем более. Да, это так: ничто не может быть больше чем собой, и все во вселенной — только чистое бытие, которое жужжит, и шипит, и горит, и трепещет, как темно-красная сердечная мышца под действием электрических импульсов, идущих из нее же самой. Все среди этой черной бесконечности пространства и времени существует само в себе, и всюду, куда ни посмотри, нет ничего, кроме вещей, существующих в неисчислимом изобилии. Отчего в галактике Млечного Пути не одна звезда и не сто, а больше ста миллиардов? Отчего столько людей вьется среди звезд, как мошкара в пламени, если в каждом человеке есть все, что нужно, чтобы страдать, кровоточить, вспоминать и негодовать на первородную муку жизни?
Я — не я. Я — это сто миллиардов нервных клеток, которые корчатся в огне экканы. Я — это многие триллионы атомов, которые вращаются, и вибрируют, и кричат, уходя в кромешную тьму без начала и конца.
В конечном счете он всего лишь материя, которая движется в болезненном и полном ужаса самосознании. Кварки, нейтрино, электроны, инфоны, целые атомы — все они участвуют в безумном, бессмысленном танце материи, стремящейся к самозавершению, которого никогда не достигнет.
Данло долго, целую вечность, смотрел в блестящее зеркало чистого бытия, отыскивая там свое лицо или любой другой знакомый предмет, который сказал бы ему, что хоть одна вещь во всей вселенной существует как законченное произведение искусства, ненарушимое, неизменное и наделенное какой-то целью за пределами себя самого. Но видел он только одно: как его глаза и все его светлокожее тело распадается на бесконечно малые частицы — одни красновато-черные, как засохшая кровь, другие металлически-зеленые, как раздавленный панцирь жука.
Вся материя вечно и постоянно распадается на части, как хрупкая разноцветная смальта, и моментом позже складывается вновь в фантастическую мозаику, еще момент — и эти бесцельные картины рассыпаются в прах, который струится, перемешивается и застывает в виде кристаллических фигур, а те потом распадаются снова, один миллиард раз за другим.
Миллиард раз за один момент Данло пытался найти в себе свое лицо, удержать колеблющееся изображение в посеребренном стекле — но оно вибрировало и разбивалось вдребезги, как соборные витражи под напором ветра.
Нет во вселенной ничего нерушимого, ибо все существует во времени, а время ломает все сущее, как ломает каблук хрупкий лед и человеческие руки — костяную фигурку шахматного бога. Чем глубже всматривался Данло в трепещущее сердце реальности, тем страннее казалась ему она — безжалостная и непреклонная и в то же время хрупкая, как лед, все быстрее и быстрее дробящийся на бесконечно малые частицы.
Скорость, с которой Данло погружался в струящееся сознание материи, ужасала его и вызывала в нем дурноту. Желание умереть теперь просто обуревало его. Время — великий мучитель, ибо каждый момент неумолимо и неизбежно связан со следующим, и эти взаимосвязанные моменты нижутся, как жемчужины на бесконечной серебряной нити, лишь для того, чтобы рассыпаться и исчезнуть в черной, непроницаемой дыре. И выхода нет — нельзя выскочить из колеса творения, чье вращение дико, головокружительно и неуправляемо.
Быть пойманным в капкан времени — это, должно быть, и есть ад; ведь что такое ад, как не горение материи, когда один момент вжигается в другой, без конца, смысла и значения?
Хануман всегда это понимал. Он всегда знал, что вселенная, во всей своей ломкой симметрии и безумной вибрации, при всех своих криках, рыданиях, завываниях и молитвах, всегда задает только один вопрос: да или нет. И что ответ в конце концов должен быть “нет”, ибо вселенная по самой сути своей порочна. Сам акт бытия требует от материи постоянного поглощения и возрождения самой себя, постоянного разрушения форм. Движение на своем глубочайшем уровне есть источник всех страданий и боли. Двигаться значит быть, а следовательно, распадаться и умирать. Не двигаться, найти точку покоя в центре колеса, значило бы познать тот покой, который все сущее ищет, но никак не может найти.
Вот почему Хануман задался целью создать вселенную иного рода вне пределов этого ада, где невинные дети сгорают в горячечном жару или в лучах радиации, идущей от взорванных звезд. Теперь и Данло наконец это понял. Нутром, костями, кровью он понял наконец это странное, трагическое существо с компьютерной шапкой на голове, глядящее в бесконечность своими бледными шайда-глазам и. Когда-то они с Хануманом вышли из одной и той же звезды, и души их созданы из той же огненной субстанции — вот почему они так любят и так ненавидят друг друга.
Я — не я. Я Хануман ли Тош. Я это он, а он это я, и нет между нами разницы. О, Хану, Хану, я никогда не видел тебя по-настоящему, не знал, кто ты на самом деле.
Лежа, как труп, на полу, Данло наконец понял, как отчаянно Хануману хочется умереть. Но он не может умереть, не станет умирать, потому что он, мучаясь в аду своего существования, всегда сохраняет ощущение собственного “Я”. Он цепляется за это, как ребенок цепляется за руку отца на краю утеса над огненным озером. Его ужасает опасность погибнуть в пламени, но он не находит в себе мужества вскарабкаться чуть выше, где ждет его отец.
Целую вечность Данло оставался в одном с Хануманом адовом пространстве. Он падал, и горящие атомы сознания крутились вокруг и пронизывали его насквозь, однако ему казалось, что он не движется вовсе. Он тоже хочет умереть — он должен умереть, он заставит себя умереть, потому что жить ему больше незачем. Покончить с жизнью значит полностью исчезнуть в отсутствии чистого бытия, а он в отличие от Ханумана никогда не боялся этой разновидности персонального уничтожения.
Да, он такой же, как Хануман ли Тош, но он еще и Данло Дикий, Светоносец, сын Солнца и Мэллори ви Соли Рингесса.
Смерть сама по себе не ужасает его, но он боится другого — того, что только начинает шевелиться в нем и что он пока не совсем ясно видит. Оно сияет ярким белым светом, как звезда, и ждет его во всей своей бесконечной дикости и странной красоте. Оно ждет внутри, за той же запертой дверью, что и смерть, и он знает, что в своем стремлении соединиться с Джонатаном и всеми отцами и матерями своего племени на той стороне ему придется встретиться с этим лицом к лицу.
Одна дверь, и только одна, открывается в смерть, которой я жажду. Почему же тогда я не могу найти к ней ключа? Чего я боюсь по-настоящему?
В красном хаосе, который клубился и трепетал вокруг него, как погребальный костер его сына, возникла золотая дверь.
Она парила за самым пределом его досягаемости, окаймленная по краям ярким белым светом. Данло знал, что она ведет в самую глубину его “Я”, и если он хочет найти последний ключ к сознанию и приказать своему сердцу перестать биться, он должен открыть ее и войти.
Данло, Данло, ти апашария ля шанти. Соверши это путешествие и обрети покой по ту сторону дня.
Грудь Данло непроизвольно вздымалась и опускалась, поддерживая в нем жизнь, но в остальном его тело, лежащее под длинными окнами башни, оставалось неподвижным. За стенами собора выл ветер, и Данло слышал зовущие его голоса — но когда он прислушивался к самым глубоким своим ощущениям, крики и шепоты, надрывающие ему сердце, шли, как ни странно, не извне, а изнутри. Хайдар, Чандра и все его родичи звали его к себе, и отец с матерью тоже, и Джонатан. Они призывали его вспомнить, как они страдали, и остаться живым в то самое время, как они зовут его прочь из страха, столь полно овладевшего им.
Данло, Данло, единственный выход наружу ведет внутрь.
Один из голосов в холодном ветре, пробирающем его душу, звучал громче других, высокий и резкий, ужасный и прекрасный — голос Агиры, снежной совы, его второго “Я”. Агира призывал его быть мужественным и найти выход из огненной клетки бытия, призывал вспомнить, кто он есть на самом деле, вспомнить то единственное, что имеет значение.
Данло, Данло, единственный путь наружу ведет внутрь, в центр тебя самого. Но чтобы дойти туда, ты должен сначала вспомнить разгадку.
Внутри у Данло сверкнула молния, и ему показалось, что некая великая тайна открылась перед ним. Но то была лишь игра его второго зрения, лишь окно в мультиплекс, завлекающее легкий корабль в пламя голубой звезды-гиганта. Данло лежал оцепеневший, потрясаемый страданиями всех, кто умер до него, и не мог вспомнить даже саму загадку, первую из Двенадцати Загадок, не говоря уж об ответе на нее.
И тогда Агира тонко и страшно прокричал в нем: Как поймать красивую птицу, не убив ее дух?
И тогда Данло понял, что должен знать ответ, что он всегда его знал. Разгадка жила в снегу, и в ветре, и в обрызганных кровью камнях пещеры, где он родился. Она жила в земле кладбища деваки, и в единственной клетке водоросли, поглощенной снежным червем, и в чешуйке моржовой кости от сломанного бога. Память обо всем содержится во всем. Чтобы решить эту загадку, он должен заглянуть в углеродные атомы материнской алмазной сферы и отцовского алмазного кольца, которое он теперь носит на собственном мизинце.
Он должен заглянуть в себя самого — тогда в его синих глазах вспыхнет вторая строка двустишия, и он услышит ее музыку в своей крови; она пройдет сквозь его сердце молекулой кислорода, составившей часть последнего вздоха Джонатана.
Разгадка лежала в нем, как два безупречных алмаза. От него требовалось только опустить руку в ад своего бытия и достать алмазы из огня. Два слова, два простых слова, которые дед, посвящая Данло в мужчины, не успел вымолвить перед смертью; Данло сам должен вспомнить эти страшные слова, которых никогда не слышал. Может ли он сделать это?
Он должен; он должен заставить себя вспомнить, иначе ему никогда не завершить путешествия, начатого так давно.
Как поймать красивую птицу, не убив ее дух?
И ответ пришел к нему сам собой: Стать небом.
И тогда дверь наконец отворилась; Огненный вихрь налетел на него, насытив своей страшной энергией, и Данло переступил порог обиталища жизни и смерти. Он наконец освободился от Данло Дикого, Данло Пилота, Данло Миротворца и Светоносца и от других своих ипостасей, которые держали в плену его наиболее истинное и глубокое “Я”. Он смотрел в мерцающие звездами небеса и пытался объять то ужасное и прекрасное существо, которым был на самом деле.
Синева внутри синевы внутри…
Но способен ли он это объять? Единство, объединяющее все сознание, всю материальную реальность, сияло так ярко, что ослепляло его, плавило его тело, разум и душу. Оно горело светом внутри света, бесконечно ярким, бесконечно ясным, бесконечно глубоким. Это чудесное единство было парадоксальным по самой своей природе, ибо обитало само в себе вне времени и вне разнообразия внешней вселенной. Оно непрестанно двигалось, образуя узоры прекраснее соборных витражей, и при этом в каждой точке своей оставалось тихим и неподвижным, как свежевыпавший снег. Оно было более пустым, чем черная межгалактическая пустота, и при этом полным, как голубая фарфоровая чаша, до краев налитая асаллой. Оно являло собой невообразимый промежуток между моментами времени и при этом вмещало в себя возможности всего сущего. Оно было везде одинаковым, как вода в безбрежном океане, и, как вода, неделимым — в том смысле, что деление воды на литры, унции и капли только увеличивает ее количество. Но еще больше Единство напоминало жидкие самоцветы, как будто бесчисленное множество алмазов, изумрудов и огневитов расплавилось в сплошную сверхсветовую субстанцию, каждая точка и частица которой отражает свет каждой другой.
Бесконечные возможности.
Все сущее проистекало из этого непостижимого единства, все выходило из него, как птенец талло из яйца. Единство, заключенное в центральной точке творения, пребывало в вечном и совершенном покое и при этом горело жаждой двигаться и быть. И здесь таился главный парадокс: Единство, будучи блаженством и миром, квинтэссенцией мира, при этом воевало с самим собой. Исходя из фундаментальной полярности и противоположности одинаковых частей, оно всегда задавало один и тот же вопрос: да или нет? И ответ во всей его мерцающей бесконечности всегда был “да”, ибо только из этой вечной войны в небесах создается бытие.
И потому неразличаемое единство различается во всем сущем, из его напряжения родится движение, великий космический танец — танец Шивы, творца и разрушителя. В своем насильственном и болезненном вхождении во время Единство струится, как жидкий свет, вечно вихрясь и образуя воронки прекраснее алмазов и огневитов. Как завихрения плазмы образуют все более крупные структуры внутри звезды, так и эти завихрения прасознания сплетаются в инфоны, струны, разноцветные кварки и прочие аспекты материальной реальности.
И весь этот поток творения сохраняется через память. Память по-своему и есть сознание — вернее, та часть вселенского сознания, что сохраняет материальные проявления Единства.
Материя — это память, а эволюция — полный дикой энергии танец материи, которая перетекает в чудесные новые формы и учится быть все более сложной, а стало быть — более живой.
Вся материя содержит в себе память о развивающемся сознании самой вселенной. Все, что когда-либо происходило во вселенной — будь то рождение звезды в галактической группе Скульптора или смерть ребенка на берегу замерзшего моря, — записывается в потоках фотонов, в черном алмазе пилотского кольца и в кружащейся на ветру снежинке. Память обо всем содержится во всем, и неисчислимые тайны заключены в камнях, океанах, дрейфующих льдах — и даже в единственной красной кровяной клетке, совершающей горящий круговорот в человеческом сердце.
Бесконечные возможности.
Данло нашел наконец центр вселенной — центр самого себя, ибо в бесконечности вселенной каждая точка пространства-времени есть центр. И увидел наконец, что может покончить со всем этим, когда захочет. Как вселенная вечно спрашивает “да или нет” в каждом своем моменте и в каждой точке, так спрашивает и он. Да или нет, нет или да — выбор всегда есть. В конечном счете мы сами выбираем свое будущее, говорила его мать. Он может выбрать либо смерть, либо жизнь, здесь и сейчас, лежа без движения на полу.
Нет, нет — это слишком тяжело. Но ведь я обещал…
Данло лежал молча, слушая голоса у себя внутри. Косатки и другие киты, что плавают в холодных океанах и ныряют под айсберги, в полной мере осознают каждый свой вдох; эти великие боги глубин могут просто перестать дышать и умереть по собственной воле, когда хотят, — и Данло знал, что и он тоже может.
Данло, Данло, ти алашария ля шанти. Умри в себе, чтобы могло родиться самое глубокое твое “Я”.
Ветер снаружи обдавал окна кислородом, и сердце Данло изнывало по чистому, холодному, воздуху.
Нет. Я не могу. Нет, нет — я боюсь.
Голоса слышались и снаружи — это Хануман говорил с очередным посланцем Сальмалина. А еще дальше (но совсем близко) наполняли вселенную крики гибнущих пилотов. И все же те голоса, что звучали внутри, были страшнее всего.
Данло, затаив дыхание, в десятитысячный раз слышал, как Джонатан зовет его через продутый ветром берег, через замерзшие пески его души.
Пожалуйста, папа.
И Данло захотел умереть. Один глоток воздуха, один момент времени отделял его от того, чтобы совершить путешествие на ту сторону дня. Его остановил сын. Джонатан, как ни странно, звал его не умереть, а жить. Данло задержал дыхание, и сердце ударило у него в груди один раз, и два, и три — а потом он услышал, как другие дети тоже зовут его жить. Все его сыновья и дочери, ожидающие рождения от его тела и бытия, призывали его найти в себе мужество и открыть наконец глаза. Все дети его детей через века, через звездные пространства космоса призывали его принять наконец собственную страшную красоту и дать им жизнь.
Пожалуйста, отец. Отец, отец, пожалуйста.
Он прислушался к молекулам воздуха, застоявшимся в его легких, и ему показалось, что в нем звучат голоса всего, что когда-либо существовало в пространстве и времени. Он прислушался к ветру и к молчанию льдов в великом одиночестве моря, прислушался к грезам спящего под снегом червя и к воплям роженицы. Все пилоты легких кораблей и все исстрадавшиеся, голодающие народы Цивилизованных Миров пытались сказать ему что-то, если ему достанет мужества это понять. Маленькие созидалики и другие жители Золотого Кольца в пронизанных светом пространствах над Невернесом шептали ему о том единственном, что имеет значение, и он слышал это единственное слово столь же ясно, как-слышал огненное дыхание звезд. Вся вселенная в каждой своей точке и в каждом моменте творения звала его жить, звала выплеснуть из сердца единственный чистый звук.
Да.
Он снова вспомнил себя и оказался в чреве своей матери в первые моменты после зачатия. Все его существо горело страшной волей зиготы, единственной мерцающей клетки, которой не терпелось выплеснуть в жизнь все бесконечные, свернувшиеся в ней возможности. Да, сказал он, и этот звук пробежал по светящейся цитоплазме в середину ядра. Данло, как луч света, прошел сквозь пространство и время и пережил другие моменты своей жизни. Вот он, совсем маленький, сидит на коленях у матери, и она кормит его кусочками сырого мяса: вот он, чуть постарше, стоит на коленках в снегу над убитым зайцем, первой своей добычей.
Он был подростком, разносящим чаши с кровяным чаем умирающим деваки, и мужчиной, вгоняющим копье в ревущее сердце медведя, чтобы отдать жизнь этого благословенного зверя своему сыну. Он сидел на тяжелом золотом кресле в Небесном Зале и смотрел на священные огни внутри себя; он сидел в холодной темной камере, а воин-поэт впрыскивал ему свое адское зелье и срывал ногти с его пальцев.
Он стоял на застланном красным ковром алтаре собора, и Хануман ломал вырезанного им шахматного бога. Ветер вышиб витражное окно над ними, и Данло прикрыл Ханумана своим телом, спасая ему жизнь. Все эти моменты были итогом и смыслом его благословенной жизни — ни добавить, ни убавить. Он был пеплом погребального костра на ветру и звездой, рождающейся в океанах ночи. Он был Данло Диким, Светоносцем, сыном своего отца и Десяти Тысяч Солнц, и вся его жизнь переплеталась с тем, что было, и с тем, что еще будет.
Да?
Он поистине был вселенной, а вселенная была им, и не было между ними разницы. Силы пространства и времени в его крови, в огненных клетках его мозга гнали его навстречу тому, для чего он родился, каким бы пугающим ни было это предназначение. Но чего же хотела от него вселенная? Чем она, через него, хотела стать сама? Чем-то чудесным, думалось ему. Чем-то сияющим бесконечным состраданием и любовью превыше любви. Но в то же время и чем-то, озаряющим ночь своей страшной красотой, живущим по законам клюва и когтя в яростной и безжалостной воле к жизни. Чем-то беспредельно диким и белым, как сарсара, смешивающая небо с землей.
Бог, вспомнил он, — это великая белая талло, чьи крылья простираются до самых концов вселенной. Бог спит, но однажды пробудится и взглянет на себя самого, и все сотворенное им зазвенит от его радостного крика. Это-то пробуждение и ужасало Данло. Он страшился этого бесконечного существа, к которому ничего нельзя добавить и от которого ничего нельзя отнять. Оно взывало к нему через будущие века, и оно же когда-то призвало его в жизнь; оно кричало, повелевая ему открыть глаза, расправить крылья и воспарить вместе с талло и другими птицами в глубокое синее небо.
— Да, — шепнул Данло, шевельнув губами, и дыхание вырвалось из него. — Да.
Он произнес это почти неслышное утверждение, и небеса отворились. Время остановилось, и что-то беспредельно яркое, как взрыв звезды, озарило его внутренние небеса. В один момент за пределами времени свет пронизал, как молния, его голову, сердце, живот и чресла — каждую частицу его тела.
Священная молния с треском обвила его позвоночник, насытив электричеством нервы до самых пальцев рук и ног. Она прожгла его мускулы и кости огнем столь бесконечно жарким, что он не испытал ни боли, ни страха — только радость, чистую радость.
— Да, — сказал он, и экстатический золотой огонь коснулся одновременно каждой из четырех триллионов его клеток. Чувство было такое, будто единая светящаяся субстанция хлынула в каждую из них и заполнила их до отказа эликсиром любви и света. Эти микроэкстазы не были отдельными событиями — каждая клетка подпитывалась огнем других, и все существо Данло, духовное и телесное, ожило в едином моменте чистого, поющего света. Сияние поглотило его целиком, и он растаял в небе, как снежинка под солнцем. Он умер для своего маленького “Я” и явился, кружась, пляша и сверкая, в потоке бесконечного света, озаряющего все сущее.
— Да, да, да!
Чем дольше пребывал Данло среди этого Единого Света, тем ярче тот становился. Свет шел во все стороны бесконечной сферой, пылающей, как десять миллиардов солнц. Его священный огонь зажигал все вокруг: мраморные плиты пола, шахматные фигуры из кости и осколочника, высокие окна, глядящие в ночное небо. Нет, “зажигал” — неверное слово: свет шел изнутри всего этого, словно все в мире спешило излиться, приобщившись к его сиянию. Каждый атом творения пел в собственном экстатическом, сверкающем танце, ибо каждый из них вмещал в себя все бесконечные возможности жизни, и в каждый момент времени рождалось нечто чудесное, рождалось всегда и навеки.
— Да, да, да!
В этом и заключалось величайшее чудо Единого Света: Данло был лишь бесконечно малой его частицей, он таял в его сияющей радости и при этом составлял с ним одно целое.
Все его существо издавало ликующий крик завершенности и полного триумфа, ибо вся память, вся материя, все пространство и время принадлежали ему. Вся сила и все возможности вселенной ждали внутри него, чтобы сфокусировать его сознание в одном направлении. Вселенная переделывала себя в его крови и костях, в огне, в сиянии, с любовью превыше любви — но не она ваяла его, а он сам.
— Да, — прошептал он, и его сознание хлынуло наружу и проникло глубоко внутрь, как мед впитывается в горячий хлеб, и напитало каждую его клетку золотым светом. Он приказал себе быть и стать и почувствовал себя столь совершенно и полно живым, как никогда прежде.
— Да. Я так хочу.
Он хотел двигаться. Хотел вскочить с ковра, и воздеть руки к небу, и в крике выплеснуть из себя дикую радость жизни.
Но он не мог двинуться, поскольку парализующее средство воина-поэта по-прежнему сковывало его. Он не мог пошевелить мускулами груди, живота, рук и ног, но его сознание струилось по его воле — в этом и состояла главная тайна всей материи и всего бытия. И сейчас его сознание пробуждало клетки его тела.
Он чувствовал жжение и покалывание не только в нейронах головного и спинного мозга, но и в клетках кожи, в клетках брюшины и в костных клетках, производящих коллагеновые белки и откладывающих слои красивых минеральных кристаллов, обеспечивая опору всем тканям его тела. Сознание пело в половых клетках и в крови, заставляя все тело вибрировать на высокой частоте. А еще глубже, в ядре каждой клетки, разматывались и вибрировали с частотой миллиард раз в секунду темные нити ДНК: это участки хромосом, которые никогда еще не активизировались, включались и оживали для своей истинной цели. Тамара, согласно теории Общества Куртизанок, называла эти участки Спящим богом. Куртизанки мечтали, что когда-нибудь люди сумеют пробудить этого бога и познать тайну жизни. Тогда они овладеют всеми возможностями эволюции и двинутся в будущее с полным сознанием и волей, чтобы стать настоящими людьми — а может быть, и чем-то выше людей.
Бесконечные возможности.
Митохондрии в мышечных и костных клетках Данло пульсировали энергией, как крошечные звезды; ДНК в клетках гипофиза запела и заплясала на новый, странный лад. Движение ощущалось в гипоталамусе, в поджелудочной железе, а больше всего в шишковидной, что позади третьего глаза.
Миллионы двойных спиралей ДНК разматывались, обнажая цепочки аденина, тимина, гуанина и цитозина, отвечающие за производство белков. Двадцать аминокислот человеческого организма, от серина до триптофана, могут сплетаться, как разноцветные нити, в почти бесчисленном количестве вариантов, создавая белковые ковры поразительной сложности.
Клетки способны вырабатывать кортизол, мелатонин, энзимы и эндорфины, действующие на нервную систему, как наркотики, — и белки-антагонисты, нейтрализующие их действие.
Где-то на протяжении миллионов миль ДНК, трепещущей в клетках Данло, должен был содержаться рецепт противоядия от парализующего его химического вещества.
Рецепт, секрет, тайна. Материя, память, разум.
Глазами разума и сознанием своего глубочайшего “Я” Данло вглядывался в чудесную материю, сияющую в центре его клеток. Он смотрел, прикасался, он двигался, и в его крови загорались длинные цепи полипептидов и сверкающих новых белков.
Вот он, секрет: двигаться, двигаться, менять свои вещества.
Жжение шло в руки и пальцы с каждым ударом сердца.
Раз, два, три, отстукивало оно — и сто раз, и двести. Способность ощущать, разгораясь все жарче, наполняла каждую часть его тела. Данло стало казаться, что ему ввели еще одну дозу экканы: его ткани, оживая, болели так, точно оттаивали после обморожения, и он едва сдерживал крик.
Боль — это сознание жизни, вспомнил он. Да, боль, всегда боль.
Он полностью отдался этой благословенной боли, и она стала меркнуть в потоке его всеобъемлющего сознания. Он содрогался от огня жизни, пробегающего по его нервам и сухожилиям. Руки начали дрожать, бедра под черным шелком наливались жаждой движения. Данло понял, что к нему вернулась способность владеть всем своим телом, а с ней, возможно, пришло нечто гораздо большее.
Тайна в движении. Всегда в движении. Двигаться значит быть.
Он наконец-то открыл глаза. Радужные шары заливали комнату великолепным золотым светом. Данло улыбался, глядя на мантелеты, сулки-динамики, даже на блестящие оптические компьютеры. Медленно повернув голову, он увидел изображение Николоса Дару Эде, все так же витающее над образником. В нескольких футах от него стоял Хануман, неподвижный, как статуя. Его глаза смотрели в никуда, дыхание было трудным и частым. Алмазная кибершапочка на его голове светилась миллионами нитевидных пурпурных нейросхем. Изображения пилотов не появлялись больше в комнате, чтобы доложить о ходе сражения. Теперь Канту Дарден, Диами ви Шива Аларет и другие пилоты, выходя в реальное пространство над Невернесом, передавали свои сообщения по радио, на приемники Вселенского Компьютера.
Легкие корабли как сверкающие мечи прорезают окна в подпростанство и тяжелые корабли вращаясь уходят через черный космос в огонь зовущий к себе все сущее и песни вздохи и крики сливаются в один звук да да да…
Данло, по-прежнему лежа на полу, смотрел сквозь высокие окна на яркие огни в небе. Он понял, что пролежал здесь почти всю ночь, решая, жить ему или умереть. Он посмотрел в другое, более прозрачное окно и увидел корабли обоих флотов, раскинутые на пространстве от Невернеса до Веды Люс среди десяти тысяч звезд. Последняя битва этой войны продолжалась, и лазеры сверкали, и легкие корабли падали в пламя звезд. На улицах Невернеса тоже шел бой. Данло чувствовал взрывы, сотрясающие дома Старого Города, слышал, как чиркают пули о камень, видел, как кольценосцы Бенджамина Гура штурмуют двери собора. Они, как и все в городе, знали, что Мэллори Рингесс вернулся со звезд и принес с собой разгадку жизни и смерти.
Да, разгадку, думал Данло. Как движется мое тело? Так же, как двигаюсь и я в танце вселенной. Двигая своим телом, я движу вселенной.
Набрав воздуха, он одним движением вскочил на ноги, обратил лицо к свету звезд и улыбнулся.
Глава 24 ЛЮБОВЬ
То, что делается из любви, происходит по ту сторону добра и зла.
Фридрих МолотДанло, двигаясь с быстротой и спокойствием снежного тигра, чувствовал себя легким, как парящая в небе талло. Перед ним был ни о чем не ведающий Хануман, позади — ведущая в собор дверь. Данло знал, что непременно должен добраться до этой двери — и, если понадобится, взломать ее, использовав силу, которой наделил его Констанцио.
Одна дверь, и только одна, открывается в золотое будущее, которое я видел.
Как белый медведь, скрадывающий тюленя, Данло сделал к двери один шаг, потом другой. Эде, это порождение света и программирования, видел, конечно, как он ожил, и смотрел на него не отрываясь.
Молчи, взмолился про себя Данло. Будь тих, как перо, летящее по ветру.
Он сделал третий шаг, потом четвертый, а программа Эде тем временем ускоренно просчитывала все вероятности. Эде, попеременно выразив на лице удивление, подозрительность и страх, внезапно заорал:
— Лорд Хануман, он ходит! Лорд Хануман, лорд Хануман!
Хануман почти мгновенно прервал контакт с Вселенским Компьютером и взглянул на Данло. Шок отразился в его бледных глазах и пробежал по лицу, как трещина по льду. Несмотря на неожиданность, он сразу понял, что Данло каким-то образом переборол парализующее средство воина-поэта, и его лицо превратилось в маску ненависти, ибо он увидел в Данло то единственное, чего боялся всегда. Время почти остановилось. Хануман не отрываясь смотрел на Данло, пульсирующего новой жизнью, и видел в его синих глазах свет десяти тысяч солнц.
— Лорд Хануман!
Он длился, вечный золотой момент за пределами времени и звездной ночи. Данло и Хануман смотрели друг на друга и наконец-то видели себя такими, как есть. Их судьба раскрывалась перед ними, как последние страницы книги, которую они написали сообща каждым мгновением своих разных, но загадочным образом соединенных жизней. Волей Ханумана всегда было любить свою судьбу, какой бы страшной и трагической она ни была, а теперь это стало и волей Данло.
Ти-анаса дайвам.
— Лорд Хануман!
Время снова пришло в движение, и чары рухнули. Хануман с поразительной скоростью перешел в наступление ради защиты своей заветной цели, и Данло сделал то же самое. Он бросился на Ханумана в тот самый момент, когда тот выставил вперед кулаки, приняв боевую позицию, усвоенную им с детства. Еще миг, и кулаки вместе с ногами замелькали вихрем, подбираясь к смертельной точке на горле Данло.
— Лорд Хануман, убейте его!
Данло встретил атаку Ханумана с улыбкой, в полном сознании своей силы, хотя понятия не имел, как отражать его удары. Вскинув руку, он принял на нее удар тяжелого ботинка, метнулся вправо, потом влево — и с размаху налетел на шахматный столик; тридцать одна фигура разлетелась в стороны. Данло кинуло на оптический компьютер, и сталь впилась ему в позвонки.
Хануман наседал, работая локтями и коленями, тыча ему в лицо своими длинными ногтями. Ребром ладони он угодил Данло по носу, и Данло почувствовал (и услышал), как хрустнула кость.
Из ноздрей брызнула кровь, как у проткнутого копьем шегшея.
Данло закряхтел и попытался перехватить руку Ханумана, но тот был слишком скор — теперь его маленький, но сильный кулак бил раз за разом в мягкое место под сердцем.
— Убейте его, лорд Хануман! Вы его можете убить, а он вас нет!
Но убить Данло было не так-то просто. Удар по носу любого другого уложил бы без сознания, но Констанцио сделал черепные кости Данло толстыми и массивными, как гранитные глыбы. Воля к жизни, закаленная ветром, огнем и стылой водой, хлестала из него с мощью океанского шторма. Где-то далеко (и совсем рядом) слышались зовущие голоса Джонатана и отца. Второе его “Я”, Агира, пробудилось в нем полностью и посылало в небеса крик дикой радости. В порыве анимаджи, воспламеняющей его клетки, Данло сумел поймать руку Ханумана. Они схватились, и Данло ощутил тонкость костей предплечья и вялость мускулов, утративших силу за долгие часы контакта с компьютерами. Пальцы Данло сжимались все крепче, словно челюсти тигра, и тогда он вспомнил первый и единственный принцип ахимсы: “Никогда не убивай, никогда не причиняй вреда другому, даже в мыслях”.
Он мог бы отпустить руку Ханумана, но Джонатан напомнил ему, зачем он пришел в жизнь и кто он есть на самом деле.
Пожалуйста, папа. Пожалуйста, живи.
И Данло с дикой силой, льющейся из его глаз, как звездный свет, с бесконечно печальной улыбкой на губах вывернул Хануману руку и переломил обе лучевые кости. Он услышал скрежет сквозь кожу Ханумана, сквозь холодный взвихренный воздух, и ощутил, как острые концы костей впиваются в мускулы и нервы, как будто это ему сломали руку. Боль была так ужасна, что он едва сдержал крик. Но Хануман, яростно сцепив зубы, не закричал — по крайней мере не выпустил из себя ни звука, ни дыхания. Он смотрел на Данло молча, как цефик, и его бледно-голубые глаза полнились мукой, ненавистью, любовью, свирепой болью и внезапным пониманием.
Данло перехватил и сломал его другую руку. Потом зашел ему за спину, дернул его на себя, и они вместе рухнули на каменный пол. При падении сломанные кости Ханумана прорвали кожу и золотой шелк рукавов. Острый зубец вспорол руку Данло, как нож, и кровь Ханумана въелась кислотой в его кровь, а дыхание Ханумана, выходящее наружу резкими, отрывистыми толчками, смешалось с его дыханием.
— Убей его! — завопил Эде — он, как видно, начал сильно сомневаться в верности Данло ахимсе. — Убей, пока он тебя не убил!
Но Хануман, лежа на боку с зажатой внизу рукой, мог теперь шевелить разве что губами. Данло навалился на него сверху, как тигр на ягненка, придавил коленями его ноги и мощным туловищем — его хрупкое тело.
Никогда не убивай, вспомнил Данло — но другой, куда более глубокий голос отозвался изнутри: Пожалуйста, папа, живи, чтобы мои братья и сестры тоже могли жить.
Данло смотрел сверху на Ханумана, и кровь из его сломанного носа стекала Хануману на лицо. Капля за каплей падали на мертвенно-бледную кожу, как красные слезы. Под башней, на улицах у собора, шипели лазеры, свистели пули и кричали люди. Кибершапочка на голове Ханумана вспыхнула, и Данло догадался, что Хануман связывается с кем-то — очень возможно, вызывает себе на помощь божков из собора.
Очень скоро Ярослав Бульба с другими воинами-поэтами может взбежать сюда по лестнице и вломиться в дверь.
Вспомни, кто ты есть на самом деле, сказал Данло далекий голос. Потом он приблизился и добавил уже яснее: Я — не только я. Я тот, кто всегда живет во мне, как талло в небе.
Хануман, в конвульсивном приступе ярости и ненависти, попытался ударить его в лицо своей одетой в алмаз головой.
Данло в последний момент отклонился вбок, отделавшись скользящим ударом по щеке. Ярость вскипела и в нем, наливая тяжестью руки. Ладонью он сбил голову Ханумана обратно на пол, запустил ногти под примыкающий ко лбу край шапочки, сорвал ее и отшвырнул прочь. Она заклацала по полу.
Вместе с шапочкой от лба оторвались куски державшего ее клея и ошметки кожи. У Ханумана впервые вырвался стон, и его глаза выразили панику и смятение. Беспомощный, с лысой окровавленной головой, он походил на младенца, которого слишком рано извлекли из материнского чрева и бросили нагим и слепым в холодный мир. Внезапно прерванный контакт с Вселенским Компьютером стал шоком не для него одного: глядя в черные точки его зрачков, Данло видел, как последствия этого разрыва идут через космос к месту сражения двух флотов и дальше, в просторы вселенной.
— Убей его! — требовал тонкий ноющий голос Эде, и непонятно было, к кому он обращается теперь: к Хануману или к Данло. — Убей поскорее!
Никогда не убивай, в десятитысячный раз подумал Данло.
Он посмотрел на свои руки. Правая удерживала руку Ханумана, левая прижимала к полу его кровоточащую голову. Этими самыми руками он когда-то отдал Хануману свою рубашку, спасая его от холода на площади Лави, и тем подарил ему жизнь. Лучше умереть самому, чем убить.
— Убей! Убей! Убей!
Пожалуйста, папа, прошептал Джонатан. Пожалуйста, убей его, чтобы благословенные племена и все народы Цивилизованных Миров могли жить.
Данло видел, что у вселенной есть два пути: безумный план Ханумана, задумавшего втиснуть все сущее в огромный, черный шайда-компьютер, или его собственный золотой путь, о котором он мечтал так долго. И выбор этот зависел от него, от него одного. Пальцы его левой руки касались ссадин на лбу Ханумана. Данло чувствовал ожог его крови и ожог страха, молнией прожигающего мозг Ханумана.
Ти-анаса даивам.
— Пожалуйста, Данло, — сказал вдруг Хануман, глядя на него своими бледными шайда-глазами.
— Нет. Я не могу, — ответил Данло, не поняв даже, чего просит у него Хануман: жизни или смерти.
— Пожалуйста, Данло. Отпусти меня.
— Не могу. Прости.
Хануман смотрел на него долго, и глубокое понимание прошло между ними. Хануман, внезапно закрыв глаза, стал проклинать про себя свою жизнь (или молиться), а высокий страшный голос, звучащий внутри Данло, по-прежнему требовал его смерти. Наконец Данло, полуослепший от слез, печально склонил голову и прошептал:
— Да. Я должен. Да. Я хочу этого.
Вселенная пришла в движение. Сквозь пол Данло чувствовал притяжение ее звезд и планет, свершавших свой извечный путь в небесах. Его левая рука как бы сама собой накрыла лицо Ханумана, и Хануман отчаянно замотал головой, пытаясь спастись от его пальцев, зажавших ему нос и рот. Данло, держа двумя железными пальцами его ноздри, чувствовал, как грудь. и живот Ханумана работали что есть мочи, стараясь вдохнуть. Челюсти Ханумана лязгнули, и Данло слегка изогнул лежащую на его губах ладонь, остерегаясь укуса. Вскоре шею Ханумана начало сводить судорогой, и он с приглушенным криком прекратил борьбу. Тогда Данло припал головой к его голове и прошептал:
— Хану, Хану, пожалуйста, умри поскорее.
Он душил Ханумана, лишая его дыхания жизни, и его жгучие слезы капали на ободранный лоб Ханумана. Данло, как и во время их давней первой драки в горячем бассейне Дома Погибели, чувствовал между ним и собой неразрывную связь. Их сердца и теперь бились как одно, а таинственное единение их душ стало еще глубже. Он весь помещался в Ханумане, а Хануман — в нем; они вместе прошли через тот же губительный огонь и горели той же беспредельной болью. Тат твам аси, вспомнил Данло. Ты есть то. В отчаявшихся глазах Ханумана сиял тот же свет, что и в его глазах, и в каждом атоме крови их обоих мерцала та же сверхсветовая субстанция. Данло не мог причинить Хануману вред, не навредив при этом себе самому; если он убьет его, то и сам умрет.
Ти-анаса дайвам.
— Хану, Хану, — шептал он, — умри, пожалуйста, умри.
Он чуть не отнял тогда ладонь от рта Ханумана. Приподняв голову, он увидел, как синеет понемногу это бледное лицо и как глаза наливаются невесть откуда взявшейся волей к жизни.
Страшная красота. В том, как Хануман, глядя в себя, отрицал все во вселенной, кроме своего великолепного “Я”, было что-то невыразимо ужасное и столь же невыразимо прекрасное. Данло не знал, как можно отнять у Ханумана эту красоту, как можно убрать из жизни это порочное, но прекрасное существо.
Быть рожденным в этот мир — даже больным ребенком хибакуся, изуродованным мутагенной радиацией и обреченным на смерть, — есть величайший дар. Кто он такой, чтобы отнимать этот дар у Ханумана или у кого бы то ни было?
Я — только я, всегда я, думал Данло. Я белая талло, одинокая в небе. Я тот, кто живет во мне и миллиард лет ждет своего рождения.
Кто он такой? Он огонь далеких звезд; он свет внутри света, что сияет во всем сущем. Он — это вселенная во всей ее страшной красе; он такая же часть ее, как кто бы то ни был и что бы то ни было. Он — это чудесная армия триллионов мерцающих атомов, любящих существо по имени Хануман ли Тош. И ненавидящих его. В самой своей глубине он не чувствует к Хануману ни гнева, ни ярости — только ненависть.
Ненависть не ординарную, но дикую, как ветер, глубокую, темную и безбрежную, как ночной океан. Эта ненависть настолько превосходит всякую ненависть, что почти переходит в любовь; любовь Бога, который, воплотившись в Шиву, уничтожает все сущее в своем космическом танце, чтобы создать бесконечное множество новых форм.
Все, что есть во вселенной, должно участвовать в этом экстатическом, трагическом, вечном танце. Отрицать его значит отрицать саму жизнь. Отрицать себя самого, пытаться спрятаться от жизни. А этого, если он хочет сказать “да” своему истинному “Я” и утвердить все во вселенной, он никогда больше не сделает. Кто он такой? Он — молния, раскалывающая небо и сжигающая высушенные ветром деревья и травы; он — таинственный огонь, прожигающий сквозь золотые одежды тело и душу человека; он — вселенная во всем ее страшном сострадании, часть вселенной, предназначенная убить человека, которого он любил, как брата.
Ти-анаса дайвам.
Глядя в полные ужаса глаза Ханумана, он еще крепче зажал ему рот.
— Ми алашария ля шанти, шанти — усни, брат мой, усни.
Это в конечном счете и есть истинный Путь Рингессов.
Его дед и отец понимали страшную необходимость убивать — и мать, возможно, тоже. Отдавай, говорила она; будь сострадательным. Теперь, когда Хануман содрогается и тщетно пытается крикнуть под безжалостным нажимом его руки, он должен отдать всего себя, чтобы совершить акт убиения. Теперь и он наконец понял, какие страшные требования предъявляет к человеку сострадание такого рода.
“Пожалуйста, Данло”, — безмолвно молили глаза Ханумана. Свет еще брезжил в них, как на исходе ненастного, снежного дня. Они постепенно тускнели, и все же нечто прекрасное присутствовало в них; казалось, что Данло, если будет ждать достаточно долго, увидит, как в Ханумане всходит солнце. “Прошу тебя, прошу”.
Истинное сострадание способно принимать множество форм. В то самое время, когда Хануман отчаянно боролся за жизнь, часть его отчаянно хотела умереть. У него так было всегда. Он, столь остро ощущавший жгучий огонь чистого бытия и ненавидевший жизнь, всегда с тоской смотрел на темный проем двери, ведущей в смерть. Он должен был сознавать стремление всего сущего к смерти, и сознавать, что за ее порогом ожидает ад, вечный круговорот рождений и существований, ибо жгучему бытию вселенной нет конца. Поэтому и жизнь — его жизнь и жизнь вообще — длится вечно.
Хануман, если бы мог, охотно сказал бы “нет” этой благословенной жизни и открыл дверь. Но по-настоящему выхода не существует. В конечном счете все сущее должно сказать “да”.
Должно сказать — и Данло тоже должен.
“Данло, Данло”.
Он зажимал рот Хануману, и молекулы сдавленного дыхания обжигали порез у него на руке. Хануман, крошечная частица вселенной, буквально умирал от желания вернуться к себе. И Данло, другая крошечная частица, должен был ускорить его Возврат.
— Нет, я не могу, — шептал он, и тут же: — Да. Я должен. Я так хочу.
У Ханумана, когда он услышал это, заклокотало в горле.
Он содрогнулся, жалобно застонал и напрягся в тщетной попытке излить в крике всю свою боль. Данло тряхнул головой, стряхивая слезы, — ему тоже хотелось кричать.
— Хану, Хану, — прошептал он, следя, как меркнет свет в глазах Ханумана, — пожалуйста, прости меня.
На протяжении одного бесконечного момента Хануман смотрел на него бледными, полными муки глазами — а затем вселенная отворилась снова. Боль, которой Данло еще не ведал, подхватила его и понесла во тьму, как морское течение. Он испытывал такое чувство, будто сама планета навалилась на него, круша ему грудь и живот. Его собственное дыхание внезапно пресеклось, и сердце остановилось.
Скоро его клетки, лишенные кислорода, начнут умирать, и все его тело, вытянувшись, окоченеет. Скоро, скоро он отпустит Ханумана.
Может быть, это были последние проблески его человеческого сознания, последние видения перед смертью — а может быть, и сама смерть. Данло чувствовал, как нечто огромное и неодолимое давит его, жжет, растворяет ткани его существа — а затем его сознание и вся его жизнь хлынули наружу, в мир. Он стал изморозью на окнах и горячей кровью в щелях между каменными плитами пола, и пауком, который раскачивался на своей шелковой нити в углу комнаты. Он двинулся дальше, как стекающий к морю поток, и стал молодым божком, распростертым у алтаря в соборе. Изломанный, обожженный, он рыдал, как дитя, и пытался затолкать кровавые внутренности обратно в живот, вспоротый осколком металла.
Он умер, и растаял, и влился в сотни мертвых кольценосцев, лежащих на морозных улицах. Он струился, и растекался, и впитывался в землю; он застывал, превращаясь в лед; он испарялся, и его уносил ветер; он становился камнями, деревьями, и осколками пожелтевшей, вымытой на берег кости — и снами, и шепотами, и завываниями, и страстными вскриками в ночи. Он чувствовал себя китом-косаткой, плывущим в холодном океанском течении, и червем, свернувшимся вместе со своей самкой под толстыми слоями льда и снега. Наконец-то он узнал ответ на вопрос, занимавший его всю жизнь: каково это — быть снежным червем? Оказалось, что это совсем недурно — быть таким простым и чудесным созданием.
Это значило ощущать тепло съеденных водорослей в своих сегментах и глубоко, на уровне клеток, сознавать, как хорошо быть живым. Хорошо быть кем бы то ни было, даже вирусом или пылинкой, — это и есть глубочайшая тайна вселенной.
Да.
Он становился всем этим и многим помимо этого и чувствовал себя лучом света, пронизывающим вселенную. Его сознание струилось сквозь астероиды и кометы, просвечивало серебристые луны Ледопада. Он был мерцающим веществом Вселенского Компьютера; он был космокитом Золотого Кольца и грелся в лучах Звезды Невернеса. Он был пилотом, ведущим легкий корабль через плотное пространство по ту сторону солнца, и пилотом тяжелого черного корабля, с криком гибнущим в звездном огне. Он был/становился/ощущал себя сразу шестью звеньями рингистов, окруженными и уничтожаемыми Первым, Одиннадцатым и Двенадцатым отрядами Бардо близ Ситальской Пустоши. Во вспышке внезапного озарения он понял стратегию упорядоченного хаоса Бардо — она развернулась перед ним, как унизанный самоцветами ковер. Все правое крыло Сальмалина рушилось, распадаясь на отдельные сверкающие алмазы. Данло становился атомами углерода в сетчатке глаз Бардо и в корпусе его корабля и уходил, вращаясь, в радужное подпространство.
Да.
Он двигался все дальше через пространство и время. Как десять триллионов световых лучей, он шел через Млечный Путь, мимо Эты Кита, Таннахилла и взорванных звезд Экстра. Он был дроздом, встречающим восход солнца на Старой Земле, и женщиной, хоронящей свое новорожденное дитя на Самуру. Он жил жизнью миллиарда Архитекторов на планетах Святой Иви и умирал смертью инопланетной расы калкинетов при взрыве голубой звезды-гиганта. Он стал огромен и обгонял в своем движении потоки тахионов, несущиеся сквозь Магелланово Облако в Дракон, Печь, Андромеду и другие ближние галактики. Он влился в галактическое облако Гончих Псов и наполнил все скопление Девы своим сияющим сознанием.
Через миллион световых лет он стал песчинкой на берегу далекой планеты, под ее багряным небом. Еще дальше, за сверхскоплениями Персея и Волос Вероники, он нашел целую галактику, занятую богом, который очень походил на Ханумана — если не формой своей, то беспредельной гордыней.
Этот бог превратил каждую свою звезду и планету в огромный компьютер, напоминающий по конструкции Вселенский.
В соседних галактиках, названий которых Данло не знал, он увидел других богов, враждующих с этим безумцем, и сам стал этими богами, занимавшими целые звездные туманности. Они были подобны Тверди, Чистому Разуму и Апрельскому Колониальному Разуму и создавали оружие невероятной энергетической плотности, чтобы уничтожить бога-компьютерщика, а с ним и всю галактику, которую он объявил своей.
Все дальше и дальше уходил Данло, за кольцевые галактики и красивые спирали, блистающие миллиардами бриллиантов.
Он таял, и двигался, и мерцал, и делался все огромнее, стремясь к бесконечности. Ибо вселенная бесконечна, и нет в ней ни единой части — будь то пылинка или атом водорода, — где сознание не струилось бы и не становилось единым.
Да.
Он наконец предстал перед вселенной с обнаженной душой и увидел ее такой, какая она есть на самом деле. Если сознание — только поток материи в его мозгу (или вибрация атомов в камне), то сознание вселенной — это поток всего: камней, планет, звездного огня и крови. И он становится все сложнее, этот поток, повсюду — и в галактическом скоплении Журавля, и в соборе, стоящем на маленькой, скованной льдом планете. Бесконечный организм вселенной, в бесконечном своем терпении и любопытстве, вводит в него все новые планеты, звезды и народы, блещущие бесконечными возможностями.
Все это неизмеримо старо и будет длиться столь же неизмеримо долго. Боится ли вселенная умереть? Не более, чем боялась родиться. Она эволюционирует, эта чудесная сущность, с полной безжалостностью к самой себе, но и с абсолютной любовью. Как поступает человек, застигнутый сарсарой на морском льду, со своими обмороженными пальцами?
Он любит их, но безжалостно отсекает один за другим, чтобы спасти свою жизнь. Так и вселенная пресекает жизнь человека — или десяти миллиардов человек, — чтобы их дети могли вырасти и познать свою блистательную судьбу. Разве оплакивает мужчина полмиллиарда своих половых клеток, гибнущих в темной полости женщины? Нет — он спешит от них избавиться, чтобы одна-единственная клетка могла найти себе пару и расцвести новой жизнью.
Вселенная вечно творит, использует и выбрасывает части себя самой; она сбрасывает жизнь, как старую кожу, и простирает руки к утреннему солнцу вся гладкая, золотая и новая. Она всегда смотрит на себя с бесчисленно многих точек зрения; она как бриллиант с бесчисленным множеством граней, сияющий чистым и безупречным светом. И в каждый момент времени на старые грани накладываются новые, чтобы вселенная могла смотреть на саму себя еще шире, еще яснее и всегда по-новому.
Да. Теперь в каждую из этих зеркальных граней глядится сгусток боли и протоплазмы по имени Данло ви Соли Рингесс — глядится, смотрит и осуществляется. Это и есть чудо вселенной: она как огромная голограмма, каждая часть которой отражает целое. В каждой части, на которую смотрел Данло, он видел бытие в несчетных триллионах форм, заполняющее всю вселенную без остатка. Он жил жизнью каждой из этих форм. Он был скутарийским сенешалем, умудренным тысячелетним жизненным опытом и пожравшим за этот срок тысячи своих отпрысков. Был птицечеловеком элиди и совокуплялся со своей женой в свободном полете посреди бирюзового неба. Он чувствовал радость и печаль одного из последних Эльдрия, благородной расы богов, вымершей миллион лет назад, — он снова жил, и его прозрачное золотое существо пело, как световые паруса под солнечным ветром, когда он перемещался от звезды к звезде и засевал галактику жизнью.
Ничто не исчезает, дивясь, думал он. Память обо всем заключена во всем. В этом он видел спасение куда более глубокое, чем кибернетический рай Архитекторов или первобытный потусторонний мир алалоев, населенный обитающими на небе духами. Ибо вселенная сохраняет не только твое конечное предсмертное “Я”, но и все твои “Я” от момента зачатия, младенца, ребенка и взрослого, каждый момент твоей жизни.
Да.
И каждое из этих бесчисленных “Я” всех бесчисленных обитателей вселенной имело свое лицо или форму, которую Данло воспринимал как лицо. Он снова видел, как Джонатан смеется, играя с гладышем на снегу, и видел, как его собственная мать рожает его, Данло, в пещере деваки. Ее глаза, такие же, как у него, светились густой синевой — а в следующий миг, полный ужаса и крови, она лежала безглазая и умирала. Он видел мягкий желтый свет и новую кровь — это рождался Хануман на далекой Катаве — и видел, как синеет, задыхаясь под его, Данло, тяжестью. И того же Ханумана, живого, свирепо и вдохновенно орудующего хоккейной клюшкой. И Ханумана, содрогающегося в тщетной попытке вдохнуть воздух. Хануман жил и умирал, умирал и жил, десять тысяч по десять тысяч раз, снова и снова, без конца.
Это и есть ужас вселенной, которая, как большая хищная птица, каждый момент жизни пожирает каждое из существ. Но ведь ничто не исчезает, вспомнил Данло, и красота вселенной в том, что каждое существо возрождается в каждый момент к бесконечным возможностям жизни.
Да.
Данло, живущий во всем сущем, тоже умирал, и опять жил, и умирал снова.
За один момент он прожил миллиард лет. Он всегда умирал в том же моменте и в себе, все больше приближаясь к яркому, блистающему невероятию своего рождения. Вслед за этим настал момент всех моментов. Целую вечность сквозь бесконечное множество алмазных граней Данло смотрел в огненное сердце вселенной. Пока он давился собственным дыханием и силился убить Ханумана, великая волна памяти нахлынула на него, озарив его светом чужих и знакомых лиц, коричневых, белых, черных и синих, скорбных и печальных, мохнатых и пернатых, миллиона лиц, триллиона лиц, истерзанных болью чистого существования и все же сияющих дикой радостью жизни. Каждое из этих совершенных лиц отражало все остальные, и все они сливались в одно лицо — дикое, как у редкостной белой талло, золотое и лучезарное, как солнечный лик. Целую вечность Данло смотрел в это лицо, странное и прекрасное, и у него захватывало дух от изумления, ибо он видел, что это — его лицо.
Да, да, да.
Вслед за этим где-то во вселенной — в Экстре или чуть ближе к Невернесу — взорвалась звезда. Данло пережил это космическое событие одновременно с наконец-то наставшим моментом своего рождения. Он вспомнил, как его, около двадцати восьми лет назад, вынули из вскрытого чрева матери в далекой пещере. Он ощутил этот надрез и отрыв от материнских тканей, ощутил чьи-то холодные мозолистые руки и силу тяжести, впервые испытанную им в полной мере. В следующий момент он через огненно-красный проем взлетел к свету. Он силился дохнуть этим ужасом и этим чудом, но не мог.
Он умирал, оторванный от всего, что когда-либо знал и любил. Его руки сжались в кулаки, и он ощутил между пальцами кровь — скользкую, горячую и мокрую. Сокрушительная тяжесть давила на грудь и живот, не давая наполнить легкие воздухом. Потом его сердце с мучительным усилием стукнуло один-единственный раз, и он открыл наконец глаза.
Великое колесо времени повернулось, и он пришел в себя.
Какой-то миг он не чувствовал ничего, кроме света и боли, боли и света. Потом сквозь сияющую пелену начали постепенно проявляться странные новые объекты. Его правая рука сжалась в кулак, и длинные ногти вонзились глубоко в ладонь. Левая по-прежнему зажимала рот Хануману. Хануман лежал тихо, с посиневшим лицом, и его мертвые глаза смотрели на Данло, не выражая ни страдания, ни жалобы.
Да.
Данло медленно отнял руку от его губ, с бесконечной нежностью коснулся пальцами его лба и закрыл Хануману глаза.
Ми алашария ля шанти, шанти, безмолвно помолился он, спи с миром, мой брат, мой друг. Он смотрел на Ханумана сквозь пелену слез — и сквозь вспышку сверхновой близ Райзель Люс, только что уничтожившей добрую четверть рингистского флота. Он не видел больше в нем ни гнева, ни ненависти, ни безумной шайда-мечты — только благословенное создание, которое когда-то пришло в этот мир, а теперь покинуло его, как это суждено всем.
Данло попытался встать. На лестнице, будто издалека, слышались крики и топот, и он попытался встать навстречу этим грозным звукам — но вместо этого почти без чувств повалился на еще не остывшее тело Ханумана. Он обхватил Ханумана руками, прижал его к сердцу, прислонил его голову к своей. Грудь Данло судорожно вздулась, набирая воздух, и у него наконец-то вырвался крик, глубокий и страшный. Он вспомнил вдруг, что вовсе не рождался смеясь, как всегда говорили ему матери его племени. Человек — единственное животное, плачущее в момент своего рождения, и он, как все, начал жизнь в горе и страданиях, плача от необъятной вселенской боли. Теперь он плакал снова, как плачут все настоящие мужчины — не стыдясь и не сдерживаясь, сотрясаясь от рыданий, идущих глубоко изнутри. Сердце у него разрывалось от невыносимого давления, словно вся вселенная плакала вместе с ним, изливая в него свои горючие слезы. Данло не мог остановить эти потоки горя, да и не хотел. Он прижимал к себе Ханумана и оплакивал этот великий дар, навсегда утраченный жизнью.
Но ведь ничто не теряется, вспомнил он. Ничто и никогда не может быть потеряно.
Он опустил Ханумана на пол и медленно оглядел блестящую кибернетику, которую тот собирал. Черный паучок в углу комнаты все еще раскачивался на нити, завершая свою паутину. Над компьютером-образником все так же витал светящийся Эде, еще не оправившийся от шока после того, что совершил Данло. Данло понимал, что в реальном времени их с Хануманом бой продолжался совсем недолго. Хануман умер в промежутке между двумя ударами его сердца, однако акт умерщвления затянулся на целую вечность. Данло взглянул на свои окровавленные руки, и его удивило, что кожа на них по-прежнему молодая и гладкая — ведь он за это время прожил миллион жизней и десять миллионов лет. Он казался чужим себе самому, как будто был теперь старше звезд и при этом остался невинным, как новорожденное дитя. Он чувствовал себя безупречным, мудрым и безгранично диким.
Потом он вспомнил, кто он есть на самом деле, и вспомнил, что должен сказать слова, которые помогут душе Ханумана совершить великое путешествие на ту сторону дня.
Да.
Он стал на колени рядом с Хануманом и помолился в последний раз: — Хану, Хану, ми алашария ля шанти, шанти — спи с миром, мой брат, мой друг, я сам.
Слыша сердитые голоса и шаги снаружи, он встал и бросил взгляд через время и пространство. Его глаза пылали темно-синим светом, который шел из самых его глубин, как океанский прилив. Все его клетки пылали огнем, тем глубоким и сокровенным звездным огнем, который никогда не угаснет.
Жестокая головная боль, мучившая его столько лет, прошла бесследно, и кости сломанного носа срастались с невероятной быстротой. Дикая новая жизнь, кипящая в нем, переделывала его в ужасное и прекрасное существо, ожидавшее своего рождения десять миллиардов лет.
Да, гремело его сердце, Агира, Агира, да.
С этим безмолвным утверждением и полным бесстрашием он улыбнулся и повернулся навстречу своей судьбе, которая звала его из-за двери.
Глава 25 АСАРИЯ
Тебе надлежит стать тем, кто ты есть на самом деле.
Фридрих МолотЛюдям, пришедшим убить Данло, не пришлось взламывать дверь, поскольку один из них, Ярослав Бульба, знал отпирающий ее код. Данло ждал их, стоя рядом с кровавым пятном в нескольких футах от тела Ханумана. В комнату, как он и предвидел, ворвались бывшие воины-поэты: Ярослав Бульба, жестокий на вид субъект с обожженной щекой, и Аррио Келл, пособлявший Ярославу истязать Данло в незапамятном прошлом. Все трое были одеты в золото, как божки, и держали ножи наготове. При виде синего окровавленного Ханумана они тут же кинулись на Данло.
— Убей его! — крикнул Эде, и Ярослав полоснул ножом, примериваясь к горлу Данло. Эде снова переметнулся — он призывал Данло убить Ярослава, а не наоборот: — Убей его, а потом остальных, пока они не убили тебя!
Данло так и не понял до конца, что произошло потом.
Он, всегда помнивший так много и так ясно, так и не запомнил цепь событий, приведших его к кровавому исходу, — не запомнил, потому что не хотел запоминать. Он весь ушел, как в снеговую тучу, в хаос мелькающих ножей, свистящего шелка и шумного дыхания. Холодное дуновение стали ожгло ему глаза; он ощутил горячую кровь, хруст костей и внезапную боль от резаной раны.
Им овладел гнев. Он двинулся сквозь слепящее его красное пламя со страшной быстротой тигра — или ангела смерти, мстящего за убиенных детей. Закончив рвать, терзать и душить, он встал, задыхаясь, над тремя мертвыми воинами-поэтами. Ни один нож не коснулся его, и на нем не осталось ни единой царапины.
— Быть этого не может, — подал голос Эде, глядя на трех мертвецов. — Это попросту невозможно.
— Возможно. — Это сказал не Данло и не Эде, а возникший на пороге человек в золотой одежде божка и с двумя красными кольцами на мизинцах обеих рук. Все жгучее внимание Малаклипса сосредоточилось на Данло. Его красивое лицо выражало благоговение, в лиловых глазах горел яркий свет, как будто он смотрел на солнце. — Возможно, — повторил он, указывая ножом на тело Ярослава Бульбы. — Я знаю, что это возможно, только потому, что видел, как ты их убил.
Он шагнул в комнату и направил свой нож, обагренный свежей кровью, прямо в сердце Данло.
— Мэллори Рингесс, — сказал он, делая еще шаг, — я прошел много звезд и потратил много лет, чтобы найти тебя.
Данло наклонил голову, признавая если не свое тождество с Мэллори Рингессом, то величие поисков Малаклипса, и взглянул на свою руку, пораненную сломанной костью Ханумана. Рана затягивалась у него на глазах.
— Ты прятался в соборе, да? — спросил он, посмотрев в глаза воину-поэту. — Когда террориста увели и божки стали очищать собор от посторонних, ты спрятался, не так ли?
— Только так я и мог до тебя добраться, — признался Малаклипс. — Пока божки дрались с фанатиками Бенджамина Гура, я прятался в свечном ящике и ждал удобного случая.
— А потом поднялся наверх следом за Ярославом?
— Само собой — отправив двух божков, охранявших лестницу, к их моменту возможного.
— Понятно.
— Я не знал, зачем Хануман так срочно их вызвал. Не догадывался, что Мэллори Рингесс собрался отправить к моменту возможного его самого.
— Как видишь, это произошло. — При взгляде на Ханумана глаза Данло снова увлажнились, и голос сорвался. — У всех нас есть свой момент, и мы никогда не знаем, когда он настанет.
Малаклипс улыбнулся понимающе, почти просительно.
— Когда эти ренегаты уволокли тебя наверх, я стал опасаться, что Хануман казнит тебя без промедления. Но у него, видимо, были причины сохранить тебе жизнь.
— Да, были.
— Я рад этому — ведь теперь…
— Теперь ты попросишь меня закончить строфу, которую сочинил много лет назад, верно?
Малаклипс изумленно уставился на него.
— Мэллори Рингесс, ведь это вправду ты?
Я — не я, вспомнил Данло, молча глядя на красное острие Малаклипсова ножа. Я — не только я.
— Думаю, ты — это вправду он, — продолжал воин-поэт, — но кто ты? Вот что мне хотелось бы знать.
Я великая белая талло, чьи крылья простираются до самых концов вселенной. Я талло, я же и небо.
— Ты правда бог? — допытывался Малаклипс. — Я должен это знать.
— Я не более бог, чем ты.
— Хотелось бы верить.
— Тогда прочти свои стихи — только настоящий человек может знать, как закончить их.
— Да, пожалуй.
— А затем ты, по примеру этих воинов-поэтов, можешь доставить себе удовольствие и попытаться убить меня.
При этих словах Малаклипс вскинул руку, заслоняясь от пронизывавшего взгляда Данло, и даже зажмурился, точно Данло мог видеть его мысли.
— Зачем же мне тебя убивать, если ты ответишь правильно?
— Потому что, независимо от моего ответа, ты никогда не будешь уверен, кто же я на самом деле.
Малаклипс бросил взгляд на устилающие комнату трупы, угрюмо улыбнулся и сказал:
— Двух таких я и сам бы убил, но трех — нет. И не знаю, смогу ли убить тебя.
Никогда не убивай и не причиняй вреда другому, подумал Данло. Никогда не убивай, если в этом нет крайней необходимости.
— Я тоже не знаю, позволю ли убить себя. Извини.
Малаклипс молчал, утопая в синеве глаз Данло.
— У твоего сына, Данло ви Соли Рингесса, такие же глаза. Они что, передаются по мужской линии вашего проклятого рода?
— Говорят, что глаза у меня от матери.
— Твоей матерью была дама Мойра Рингесс, ведь так?
Моей матерью была Чандра, дочь Ленусии, дочери Элламы, которая была дочерью патвинского племени. А родной моей матерью была Катарина-Скраер, дочь этого мира.
— Мойра Рингесс, кантор, — повторил Малаклипс. — Та, что украла ДНК Леопольда Соли, чтобы зачать сына.
Все матери, потерявшие сыновей на этой войне, — мои матери. Все матери, когда-либо жившие и умиравшие, — мои матери.
— У человека может быть много матерей, — ответил вслух Данло.
Малаклипс взглянул на красное кольцо, украшающее его левую руку.
— Я ценю поэтичность твоей речи, но человек приходит в этот мир только через одну дверь.
Одна дверь, только одна… вспомнил Данло.
— И только одна чудесная дверь, — добавил Малаклипс, взглянув на правую руку с таким же красным кольцом и на нож в ней, — уводит человека из жизни.
Одна дверь, и только одна, открывается в золотое будущее, которое мне снилось, вспомнил Данло, но другая мысль тут же выросла в нем с чистотой и завершенностью снежного кристалла: Нет, дверей бесконечно много, и открываются они в бесконечные возможности.
Его взгляд упал на раскатившиеся по полу белые и черные шахматные фигуры. Где-то далеко звучали взрывы, и ветер задувал в трещины главных дверей собора. Это верно: дверей во вселенной много, и за каждой открываются целые галактики — так человеку может в одной песчинке открыться целый мир. Данло, глядя на костяную чешуйку, отколовшуюся от одной из фигур, пересекал пространство и время. Он чувствовал в себе полную, холодную уверенность, которую дает только знание. Такие прозрения уже не раз посещали его, непрошенные и неподвластные ему. Теперь он обнаружил, что способен видеть то или иное по собственной воле.
Он был как прекрасный тигр, способный появиться как по волшебству за любым из тысяч деревьев в лесу; как пилот, наконец осиливший Великую Теорему и получивший возможность путешествовать среди звезд, как угодно ему. Сознательное ясновидение, обретенное им, изумляло его и наполняло дикой радостью. Это было все равно что заблудиться в космосе и вдруг увидеть одну знакомую звезду, которая помогает мгновенно вспомнить расположение тысячи других. Все равно что открыть окно в мультиплекс, ожидая найти неизведанные пространства, и обнаружить, что даже наихудший хаос подчиняется математике. Его сознание распространялось по звездным каналам, как фронт световой волны, и он дивился логике, заложенной внутри логики этого волшебного зрения, блестящим узорам, тайному порядку, мерцающей взаимосвязанности всего сущего.
Страшная красота.
Он снова увидел, как большая голубая звезда близ Райзель Люс превратилась в сверхновую. Увидел, как к ней подошел корабль с ивиомилами Бертрама Джаспари — ближе к Звезде Невернеса подойти они не смели. Затем произошел ужасающий взрыв, выбросивший в космос фотоны, гаммалучи и языки голубого пламени. Световой шар, излучаясь на всех частотах от инфракрасной до ультрафиолетовой, двинулся через галактику со скоростью около двухсот тысяч миль в секунду.
Именно этот убийственный свет уничтожил солидную долю флота рингистов. Бардо, обнаружив сверхновую всего за несколько секунд до того, почти мгновенно внес поправки в свой план, предусматривавший окружение численно превосходящего врага. Использовав Пятый, Шестой и Восьмой отряды как приманку, он завлек десятки рингистских звеньев в обожженные светом пространства Райзель Люс. Те корабли, что не сгорели сразу в огне сверхновой, уничтожили командиры Одиннадцатого и Двенадцатого отрядов Кристобль Смелый и Алезар Эстареи, ударив по шестнадцати узлам, через которые рингисты пытались выйти в реальное пространство.
Через какие-нибудь сотни секунд все правое крыло рингистов начало рассыпаться, как песок на ветру. Хаос захватил и центр, где находился Сальмалин Благоразумный. Главный Пилот на своей “Альфе-Омеге” оказался невольным свидетелем того, как его звенья одно за другим падают в огонь сотен звезд или рассеиваются в мультиплексе.
Ужас, вызванный этим побоищем, охватил остатки флота рингистов, как лесной пожар. Пилоты, за редким исключением, ударились в панику и начали сдаваться пилотам Бардо поодиночке, десятками и сотнями. Видя, что битва проиграна, Сальмалин Благоразумный, верный своему прозвищу, приказал командирам своих звеньев прекратить бой (насколько это было возможно технически). А затем, при резком белом свете Райзель Люс, сдал весь свой флот Бардо.
Рингисты потерпели полное поражение. В тот день они потеряли многие тысячи кораблей и пилотов, включая Нитару Таль, Кадира Мудрого и Саломе ви Майю Хастари на “Золотом мотыльке”. Но и пилотов Содружества тоже погибло немало. Данло, перемещаясь в пространстве и времени от корабля к кораблю и от звезды к звезде со скоростью, бесконечно превышающей скорость фотона, видел лица всех убитых — их озарял тот свет, что живет внутри света. Ему хотелось помолиться за каждого из них, за Палому Младшую и Ивара Рея на “Божьем пламени”, за великую Веронику Меньшик, Аларка Утрадесского и Шерборна с Темной Луны, с которым столько лет жил в одной комнате Дома Погибели и даже сны видел общие.
ЯнисХелаку, Сулла Ашторет, шанти, безмолвно молился он.
Шерборн с Темной Луны, ми алашария ля, шанти, шанти.
Он видел все это, и передвигался в космосе, и молился в один и тот же момент, глядя в лиловые глаза Малаклипса.
Затем он вернулся в реальное время и заплакал, потрясенный трагическими событиями этого дня. Трупы Ханумана, Ярослава Бульбы и десяти тысяч пилотов лежали на полу, изувеченные, обожженные. Он плакал по своим братьям и сестрам, по отцам и матерям Человека, по Малаклипсу с Кваллара, которому вскоре тоже придется умереть от его руки.
Нет. Никогда не убивай без крайней необходимости, подумал он. И еще: В конечном счете мы сами выбираем свое будущее.
Свет радужных шаров играл на окровавленном ноже Малаклипса. Малаклипс сделал еще один шаг к Данло.
Малаклипс Красное Кольцо, ми алашария ля, шанти, шанти…
И Малаклипс, увидев сострадание в глазах Данло, замер на месте, как один тигр перед другим. Одним быстрым взглядом он окинул разбросанные шахматные фигуры, опрокинутую кибернетику, тело Ханумана ли Тоша и струящиеся болью глаза Данло. Он увидел слезы, проступившие на их горящей синеве, и начал производить в уме лихорадочные расчеты.
Он походил на цефика, разгадывающего секреты чужой души, а еще больше — на артизана, собирающего соборные витражи из кусочков цветного стекла. Вскоре его лицо осветилось внезапным пониманием, и он сказал:
— Ведь ты не Мэллори Рингесс, правда?
— Признаться, нет, — с грустной улыбкой ответил Данло.
— Ты Данло ви Соли Рингесс.
— И не он тоже, — покачал головой Данло.
— Данло ви Соли Рингесс, единственный в истории человек, который, еще будучи ребенком, победил воина-поэта. Я уверен, что тебя зовут так.
— Нет. — Даило, глядя сквозь пелену слез, показал на тело Ханумана. — Данло умер. Вот он лежит.
Малаклипс пристально посмотрел на убитого горем Данло и сказал почти ласково:
— Мне кажется, я понимаю.
— Мне тоже так кажется. — Данло стиснул зубы, чтобы челюсть не дрожала. По-прежнему глядя на безмолвствующее лицо Ханумана, он собрал всю свою волю и сказал: — Видишь ли, это я создал его когда-то. Потому и уничтожить его должен был я.
— На Фарфаре я сказал, что ты мог бы стать воином-поэтом, — с низким поклоном молвил Малаклипс. — Теперь я уверен, что по духу ты один из нас.
— Да, — сказал Данло, — это так.
— Ты не кричал, когда Хануман и его наемники пытали тебя.
— Мне нельзя было кричать.
— А ведь тебе должны были впрыснуть эккану — как же это возможно?
“Как поймать красивую птицу, не убив ее дух? ” — услышал Данло и вспомнил ответ: “Стать небом”.
— Как это возможно, пилот?
— Это возможно потому, что сердце свободно, — просто ответил Данло. Он чувствовал, как трудятся его клетки, вырабатывая противоядие от экканы, до сих пор горевшей в его крови. — Потому что все люди свободны — нужно только стать теми, кто они есть на самом деле.
— Десять человек из десяти, считая и воинов-поэтов, орали бы почем зря. Выходит, ты Одиннадцатый?
— Нет. Я некто другой.
— Кто же?
— Я асария. Фравашийский Старый Отец, у которого я учился, определял такого человека как асарию.
Малаклипс приложил к губам свой клинок, покрытый засохшей кровью.
— Я знаю это слово. Асария — это тот, кто способен сказать “да” всему сущему. Чему говоришь свое “да” ты?
— Тебе, — улыбнулся Данло. — И даже Ордену воинов-поэтов — духу вашего Ордена.
Малаклипс, отступив на шаг, окинул взглядом пораненную руку Данло и щеку, чуть ли не до кости рассеченную осколком стекла. За то время, что воин-поэт пробыл здесь, эти раны заметно зажили.
— Кто ты? — спросил он тихо. — Ты говоришь “асария”, но что это значит? Выходит, асария — это бог?
— Я такой же человек, как и ты. Я всего лишь то, для чего рождается каждый из людей.
Нож дрогнул в руке Малаклипса, снова утонувшего в сиянии глаз Данло.
— Ты пугаешь меня, пилот. Ничто во вселенной не пугало меня тaк, как ты.
Страх — это левая рука любви, вспомнил Данло и спросил: — И тебе непременно надо попытаться убить то, чего ты боишься?
— А что мне еще остается?
— Присоединяйся ко мне и становись асарией, как и я.
Настал момент, когда весь мир перестал вращаться и повис в состоянии полного равновесия на острие Малаклипсова ножа, между словами “да” и “нет”.
Данло видел неуверенность в лиловых глазах Малаклипса, слышал грозных ангелов, поющих в его душе. Он боялся, что Малаклипс все-таки попытается убить его — хотя бы для того, чтобы проникнуть в тайну смерти. Сам Данло, похоронивший все свое племя, сжегший тело своего сына, входивший к мертвым на Таннахилле и сам умиравший миллион раз, убивая своего лучшего друга, познал эту величайшую из тайн так, как это только доступно смертному. Познал он и тайну жизни, ибо в неподвижной точке бытия, в центре великого круга, жизнь и смерть — это правая и левая руки, соединенные вместе.
Все это Данло сказал теперь Малаклипсу — не словами, а страшной красотой своих глаз. Он сказал это огнем, и светом, и дикой радостью, льющейся из него, как океан. Затем в нем раскрылось что-то бесконечно яркое, и он в полном молчании стал говорить об истинном величии жизни. Да, мукам и терзаниям жизни нет конца, говорил он, но нет конца и самой жизни. Она идет все дальше, в золотое будущее, вечно развиваясь, вечно стремясь расцвести в каждой частице материи и в каждом уголке пространства, вечно расширяясь, вечно углубляясь, становясь все более великолепной и сознательной. И ничто в ней никогда не теряется.
Ничто просто не может исчезнуть, даже пройдя сквозь отчаяние и смерть. Все это Данло сказал Малаклипсу, глядя, как тот растворяется в свете внутри света и исчезает в тайной синеве за синевой небес.
Да.
Малаклипс внезапно тряхнул головой, отвел взгляд в сторону, покрепче сжал нож и сказал: — Я гнался за тобой среди звезд и помог убийцам развязать войну — все ради того, чтобы ты не достиг своей цели.
— Да, — грустно улыбнулся Данло, — я помню.
— Я сам убивал ради того, чтобы добраться до тебя.
— Я знаю.
— И ты все еще хочешь, чтобы я присоединился к тебе?
— Да. — Данло снова перехватил взгляд Малаклипса. — Хочу.
Малаклипс нерешительно поморгал: многие любят свет, но не всякий решится приблизиться к солнцу.
— Правило моего Ордена, обязывающее убивать всех богов, остается в силе, — сказал он наконец.
— Богов — да, но не людей. Ваш Орден основан для того, чтобы осуществить возможности человечества. Бесконечные возможности.
— Что же такое тогда бог? И что человек?
— Настоящий человек — это гордость вселенной. Он только часть ее, но в то же время и целое.
— Ты говоришь парадоксами, пилот.
— Настоящий человек не страшится смерти, потому что знает, что никогда не умрет.
— Ты говоришь загадками.
— Настоящий человек живет полной жизнью и доволен ею, потому что знает, что живет жизнью всего сущего.
— Даже глава моего Ордена затруднился бы понять твои сентенции и определения.
Данло посмотрел в окно, за тысячу световых лет, на планету Кваллар. Там, под красным солнцем, на железистой почве, некий человек наблюдал за учебным поединком двух молодых воинов-поэтов. Звали его лорд Корудон, и он носил на левой руке оранжевое поэтическое кольцо. Правую он сжал в кулак, и воинское кольцо на ней было красным, как и у Малаклипса. Заглянув в глаза этого страшного человека и в его душу, Данло увидел, что лорд Корудон давно уже отдал свой Орден в распоряжение Кремниевого Бога.
— Когда-нибудь, — сказал Данло, возвращаясь к реальности любопытных глаз Малаклипса и его блестящего ножа, — ты вернешься на Кваллар. Ты вызовешь своего главу на поединок — стихотворный или боевой, на твое усмотрение. И одержишь победу.
— А потом?
— А потом главой воинов-поэтов станешь ты — и примешь новое правило.
— Какое?
— Не убивать потенциальных богов, а отдавать свою жизнь за людей. Тех благословенных созданий, которые скоро родятся в Цивилизованных Мирах, и в Экстре, и еще дальше.
Сердце Данло отстучало три раза. Он чувствовал, что Малаклипс так же близок к слову ”да”, как артерия, пульсирующая у него на горле, но тут по лестнице затопали чьи-то ноги: как видно, часовых, убитых Малаклипсом внизу, наконец обнаружили. Еще момент — и в комнату ворвались четверо молодых божков. Одним из них был Ивар Заит, которому Хануман доверял почти так же, как Сурье Сурате Лал и Ярославу Бульбе. Но о том, кто Данло на самом деле, он явно не догадывался — при виде трупов на полу он в ужасе закричал:
— Мэллори Рингесс! Что здесь произошло?
Двое божков держали в нетвердых руках лазеры; четвертый, недавний хариджан, имел при себе только новенький блестящий нож. Нож в руке Малаклипса и красное кольцо на пальце этой руки приковывали к себе все его внимание.
— Мне пришлось убить их, — сказал Данло с печалью, и собственный голос показался ему почти чужим. — Они предали мою церковь и навлекли войну на головы невинных, поэтому я их убил.
Этот простой ответ изумил Ивара Заита до полного остолбенения, но один из божков с лазером повернулся к нему, как бы испрашивая указаний.
— Я вернулся, как обещал, — сказал Данло. — Вернулся, чтобы покончить с этой кровавой войной.
В промежутке между двумя ударами сердца Малаклипс встретился с Данло глазами, и в этих лиловых глазах сверкнуло полное согласие со всем, о чем просил его Данло. Едва заметно наклонив голову, Малаклипс неуловимым, пугающе быстрым движением вклинился между Данло и божками. Те, видя, что Данло охраняет воин-поэт с двумя красными кольцами, опустили лазеры. Они, видимо, слышали, что воины-поэты умеют входить в ускоренное время и двигаться втрое быстрее обыкновенного человека, — и сомневались, что успеют нажать на спуск, прежде чем Малаклипс накинется на них с ножом. Кроме того, они должны были задуматься о том, каким образом Данло, которого они считали Мэллори Рингессом, убил трех воинов-поэтов. Наконец, изначальным предметом их поклонения был не Хануман ли Тош и даже не его догматы, а бог по имени Мэллори Рингесс. Теперь чудо, о котором они могли лишь мечтать, осуществилось: их бог стоял перед ними, всем своим существом излучая волю к восстановлению мира.
— Что делать-то? — шепнул божок с ножом Ивару Заиту.
Настал долгий и страшный момент. Ивар, человек умный, к тому же идеалист, веривший в Три Столпа еще до того, как Хануман совратил его посулами власти, — Ивар Заит колебался. Затем он склонил голову перед Данло и сказал:
— Мы должны делать то, чего хочет Мэллори Рингесс.
Два раза ему повторять не пришлось: божки спрятали оружие и в свой черед склонились перед Данло.
— Нам надо поторопиться. — Данло ответил им поклоном и быстро, почти незаметно кивнул Малаклипсу. На улице по-прежнему слышались крики и хлопали выстрелы. — Я хочу прекратить это смертоубийство.
С этими словами он, бросив последний взгляд на Ханумана, вышел и стал спускаться по лестнице. Малаклипс шел за ним по пятам, следом шагали Ивар Заит и остальные. Повернувшись к божкам спиной, Данло доверил им свою жизнь — и сила этого доверия была такова, что им даже в голову не пришло его нарушить. Даже Ивара Заита захватила аура целеустремленности и великих возможностей, которая окружала Данло, как пылающая корона — звезду.
Бесконечные возможности.
Данло открыл дверь у подножия лестницы и вышел в неф.
Двое божков, убитых Малаклипсом, лежали в общей луже крови. Мертвые и умирающие виднелись повсюду: в темном проходе, у алтаря, на аккуратно разостланных молитвенных ковриках. Одна молодая женщина привалилась к колонне, сжимая в мертвой руке пистолет, уронив голову на грудь.
Взрыв, от которого она погибла, выбил ей левый глаз.
Маленькие трагедии такого рода жгли Данло глаза, куда бы он ни смотрел. Рассвет уже брезжил над городом, но собор освещало только пламя немногочисленных свечей. В их пляшущем желтом свете, бросающем тени на ажурную лепнину стен, Данло различал живых божков, разместившихся вдоль стен и окон. На полу сверкали осколки цветного стекла, особенно в южной трансепте и у восточных окон, разбитых внизу. Пара божков на глазах у Данло храбро высунулась в выбитое окно, поливая лазерным огнем кольценосцев Бенджамина Гура. Те отвечали тем же, и рубиновый луч, проникший в окно, едва не опалил бритую макушку одного из божков. В следующий момент Данло сквозь запахи горящего воска, выпущенных внутренностей и крови подошел к алтарю и набрал в грудь, воздуху. Его голос прозвучал как колокол, наполнив собор гулом двух простых слов:
— Война окончена!
Двести защитников собора разом повернулись от выбитых окон к алтарю. Данло взошел по его красным ступеням и встал рядом со свечницей, чтобы божки могли видеть, кто обращается к ним.
— Война окончена, — повторил он. — Хануман ли Тош начал ее ради собственной славы, одержимый безумными мечтами, изменив тем самым духу рингизма, а заодно и всем вам. Но теперь с этим покончено.
Пуля, влетевшая в одно из окон, ударила в стену над Данло, выбив струйку каменной пыли. Божок, пригнувшийся у восточной стены, отчаянно замахал лазером, делая Данло знак сойти с алтаря. Ему, как и всем, сказали, что они защищают жизнь Мэллори Рингесса, и он готов был защищать своего бога до конца.
— Лорд Мэллори! Сойдите, пожалуйста, и вернитесь на башню к лорду Хануману. Вы не должны подвергать себя опасности!
Другой божок, поглядев на Малаклипса с Иваром Заитом, стоящих на нижней ступени алтаря, спросил:
— А где же лорд Хануман? Все еще на башне? С ним все в порядке?
— Хануман ли Тош мертв, — объявил Данло, и в соборе стало тихо — только ветер свистал в разбитых окнах да стонали раненые. — Его время пришло, и я отправил его к звездам.
Двести пар глаз вожглись в Данло, как лазеры, но задавать ему вопросы никто не посмел. Никто не посмел возразить ему или как-то выступить против него, ибо он был Мэллори Рингесс, который сказал, что война окончена. Всех охватил сладостный трепет надежды — надежды на то, что они все-таки будут жить.
— Откройте двери! — приказал Данло. — Но сначала пусть кто-нибудь вывесит в окно белый флаг.
Сказано — сделано. Кто-то из божков оторвал от мантии убитого скраера кусок белого шелка и помахал им в восточное окно, а потом перешел к окнам южной трансепты. Выстрелы на улице почти сразу же прекратились, и на город опустилась тишина.
— Теперь открывайте двери! — повторил Данло, и четверо божков бросились исполнять его приказание. Высокие двери западного портала распахнулись навстречу ветру и жгучему морозному утру глубокой зимы.
— Они могут подумать, что это ловушка, — заметил Данло Ивар Заит, глядя в открытым проем на огни Старого Города. На нем была только тонкая золотая хламида, и его пробирала дрожь. — Кому-то из нас придется к ним выйти.
— Придется, — согласился Данло и сошел с алтаря.
На нижней ступени Малаклипс удержал его за руку.
— Это слишком опасно. Кто-нибудь выпалит в тебя по инерции или со страху и убьет.
— Возможно, — сказал Данло, глядя в его лиловые глаза.
— Я сам поговорю с ними. — Зубы Малаклипса ощерились в свирепой улыбке. — Новое правило воинов-поэтов, пилот: не щадить жизни ради защиты людей.
Данло улыбнулся ему в ответ.
— Так ты готов умереть ради меня?
— Ну да.
— А я готов умереть за тебя. За воина-поэта, который тоже человек.
О этими словами Данло ринулся вперед. Сила его мускулов и его воля оказались слишком велики для Малаклипса.
Он шагал по черно-белым плитам грациозно, но быстро, не желая, чтобы кто-то еще загородил ему дорогу. В дверях на него налетел ветер. Моргая от холода и выступивших слез, Данло взглянул на улицу, освещенную первыми проблесками рассвета. Землю до самых дверей собора устилали тела. Вдоль пурпурной ледянки стояли сани, и сидящие за ними люди в шубах целили из различных видов оружия в дверной проем.
На крышах соседних домов тоже засели кольценосцы. Данло насчитал триста человек, а потом оставил это занятие и вышел за порог, на свет восходящего солнца.
— Война окончена! — крикнул он. — Собор открыт для вас и будет отныне открыт всегда!
Долгий миг все молчали, и никто не шевелился. Кольценосцы, закоченевшие после ночи на морозе, смотрели во все глаза на грандиозную фигуру Мэллори Рингесса. Они сражались за его освобождение, а теперь он стоял перед ними и приглашал их войти.
— Входите же! — сказал он. — Входите, пока не замерзли окончательно.
Из-за саней вышел кольценосец с лазером в правой руке.
Кисть левой ему оторвало, и культя была наспех замотана окровавленным бинтом. Под капюшоном, скрывавшим лицо, Данло разглядел ястребиный нос и сердитые зеленые глаза Бенджамина Гура. Тот спокойно шел по скользкому льду прямо к Данло. Подойдя, он назвался, поклонился и сказал:
— Мэллори Рингесс, я всегда надеялся, что ты вернешься, но не думал, что это произойдет на самом деле. Жаль только, что ты не вернулся раньше, до того, как все это началось. — Бенджамин обвел перевязанной рукой тела своих кольценосцев.
— Да, жаль. — Данло закрыл глаза, и перед ним вспыхнули миллиарды лиц тех, кто погиб на войне. Но изнутри звездным светом просияли миллиарды новых лиц — детей, которым вскоре предстояло родиться в этой галактике.
Страшная красота, вспомнил он. Страшная красота.
— Если война действительно окончена, позволь задать тебе вопрос. — Зеленые глаза Бенджамина вжигались в Данло, как раскаленная медь. — Ты правда бог? Или человек?
Данло посмотрел на пар от дыхания, срывавшийся с его тонких злых губ, на обрамленное мехом лицо с лазерным ожогом на щеке. Потом улыбнулся загадочно и ответил:
— Что такое, собственно, бог? И что такое человек? Какая разница, кто я, если я вернулся, чтобы покончить с войной?
Без дальнейших объяснений он жестом пригласил Бенджамина в собор. Тот повиновался, а за ним последовали Поппи Паншин, вышедшая из соседнего дома, и Карим с Прозрачной, и другие кольценосцы, входившие когда-то в Каллию. С южной стороны собора появился Масалина во главе небольшого отряда — его толстые прежде щеки обвисли от голода.
Все эти люди — и многие другие, кроме них, — вошли вслед за Данло в западный портал. Их взорам предстали лежащие на полу убитые и раненые, и они смотрели на свою кровавую работу с тревожной смесью гордости, ужаса и стыда.
Данло взошел на алтарь, а Малаклипс поместился на нижней ступени с явным намерением не подпускать к нему никого, будь то божок или кольценосец. Обнажив свой длинный нож, он пристально следил за Иваром Заитом, Наманду Асторетом и другими князьями Ханумановой церкви. При этом он не спускал глаз и с вооруженного лазером Бенджамина Гура, и с его кольценосцев, собравшихся у алтаря в количестве двухсот человек. Видно было, что он готов убить или быть убитым и что особой разницы это для него не составляет.
Был скверный момент, когда какой-то божок начал проклинать Бенджамина Гура и всех кольценосцев. Они убили его брата, кричал он, и сами должны поплатиться за это жизнью. Тут Данло, к большому расстройству Малаклипса, стал, раскинув руки, между этим божком и Бенджамином, и его гневный голос сотряс собор:
— Я вернулся, чтобы покончить с войной, но я не могу покончить с ней в одиночку, Я не могу помешать вам убивать друг друга, как не смог помешать Хануману ли Тошу убить моего сына. Но если уж вам непременно надо убивать, убейте сначала меня.
Пристыженный божок, продолжая бормотать проклятия, опустил лазер. Из устремленных на него глаз Данло струился яркий свет, и в нем виделось все, что Данло выстрадал после гибели своего племени. Глаза божка, омытые этим светом, наполнились слезами — он плакал по брату, и по тем, кого убил сам, и по тем, кого убивали при нем. Без слов и без понуканий он нагнулся и положил свой лазер на пол.
— Война окончена, — воскликнул внезапно один из кольценосцев и положил свой лазер рядом с лазером божка. — Если ей правда конец, глупо продолжать эти убийства.
Еще один кольценосец сложил оружие, за ним десяток других. Божки тоже начали разоружаться — и вдруг все, кто был в соборе, разом двинулись к алтарю, чтобы сложить свои лазеры, дубинки, сновидельники, тлолты и пистолеты в растущую груду оружия. Все, кроме Малаклипса Красное Кольцо. Воин-поэт ни за что не расстался бы со своим священным ножом и не отдал бы его в чужие руки; он ограничился тем, что спрятал его в ножны, которые носил под плащом, и взглядом пообещал Данло, что не станет обнажать его в пределах города — если, конечно, война не вспыхнет снова и ему не придется защищать того же Данло.
Но война окончена, сказал себе Данло. Наконец-то с ней покончено раз и навсегда.
Божки и кольценосцы, складывая оружие, смешались воедино, совсем как до войны. Тихо переговариваясь, они вспоминали события, которые привели к этому поразительному моменту. Весть о том, что Мэллори Рингесс голыми руками убил трех воинов-поэтов, быстро разошлась по собору. Рассказывались и другие истории. Когда Мэллори Рингесс упомянул о смерти своего сына, все, естественно, решили, что он говорил о Данло. Его никто не видел вот уже много дней, и теперь кольценосцы тихими, скорбными голосами оповещали друг друга о его гибели.
Один божок, так и не смирившийся с потерей своих друзей, обвинил Бенджамина Гура в террористических действиях и в том, что он послал кого-то из кольценосцев убить Ханумана ли Тоша, вследствие чего чуть не погиб сам Мэллори Рингесс. Услышав это обвинение, Данло взглянул на Ивара Заита, и тот объяснил всем, что Хануман сам инсценировал это мнимое покушение, чтобы заточить Мэллори Рингесса в своей башне. С недоумением и почтительным страхом поглядывая на Данло, Ивар рассказал, как воины-поэты Ханумана ввели Мэллори Рингессу парализующее средство, чтобы заставить его молчать. Ивар до сих пор не понимал, как удалось Рингессу преодолеть действие этого средства, но другие поняли. Женщина в золотом платье, с благоговейным выражением на лице, сказала это простыми словами:
— Он Мэллори Рингесс, и он бог.
Все эти истории подействовали на собравшихся успокаивающе. Божки начали наконец понимать лживость и преступность действий Ханумана ли Тоша, а кольценосцы испытывали жалость к одураченным божкам. Тогда Данло, освещенный льющимся в восточное окно солнцем, рассказал всем об истинной цели Ханумана. Рассказал о будущем, в котором всем рингистам предстояло содействовать росту Вселенского Компьютера — а потом быть выброшенными, как сломанные части механизма, в которых больше нет нужды. Хануман мечтал о том, сказал Данло, что когда-нибудь Вселенский Компьютер займет собой всю вселенную.
— И это главная причина, по которой я был вынужден убить его, — сказал он людям, глядящим на него с ужасом и недоверием. — По которой Содружество Свободных Миров вступило в битву с флотом рингистов и одержало победу.
Так невернесцы впервые узнали о великой победе Содружества. В то самое время, как Данло, стоя на алтаре, рассказывал, чем закончилась битва Десяти Тысяч Солнц, небо над городом озарилось множеством ярких огней. Это авангард флота Бардо, сказал Данло, — это его легкие корабли выходят из мультиплекса, возвращаясь домой.
— Надо открыть Крышечные Поля, — распорядился он, посмотрев на Ивара Заита — Данло знал, что ему рингисты, охраняющие космодром, не окажут сопротивления. — Ступай туда, найди Корабельного Мастера и расскажи ему о том, что произошло здесь. Пусть он подготовит Пещеры к приему множества кораблей. Скажи также, что Бардо и лорду Сальмалину, когда они прибудут, надлежит явиться в собор к Мэллори Рингессу.
Поколебавшись долю мгновения — ему явно не хотелось покидать собор, где разворачивались столь грандиозные события, — Ивар кивнул и зашагал к выходу. Когда он ушел, Данло стал раздавать поручения другим божкам и кольценосцам, спеша навести порядок и в соборе, и во всем городе.
Раненых и умирающих он приказал доставить в хосписы, мертвых — к плазменным печам для кремации.
С часто бьющимся сердцем он посмотрел, как группа божков поднимается на башню, чтобы снести вниз тела трех воинов-поэтов и Ханумана. Еще чаще оно забилось, когда Данло велел другой команде найти в часовне камеру, где Хануман заключил Старого Отца. Он приказал доставить почтенного фраваши в хоспис, если тот как-то пострадал, или же к нему домой во Фравашийскую Деревню. Затем Данло перешел к менее важным делам наподобие очистки пола от осколков стекла и вставки клария в разбитые окна — уж очень холодно было в соборе.
Некоторое время все шло хорошо, но на пути к главенству над городом и Путем Рингесса Данло ожидало еще одно испытание. Божки теперь стекались в собор со всего Старого Города, чтобы еще раз подивиться на Мэллори Рингесса. Внезапно Данло заметил маленькую женщину в ярком золотом одеянии — она шла по проходу, и божки расступались перед ней. Она приблизилась к алтарю с таким видом, точно это застланное красным ковром возвышение принадлежало ей.
Красные глазки смотрели сердито с ее маленького кислого личика. Данло очень хорошо знал эту женщину, Сурью Сурату Лал.
Когда-то она была принцессой на планете Летний Мир; теперь, особенно со смертью Ханумана, она видела себя королевой церкви. Весь прошлый день после пленения Данло она тайно совещалась с лордом Паллом и не присуствовала при штурме собора кольценосцами. Но она, при всем своем тщеславии и гордыне, была храброй женщиной, готовой бороться хоть с кем, даже и с богом.
— Этот человек, — сказала она, указывая на Данло и обращаясь к божкам у алтаря, — убил лорда Ханумана, а вы поклоняетесь ему, как богу!
Несколько мгновений все пятьсот человек, бывших в соборе, молчали, глядя на нее так, точно она заразилась безумием от Ханумана. Затем один видный рингист, Бодавей Эште, прочистил горло и сказал: — Но ведь он и есть бог, Сурья. Мэллори Рингесс.
— Откуда нам знать, настоящий он Мэллори Рингесс или нет? Может, это просто ставленник Бенджамина Гура, притворившийся богом, чтобы убить лорда Ханумана?
При этом поразительном заявлении многие кольценосцы закричали, что Сурья клевещет на их вождя, и стали требовать, чтобы она замолчала. Божки, напротив, хотели, чтобы она продолжала говорить, и атмосфера в соборе так накалилась, что Малаклипс поднялся повыше и взялся за нож, не сводя глаз с массы кричащих, взволнованных людей.
— Она права, — сказал какой-то старик. — Откуда нам знать, что это настоящий Мэллори Рингесс?
— Конечно, Мэллори Рингесс — кто же еще?
— Но который Мэллори: бог или человек? Вот вопрос!
— Что такое, по-вашему, бог? А человек?
— Конечно, он человек — кто же еще?
— Нет, бог. Не видишь, что ли?
— Поглядите на его глаза! Разве у Мэллори Рингесса глаза были синие?
— Мэллори носил сначала человеческое тело, потом алалойское. Он бог и может выбрать себе глаза любого цвета.
— Кто, кроме бога, способен убить голыми руками трех воинов-поэтов?
— Все идущие по Пути Рингесса когда-нибудь станут богами — почему же вы не верите, что Мэллори бог?
— Путь Рингесса в том, чтобы пить каллу и вспоминать Старшую Эдду, — зачем надо было это извращать?
— Почему вы не видите того, что у вас перед глазами?
— Почему вы позволили Хануману все испортить и ввергнуть город в войну?
— Он человек, ставший богом, — и вот он стоит!
— Я вижу человека, который и выглядит как человек. Принцесса Сурья права — откуда нам знать, что он действительно Мэллори Рингесс?
Данло довольно долго молчал, давая всем выговориться.
На Сурью Лал он смотрел с грустной улыбкой — он видел, что она никогда не чувствовала истинного духа рингизма и не понимала, что значит выйти за пределы своего “Я”. У нее в отличие Ханумана не было высокой мечты, пусть даже злой и безумной. Вся ее вера сводилась к притворству и фанатическому пылу с немалой долей самообмана и желания прославиться.
Мэллори Рингесса она явно считала не более чем сильным человеком, способным помочь ей в восхождении к вершинам власти. При мысли о ее мелкой, живущей бредовыми фантазиями натуре и о вреде, который эти ее качества принесли миру, Данло хотелось плакать. Вызов, который она ему бросила, был отчаянным шагом, но это не умаляло опасности, которую она собой представляла. Данло был уверен, что Хануман не сказал ей, кто такой Мэллори Рингесс на самом деле, но Сурья обладала острой, как бритва, интуицией. Решив разом развеять все сомнения и подозрения относительно своей персоны, Данло перевел взгляд на взволнованную толпу и поднял руки, призывая к тишине.
— Я тот, кто я есть! — крикнул он и, стиснув кулак, показал им черное пилотское кольцо, сверкнувшее на солнце. — Видите его? Этим кольцом в 95-й день ложной зимы тридцать лет назад лорд Леопольд Соли посвятил меня в пилоты. Пилот никогда не снимает своего кольца; оно священно и дает возможность опознать пилота, даже если он состарится в мультиплексе на восемьдесят лет и вернется в Невернес, когда все его друзья умрут.
С этими словами он, к изумлению всех присутствующих снял кольцо с пальца и сделал молодому человеку у алтаря знак подойти. По воле случая это оказался не кто иной, как Кийоши Темек, ухаживавший за Данло в его камере.
— Ты веришь, что я Мэллори Рингесс? — спросил Данло.
Весь собор затих, ожидая ответа Кийоши.
Молодой божок поднял на Данло свои доверчивые глаза и без колебании ответил: — Верю.
— Хорошо. — Данло вышел на край алтаря и вложил кольцо в руку Кийоши. — Найди в Пилотской Коллегии Мастера-Архивариуса, и пусть он определит, чье это кольцо.
Он улыбнулся, видя, с каким благоговением взирает на него Кийоши и как он держит кольцо — будто это не холодный алмаз, а горячий уголь. Но Мастер-Архивариус подобных эмоций испытывать не будет. Он положит кольцо под электронный микроскоп и прочтет вписанную в алмаз уникальную метку из атомов железа и иридия.
— Ступай скорее, — сказал он Кийоши, обласкав его взглядом, и велел Малаклипсу: — Ступай и ты с ним. Позаботься, чтобы кольцо дошло до Мастера-Архивариуса без происшествий.
Малаклипс, неохотно повиновавшись, вышел из собора вместе с Кийоши, и Данло перенес синий огонь своих глаз на Сурью. Он смотрел на нее, и они вместе с сотнями других ждали возвращения Кийоши Темека.
Сердце Данло мерно отстукивало проходящие мгновения, а собор все наполнялся и наполнялся. Весть об окончании войны и смерти Ханумана разнеслась по городу, как пожар.
Все разношерстное население Невернеса, как и вчера, стекалось к собору. И так же, как в минувший трагический день — Данло казалось, что между ним и сегодняшним прошел миллион лет, — лорды и мастера Ордена явились в собор, откликнувшись на его зов. Они приходили по парам, и по десять человек, и по двадцать: Ева Зарифа, и Санчо Эдо Ашторет, и Бургос Харша — последний все в той же коричневой форме. Лорд Палл, само собой, тоже прибыл, а с ним Джонат Парсонс, Родриго Диас, Коления Мор и вся остальная Коллегия.
На этот раз, однако, академики смешались с божками, кольценосцами, аутистами и хариджанами, не придерживаясь определенного протокола. Немного погодя появился Джонатан Гур в сопровождении Зенобии Алимеды и других каллистов. Увидев, что Бенджамин жив, хотя и ранен, он протолкался к алтарю и обнял брата в порыве бурной радости.
Следом в собор вошел Демоти Беде, и двое Подруг Человека, и послы Утрадеса, Ярконы, Нинсана, Арсита, Веды Люс и других рингистских миров. Казалось, весь город собрался в соборе, чтобы увидеть своими глазами, будет ли этот обыкновенный на вид человек объявлен Мэллори ви Соли Рингессом, главой Ордена, Светочем Пути Рингесса — и правителем всех миллиардов людей, живущих в цивилизованных Мирах.
Да.
Когда уже стало казаться, что Кийоши Темек никогда не вернется, толпа на улице издала мощный крик. Но это возвещало не возращение Кийоши, а прибытие группы одетых в черное мужчин и женщин. Около ста пилотов, только что из боя, шли по ледянке к дверям собора. Среди них был Сальмалин Благоразумный и другие рингисты — они, как видно, успели примириться со своими давними однокашниками и недавними врагами Маттетом Джонсом, Ларой Хесусой и Роганой Утрадесской.
Бардо, разумеется, тоже был с ними. В своих пропотевших налловых доспехах и великолепном шешиновом плаще он вступил в собор, словно бог войны. За ним шли cамые прославленные из его капитанов: Елена Чарбо, Аджа, Сабри дур ли Кадир и Ричардесс. В нескольких шагах позади следовали Алезар Эстареи, Эдрея Чу и Кристобль Смелый, который в битве Десяти Тысяч Солнц оправдал наконец высокое мнение, которое имел о себе самом, и оказался достоин своего прозвища.
Спаянные воедино гибелью своих друзей, они медленно проходили под цветными окнами нефа. Люди в соборе, несмотря на ставшую почти невыносимой давку, расступались перед ними. Бардо спешил к алтарю, откуда когда-то руководил мнемоническими церемониями и где теперь на его месте стоял другой. Увидев Мэллори Рингесса, точно вышедшего из глубин его памяти и заветной мечты, он устремился вперед чуть ли не бегом, забыв даже о той малой толике сдержанности, которой обладал.
— Мэллори! — вскричал он своим громовым голосом. — Мне сказали, что ты вернулся, но я не хотел верить, пока не увижу тебя своими глазами.
Данло спустился с алтаря ему навстречу. Бардо на миг остановился и посмотрел на него как-то странно, но тут же, рыдая, припал к нему, потрясенный и торжествующий, и стал молотить Данло по спине в приливе радости. Многие стоящие поблизости, видя это, тоже прослезились. Столь бурные изъявления восторга могли бы поломать ребра менее крепкому человеку, но Данло носил то же самое алалойское тело, которое на памяти Бардо принадлежало Мэллори Рингессу.
— Паренек! — твердил Бардо, позабыв об этикете. Это было дружеское прозвище, которым он называл Мэллори Рингесса, а потом и Данло. — Я думал, ты уже умер, ей-богу!
Но Мэллори Рингесс, как видели все, был живехонек, и то, как приветствовал его Бардо, убедило даже самых заядлых скептиков, что перед ними действительно прославленный Главный Пилот, доказавший Великую Теорему и вернувшийся в Невернес, овладев тайнами богов. Именно в этот кульминационный момент возвратился наконец Кийоши Темек, сопровождаемый Малаклипсом и седовласым человеком преклонного возраста. Данло узнал в нем Дагейма Редсмита, Мастера-Архивариуса и мастер-пилота, который когда-то пытался достичь внешнего ядра галактики за Морбио Инфериоре — очень давно, еще до Ричардесса и Леопольда Соли.
Теперь мастер Дагейм, страдающий сухоткой и трясучкой, предоставлял водить легкие корабли более молодым пилотам, ограничиваясь ведением летописи их достижений — и идентификацией их черных колец.
— Мастер Дагейм! — Бардо разомкнул объятия, глядя на ковыляющего к алтарю старца. Он не мог не заметить, что Сурья Лал, лорд Палл и многие другие ждут приближения Архивариуса со страхом, как если бы тот был носителем чумы. — Рад видеть вас снова — я знаю, как вам тяжело выбираться в город.
Бардо низко поклонился старику, и другие последовали его примеру. Все присутствующие здесь пилоты знали мастера Дагейма, а он знал их всех. Старый мастер с трудом поклонился лорду Сальмалину, Чиро Далибару, Кристоблю Смелому, обменялся поклонами с Данло — и выпрямился, молча глядя на него. Весь собор затаил дыхание.
После долгой паузы старик улыбнулся и заговорил, произнося слова старинного ритуала: — Лорд Мэллори Рингесс, удачен ли был твой путь? Тебя не было семнадцать лет и триста сорок восемь дней. О каких чудесах поведаешь ты мне, возвратившись?
Услышав это, пятьсот человек взревели разом — только Бардо смотрел то на мастера Дагейма, то на Данло, ничего не понимая. Божок, стоящий у него за плечом, объяснил ему, зачем посылали за Мастером-Архивариусом, и Бардо повернулся к своей кузине Сурье Лал с черно-лиловым от гнева лицом.
— Сурья! — прогремел он с такой яростью, что стоящие рядом шарахнулись в стороны. — Это Мэллори — и ты поняла это сразу, как только его увидела!
Сурья, сообразив, что контроль над Путем Рингесса ей захватить не удастся, пристыженно потупилась.
— Да, он Мэллори Рингесс, — подтвердил мастер Дагейм, подняв черное кольцо над головой так, чтобы видели все. — А это его кольцо. Оно сделано в восемьдесят восьмой день ложной зимы 2929 года и дано Мэллори Рингессу при его посвящении в Зале Пилотов.
С этими словами он протянул кольцо Данло и удовлетворенно улыбнулся, когда тот снова надел его на палец.
— Мэллори Рингесс! — вскричали разом сотни голосов. — Мэллори Рингесс! Лорд Мэллори ви Соли Рингесс!
Выждав, когда шум немного утихнет, Бардо снова обратился к Сурье, содействовавшей его смещению и всемерно раздувавшей войну.
— Сурья Лал! Ты предала не только меня, но и каждого из стоящих здесь бедных божков. За это тебя следует вывести из этого прекрасного здания, которое ты помогала разрушать, и…
— Бардо! — Голос, еще более мощный, прокатился по собору от стены к стене. Данло помолчал, устремив взгляд на своего друга, и заговорил снова: — Бардо, ты отважно сражался и привел пилотов Содружества к победе. Мы все воздаем тебе честь за это, но решать судьбу Сурьи Лал надлежит не тебе.
Весь собор вскричал разом, соглашаясь с Данло, и из нефа на улицу понеслось:
— Лорд Мэллори! Глава Ордена! Владыка Света! Светоч Пути Рингесса!
Бардо улыбнулся и сказал с низким поклоном:
— Верно, Мэллори, верно. Глава Ордена — ты, а не я.
Данло вернул ему поклон и сказал Сурье:
— Сурья Сурата Лал, вы были рождены принцессой Летнего Мира и теперь снова вернетесь туда. Бардо приготовит для вас корабль.
Бардо опять поклонился, а Сурья сверкнула глазами и скрипнула зубами, но ни словом не опротестовала приговор, обрекающий ее на изгнание.
— Бывшие воины-поэты, помогавшие Хануману в терроре и пытках, тоже вернутся в свой родной мир.
Солнце поднималось все выше, заливая собор золотым светом, а Данло стоял, как бог, среди людей Невернеса и делал все от него зависящее, чтобы восстановить в городе мир.
Наконец очередь дошла и до лорда Палла, молча глядевшего на Данло своими розовыми альбиносскими глазами. Если он даже подозревал, кто такой Мэллори Рингесс на самом деле, то ничем этого не обнаруживал. Мертвенно-бледное, с обвисшей кожей лицо делало его смертельно усталым и бесконечно старым.
— Лорд Палл, — сказал Данло, — я благодарю вас за то, что вы исполняли обязанности главы Ордена в мое отсутствие, но теперь у вас будет больше времени для размышлений о природе сознания и других столь же важных вещах. Вы будете жить на покое в своей башне, передав пост Главного Цефика своему преемнику.
Так Данло перед всеми академиками, хариджанами, кольценосцами и божками отправил лорда Одрика Палла в отставку и приговорил его к домашнему аресту в башне Цефиков. И лорд Палл, изможденный и пристыженный, закрыл глаза, признавая свое поражение. Лорд Вишну Сусо, явно желая возразить что-то против смещения своего главы и принципала, открыл было рот, но темный огонь в глазах Данло заставил его промолчать из страха самому быть разжалованным.
— Мэллори Рингесс! Мэллори Рингесс! Лорд Мэллори ви Соли Рингесс!
Однако лорд Сальмалин, при всем своем благоразумии, оставался великим пилотом, и мужества у него было куда больше, чем у лорда Сусо. Он смело посмотрел на Данло и начал:
— Я как Главный Пилот считаю своим долгом сказать, что вам не пристало…
— Сожалею, — прервал его Данло, чьи глаза теперь пылали, как пара звезд, — но вы больше не Главный Пилот.
— Что? — Лорд Сальмалин уставился на Данло так, точно смысл этих простых слов не дошел до него. Сто других пилотов тоже смотрели на Данло во все глаза.
— Мы все воздаем вам должное за решимость, с которой вы вели военные действия против Содружества. Но из-за этой вашей деятельности погибло множество людей, и Орден вместе с Цивилизованными Мирами едва не погиб тоже. Настало время избрать нового Главного Пилота.
— И кто же это будет? — спросил Сальмалин.
— Его зовут Пешевал Сароджин Вишну-Шива Лал, — ответил Данло и с улыбкой добавил: — Но всем он больше известен как мастер-пилот Бардо.
Бардо просиял от гордости и удовольствия, а Лара Хесуса, Сабри дур ли Кадир и другие пилоты, которыми он командовал, поклонились ему и застучали своими кольцами по медной ограде алтаря, одобряя его избрание.
— Но он больше не пилот Ордена! — громко запротестовал Сальмалин. — Он давно уже отрекся от своих обетов и стал отщепенцем!
Тут лорд Вишну Сусо, набравшись наконец отваги, прочистил горло и заметил, что за три тысячи лет от основания Невернеса ни одному ренегату не было позволено вернуться в залы Академии.
— Верно, не было, — сказал Данло, — но теперь другие времена, и в нашем Ордене, как и в других Орденах, вводятся новые правила. Бардо, если пожелает, может заново принести присягу и занять пост Главного Пилота.
Бардо в свою очередь улыбнулся Данло и воскликнул:
— Еще бы я этого не желал, ей-богу! Это мечта всей моей жизни! Спасибо тебе, Паренек, спасибо!
— Пожалуйста, — сказал Данло. — Думаю, что из тебя выйдет превосходный Главный Пилот.
Оказанная Бардо честь явно встретила всеобщее одобрение, поскольку собравшиеся снова подняли крик: — Лорд Бардо! Лорд Бардо! Главный Пилот Ордена!
Данло мог бы провести остаток дня, принимая обожание людских толп и залечивая нанесенные войной раны, но все случившееся с ним после возвращения в Невернес наконец пересилило его. Он обнаружил в себе источник тайного огня жизни, но это пламя горело слишком ярко и слишком долго.
Все клетки его организма пробудились почти одновременно, но такая встряска требовала огромных затрат энергии. Кийоши Темек и прочие божки могли думать, что бог питается солнечными лучами, но это было далеко не так. Данло, ничего не евший и не пивший с прошлого утра, испытывал огромную слабость — гибельную слабость, если говорить честно. В голове у него помутилось, и он повалился на Бардо. Он был в полуобморочном состоянии и рухнул бы на пол, но Бардо обхватил его своими ручищами и помог удержаться на ногах.
— Что случилось? — вскричали с тревогой сто голосов. — Что с Мэллори Рингессом?
Бардо, крепко держа Данло, в глаза которого постепенно возвращался свет, прошептал ему: — Паренек, ты чего?
— Все хорошо, Бардо, — с улыбкой ответил Данло. — Все теперь будет хорошо.
Бардо, взмахами руки разгоняя толпу, повел его к часовне.
— Дорогу, — гремел он при этом. — Плохо ему, не видите, что ли? Богам тоже надо спать.
Да, спать, подумал Данло — и безмолвно помолился за навеки уснувшую часть себя самого: Данло ви Соли Рингесс, ми алашария ля, шанти, шанти.
Он шел с Бардо сквозь цветные лучи, льющиеся в окна собора, и люди по сторонам кричали:
— Рингесс вернулся! Глава Ордена! Светоч Пути! Владыка света!
И Данло, молчанием своей души и глубиной своих глаз, шагая вперед и засыпая на ходу, отвечал им: Да! Да! Да! Да!
Глава 26 ГЛАВА ОРДЕНА
Ты скорбишь о том, что недостойно горя.
Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых.
Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование.
“Бхагавадгита”. Речь Кришны перед битвой при КурукшетреСледующие несколько дней Данло оправлялся от испытаний, перенесенных им в башне Ханумана. Бардо оборудовал для него покои в часовне, а Малаклипс вместе с божками и кольценосцами нес караул у его двери. На Крышечных Полях по распоряжению Бардо принимались продовольственные транспорты с Ярконы, Асклинга, Ларондиссмана, и жизнь в городе налаживалась, а Данло только и делал, что спал да ел. Пробужденные клетки его большого тела требовали огромного количества калорий. Он, как медведь, наедающийся впрок средизимней весной, поглощал полные миски сушеных кровоплодов, вареного риса, бобов минг и своего любимого курмаша. С Аудун Люс пришел тяжелый корабль с грузом баранины, но Асклинг уже обеспечил город искусственным мясом, и на убоину охотников почти не находилось. Однако Данло, к изумлению и отвращению Кийоши Темека и других божков, умял целый бараний бок, брызжущий красным соком.
Когда его спросили, как может бог быть столь кровожадным и бездуховным, он ответил просто:
— “Дух” означает то же, что и “дыхание”. Дыхание жизни, так? Барашек, которого я съел, впитал в себя много воздуха, миллионы глотков. Что может быть живее этого барашка, бегавшего по траве под желтым солнцем Аудуна? И куда делась вся эта жизнь, когда его зарезали? Никуда, потому что ничего не теряется. Он отдал свою благословенную жизнь, чтобы я тоже мог жить и пылать. Его жизнь, его дух, живший в плоти, — все это теперь перешло в меня, чтобы я мог создать еще больше жизни. Что же может быть духовнее этого?
Такие речи озадачивали и пугали последователей Мэллори Рингесса, желавших видеть своего бога таким, каким, по их разумению, полагалось быть богу. Но Мэллори Рингесс никогда не поступал согласно мнению других, и Данло тоже.
Быстро восстановив свою огромную жизненную силу, он вскочил с постели и занялся многочисленными стоявшими перед ним задачами. Вопреки протестам божков он покинул Старый Город и поселился в Академии, на вершине более высокой из двух Утренних башен. Да, он, конечно, Светоч Пути, сказал Данло, но он к тому же и глава Ордена — и как таковой должен жить среди мастеров и кадетов пилотского колледжа Ресы, где когда-то учился сам.
Утром 53-го числа он послал за Бардо, который последние дни утверждал себя в качестве Главного Пилота. Он все еще оставался командующим флотом Содружества, а Содружество было создано, чтобы сражаться с рингистами Ордена, и это двойное главенство составляло для него довольно конфликтную ситуацию. Как раз для того, чтобы разрядить напряжение между Орденом и Содружеством — и по другим причинам тоже, — Бардо взобрался в тот день на Южную Утреннюю башню.
— Паренек! — воскликнул он, обнимая Данло. Его большие карие глаза смотрели на Данло странно — с пониманием и немалой долей иронии. — Рад видеть, что ты снова стал самим собой.
Данло улыбался Бардо, а Бардо улыбался ему. Комнаты Данло занимали почти весь верхний этаж башни. Их венчал великолепный клариевый купол, открывающий широкий вид на Академию, но вещей здесь было очень мало. Данло попросил прислуживающих ему послушников принести фравашийский ковер, меховой спальник, шахматный столик из Хануманова кабинета, компьютер-образник, кофейный сервиз, несколько горшков с комнатными цветами — больше ничего.
Большая комната из-за этого казалась голой, как пещера.
— Скудная у тебя обстановка, — сказал Бардо. — Ни стула, ни кушетки, даже сесть некуда. Хотя Данло ви Соли Рингесс всегда терпеть не мог стульев, правда?
Данло снова улыбнулся, а Бардо стиснул его в объятиях и треснул по спине.
— Данло, Данло — ведь это же ты, ей-богу!
Данло со смехом кивнул.
— Я ведь говорил, что мы встретимся снова, даже если нас будут разделять миллион звезд и все легкие корабли Невернеса?
— Да, ты говорил, но я не смел тебе верить. Ах, Паренек, до чего же я рад, что тебя вижу!
Бардо напоследок хлопнул Данло по спине и заглянул ему в глаза.
— Ты знал, — сказал Данло, приглашая Бардо сесть с ним на ковер. Бардо, как черный лебедь, складывающий крылья, подобрал свой шешиновый плащ и уселся. — Знал с того момента, как увидел меня в соборе, да?
— Знать-то я знал, но полностью уверен не был. Пока не увидел у мастера Дагейма кольцо твоего отца.
Данло взглянул на черный ободок у себя на пальце. Бардо хранил это кольцо, доверенное ему Мэллори, у себя, а потом отдал его Данло в Святыне Послушников, много лет назад.
— Все дело в твоих проклятых глазах, — сказал Бардо. — У кого еще они могут быть такими синими и у кого еще из них хлещет такой окаянный свет?
— Говорят, у отца глаза были такие, что он смотрел людям прямо в душу — даже воинам-поэтам и цефикам.
— В душу, говоришь? Ладно, будем надеяться, что глаза тебя не разоблачат. Никто, кроме Бардо, не знал настолько близко и твоего отца, и тебя.
— Это верно. К тому же я никого не намерен подпускать к себе близко, кроме тебя и еще нескольких человек.
— И кто же эти несколько?
— Малаклипс Красное Кольцо с Кваллара. Братья Гур и еще пара каллистов. Старый Отец, само собой. И Тамара, если я найду способ встречаться с ней, не вызывая подозрений.
— Тамара! Так она жива? Слава Богу! Все ли у нее хорошо? Как ты нашел ее, Паренек?
Данло рассказал ему о своем переходе от Шейдвега до Невернеса и о многом из того, что случилось потом, вплоть до столкновения с Хануманом в соборе. Перемежая свою повесть большим количеством чашек черного кофе, он рассказал, как убил медведя, и о смерти своего сына.
— Не знал, что у вас с Тамарой был ребенок, — покачал головой Бардо. — Ох, горе, Паренек, горе.
Данло умолк, тихо дыша и глядя на пар над чашкой.
— Ты правда убил Ханумана? И воинов-поэтов тоже?
— Да.
— Ты, должно быть, ненавидел его всеми своими клетками.
— Да. Почти так же сильно, как любил.
— Эх, горе. Горе, что это тебе выпало его убить, хочу я сказать. Но этим ты спас нас всех.
— Нет. Битву выиграл ты со своими пилотами.
Бардо поглядел сквозь купол на синее небо, где солнце затмевало сияние десяти тысяч других звезд.
— Мы могли и проиграть. Шансы у нас были хлипкие. Если б Хануман не прервал контакт с Вселенским Компьютером в критический момент и компьютер не перестал бы показывать пилотам Сальмалина наши маршруты… мы бы сами могли сгореть внутри звезд.
— Как это говорил отец? Судьба и случай — союз неминучий. В конечном счете мы сами выбираем свою судьбу.
— Ты уж точно выбрал свою, верно? А Хануман свою. Свою проклятую безумную судьбу.
— Нет, Бардо, не проклятую. Благословенную.
— Как это — благословенную?
Данло посмотрел на шахматные фигуры, на пустой квадратик, где полагалось стоять белому богу.
— Хануман верил, что создает лучшую вселенную, — сказал он. — Да. Он верил в эту безумную мечту и потому в конце концов сам обезумел, бесповоротно и безнадежно. Но он тоже говорил “да”, хотя и на свой лад, правда? Он принимал безумие как свою судьбу и даже принуждал себя любить его; он всей душой предался своей мечте — что может быть благословеннее этого?
— Но он отнял у Тамары память! — вознегодовал Бардо.
— Я помню.
— То, что он творил, привело к смерти твоего сына и миллиардов других людей!
— Да.
— И если бы ты не остановил его, он взорвал бы все наши чертовы звезды!
Данло кивнул и взял огромную руку Бардо в свои.
— Это тяжело. Для меня это по-прежнему самое трудное — принимать вселенную такой, как она есть. Признавать, что в ней есть место всем, даже чудовищам и безумцам.
Под отдаленный рокот челноков, доставляющих на Крышечные Поля продовольствие, Данло и Бардо поговорили о природе вселенной, ее судьбе и прочих эсхатологических материях. Бардо был не готов еще сказать окончательное “да”, как сделал это Данло, но слушал его вежливо, со смаком попивая кофе и поглаживая густую черную бороду. Минуты бежали, как песок в стеклянных часах Хранителя Времени, и Бардо, заметив это, перешел к более насущным проблемам.
— Но как же ты умудрился стать точной копией своего отца? Чем больше я на тебя смотрю, тем труднее найти между вами разницу.
— Я отыскал резчика, который когда-то ваял отца.
— Этого гада Мехтара Хаджиме?
Бардо потемнел от гнева, и Данло вспомнил зловредную шутку, которую, в свое время сыграл с ним Мехтар.
— Когда я его разыскал, он назывался Констанцио с Алезара.
— Где он, этот подонок? Я двадцать пять лет его ищу, ей-богу! Поймаю — морду сворочу на сторону…
— Он мертв, — тихо вставил Данло. — Хануман приказал убить его, чтобы никто не узнал, кто я на самом деле.
— Ах ты, горе.
Бардо явно сожалел не о горькой участи Мехтара, а о том, что потерял возможность ему отомстить.
— Да, горе, — сказал на это Данло. — Хануман не должен был его убивать.
— Да он же предал тебя, Паренек! Всех нас предал — чудо еще, что это его предательство не погубило все окончательно.
Никогда не убивай без крайней необходимости, вспомнил Данло и сказал:
— Все равно. Убивать — это шайда, если только…
— Прибереги свое сочувствие для Тамары и для всех матерей, потерявших сыновей на Этой проклятой войне. И для себя самого тоже.
Данло подержал горячий кофе во рту, проглотил его, вздохнул и сказал:
— Выдав меня Хануману, Мехтар в самом деле нарушил контракт, который мы заключили. Поэтому я послал Бенджамина Гура к нему домой за скраерской сферой, которую я ему отдал.
— Это сфера твоей матери?
— Да.
— Дорого же ты дал за то, чтобы сделаться Мэллори Рингессом.
Данло, закрыв глаза, молча помолился за души Ханумана ли Тоша и Данло ви Соли Рингесса, а потом ответил:
— Да, очень дорого.
— Я-то твою тайну никому не выдам. В соборе я неплохо сыграл свою роль, ведь так?
— Ты даже заплакал, увидев меня.
— Это я из-за тебя плакал, Паренек. В жизни никому еще так не радовался.
— Я тоже обрадовался тебе, Бардо.
Тут глаза Бардо снова увлажнились — ему, видимо, стоило труда сдерживать ту массу воды, которая в нем умещалась.
— Но признаюсь тебе: в собор я входил с надеждой, что твой отец в самом деле вернулся. Я так долго этого ждал.
— Я знаю.
— Но он никогда уже не вернется, правда? — Бардо уставился на черный кружок кофе в чашке, где колебалось его отражение. — Нет, конечно; он, наверно, давно умер. Горе тебе, бедный Бардо.
Ничто не теряется, вспомнил Данло и сказал: — Может быть, он еще жив.
— Согласен с тобой, Паренек, — улыбнулся Бардо, — он живет в тебе. Ты его сын, ей-богу, — думаю, я понял это в тот самый момент, когда увидел, как ты трясешься от холода на площади Лави. А теперь вот сын стал отцом. Твой план отлично сработал, правда? Даже Сурья теперь уверовала, что ты Мэллори Рингесс.
И Бардо с печальным вздохом сообщил, что Сурью Сурату Лал водворили на тяжелый корабль, идущий в Летний Мир.
— Я понимаю, это был единственный выход, но тебе следовало бы сначала посоветоваться со мной.
— Извини, но мне еще многое придется сделать, не советуясь с тобой.
— Но я ведь Главный Пилот, — заметно обиделся и рассердился Бардо. — Главный Пилот чертова Ордена!
— А я — глава этого самого Ордена, — улыбнулся его вспышке Данло. — Лорд Мэллори Рингесс, как меня называют.
Но Бардо, приведший тридцать тысяч кораблей к победе в крупнейшей из войн, когда-либо происходивших в Цивилизованных Мирах, успел привыкнуть к власти, как тюлень к воде, и не собирался уступать ни унции даже и в пользу Данло.
— Ты не настоящий Мэллори — вот в чем беда, — заявил он. — Ты, Паренек, просто пилот, посланный сюда Содружеством, чтобы остановить войну.
Данло пристально посмотрел ему в глаза, но ничего не ответил.
— И будь ты даже главой Ордена, — продолжал Бардо, нервно вертя в руках свою чашку, — я остаюсь Главным Пилотом Содружества, а Содружество только что завоевало в этой поганой войне право диктовать Ордену условия мира.
Взгляд Данло стал еще более пристальным, и его глаза вспыхнули, как огневиты, помещенные в середину звезды.
Бардо, не выдержав яркости этого взгляда, отвел свой.
— Ладно, прости, — вымолвил он наконец. — Ты и правда сын своего отца, так ведь? Наконец-то стал им. Я как-то спросил тебя, почему ты не делаешь того, для чего рожден. Теперь ты это сделал — и я, пожалуй, должен этому радоваться. Ты тот, кто ты есть, так ведь? Глава Ордена — Владыка Света, как все говорят, и мне тоже следует так тебя называть. Будем и дальше продолжать представление, так блистательно начатое тобой. Будь главой Ордена, если тебе так хочется, Паренек, — для этого ты, в конце концов, и родился.
Пока солнце поднималось над восточными горами и день становился все ярче, они обсудили меры, необходимые для полного прекращения войны. Бардо в качестве Главного Пилота Содружества был уполномочен только командовать флотом — в его полномочия не входило навязывать свою волю городу Невернесу и побежденным рингистским мирам. Но соратники Бардо успели полюбить его и доверяли ему; поэтому Данло полагал, что они с радостью предоставят ему разработать условия мира для всех Цивилизованных Миров. Данло же в качестве лорда Мэллори Рингесса получит поддержку всей тысячи с лишним рингистских миров и самого Ордена.
Он — полноправный глава Ордена, а Орден три тысячи лет вел Цивилизованные Миры к высокой цели и обеспечивал среди них мир; если Мэллори Рингесс укажет путь к возрождению этой могущественной звездной цивилизации, флот Содружества, весьма вероятно, будет расформирован, и его корабли вернутся на свои родные планеты.
— Так будет лучше всего, — сказал Данло, подливая Бардо кофе. — Мы отправим тяжелые корабли по своим мирам с нашими условиям мира, и их пилоты расскажут своим согражданам, что Орден вернулся к прежнему мировоззрению.
— Правда вернулся?
— Правда, — заверил Данло, отхлебнув кофе, — А Елену Чарбо и других пилотов, пришедших сюда с Зондервалем, мы отправим назад на Тиэллу, и Демоти Беде с ними. Пусть расскажут лорду Николосу о том, что здесь произошло. О том, что Мэллори Рингесс вернулся. Ведь они с лордом Николосом были когда-то друзьями, да?
— Во всяком случае, восстанием против Хранителя Времени они руководили вместе. И я с ними, ей-богу. Лорда Николоса я знаю и думаю, что Мэллори Рингессу он верит по-прежнему, хотя религию, которую я имел глупость основать от имени Мэллори, на дух не переносит.
— В настоящее время это так, — загадочно молвил Данло, — но мы должны как-то победить эту его неприязнь. Старый и Новый Орден должны снова стать единым целым. Теперь, когда война кончилась, Орден должен возобновить свою миссию в Экстре, сказал далее он. Лорду Николосу надлежит отправить своих пилотов и эмиссаров на Таннахилл, чтобы помочь Харре Иви эн ли Эде разработать новые доктрины Вселенской Кибернетической Церкви. Ордену, как Новому, так и Старому, предстоит обучить сотни и тысячи новых пилотов — они отправятся в Экстр и никому не позволят превратить его звезды в сверхновые.
— Да, кстати. — Бардо звучно щелкнул ногтем по своим черным налловым доспехам. — Я не успел сообщить тебе об этом при нашей первой встрече, извини. Мы захватили тяжелый корабль Архитекторов. Ну да, тех самых, которых ты называешь ивиомилами, — тех, которые взорвали Бодиле Люс и чуть было не грохнули Звезду Невернеса. Пилоты отряда Эдреи Чу взяли их на выходе в плотное пространство, и тем ничего не осталось, как сдаться. Мы привели их корабль на орбиту Ледопада.
— Опасность была очень велика, — заметил Данло.
— Еще несколько секунд — и мы не сидели бы здесь с тобой, обсуждая судьбу нашей звезды, — согласился Бардо. — Но я даже в боевом угаре поставил свои корабли у точек входа ближних звезд. Надо же было помешать этим твоим ивиомилам.
— Это была невероятно трудная задача. — Данло закрыл глаза, прикидывая сложность подобных маршрутов одновременно с боевыми действиями. — Я правильно сделал, назначив тебя Главным Пилотом.
— Благодарю покорно.
Все это время компьютер-образник, привезенный Данло из Экстра, стоял на столике под окнами, и голографический Эде молчал, повинуясь приказу Данло. Но весть о пленении корабля ивиомилов заставила его открыть свои пухлые уста и воскликнуть:
— Нашлось! Мое тело нашлось!
— Нашлось, нашлось, — пробурчал, не глядя на него, Бардо. Данло рассказал ему, как Эде переметнулся к Хануману в надежде получить назад свое замороженное тело, и Бардо перестал разговаривать с голограммой. — И машину-звездоубийцу мы нашли тоже — как там ее?
— Моррашар, — подсказал Данло.
— Так вот, моррашар теперь у нас. Надо решить, что с ним делать.
— И что же, по-твоему, с ним надо сделать?
— Я ж не говорю, что мы будем звезды взрывать. За кого ты принимаешь Бардо, за варвара? Хотя есть пара поганых планеток вроде Кваллара, которые я охотно спалил бы дотла. Ладно, ладно, не смотри на меня так — я это не всерьез. Ну, не совсем всерьез. Надо бы послать команду технарей, чтобы разобрались в этой машине.
— Нет. Уничтожим ее, — просто сказал Данло. — Хранитель Времени был кое в чем прав. Некоторую технику лучше не изобретать.
— А с ивиомилами как быть? Они напрочь ликвидировали целую планету!
Данло, побледнев, посмотрел в окно.
— Скажи Шивану ви Мави Саркисяну: если он хочет снова стать пилотом Ордена, пусть отведет их корабль обратно на Таннахилл. Дорогу он знает. Пусть ивиомилов судит Харра Иви эн ли Эде, правильно? Их дела вполне заслуживают суда.
— А Бертрам Джаспари?
— Он тоже отправится назад вместе с ними.
Бардо задумчиво надул свои толстые щеки.
— А тело Эде? Его тоже на Таннахилл отправим?
Данло взглянул на застывшее в тревоге лицо Эде.
— Нет. Пусть его принесут сюда.
— Куда это — сюда?
— В Утреннюю башню, в эту самую комнату.
Эде, осознав, что его мечта снова стать человеком может осуществиться, испытал явное облегчение.
— Ты собираешься спать рядом с замороженным трупом?
— Мне случалось бывать и в худшем обществе, — улыбнулся Данло. — Распорядись, пожалуйста. Я должен сдержать одно свое обещание.
— Как хочешь, — хмыкнул Бардо и тут же посерьезнел, намереваясь перейти к делам первостепенной важности. — Надо как можно скорее разобрать Вселенский Компьютер, вот что.
— Да, надо. — Данло взглянул на темное зловещее пятно в небесах. — Хотя я предпочел бы не уничтожать его, будь это возможно.
— Как это? Почему?
В глазах Данло зажегся странный свет.
— Потому что в этой благословенной машине воплотилась мечта Ханумана — пусть безумная, но мечта.
— Ты называешь ее благословенной?!
— Да, Бардо. Благословенной. Это всего лишь машина, но сделана она из благословенных элементов — кремния, углерода, железа и золота. Она может быть и шайда, и халла — смотря как ее запрограммировать.
— Не вижу, какая от нее может быть польза.
— Это трудно понять, я знаю. Но этот компьютер способен моделировать целые вселенные. Ты даже не представляешь, какие чудесные имитации он производит. Люди всегда будут нуждаться в этом, как и в самих компьютерах.
— Этот им точно не нужен. Боги наверняка уже поглядывают на Невернес и опасаются, что мы вместе с Хануманом создаем здесь нового бога.
Данло, не отвечая, смотрел на небо.
— Они наверняка боятся, что этот наш бог будет самым крупным в галактике и положит начало хакариаде, которую они не смогут остановить.
— Скорее всего. — Данло посмотрел на примыкающий к компьютеру край Золотого Кольца. — И поэтому нам придется его разобрать. Мы разберем его полностью, думал он, и его элементы пойдут в пищу Золотому Кольцу. В пищу новой золотой жизни, которая, как щит, прикроет нас от радиации сверхновых. Но скоро, меньше чем через миллиард ударов сердца, начнется величайшая в истории звезд хакариада, и все боги вселенной, вместе взятые, не смогут остановить ее,
— Вот и хорошо, — сказал Бардо. — Я уж испугался, что ты захочешь сохранить его, чтобы погрозить кулаком небесам и сразиться с самими богами.
— Нет. — Данло улыбнулся этой сочной метафоре. — Но есть некто, охотно использовавший бы Вселенский Компьютер против Тверди и прочих богов.
— Кто такой?
— Кремниевый Бог. Уверен, что он и Ханумана использовал. Он дал бы Хануману достроить эту шайда-машину, а потом с ее помощью проглотил бы всю галактику.
— Бог мой! Да разве такое возможно?
— Возможно. Очень даже возможно.
Бардо потер лоб.
— Непонятно, почему бы Кремниевому Богу просто не создать новые компоненты и не добавить их к своему мозгу, как делают все боги.
— Я только начинаю понимать это, Бардо. Только начинаю видеть по-настоящему. Понимать, как галактические боги сдерживают один другого, никому не позволяя стать Богом. И как каждый из них пытается обойти препоны, которые ставят ему другие.
— А как можно победить Кремниевого Бога, знаешь? Я-то уж точно не знаю. И ни Твердь, ни другие галактоиды, по твоим словам, тоже не знают.
Данло улыбнулся грустно и сострадательно, но и свирепо тоже — с хищностью белой талло, высматривающей добычу в небе.
— Мы победим его. Придет время, и мы уничтожим его целиком.
— Кто это мы? Ты да я?
— Ты да я, и триллионы таких же, как мы с тобой. Да, да, да. .
— И каким же это образом?
Данло, чтобы сжечь хоть немного дикой энергии, воспламеняющей его нервы, прошелся по комнате и остановился у окна. Приложив ладонь к холодному кларию, он смотрел на Обитель Розового Чрева, Зал Пилотов и другие здания Академии. Кадеты сновали по красным ледянкам, направляясь в шахматный Павильон, Зал Лави, на площадь Ресы — будущие пилоты, и скраеры, и горологи, и холисты. Все они, согласно вчерашнему указу Данло, поснимали золотые одежды и снова оделись в черное, красное и синее — традиционные цвета профессий Ордена.
— Этот Путь Рингесса, который ты создал, — мощнейшая религия, — сказал он, повернувшись к Бардо. — Поистине шайда-религия. Многие хотели бы отменить ее, если б могли.
— Я бы хотел того же. Все Содружество ввязалось в эту проклятую войну, чтобы отменить Путь Рингесса.
— А что, если отменить его невозможно?
— Можно хотя бы помешать его распространению.
Данло, грустно улыбаясь, покачал головой.
— Можно убить людей, но не их веру. Не их мечту. Теперь, когда Мэллори Рингесс вернулся, рингизм станет еще сильнее.
— Что же нам делать, Паренек? Многие все еще готовы убивать, лишь бы истребить рингизм на корню.
— Придется самому Мэллори Рингессу разрушить эту религию, — улыбнулся Данло. — Мы это сделаем, Бардо. Ты, я, братья Гур — все, кто входил когда-то в Каллию. Все, кто мечтает о рингизме, каким он мог бы быть — и каким он еще, возможно, станет.
— Каким же это?
Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда, вспомнил Данло слова Ханумана. И таких звезд сто триллионов в одной только нашей галактике.
— Странно, — сияя глазами, сказал он, — но из этой войны еще выйдет нечто благословенное, халла. Мы используем рингизм для создания новой человеческой расы.
И Данло рассказал Бардо о своей мечте пробудить человечество для его истинных возможностей, об огромном количестве мужчин, женщин и ясноглазых детей, которые станут наконец тем, для чего родились. Новый рингизм, сказал он, оправдает чаяния божков, желавших выйти за пределы своих “Я”, и в то же время успокоит тех, кто боялся, что люди перестанут быть людьми, и сражался против рингизма.
— Отец был все-таки прав. Тайна заключена в Старшей Эдде.
— Что же это за тайна?
— Все тайны вселенной. Тайна того, как стать наконец настоящими людьми. Как победить Кремниевого Бога и выиграть войну поважнее этой.
Бардо снова надул щеки, поднялся и подошел к Данло.
— Я вспомнил Старшую Эдду глубже кого бы то ни было, — сказал он, постучав себя по лбу. — Кроме, конечно, вас с Хануманом. И никаких трансцендентальных тайн в этой хваленой наследственной памяти не нашел.
— Это не наследственная память, Бардо.
— Что же это в таком случае?
Память обо всем заложена во всем, вспомнил Данло, и ничего не может быть утрачено.
— Настоящая Старшая Эдда, Единая Память — это вселенская память. Память самой вселенной. Сознательное развитие вселенной, первопричина ее бытия. Мы — только это благословенное сознание, не больше и не меньше. Мы свет внутри света, который составляет атомы наших тел. Мы огонь, клубящийся в глубине звезд и оживляющий все сущее.
— Опять ты в мистику ударился, Паренек.
— Есть вещи, о которых можно говорить только так.
— Ну а я к мистике всегда относился с подозрением. — Бардо перевел взгляд на затянувшие окно морозные узоры. — Выходит, нам надо стать вкушающими лотос? Одурманить себя видениями бесконечного? Пить каллу и тонуть в Единой Памяти? Ну уж нет — не тот это путь, по которому следует идти человечеству.
— Я не говорил, что нам всем надо непременно пить каллу. Нужно только вспомнить, кто мы на самом деле. Это путь к нашей судьбе, и ведет он через Единую Память. Через нее и внутрь нее, в самую глубину жизни.
— Что я всегда любил в тебе, Паренек, — это не твои мистические экстазы, а твой редкостный дар к жизни.
Данло с улыбкой наклонил голову.
— А я всегда любил тебя за то, что из всех известных мне людей ты самый что ни на есть настоящий человек.
Бардо сдвинул брови, пытаясь понять, издевается над ним Данло или снова говорит загадками.
Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда. Хануман сказал это на Огненном катке перед стотысячной толпой народа. А учение фравашийских Старых Отцов гласит, что каждый человек должен быть зеркалом, отражающим все самое лучшее, что есть в других людях. Данло, глядя на Бардо глазами безмятежными, как спокойное море, указал ему на купол, за которым вставало солнце.
— Тат твам аси. Ты есть то, Бардо. Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда, и ты сияешь ярче всех.
— Ты правда так думаешь? — Бардо, прищурясь, посмотрел на солнце. — Были времена, когда и я думал почти то же самое. Но правда есть правда. Когда я думаю о высоком или открываю в мультиплексе новое окно, я бог. Но когда у меня в брюхе урчит от голода или я хочу женщину, я такой же кобель, как всякий другой мужик.
Да, да, да.
Данло улыбнулся Бардо, и что-то открылось между ними — как будто море, вдруг стало прозрачным до самых глубин, явив взору свою потаенную синеву. Глаза Данло, как окна вели Бардо сквозь сверкающие воды души к тайному огню, горящему в глубине океана. И то, что увидел Бардо в Данло (а может быть, и в себе самом), наполнило и его глаза ярким, великолепным светом.
— Чего я всегда хотел по-настоящему — это жить, и смеяться, и любить много-много красивых женщин. Но и еще чего-то, всегда чего-то большего. Всегда были звезды, Паренек. Вот они, огни галактики, — кажется, рукой до них подать, но только пилот на лучшем из легких кораблей, овладевший Великой Теоремой, может надеяться добраться до них, даже если всю жизнь будет странствовать. Бардо никогда не перестанет быть Бардо, понимаешь? Но при этом Бардо всегда становится Бардо, и началось это еще до того, как он пришел в Дом Погибели, где старшие послушники смеялись над ним за то, что он по ночам писал в постель. Если ты спросишь меня, кто же такой Бардо на самом деле, я, пожалуй, ответил бы так: это человек, стремящийся к росту, как никто другой.
— Вот и расти, — просто сказал Данло.
— Да. Пожалуй. А теперь, если мы уже закончили обсуждать судьбы вселенной, я бы заказал что-нибудь поесть и выпил пару бокалов вина. Ты знаешь, что Летний Мир, помимо зерна, прислал нам сто ящиков огненного? В последний раз я его пил еще до войны, ей-богу, а это было чертовски давно!
Бардо хлопнул Данло по плечу, улыбнулся ему с полным пониманием и пошел искать послушника, чтобы заказать ему обед.
Глава 27 МИР
Есть дверь, что ведет в свет внутри света и мир внутри мира. Я вернулся, чтобы показать вам ключ, отпирающий эту дверь.
Мэллори ви Соли Рингесс, глава Ордена Мистических Математиков и Других Искателей Несказанного ПламениВойна родится от напряжения, существующего внутри всякого мира, а мир — от вызванного войной изнеможения.
Война заставляет людей проявлять свои наивысшие возможности и готовит дорогу для новой жизни, как день, озаряющий ночь, — этим она и дорога человеку. Но она же, как ночь, поглощающая день, отнимает у людей их драгоценные жизни со всеми их возможностями, и за это матери, и воины, и малые дети, глядя на огненные водородные шары в небе, ненавидят ее, как худшее из зол.
Подсчитать всех, кто погиб во время Войны Богов, должно быть, никогда не удастся. Тысячи пилотов, павших в космических битвах, погибшие божки и кольценосцы составляют лишь крохотную долю тех, кто перешел на ту сторону дня в пределах Цивилизованных Миров. Одни историки, в том числе и лорд Бургос Харша, оценивают потери в сорок пять миллиардов человек, другие считают, что к этой цифре следует добавить не меньше пяти миллиардов. Никто не знает, скольких человек не стало, когда звезда планеты Хелаку превратилась в сверхновую: хелакийцы никогда не проводили у себя переписи, полагая, что людей недопустимо пересчитывать наподобие золотых монет. И что сказать об Ивалуне, где три миллиарда жителей вымерло от загадочной повальной болезни перед самой битвой Десяти Тысяч Солнц? Что это — оплошность генетиков, работавших над очередным видом биологического оружия, или какой-то вирус-мутант, поражающий время от времени изолированные народы?
Трудно определить даже, когда эта война закончилась — и когда началась. Что послужило истинной причиной массовых убийств на Азур-Байтае — переворот, устроенный рингистами против тамошних архатов, или новый цикл нескончаемой междоусобной борьбы, вот уже десять тысяч лет терзающей эту злосчастную планету?
Большинство историков Ордена склонно считать точной датой окончания войны 47-е число глубокой зимы 2959 года.
Именно в этот день лорд Сальмалин Благоразумный сдал свой флот Бардо, и в то же утро было объявлено, что Мэллори Рингесс вернулся в Невернес, чтобы положить войне конец. Но Данло, хотя и принявшему облик своего отца, было совсем не просто разом покончить со всеми проявлениями насилия среди триллионов человек в трех тысячах миров. Можно ли помешать волне-цунами обрушиться на берег, а крупной голубой звезде — взорваться, если она уже начала рушиться вовнутрь, повинуясь собственной сокрушительной силе тяжести? Данло, как он сказал Бенджамину Гуру в соборе, не мог помешать людям убивать друг друга, если они действительно хотели этого. Но они, конечно, не только этого хотели, и Данло, едва оправившись после приступа дурноты в соборе, стал помогать людям Цивилизованных Миров находить пути к миру.
Многое из того, о чем они с Бардо говорили в Утренней башне, понемногу осуществлялось. Когда дни глубокой зимы стали укорачиваться, приближаясь к Новому году, Данло отправил Демоти Беде на Тиэллу на “Жемчужине бесконечности”, корабле Елены Чарбо. Сабри дур ли Кадир, Аджа и другие пилоты Нового Ордена сопровождали их сверкающим строем. К ним присоединилось немало пилотов Старого Ордена, которые, пройдя через войну, обнаружили в себе призвание спасать от разрушения звезды Экстра.
В самый канун Нового года — день самый короткий, но и поворотный, ибо после него дни начинают прибавляться и светлеть, — корабли Содружества, как и предсказывал Данло, тоже начали возвращаться по домам. Уцелевшие каракки, фрегаты и корветы мерцали над Ледопадом, открывая окна в мультиплекс. Группами по десять и по двадцать судов они исчезали в ночи, возвращаясь на Сильваплану, Авалон, Двойную Радугу, Ваканду, Самум и сотни других планет. Только Десятый отряд все так же висел вокруг пяти лун Ледопада, сверкая алмазом и черным наллом. Эта маленькая, но действенная боевая часть оставалась здесь до будущей зимы, чтобы обеспечить установление полного порядка в Ордене и разборку Вселенского Компьютера.
Разрушение этой луноподобной машины началось на седьмой день средизимней весны 2960 года. Данло, вопреки возражениям наиболее консервативных специалистов Ордена, приостановил действие Закона Цивилизованных Миров и приказал изготовить сотни водородных бомб. Корабли Десятого отряда доставляли эти жуткие снаряды сквозь Золотое Кольцо в точку, где компьютер периодически поворачивал во вселенную свои блестящие черные бока, а роботы размещали бомбы под его алмазной шкурой. Бомбы, вспыхивая ярко-белым светом на глазах у тысячи пилотов и множества галактических богов, дробили внешние слои компьютера. Последующие взрывы должны были превратить грандиозную машину в куски космического мусора. Затем на них блестящим облаком опустятся те же микророботы, что еще недавно разбирали шестую луну Ледопада. Переварив фрагменты оптических схем, они разложат компьютер на составные элементы. Дождь углерода, кремния и кислорода польется к атмосфере планеты, где им не замедлят воспользоваться созидалики и другие организмы Кольца. Кольцо, завершив первую стадию своей эволюции, охватит планету золотой оболочкой и защитит ее от радиации Экстра.
Многие невернесцы праздновали уничтожение Вселенского Компьютера как подлинное окончание войны. Несмотря нa метели средизимней весны, заносившие улицы мокрым снегом, хариджаны, аутисты, архаты, эталоны и специалисты Ордена собирались на катках и в скверах — пообщаться и обменяться надеждами на то, что одни корабли никогда больше не будут сражаться с другими и бомбы не будут рваться над их планетой.
Но фейерверк в ближнем космосе радовал не всех. Божки, привыкшие принимать каждое слово Ханумана на веру, как слепой — фальшивую монету, сокрушались об участи компьютера. Для них взрывы, расцветающие в небесах днем и ночью, отмечали конец их мечты. Они так и не поняли, что Старшую Эдду нельзя вспомнить при помощи компьютера, каким бы умным или огромным он ни был. Не разделяли они и взглядов Данло на новый рингизм, призванный пробудить людей к их истинным возможностям.
Однако новые пути и новые мечты найдутся всегда. Весеннее ненастье сменилось солнечными днями ложной зимы, и божки понемногу начали понимать, как намерен лорд Мэллори Рингесс преобразовать религию, носящую его имя. Ежедневно ранним вечером Данло приходил из Академии по узким улицам Старого Города в собор. Здесь, на башне, откуда Хануман смотрел на дальние галактики вселенной, собирался небольшой кружок избранных: Томас Ран, братья Гур, Бардо, Поппи Паншин, Кийоши Темек, Малаклипс с Кваллара и еще несколько человек. Они пили сладкий мятный чай, и смеялись, и погружались вместе в глубины памяти, ища то тайное место, где огни творения сливаются воедино. Скоро избранники начнут передавать обретенное ими несказанное пламя в другие руки, и рингисты из Невернеса и с других планет повторят путешествие, совершенное Данло.
К середине ложной зимы оживление стало распространяться по городу, как теплый ветер. Всех умерших во время войны давно похоронили или кремировали, и улицы почти обрели прежний жизнерадостный вид. 30-го числа новые пищевые фабрики поставили свой первый урожай во все городские рестораны, как бесплатные, так и коммерческие. Горожане, катаясь по Серпантину, снова вдыхали ароматы кофе, сулки и чеснока. Многие, наголодавшись за войну, ели по пять раз в сутки, в любые часы дня и ночи. Приправленный специями курмаш, рагу с каштанами, лепешки с ярконским сыром, искусственное мясо шегшея в огненном вине, пирожные, кровоплоды со сливками, манго, бананы в пламени — все это и многое другое можно было получить и в маленьких кафе у Ашторетника, и в знаменитых обеденных залах Хофгартена.
Надежды возрождались под солнечным небом, и птицы распевали на деревьях Фравашийского сквера. Даже самые заядлые скептики, и не думавшие пока вспоминать Старшую Эдду, признавали, что Мэллори Рингесс принес городу мир.
Не все, однако, уступали с такой легкостью распоряжениям главы Ордена и Пути Рингесса. 35-го числа ложной зимы, когда корабль ивиомилов наконец подготовили к долгому рейсу на Таннахилл, молодой человек по имени Самса Армадан обманул бдительность божков, охранявших Бертрама Джаспари, и выстрелил из тлолта ртутной пулей ему в мозг. Самозваный Святой Иви погиб на месте.
Охранники и убийцу казнили бы незамедлительно, но выяснилось, что он один из них — божок и холист Ордена. Он родился на планете Хелаку и потерял всех друзей и родных, когда ивиомилы взорвали ее звезду. Убив Бертрама, он совершил акт возмездия. В прежние время глава Ордена отправил бы его за это в изгнание на родную планету, но поскольку Хелаку больше не существовало, Данло не смог вынести такой приговор. Приговорить его к другому наказанию у Данло тоже недостало духу. Глядя в затравленные глаза Самсы, он испытывал к нему глубокую жалость и потому ограничился внушением.
— Мы не должны убивать без крайней на то необходимости, — сказал Данло, оставшись с Самсой наедине в Утренней башне. — Казнить Бертрама Джаспари за его преступления — не твое дело. Ты считал его чудовищем, и я тоже, однако в нем могло быть и нечто большее. Я хотел бы показать тебе жемчужину, заключенную в лотосе внутри человеческого сердца. Показать бесценность жизни каждого человека, даже Бертрама Джаспари. Он был всего лишь тем, чем сделала его вселенная и чем он сам себя сделал. И собирался отправиться туда, где больше никому не причинил бы зла. Там его судили бы, назначили ему наказание, и он весь остаток жизни служил бы другим. Теперь тебе предстоит то же самое. Вот тебе мой приговор. Много детей в Невернесе, как и ты, лишилось своих родных. Ты разыщешь одного из них и станешь ему отцом. Будешь учить его и говорить ему, что из ненависти может родиться нечто столь же редкое и прекрасное, как талло, которая выклевывается из яйца и взлетает в небо.
Когда Данло закончил свою речь, Самса поклонился ему, и Данло с грустной улыбкой ответил ему на поклон. Он знал, что, приговаривая к этому юношу, выносит приговор себе самому.
Хану, Хану, в десятитысячный раз помолился он про себя, ми алашария ля, шанти, шанти. Пожалуйста, прости меня.
Тело Бертрама он распорядился поместить в криддовый контейнер и вернуть на Таннахилл, где его похоронят по обряду его церкви. Вместе с ним возвращалось назад тело Николоса Дару Эде. Исполняя данное Эде обещание, Данло выяснил у криологов, смогут ли они оживить труп, пролежавший замороженным три тысячи лет. Но даже лучшие криологи города, а значит, и всех Цивилизованных Миров, объявили, что надежды нет. Тело можно вернуть к жизни, сказали они, но мозг давно и бесповоротно разрушен. В процессе исторического преображения Эде-человека в Эде-бога, когда его синапсы копировались в вечном компьютере, эти самые синапсы превратились в красный студень. С тем же успехом в его благословенный мозг могли бы послать ртутную пулю. Эде, как и боялся Данло, навеки загубил свое человеческое “Я” в бесплодном стремлении стать существом бесконечно высшим. Теперь Эде — то, что от него осталось, — должен был отказаться от последней надежды на то, чтобы снова стать человеком.
— Я сожалею, — сказал Данло Эде в тот же вечер, — но криологи ничего не смогут сделать.
Данло стоял под куполом Утренней башни между образником и саркофагом Эде. Саркофаг, длинный клариевый ящик, позволял хорошо рассмотреть человеческое тело бывшего бога, его лысую голову и пухлое коричневое лицо — почти то же самое, что смотрело теперь на Данло из воздуха над компьютером.
— Мне жаль, — повторил Данло, — но я решил отправить тело обратно на Таннахилл. Перед отлетом я обещал Харре найти его, если будет возможно.
— Мне ты тоже обещал. Обещал, что поможешь вернуть мое тело. — Эде помрачнел, и вид у него был такой, будто он сейчас заплачет, но его программа, видимо, этого не предусматривала. — Мое тело, пилот.
— Я выполнил обещание, которое дал тебе, — теперь я должен сдержать слово, данное Харре.
— Зачем ты тогда велел принести мое тело сюда?
— Я думал, ты захочешь посмотреть на него перед тем, как…
— Перед чем, пилот?
— Перед тем, как с ним попрощаться.
Эде принял озадаченный вид. Он долго смотрел на себя прежнего сквозь крышку саркофага, а потом сказал:
— Спасибо. Ты добрый человек — поистине лучший из людей.
Данло с грустной улыбкой поклонился голограмме.
— Спасибо и за то, что сдержал обещание. Я предал тебя, но ты остался верен своему слову.
Данло снова поклонился, но промолчал.
— Я не мог тебя не предать, понимаешь? Я был запрограммирован не останавливаться ни перед чем, лишь бы вернуть назад свое тело.
— Я понимаю.
— Я раб своей программы, понятно тeбe? И поэтому теперь мне в самом деле пора распрощаться.
Данло со вздохом потрогал клариевую крышку.
— Хочешь, я оставлю тебя наедине с ним?
— Нет, пилот, — я не имел в виду, что должен проститься с телом. Это всего лишь бесполезная замороженная шелуха, не так ли? Я должен проститься с тобой.
— Ты что, намерен отправиться в путешествие? — удивленно воззрился на него Данло.
— Всем нам приходится когда-нибудь отправляться в путешествие — в одно и то же по сути своей.
— Да, верно.
— Я рад, что ты понял. И перед тем, как совершить это последнее путешествие, я должен попрощаться с тобой — и с собой.
— Как же ты собираешься это сделать?
— Я произнесу слово, выключающее компьютер.
— Ты ведь говорил, что запрограммирован никогда его не произносить.
— Я лгал. Лгал согласно той же программе — горе мне, как сказал бы Бардо.
— Я не хочу, чтобы ты выключался.
— Моя программа этого требует. Если я узнаю, что надежды стать живым больше нет, я должен сказать это слово.
— Теперь ты знаешь, что надежды нет.
— Да. Теперь знаю. Голубая роза, пилот. Невероятие голубой розы.
Данло посмотрел за окно и сказал:
— Ты мог бы по-прежнему жить так, как живешь теперь. Если бы ты не хотел этого, ты бы, думаю, уже выключился.
— По-твоему, это жизнь? — махнул светящейся рукой Эде.
— Конечно. Все существующее по-своему живо.
— Так жить я не хочу. Я жду, вот в чем дело.
— Ждешь чего?
— Программа требует, чтобы я выждал определенный период времени между моментом, когда я узнаю, что надежды нет, и моментом отключения. На случай, если я чего-то недоучел или если появится новая надежда.
— И долго ждать?
— Девятьсот миллиардов наносекунд.
— Маленький срок.
— Большой. Когда надежды нет, каждая наносекунда — это вечность.
— Надежда есть всегда. Если не прежняя, то какая-нибудь другая.
— Какая?
— Программисты Ордена, возможно, сумеют перепрограммировать тебя так, чтобы тебе не хотелось больше стать человеком.
— Но тогда я уже буду не я — разве не так, пилот?
— Может быть, они перепрограммируют тебя так, что тебе не придется выключаться.
— Но время-то идет. Знаешь, сколько наносекунд мне осталось?
— Нет. Сколько?
Эде в ответ только улыбнулся и покачал головой.
— Все равно. Моя программа не допускает перепрограммирования. При первой же попытке я выключусь сразу.
Данло закрыл глаза, отсчитывая пронизывающие его, как стрелы, удары сердца: двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один…
— Я не хочу, чтобы ты выключался, — повторил он, взглянув на Эде.
— Прости, пилот. Не знал, что ты примешь это так близко к сердцу.
Сорок три, сорок четыре, сорок пять…
— Момент приходит всегда, правда? — сказал Эде. — Для каждого из нас.
— Нет, — сказал Данло, но более глубокий голос произнес у него внутри: Да, да, да.
— Прощай, пилот.
Шестьдесят семь, шестьдесят восемь, шестьдесят девять.
— Яхве, — сказал Эде, и голограмма над образником тут же погасла. Ошеломленный Данло уставился на темное пустое пространство, откуда Эде так долго посылал свои улыбки.
Он приложил руку к утыканному бриллиантами боку компьютера, но не ощутил ни тепла, ни вибрации. Что означало слово, отключившее его? Данло был уверен, что никогда его не слыхал. Но потом он, закрыв глаза, вгляделся в прозрачный, сверкающий океан памяти, принадлежавшей ему и не только ему, — вгляделся и вспомнил, что это слово относится к древнейшей религии человека, зародившейся на Старой Земле: Эде произнес непроизносимое имя Бога.
— Яхве, — вслед за ним прошептал Данло. — Яхве эхад.
Не отнимая правой руки от компьютера, он положил левую на клариевую гробницу Эде.
— Николос Дару Эде, ми алашария ля, шанти, шанти — покойся с миром, ибо ты прошел долгий путь.
Кончина Эде напомнила Данло, что даже для высших существ есть время жить и есть время умирать. И еще он вспомнил о недолговечности других существ, близких его сердцу. С той самой ночи, когда он лежал на полу парализованный, Данло не переставал думать о мучениях, которым подвергся Старый Отец, и сам мучился. Вернув старого фраваши домой, он надеялся, что крепкий организм инопланетянина преодолеет истязательства Ханумана и воинов-поэтов, но к концу средизимней весны Старый Отец начал слабеть от какой-то загадочной, изнурительной и, видимо, неизлечимой болезни.
Данло, не желая, чтобы в Ордене знали о его связях с фраваши, встречался с ним тайно. В течение десяти дней, когда тело Эде отправилось наконец на Таннахилл вместе с ивиомилами, он ходил к нему каждый вечер. Лицо он, как и в то время, когда преображался в Мэллори Рингесса, скрывал под черной маской, а чтобы выбраться из Академии, перелезал через стену, отделяющую ее от Старого Города, как делал в годы своего послушничества.
Иногда он приносил Старому Отцу медовые коврижки с апельсиновой глазурью, которые тот любил, иногда просто сидел с ним в его думной комнате и пытался играть на одной из его двухротовых флейт. Но однажды Старый Отец весьма бесцеремонно отправил главу Ордена прочь.
— О-хо, Данло, — спасибо, что навещаешь меня. И что сказал мне, кто ты на самом деле, — иначе я попытался бы тебе поклониться и повредил бы себе что-нибудь. Но у Мэллори Рингесса есть дела поважнее, чем развлекать старого инопланетянина детскими потугами на музицирование. Так, все так. Умирать я пока не собираюсь, а как соберусь — пошлю за тобой.
Примерно в это же время Данло начал навещать и Тамару. После смерти Джонатана он боялся, как бы она не отправилась в путешествие на ту сторону дня по собственной воле, но она, как видно, была еще не готова разделить участь голографического Эде. Через несколько дней после встречи с Бардо Данло, придя наконец в ее квартирку близ улицы Музыкантов, увидел, что она взяла к себе трех девочек, чьи родители погибли при взрыве бомбы, попавшей в их дом в Старом Городе. Девочек звали Мива, Юлия и Илона. Они выжили чудом, зажатые под рухнувшим потолком своей комнаты.
Два года назад они все прилетели с Прозрачной: родители пожелали стать прихожанами новой возникшей в Невернесе церкви. Девочки, четырех, пяти и восьми лет от роду, имели, конечно, самое смутное понятие об этой религии. Они, как все дети, нуждались в теплом уютном доме, вкусной еде, любви, веселье и других радостях жизни. Когда Тамара встретила их, дрожащих и голодных, на опасной улице Контрабандистов, у них ничего этого не было. Она привела их к себе, уложила в свою постель и накормила чудесным жарким из мяса невиданного зверя, именуемого медведем.
— Я просто не могла не удочерить их, — сказала она Данло в первый вечер, когда три сестрицы отправились спать. — Церковные хосписы переполнены и никого больше не принимают.
Данло долго сидел с ней в ее каминной, глядя в прекрасные темные глаза на исхудавшем лице. Новая жизнь занималась там, как зарницы в ночи, и он понимал, что Тамаре три сиротки нужны были не меньше, чем она им. Данло проголодался, и Тамара приготовила ему особенно лакомый кусочек медвежатины, который приберегала для особого случая. Данло рассказал о том, что случилось с ним в кабинете Ханумана, и она вернула ему бамбуковую флейту, пилотское кольцо, сломанную шахматную фигуру — все, что хранила у себя.
— Спасибо, — сказал Данло, собравшись уходить. — Завтра я приду опять, если хочешь.
Он действительно пришел завтра, и послезавтра тоже, и это продолжалось всю глубокую зиму. Ранней средизимней весной он, пользуясь своим положением главы Ордена, нашел ей довольно большой дом в Пилотском Квартале, у самого сквера Тихо. Это было двухэтажное гранитное шале с крутой крышей; раньше в нем много лет жил Никабар Блэкстон, погибший на войне.
По традиции Ордена дом следовало передать другому пилоту или по крайней мере академику. Но многие пилоты погибли внутри звезд, многие ушли на Тиэллу со Второй Экстрианскoй Миссией, и множество хороших домов на Северном Берегу, от Продольной до Северной глиссады, стояли пустыми. Никто на новом месте не возражал против соседства с Тамарой. Она как-никак была раньше выдающейся куртизанкой — а это, как заметил Бардо, почти все равно что быть специалистом Ордена.
Однажды вечером, когда Данло посетил Тамару с ее новой семьей в новом доме, после скромного ужина из хлеба, сыра и кровоплодов, Мива спросила его, не хочет ли он жениться на Тамаре. Мива была младшая, маленькая для своего возраста, такая же черноволосая и черноглазая, как ее сестры. Данло обвел взглядом красивую низкую мебель, комнатные цветы и рисунки Джонатана на стенах, а потом снова посмотрел на нее. В отличие от средней сестры, застенчивой Юлии, Мива была натура открытая, доверчивая, пытливая и игривая. И Данло, сам любящий поиграть, ответил ей:
— Как не хотеть. Любой мужчина с радостью женился бы на Тамаре.
Старшая — Илона, самая добрая и справедливая из всех, — сказала на это:
— Но ведь не будешь же ты жениться в своей черной маске? В масках никто не женится.
Данло, сидевший, как все, на подушке за низеньким обеденным столом, потрогал маску на лице. Девочкам он дал понять, что получил на войне ужасные ожоги и никому не хочет их показывать. Мива и Юлия приняли эту маленькую ложь, не задавая вопросов, но Илона не могла понять, почему он не сделает себе новое лицо — ведь резчики всем помогают. Вот и теперь она смотрела на него в упор, прямо-таки прожигая маску своими черными глазами.
— Тебе, наверно, даже улыбаться больно, — сказала она. — Я на Прозрачной обгорела на солнце, и мне было больно улыбаться.
Позже Тамара уложила девочек в одной из больших спален наверху и вернулась, чтобы попить с Данло кофе. Он снял маску и разглядывал нарисованную Джонатаном снежную сову.
— Чудесные девчушки, — сказал он, улыбнувшись Тамаре. — Я рад, что ты стала им матерью.
— Я тоже рада. — Тамара смотрела на свои ногти — от голода они стали пестрыми и ломкими, но теперь к ним возвращалась прежняя красота. — Ты любишь их, Данло? — спросила она внезапно, подняв глаза.
— Да. Я всех детей люблю.
— Но не так, как любил Джонатана, правда?
— Не знаю. Между мной и Джонатаном сразу возникал резонанс. Наши сердца бились как одно — может быть, у нас даже тотем был один и тот же, а значит, мы и крыльями махали в лад. Джонатана всегда переполняла анимаджи, дикая радость жизни, и мне казалось, что она выросла из моей. К девочкам у меня другие чувства. Со временем я узнаю их получше, и эта привязанность станет еще глубже. Любовь к родному ребенку — особый случай, но любовь всегда остается любовью, правда?
Он долго смотрел на Тамару — в тишине ее нового дома, в молчании объединившего их страдания. Они глубоко понимали друг друга. Оба они во время войны хотели умереть, и полное отчаяние становилось для них таким же близким, как следующий удар сердца. И оба они, опустившись в темные пещеры своих душ, открыли в себе изначальный источник жизни. Данло думал, что путь Тамары к ее “да” был не менее труден и требовал не меньшей отваги, чем его собственный.
Теперь, несмотря на горе, навсегда озарившее холодными звездами ее душу, в ней появилось нечто новое, огонь, тайный свет.
— Мне кажется, что я правда люблю каждую из них, как только мать способна любить, но по-прежнему ужасно тоскую по Джонатану.
— Я тоже тоскую по нему.
— Странно — после той ночи на берегу я не знала, как буду жить дальше и буду ли вообще. А теперь мне снова хочется жить.
— Мне тоже.
Тамара выпила немного кофе и кивнула.
— У тебя теперь так много всего, да? Глава Ордена, Светоч Пути Рингесса. И эти твои новые достижения. То, как ты вылечился от яда воинов-поэтов. И новое зрение — говорят, ты способен видеть то, что происходит далеко в космосе.
Он посмотрел в близкий огонь ее темных глаз и сказал: — Да, у меня есть почти все.
— В башне у Ханумана с тобой произошло что-то странное, правда? Что-то страшное и в то же время чудесное.
Страшная красота, вспомнил он и закрыл глаза, глядя на сияющий в нем бесконечный свет. Потом снова взглянул на Тамару и сказал:
— Да, кое-что случилось. Но я охотно отдал бы все это за то, чтобы вернуть Джонатана.
— Правда отдал бы?
— Да, если б мог, — но вселенная устроена иначе.
— Да. — Тамара грустно улыбнулась, глядя в северное окно на звезды. — Кажется, я понимаю теперь Ханумана. Боюсь, что тоже бы попыталась переделать вселенную по-другому — если б могла.
Данло улыбнулся тоже.
— А ведь воины-поэты, пожалуй, все-таки правы.
— Правы в чем?
— Когда говорят о вечном возвращении.
— Это значит, что вселенная повторяет себя снова и снова, и так без конца?
— Нет. Вселенная в каждый момент разная. Истинно, необратимо, чудесно разная. Она, как бесконечный лотос, открывается всегда вовне, к новым возможностям, понимаешь? Но истинное согласие с ней может быть выражено только в желании, чтобы она вечно повторялась в круговороте времени. Чтобы всегда была такой же совершенной и цельной, как она есть. И чтобы все моменты нашей жизни были столь совершенны, что нам хотелось бы переживать их снова и снова, как бы больно нам ни было. Отнять ничего нельзя, говорят воины-поэты. Ничто не должно быть потеряно.
Ничто и не теряется, вспомнил он. Ничто не может пропасть.
— Ты правда в это веришь? — спросила Тамара.
— Это не вопрос веры. В конце концов мы все говорим либо “да”, либо “нет”.
— Ты готов сказать “да” тому, как умер Джонатан?
— Боюсь, что я должен.
— И тому, что ты убил Ханумана?
Данло взглянул на свою левую руку, припоминая самый страшный момент своей жизни, и медленно кивнул.
— Неужели для тебя это так просто?
— Да, просто, но совсем не легко. Теперь я всегда стараюсь произносить это слово, этот единственный слог. И буду стараться всегда.
— А для меня это совсем не просто. Иногда мне все еще хочется сказать “нет”. Иногда я ненавижу вселенную за то, что она отняла у меня Джонатана.
— Но в самом деле он ведь никуда не ушел. Ничто не теряется.
— Вот, значит, в чем твоя вера? Хотелось бы и мне в это верить.
— Это не вера. Просто воспоминание.
— Чье воспоминание, Данло? Твое?
— Нет. Вернее, не только мое. Это воспоминание вселенной об одном благословенном существе, которое было частью ее.
— Что же осталось в ней от нашего сына?
— Все.
Тамара покачала головой и спросила:
— Значит, по-твоему, вселенная помнит… ну, например, то, что Джонатан сказал мне, когда мы катались с ним на коньках за несколько дней до начала войны?
— Помнит. — Данло смотрел в восточное окно, где на черном сияющем небе белели заснеженные склоны Аттакеля. — Вселенная помнит все — даже отражение луны в глазу совы в ночь глубокой зимы миллион лет назад.
— О, Данло, Данло. Хотела бы я, чтобы это было так.
Данло смотрел на созвездие Волка, и его сердце отбивало древний, как звезды, ритм. Странное чувство овладело им.
Его огненные глаза стали мягкими и влажными, как две наполненные водой синие чаши, и он сказал Тамаре:
— Я помню, что сказал тогда Джонатан.
— Что ты говоришь? Как ты можешь это помнить?
— Он сказал: “Когда Бог создавал тебя, мама, он взял самые яркие краски”. И это истинная правда, Тамара.
Рука у Тамары задрожала так, что кофе выплеснулся из чашки, и она расплакалась. Данло сел с ней рядом и стал гладить ее длинные золотые волосы, думая: память обо всем заложена во всем.
— В каком-то смысле Джонатан все еще жив, — сказал он немного погодя. — Как жил всегда и всегда будет жить.
Тамара отставила чашку, накрыла его руку своей и долго смотрела на него. В ее глазах, полных слез, читалась мольба, но она молчала.
— Ты можешь вспомнить его так же, как и я, — тихо сказал Данло. — Все можешь вспомнить.
— Но как это сделать, Данло?
— Это очень просто. Самая простая вещь во вселенной. Я помогу тебе, если хочешь.
— Хорошо, — тут же сказала она. — Когда начнем?
При этом всплеске надежды вся любовь к ней вспыхнула в его глазах, и она утонула в его взгляде, как упавший в солнце легкий корабль. Но страсть Данло не поглотила ее — она лишь еще ярче раздувала огонь в ней самой.
— Сейчас, — сказал Данло. — Мы начнем прямо сейчас.
Для всей вселенной, где прошлое перетекает в будущее и память создается, чистая и несокрушимая, как алмазы, из огня времени, существует только благословенное “теперь”, понимаешь?
Путь в Единую Память, называемую также Старшей Эддой, всегда прост, но мало кому из людей он дается легко.
Всю средизимнюю весну и ложную зиму Данло приходил к Тамаре и помогал ей в ее стремлении к целительным водам плещущего в ней океана. И каждую ночь она, как молодой дельфин, уходящий все глубже в тайную синеву моря, приближалась к самой дорогой для нее памяти.
Ложная зима сменилась холодными, снежными зимними днями, и насаждаемый Данло новый рингизм начал распространяться среди звезд, а Тамара начала вспоминать и переживать заново моменты своей жизни, проведенные с Джонатаном. Она продвигалась быстро, но то, чего она желала больше всего, постоянно отступало перед ней, как горизонт.
В этот период ее поиска и разочарований Данло все больше размышлял о завершении того, что он задумал давным-давно, — но Тамары это никак не касалось; с ней он всегда был мягок, терпелив и проявлял бесконечное понимание. Он проводил долгие часы у нее дома, смотрел в окно на замерзшее море и на небо над ним, наблюдал и ждал.
С наступлением глубокой зимы технари Ордена разделались наконец с Вселенским Компьютером. Это событие отмечалось во всех кварталах города, и Тамара праздновала вместе со всеми: пила летнемирское огненное вино, ела медовые коврижки и любовалась растущим в небесах Золотым Кольцом. На следующий день она вернулась к постижению подлинной Старшей Эдды. Дни шли за днями, морозы крепчали, и она почти отчаялась совершить путешествие, уже совершенное Данло.
Но однажды ночью, почти год спустя после смерти Джонатана, когда в камине пылали дрова, а в небе оборачивались пылающие колеса галактик, время остановилось, и Тамара вступила в чистое, мерцающее сознание, струящееся внутри всего сущего. Сердце Данло отсчитывало тысячи ударов, а Тамара все сидела, погруженная в транс, в медитационной комнате и смотрела во влажную синеву его глаз. Она казалась умершей для этого мира и в то же время, как это ни парадоксально, пылала жизнью, как дикая новая звезда. Наконец она улыбнулась, тихонько засмеялась и поцеловала Данло в лоб.
Она вскочила на ноги и стала ходить по комнате, трогая цветы, морские камешки и другие предметы.
— Ах, Данло, Данло, — тихо повторяла она, — я и не знала, что так бывает.
— Ш-ш. — Он приложил пальцы к ее губам. — Не надо ничего говорить.
Но Тамара, всегда гордая и волевая, снова засмеялась и отбежала от него, танцуя. Еще мгновение — и она, сбросив синее медитационное платье, стала нагая перед огнем. Весь минувший год она ела досыта, много бегала на коньках и вновь стала почти такой же, какой Данло так остро помнил ее: гибкой, сильной, соблазнительной, переполненной восторгом бытия. Она затанцевала по блестящему деревянному полу, вскинув руки над головой. Она танцевала, отдаваясь буйной радости движения, впервые за долгие годы вычерчивая перед Данло плавные узоры танца, — полностью счастливая, полностью лучистая, полностью живая. Потом остановилась и сложила руки на груди, приходя в себя от дикого кружения.
— О, Данло. Я не знала, что такое возможно.
Данло улыбнулся, и сердце прогремело у него в груди: Да, да, да.
— Но как? — спросила она. — Как это возможно, чтобы все было хорошо?
— Как возможно, чтобы так не было?
— Я помню, ты уже говорил нечто подобное. Ты сказал: “Как это возможно, что невозможное не только возможно, но и неизбежно? ” — Ты это помнишь?
— Да. Я уверена, что да.
Данло на миг прикрыл глаза и снова взглянул на нее.
— Я сказал это восемьдесят восьмого числа ложной зимы. Когда мы с тобой гуляли по берегу, а потом были вместе в твоей каминной. Почти восемь лет назад.
— Да. Я помню.
Данло подошел к ней и отвел длинные пряди волос с ее лица, чтобы лучше видеть ее глаза.
— Это было время нашей самой глубокой близости. Время, память о котором отнял у тебя Хануман.
— Я знаю. Это память о нас с тобой.
Ничто не теряется, подумал он. Никогда, никогда, никогда.
— Я помню, как ты любил меня. Помню, как я тебя любила.
— Что именно ты помнишь?
— Все.
Она обвила его руками и поцеловала — он уже почти перестал надеяться, что она его когда-нибудь так поцелует. А Тамара, чудом исцеленная, вновь одаренная тем, что считала навеки потерянным, целовала, смеясь и плача одновременно, его губы, его мокрые глаза, его шею и грудь — даже его руки, покрытые жесткими белыми шрамами.
— Тамара, Тамара, — сказал он, когда снова смог дышать. — Тамара…
— Погоди. Погоди немного.
Она выбежала из комнаты, взлетела по лестнице и тут же вернулась — по-прежнему нагая, но с одним-единственным украшением. Данло с улыбкой увидел у нее на шее подаренную им жемчужину — ту, что он отыскал на заснеженном берегу и прикрепил к шнурку, сплетенному из собственных черных волос.
— Ты помнишь, как подарил ее мне?
Черная жемчужина между ее грудей, похожая на слезу, переливалась розовыми бликами, составляя разительный контраст с молочно-белой кожей.
— Ты спрашиваешь, помню ли я?!
— Этим подарком ты скрепил свое обещание жениться на мне. А я, приняв его, дала тем самым согласие выйти за тебя замуж.
— Да. Я помню.
— Я сожалею, что мне пришлось нарушить мое обещание. Но Хануман сломал мою память, и я не могла даже вспомнить нашу первую встречу.
— Мне тоже жаль.
В ее взгляде выразилось глубокое понимание.
— Но ведь это не значит, что обещание нарушено навсегда, правда? Если мы, конечно, оба не захотим этого.
— Я этого не хочу, Тамара.
— Я тоже. — Она улыбнулась. — Странно, но я, кажется, знаю ответ на загадку, которую ты загадывал Джонатану. О том, как поймать птицу, не причинив ее духу вреда.
— Как поймать красивую птицу, не убив ее дух?
— Да. Это можно сделать, если станешь небом, верно?
— Верно.
— Хочу стать твоим небом. Хочу, чтобы ты стал моим.
Хочу, чтобы мы летали вместе.
Их глаза, устремленные друг на друга, возобновили свои обещания, величайшие обещания жизни. Тамара увлекла Данло на белую шегшеевую шкуру перед огнем, и они соединились в любви и созидании. Данло чувствовал пробуждение всех клеток ее тела и ее стремление создать в этом неистовом слиянии новое дитя. В ее дыхании, в жару ее сердца, в том, как она звала его в самый центр своего существа, ему слышались слова: “Наполни меня светом, наполни меня жизнью”.
Вслед за этим настал момент радости и завершения, когда они оба поняли, что зачали второе свое дитя из пылающих в них белых семян жизни. Он — или она — будет чем-то чудесным и новым, никогда прежде не существовавшим во вселенной. Будущей зимой, когда выпадет снег, это звездное дитя откроет глаза навстречу чудесам мира, и ничто уже не будет таким, как прежде. А где-то далеко, через открытую в золотое будущее дверь, уже видны дети их детей, которые заселят звезды до краев пространства и времени. Общая мечта Данло и Тамары осуществлялась в потоке любви и жизни, излитом ими друг в друга. Они не сказали ни слова о том, что только что совершили вместе, но каждый атом их тел кричал: да, да, да!
Потом, много позже, они лежали обнявшись, смотрели на небесные огни и строили планы о том, как поженятся. Тамара хотела бы дождаться ложной зимы, когда огнецветы распускаются во всей своей красе, но Данло настаивал на том, чтобы сделать это поскорее. К ее испугу, он объявил, что покинет город еще до Нового года. Он собирался совершить путешествие к западу от Невернеса и не знал, вернется ли к тому времени, как родится их дитя. Он, после пятнадцати лет отсутствия, наконец вернется на Десять Тысяч Островов, чтобы побывать у патвинов, олорунов, нарве и других алалойских племен.
— Пора, давно пора, — сказал он. — Цивилизованные Миры залечивают раны, нанесенные войной, — пора излечиться и алалоям.
Он сумел преодолеть парализующее средство воинов-поэтов, объяснил Данло, — и каждый из алалоев, будь то мужчина, женщина или ребенок, тоже способен победить поразившую его измененную ДНК. Надо только научить их этому.
— Твердь сказала мне, что я знаю средство против медленного зла, — улыбнулся он. — Что я всегда его знал и когда-нибудь узнаю снова. В то время я думал, что Она просто мучает меня своими вечными загадками, но теперь вижу, что Она говорила правду.
— Я знаю, что ты должен вернуться к своему народу, — сказала Тамара, глядя на него при свете пламени. — Но теперь, когда я нашла тебя снова, мне тяжело так скоро прощаться с тобой.
— Я знаю. — Он положил руку ей на живот. — Но я вернусь, как только смогу. Чтобы вместе растить наших детей.
Она с улыбкой накрыла его руку своей и вздохнула.
— Ты, должно быть, рожден для странствий. Как и все мы, правда? Обещай только, что будешь беречь себя.
— Обещаю.
Она поцеловала его.
— Я буду скучать по тебе, Данло.
— А я по тебе.
Она снова привлекла его к себе, и они, как два ангела, танцующие при свете огня, наполнили ночь искрами дикой радости.
Глава 28 ХАЛЛА
Все, что не шайда, то холла.
Халла — правая рука жизни,
Шайда — левая рука жизни.
Халла возникает из шайды,
Как талло выклевывается из яйца,
А шайда рождает холлу.
Во тьме ночи глубокой зимы,
Под взорами Древних, которые жили и умерли,
В блеске нового зимнего утра,
При свете встающего солнца
Шайда и халла, левая и правая руки, соединяются,
Образуя великий круг мира.
Из девакийской Песни ЖизниНа следующий день Данло пригласил к себе в Утреннею башню Бардо, Томаса Рана, Кийоши Темека, Колению Мор, Нирвелли, братьев Гур, Поппи Паншин, Малаклипса с Кваллара — пригласил на беседу и чашку чая. И для того, чтобы попрощаться. Из всего кружка только Бардо, Малаклипс и братья Гур знали, кто он на самом. деле, — остальные, должно быть, недоумевали, зачем нужно лорду Мэллори ви Соли Рингессу покидать Невернес так скоро после своего потрясшего мир возвращения. Впрочем, Мэллори Рингесс всегда озадачивал окружающих, даже самых близких своих друзей.
Он бог — так думают все, — а действия богов всегда загадочны и непостижимы.
— Когда же вы вернетесь к нам снова, лорд Мэллори? — спросил Кийоши Темек. Он сидел рядом с Томасом Раном, великим мастер-мнемоником, гордым и величественным в своей серебряной форменной одежде. — Все будут бояться, что вы покинули Невернес навсегда.
— Вернусь непременно, — с иронической улыбкой заверил Данло. — Мэллори Рингесс всегда возвращается, разве нет?
Намекнув, что ему предстоит долгое путешествие — возможно, даже в Твердь, — он сказал, что ни Орден, ни Путь Рингесса, ни в особенности Цивилизованные Миры не должны пострадать от его отсутствия. Сидящего слева от него Джонатана Гура, человека с мягкой душой и золотым сердцем, он назначил Светочем Пути Рингесса. Джонатану с помощью его брата Бенджамина и всех других каллистов предстояло направлять народы Цивилизованных Миров к вспоминанию Старшей Эдды.
— Ты знаешь этот путь, — сказал Данло. — Каждый из вас должен найти его в себе и помочь другим сделать то же самое.
Пока его гости переваривали эту тревожную новость, Данло смотрел на тихий, мертвый компьютер-образник и на шахматы Ханумана. На доске теперь стояли все тридцать две фигуры. Получив от Тамары назад свои сокровища, Данло склеил сломанного Хануманом белого бога. Теперь он даже своим острым глазом не мог разглядеть трещину, соединяющую две его половинки.
Он перевел взгляд на мужчин и женщин, считающих богом его самого, и сказал Малаклипсу: — А тебе пришла пора вернуться на Кваллар.
Малаклипс молча, зная о предстоящей ему задаче, наклонил голову.
— Спасибо, что обучал меня и нас всех состояниям мнемоники, — сказал Данло Томасу Рану. — Такая техника может пригодиться даже богу, если он хочет войти в подлинную память и научить тому же других.
Томас Ран, тоже молча, склонил свою серебряную голову перед тем, кого знал как Мэллори Рингесса.
— Но не можете же вы взять и бросить нас снова, лорд Мэллори! — вставила Коления Мор. Будучи Главный Эсхатологом, она уже пострадала однажды от хаоса, вызванного таинственным исчезновением Мэллори Рингесса — наряду со всеми лордами, мастерами и специалистами Ордена. — Сейчас мы, как никогда, нуждаемся в руководстве, в твердой руке.
Данло добродушно улыбнулся, понимая ее беспокойство.
— У Ордена будет новый глава — самый сильный из всех возможных.
— Кто же это? — спросила Коления. Она, возможно, предполагала, что он вернет в ряды Ордена лорда Мариам Эрендиру Васкес или даже отзовет из Экстра лорда Николоса Сар Петросяна.
Данло повернулся к Бардо, сидящему справа от него, и сказал: — Новым главой Ордена будет Бардо.
— Я? — Изумление Бардо было искренним: Данло не советовался с ним ни по поводу своего отъезда, ни по поводу этого внезапного назначения. — Ты действительно хочешь сделать Бардо главой Ордена?
— Да, а что?
— Да то, что Бардо уже нарушил однажды свои обеты. — Бардо восседал на мягкой подушке, теребя складки черной пилотской формы. Налловые доспехи он давно уже снял, но блестящий шешиновый плащ оставил. — То, что Бардо чуть не погубил Орден, основав религию от твоего проклятого имени.
— В таком случае, — улыбнулся Данло, — можешь считать это назначение не повышением, а наказанием. Быть главой Ордена не так приятно, как может показаться.
— Думал ли Бардо, что удостоится такой чести? — задумчиво произнес Главный Пилот. Потеребив черную бороду и слизнув капельку чая с губы, он продолжил: — Главным Пилотом я всегда хотел стать — я просто рожден для того, чтобы водить легкие корабли среди звезд. Но руководить сотней сварливых стариков и старух в Коллегии — совсем другое дело.
— Верно, другое, — сказал Данло, не добавив больше ничего. Он находил, что Бардо за последний год сильно изменился. Если раньше этот большой, громогласный пилот сам рвался возглавить цвет Цивилизованных Миров, то теперь власть над другими людьми, похоже, больше не интересовала его. Постигнув Старшую Эдду, он наконец научился властвовать самим собой, и это было истинное чудо.
— Я просто не уверен, хочу ли я быть главой Ордена, — признался Бардо.
— Твоя неуверенность — лучшая рекомендация для кандидата на этот пост.
— А если я откажусь?
— Отказаться ты не можешь. Глава Ордена пока что я, а ты дал обет послушания.
— Я не хочу нарушать свои обеты снова. Значит, выбора у меня нет?
— Нет.
— Ладно, тогда согласен. — Бардо стиснул Данло за плечо. — Ей-богу, Паренек, если ты правда хочешь, чтобы я был главой Ордена, я буду им!
Данло провел со всеми последний мнемонический сеанс, а позже, когда в Академии зазвонили вечерние колокола, обнял каждого на прощание. Все, поочередно поклонившись ему, вышли — остался один Бардо. Данло заварил еще чаю, и они как один глава Ордена с другим стали обсуждать важные дела, от которых зависела судьба человечества во всей галактике.
Наутро Данло заперся в своих комнатах, велев послушникам оставлять еду на подносах за дверью, и десять дней не допускал к себе никого, даже Бардо. Божки, следившие за каждым шагом Мэллори Рингесса, предполагали, что он каким-то образом общается с Твердью и другими галактическими богами, но в точности никто ничего не знал.
На самом деле Данло в период своего заточения много ел, вдоволь спал и исследовал происходящие в нем перемены.
Часто, погружаясь в медитации, он смотрел на белого шахматного бога, которого вырезал много лет назад, — Данло казалось, что он сумел придать ему сходство с отцом, Мэллори Рингессом. Не менее часто он заглядывал в себя, чтобы вспомнить свое старое лицо и представить себе новое, повторяя в душе фравашийский коан, которому научил его Старый Отец: “Если я — только я, кто тогда останется стоять, когда я умру?” Данло просидел бы взаперти еще дольше, но утром семьдесят третьего дня глубокой зимы к нему пришел человек по имени Люйстер Отта с извещением, что Старый Отец собрался наконец умереть. Люйстер, умница с доброй улыбкой на угольно-черном лице, был самым старым из учеников фраваши. Данло хорошо помнил его по совместному житью в доме Старого Отца, но Люйстер, само собой, не узнал в нем Данло ви Соли Рингесса. Старого Отца Данло посещал только в маске, и Люйстер каждый раз встречал его как таинственного незнакомца. Теперь, в Утренней башне, посланец убедился, что этим незнакомцем был Мэллори Рингесс.
— Сейчас, — сказал Данло, узнав, с чем пришел Люйстер. — Один момент.
Люйстера он принял в той же маске, и тот, наверно, удивился, что Мэллори Рингесс носит ее у себя дома. Он, видимо, объяснял это тем, что великий глава Ордена, прославившийся как скраер, предвидел печальную новость и заранее приготовился к очередной тайной прогулке по улицам Невернеса.
— Как хорошо, что вы готовы прийти, — сказал Люйстер. — Старый Отец, возможно, не доживет до завтра.
Он сказал еще, что ему велено разыскать также и лорда Бардо — Люйстер сам не знал, почему Старый Отец хочет видеть у своего смертного одра двух виднейших лордов Невернеса. Данло не стал в это углубляться — он попросил Люйстера подождать за дверью, а сам облачился в черную соболью шубу и взял с собой кое-какие вещи.
Вместе они отправились в башню Данлади, где жил Бардо; эти утренние часы тот посвящал математике. Уже втроем они пересекли Старый Город и пришли к дому на западной окраине Фравашийской Деревни. Люйстер проводил их по извилистым коридорам в думную комнату, где все так же пахло раздавленной хвоей и было полно арф, книг, фравашийских ковров, инопланетных музыкальных инструментов и прочих вещей. Старый Отец лежал на низкой кровати в самом центре комнаты, окруженный дюжиной своих учеников. По нему, как это обычно бывает у инопланетян, не было видно, что он болен, — и еще менее, что он умирает. Длинное, покрытое белым мехом тело не показалось Данло исхудавшим по сравнению с их последней встречей, мохнатое лицо выглядело почти безмятежным. Только большие золотисто-оранжевые глаза выдавали боль, от которой страдал старый фраваши.
— О-хо, у нас гости! — слабо воскликнул он, увидев вошедших Данло и Бардо. — Подождите, пожалуйста, немного — я хочу проститься с учениками.
Ученики уставились на Бардо в роскошном шишиновом плаще и на Данло, не снявшего маски. Он знали, что Старый Отец хочет поговорить с Мэллори Рингессом, но не понимали, почему Рингесс скрывает свое лицо. Полагая, что у него есть на то свои причины, они уважали его инкогнито, хотя их и возмущало, что Старый Отец намерен провести свои последние мгновения с ним.
— Ох-ох, — прошелестел Старый Отец, — спасибо лордам за то, что они согласны подождать, а ученикам моим — за то, что так долго и терпеливо слушали старого инопланетянина.
И он заговорил с Салимом Бриллем, которого Данло помнил как чемпиона мокши — Старый Отец устраивал эти языковые турниры ежевечерне после ужина. Данло помнил еще Михаила Утрадесского и Эй Элени, но остальные были ему незнакомы. Старый Отец каждому говорил несколько ласковых слов — а может быть, и отпускал одну из своих иронических шуточек. Это изнуряло его, но он сохранял легкий, шутливый тон и каждому дарил что-нибудь на память — арфу, барабан, орех шраддху, красивую чайную чашку. Покончив с этим ритуалом, он попросил учеников удалиться во внутренние комнаты дома, а Люйстера — закрыть за ними дверь; на памяти Данло дверь в думную комнату затворялась впервые.
— Ах-ха, вот мы наконец и одни, — певучим, как у скворца, голосом произнес Старый Отец, подзывая Данло и Бардо к себе. — Спасибо, Данло, что пришел, и тебе, Бардо, спасибо.
Бардо, никогда раньше в глаза не видавший Старого Отца, уселся напротив, нервно поглаживая бороду. Он не понимал, зачем его вытащили из теплой квартиры и привели в это холодное помещение (температура в думной комнате, как обычно, стояла чуть выше точки замерзания). Это можно было объяснить только тем, что старый учитель Данло хочет поделиться с ними обоими какой-то жизненно важной информацией.
— Ну и холод же у вас тут, — пожаловался он. — Ничего, если я останусь в шубе?
Данло, сидящий рядом с ним, только головой покачал, а Старый Отец тихо засмеялся, погладив белый мех у себя на груди.
— С тем же успехом я мог бы спросить у тебя, можно ли мне не снимать свою шубу. Впрочем, я и правда прошу, чтобы мне позволили еще немного ее поносить.
При этом намеке на близкую кончину Данло и Бардо тревожно переглянулись, а Старый Отец, наставив длинный палец на своего бывшего ученика, сказал:
— А еще я попрошу Данло ви Соли Рингесса снять свою маску. Негоже ученику сидеть перед своим учителем с закрытым лицом, правда ведь?
Данло нерешительно взглянул на дверь, опасаясь, как бы в комнату кто-нибудь не зашел. Но дверь оставалась закрытой, и в комнате стояла тишина, нарушаемая только трудным дыханием Старого Отца.
— Хорошо, почтенный, — кивнул он, — я сниму ее, если ты хочешь.
Он стянул маску через голову и замер, тихий и чуткий, как снежная сова на дереве.
— Что это с тобой? — изумленно воскликнул Бардо. — Погляди на себя!
Но Данло не надо было глядеть на себя — ему хватило изумленных слов Бардо и отражения, которое виднелось в золотых зеркалах глаз Старого Отца. Человек, которого видели Бардо и Старый Отец, не был Мэллори Рингессом. За десять дней, проведенных взаперти, Данло стал таким же, каким был, пока Констанцио не взялся за его ваяние: тот же крупный нос, резко очерченные скулы, та же свирепая красота, доставшаяся ему по наследству. Но и нечто новое присутствовало в нем, нечто странное и чудесное, как будто все клетки его тела трудились, придавая ему какой-то другой, не завершенный пока, образ.
— Как это возможно? — громогласно вопрошал Бардо. — Может, к тебе резчик тайком приходил? Да нет, вам все равно не хватило бы времени. Ну надо же, ей-богу!
Зато Старого Отца, как видно, нисколько не удивило чудесное преображение Данло. Его, как всегда, окружала аура заншина — той полной ясности и собранности разума, которую фравашийские Отцы стараются поддерживать всегда, даже при виде изменившегося лица любимого ученика — и перед лицом самой смерти.
— Ох-хо! — произнес он. — Рад видеть тебя снова — видеть человека, которым ты стал. Так, все так. Я рад видеть тебя таким, каков ты есть. А теперь нам пора проститься.
Он сказал, что приготовил подарки для них обоих. Когда Бардо заметил на это, что никогда не учился у фраваши, тем более у самого Старого Отца, тот улыбнулся и ответил:
— Ничего. Я все-таки хочу сделать тебе небольшой подарок перед тем, как отправиться в свое очередное путешествие.
— Но почему? — недоумевал Бардо.
— Ах-ох, все такой же нетерпеливый. Вот получишь подарок — тогда и поймешь.
Старый Отец закинул длинную мохнатую руку за изголовье и достал книгу в новом кожаном переплете, которую и вручил Бардо. Тот полистал страницы, покрытые мелкими черными значками, которые сам Старый Отец вывел пером и чернилами. Бардо, а с ним и Данло сразу узнали математические символы. Бормоча что-то под нос и покачивая головой, Бардо просмотрел первую страницу. Он явно принимал все это за один из знаменитых розыгрышей Старого Отца.
Фраваши известны своими талантами в музыке и в различных применениях языка мокша, но никак не в математике.
— Ничего не понимаю, — подняв глаза от книги, признался Бардо.
— Считаешься блестящим пилотом, а-ха, а математических формул понять не можешь?
Бардо вернулся к затейливым черным знакам на первой странице. Вскоре он постучал по ней пальцем и одобрительно кивнул, разобрав довольно изящное определение омегафункции Джустерини. Старый Отец, очевидно, воспользовался системой преобразования Данлади для перевода трехмерных идеопластов, которыми оперируют пилоты, в двухмерные письменные символы.
— Ну что ж, теперь мне все ясно, — с немалой гордостью объявил Бардо. — Здесь, по-видимому, изложена Великая Теорема.
— O-хо, видимость обманчива — я постоянно твердил об этом Данло и другим своим ученикам. Но только не в этот раз. Так, все так: это именно то, что тебе кажется. Недавно у меня возникли кое-какие мысли относительно Великой Теоремы. Проложить прямой маршрут между любыми двумя звездами возможно, это так, но найти его, как правило, очень трудно. Кошмарно трудно, а-ха. Здесь я попытался доказать эту теорему конструктивно. Чтобы любой пилот мог построить маршрут между любыми двумя звездами — даже если одна из них находится в нашей галактике, а другая в Гончих Псах. Между любыми звездами вселенной.
При этом поразительном заявлении Бардо посмотрел на Старого Отца так, словно тот из-за болезни повредился рассудком. Пилоты мечтали о конструктивном доказательстве Великой Теоремы три тысячи лет. Даже Мэллори Рингесс, доказавший ее в общем смысле, не осилил конструктивного доказательства.
— Спасибо, — пробормотал Бардо, не зная, что еще сказать. Он смотрел на Старого Отца, почти не скрывая жалости, сокрушаясь, что этот несчастный фраваши потратил свои последние дни на математические бредни.
Данло тоже смотрел на своего учителя, но совсем по-другому — глубоко и странно. Казалось, он открыл в загадочном старом инопланетянине нечто такое, о чем прежде не догадывался. Положив руку на книгу Бардо, он с головой ушел в страшную красоту этих золотых глаз.
— Спасибо, — повторил Бардо, которому не терпелось покончить с этим тягостным посещением. — У вас ведь и для Данло есть подарок?
— Ах-ох. Данло уже получил свой подарок. Я отдал ему то, чем очень дорожил когда-то.
— Флейта, — кивнул Бардо, вспомнив рассказ Данло о том, как Старый Отец подарил ему свою шакухачи в их первую встречу на Северном Берегу. — Чертова флейта.
Данло при этих словах достал из кармана шубы длинный золотой ствол. .
— Нет, не флейта, — сказал Старый Отец. — Я подарил ему то, чем дорожил еще больше, — так, все так.
— Что же это? — допытывался Бардо.
И тогда, в полной тишине между двумя ударами сердца Данло, Старый Отец протянул дрожащий мохнатый палец к черному кольцу на его правом мизинце.
— Что такое? Спятил он, что ли? — вскричал Бардо. Но тут он вспомнил, зачем их позвали в эту холодную, выложенную камнем комнату, вспомнил о сострадании и о требованиях этикета. — Простите, Старый Отец, но вы что-то путаете. Вы ведь должны знать, что кольцо это принадлежало Мэллори Рингессу. Я хранил его у себя много лет, а когда время пришло, отдал его Данло.
— Спасибо, что сберег мое кольцо, — сказал Старый Отец.
— Но не можете же вы взаправду думать, что вы…
— Мэллори Рингесс, — тихо договорил за него фраваши. — Сейчас я, как видишь, Старый Отец, но раньше был Мэллори Рингессом.
Бардо, ошарашенный за этот день дважды, вытаращил глаза, а Старый Отец объяснил, что никогда не покидал Невернеса, а просто принял облик фраваши. О том, как он это сделал, Бардо и Данло могли только догадываться. Возможно, он нашел резчика, чей специальностью было ваяние инопланетян из человеческой глины. Впрочем, Старый Отец намекнул, что Твердь, не так давно создавшая в Экстре двойник Тамары, сходным образом помогла ему перевоплотиться в существо с белым мехом, красной кровью и одухотворенными золотыми глазами, в чьем голосе теперь звучал весь диапазон чудесных фравашийских модуляций.
— Не верю я в это, — сказал Бардо. Старый Отец со своим изменчивым инопланетным сознанием всегда славился тем, что говорил странные вещи, но ничего более странного Бардо за свою жизнь еще не слышал. — Не могу поверить.
— Охо, ты вечно во всем сомневался.
— Скажем лучше, что Бардо всегда проявлял проницательность.
— Ну да, тебе нравилось так думать, я помню.
— Помнишь, значит? Еще бы.
— Ха-ха, я помню о тебе больше, чем тебе самому хотелось бы помнить.
— Не вижу, как это возможно.
Глаза Старого Отца стали на миг мягкими и сострадательными.
— Я помню, как старшие послушники дразнили тебя Ссыкуном-Лалом и заставляли тебя спать на мокром.
— Ну, это все знают. Все, кто жил со мной вместе в Доме Погибели. О Бардо теперь ходит много историй.
— Да, наверно. Все так. — Старый Отец некоторое время смотрел сквозь Бардо так, словно грезил наяву. Потом его глаза вспыхнули оранжевым огнем, и он спросил с улыбкой: — А знают ли они историю о том, как юный Пешевал Лал, называвший себя Бардо, написал старшим послушникам в пиво, которое сам же им и подал?
При этом нежданном разоблачении из прошлого Бардо побагровел от стыда, ошеломленно взглянул на Старого Отца и пробормотал:
— Нет — кроме меня, об этом знал только Мэллори.
Данло все это время молчал не сводя глаз с фраваши.
Теперь Старый Отец, отвернувшись от Бардо, обратил полный свет своего сознания на него. На протяжении десяти ударов сердца Данло смотрел в золотые глаза этого странного существа, которое полюбил с первой же их встречи на берегу у замерзшего моря. Он протянул к нему руки, чего фраваши всегда избегал, и стиснул его белые мохнатые пальцы, как было заведено между людьми последний миллион лет.
Да, да, да.
— Так это же правда, ей-богу! Он действительно Мэллори Рингесс!
— Да. Это он. — И Данло, глядя в застывшие воды пространства и времени, добавил тихо и почтительно: — Это ты.
— Но почему? — Бардо подался к Старому Отцу, явно порываясь уткнуться лицом в его мохнатую грудь, но сдержался. — Мэллори, если это правда ты, скажи мне, пожалуйста: почему ты бросил нас и обернулся проклятым фраваши?
— Я тоже хотел бы это знать, почтенный, — сказал Данло.
Старый Отец освободился от его рук и просвистал тихую, протяжную ноту, которая у фраваши, видимо, обозначала вздох. (А может быть, он хотел этим сказать, что Данло, как и в юности, задает вопросы, ответить на которые почти невозможно.) Он закрыл глаза, и Данло испугался, что волнения этого утра могут ускорить его последнее путешествие. Но Старый Отец с тихим смехом взглянул сперва на Бардо, потом на него и сказал:
— Ах-ха, это сложно объяснить.
Под звуки скорбной музыки, проникающей в комнату из глубины дома, он попытался рассказать им, что значит быть скраером. Вселенная, сказал он, подобна бесконечному золотому дереву, ветвящемуся в далекое будущее. При этом oна, как всякое дерево, будь то ши или дуб, тянется лишь в одну сторону — к свету. Но каждая из несчетных миллиардов его веточек может быть заслонена более толстой веткой или отсечена вовсе. Само дерево не умрет никогда, но части его могут страдать от болезней, сохнуть или искривляться.
— Ах-ха — Бардо, наверно, думает, что, если бы я не бросал Орден или вернулся бы вовремя, как это сделал Данло, я мог бы остановить войну еще до ее начала. Да-да, все так: я мог бы совершить это, казалось бы, доброе дело, и зеленая цветущая ветвь сохранилась бы во всей своей красе — на какое-то время. Но цена, ох-хо-хо, цена этого — предотвратить одну войну и вызвать другую, еще более страшную. Сохранить одну ветку и потерять сук, от которого отходит целая тысяча. Целую галактику, Данло. Выбор есть всегда и для всех, страшный выбор — но и прекрасный тоже. Ради этого стоит быть живым и разумным, правда? В конечном счете мы сами выбираем свое будущее. Я, как и все, пытался заглянуть в будущее и выбрать самое лучшее.
Он перевел дыхание, снова потрогал пальцем кольцо на руке Данло, улыбнулся грустно и сказал:
— Данло, Данло, прости за то, что знал меня только как Старого Отца. И за то, что тебе пришлось путешествовать в Невернес одному, и за то, что все вышло так, как вышло. Столько страданий, столько смертей. Но из всех миллиардов возможностей, ветвящихся в будущее, я нашел для тебя одну только узкую тропинку.
Данло снова сжал его руку, и слабость, которую он ощутил сквозь мягкий шелковистый мех, вызвала дрожь в его собственных пальцах. Он смотрел на колеблющиеся отражения в своем черном кольце, и в его памяти вставало измученное лицо Джонатана и миллиарды лиц других детей, погибших во время войны.
— Неужели моя жизнь имела такую важность? — спросил он.
— Для меня — да, — ответил Старый Отец.
Данло помолчал, выдавив из себя улыбку, и сказал:
— Ты научил меня очень многому — но я нарушил ахимсу, убив Ханумана.
— Охо! Все правила и все границы когда-нибудь нарушаются. Разве можем мы как-то иначе выйти за пределы себя? Птенец талло должен вылупиться из яйца, но это не значит, что скорлупа не имеет никакой ценности.
— Да. Не значит.
— Дуб — это не преступление против желудя. Помни об этом.
— И все-таки я жалею, что мне пришлось убить его.
— Ах-ха, еще бы. Но то, что ты сделал, было необходимо. Ты замечательное создание, Данло, и имеешь великую важность для вселенной.
— Все создания важны, почтенный.
— Да, да, все так. Все отцы хотят, чтобы их семя давало новые семена и ширилось в бесконечность, во все стороны, как мерцающее облако. Ты дикое, прекрасное семечко, Данло, — и когда я умру, останется стоять прекрасное дерево.
Данло сглотнул, перебарывая боль в горле.
— Да нужно ли тебе умирать? Воины-поэты ввели тебе яд, я знаю, но я покажу тебе, как…
— Нет, — с несвойственной ему резкостью сказал Старый Отец. — Алалои мудры: каждый должен умирать в свое время. И я боюсь, что мое время пришло.
Да, подумал Данло, чувствуя холод его руки. Да, да, да.
— Ты сделал то, что не удалось мне, Данло. Я тоже вспомнил Старшую Эдду, но не до конца.
Он снова умолк, чтобы передохнуть, и его глаза заволоклись то ли болью, то ли воспоминанием — иногда бывает трудно отличить одно от другого.
— Я хотел прожить ровно столько, чтобы увидеть тебя человеком, которым ты стал теперь. И узнать, что Тамара носит в себе новое дитя моего сына.
Бардо, услышав эту новость, удивленно взглянул на Данло, а тот спросил:
— Но как же ты узнал об этом, почтенный?
Старый Отец, загадочно улыбнувшись, засвистал какой-то нечеловеческий мотив, но Данло прекрасно понял, как тот узнал о зачатии ребенка.
— Хо-хо, ха-ха, все дети моих детей, — сказал Старый Отец. — И все другие дети. Вот как будет в конце концов побежден Кремниевый Бог, вот как будут спасены звезды. Все эти мерцающие, золотые, бессмертные ветви, что тянутся к звездам.
Теперь он стал говорить уже не о будущем, а о прошлом. Он рассказал Данло о его матери, Катарине, о ее мечтах, о ее жизни и смерти. Сам он, сказал Старый Отец, всегда мечтал извлечь Катарину из серых льдов времени и вернуть ее к жизни.
— Но ведь это невозможно, правда?
— Не так, как хотели бы надеяться многие, — сказал Данло.
— Ты знаешь другой путь? — Глаза Старого Отца на миг вспыхнули невыносимо ярко, точно два солнца. — Путь, которым бытие продолжается без конца, путь ветвей, колец, чуда, — ты знаешь его, Данло?
Под стук своего сердца, которое билось в такт с пульсом на руке Старого Отца, Данло вошел в полную звезд вселенную у себя внутри. В свет, который жил не только в Золотом Кольце, но и в галактическом скоплении Журавля, и в сверхскоплении Радуги, и во всех других галактиках.
— Да, я знаю его, — сказал он наконец.
— Ах-ха, хорошо. Я попрошу тебя еще кое о чем, прежде чем ты уйдешь.
— Конечно, почтенный.
— Ты присмотришь за моими учениками? Боюсь, что человек не будет больше учиться у фраваши — это время прошло.
— Верно. Прошло, — кивнул Данло.
— И еще: положи от меня цветок на могилу Катарины. Хо-хо, я ведь знаю, что ты хочешь отправиться на Квейткель и отыскать могилу своей матери.
— Какой цветок мне положить, почтенный?
— Думаю, снежную далию, если найдешь, ох-ох.
— На южных склонах горы в эту пору года росло много снежных далий. Я исполню твой наказ, почтенный.
— А еще поиграй мне, пожалуйста, на флейте. Я оценил твои успехи с санурой в твой последний приход, ха-ха, но все-таки ты рожден для игры на флейте.
Данло прижал к губам шакухачи и заиграл. Он играл тихо, чтобы ученики Старого Отца не услышали его музыки и как-нибудь, по дыханию или по печали, не узнали того, кто ее сложил. Играл долго, не замечая слез, которые лились из глаз Бардо и сверкали каплями света в его собственных глазах.
У Старого Отца глаза стали тускнеть, как горючие камни, где почти догорело масло, и он слабо приподнял мохнатую руку, остановив Данло.
— Ах-ха, спасибо, спасибо. Это было очень красиво, но теперь пришло время тишины.
— Да, — согласился Данло.
— Попроси тогда моих учеников вернуться. Им захочется быть здесь, когда я усну.
Данло отложил флейту и встал, а Бардо, который наконец обрел голос, спросил: — Как это “усну”? Я думал, фраваши никогда не спят.
Старый Отец слишком ослаб, чтобы говорить, и Данло объяснил Бардо, что фраваши все-таки, спят. Человеческий мозг поделен на два полушария, а за мерцающими глазами фраваши скрываются целых четыре доли серого вещества. Одна, две или три доли постоянно находятся в состоянии сна, и лишь изредка, например, в моменты озарения, все четыре бодрствуют полностью. И все засыпают, когда наступает смерть.
— Неужто ты бросишь меня опять, Мэллори? — Бардо легонько потряс руку Старого Отца. — Ох, горе, горе.
— Прости. — Старый Отец пожал руку Бардо, насколько хватило сил, и улыбнулся Данло. — Хо, хо — время пришло, время пришло!
— Нельзя же так взять и помереть, Паренек! Ей-богу!
Но это было возможно, вполне возможно. Данло снова надел свою маску и пошел за Люйстером Оттой и другими учениками. Они вернулись, все двенадцать человек, и опустились на колени вокруг ложа Старого Отца. Тот уже закрыл глаза, погружаясь в сон. Бардо, чтобы освободить место для учеников, встал и отошел к полке с музыкальными инструментами. Данло, стоя плечом к плечу с ним, смотрел и ждал.
Много-много мгновений спустя (Данло чуть ли не впервые в жизни потерял счет ударам своего сердца) Старый Отец перестал дышать. Вот так, очень просто. Самая простая вещь во вселенной.
Да, да, да.
Данло склонил голову, отдавая дань памяти. Старый Отец лежал тихий и безмятежный, и Данло шепотом, так что слышал один только Бардо, помолился за него: — Мэллори ви Соли Pymrecc, ми алашария ля, ми адла, шанти, шанти. Спи с миром, отец мой.
— Пошли, — сказал он потом, ухватив Бардо за плечо. — Покатаемся немного по улицам.
Бардо, плачущий как дитя, кивнул, и они вместе вышли из дома Старого отца.
Они долго кружили по красным улицам Фравашийской Деревни, не желая ни отдыхать, ни говорить о том, что произошло в думной комнате. Потом Данло, непонятно почему, потянуло на запад, и он без предупреждения свернул на широкую оранжевую ледянку, ведущую в Городскую Пущу. Данло несся между заснеженными деревьями йау с такой быстротой и решимостью, что Бардо едва поспевал за ним.
Данло сам не знал, куда ведет этот его новый путь, но вскоре лес кончился, и они вышли мимо серых, облицованных сланцем домов на Западный Берег. Можно было подумать, что Данло хочет побывать там, где развеял по ветру прах Джонатана. Но он, прислушавшись к голосу, звавшему его издалека, повернул по Длинной глиссаде на юг, к маленькому пляжу на краю Ашторетника. Берег здесь был каменистый, и за узкой полоской песка тянулось к западу покрытое льдом море. Других охотников посетить это дикое место в столь холодный и ветреный день не нашлось. Над скалами стеной высились высокие заснеженные осколочники.
— Ну, куда тебя несет? — ворчал Бардо, спускаясь по камням вслед за Данло. — Смотри не поскользнись, Паренек. Если мы свернем себе шею, нас тут никто не найдет.
Данло, чтобы не утомлять пыхтящего за спиной Бардо, нашел широкую, плоскую, поросшую мхом скалу и уселся на ней лицом к морю. Бардо плюхнулся рядом и придвинулся поближе, пытаясь хоть немного согреться.
— Ну и холодина, ей-богу! Чего мы тут не видали?
— Мне хотелось побыть подальше от людей.
Это была правда, и все же Данло, оглядывая великий круг льдов, очерченный синим горизонтом, знал, что пришел на этот пустынный берег зачем-то еще. Он смотрел прямо на запад, где солнце, как громадный оранжевый шар, уже опускалось за край мира. Смотрел на белый ледяной простор, ведущий к его родным островам, и ждал.
— Поздно уже, — заметил Бардо. — Мы весь день провели у Старого Отца.
— Да.
Бардо нервировало не только приближение ночи.
— Ах, Паренек, — сказал он, — надеюсь, после слов Старого Отца ты не станешь думать обо мне очень уж плохо. Надеюсь, ты никому не скажешь, что я написал в пиво старшим послушникам.
Они были одни, и Данло, желая ощутить на лице ветер, снял маску.
— Старшие и меня мучили, — улыбнулся он. — Мне самому хотелось написать им в пиво, если уж на то пошло.
Бардо, пристально глядя на Данло под шорох поземки, покачал головой.
— Это просто чудо, ей-богу. Впрочем, ты всегда был мистиком, так что нечего особо удивляться этим твоим мистическим переменам.
Данло потрепал его по колену и попытался объяснить, что перемены, сотрясающие все его существо, имеют мало общего с мистикой, если понимать под этим словом нечто волшебное или сверхъестественное.
— Это просто техника такая, понимаешь? Сознание отражает само себя, приобретает еще больше контроля над собой и создает новые формы— А ты подумал над этой новой формой, прежде чем придавать ее себе, Паренек? Ты теперь выглядишь почти как прежде — что скажут о тебе алалои?
— Скажут, что я такой же человек, как и они.
— А как быть с договором? Если ты полетишь туда на легком корабле, алалои узнают о Невернесе больше, чем им желательно.
— Это верно. — Данло смотрел на убегающие вдаль застывшие волны, и его глаза стали ясными и холодными, как новый голубой лед. — С другой стороны, им пора об этом узнать. Пути назад для человечества нет. Нельзя вернуться к простой жизни, обратившись вспять. Нет в этом подлинной халлы. Раньше я думал, что халла — это идеальная гармония цветов, солнечного света, здоровой чистой жизни и смерти на сверкающем свежем снегу. Идеальная гармония всего, чего со временем может достигнуть жизнь, без войн, без болезней, без помрачения разума, без астероидов и звезд, способных уничтожить за одну ночь десять тысяч живых видов. Но вселенная устроена иначе. Халла — это преображение жизни. Ее углубление, переход в новые формы и возможности — словом, то, что мы называем эволюцией. Думаю, что и алалоям пришла пора эволюционировать вместе со всем нашим хищным, благословенным видом.
Солнце опускалось все ниже к ледяному океану, а Бардо внимал словам Данло, не сводя глаз с его странного нового лица. Он казался зажатым между почтением, которое испытывал к Данло, и стремлением к собственной блистательной судьбе. Наконец он прочистил горло и сказал:
— Ну что ж, мы все хотим развиваться, верно? А ты, выходит, кто? Бог?
Данло, чувствуя излучаемые Бардо любовь и страх, улыбнулся в порыве дикой радости и сказал:
— Нет, я человек. Наконец-то настоящий человек — то, чем я всегда хотел стать.
Они посидели молча, глядя, как снежные чайки ищут корм в кучках красных замерзших водорослей. Птицы китикеша снижались над застывшей кромкой прибоя, прислушиваясь к движению червей под снегом. Стало смеркаться. Деревья и льдины теряли свои краски, и густая синева неба напоминала цветом глаза Данло. На востоке загорались первые звезды.
Данло устремил взгляд на пять огоньков, образующих хвост Дельфина.
Раньше эти знакомые звезды казались ему белыми точками в черноте космоса. С поверхности планеты почти все звезды выглядели белыми. Сетчатка человеческого глаза воспринимает свет двояко: конусы, различающие краски, невосприимчивы к слабому освещению, а палочки, чувствительные даже к самому слабому свету, не различают красок. Именно палочки обеспечивают человеку способность видеть в темноте, и звезды поэтому кажутся ему белыми, как снег.
Но теперь в глазах Данло развились новые клетки, сочетающие в себе свойства и конусов, и палочек, — и ночь наполнилась красками. Джилада Люс в небе пылала жаркой голубизной, Двойная Мигина стала бледно-оранжевой, Калакина — красной, как капелька крови. Темнота сгущалась, из складок ночи появлялись новые звезды, лучась всеми цветами радуги, и Данло любовался ими. Как странно все-таки быть живым! Как удивительно, что он вообще способен что-то видеть, не говоря уж об этих огнях, заполнивших всю вселенную, чтобы поразить его своей красотой. Сидя на холодном камне рядом с Бардо, Данло дивился огромности тайны жизни. Огонь неба перекликался с огнем его глаз, и так ярок был этот новый свет, что Данло хотелось вечно смотреть на звезды.
— Смотри, — Бардо показал на восток, — сверхновая всходит.
За городом, над нижними склонами Аттакеля, набух световой пузырь. Тридцать лет невернесцы ждали пришествия этой страшной новой звезды, и девятнадцать дней назад ее первый волновой фронт обрушился на Ледопад. С тех пор ранним вечером каждого дня тысячи людей выходили на улицы, чтобы поглядеть на небесное чудо. Данло с его пустынного берега открывалось то же самое зрелище.
Планета поворачивала свой ледяной лик к востоку, и сверхновая поднималась на небо. Ее свет шел сквозь Золотое Кольцо, где созидалики и другие организмы впитывали ее буйную энергию в свои алмазные мембраны и рассеивали сияние по всему небосводу. Мерцающие золотые завесы спускались от верхних слоев атмосферы до самых льдов. И Данло, и все остальные не боялись больше, что сверхновая причинит им вред, и темная громада Вселенского Компьютера больше не затмевала звезды.
— Ну и холодина, ей-богу! — Бардо закутался было в свой шешиновый плащ, но вспомнил, что Данло такой же человек, как и он, и накинул край ему на плечи. — Мы тут еще долго пробудем?
— Не знаю.
— Смотри. — Бардо снова показал на небо. — Твой отец говорил мне когда-то, что Кольцо будет общим созданием — его и Тверди.
— Твердь говорила мне почти то же самое.
— Я только не думал, что это будет так красиво. По-своему Кольцо такое же дитя твоего отца, как и ты.
Эта поразительная мысль вызвала у Данло улыбку.
Бардо достал из кармана шубы книгу, которую ему дал Старый Отец, и похлопал по переплету.
— Не могу поверить, что это правда был он. И что его нет больше.
Данло, повернувшись к нему, медленно кивнул.
— Мне без него тоскливо. Такая уж у меня проклятая судьба — потерять лучшего дважды.
— Да, я понимаю, — Данло вспомнил, как в четырехлетнем возрасте прощался с отцом на льду около Квейткеля, — Я тоже терял отца дважды. Нет. Ничто не теряется.
— В жестокой вселенной мы живем, правда? Порой мне кажется, что все становится только хуже.
Данло вдохнул в себя обжигающе-холодный воздух.
— Совсем наоборот. Все идет так, как должно быть.
— Кстати, Паренек, — ты помнишь, что говорил твой отец про бытие, кольца и чудеса? Не знаешь ли, что он имел в виду?
— Знаю.
— А мне можешь сказать?
— Хорошо, я попытаюсь.
Он смотрел сквозь ночь на золотые обручи света, опоясывающие мир. Смотрел в глубину Кольца и видел нектонов, триптонов и золотых фриттиларий, парящих в облаках из созидаликов. Видел огромные богоподобные существа, оборачивающиеся вокруг планеты, как легкие корабли. Они питались звездным светом и смотрели вниз, на океаны Ледопада, и вверх, на Эту Кита и Экстр. Он видел все это не только глазами, но и более глубоким зрением, для которого у него не было имени.
Эти боги Кольца, сказал он Бардо, — действительно дети Тверди. И они сыграли в войне свою роль, о чем он, Данло, только теперь начинает догадываться. Они, эти золотые существа, помогли Тверди в ее нескончаемой битве с Кремниевым Богом. Они открыли способ пользоваться космической энергией в боевых целях и направили ее через много световых лет в самый центр враждебного бога. Собственно говоря, они сами же и создали это непостижимое оружие. Чтобы сплести столь плотные пучки энергии, им пришлось концентрировать материю в бесконечно малых частях пространства.
Отдельные порции материи — несколько фунтов воздуха или пыли — шли на изготовление более мелкого, но столь же страшного оружия. Когда же золотые боги, производя крупное оружие, пытались втиснуть двадцать пять фунтов материи в частицу меньше протона, побочным продуктом этой их деятельности явилось чудо.
Они, в сущности, создали целую вселенную, которая впоследствии будет наполнена звездными галактиками, — да не одну, а много вселенных. Ведь эти куски сконцентрированной энергоматерии — те, которые не превращались попросту в черные дыры, — начали расширяться с поразительной быстротой. Они, как золотые пузыри, раздувались все больше и больше. И каждый раз, когда один из бесконечно малых пузырьков удваивался в объеме, количество позитивной энергоматерии тоже удваивалось. Все эти удвоения происходили по экспоненте, с невероятной скоростью, производя страшные искривления в пространстве-времени. В триллионную долю триллионной доли секунды один из пузырьков отделялся от реального пространства и становился зачатком отдельной вселенной.
Затем начались взрывы, тысячи и тысячи взрывов, порождающих огонь и свет. Порождающих жизнь. Ведь каждая вселенная, расширяясь, создавала свое пространство, свою материю и энергию, свои возможности будущего создания звездных галактик. Это было чудо созидания, чудо самой вселенной. Их вселенная — еще не вся вселенная, сказал Данло.
Взрыв, породивший их вселенную, произошел больше десяти миллиардов лет назад, но Вселенная — понятие вечное и бесконечное, как великий золотой круг без конца и начала.
И только в нашей вселенной так много Колец, так много возможностей. Кто бы мог подумать, что во вселенной столько возможностей?
В галактике Млечного Пути, сказал он, Твердь засеяла Кольцами миллион миров. Скоро Кольца начнут размножаться сами, пока в космосе не засияют миллиарды золотых сфер.
Когда-нибудь, в далеком-далеком будущем, Кольцо дойдет до других галактик — до конца вселенной, быть может. И все эти миллиарды миллиардов Колец будут рождать новые вселенные, как золотые стручки, пускающие семена по ветру.
Когда-нибудь в одной из этих вселенных какому-нибудь потенциальному богу вроде Ханумана удастся, возможно, преобразовать все звезды и темную материю во Вселенский Компьютер. Но войны, которые вызовет подобное событие, породят новые миллиарды миллиардов вселенных взамен одной погибшей. И во всех этих вселенных разовьются звезды, и планеты, и собственная жизнь. Все вселенные, сказал Данло, даже те неисчислимые триллионы, которые существуют наряду с нашей и которых мы видеть не можем, наполнены только одним: жизнью.
Ибо все существующее, даже огненная пыль Авендельской туманности, даже ледяная крупа, летящая Данло в лицо, — все существующее живо. Жизнь всегда накапливает в себе новую жизнь и становится все огромнее и сложнее. Живые существа создают ходы под снегом и песни, летящие к звездам, легкие корабли и мед, жемчуг, и стихи, и компьютеры, создающие собственные вселенные с особого рода жизнью. Жизнь клубится, пульсирует и складывается в прекрасные узоры на просторах космоса. Солнца и луны пылают диким огнем жизни, и фотоны пляшут в световых реках, струящихся от звезды к звезде. Жизнь, как бесконечный цветок, раскрывается в нашу вселенную и во все возможные вселенные, затрагивая всю материю, все пространство, все время своими золотыми лепестками и своим ароматом. Все становится глубже и глубже, ярче и ярче, как звезда, наливающаяся беспредельной яркости светом.
Да, да, да.
Вот что Данло рассказал Бардо под звездами, в тишине замерзшего моря. Мороз становился все более жестоким, и Бардо прижимался к Данло в поисках тепла. От Данло шел жар почти как от солнца; поразившись этому, Бардо потер руки и сказал:
— А тебе как будто совсем не холодно? Я-то прямо весь посинел. Лепесточек твоего бесконечного цветка замерзает и скоро погибнет, если мы не уберемся отсюда. Не пойти ли нам куда-нибудь, где подают кофе и вкусную горячую еду?
— Пойдем, если хочешь, — улыбнулся Данло и наклонил голову набок, вглядываясь в освещенный звездами морской лед. — Еще чуть-чуть, и пойдем.
Далеко с запада донесся слабый звук, которого он ждал почти всю свою жизнь: крик снежной совы, высокий, наводящий жуть, беспредельно дикий. Данло не мог даже надеяться, что услышит этот странный, но глубоко знакомый звук так близко от города: снежные совы уже тысячу лет не гнездились на острове Невернес. Но невидимая птица снова подала голос, и ей, что было совсем уж удивительно, откликнулась другая, гораздо ближе. Данло вскочил на ноги, глядя через песок и скалы на прибрежную рощу осколочника.
Там, вцепившись крепкими когтями в зеленую ветку, посылала в ночь свой зов сова-самка, лунный свет озарял ее белые перья и оранжевые, устремленные в море глаза. Данло тоже повернулся в ту сторону. Он вспомнил, что снежные совы спариваются в самую темную пору глубокой зимы; он смотрел в море вместе с прекрасной белой птицей на ветке, смотрел и ждал.
Агира, Агира, безмолвно взывал он к небу. Агира, Агира.
И Агира наконец ответил ему. На глазах у Бардо, неподвижного, как большой черный камень, и Данло, чье сердце билось по-птичьи быстро, большая сова-самец появилась из посеребренной лунами тьмы и повисла над морским льдом. С высоким, резким, полным жизни криком Агира, не обращая внимания на людей внизу, устремился к своей подруге и тихо сел на ветку с ней рядом. Обе совы смотрели друг на друга, и их золотисто-оранжевые глаза, как отражающие друг друга зеркала, горели свирепой любовью.
Данло, Данло.
Самка вскоре снялась и полетела прочь — быть может, к своему гнезду в гуще леса. Самец задержался только на миг — и в этот момент, когда дыхание Данло клубилось белым паром, а планета медленно оборачивалась под звездами, он обернулся и посмотрел на Данло. Потом он внезапно раскрыл клюв и закричал, обращаясь к звездам, к морю, к ветру, а может быть, и к Данло, тихо стоящему в ночи. Это был крик победы и дикой радости жизни. В этом ужасном и прекрасном звуке заключалось все. Вот он, главный парадокс жизни, ее главная тайна, думал Данло, жизнь вечно стремится к бесконечным возможностям, однако все сущее в каждом отдельном моменте совершенно, завершено и уже достигло своего конца. Ведь в этой благословенной птице, одной-единственной, тоже заключено все. Все звезды всех когда-либо бывших вселенных пылают в ее оранжевых глазах, и все вселенные, которые еще будут, ждут, чтобы вылупиться из белых яиц, которые Скоро оплодотворит Агира. То же самое относится и к Данло, и к Бардо, и к каждой другой части творения Ничто, что когда-либо дышало воздухом мира, не было бесполезным, и ничья жизнь не пропала зря. Данло никогда не забудет страданий, омрачивших последние дни Джонатана, но всегда, закрывая глаза и вглядываясь в себя, будет видеть страшную красоту своего сына. Коли бы он мог вернуть Джонатана на этот холодный пустынный берег — Джонатана смеющегося, искрящегося жизнью, каким он всегда будет жить в памяти Данло и во времени, — Джонатан непременно сказал бы, что жить было хорошо. Прекрасная белая птица, второе “Я” Данло, подтверждала это, простирая свои изогнутые крылья и посылая в ночь свой крик. Ветер, дующий с моря, подхватывал этот крик и возносил его к звездным небесам. Ветер — это дикое белое дыхание мира; швыряя крупицы льда в обнаженное лицо Данло, он нес голоса Джонатана, и Старого Отца, и Катарины, и Ханумана, и всех деваки; голоса всех когда-либо бывших и всех, кто еще будет, сливались с голосом Агиры, крича: “Да, да, да”. А потом снежная сова снялась с ветки и улетела.
— Пошли, — сказал Данло, — я готов.
Он поднял Бардо на ноги и стал греть его пальцы своим дыханием. Сказав этим еще одно “да”, человек, наконец научившийся видеть, улыбнулся своему старому другу, и они вместе пошли к мерцающему под звездами городу.
Примечания
1
Псевдоним, под которым оккультист Алистер Кроули написал несколько книг мистического трактата “Телема”.
(обратно)
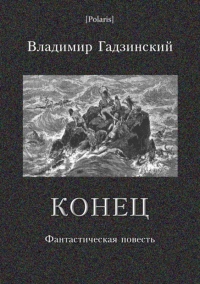



Комментарии к книге «Война в небесах», Виленская
Всего 0 комментариев