Екатерина Годвер Иволга будет летать
Часть первая
Полковнику Смирнову нравились настоящие бумажные карты, желтеющие от времени и потертые по сгибам. Несмотря на все недостатки и неудобство в использовании, было в них что-то надежное, весомое — потому в юности Смирнов собирал их и хранил в специальном чемодане вместе с древними железными монетами, а при возможности украшал ими обстановку. Но на Шатранге хороших бумажных карт не существовало: примитивным крокам коренного населения сразу пришли на смену цифровые карты колонистов.
Несколько таких было загружено в декоративную видеопанель, занимавшую в просторном кабинете полковника часть стены: весь Северный Шатранг, горная система Великого Хребта и анимированная схема планетарной системы местного солнца. На ней серо-бежевый шар Шатранга, второй по счету от звезды, казался не больше имбирного пряника; на границе системы кружила черная муха портала нуль-транспортировки. Если расширить схему в том же масштабе, секторальный центр Содружества — пересадочная станция «ТУР-5» — находился бы где-то за дверью кабинета, а Солнце и Земля — в сотнях километров, ближе к генштабу ВКС Шатранга, чем к подчиненной Смирнову колониальной базе «Дармын», о чем он, принимая решения и отправляя рапорты, не забывал себе напоминать. Как и о том, что Шатранг — не полноценный член Галактического Содружества, ежегодно вносящий в бюджет круглую сумму и наделенный за это определенными правами и гарантиями, а одна из десятка убыточных колоний, на которые Земля вот-вот махнет рукой. Но сегодня земное начальство в лице техинспектора Каляева само ступило за порог Смирновского кабинета, а видеопанель, обычно выключенная для экономии энергии, была подсоединена к рабочему компьютеру полковника и вместо карт отображала для инспектора запись с орбитального радара одновременно с наспех сделанной визуализацией аварии.
С момента катастрофы прошло около часа. Все случилось мгновенно: вертолет, словно уклоняясь от неожиданно возникшего по курсу препятствия, резко забрал на тридцать градусов к северу и нырнул вниз, слишком приблизившись к горной стене — и мощный горизонтальный поток опрокинул машину и швырнул на скалы. Обломки разметало по всему ущелью. Бортовой искин — экспериментальная навигационная система «Иволга» — на вызовы диспетчера не откликался. Датчик-пульсомер системы контроля состояния пилота погас в момент столкновения с землей.
«Твою мать. Как же так, Денис. — Поддавшись слабости, Смирнов на секунду закрыл глаза и незаметно ущипнул себя за запястье. Но ничего, конечно, не изменилось. — Твою же мать, как же так!»
— Несчастный случай? — ровным тоном спросил Каляев.
Смирнов невпопад подумал: осознает ли этот так некстати появившийся на базе человек, насколько двусмысленно звучат его слова, учитывая особенности воздушной навигации на Шатранге. И тут же понял: да, осознает, прекрасно осознает. Как и то, что Смирнов душу бы продал, лишь бы выставить его сейчас с Дармына.
Инспектора звали Михаил Викторович Каляев: так было написано в электронном удостоверении, представлявшем его как «заместителя начальника следственного отдела технической инспекции Содружества в Галактсекторе-5» и подтверждавшим его полномочия совать нос куда угодно, даже во внутренние дела подотчетной ВКС колониальной базы.
«Черт из табакерки, — зло подумал Смирнов, искоса взглянув на инспектора, пододвинувшего стул поближе к панели. — Натуральный черт без рогов».
При всем при этом, инспекция была неофициальной: Каляев прилетел один и первым делом попросил без нужды не афишировать его присутствие перед гражданскими властями. Сухопарый и остролицый, в идеально отглаженной и застегнутой на все пуговицы белой сорочке под старомодным, грязно-коричневого цвета пиджаком, с уложенной волосок к волоску жидкой шевелюрой, едва прикрывающей плешь на затылке — Смирнову он с первого взгляда не понравился. Из-за взвесей в воздухе почти все инопланетники пользовались на Шатранге носовыми дыхательными фильтрами, компактными, но, все же, немного меняющими профиль; однако у Каляева ничего подобного не было. Как предположил Смирнов, инспектор настолько желал изобразить из себя бывалого космического волка, что плевал на последствия — или, по моде галактических нуворишей, не пожалел денег на имплантацию новомодного бионического фильтра. Изображать радушие Смирнову давалось непросто, но, ему казалось — он справлялся и имел все основания надеяться на благополучное завершение инспекции, какова бы ни была ее истинная причина…
Но на второй день случилась авария.
Полковник Всеволод Яковлевич Смирнов давно уже разменял седьмой десяток лет по стандартному календарю. В прошлом командир отделения связи на космическом стратегическом бомбардировщике, с корабля он был списан в неполные сорок лет после превышения предельно допустимой нормы облучения. Но в почетную отставку Смирнов выйти тогда отказался — он хотел работать и сам просил у командования «какую-нибудь небестолковую» наземную должность. Ему не отказали; но перспективных мест на всех ветеранов не хватало — так что Смирнову, вместе с полковничьими звездами, досталась строящаяся колониальная база 91-А «Дармын» в предгорьях Великого Хребта Северного Шатранга: захолустье в захолустье, край мира. Восемьдесят процентов сотрудников Дармына оказались вольнонаемными гражданскими специалистами — учеными, инженерами, строителями. Прибывший на место Смирнов был растерян и зол; в первый год он совсем не знал, что делать, хватался за все подряд, путался, срывался. Но за четверть века он свыкся с этой работой, разобрался в управленческих и, насколько позволяло образование, в научных тонкостях и полюбил ее; полюбил Шатранг с вечно затянутым облаками небом и холодный Дармын, привязался к подчиненным. Погибший пилот был его сотрудником. Как и вдова пилота, которой полчаса назад он сообщил о произошедшем. Как и механики, готовившие машину к вылету. Как и главный инженер Дармына Игорь Белецкий, создатель бортового навигационного искина «Иволга», настроивший показ записи на видеопанели и бледной тенью выскользнувший из кабинета.
Белецкий отвечал за Иволгу; но Смирнов отвечал за все. Любая неудача кибернетиков была его, Смирнова, неудачей. А Каляев — его проблемой, и проблемой большей, чем могло показаться непосвященному наблюдателю.
Северный Шатранг был колонизирован евразийцами, преимущественно — ввиду непростого климата — русскими и скандинавами, тогда как на Южном Шатранге кто только базы не строил: но колонистов на обоих континентах терзала общая головная боль. Из-за загрязненной вулканическими выбросами неспокойной атмосферы планеты для полетов на Шатранге до недавнего времени использовались только неэкологичные, небезопасные, дорогие в эксплуатации бронированные «ТКТ» — трансконтинентальные грузопассажирские катера вертолетного типа. Из-за чего по мере развития колония погружалась все глубже и глубже в тяжелейший логистический кризис, в конце концов, гробовым камнем нависший над ее будущим. Нацеленный на разрешение проблемы проект «ИАН» — «Интуитивный Алгоритм Навигации» — был козырной картой Дармына и, в то же время, его слабым местом. Смирнов подозревал, что «ИАН» и экспериментальные искины с самого начала были мишенью инспекторского интереса: догадка эта тревожила полковника почти столь же сильно, как сама авария. Проект был чрезвычайно важен, но небесспорен, и потому очень уязвим…. «Иволга», бортовой искин, обладала мощным эмоциональным модулем и развитой личностью, более совершенной, чем даже у искина-предшественника, «Волхва» — а такое конструкторское решение, как и насколько бы оно ни было с практической точки зрения обосновано, вряд ли могло найти у бюрократов Содружества понимание. Пусть даже начало проекту когда-то положил сам знаменитый-и-заслуженный академик Олег Леонидович Володин: тот давно уже был где-то на другом конце галактики, занимался совсем другими проблемами, и если и помнил о своем детище, то все равно вряд ли стал бы тратить время на то, чтобы за него вступиться.
Иволга являлась личностью в полном смысле слова. Она обладала не только разумом — эмоциями, чувствами, даже эмпатией, позволявшей понимать состояние собеседника, и была частью маленького социума Дармына. Смирнов в общих чертах знал ее устройство и потратил немало времени на общение с ней, и все равно иногда ловил себя на мысли, что не может даже сам для себя объяснить, что же такое Иволга. Сеть наземных метеостанций, помогавшая искину делать свое дело и заодно облегчившая полеты катеров, была полностью готова. Иволгу — пока единственную в своем роде — на специально переработанном под нее высотном вертолете СП-79, лучшей машине из тех, покупку и доработку которых мог выдержать скудный бюджет Дармына, уже подточенный за предыдущие годы переоборудованием СП-45 для нескольких модификаций Волхва. Искин без малейших нареканий отработал почти весь испытательный срок, и вскоре модель должна была пойти в серию: наконец-то удалось получить значительные дотации от правительства и найти дополнительных спонсоров. В химлаборатории на другой стороне Великого Хребта уже приготовлен был субстрат для кристаллов кибермозга следующей «Иволги», уже заказал поставщикам материалы и запчасти для постройки новых СП-79 единственный на весь Северный Шартанг авиазавод. Уже был готов приказ о зачислении шести пилотов в группу переподготовки, уже разработана была конструкция самолета, подходящего для полетов с «ИАН»…
Теперь все это откладывалось на неопределенный срок. В лучшем случае, просто откладывалось.
— Технические неполадки?.. Ошибка пилотирования?.. — Каляев, тем временем, желал комментариев. — Какой-то неучтенный фактор?..
— Все возможно, — буркнул Смирнов. — Расследование покажет.
— Пилот?..
— Погиб.
— Понимаю и соболезную, Всеволод Яковлевич, — вкрадчиво сказал Каляев, — но спрашиваю не о том.
Смирнову послышался в его словах отголосок искреннего сочувствия, и от того почему-то сделалось особенно мерзко.
— Пилот — Денис Александрович Абрамцев, — раздраженно сказал Смирнов и вывел на монитор фотографию. Высокий, атлетического сложения мужчина, чье красивое лицо чуть портили плотно сжатые тонкие губы и тяжелый подбородок, стоял у трапа выкрашенного в желтый цвет вертолета. В черных волосах летчика еще не было заметно седины; взгляд был направлен мимо камеры, в зубах дымилась сигарета на длинном мундштуке: вся поза чем-то неуловимым выдавала недовольство. Это был последний фотопортрет Дениса Абрамцева, сделанный десять дней назад для местной газеты.
— Возраст — сорок один стандартный год, летчик-испытатель первого класса, в прошлом пилот гражданского воздушного флота, — продолжил Смирнов. — Землянин, евразиец. На Земле в основном пилотировал суборбитальные катера «Лейгун-3» и «Лейгун-4», но имел опыт работы и с высотными вертолетами. На Шатранге служил по гражданскому договору. Одиннадцать лет принимал участие в проекте «ИАН», сперва в роли технического консультанта, затем должности первого испытателя и командира эскадрильи. Пилотировал трансконтинентальные транспортные катера «ТКТ», вертолет СП-45 «Волхв» во всех модификациях и СП-79 «Иволга». К моменту заключения договора уже имел два «белых крыла», третье получил уже здесь, на Шатранге. За успешную посадку горящего пассажирского катера.
— Денис был женат, — продолжил Смирнов, дождавшись, пока собеседник скорчит подобающую уважительную мину. — Детей в браке не было. Супруга — Валентина Владимировна Абрамцева, уроженка Шатранга и так же сотрудница Дармына. Магистерскую диссертацию защитила по социальной антропологии, но вскоре после знакомства с Абрамцевым подключилась к работе над проектом «ИАН»: в настоящее время Валентина — старший научный сотрудник лаборатории киберсоциметрии. С начальством и сослуживцами Абрамцев конфликтов не имел. Характеристики в личном деле исключительно положительные, и я готов подписаться под каждой: целеустремленный, ответственный, мужественный, опытный профессионал. Ошибка с его стороны маловероятна. Однако маневр в последние секунды перед катастрофой странный… — Смирнов прокашлялся. — В свою очередь, навигационная система «Иволга» тоже исключительно надежна: за год испытаний не было зафиксировано ни одного существенного сбоя. Потому пока совершенно ничего неясно. Давайте воздержимся от предположений хотя бы до первых данных расследования, Михаил Викторович. Операция по эвакуации обломков и останков пилота уже начата. Телеметрии от Иволги не поступает, но наши инженеры надеются, что защитный кожух выдержал нагрузку и кибермозг не получил критических повреждений.
Каляев сокрушенно покачал головой.
— Недоговариваете, Всеволод Яковлевич. До прибытия сюда я ознакомился с информацией о некоторых из ваших сотрудников. Денис Абрамцев, без сомнения, был способным пилотом. Но его группа годности — 2-Б. — Каляев взглянул Смирнову в глаза. — Надо полагать, именно по этой причине к службе в ВКС он был признан непригодным и начал карьеру в гражданском воздушном флоте, а здесь работал по гражданскому договору… Так что же с Абрамцевым не так?
— Формальность. Для всех, кроме Абрамцева и военных бюрократов. И проверяющих вроде вас, — не сдержался и добавил Смирнов. — У него четыре пальца на левой руке… было. Врожденная аномалия, какие отмечались еще в доатомную эру.
— И что же? — Каляев удивленно приподнял бровь.
— На свою беду, Абрамцев родился на Земле в регионе, прежде не пригодном к заселению, с высокой остаточной радиацией после локального терраформирования. Поэтому безобидный дефект в медицинской карте обозначен как «мутация вследствие перинатального облучения», а это форма 2-Б, и ни буквой выше. Он со своими девятью пальцами превосходно играл на рояле, но кого это волновало?
— Вы были дружны с Абрамцевым?
— Нет. Но я изучил его личное дело подробно, — сказал Смирнов. — И подробно расспросил его самого, перед тем, как предложить ему должность. В техинспекции подходят к подбору сотрудников иначе?
— А что скажете насчет Иволги? — В ответ на пику Каляев перешел в наступление. — Мне известно, что она — не совсем обычный искин, Всеволод Яковлевич. ИАН — не лишенный рационального зерна, но авантюрный, сырой проект, который ваши сотрудники по своей инициативе продолжили в отсутствие главного разработчика! Если желаете знать мое мнение, Володин — гениальный ученый, но его намерение наделить искусственный интеллект личностью было недостаточно взвешенным. А ваше решение дать зеленый свет подобной авантюре попросту безответственно! Учитывая все практические риски, моральные и правовые коллизии… Впрочем, — тон Каляева чуть смягчился, — это мое частное мнение. Расследование покажет. — Он кривовато усмехнулся. — Так что Иволга, Всеволод Яковлевич? Насколько далеко простирается ее свобода?
— То есть, вы хотите знать, не могла ли машина устроить диверсию? — Смирнов усмехнулся в ответ. Теперь, когда игра пошла в открытую, он сразу почувствовал себя свободнее. — Подобное невозможно. Система имеет ограничительный программный код, не допускающий нанесение вреда человеку, и отвечает всем требованиям безопасности. Белецкий и его сотрудники тщательно проработали этот вопрос.
Каляев скорчил недоверчивую мину. Смирнов с неудовольствием подумал, что в сомнениях инспектора в компетенции инженера ничего удивительного нет — Игорь Белецкий, чудаковатый и всегда теряющийся перед начальством человек с манерами рассеянного студента, мало кому внушал доверие с первого взгляда. Нормальной работе это не мешало, но с откомандированными на Дармын проверяющими бывали сложности и раньше. Ограничительный код в Иволге, хоть и «соответствовал всем требованиям» по заключению комиссии авианадзора планеты, тоже использовался не совсем обычный — но об этом, по мнению Смирнова, инспектору знать было совсем необязательно.
— Я слышал, — сказал Каляев, — предыдущая модель, Волхв, была выведена из эксплуатации после того, как заблокировала исполнение приказа пилота-человека. Это ли не диверсия?
— Это была программная ошибка в модуле обучения, связанная с недостаточной интенсивностью положительного подкрепления послушания. При конструировании Иволги она была учтена и исправлена, — отчеканил Смирнов официальную формулировку, скрывая внутреннее замешательство. В меру своих возможностей он старался вникать во все, происходящее на Дармыне: по образованию военный инженер, он неплохо разбирался в компьютерном «железе» и простых нейросетях — но кибербионика и концепции эволюционного и модернизированного байесовского обучения оставались для него темным лесом. Как, впрочем, и матмодели тектоников, и многоступенчатые прогнозы метеорологов, и многое другое. Смирнов тщательно подходил к набору сотрудников и привык верить им на слово, но каждый раз, вынужденный утверждать что-то за пределами своей компетенции, чувствовал себя не в своей тарелке.
— Повторюсь: Иволга год — год! — отлетала без аварий, — сказал Смирнов. — Это очень надежная система; лучшая из существующих на сегодняшний день. Осмелюсь спросить, Михаил Викторович — Вы отдаете себе отчет, сколько труда и средств, сколько надежды в нее вложено? Что она значит для планеты? Иволга должна летать!
— Осмелюсь спросить и я: вы отдаете себе отчет, что в ходе реализации экспериментальной программы в рамках вашего проекта только что произошло ЧП с человеческими жертвами?! — резко сказал Каляев, подавшись вперед. Впервые за два дня инспектор вышел из себя; появилось в его голосе что-то такое, отчего Смирнов на миг почувствовал себя проштрафившимся новобранцем. — Я обязан немедленно доложить на ТУР-5 в секторальное управление, чтобы сюда прислали следственную комиссию. Но не стану этого делать, потому как не хочу терять время и надеюсь на ваше, Всеволод Яковлевич, благоразумие. — Каляев с присвистом выдохнул и снова откинулся на спинку стула. — Произошло ЧП. Погиб человек. Вы, как и я, заинтересованы в скорейшем объективном расследовании; нам обоим не нужна огласка и нужна истина. Нам следует быть союзниками, а не противниками.
— Да. Простите за резкость: нервы. — Через силу Смирнов заставил себя подать ему руку. Каким бы неприятным типом ни был Каляев, сейчас он был прав. Конкретные научные программы, как бы они не были важны, де-юре мало касались командира базы: прежде всего Смирнов отвечал за благополучие сотрудников. Объективное расследование — все, что сейчас должно было его волновать.
— Пока нам остается только ждать, пока горноспасатели поднимут обломки и доставят на базу останки погибшего пилота и искин. — Смирнов подавил вздох. — Хотите взглянуть на лабораторию, где будут вестись восстановительные работы?
На предложение провести его в святая святых лаборатории кибернетиков Каляев отреагировал благодушным кивком.
Выбираясь из-за стола, Смирнов подумал, что постарел. Уставная форма, которую пришлось нацепить из-за приезда инспектора, стала тесна, компактный лучемет в кобуре на поясе неприятно давил на бедро. По настоянию врачей Смирнов предпочитал традиционным блюдам белковые заменители, но Каляев, вопреки пресному виду, оказался гурманом. Сообщение о ЧП пришло прямо во время совместного обеда, и теперь от шатрангских деликатесов — или от нервного напряжения? — Смирнова мучила изжога; болели колени. Хотелось отправиться домой, принять таблетку и лечь, поручив Каляева заботам заместителя.
Но это было бы неправильно. Как сказал бы Каляев, «безответственно».
— Тогда, идемте. — Преодолев секундную слабость, Смирнов распахнул перед Каляевым дверь. — Я сам проведу вас.
Взгляд его упал на монитор с открытой фотографией Абрамцева; погибший летчик смотрел недовольно и недобро, с вызовом, и Смирнов почувствовал легкий укор совести.
Не все так просто и ясно было с Абрамцевым, как он расписывал Каляеву, но совсем не из-за группы годности.
Денис Абрамцев был замечательным пилотом, почти идеальным сотрудником, но далеко не идеальным человеком: жестким, прямолинейным, требовательным, безжалостным к любым человеческим недостаткам, невнимательным к чужим нуждам. За рамками служебных инструкций с ним непросто было иметь дело, и Смирнов чувствовал себя неловко, сознавая, что сожалеет о гибели летчика меньше, чем тот, по справедливости, заслуживал.
* * *
Тишина в коридорах Дармына казалась Смирнову зловещей. По лицам немногих сотрудников, попадавшихся на пути в научный корпус, было понятно: новость о том, что на Хан-Араке разбился Абрамцев, уже разошлась по всей базе. Каляев шел на полшага позади; в своих безвкусных, до блеска начищенных туфлях он ступал неслышно, как кот. Смирнов время от времени вынужден был оборачиваться, чтобы проверить — не отстал ли он, и каждый раз, вопреки голосу разума, испытывал разочарование, обнаруживая инспектора рядом, все такого же аккуратного и прилизанного. Этот черт был не из тех, что могут сами собой исчезнуть, провалившись в породившую их бюрократическую преисподнюю — но, все же, Смирнову хотелось на что-то такое надеяться; на что именно, он и сам не понимал толком.
Желая немного оттянуть продолжение неприятного разговора и собраться с мыслями, он повел инспектора длинным путем, через стеклянную галерею над зимним садом, где земные пальмы склоняли листья к желтым кактусам с Южного Шартанга, а пушистый лишайник, когда-то привезенный Абрамцевым с Великого Хребта, взбирался по камням у пруда с разноцветными карпами. На выходе из галереи, на балконе с видом на сад, находился маленький кафетерий для сотрудников.
Обычно в послеобеденные часы в нем не было свободных мест, но сегодня оказался занят только один столик. В углу, у самого края балкона, пили кофе трое: женщина и двое мужчин. Женщина, заметив Смирнова, приветствовала его вымученной улыбкой. Главный инженер Дармына Игорь Белецкий ссутулился еще больше и уткнулся в чашку; астенично сложенный, с быстрыми нервными движениями — несмотря на седину на висках и высокий рост, рядом с соседом он выглядел подростком. Тот, крепкий мужчина средних лет в расстегнутой у горла куртке с шитыми «крыльями» на воротнике, встал и размашисто, по-штатски, отдал честь.
— Всеволод Яковлевич! — Его лицо, обрамленное коротко остриженной шкиперской бородой, имело слишком крупные, несимметричные, но располагающие к себе черты. Говорил он грубоватым басом.
Расслышав в приветствии просьбу, Смирнов подошел.
— Слава. Сядь.
— Всеволод Яковлевич. — Садиться летчик не стал. — Разрешите участвовать в эвакуации.
Смирнов вздохнул.
— Слава, Валя, позвольте вам представить: Михаил Викторович Каляев, техинспектор. — Он обернулся к Каляеву. — Михаил Викторович, с Игорем вы уже знакомы. А этот нетерпеливый молодой человек — Вячеслав Витальевич Давыдов, второй испытатель на проекте «ИАН», — представил Смирнов мужчину-летчика, хотя вряд ли, учитывая интерес Каляева к проекту и его осведомленность, в том была необходимость. — И Валентина Владимировна Абрамцева, — Смирнов указал взглядом на женщину. — Старший научный сотрудник лаборатории киберсоциометрии.
Каляев, до того беззастенчиво разглядывавший ее, вздрогнул и смутился. Но тут же принял подобающе скорбный вид.
— Валентина Владимировна. Мои соболезнования.
— Спасибо, — подобающе вежливо откликнулась Абрамцева. Ее светлые, по плечи, волосы были небрежно заколоты на затылке. Одета она была просто, в форменные бежево-серые брюки свободного кроя, какие носили большинство сотрудников базы, и длинную рубашку из некрашеного льна, скупо расшитую у ворота черным бисером; однако этот рабочий, почти мальчишеский наряд ей шел. Черты землянина-отца, когда-то строившего первый на Дармыне аэродром, и матери-аборигенки, хрупкой женщины с гор, причудливым образом смешивались в ее облике, оставляя ощущение какой-то неправильности, но не отталкивающей, а, скорее, притягательной. Шатрангский год был всего на девяносто стандартных часов короче земного; к своему тридцать второму дню рождения Абрамцева оставалась очень хороша собой и обычно держалась одинаково доброжелательно и любезно со всеми. Но посчитавший такую непритязательную доброжелательность подлинным свойством ее натуры допустил бы серьезную ошибку. С людьми посторонними Абрамцева проявляла вовне только те чувства, какие считала нужным, и в этом умении с ней мало кто мог сравниться.
Но росла и училась Абрамцева в школе-интернате при Дармыне, так что Смирнов небезосновательно считал себя для нее человеком не вполне посторонним. Когда час назад, отделавшись ненадолго от Каляева, он спустился к ней в лабораторию, чтобы лично сообщить о смерти мужа — на миг самообладание изменило ей, приоткрыв импульсивное недоверие, сожаление, горечь, но, прежде всего другого — безмерное удивление. Смирнов понимал и разделял это чувство: не в ней одной — во многих, и в нем тоже — до сегодняшнего дня глубоко внутри жила уверенность, что в воздухе Абрамцев способен справиться абсолютно с чем угодно.
«Что же там случилось, Денис?» — Смирнов встретился с Абрамцевой взглядом, но тут же отвернулся, боясь выразить больше, чем следовало бы. Абрамцева держалась спокойно, разве что, была чуть бледнее обычного. К чести своей, она не пыталась казаться убитой горем вдовой: Смирнов знал, что тепло из их с Денисом отношений ушло уже давно. Обычно они друг друга едва замечали. Но по-своему муж оставался ей дорог, она уважала его и сожалела о его гибели. Как и давний товарищ Абрамцева по летной практике на Земле, хороший пилот и хороший парень Слава Давыдов.
А прочее его, полковника Смирнова, не касалось. Даже если оно и было в действительности, это «прочее», в чем Смирнов, зная обоих, сомневался.
Давыдов казался встревоженным и угрюмо морщил лоб — что ему, по характеру человеку пессимистичному и склонному к сомнениям, вообще было свойственно и отпечаталось на его лице сеткой привычных морщин, из-за чего он выглядел старше своего возраста. В действительности, ему только недавно исполнилось тридцать семь — но сейчас можно было бы дать все пятьдесят. Белецкий выглядел еще хуже: на инженере буквально лица не было. Игорь Белецкий восхищался Абрамцевым и был с ним, в каком-то роде, дружен, нередко бывал у Абрамцева в гостях, хотя тот, с высоты полета Иволги, считал кибернетиков кем-то вроде обслуги — но Белецкий таких тонкостей не замечал или не хотел замечать; отношения с людьми он строить не умел — зато в разумных машинах разбирался настолько, насколько, возможно, не разбирался даже его знаменитый учитель и бывший руководитель, академик Володин. Основы проекта достались Белецкому от Володина «в наследство», но Иволгу и предшествовавшего ей Волхва он по праву считал своими детищами, и тут с его стороны крылось большее, нежели обычная конструкторская гордость — он переживал за искина, как за живого человека. В первые годы полетов ранних модификаций Волхва аварии случались нередко, было и несколько смертельных случаев, и каждый раз инженер делался сам не свой — но этот удар перекрыл по силе все прочие. Гибель Абрамцева и беспокойство за Иволгу совершенно выбили инженера из колеи; на него было просто жутко смотреть. Он, вероятно, считал, что сидит в кафетерии, чтобы помочь Валентине справиться с первым шоком, но, как предполагал Смирнов, на самом деле все было наоборот: это Абрамцева и Давыдов вытащили его из лаборатории и отпаивали кофе, чтобы он не надумывал себе лишнего. «Хочешь помочь себе — помоги другому»: Валентина Абрамцева была мудрой женщиной.
— Всеволод Яковлевич, — напомнил о себе Давыдов — Разрешите провести эвакуацию на Волхве. Это значительно ускорит дело.
Удивляться его настойчивости не приходилось; если бы Смирнов не велел секретарю отклонять все вызовы, кроме срочных, просьба наверняка последовала бы еще раньше. В отношении некоторых вещей второй испытатель был катастрофически недогадлив.
— Разве Волхв не выведен из эксплуатации из-за ошибок в работе модуля обучения? — немедленно влез Каляев.
— Эксплуатация навигационного искина Волхв приостановлена, — с нажимом сказал Смирнов. — Но при необходимости может быть возобновлена: производство второй Иволги и переоборудование под нее СП-45 было признано нецелесообразным по финансовым соображением, так что система с вертолета не была демонтирована. О чем Вячеславу, как второму испытателю и замкомэску, конечно, известно. — Смирнов сердито взглянул на Давыдова. — Подготовь докладную с обоснованием целесообразности твоей инициативы, Слава, с учетом всех инцидентов и обстоятельств: я рассмотрю.
— Понял. Сделаю. — Летчик наконец-то сел.
— Обе нештатные ситуации с Волхвом, после которых было принято решение о приостановке эксплуатации, произошли в дежурство Абрамцева, — неохотно объяснил для Каляева Смирнов. — У Вячеслава с машиной больше взаимопонимания.
— Взаимопонимания с машиной?! — Брови Каляева поползли вверх.
Белецкий дернулся, собираясь что-то ответить. Смирнов поспешил вмешаться:
— Лучше с ней контакт. Игорь! — рявкнул он на инженера. — Мы идем на стенды, после — в твою лабораторию. Проследи, чтобы там был порядок.
— Д-да, к-конечно. — От стресса инженер начал заикаться сильнее обычного.
Едва не опрокинув чашку себе на колени, он ушел. Абрамцева молча прихлебывала кофе, стараясь не слишком задерживать взгляд на Давыдове.
Обменявшись с летчиком парой незначащих фраз, поспешил уйти, уводя Каляева, и Смирнов.
— Похоже, не все гладко складывалось в личной жизни Дениса Абрамцева. — сказал Каляев, едва они отошли на два десятка шагов. — Он знал?
— Личная жизнь сотрудников базы меня не касается, — отрезал Смирнов.
— И все же: он знал? Или, возможно, мог узнать перед вылетом?
Смирнов резко остановился.
— К чему вы клоните?!
— Я всего лишь пытаюсь разобраться в ситуации, — Каляев поднял руку в примирительном жесте. — В которой пока, говоря вашими же словами, совершенно ничего неясно.
— Ваше право. И все же, просил бы вас быть аккуратней с гипотезами, — раздраженно бросил Смирнов прежде, чем двинуться дальше. Грохот его шагов разносился по всему коридору.
Каляев, пожав плечами, поспешил следом.
Валентина Абрамцева проводила Смирнова и вышагивавшего рядом с ним инспектора взглядом; затем повернулась к Давыдову:
— Весь Дармын уже знает об аварии. Сбор материалов для расследования уже начался. Но мне все еще не верится…
— Мне тоже, — тихо, почти шепотом ответил ей Давыдов.
— Что теперь будет, Слава? С проектом, с нами… со всеми нами здесь.
— Хотел бы я знать. — Он сжал под столом ее пальцы; она ответила на пожатие. — Бедный Дэн. Бедный Игорь. И Смирнов. Каляев этот… Как он тебе?
— Непонятный тип. На безобидного бумагомараку не похож.
— Пожалуй.
— Такому палец в рот не клади — не откусит, так дактилоскопию сделает. — Взгляд Абрамцевой сделался задумчивым. — Потом надо будет разузнать о нем. Наш дядя Сева не промах, но этот Каляев его, если захочет, с потрохами сожрет… Чует мое сердце, гибель Дениса не последняя наша беда. Что-то очень скверное происходит, Слава.
Он кивнул, соглашаясь, и сжал ее руку крепче.
* * *
Три дня спустя Валентина Абрамцева водила Каляева по планетарному музею.
Пятьдесят лет назад географы совместно с антропологами и техниками поставили первую экспозицию в поврежденном землетрясением ангаре. С тех пор новые поколения сотрудников поддерживали, дополняли и совершенствовали ее. Миниатюрные ландшафты Северного Шатранга издали выглядели почти настоящими: по глиняным руслам рек бежала вода, пластиковые вулканы Великого Хребта выбрасывали пепел и подкрашенный пар, от которого набухали «облака» из синтетической ваты: они ползли по низким балкам вдоль потолка и закрывали собой лампу-«солнце», защищая землю от слишком жесткого излучения: серо-коричневые, угрюмые, плотные.
В настоящем небе на малых воздушных судах они разрушали в короткий срок даже очень хорошо защищенные двигатели. На равнинах большой объем грузовых и пассажирских перевозок обеспечивал автотранспорт и железные дороги, по которым непрерывно курсировали скоростные поезда; так же снабжались и высокие, в среднем около полтора тысяч метров над уровнем моря, но обширные и обладающие сглаженным рельефом предгорные районы, как тот, в центре которого располагался Дармын. Но две проблемы, и обе — крайне значимые, были таким путем неразрешимы: трансфер через Великий Хребет, разделявший Северный материк Шатранга на две части, и грузообмен с высокогорными добывающими предприятиями и связанными с ними научными станциями. На высотах в три-четыре тысячи располагались шахты, где наемные работники из горцев и немногочисленные шахтеры-колонисты, способные полностью акклиматизироваться на такой высоте, добывали главный экспортный ресурс Шатранга — джантерит: минерал, необходимый для производства покрытия внутренних камер нуль-транспортных порталов. Ввиду дороговизны и сложности космического строительства таких порталов создавалось на каждую планетарную систему не больше двух-трех штук, однако они были огромны и нуждались в постоянном обновлении, так что и джантерита требовалось порядочно. Когда на заре эры космической экспансии была открыта возможность космической нуль-транспортировки, все ожидали, что вскоре появится и технология создания планетарных порталов. Но этого — как и многих других ожидаемых открытий — так и не произошло, так что проблема логистики стояла перед человечеством в целом весьма остро; однако на Шатранге она приобрела воистину ужасающий размах.
В эру нуль-пространственных переходов, суборбитальных челноков и галактических крейсеров о значении простых машин, самолетов, кораблей почти никто уже не задумывался — настолько жителям развитых миров они были привычны; невозможность быстро переместиться или переправить груз из одной точки планеты в другую казалась фантастической, необходимость организации производства в непосредственной близости от сырьевой базы представлялась нелепой и невозможной — отдельные высокотехнологичные материалы могли поставляться с разных континентов и даже с разных планет. Почти все заселенные миры имели достаточные запасы урана и тория, чтобы не беспокоиться о невозможности перемещения ядерного топлива и его компонентов через нуль-порталы, и с успехом обеспечивали свои транспортные потребности сами; Шатранг был одним из немногочисленных исключений. Поскольку первоначально колонизационные стройки закладывались «как обычно», практически без учета особенностей местной логистики, дела в первые полвека колонизации шли плачевно. Но человечество училось на своих ошибках: постепенно колония росла и крепла, училась перебиваться углеводородами и ветряными электростанциями.
Раз в несколько минут гудение генераторов, подпитывавших экспозиции в музейном ангаре, усиливалось. Тогда кратеры вулканов окрашивались красным, по поверхности морей пробегали волны, содрогались рассекавшие землю сети железных дорог и электросетей. Фигурки людей оборачивались к зрителю; они были совсем малы, но проработаны настолько детально, что лица — встревоженные, вопрошающие, безразличные — врезались в память. Напуганная девочка во дворе школы; бригада рабочих у покореженного железнодорожного полотна; двое геологов в кабинке канатной дороги над пропастью; рассерженный генерал, прогуливающийся у автомобиля с задранным капотом; рабочие-горняки с кислородными баллонами, собравшиеся у входа в шахту; охотники у костра; горноспасатели со скрытыми противоснежными очками лицами — настороженные, собранные…
Это был не музей — произведение искусства, созданное, скорее, со скуки и для развлечения, чем с какой-либо иной целью, но вся история колонизации Шатранга и сегодняшняя жизнь планеты отражалась в нем. Летопись нелегкой борьбы, проб и ошибок, обидных поражений и редких, драгоценных удач…
Впрочем, она мало волновала Каляева, хоть он и слушал с приличествующим ситуации любопытством и даже задавал вопросы. Его интересовали Иволга, Абрамцев и авария; все остальное было только поводом, чего он особо и не скрывал.
— Это Хан-Арак? Вот Баранья гряда, а ущелье Трех Пик здесь, да? — спросил он, приглядываясь к пластиковым вершинам.
— У вас хорошая память, — с оттенком уважения в голосе сказала Абрамцева. Опознать на экспозиции маленькое ущелье, единожды увидев его на карте, было совсем непросто.
Каляев, как несложно было заметить, чувствовал себя довольно-таки неловко и не понимал, как лучше держаться в разговоре. Очевидно, ему совсем не хотелось показаться грубияном — но еще меньше хотелось остаться в дураках, помалкивая из обходительности.
— Валентина Владимировна, я спрошу прямо: что вы думаете об аварии? — решился, наконец, он.
— Горы не любят птиц, — с едва заметной усмешкой сказала Абрамцева.
Это горское присловье уже было ему знакомо, и оно ему, конечно, не нравилась.
— Вы что же, верите во всякую мистическую дребедень?! — Каляев, прежде не допускавший подобной мысли, изумился неподдельно.
— Еще недавно я верила в мастерство Дениса и непогрешимость «Иволги»: эту веру не так-то просто утратить. — Абрамцева искоса взглянула на Каляева. — Что для вас, Михаил Викторович — дребедень, здесь, у нас — жизнь. Ее философия, если угодно, — добавила она, заметив, что Каляев не понял иносказания и готов начать спорить. — Моя мать знала, что летающие ящеры вымерли столетия назад и нет никакого Белого Дракона. Но, все же, каждый раз, когда отцу приходилось отправляться в горы, она заставляла его надевать амулет… Драконий зуб, так у нас его называют. Потом его стала носить и я. — Абрамцева тронула отворот куртки, куда обычно крепился «зуб». На Шатранге стояла поздняя осень, и в музейном ангаре было прохладно. — Понимаете?
— Суеверия коренных народов выше моего понимания, — проворчал Каляев. — Впервые в жизни это меня огорчает. Так что же, по-Вашему, самолет съел дракон?
— Я такого не говорила. Но не возьмусь утверждать и обратного, — без тени улыбки сказала Абрамцева.
Каляев неодобрительно покачал головой, но нашел в себе силы промолчать.
Загудели генераторы, и маленькие фигурки шатрангцев обернулись в его сторону; в их лицах ему на миг почудилась угроза, заставив рассердиться на самого себя: вот так наслушаешься баек и сам сделаешься суеверным дураком.
— Суеверие — форма протонаучного знания, — будто подслушав его мысли, подлила масла в огонь Абрамцева. — Первая, наивная попытка обобщения человечеством эмпирического опыта. Из суеверий на заре времен родилась религия, но от них же позднее пошла и наука. Ошибкой было бы относиться к ним легкомысленно.
— Вырастая, ребенок оставляет погремушки в детской, — возразил Каляев.
— Справедливо. Но что вы видите вокруг? — Абрамцева развела руками над пластиковым ландшафтом; ближайший гейзер выпустил облако пара — и, вместе с ним, несколько мыльных пузырей. — Шатранг — молодой мир, полный загадок, неизвестности, неопределенности. На Земле это детская забава, но здесь мы не нашли лучшей модели для одного из интереснейших — и досаднейших — местных феноменов. Символично, вам так не кажется?
— Ну да, — хмыкнул Каляев. — «Дыхание дракона», или как там ваши метеорологи зовут эти штуки?
Вдвоем они проводили стайку пузырей взглядом. Окруженные едва видимой с земли радужной оболочкой шарообразные газовые облака, возникавшие после извержений малых гейзеров, мигрировали в воздухе на сотни километров и особенно часто наблюдались на воздушных трассах, буквально «атаковали» машины, нередко становясь причиной аварий. При этом, скудные данные с беспилотных метеозондов до сих пор не дали возможности объяснить, что же «дыхание» собой представляет.
— До моих ушей доходили разговоры о «небелковой жизни» и других подобных неподтвержденных теориях, — сказал Каляев. Отказ от снисходительно-пренебрежительного тона дался ему непросто. — По-вашему, в этом есть зерно истины?
— Сомневаюсь, — с сожалением признала Абрамцева. — Но специалисты продолжают наблюдения.
— В надежде на чудо?
— На новые методы исследования. На удачу. И на чудо тоже.
Каляев начал говорить что-то о вреде магического мышления. Абрамцева его почти не слушала: на макете ущелья Трех Пик она вдруг разглядела деталь, которой не замечала прежде: на самом дне, среди серых скал из-под снега торчал драконий скелет.
— Если правильно смотреть, всегда можно увидеть нечто новое, — рассеяно пробормотала она. На Хан-Араке должен был два часа назад приземлиться катер Давыдова; оттого совпадение показалось ей особенно жутким.
— Не будет ли бестактным пригласить вас продолжить этот разговор за чашкой кофе? — прервал ее размышления Каляев.
— Ничуть. — Абрамцева улыбнулась, вновь овладев собой. — Экскурсию можно считать завершенной?
— Если вы не возражаете.
Каляев, которому музейный ангар уже порядком надоел, быстрым шагом направился к выходу. Большой разноцветный пузырь лопнул, коснувшись его плеча; Каляев не заметил его, но на пиджаке остался мыльный след.
Абрамцева задержалась, чтобы отключить подачу энергии на экспозицию и догнала инспектора уже у дверей ангара.
Снаружи холодный порывистый ветер раскручивал декоративный флюгер на крыше и наполнял конусы ветроуказателей у кромки летного поля.
— Вы наверняка объездили половину галактики, и, кажется, она успела вам наскучить, — сказала Абрамцева. — Каковы они, другие планеты?
— А вы никогда не покидали Шатранг? — ответил Каляев вопросом на вопрос.
— Даже на орбиту не поднималась: Денис обещал, но… как-то не сложилось, — с запинкой закончила Абрамцева. — Конечно, есть библиотека Географического общества: сенсорные фильмы, видеохроника, книги — но это все не то. Они слишком формальны.
— А что же «то»?
— Человек. Который смотрит, делает снимки, пишет, запоминает. — Она улыбнулась. — Слава пытался рассказывать мне о Земле и других планетах: он наблюдателен — но, к сожалению, рассказчик из него обычно неважный, хотя иногда… — Она замолчала, досадуя на промашку.
Каляев обозначил в уголках рта понимающую улыбку — он, разумеется, заметил, что она упомянула не мужа, и заметил, что она заметила; и намерено дал ей это понять.
— Вы всегда столь бесцеремонны? — со вздохом спросила Абрамцева.
— Только когда этого требует дело. И когда не вижу в этом особого вреда. — Улыбка с лица Каляева исчезла. — Позвольте на чистоту: гибель Дениса Александровича потрясла и расстроила вас, безо всякого сомнения — у меня и в мыслях нет обвинить вас в черствости или чем-то подобном. Но на ваше лицо не легла «тень Дракона», как тут говорят. Вы снимите траурные цвета так скоро, как позволят приличия. И вряд ли мои расспросы могут ранить вас.
— Возможно. — Она пожала плечами, не отрицая и не соглашаясь.
— Расскажите об Абрамцеве.
— Я восхищалась им.
— Вы прожили с ним десять лет — и это все, что вы можете сказать? — Каляев открыл перед ней дверь научного корпуса и посторонился, пропуская ее вперед.
— Это все, что я хочу сказать. — Абрамцева взглянула на него с насмешкой. — Но в нашем случае это одно и то же.
* * *
Вечерело; в административном корпусе полковник Смирнов в своем кабинете включил свет.
Третий день кряду, едва удавалось на время отделаться от Каляева, Смирнов запирался у себя и просматривал старые отчеты о технических испытаниях и психосоциальных экспериментах с Иволгой. С неудовольствием он вынужден был признать, что Каляев заразил его сомнениями — которые не рассеивались несмотря на то, что он не находил для них объективных оснований.
Не было их.
И все-таки он не позволил Давыдову вывести из ангара Волхва, а теперь беспокоился, как тот управится в горах с неповоротливым устаревшим катером, и сердился на себя за это подспудное недоверие. Всего в эскадрилье базы Дармын несло службу шестеро летчиков — трое штатных пилотов ВКС, трое гражданских; и еще столько же каждые полгода приезжало на стажировку. Эскадрилья Дармына на бумаге называлась научно-техническим подразделением; должность первого испытателя в «ИАН» и комэска девять лет как занимал Абрамцев. Давыдов, тоже гражданский специалист, после появления на базе быстро стал «номером вторым», что, к некоторому удивлению Смирнова, среди офицеров базы не вызвало недовольства. Наоборот, даже пошли разговоры, что «первого» и «второго» неплохо было бы поменять местами: Давыдова коллеги уважали и любили.
Но сам он, когда Смирнов наполовину в шутку, наполовину всерьез заговорил с ним об этом, только посмеялся: «Наибольшей любовью в коллективе пользуется повар: так, может, его в ваше кресло усадить, Всеволод Яковлевич?»
«Всеволод Яковлевич бы не отказался. Да только кто ж ему разрешит». — Смирнов потер слезящиеся с недосыпа глаза. Его грызла тревога.
* * *
Давыдов стоял на смотровой площадке научной станции Хан-Арак на западном отроге Великого Хребта Шатранга. Пропасть глубиной в двести тридцать метров притягивала взгляд; невысокие перила из деревянных балок не казались от нее достаточной защитой.
«Отчего так?» — Давыдов не без труда поборол желание отойти, на всякий случай, назад: из кабины далекая земля выглядела привычно и никогда не вызывала желания свалить машину в штопор. Но в горах высота пугала и манила.
Особенно здесь, на Хан-Араке; на горском наречии — в драконьем гнезде. Но летающие ящеры вымерли много столетий назад, не оставив после себя ничего, кроме белых костей, которые находили иногда в расселинах, и дальних родичей — серокрылых стрижей-невидимок, орлов Габрева и других птиц, чья численность медленно сокращалась. «Горы не любят птиц», говорили горцы, вкладывая в эти слова намного больше, чем мог понять землянин; но в последние годы они все чаще прямо подразумевали под птицами катера и вертолеты колонистов. Жители западного отрога Хребта поклонялись духу Белого Дракона, оставляли подношения снежным призракам, страшились поступи ледяных великанов и злобных проказ подземных карликов, и мало верили в науку, разъяснявшую природу оптических иллюзий, причины схода лавин и переменчивой активности гейзеров.
Стояла холодная для первой половины осени погода: температура держалась ниже нуля по Цельсию, с неба валил серый, густо сдобренный пеплом снег; за его пеленой смутно угадывались очертания скал на другой стороне пропасти. Снегопад то усиливался, то чуть стихал, отчего видимость становилась лучше и скалы словно приближались — безмолвные, грозные чудовища. Глядя на них, Давыдов думал: здесь, в этом суровом и диком мире, где Великий Хребет плюется паром и пеплом в вечно пасмурное небо, ледяные великаны и подземные карлики намного ближе человеку, чем разведзонды и сейсмодатчики. Пейзажи Хребта напоминали Давыдову старинный черно-белый видеофильм о южном полюсе Земли: одну из немногих сохранившихся кинолент, снятых в те времена, когда таяние льдов еще только начиналось. Иногда Давыдов чувствовал сожаление, что не родился на три столетия раньше, чтобы успеть увидеть Антарктику своими глазами. Человечество обрушилось на нее всей своей мощью, уничтожило ледяные горы, изменило самый южный материк Земли до неузнаваемости и приспособило под свои нужды…
Но Шатранг оказался норовистой планетой. Иногда мысль об этом радовала Давыдова; но не сейчас. С момента аварии прошло три дня: это были три плохих дня, и следующие не обещали стать лучше.
Он привез на станцию груз расходников и продуктов взамен тех, что сгорели вместе с Иволгой Абрамцева, а назад должен был забрать половину последней партии джантерита, и, кроме нее, останки машины и пилота — те, что удалось за короткий срок найти и спустить к станции спасателям. Однако буквально все шло наперекосяк: портилась погода, ломались автопогрузчики. Взрыв Иволги вызвал обвал и сход нескольких лавин, забравший жизни двоих горцев-охотников. По некоторым предположениям, могли быть и неявные последствия — произошедший обвал мог нарушить локальное геодинамическое равновесие и изменить обычное распределение снега в горной системе. Белый Дракон сердился на глупых людей с ручными железными птицами и мог рассердиться еще сильнее — но то, что эксплуатация старого катера в таких условиях может спровоцировать новые несчастья, Каляев не понял или не захотел понять. А Смирнов посчитал неразумным идти на конфронтацию и действовать без учета его мнения, и даже велел составить ускоренный график поставок на случай, если небо для искинов останется закрытым на продолжительный срок: в зимний период и ранней весной катера в горы не летали. До появления Волхва и Иволги работа замирала на всем протяжении Великого Хребта почти на пять месяцев. Без подвоза взрывчатки, батарей и кислородных баллонов останавливалась добыча в шахтах: работники просто пересиживали нелетный сезон на сброшенных в конце осени продуктовых запасов. Такой разрыв в экспорте джантерита проделывал в бюджете планеты критическую прореху: генштаб ВКС Шатранга и органы авианадзора готовы были бесконечно закрывать глаза на недостатки и особенности проекта ИАН ради возможности ее заткнуть. Как показала зима прошедшего года, одна Иволга успешно справлялась с обеспечением всем необходимым пяти шахт и связанных с ними станций, а Волхв мог взять на себя еще три.
Но катер — ни одной, насколько бы умелым ни был пилот. На катере без крайней необходимости зимой в горы не совался даже Абрамцев.
Запищал коммуникатор. Давыдов нажал кнопку приема.
— Выгрузка закончена, — протрещал наушник голосом старшего смены.
— Хорошо, — равнодушно отозвался Давыдов. — Начинайте погрузку. Можете не спешить.
Из-за погоды спасатели до сих пор не спустили последние обломки к станции, так что торопиться было некуда. Вылет откладывался и откладывался; перспектива ночевать на станции совсем не добавляла радости.
Обычно на время погрузки-выгрузки Давыдов оставался в кабине: на месте отдавал распоряжения, болтал со скучающим искином и операторами механических погрузчиков. Но сегодня старая машина и суета на посадочной площадке слишком напоминала ему о Земле. О времени, когда он летал вторым пилотом на допотопных транспортных самолетах, а Денис Абрамцев был командиром экипажа. О земных, белых облаках и белом снеге…
Угрюмые небеса низко нависали над горами, скрывая вершины Хребта. Шатранг был прекрасен и безжалостен, слеп к людским надеждам и слабостям, нетерпим к ошибкам. Эта планета идеально подходила Абрамцеву, или, вернее сказать, Абрамцев подходил ей.
«Что же могло случиться?» — Давыдов на шаг отступил от края пропасти. Дурные предчувствия ворочались в груди; ему не хотелось искушать судьбу.
Скрипучий голос раздался совсем рядом, заставив его вздрогнуть:
— День мертвых. Тяжелый день.
— Да. — Давыдов обернулся. Позади стоял старый горец; Давыдов припомнил его имя — Нуршалах: командир отряда спасателей, майор Ош ан-Хоба, приходился ему сыном.
«Днем мертвых» у народа Хан-Арака — у «детей Дракона», как они сами себя называли — считался четвертый день со дня смерти, в который справляли поминальные обряды. Давыдов внимательно взглянул на старика, ожидая, что тот скажет: горцы редко затевали разговор просто так, от скуки — но и переходить сразу к делу считалось у них дурным тоном.
На обветренном лице Нуршалаха ан-Хоба читалось беспокойство: опытный взгляд старика через притихший снегопад ощупывал Баранью гряду, возвышавшуюся на северо-востоке. Ближайший к станции пологий склон, поросший редким лесом, выглядел неопасно, а боковые склоны тем более не угрожали ей — но над лесом гора уходила круто вверх, и снега там, под самой вершиной, скапливалось предостаточно. За столетье наблюдений он никогда не сходил весь целиком, да и лавинный сезон еще не начался — но осень выдалась необыкновенно снежная, оттепели перемежались с обильными снегопадами. Выглядели горы угрожающе.
— Дракон сердится, — сказал старик; он хорошо говорил по-русски, почти без ошибок. — Он зол, как муж, что каждый вечер находит в супе овечью шерсть. Он ест и ест, но наступит час, когда терпение его лопнет. Будут еще тяжелые дни. Дурные дни.
Давыдов промолчал. Ему и прежде случалось говорить с живущими при станции стариками: он знал, что те всегда щедры на плохие прогнозы — но этот имел все шансы сбыться.
— Все чужаки неразумны, как дети. — На лице старого горца проступила странная полуулыбка. — Но вы желаете нам добра. Вы сделали много добра, ты и твой друг. Мы сожалеем о его смерти.
— Я был ему плохим другом, — пробормотал Давыдов. — Но спасибо за твои слова, Нушалах-ан.
— Твоего друга забрал Дракон. Отнимать у Дракона добычу — к беде, но таков ваш обычай, — продолжил старик, чуть помолчав. — Ош, мой сын, пришел в мир как сын Дракона, но стал одним из вас. Многие молодые хотят быть, как вы, и мы, старики, не смеем винить их за это. Они служат вашему закону и соблюдают ваши обычаи: Ош забрал у Дракона останки твоего друга и везет сюда.
— Я знаю, он выходил на связь со мной час назад. — Давыдов показал на коммуникатор. — Скоро его работа будет закончена и он вернется сюда.
Старик кивнул.
— Мне говорили, Ош хороший работник.
— Отличный, — с улыбкой сказал Давыдов. Майор-спасатель нравился ему; они были неплохо знакомы.
— Он тоже хорошо отзывался о тебе, Вячеслав. — Старик с трудом выговорил непривычное имя. — Хабен и Арбу тоже уважали тебя.
Так звали погибших охотников; Давыдов невольно отвел взгляд.
— Я сожалею об их смерти. И мои товарищи. И командующий нашей базы внизу, полковник Смирнов — в почте есть диск с его видеообращением. — Давыдов заставил себя снова взглянуть старику в глаза. — Я мало знал Арбу и Хабена, но наши короткие встречи доставляли мне удовольствие. Я буду помнить их.
— У каждого в Драконьем Гнезде найдутся слова для Арбу и Хабена; и для тебя у многих нашлись бы слова, долгих тебе лет. Но твой друг был не таков, как ты. — Старик помолчал. — Мы уважали его силу и храбрость — но ни у кого из нас нет для него достаточно слов; мы знали его меньше, чем мало, потому как он вовсе не хотел нас знать. Таков уж он был. Но это против обычая — провожать молчанием. Идем со мной; справим день мертвых, как полагается.
Давыдову оказалось непросто не показать изумления.
— Мне лестно твое приглашение, Нуршалах-ан. — В этом Давыдов ничуть не покривил душой. — Но разве оно — не против обычая? Я — чужак. Чужакам не место на обрядах детей Дракона.
— Мой сын Ош, сын Дракона, справляет ваш обряд, потому за нашим столом ты сегодня можешь занять его место. — Улыбка на лице старика была похожа на трещину. Ирония ситуации доставляла ему несомненное удовольствие; по земным меркам, странное и не вполне уместное — но на Шатранге от земной мерки было мало проку: это Давыдов понял еще в свой первый год на планете.
— Что ж. Раз ты считаешь мое присутствие возможным, я с благодарностью принимаю твое предложение, Нуршалах-ан. Веди. — Давыдов, бросив последний взгляд на пропасть, пошел за стариком к станции. Чего бы тот ни хотел на самом деле — приглашение было не из числа тех, от которых можно было отказаться, не нанеся большой обиды.
До появления колонистов народы высокогорья жили в разрозненных деревеньках на четыре-пять домов. Но после колонизации жизнь стала стягиваться к новым средоточиям тепла и пищи — шахтерским поселкам и научным станциям, где можно было получить помощь, обогреться, поглазеть на чудеса техники и заработать: рук всегда не хватало. За полвека между горцами и землянами образовался своеобразный симбиоз, которым обе стороны — с некоторыми оговорками — дорожили. Ближайшая к станции Хан-Арак горская деревня, где проживало три десятка человек, находилась от нее в получасе пешего пути, образуя неправильный треугольник со станцией и рабочем поселком при шахте. Некоторые шатрангцы — в основном, одинокие старики и те, чьи близкие работали с колонистами или служили в спасотряде, — жили прямо на станции: для них был даже построен отдельный домик.
Именно к нему направился Нуршалах ан-Хоба. Давыдову прежде приходилось бывать внутри, но лишь в главной комнате, где жильцы ели и принимали гостей; теперь же старик провел его в заднюю часть дома и оттуда — на чердак.
— Промеж земли и неба. Так положено, — объяснил старик почему-то шепотом.
Давыдов молча шел за ним. «Тайные собрания» на чердаках напоминали о детстве; но сейчас все происходило всерьез — и от этого делалось не по себе.
Чердачное помещение было разделено на две части перегородкой, но и половина оказалась достаточно просторна. На лавках за длинным столом сидело десять человек горцев: кроме стариков, было несколько молодых мужчин и женщин. Горели жировые свечи, в воздухе от курительных трубок и подожженных ароматических трав клубился дым: запах стоял густой, чуть сладковатый. Вдоль стен висели бараньи и козьи черепа.
— Прежде к поминальному столу приводили жертвенного зверя, — свистящий шепот Нуршалаха навевал жуть. — Мы говорили, он слушал, пока старейший не отпускал его на вечные луга. Там зверя встречали ушедшие: он говорил с ними за нас, повторял им наши слова, а здесь женщины коптили мясо в дыму травы хас-но, и мы утоляли печаль прощальной трапезой. Но вы, чужаки, принесли перемены. — Старик пристально взглянул на Давыдова. — Все меньше хорошего зверя в наших горах. И лестницы ваши узки и хрупки — сюда не провести зверя.
Давыдов сдержанно улыбнулся, скрывая замешательство.
— Поэтому ты привел меня, Нуршалах-ан?
Старик засмеялся, а следом и другие горцы. Мрачная торжественность немного развеялась.
— Время идет: человек сменяет человека, обычай сменяет обычай. — Нуршалах ан-Хоба провел Давыдова к свободному месту за столом и сам сел рядом. — Мой дед верил, что мертвый козел сможет говорить с его дедом, но никогда не усомнился бы в том, что железная птица не может летать. Теперь все наоборот.
Над столом прошуршал одобрительный шепоток.
— Некоторые из нас тоскуют по прежним временам, и на то есть причины, — продолжил старик, — но когда мне было столько лет, сколько сейчас моему внуку, моя мать варила нам суп из старых отцовых рукавиц; потом кончились и они. Трое моих маленьких братьев и половина всех детей в деревне умерли, а взрослые мужчины обратились в зверей и рвали друг друга, как звери. Сейчас железные птицы привозят нам мягкое мясо в железных банках: у него дурной вкус, но его хватает, чтобы всем наестся досыта: только глупец, не знавший голода, скажет, что это не имеет значения. Ты друг детям Дракона, Вячеслав. Сегодня ты один из нас.
— Для меня это честь. — Давыдов обвел взглядом собравшихся за столом людей. Все они смотрели на него, но в то же время — мимо: все же он оставался чужаком, был лишним здесь, хоть никто и не считал его лишним. Это была одна из тех особенностей общества шатрангского высокогорья, о которых бестолку было задумываться, пока сам не выучишься думать, как горец.
«Валя бы все поняла: а я не могу…» — Давыдов втянул носом дым от пододвинутой стариком курильницы. Абрамцева бы и поняла, и объяснила — как уроженка Шатранга и как бывший антрополог. Но она осталась на Дармыне наводить мосты с инспектором Каляевым. Давыдов с сожалением подумал, что вряд ли с ней удастся увидеться раньше следующего вечера.
Первым слово взял высокий седой старик, сидевший по левую руку от Нуршалаха; он говорил на гортанном горском наречии об Арбу Упорном и Хабене Храбром, тружениках и охотниках; затем слово взял молодой охотник со вплетенными в косы черными лентами, и настал черед Арбу Веселого и Хабена Удачливого, весельчаков и балагуров; слова языка детей Дракона беспорядочно мешались в его речи с русскими. Следующей заговорила старуха, которой Арбу приходился племянником.
Дым щекотал ноздри.
Давыдов слушал, пытаясь придумать, что же сказать ему. Слушал и вспоминал…
Он родился в центре Евразии, в городе, где древнюю каменную крепость зажали в кольцо громадины небоскребов, а по окраинам еще ютились малоэтажные коробки трущоб; из-за промышленного загрязнения снег там, случалось, ложился того же оттенка, что на Шатранге. В юношескую летную школу Давыдов поступать не собирался: пошел вместе с другом, за компанию. Друга после первых экзаменов отчислили, а он втянулся, увлекся. Но в академию ВКС, к огорчению инструкторов, не пошел, выбрал гражданское училище: его не привлекали сверхзвуковые скорости, сверхтяжелые бомбы и дальний космос — он хотел летать на Земле. К тому же ради академии нужно было уезжать за тридевять земель, а училище находилось в соседнем городе. Там, в студенческом турклубе, он впервые встретился с Абрамцевым — в то время уже без пяти минут выпускником.
Денис Абрамцев не был, в обычном понимании, заносчив или высокомерен — открыто он не выказывал окружающим своего пренебрежения, даже если испытывал что-то подобное. Но вольно или невольно он распространял вокруг себя какое-то смутное чувство превосходства, особенно неприятное для многих тем, что оно соответствовало действительности. Другие завидовали его успехам у женщин: Абрамцев был красив и умел себя подать, когда хотел; даже его изуродованную врожденной мутацией четырехпалую руку — которой он, втайне ото всех, стеснялся — девушки считали милой «пикантной» особенностью. Но Давыдов был далек от того, чтобы чувствовать зависть: недостатка в способностях или внимании он никогда не испытывал, но звезд с неба хватать не пытался, потому без лукавства признал за новым знакомым старшинство и первенство. А со временем проникся и некоторой симпатией: несмотря на всю тяжесть характера, Абрамцев был не лишен своеобразного обаяния. После выпуска Давыдов рад был попасть к нему в экипаж. Абрамцев был ошеломляюще хорош во всем, что делал; только с людьми у него не ладилось. Впрочем, казалось, это его устраивало.
На Земле Абрамцева ничего не держало: когда карьера застопорилась, он охотно принял предложение вступить вольнонаемным в экспедиционный корпус и отправиться осваивать отдаленные колонии; просто подписал контракт и через неделю улетел, коротко попрощавшись с Давыдовом и парой товарищей, отношения с которыми с горем пополам можно было назвать приятельскими.
Как и когда в точности Абрамцева занесло на Шатранг, Давыдов не знал: Абрамцев не рассказывал. Ходили слухи, что это назначение было своего рода ссылкой после конфликта с командованием. Шутка ли — направить подающего большие надежды пилота в маленькую отсталую колонию, где полеты напоминали пинг-понг бронированными железными шариками, и, казалось бы, не было в обозримом будущем никаких перспектив?
Сам Давыдов о том, чтобы надолго покинуть Солнечную систему, никогда не задумывался, но отлетав без малого двадцать лет, тоже оказался приписан к экспедиционному корпусу. После смерти родителей и тяжелого развода с женой одиночество вдруг навалилось горой на плечи: захотелось перемены обстановки, новизны, риска… Он должен был прибыть в далекую планетарную систему, освоение которой только начиналось, как инструктор по технике земного типа. Но вмешался случай: в коридорах секторального галактического центра — пересадочной станции ТУР-5 — он в буквальном смысле столкнулся с Абрамцевым, прилетевшим в составе Шатрангской делегации просить у сектора новый кредит.
На тот момент Абрамцев уже носил на лацкане высшую планетарную награду, считался одним из лучших пилотов Шатранга и потому, несмотря на свой «сложный характер», имел немалый авторитет. Давыдов был рад встретить старого знакомого, и вдвойне рад видеть кого-то, кто был рад видеть его — Абрамцев же был, как ни удивительно, рад. Время и Шатранг как будто сделали его мягче: внешне он мало изменился — и это за четырнадцать лет! — но жесткий напор во взгляде уступил место какой-то мрачноватой задумчивости. Пока пили горький анабасский бренди в тесном станционном ресторанчике, Абрамцев с необычной для себя многословностью рассказывал о проекте по созданию ИАН, о Дармыне, Великом Хребте и Шатранге. А под конец второй бутылки позвал Давыдова в проект.
Утром после бессонной ночи Давыдов согласился.
Шатранг со слов Абрамцева выходил малоприятной планетой, но Давыдова заинтересовали необычные искины и привлекала перспектива снова поработать со старым товарищем. Абрамцев, переговорив с кем нужно, сразу же устроил его переназначение на Дармын к Смирнову. Через два месяца, прилетев вместе с возвращающейся домой делегацией, Давыдов впервые ступил на Шатранг.
В ту минуту он сомневался, что задержится надолго; однако вышло иначе.
Сперва Шатранг — странный, неприветливый, дикий — смущал все его чувства, но потом неприятие и ощущение тревожащей чужеродности почти исчезло; не последнюю роль в этом сыграла Валентина Абрамцева, на первых порах добровольно взявшая на себя роль гида и энциклопедического справочника. На станции Абрамцев ни разу не упомянул о том, что женился, а тонкое титановое кольцо он носил на четырехпалой руке, которую старался не держать на виду или прятал в перчатке — потому, впервые встретившись с Валентиной у Абрамцева дома, Давыдов был немало удивлен, чего не сумел от нее скрыть. Она, верно истолковав его замешательство, с досадой взглянула на мужа: но тот не заметил.
Переквалификация на местную технику не заняла много времени, и Давыдов подключился к работе. В противоположность Абрамцеву, он всегда легко сходился с коллегами: на Шатранге, где по службе приходилось контактировать с множеством самых разных людей, это очень упрощало жизнь. Ему легко удалось найти общий язык и с искинами. Волхв — скупой на слова, почти не выказывающий переживаемых эмоциональных состояний, всегда предпочитавший сухо-деловую манеру общения — неуловимо напоминал самого Абрамцева; Давыдов подозревал, что тот действительно послужил прототипом для закладывавшего основы будущей личности инженера, и не удивился, когда неприязнь между пилотом и искином в конечном счете перешла в открытый конфликт: двоим Абрамцевым в кабине оказалось тесно — иначе и быть не могло. Но еще задолго до того, как эксплуатацию Волхва приостановили, появилась «Иволга». Ее эмоциональный модуль был более совершенным, и личностные задатки были иные: на этот раз, Белецкий — о чем не говорилось явно, но что было для всех очевидно — взял за образец жену Абрамцева, с которой также был дружен.
Давыдов много времени проводил с Иволгой в лаборатории: обсуждал с ней логические парадоксы, рассказывал о своих ощущениях и мыслях и расспрашивал о том, как она воспринимает и переживает те или иные явления и события. Такое общение оказалось необычным и чрезвычайно интересным для него опытом.
Но Абрамцеву это все представлялось нелепым и смешным. Искин он «для краткости» иногда звал уменьшительно-ласкательно, Валей, а жену стал называть полным именем, Валентиной, не понимая, что тем самым обижает их обоих. Иволга была человечна, ужасающе человечна; настолько, что Давыдов отчасти разделял опасения инспектора Каляева и беспокоился — не могла ли она что-нибудь натворить. Но, кто-кто, а Абрамцев никогда не замечал в ней этой человечности, или, возможно, просто отказывал Иволге в ней. В Академии среди курсантов-мужчин всегда в ходу было сравнение самолетов с женщинами: им давали имена подруг и жен, ворчали на «бабий нрав», если машина капризничала в воздухе. Абрамцев же относился к тем немногим, для кого такие сравнения были немыслимы: машина для него всегда оставалась только лишь машиной — и точка. Иволга исключением не стала. Сильнее всего такое отношение обижало даже не искин, а его создателя, Игоря Белецкого — но Абрамцев не замечал и этого; возможно, потому, что попросту обращал на инженера мало внимания, хоть тот и был у них с Валентиной дома частым гостем. Абрамцев считал Белецкого чудаком, и, уважая его знания и ум, не уважал его самого. Любые недостатки в глазах Абрамцева были намного весомее достоинств; за формальным перечнем плюсов и минусов он плохо различал цельных, противоречивых, одновременно похожих и не похожих друг на друга людей. Иногда казалось — не из-за черствости характера, а от того, что попросту не знает, как и на что смотреть.
Давыдов вздрогнул, когда Нуршалах ан-Хоба легким тычком вывел его из задумчивости.
— Твоя очередь говорить, Вячеслав. — Старик вплотную пододвинул к нему курильницу.
Давыдов по привычке поднялся, но, почувствовав недоуменные взгляды, сел обратно на скамью. Неловко прокашлялся. Он так и не продумал заранее речь, но вдруг подумал, что здесь, на продымленном темном чердаке станционного домика, этого и не нужно.
— Я знал Дениса много лет. Он был землянином, как и я, — сказал Давыдов. — Мы всегда мало походили друг на друга, но учились в одних и тех же стенах, читали одни и те же книги, служили одним и тем же идеалам. Меткого стрелка вы, народ Дракона, зовете «орлиным глазом», потому как орел с высоты своего полета без труда может различить мышь, затаившуюся между камней. Мы, земляне, построили машины и научили их летать выше и быстрее орла, наделили их способностью пересчитать на шкуре мыши каждый волосок. Но человек, как бы высоко он не поднялся в воздух, каких бы высот ни добился в своем мастерстве, не обладает зоркостью птицы и точностью машины. Человек на спине орла не становится орлом; он слеп к тому, что происходит внизу, и слышит один лишь свист ветра в ушах. Однако кто вправе осудить его за это? — Давыдов обвел горцев взглядом, затем продолжил:
— Жизнь человека — борьба: в борьбе мы обретаем одно и теряем другое, и можем лишь надеемся на то, что путь не заведет в тупик, из которого не будет выхода, что мы не потеряем сами себя. Иногда случается и такое; иные называют это величайшим человеческим несчастьем, но кто вправе судить, что есть счастье, а что нет? И кто вправе сказать, что одно лишь счастье есть цель, к которой человеку должно стремиться? Я знаю лишь то, что Абрамцев был настоящим мастером. Раз за разом он сам задавал себе непомерную высоту — и покорял ее. Многому из того, что я умею — лучшему из того — я научился благодаря ему; половины наших успехов здесь, на высокогорье, без него бы не было. И мы доведем его дело, наше общее дело, до конца. — Давыдов перевел дыхание. — Может быть, не при нашей жизни, но результат будет достигнут. Шатранг из нищей колонии станет полноправным членом Содружества: дети ваших детей смогут выбирать дорогу, которой пойдут, из тысячи дорог — и однажды кто-то из них сам поднимет Иволгу в воздух. Кто-то отправится покорять океан, а кто-то ступит в рубку космолета-разведчика. Дэн казался черствым и равнодушным человеком, тем, кто не замечает других — но ради того, чтобы у них был этот выбор, он рисковал здесь жизнью и погиб. Не по приказу и не ради жалованья, не ради чьей-то сегодняшней сытости — ради будущего. И мы построим это будущее. Иволга будет летать! А затем мы добьемся и всего остального.
— Хорошие слова, — произнесла женщина, сидевшая напротив: Давыдов так и не сумел вспомнить ее имени. — Но горы не любят птиц.
— Может быть. Но это ничего не меняет. — Давыдов отвернулся; навалилась вдруг усталость.
Он говорил искренне, но теперь чувствовал себя неловко за апломб и пафос, за то, что вообще согласился «толкать речь» на этих необычных поминках. Если он когда-то и имел на то право, то давно его утратил. За то, что Абрамцев годами оставался слеп и глух к происходившему за спиной, ему следовало бы благодарить провидение — а не рассуждать, отчего так и почему…
К сожалению от потери товарища и друга примешивалась подспудная, гнилая радость от того, что теперь, без Абрамцева, многое лично для него делалось проще, делалось возможным; он ненавидел себя за такие мысли, но преодолеть в себе это страшное противоречие оказался неспособен.
Поминки заканчивались: шатрангцы говорили последние слова и по одному покидали чердак. Вскоре, кроме Давыдова, на чердаке остался только Нуршалах ан-Хоба; он был для горцев со станции за старейшину.
— Я немного знал летчика Дениса, — негромко произнес он, глядя прямо в глаза Давыдову, отчего у того по спине пробежали мурашки. — И вот что могу сказать. Я гордился бы таким сыном, но не пожелал бы такого мужа для своей дочери. Спасибо, что почтил наш обычай, Вячеслав.
Не дав возразить, старик резко встал из-за стола и, жестом повелев следовать за собой, стал спускаться вниз. Давыдову ничего не оставалось, кроме как последовать за ним.
Спустившись, старик отправился на кухню давать указания женщинам. Давыдов вышел на крыльцо. Он смотрел на горы, и ему казалось, горы тоже смотрят на него — внимательно и строго.
* * *
Абрамцева вместе с Каляевым вышла на посадочную платформу и через терминал вызвала электромобиль до поселка, где жило большинство старых сотрудников. Каляев остановился в маленькой гостинице для командировочных, расположенной прямо на территории Дармына, но вызвался в провожатые.
— Вы сегодня сама галантность, Миша, — с незлой насмешкой сказала Абрамцева. За два часа в кафетерии они почти перешли на «ты»: техинспектор со своей граничащей с бестактностью прямотой и категоричностью вызывал не только вполне понятное раздражение, но и какую-то иррациональную симпатию. От распитой на двоих бутылки вина его слегка развезло: он стал держаться проще и раскованней. Пикировки с ним доставляли удовольствие.
На ее «комплимент» Каляев рассмеялся.
— Стараюсь! Но вряд ли я могу надеяться соперничать с Давыдовым, — сказал он с шутливым сожалением в голосе. — Да полноте, будет вам! — Взмахом руки он отмел готовые сорваться с ее губ возмущенные возражения. — Я видел, как вы держитесь вместе. Нет, на базе о вас не судачат, если вас это беспокоит. Но я же не слепой. Замечать разные мелочи — моя профессия.
— В самом деле? — картинно удивилась Абрамцева. — А в удостоверении у вас указано, что вы инспектор по технической безопасности.
— Техникой управляют люди. — Каляев усмехнулся. — Напрямую или косвенно, но всегда — люди. Вот, например, — он указал на медленно подъезжающий беспилотный электромобиль, — «MobilCar S-500». Хорошая модель. Ее предельный срок службы по нормативам еще не вышел, но у вас на Шатранге коэффициент износа двигателей автотранспорта на открытой местности выше земного на 285 % — и тогда ее эксплуатация уже незаконна, и давно. Судя по звукам из-под капота этого экземпляра и тому, что он еле плетется, весь мыслимый запас прочности исчерпан: можно предположить, что в самое ближайшее время они у вас начнут ломаться одна за другой. Но в документации технопарка базы указано, что почти все S-500-е переоборудованы в платформы и используются только на вентилируемых складах для подвоза грузов. А те, что для пассажирских перевозок, новее и имеют малый пробег. По документам выходит, что все в порядке: мне не к чему придраться, если я не хочу состариться здесь, заглядывая в двигатель каждой колымаги. Но если мы с вами сейчас попадем в аварию — кто будет виноват? S-500-я? Конечно, нет. Я сам, закрывший на очевидную проблему глаза? Механики автопарка?
— Механики, выпустившие очевидно ненадежную машину в рейс, — ответила Абрамцева. — И те, кто оформлял подложные документы.
— Если случится трагедия, все причастные, включая меня, ответят за халатность в суде: но главного виновника нужно будет искать среди тех, кому выгодна авария и у кого есть возможность ее подстроить, Валя. — Каляев взглянул на нее без улыбки. — Моя или ваша гибель, отставка полковника Смирнова, тотальный отзыв S-500, чтобы продать колонии партию новых, но конструктивно неудачных S-550-х — все может быть целью. Чтобы выяснить, какова она — цель, в техинспекции и существует следственный отдел. Вы удивились бы, узнав, насколько часто причина аварии оказывается совсем не той, какая предполагалась первоначально; но пострадавшим часто уже мало проку от наших выводов… Так что лучше бы этому драндулету доехать до конечной станции, как полагается. — Каляев открыл перед Абрамцевой дверь и забрался в салон следом.
Абрамцева поежилась на сидении, хотя в салоне был включен подогрев. Впервые в жизни ей сделалось неуютно в электромобиле. Кольцом сжало горло беспокойство за Давыдова, все еще остававшегося на Хан-Араке. Ночные полеты на Иволге были почти так же безопасны, как и дневные — но не на старом катере.
— Вы ужасны, Миша, — со вздохом сказала Абрамцева. — Человек-кошмар: везде находите опасность.
— Я часто это слышу. Позволите личный вопрос?
— Вы задали их уже столько, что попытка спросить разрешение выглядит странно.
— Вы и Давыдов: как же так?
— Как — так?
— Вы хороший человек, Валя. Честный, хоть и есть в вас женская хитринка. И Давыдов ваш — хороший человек: у него поперек лба написано. Таких, как он, на заре атомной эры называли «правильными товарищами»: ответственный, надежный… Заметьте: говорю все это не в прошедшем времени. Я вас не осуждаю, не подумайте: просто пытаюсь разобраться. — Каляев взглянул в окно; электромобиль неспешно ехал через лес, и за стеклом в сумерках мелькали силуэты приземистых шатрангских елей. — Ваш покойный муж был Давыдову если не другом, то приятелем, ну и вам человеком не чужим; вы оба высоко ценили его, и все-таки…
Каляев замялся: ему не хотелось говорить прямо. В его голосе слышалась какая-то глубокая, по-детски искренняя грусть: быть может, поэтому Абрамцева с некоторым удивлением не обнаружила в себе желания вышвырнуть его из электромобиля.
— Думаю, вы и раньше замечали, Миша: хорошие люди нередко делают плохие вещи, — тихо ответила она.
— Замечал. Этот феномен порядком меня занимает.
— По долгу службы?
— И по долгу службы тоже; но не только. Простите, если это… слишком личное, — с запинкой извинился Каляев.
— Я антрополог, а последние годы занимаюсь киберсоциометрией и психологией, как вам известно, — сухо сказала Абрамцева. — Так что ваш вопрос относится к сфере моей профессиональной компетенции. Но, боюсь, моя позиция не встретит у вас понимания. Люди — не машины: у нас нет жестких алгоритмов оценки ситуации и принятия решений. Наши поступки часто спонтанны, иррациональны. Мы сплошь и рядом бываем противоречивы. Вас огорчает это?
— А вас — нет?
— Я десять лет прожила бок о бок с тем, кто считал совершенство таким же обыденным и обязательным, как утреннюю разминку. И видела, что это не принесло ему счастья.
— Но сделало высочайшего класса профессионалом.
— Профессионалом Дениса сделали выдающиеся способности и личные качества, — резко возразила Абрамцева. — Сила воли, упорство, талант. В какой-то мере, перфекционизм, помог ему их развить: но это не единственный и не лучший путь. Есть грань между развитием, самосовершенствованием и навязчивым желанием стать кем-то, кем не являешься, идеальной живой машиной, непогрешимым и безупречным сверхчеловеком. Эту грань вряд ли возможно выразить математически, однако она есть. Денис далеко за нее заступил; Давыдов подошел к ней вплотную, но вовремя остановился. Мы… мы не хорошие люди, Миша: мы обычные, — со вздохом сказала Абрамцева. Ей не хотелось оправдываться, но сложно оказалось и промолчать. — Давыдов — «правильный товарищ», как вы сказали, и максималист. Он настаивал, чтобы, как в присказке — тайное стало явным, а счастье — полным: того требовала его совесть. Теперь я думаю — может, он был прав… Но я убедила его не спешить: в конце концов, мы же не подростки, чтоб бросаться друг на друга, как в омут с головой. В браке с Денисом что было — то закончилось, и давно; о моем обществе он бы сожалеть не стал, но, Миша, он был такой человек, что развод все равно сильно бы уязвил его самолюбие. И люди стали бы судачить… Это помешало бы нормальной работе. Мы собирались дождаться завершения тестового этапа проекта, переговорить только с Абрамцевым и со Смирновым и уехать с планеты без лишнего шума. Так было бы лучше для всех. А я с детства мечтала увидеть что-нибудь, кроме шатрангских туч. И наконец-то встретила человека, который понимает меня и принимает это мое желание… пусть оно и противоречит многим правильным вещам. Я несовершенна, как любой живой человек; и это нормально.
— Ладно, оставим частности; это ваши с Давыдовым дела, — пробормотал Каляев, несколько смутившись от ее откровенности. — Но, позвольте: вы выставляете слабости человеческой психики если не как достоинства, то как нечто, оправданное эволюционно — в то время как это очевидный пережиток. Наше время требует однозначности, точности, контроля; наш век — век машин, век стандартизации.
В салоне стало тихо: электрокар остановился на площадке перед домом. Абрамцева опустила окно, чтобы впустить свежего воздуха, но выходить не стала.
— Нет, Миша. Это галактические чиновники сделали наш век веком стандартизации и вписывают в шаблон каждого человека, каждую цивилизацию, каждую планету! Как по мне, то и машинам не помешало бы иметь больше свободы; получить толику спонтанности. — Абрамцева с вызовом взглянула на Каляева. — Когда-то на Земле человечество отказалось от рабства, причем вопрос гуманности играл в этом вопросе не первостепенную роль: просто-напросто рабовладельческая общественно-экономическая модель была менее эффективна в сравнении с другими, более гибкими, оставляющими больше места для индивидуальности и инициативы. Это всегда казалось мне очень логичным. Правильным. — Абрамцева усмехнулась. — Для человека любые ограничения относительны, тогда как для машины — абсолютны; но это палка о двух концах. Если бы родители могли по-настоящему программировать своих детей — вы бы хотели жить в таком мире?
— Искины — не дети! — с горячностью возразил Каляев.
— Не дети. Но вы не ответили.
— «По-настоящему программировать» — что вы под этим подразумеваете?
— Абсолютизацию! Вот, например: вас, как и меня, в детстве учили не брать чужого без спроса. Но что, если бы этот запрет был формальной строчкой в вашем программном коде? Вы бы не смогли просто так даже подать кому-то оброненную вещь! Больше того: как разумное существо, вы как-то рационализировали бы для себя этот запрет. Он неизбежно исказил бы вашу картину мира. Многое строилось бы вокруг него: вполне возможно, он вынудил бы вас считать любые контакты с людьми нежелательными.
Каляев хмыкнул.
— Воспитание имеет мало общего с программированием: абсолютизация тут невозможна. Вы учите одному, а выучивается обучаемый совсем другому.
— Я бы не была уверена, что та же самая неприятность невозможна при обучении разумных машин, — сказала Абрамцева. — Позволю себе ответный «личный» вопрос, Миша: чем вас так пугает ИАН? Как инспектора — и как человека.
— Любая машина — инструмент, чье назначение — служить человеческим нуждам, — сказал Каляев. — Машина должна быть полностью подконтрольна человеку, механизм ее работы должен быть известен от и до — это аксиомы. Как техинспектора меня не может не беспокоить физическая безопасность людей, причастных к осуществлению проекта. В остальном же… — Каляев замолчал на секунду, подбирая слова. — Сложные машины удивительны, но их принципиальная предсказуемость и прозрачность контроля — лучшие их свойства. Homo Sapiens стоит на высшей ступени эволюции, но, очеловечивая машину, мы водружаем над собой механического бога. Представьте себе будущее, Валя! Возможно, наш механический бог будет справедливым, мудрым, умелым — но кем при нем станем мы? Заправщиками топлива, мойщиками стекол? Мальчиками на побегушках, протирающими пробирки за академиками с шестеренками в голове, как аспиранты за Володиным? Очеловечивание и дальнейшее развитие искинов приведет к нашей деградации как вида: вот что меня пугает. Люди не должны отдавать интеллектуальное первенство. Это приведет к катастрофе!
— Вы напрасно драматизируете, — после короткого раздумья сказала Абрамцева. — Допустим, взять Белецкого — он, если вы не знали, как раз бывший ученик Володина и он не протирает пробирки, а заменил Володина в ИАН и добился потрясающих результатов, построил Волхва и Иволгу. Но, при всем уважении к Игорю — вряд ли бы он сумел сделать все от начала и до конца сам, без осмысления и переосмысления володинских наработок. Кем бы ты ни был, пока ты в начале пути — всегда есть кто-то впереди тебя. Механический бог, буде он такой возникнет — не зло и не благо: это лишь новый путь развития. Человечество способно пройти по нему, не склонив головы.
— Ну да, Белецкий. — Каляев криво усмехнулся. — А суеверия — старый путь познания, и Белый Дракон с ними, со всеми скептиками и перестраховщиками: не сожрет, так подавится! Наверное, вы надеетесь, что шатрангское безумие заразно, Валя. Но у меня хороший иммунитет.
Абрамцева улыбнулась.
— Про новый путь развития — не мои слова: Дениса. Он всегда полагал наши искины таким же детищем прогресса, как любые другие современные машины, и ни минуты не беспокоился по поводу их гипотетического интеллектуального главенства. В кои-то веки я с ним согласна.
«И где сейчас Денис?» — читалось в глазах Каляева; но ему хватило такта оставить эту мысль при себе.
Он вылез из электромобиля и помог выйти Абрамцевой, с интересом оглядел двухэтажный домик, с виду ничем не отличавшийся от других на той же улице. Перед тем, как сесть обратно в машину, по-дружески протянул руку:
— Спасибо за откровенность и за разговор, Валя.
Она улыбнулась, пожав крепкую костлявую ладонь:
— Увидимся завтра.
Электромобиль укатил прочь.
Абрамцева дождалась, пока он скроется за поворотом, потом постояла еще немного на парковочной площадке. В поселке было пусто и тихо: все либо сидели по домам, либо, несмотря на поздний час, оставались на Дармыне. Над джантперерабатывающим заводом на горизонте облака переливались в лучах прожекторов от синего к серо-фиолетовому. На всем необъятном небосводе горел десяток крохотных и тусклых, едва различимых «звезд» — навигационных спутников с мощными отражателями, вращавшихся на низких орбитах.
Когда-то — незадолго до свадьбы — она подолгу рассматривала сделанные Абрамцевым с орбиты снимки звездного неба и придумывала названия созвездиям, на манер того, как люди это делали на Земле. Но сейчас те выдумки казались пошлой глупостью.
Абрамцева медленно, преодолевая неохоту, пошла к дому. Въедливый техинспектор был неважной таблеткой от одиночества, хотя бы ввиду длинного списка возможных побочных эффектов — и все же она на минуту пожалела, что не пригласила его зайти на чашку чая.
Простенький искин-«домовой» включил свет и приветствовал ее затейливой мелодией; он не был оборудован эмоциональным модулем или чем-то подобным.
— Надо будет попросить Игоря тебя доработать. — Вслух сказала Абрамцева, бросив сумку на тумбу и присоединяя портативный коммуникатор к домашней системе. — Хотя, тогда тебе здесь станет скучно. Может, лучше завести собаку, как думаешь? Или кота?
Искин мигал лампочками, ожидая указаний. Абрамцев любил собак и кошек, но считал, что они вносят в жизнь слишком много беспорядка. Поэтому у него дома никогда не было животных.
У Давыдова на Земле — он рассказывал — давно, в детстве жил пес, большой и лохматый сенбернар. Потом, когда он умер от старости, родители завели нового щенка, но тот скоро погиб под автомобилем, а Давыдов уехал из дома учиться — и ему стало не до зверья.
Дождавшись полной загрузки системы, Абрамцева сразу взялась за коммуникатор — но обычной спутниковой связи с Хан-Араком не было. Она попыталась вызвать Смирнова, у которого был доступ к военным каналам — но и тот оказался вне доступа: электронный секретарь просил перезвонить позже.
Выругавшись, Абрамцева набрала Белецкому, который собирался дежурить до полуночи. Сигнал проходил, но вызов никто не принимал: инженер по обыкновению забыл аппарат где-то у себя в кабинете, а сам ушел на стенды или к Смирнову.
— Да чтоб тебя Дракон! — Абрамцева прервала вызов и швырнула пальто мимо вешалки, несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться.
— Ваш чай остывает, — нарочито обиженным тоном произнес «домовой».
«Уже пятый раз», — подумала Абрамцева. — «Когда же я заранее вспомню изменить программу».
Эта программа была задана Денисом — сразу, как только кто-то из хозяев входит в дом, заварить чая; в дурном настроении он мог пить чай полулитровыми кружками, подливая в него бренди. Тогда как Абрамцева предпочитала кофе — и, если возвращалась первой, заваривала себе его сама, а искин по возвращении хозяина утилизировал остывшую порцию и готовил новую.
Но уже пятый вечер подряд Абрамцева шла на кухню — и ей тошно делалось от того, что надо выплеснуть еще горячий, приятно пахнущий чабрецом чай в раковину. Она брала кружку, на Абрамцевский манер подливала в нее бренди и устраивалась в гостиной перед головизором…
По главному каналу передавали региональные новости: коррупционный скандал в общественном совете, протесты экологов против эксплуатации катеров ТКТ-5. Про аварию Иволги не было ни слова — что, впрочем, означало лишь, что установленная Смирновым секретность пока держится. И что Каляев по-прежнему сохраняет инкогнито.
Абрамцева усмехнулась.
Пока общественники рвали друг другу глотки, неприметный человек, одно сообщение которого «куда надо» могло разом вышибить из кресел половину регионального правительства, пил с ней вино и делился опасениями о механическом боге — от этой мысли ее настроение чуть поднялось; но ненадолго. Она задумалась о том, куда и зачем Каляев отправился теперь — чутье подсказывало ей, что не отсыпаться не в гостиничный номер — и вновь пожалела о том, что не задержала его подольше.
Абрамцева пролистала каналы, остановилась на каком-то старом фильме и попыталась вникнуть в сюжет — но отдельные сцены рассыпались бисером с перетершейся нити; внутри росла и крепла тревога.
* * *
Пока Абрамцева тщетно пыталась развлечь себя головизором, Игорь Белецкий — в самом деле оставивший портативный коммуникатор в кабинете — расхаживал взад-вперед по галерее над зимним садом, соединявшей административный корпус с научным. Лицо инженера застыло, словно маска, губы были плотно сжаты, но руки будто жили своей жизнью: размашисто жестикулируя, он спорил с кем-то невидимым.
— Игорь Дмитриевич. — Каляев подошел к Белецкому со спины. — Что вы сделали?
Тот вздрогнул, обернулся; глаза его расширились, когда он узнал инспектора.
— Давайте начистоту, Игорь Дмитриевич. — Каляев заложил руки за спину. — Не будем делать вид, что вы не поняли вопроса: все вы поняли… Позвольте, я начну, а вы прервете меня, если я начну нести чепуху. — Он слегка улыбнулся. — Итак. Вы сами сейчас ни в чем не уверены, сомневаетесь в причинно-следственных связях. Поэтому не спите и не работаете, а мечетесь тут, жуете в мыслях жвачку. Незадолго до сегодняшнего дня вы сделали что-то с экспериментальным искином. Думаю, ничего серьезного или выходящего за рамки закона — но что-то, в чем вам неловко признаться, и что, как вы теперь подозреваете, может иметь отношение к причинам сегодняшней аварии. А может и не иметь. Вы не уверены, но уже назначили себя виноватым, и оттого у вас все валится из рук: вы даже прячетесь тут от полковника Смирнова… Или от Вали Абрамцевой? Скорее всего, от обоих. И от меня — но я, как видите, вас нашел. Так что вы сделали, Игорь Дмитриевич? Или, наоборот — не сделали?
Лицо инженера побелело, как полотно; он — теперь Каляев был полностью уверен — действительно умалчивал о чем-то, что считал важным. Чувство вины почти заставило его заговорить; но в последнее мгновение, когда он уже готов был открыть рот, лицо его вдруг страшно дернулось: какое-то новое, более весомое соображение посетило его голову.
— Идите к черту, — внятно, безо всякого, сказал Белецкий, развернулся и пошел по галерее прочь.
Каляев догнал его.
— Ваша лаборатория в другой стороне, Игорь Дмитриевич. А ваше признание может помочь и сбережет всем кучу нервных клеток. Прежде всего, вам же самому.
Белецкий закусил губу и ускорил шаг.
— Да постойте же вы, чудак-человек! — Каляев остановил его, ухватив за плечо, и развернул к себе. — Я не враг вам. Я не собираюсь засадить вас или вашего Всеволода Яковлевича в тюрьму. Просто помогите мне во всем разобраться.
— Какого дьявола здесь происходит!? — Зычный бас Смирнова прокатился по галерее: полковник появился в дверях перехода со стороны административного корпуса и, тяжело ступая, направился к ним. Белецкий выдернул руку и отшатнулся, вцепившись в перила галереи, как в спасательный круг.
— Каляев! Что вы себе позволяете?! — рявкнул Смирнов. — У нас режимный объект: в такой час никому, кроме дежурных, не позволено здесь находиться!
Каляев отступил назад и смиренно улыбнулся.
— Простите, Всеволод Яковлевич. Заплутал. И как раз спрашивал у Игоря Дмитриевича дорогу… — Каляев вопросительно взглянул на Белецкого. Тот быстро кивнул, окончательно подтверждая все подозрения.
— Дорогу спросите у охранника за дверью галереи: он вас проводит, — прорычал Смирнов. — Игорь! — Теперь он переключился на инженера. — Я уже полчаса тебя ищу! Неужели так сложно носить с собой комм?
— Простите, — пробормотал Белецкий.
— «Простите, забыл» — как внучка моя, ей богу! — Смирнов вздохнул. — Куда тебе «неуд» ставить — на лбу написать? Может, проволокой к запястью тебе его примотать, коммуникатор этот?
Каляев, сдержав смешок, поспешил ретироваться, пока внимание полковника вновь не обратилось на него.
Разговор вышел не столь результативным, как он надеялся, но и не совсем бестолковым. По остервенелому упорству, с каким отмалчивался инженер, было ясно — он защищает не себя, но кого-то другого: так родители — отчаянно и зло, досадуя на самих себя — защищали детей, даже зная, что те серьезно провинились. А Белецкий — Каляев готов был поспорить на ящик хорошего бренди — защищал Иволгу. Не только от Каляева, но и от Смирнова, и от всего мира.
Но из-за чего он был так уверен, что она нуждается в защите? Это еще предстояло выяснить.
Зайдя вперед полковника в свой кабинет при лаборатории, Белецкий первым делом попытался задвинуть переполненную корзину для мусора под стол. Корзина опрокинулась: изорванные и скомканные листы вместе с банками энергетических коктейлей раскатились по полу.
Смирнов удивился: Белецкий любил работать на бумаге, но, обычно, ненужные распечатки валялись по лаборатории, как попало, а корзина стояла пустой. Игнорируя протесты инженера, Смирнов поднял ближайший лист, разгладил на столе и стал читать; затем, кряхтя, нагнулся за следующим и прочел и его тоже.
Содержание было почти единообразно: заголовок — «Докладная», адресат — «полковник Смирнов В.Я.» и несколько строк, обрывавшихся на середине. Белецкий стоял, повесив голову.
— Игорь, что это еще за белиберда? — Смирнов был настолько изумлен, что даже не рассердился. — Зачем тебе самому себя обвинять в сбое алгоритма пространственной ориентации искина? Когда мы оба и каждый человек в лаборатории знает, что ты никакого незадокументированного тестирования на устойчивость к ошибкам на самом деле не проводил. Обычное техобслуживание, а вечером тебя в лаборатории вообще не было — ты до ночи занимался с моей Машкой-двоешницей математикой и потом поехал домой.
— Не каждый, Всеволод Яковлевич. Только мы с вами и Машка, но она умеет хранить секреты. — Белецкий мрачно взглянул на Смирнова. — Вы не хуже меня п-понимаете: чтобы Иволга в обозримом будущем была вновь допущена к полетам, у аварии должна быть убедительно доказанная причина. И не абы какая, а уважительная: «человеческий фактор», повторения которого можно избежать. Если расследование не п-придет ни к какому определенному выводу — я готов объявить себя таким фактором: это необходимо. Только нужно подобрать формулировки. И задним числом сделать все акты.
— Будь любезен: выкинь это в мусоросжигатель, сегодня же, и больше не занимайся чепухой. — Смирнов махнул разглаженными записками перед лицом инженера и в два движения разорвал их. — Имей терпение! Мы выясним настоящую причину и убедительно докажем инспектору, что она настоящая. И он вынужден будет признать ее уважительной, потому что, как ни обидно за Дениса, причина эта — наверняка человеческий фактор. Иного варианта просто нет. Так ведь, Игорь?
— Так, — согласился Белецкий.
Если в его ответе и прозвучало сомнение, Смирнов слишком устал, чтобы это заметить.
Выяснив в следующую четверть часа у инженера все, что собирался, полковник Смирнов вернулся к себе в кабинет. Там он еще раз запросил метеосводки, после чего отправил приказ на Хан-Арак и вызвал по комму Абрамцеву.
— В горах кое-где по-прежнему штормит, так что я отложил вылет до утра. — Смирнов отчески улыбнулся нечеткому изображению на экране. — Нечего смерть дразнить.
— Спасибо, Всеволод Яковлевич! — Ее лицо расплылось в ответной улыбке.
— Ложись, отдыхай, Валя.
— Да, конечно… Вы бы тоже заканчивали, Всеволод Яковлевич. Что-то вы неважно выглядите, — с беспокойством сказала Абрамцева.
— Так это у тебя там аппарат плохой. — Смирнов постучал по видеокамере. — Чепуху показывает. Ну, рассказывай: как тебе наш высокий гость?
— На первый взгляд, он хамоват и настырен, как любой психолог-дилетант. Но есть проблема. — Абрамцева нахмурилась. — Никакой он не дилетант. Умен настолько же, насколько хитер. Лучше бы нам с ним не ссориться.
— Думаешь, получится?
— Вряд ли. — Абрамцева вздохнула. — Но я попробую.
* * *
Смирнов попрощался с ней, приказал электронному секретарю закрыть кабинет и поднялся в резервную служебную квартиру на последнем этаже корпуса; ехать домой в поселок уже не было сил.
Несмотря на усталость и принятое снотворное, заснуть ему удалось не сразу. подкрашенная слабым светом ночника темнота давила на грудь и отзывалась болью в спине, щекочущим холодом пробиралась под шерстяное одеяло. Что-то недоброе происходило вокруг — и он, Смирнов, должен был понять, разобраться, пока не случилось страшное. Такое чувство иногда приходило к нему в детстве и затем исчезало без последствий, но теперь темнота шептала ему, что он так легко не отделается; шептала осиплым старческим голосом, до дрожи похожим на его собственный.
Абрамцевой тоже не спалось; она бездумно листала каналы головизора, заглушая ночные звуки и разгоняя тени. Она почти ничего не изменила в доме за прошедшие несколько дней после гибели Абрамцева, но не призрак мужа тревожил ее — совсем наоборот: сейчас его не-присутствие, окончательный и необратимый уход, ощущался даже острее, чем в первые дни. Она чувствовала — грусть? сожаление? вину? — и тоску по всему не случившемуся. От фотоснимка с траурной лентой на рояле веяло холодом. Ей хотелось попросить прощения, но не у кого было просить, некому сказать о своем сожалении — и от этого во рту скапливалась горечь; она запивала ее переслащенным чаем с бренди из юбилейной — «К 40-летию» — Абрамцевской кружки, но почти не чувствовала ни вкуса, ни опьянения.
Белецкий даже не пытался заснуть; сутулой тенью он бродил вокруг корпусов Дармына, бормоча что-то себе под нос и пугая патрулировавших территорию охранников.
Давыдов ворочался в спальнике на толстом, набитом травой и шерстью тюфяке. К метеорологам он не пошел, предпочел остаться в домике у горцев — а те кроватями не пользовались и вообще спали по ночам удивительно мало. Он слышал, как за стеной возятся на лежанках, не желают засыпать дети, и старый Нуршалах ан-Хоба стращает их рассказами о злой Бабе-Йоме и ее призрачных прислужниках, которые утащат неспящих мальчишек в ледяную пещеру и превратят в ледышки.
— А потом, деда Нурхо? — Надтреснутый мальчишеский голосок принадлежал внуку Нуршалаха и сыну майора Оша ан-Хоба.
— Одних Баба-Йома будет в котел кидать — чай студить, а других — как леденцы посасывать. Да только вам, неслухам, мало о той разницы проку будет. Ну-ка спать! — Слышно было, как Нуршалах ударил чем-то тяжелым в пол. — Вот отцы придут и всыплют вам, безобразникам!
Мальчишки потому и не унимаются, запоздало сообразил Давыдов — узнали, что родители в ночь вернутся, и ждут.
Он перевернулся на другой бок и укрылся спальником с головой, но на краю сознания Нуршалах все бормотал и бормотал о Баба-Йоме, снежных призраках и Драконе, которого могут растревожить непослушные дети — а тогда уж точно жди беды. Сон никак не шел.
И только Каляев, вернувшийся после короткой прогулки в гостиницу, в эту ночь спал крепко и без сновидений.
Пока в предгорьях Великого Хребта сотни тысяч людей спали или пытались заснуть, другие продолжали работу: под землю спускались шахтеры, в госпиталях проводили срочные операции хирурги, дежурные на метеостанциях отслеживали передачу данных и сверяли с контрольными показателями. Военный горноспасатель майор Ош ан-Хоба, обвязанный веревками, спускал по крутому склону прямоугольный герметичный контейнер на полозьях — «гроб», в котором останкам Дениса Абрамцева предстояло покоиться до передачи их экспертам-патологоанатомам. Рядом другие горноспасатели спускали искореженный защитный кожух искина и два больших ящика с теми обломками, что запросили эксперты: тщательная фотосьемка всего и вся в районе крушения, сделанная спасателями, была отправлена на Дармын и в авианадзор еще в день аварии.
Подчиненные замечали, что майор ан-Хоба все последние дни ходит мрачнее тучи. Больше, чем груз, его тяготили сведения, которые он должен был в ближайшем будущем передать на Дармын; передать лично, первым — так нужно было не по инструкции, но по совести…
Майор остановился, протер рукавицей противоснежные очки и еще раз осмотрелся. Он был не из тех, кто позволяет эмоциям вмешиваться в работу, потому спуск происходил не быстрее и не медленнее положенного, а с той скоростью и с теми мерами предосторожности, которые диктовала погода. Внизу уже виднелся маяк на станции — до нее оставалось меньше четырехсот метров по прямой под умеренным уклоном; но майор жестом показал повернуть на запасной, более сложный, но более безопасный маршрут: снег северного склона сдувало вбок, лавин там не бывало.
— К утру так или иначе будем на месте, — сказал майор ближайшему к нему спасателю: у того жена на станции была на сносях, и потому он сильнее других торопился вниз. — Поспешишь — только Дракона рассердишь.
— Его старуха, если обозлится, пострашнее Дракона будет, — сказал кто-то.
Майор хмыкнул в обледенелые усы и продолжил спуск.
* * *
Давыдова разбудили громкие голоса из-за стены: отряд спасателей майора ан-Хоба вернулся. Уже светало.
Завтракали все вместе: уставшие и хмурые спасатели, подскочившие до зари дети, старики — которые, казалось, вовсе не ложились — и отчаянно зевающий Давыдов. Разговор за столом не клеился; непривычно молчаливый Ош ан-Хоба сосредоточенно хлебал кашу, старик Нуршалах шикал на лезущих с расспросами мальчишек.
— Слава, возьмешь моего вниз? — спросил вдруг майор, тяжелой рукой припечатав сына к скамье; тот сразу притих и выпрямился, одновременно напуганный и гордый тем, что отец обратил на него внимание. Мальчика звали Раимом; ему недавно исполнилось десять.
Давыдов растерянно моргнул.
— Но я на катере. Стоит ли?..
— Хватит ему учебу прогуливать; и жена скучает. Чай, взрослый мужчина, не баба на сносях: от перегрузок не разболеется. — Майор потрепал сына по плечу; «взрослый мужчина» с готовностью закивал. — Смирнов Волхву неизвестно когда вылет даст. Что ж мальцу теперь, пешком в школу топать?
Давыдов припомнил, что Абрамцев, после выгрузки продуктов, должен был забрать вниз Раима, у которого закончились каникулы, и жену одного из спасателей, у которой тяжело протекала беременность. Людей со станций почти всегда забирал Абрамцев, а Давыдов возил грузы. Хотя случалось иногда летать и с пассажирами; в основном, в экстренных случаях.
— Я на такой машине уже летал! — заявил Раим, но тут же, смутившись, добавил. — Правда, я тогда маленький был, мало помню.
Глаза у мальчишки блестели; вряд ли он скучал по школе, но сидеть с дедом на станции ему надоело, а полет был каким-никаким приключением.
— Не на такой, — поправил сына майор. — Это грузовой катер. Такие людей обычно не возят, но ты у нас будешь особенный пассажир. Ну что, Слав — возьмешь?
— Возьму, — согласился Давыдов. Шторм почти стих, так что перелет предстоял не намного опасней любого другого. Отпрыск рода ан-Хоба был парень крепкий, в отца и деда, и если те считали, что Раиму нужно лететь — так оно и было. Давыдов знал майора-спасателя не то чтоб близко, но, можно сказать, неплохо: по службе они часто сталкивались в горах, а изредка общались и внизу. Ош ан-Хоба был с детства дружен с Абрамцевой и, когда у него случались командировки на Дармын, обычно заходил к ней в гости: он производил впечатление человека умного и отлично знающего свое дело, не склонного к импульсивным решениям и необязательному риску.
— Спасибо! — заулыбался Раим.
— Но если инспектор Каляев заявится прямо на посадочную площадку — нам с тобой обоим не поздоровится, Ош, — спохватился Давыдов. — Вернее сказать, всем троим. — Он строго взглянул на расшумевшегося мальчишку.
— Значит, попрошу ребят внизу отвлечь его, если вдруг сунется. — Майор пригладил усы. — Он правда крутой тип, этот Каляев?
— Валя говорит — да. Хотя, если издали взглянуть — обычный бюрократ со связями где-то наверху. — Давыдов поморщился. — И с нюхом, мать его, на неприятности: принесла нелегкая в такое время!
— А Машка хочет в следующий раз со мной полететь, — вклинился заскучавший от непонятного разговора Раим. — Но ей дед не разрешает, потому что еще мелкая! Стро-о-гий.
Машка была ровесницей Раима, но приходилась внучкой полковнику Смирнову, который имел свое мнение по поводу правильного воспитания девочек — и полеты на Хан-Арак в это воспитание не входили. Хотя Валя время от времени пыталась Смирнова переубедить.
— Это ты строгих не видел, баловень! Так, доел? Топай собираться. — Майор подтолкнул сына к выходу и встал сам. — Погрузка началась, вылет обещали дать через полчаса. На площадке встретимся.
Но ждать пришлось почти час, за который Давыдов успел показать ан-Хоба-младшему всю кабину и грузовые отсеки и намертво примотать мальчишку ремнями к «штурманскому» креслу — рудименту эпохи пилотирования в четыре руки.
Майор, сославшись на усталость, ушел. Зато старик Нуршалах оставался на площадке до последней минуты.
— Ты хорошо говорил вчера, — начал вдруг он ни с того, ни с сего. — Твой друг будет рад услышать твои слова.
«Ну да: жертвенный баран», — вспомнил Давыдов. — «Сначала приводят слушать…»
Но сейчас, рядом с огромным и до последней гайки знакомым катером, вчерашний день казался ему невообразимо далеким, а горцы с их обрядами и суевериями — актерами в самодеятельном театре. Ему хотелось как можно скорее подняться в воздух.
— Вы уверены, что вашему внуку стоит лететь со мной? — спросил он только.
Нуршалах засмеялся:
— Я не пророчил тебе смерти, Вячеслав! Никто не говорил о твоем времени: про него знаешь ты один; я же знаю лишь о своем. А Раиму пойдет на пользу, если ты преподашь ему урок-другой.
— Вряд ли Раим с вами согласится, — пробормотал Давыдов. — Скажите прямо, Нушалах-ан: что вы от меня хотите?
— Чтобы ты смотрел и видел, Вячеслав. — Старик все еще улыбался, но взгляд его сделался тяжелым. — Дети Дракона уходят в прошлое… Но снег по весне тает и ручьем впадает в реку; река несет воду от вершин к равнинам и питает океан. Наша история не исчезнет без следа: вы, люди с Дармына, сохраните ее. Наш обычай в малой доле, но станет частью вашего. Наши потомки не будут чужаками в обоих мирах, ни в горах Дракона, ни в вашем мире стальных птиц, которые поднимаются выше гор. — Старик, задрав голову, взглянул на кабину, где сидел его внук; печаль и необычайная нежность проскользнула в его взгляде. — Они объединят собою два мира. История народа Дракона закончится, но обретет продолжение в другой истории. Эта мысль не доставляет мне радости. И все же иного пути нет… Если ручей не вольется в реку, однажды он иссякнет безо всякого толку. Смотри и слушай, Вячеслав: тогда ты увидишь и услышишь.
— Внуки ваших внуков и дети моих детей будут одним народом, Нуршалах-ан. В их общей памяти найдется место для всех нас. Для вас и для меня, для Абрамцева и для вашего сына, для Дракона и для бородатого Бога со старушки Земли, иконку которого хранит Смирнов. Я верю в это, — сказал Давыдов почти сердито, перебарывая неловкость: старик словно прощался — и ему это не нравилось. — Я рад был разделить с тобой разговор и стол, и рад буду сделать это в следующий раз. Будь здоров, Нуршалах-ан: увидимся!
Поклонившись, Давыдов поспешно поднялся в кабину и нажал кнопку герметизации дверей. Раим ан-Хоба — суровым лицом в отца, лукавой улыбкой в деда — взглянул с насмешливым сочувствием.
— Дед — он такой, дядя Слава: до икоты уши заговорить может.
— А ты бы лучше слушал и на ус мотал, умник, — хмыкнул Давыдов и, от греха подальше, заставил парня закрепить у лица кислородную маску, «забыв» сразу показать, как включать микрофон: пара минут молчания еще никому не вредила.
Ненадолго в кабине воцарилась тишина. Дождавшись, пока старик вместе с техниками станции покинет площадку, Давыдов включил двигатели. Кабина наполнилась гулом и уютной, привычной дрожью. Диспетчер с метеостанции дал команду на взлет — и через минуту Хан-Арак остался далеко внизу.
Полет прошел штатно. Давыдов сделал несколько снимков снежных шапок, о которых просили метеорологи, и направил машину к Дармыну. С высоты уплощенные предгорья Хребта напоминали ему живой организм, нервную ткань, где от «ядер» ветряных электростанций и топливодобывающих комплексов расходились в стороны аксоны и дендриты коммуникаций. На плоскогорьях, разрезанных кое-где узкими лентами железных дорог, зеленели леса: их дружелюбный вид резко контрастировал с суровыми горными пиками Великого Хребта, равных которым не было ни на Земле, ни на других заселенных планетах. Давыдова горные пейзажи до сих пор очаровывали своей необычной, яростной красотой — но шатрангцы, как он давно заметил, относились к своей планете куда спокойней: Раим, бывалый пассажир, больше следил за приборами, сигналами датчиков и его работой, чем за открывавшимся из кабины видом; перегрузку при взлете и сильную тряску мальчишка перенес стоически и вообще вел себя, как взрослый.
При посадке Давыдов заметил группу людей в зеленых дождевиках, пикетирующую дармынский автобан, и машину местной службы новостей рядом: экологам полеты грузовых катеров всегда были, как кость в горле, а новостники наверняка уже что-то пронюхали об аварии: но на территорию аэродрома их, конечно, не пропустили.
Шасси катера коснулись земли; Давыдов заглушил двигатели и позволил себе расслабиться.
Он выпустил трап и помог Раиму освободиться от маски и ремней: мальчишка резво сбежал вниз к поджидавшей его матери и через минуту уже покинул закрытую территорию — прежде, чем кто-либо посторонний сумел заметить его присутствие. Давыдов разблокировал грузовой отсек и стал ждать погрузочную бригаду: их автокран и платформы уже приближались к катеру с другого конца летного поля.
Зажглось табло бортового приемника: катер вызывала станция Хан-Арак по личному каналу майора ан-Хоба.
— Все в порядке, сдал парня с рук на руки, — не дожидаясь вопроса, сказал Давыдов, и только после удивился: почему майор опять на ногах, тогда как собирался проспать три дня кряду до следующей смены.
— Знаю, уже говорил с женой. Хорошо, — сказал Ош ан-Хоба.
Монитора для видеосвязи на катере не было, но Давыдову ясно представилось, как майор хмурится, глядя в слепой глаз камеры.
— В чем дело, Ош?
— Я не стал забивать тебе голову перед вылетом. Но теперь должен рассказать: лучше тебе знать сразу.
— Я слушаю, — напряженно сказал Давыдов. Дурное предчувствие, отступившее в воздухе, возвратилось с новой силой; это было уже не предчувствие, но факт: оставалось только узнать, какой.
— Иволга столкнулась с землей на огромной скорости: обломки мелкие, тело фрагментировано. — Майор перешел на безличный деловой тон. — То, что осталось от кабины, доставали из воронки трех метров глубиной; кроме искина в защитном коробе, после взрыва мало что сохранилось. Останки обычные для таких случаев: осколки черепа и позвоночника, фрагменты внутренних органов. И левая кисть на штурвале.
— На ручке «шаг-газ», — автоматически поправил Давыдов. — Джойстик штурвала в модификации СП-79 справа.
Отчего-то в большинстве известных ему аварий при столкновении с землей на большой скорости лучше всего сохранялись вырванные из суставов, буквально приплавленные к пластику пальцы, словно символ общей судьбы человека и машины. Про этот феномен он даже как-то расспрашивал знакомого патанатома.
— Ты помнишь, как после аварии экипажа инструктора Голованова чудом обошлось без второго скандала? — после короткой паузы спросил майор ан-Хоба.
— Помню, конечно, — сказал Давыдов.
Это была от начала и до конца обидная и нелепая история, случившаяся вскоре после того, Давыдов прибыл на Шатранг. Пожилой армейский инструктор, подполковник Голованов, в нарушении всех правил и вопреки здравому смыслу решил попугать нагловатого стажера, показав на катере пилотаж, но от перегрузки потерял сознание. Катер начал падать по крутой спирали. Стажер не стал катапультироваться и почти сумел спасти машину, но не хватило опыта и времени… Опознали его без привлечения генетической экспертизы, по обручальному кольцу, и — два дня его останки лежали в морге с биркой с фамилией подполковника: кто-то из санитаров напутал. Голованов, действительно, тоже был женат; но с женой он незадолго до аварии рассорился и кольца больше не носил. А знакомые с подполковником украдкой шептались, что неполадки в личной жизни и были причиной его не вполне адекватного поведения в последние несколько месяцев до гибели.
— Матерь божья! — Давыдов невольно шарахнулся от коммуникатора. — Кажется, я начинаю понимать, к чему ты клонишь…
Когда-то Смирнов от всего руководства Дармына вручил Денису и Валентине Абрамцевым титановые обручальные кольца с памятной гравировкой. Валентина давно убрала свое в шкатулку под каким-то предлогом; Денис носил кольцо на увечной руке, но, в отличии от недоброй памяти подполковника Голованова, носил его всегда. Утром перед вылетом оно тоже было при нем.
— Боюсь, ты все понял верно, Слава, — мрачно сказал майор ан-Хоба. — Что бы это ни значило — в момент аварии на руке у Абрамцева кольца не было. А положение кисти такого, что слететь оно не могло.
Давыдов усилием воли заставил себя расслабить мышцы.
— На то можно придумать полдюжины причин, — хрипло сказал Давыдов. — Но среди них мало правдоподобных.
— Я посчитал, что должен сказать тебе об этом сам. — В голосе майора послышалось сочувствие. — Что бы это ни значило — но факт станет известен, как только дармынские медики начнут работу. А дальше этот факт начнут разглядывать и обсасывать со всех сторон.
— Боюсь что так… Спасибо, Ош, — нашел в себе силы поблагодарить его Давыдов.
— Не стоит. Ты знаешь: мне ваши с Валей дела, — майор сумел вложить в это слово больше отвращения, чем иные пуритане в целые книги, — всегда были не по душе.
— Ош, кто мы, по-твоему?! Не было никаких дел, — упавшим голосом сказал Давыдов. — Не было ничего такого, что… о чем стоило бы говорить. Мы ждали окончания ИАНа, собирались обсудить все между своими, по-людски, и тихо уехать. Вылететь с планеты вразнобой, чтобы не вызывать кривотолков, а встретиться уже на ТУР-5…
Он замолчал, чувствуя, как бессмысленно и жалко звучат сейчас оправдания. Майор молчал.
— Слава, было достаточно такого, чтобы неправду кто угодно, у кого есть глаза, мог посчитать правдой, — наконец, сказал он тихо. Голос едва пробивался сквозь помехи на канале: в горах опять заштормило. — Но я понимаю. Прости. Смирнову доложишь сам?
— Лучше ты. Мне нужно разобраться тут с разгрузкой. И потом поговорить с Валей. — Давыдов внутренне содрогнулся, представив, как сообщает новость.
— Хорошо. Сделаю, — сказал майор ан-Хоба. Давыдову явственно представилось, как он хмурится и поглядывает на часы. — Будь осторожен: не соскользни в трещину, из которой не вылезешь.
Майор отключился, оставив Давыдова наедине с нетерпеливо сигналящим погрузочным краном.
Часть вторая
Смирнов не стал пытаться утаить шило в мешке. Дождавшись от патологоанатомов подтверждения, он созвал на экстренное совещание рабочую группу по расследованию аварии и прокрутил запись доклада майора ан-Хоба.
— И как это понимать? Самоубийство? — произнес слово, висевшее в воздухе, рыжебородый капитан, прикомандированный из генштаба ВКС сотрудник авианадзора Шатранга: его звали Густав Цибальский. — А основания для такого поступка…они были, или это все слухи?
— Я не вмешиваюсь в личную жизнь моих сотрудников и не подглядываю за ними в форточку, — мрачно сказал Смирнов. Совещание проходило за круглым столом в его приемной. — Позволю себе предположить, что это слух, но, к сожалению, не лишенный некоторых оснований и потому правдоподобный, — с нажимом произнес он. — Абрамцев, чуть поразмыслив, мог счесть его в полной мере правдивым, особенно если доверял источнику информации. И все это явилось бы для него большим потрясением, несомненно.
— Так что же, по-вашему — самоубийство?
— Еще недавно я бы взял на себя смелость утверждать, что Денис и самоубийство — понятия совершенно несовместимые. Доктор Иванов-Печорский, проверявший ежегодно его психофизиологический профиль, наверняка сказал бы вам то же самое. — Смирнов вопросительно взглянул на пожилого психиатра из медчасти Дармына: тот кивнул, соглашаясь. — Да бог бы с ним, с психопрофилем! — Смирнов повысил голос. — Я работал с Абрамцевым больше десяти лет. Лично могу подтвердить: он был очень надежным, глубоко заинтересованным в успехе проекта «ИАН» человеком. Он хорошо владел собой и умел преодолевать трудности. Невозможно представить, чтобы он совершил настолько безрассудный и безответственный поступок. Но вы сами все слышали. — Смирнов развел руками. — Это пока вся информация, какой мы располагаем. Для выводов ее абсолютно недостаточно. Но, уверен, никто из присутствующих не станет спорить, что мы обязаны рассмотреть вышеозначенную… версию со всей серьезностью.
Давыдов бы непременно поспорил: поэтому Смирнов в приказном порядке отправил его домой, отсыпаться.
— Да уж придется, — буркнул старший инженер-авиамеханик. Он отвечал не за Иволгу, но за вертолет, и, как и Белецкий, аварию воспринимал как личную катастрофу.
— Возможно, неточность пилотирования, ошибка из-за нервного расстройства? — озвучил другое предположение капитан Цибальский.
Он пытался принять в работе группы деятельное участие, вероятно, из лучших побуждений, однако по специализации был не летчиком и не диспетчером, а экспертом по топливу, и в летном деле понимал ненамного больше какого-нибудь двоечника-курсанта. Само его присутствие — вместо профильных специалистов — вполне ясно говорило о готовности авианадзора Шатранга саботировать расследование и принять любые выводы, которые им предоставит Смирнов. Генштабу ВКС и правительству планеты нужна была Иволга, а не объяснения, почему ее нельзя запускать в серию.
— Неточность, ошибка — это было бы возможным объяснением, если бы машина влетела в облако «дыхания дракона» или что-то подобное, в общем, столкнулась бы с препятствием, которое можно не заметить. Ну, или заметить, но допустить ошибку при маневре отклонения, — снисходительным тоном разъяснил Цибальскому Павел Мелихов, молодой военный летчик в чине капитана — негласный «номер третий» Дармынской эскадрильи. — Но из траектории и данных по метеоусловиям следует, что Иволга уклонялась от несуществующего препятствия. Скажите, доктор, разве от расстроенных нервов возможны галлюцинации?
Мелихов последние месяцы проходил интенсивную переподготовку и учился работать с Иволгой, однако сложных вылетов ему еще не поручали — в том числе, по причине его «несерьезного» характера.
— Напрасно иронизируете: в некоторых обстоятельствах — возможны, — сухо ответил психиатр. — Но Денис Абрамцев никогда не проявлял склонности к галлюцинациям. Кто проводил предполетный осмотр?
Смирнов вызвал ожидавшего за дверью медика: тот отчитался об отсутствии каких-либо тревожных признаков в состоянии Абрамцева перед вылетом и подтвердил наличие кольца у него на пальце на момент осмотра.
— Путь от смотрового кабинета до кабины занял у Абрамцева четыре минуты сорок секунд, — взял слово начальник безопасности Дармына и заместитель Смирнова подполковник Кречетов. — Мы проверили записи камер: за это время Абрамцев дважды останавливался, чтобы переговорить с сотрудниками базы, но каждый разговор имел продолжительность менее минуты и касался только служебных вопросов. Из чего следует, что стрессоваяинформация тем или иным образом дошла до Абрамцева уже в кабине. Мы также запросили расшифровку с портативного коммуникатора Абрамцева, который тот подсоединил к модулю связи Иволги. Но ни одного вызова зарегистрировано не было: переговоры велись только с диспетчерской и носили обычный характер.
— Это оставляет две возможности; три, если предположить, что Абрамцев зачем-то собрал себе личный, незарегистрированный коммуникатор и пронес его незамеченным в кабину, — сказал Смирнов, жестом давая понять, что думает о третьей возможности. — Итого, всего два варианта. Либо Абрамцев без помощи внешних факторов пережил так называемый «инсайт», озарение, сложил два и два и самостоятельно сделал выводы. Либо стрессовую информацию ему сообщила Иволга. Игорь, подобное действие со стороны искина теоретически возможно?
— Возможно, — односложно подтвердил ссутулившийся в кресле Белецкий. Не для Смирнова, с которым ситуация уже обсуждалась, но для всех остальных.
— Но ей-то откуда об этом знать?! — изумился капитан Цибальский. — Не в кабине же они… к-кхм. — Он, смутившись, кашлянул в кулак.
— Тесно там и острых краев много, — нарочито серьезным тоном сказал Мелихов. — Даме бы не понравилось.
За столом послышались сдавленные смешки.
— Попрошу без шуток-прибауток, Павел! — Подполковник Кречетов осуждающе взглянул на молодого летчика. — Вопрос был задан резонный. Откуда Иволге знать то, что и для большинства людей-то новость?
Кречетов оглядел собравшихся за столом; взгляд его остановился на Белецком.
— Не может же быть, чтобы она научилась распознавать чувства точнее человека! Но откуда-то же она узнала. У вас есть объяснение, Игорь Дмитриевич?
— Не важно, — вмешался Каляев, до того все совещание молчавший, и только меланхолично поглаживавший пальцами серебристый корпус служебного планшета; Кречетов поглядывал на устройство с завистью. — Достаточно и тех людей, кто догадывался. Кто угодно мог ей сказать и теперь даже не помнить об этом. Допустим, упомянуть вскользь в разговоре друг с другом… Тут мы концов не найдем, но это и не важно. Важно другое: зачем искин передал информацию Абрамцеву?
— Возможно, тоже ненамеренно. — Кречетов пожал плечами. — Упомянула в связи с каким-то иным поводом.
— Каковых, надо полагать, предостаточно в кабине маневрирующего над сопками вертолета, — насмешливо сказал Каляев. — Возможно, ненамеренно. А если намеренно — то зачем?
Повисла неприятная пауза.
— На этот вопрос мы получим ответ только после того, как удастся допросить Иволгу, — сказал Смирнов. — Кожух выдержал взрыв, но сочленения элементов кибермозга пострадали от нагрева и удара достаточно существенно; кибернетики дают на первичное восстановление минимум трое суток. До того мы можем только выдвигать гипотезы. Прошу заметить: не ради того, чтобы кого-то обвинить! А для планирования наших действий. Вы предлагаете что-то конкретное, Михаил Викторович?
— Я предлагаю исходить из предположения, что Иволга может руководствоваться некой неясной, пока неизвестной нам мотивацией в своих действиях, — сказал Каляев. — А также, что она способна вводить людей в заблуждение. Даже опытных киберпсихологов.
Поднялся шум; сразу половина участников совещания заговорила одновременно — возмущаясь, не соглашаясь, поддерживая.
Когда Смирнов, наконец, сумел призвать всех к порядку, он обратился к Белецкому:
— Игорь. Ответь предельно кратко и однозначно. Так, чтобы понял каждый. То, о чем говорит инспектор Каляев, принципиально возможно?
— Да. — В наступившей тишине голос инженера прозвучал очень громко. — Теоретически возможно. Однако это…
— Достаточно! — перебил его Смирнов. — Раз возможно, то мы будем исходить из предположений, озвученных инспектором. Если Иволга, предположительно, может играть против нас «в темную» — нужно подумать и определиться, что мы можем ей противопоставить. Как можем вывести ее на чистую воду.
— Я подразумевал лишь то, что на данном этапе расследования нам стоит критически относиться к любым полученным от искина сведениям, — сказал Каляев. — А конкретные меры продумаем, когда получим больше информации.
Но его уже никто не слушал: только профессор Коробов, заведующий лабораторией киберсоциометрии, искоса взглянул в его сторону:
— Ко всему в нашем деле стоит подходить критически, Михаил Викторович: это само собой разумеется. Итак, давайте подумаем…
Совещание продолжалось еще полчаса и прошло в оживленном обсуждении; высказывалось множество самых разных предположений. По итогам Смирнов поручил Коробову адаптировать к задаче старый диагностический тест на «скрытые мотивы»: ни к какому другому результату оно ожидаемо не привело.
* * *
После совещания Смирнов остался в приемной давать комментарии прознавшим о случившемся представителям гражданских властей. Белецкий вернулся в научный корпус. Там, часом позже, его разыскала Абрамцева. Она был взбешена, и не пыталась это скрыть.
— Игорь! — Она вошла в кабинет инженера без стука и плотно притворила за собой дверь. — Осведомленность Птицы — твоих рук дело? Твоего длинного языка, чтоб тебя!
Белецкий отпираться не стал.
— Слава знает? — спросил он только, не отводя взгляда от запутанного чертежа на огромном, в полстены, мониторе.
— Нет, и не узнает, если ты сам ему не скажешь: хорошо бы тебе хватило ума хотя бы этого не делать, — зло сказала Абрамцева. — Он настолько же недогадлив, насколько на руку несдержан. Никому не будет лучше, если он нечаянно отправит тебя к праотцам.
— Зато ваш инспектор догадался. Но почему-то не стал меня п-прилюдно топить, даже — п-помог замять вопрос. — Белецкий, наконец, оторвался от экрана и повернулся к ней. Глядя на его осунувшееся лицо и темные мешки под глазами, она вдруг почувствовала к нему острую жалость; всего на миг — но этого оказалось достаточно, чтобы гнев утих.
— Не «ваш», а «наш» инспектор, Игорь. — Абрамцева со вздохом села на единственный не заваленный электронным хламом стул. — Каляеву нет нужды никого топить: мы тонем сами… Что сделано, то сделано, но объясни мне — почему? Зачем тебе это потребовалось? — Задала она вопрос, ответ на который в глубине души уже знала.
— Поговорить хотелось, — буркнул Белецкий и снова уставился на экран. — Не к Смирнову же мне было идти.
Абрамцева беззлобно выругалась.
«Почему хорошие люди совершают плохие поступки?» — для инспектора Каляева этот вопрос являлся занимательной интеллектуальной загадкой; майор Ош ан-Хоба, будучи шатрангцем до кончиков ногтей, принимал противоречивую и неприятную реальность с терпеливым сожалением. Но для Белецкого, чьи отношения с окружающими всегда складывались непросто, все выглядело иначе.
Ситуация, два года медленно развивавшаяся у него на глазах, была ему не вполне понятна и для него неприемлема — однако самые близкие и уважаемые им люди были в нее замазаны, а он, сторонний наблюдатель, мог лишь притворяться, что ничего не замечает, чтобы не сделать еще хуже. Этот клубок лжи и противоречий резал его по живому — но сожаление и разочарование, все накопившиеся за два года чувства, ему некуда было выплеснуть. Кроме как в железную жилетку ближайшего, мудрого, непоколебимо надежного друга.
— И давно ты с Птицей все это обсуждал? — спросила Абрамцева.
— Две недели назад. Не под запись, конечно, — не отрываясь больше от экрана, ответил Белецкий. Он не извинялся, хотя, безусловно, чувствовал себя виноватым — возможно, даже сильнее, чем следовало бы. Но к снедавшему его чувству вины примешивалось раздражение на тех, кто загнал его в этот тупик, выход из которого оказался первым шагом к пропасти. В висках стучало от злости и досады на Иволгу, подведшую его, вольно или невольно погубившую человека, которым он дорожил — но нуждавшуюся теперь в защите, как никогда раньше…
Затолкав все эмоции в самый дальний угол сознания, Белецкий пытался вновь вернуть контроль над происходящим в свои руки. Со стороны он часто мог показаться человеком слабым, но глубоко заблуждался тот, кто действительно считал его таковым.
— Если появятся новости — сразу сообщи. Пожалуйста, — сказала Абрамцева и, не прощаясь, вышла.
Каляев поджидал ее, прогуливаясь по коридору. Через дверь он не мог ничего слышать, но ему и не нужно было.
— Механический бог, Валя, — сказал он, подняв палец к потолку. — Когда все закончится — вспомните, с чего все началось: ваш друг решил исповедоваться своему механическому богу.
Она не нашлась, что возразить.
Из-за стены доносился тихий гул: в помещениях лаборатории шли работы по восстановлению искина.
* * *
Иволгу спроектировали в той же лаборатории чуть меньше двух лет назад. Однако ее история началась намного раньше, в доколонизаторскую эру на Земле, когда было впервые экспериментально показано существование эффекта Чернышевского-Гаупа, или, как его называли чаще, феномена «размазанной секунды». Авторы объясняли через него яркие, зафиксированные документально случаи проявления интуиции или предвидения. Было сделано предположение о глубоком физическом взаимопроникновении прошлого, настоящего и будущего: «настоящий момент времени» предлагалось при этом рассматривать как некую точку фокусировки, а восприятие — как линзу с непостоянными параметрами.
Экспериментальное подтверждение к новой теории прилагалось весьма весомое. Согласно результатам, прошлое и будущее мгновения существовали в мгновении настоящем в буквальном смысле и могли быть восприняты органами чувств испытуемых, хотя факт расширенного во времени восприятия — темпорального видения, или, как чаще говорили, проявления темпоральной интуиции — обычно не осознавался. Происходила подпороговая обработка информации, приводившая к опережающей реакции на стимул или возникновению предчувствия.
В дальнейшем были открыты ограничения новой функции — предвидение оказалось возможно в пределах всего нескольких секунд — и сформулировано основное условие ее реализации: только осознающий сам себя, свое существование на временной оси разум мог обладать темпоральной интуицией. Она была понята как сложноорганизованная, сочетающая в себе примитивную, «животную» подпороговую интеграцию с эффектом «размазанной секунды» и была объявлена свойственной исключительно человеческому мозгу, недоступной ни другим живым организмам, ни искусственным интеллектуальным системам.
Последнее утверждение оказалось неверным; однако до того, как это выяснилось, прошли столетия.
Сперва практического применения открытию не нашлось: интуицию пытались тренировать у водителей и летчиков, стрелков, спортсменов — но человек, постоянно и осознанно пытающийся опираться на интуицию, вскоре вырабатывал привычку предпочитать нечеткие субъективные ощущения объективной информации и начинал часто ошибаться. После десятка неудач прикладная наука на долгие годы утратила интерес к феномену интуиции как к явлению неустойчивому, ненадежному и потому практически бесполезному. Но на Шатранге его вновь достали с полки, и сделал это академик Володин, человек известный и, без преувеличения, выдающийся. Он выдвинул гипотезу о роли эмоций в формировании самосознания и в восприятии протяженности времени. Гипотеза эта оказалась верной: так он научил машину предчувствовать.
Олег Леонидович Володин любил сложные задачи, а Шатранг предоставлял их с избытком. Впервые Володин прилетел на планету как руководитель научной группы, занимавшейся разработкой универсальных дронов-разведчиков для поиска редких металлов в условиях песчаных бурь Южного Шатранга. Когда основные теоретические задачи были решены и создание прототипов пошло полным ходом, он передал руководство одному из замов и отправился на северный континент, где переключился на разработку конструкции сейсмоустойчивых газопроводов. И лишь затем в фокус его внимания попала проблема воздушного сообщения.
Когда Володин прибыл на планету, в затянутое вулканической облачностью небо Шатранга поднимались только оснащенные дополнительными двигателями и броней воздушные грузопассажирские катера, разработанные еще чуть ли не на заре эры экспансии, дорогие и ненадежные в эксплуатации и неспособные выполнить и половины актуальных для развития колонии задач. Это являло собой проблему — еще какую! Но дальнейшее усиление защиты катеров, и так слишком тяжелых, было очевидно нецелесообразно. Предполагаемое направление поиска решения заключалось в том, чтобы не прорываться сквозь все подряд сложные участки, а распознавать их и уклоняться; и все это — на высокой скорости. Воздушному судну нового типа требовалась высокая маневренность намного и более совершенная навигационная система. Для обеспечения удовлетворительных по скорости, стоимости и безопасности полетов такая система не могла быть слишком громоздкой — но, при этом, обязана была обладать достаточной мощностью, чтобы иметь возможность мгновенно учитывать все комбинации из почти двухсот параметров, которые с достаточной полнотой описывали переменчивую воздушную обстановку горного Шатранга в каждый момент времени. Теоретически возможность собрать необходимые метеорологические данные существовала, но с достаточной скоростью их мог обработать только суперкомпьютер, занимавший целый этаж: сколь бы ни была машина успешна в обнаружении неявных закономерностей, обычный алгоритм принятия решений методом перебора и отсечения заведомо худших вариантов все равно оставался слишком неповоротлив…
Необходим был принципиально иной алгоритм. Позже он получил название «интуитивного алгоритма навигации».
Володин попытался наделить искин способностью к подпороговой обработке информации и темпоральной интуиции, придав ему значительное сходство с человеческой личностью; и это на фоне давнишнего разочарования человечества в способностях антропоморфных машин, чьи мыслительные процессы, пропущенные через надстройки сознания, отличались косностью и медлительностью! После двух столетий преклонения перед «чистым», не загрязненным эмоциями и самосознанием машинным псевдоинтеллектом, лишь имитирующим разум, идея Володина выглядела авантюрной, даже безумной. Однако при дальнейшем рассмотрении она оказалась неожиданно перспективной. Помогли связи Володина с химиками: для создания матриц кибермозга предполагалось использовать джантерит и еще один уникальный ресурс Шатранга, байтериевые кристаллы, что позволяло поднять мощность и чувствительность искина на принципиально новый уровень. Презентуя в правительстве проект, Володин особенно упирал на то, что если новая конструкция кибермозга зарекомендует себя — спрос на байтерий вырастет многократно, что станет для планеты еще одним источником дохода; такое направление мысли было шатрангским чиновникам понятно, так что Володину охотно дали зеленый свет.
Первый экспериментальный образец проекта ИАН был почти так же далек от будущей Иволги, как параплан от реактивного истребителя, однако и он обладал слабой способностью к предвидению, потому стало ясно — задача решаема. Заложенные в систему аналоги базовых эмоций значительно влияли на мышление, обуславливали формирование в «психике» машины сложноорганизованной потребностно-мотивационной сферы, воли — а с ней и темпоральной интуиции. Одновременно с разработкой модели второго поколения было начато проектирование сети наземных метеостанций, призванных обеспечить искин данными; химики синтезировали защитное покрытие для сенсоров и метеодатчиков, которые планировалось разметить на корпусе вертолета-носителя, киберпсихологи разрабатывали методики обучения.
Смирнов — тогда еще и трех лет не отработавший в новой должности — запомнил Володина энергичным и напористым моложавым субъектом, никогда не расстающимся с планшетом и коммуникатором и почитавшим еду и сон за пустую трату времени; когда Володин заходил в какое-нибудь помещение, там тотчас становилось тесно. За глаза все называли его «Волом», и прозвище это, вопреки астеническому сложению, ему очень шло. Но выражение «работать, как вол» со временем приобретало там, где побывал Володин, особый смысл. Разработав на начальной стадии решение — как сам Володин выражался, «распахав целину» — и добавив эту предварительную победу в длинный перечень своих достижений, он терял к проблеме всякий интерес и переключался на что-нибудь другое. Зачастую, совсем из другой области: Володин имел впечатляющий запас мультидисциплинарных знаний и не менее впечатляющий нюх на перспективные темы.
Он улетел в созвездие Стрельца исследовать какие-то гравитационные аномалии, так и не доведя до ума ни один из проектов, которыми занимался на Шатранге, оставив в ИАН только неукоснительно соблюдавшуюся традицию называть экспериментальные искины с использованием его инициалов: потому следующие модели получили названия «ВОЛхв» и «иВОЛга».
С разведзондами шатрангцы с Южного материка общими усилиями худо-бедно справились; с газопроводами не повезло — они так и не были построены. А воздушной навигации достался чудаковатый аспирант Володина Игорь Белецкий, что оказалось для проекта, для Смирнова и для самого Белецкого, прижившегося на Шатранге, огромной удачей — этот несуразный, на первый взгляд, человек довел дело до ума и в короткие сроки достиг таких результатов, каких вряд ли добился бы даже его прославленный учитель. Всего через пять лет искин «ВОЛхв-II», установленный на земной высотный вертолет СП-45, переоборудованный специально под новую навигационную систему, под управлением Дениса Абрамцева совершил свой первый рейс к отдаленной геостанции на западном отроге Великого Хребта. Расход топлива на необязательные маневры был велик, грузоподъемность оставалась мала, но «Волхв» летал — и летал по таким воздушным трассам, которые считались недоступными для катеров!
В последующие годы ширилась и совершенствовалась система наземной поддержки, дорабатывался искин и методы его обучения. За «Волхвом-II» последовал «Волхв-III», затем «Волхв-IV», впервые доставивший груз на обратную сторону Великого Хребта, «Волхв-V» и, наконец «Иволга» — самая совершенная, самая надежная и самая человечная система из всех. Возможно, более человечная, чем это было необходимо.
Смирнов подозревал, что в последних моделях уровень развития личности диктовали не столько объективные требования задачи, столько желания инженера, порой чересчур остро переживавшего душевное одиночество — но решил не вмешиваться, потому как причин препятствовать такому подходу не видел: «одушевленные» искины в среднем справлялись со своей работой лучше предшественников.
В час, когда Давыдов доставил Иволгу и останки Абрамцева на Дармын, и коммуникатор голосом майора ан-Хоба начал доклад, он впервые усомнился в своем решении.
* * *
Поздним вечером того же дня — скорее, уже ночью, когда завершены были все другие дела — Смирнов сидел в малом конференц-зале Дармына и показывал Каляеву наиболее интересные записи психосоциальных тестов Иволги; сам он за последние дни уже буквально выучил их наизусть. Но теперь многие фрагменты смотрелись иначе. По-новому.
На экране шла запись тестирования на понимание социального контекста. Тест проводился в научном корпусе в зале ИУ — имитационной установки, использовавшейся как в качестве тренажера для пилотов, так и средства обучения искинов и мониторинга их интеллектуальных и эмоциональных функций. В центре просторного зала на высоких железных опорах была установлена копия вертолетной кабины: титановый короб с Иволгой был закреплен под ней. Все сенсорные пути искина замыкались на главный лабораторный компьютер, который в режиме имитации мог выдавать искусственно сгенерированные данные полета по выбранному маршруту или, в режиме тестирования, отображать реальную картину зала ИУ, позволяя тем самым искину свободно общаться с людьми и выполнять «нелетные» задания. Для этого к ИУ через главный компьютер была подключена специальная сенсорно-кинетическая система, похожая на прилепившегося к потолку огромного паука: на ней были звукоуловители и глаза-видеокамеры на подвижных кронштейнах, привычные искину датчики температуры и давления и даже примитивная механическая рука: с ее помощью Иволга обыгрывала всех желающих в нарды или го.
В психологических и социометрических тестированиях ведущую роль традиционно играли работавшие с искином летчики, но, формально, руководил процессом заведующий лабораторией киберсоциометрии профессор Коробов. Ассистентом у него выступала Валентина Абрамцева.
Давыдов задавал подключенной к имитационной установке Иволге вопросы по литературной классике: Шекспир, Пушкин, Достоевский, Гессе… Тестирование давно потеряло формально-экспериментальный характер: Давыдов то и дело увлекался и начинал всерьез спорить с искином. Абрамцева не останавливала их, а с видимым интересом слушала, время от времени принимаясь быстро вносить что-то в планшет.
Там же присутствовал и Абрамцев: вместе с завлабом он наблюдал за обсуждением со стороны, с «режиссерского» возвышения, привычно пряча за спиной четырехпалую руку. Коробов украдкой улыбался, приглаживая округлую бороду, и напоминал не то Санта-Клауса на новогоднем спектакле, не то просто воспитателя, благодушно наблюдающего за детскими шалостями. Немного схожее выражение проступало и на лице Абрамцева — только безо всякого следа умиления или интереса. Но и без осуждения: в понимании Абрамцева, жена и друг занимались глупостями — однако он снисходительно прощал их ребячество. Давыдов иногда поглядывал в его сторону с видимым смущением.
Смирнов отвернулся. Он чувствовал себя больным.
Каляев просматривал записи молча. В самом начале он достал свой серебристый планшет, но ни одной пометки так и не сделал.
Спор на экране быстро набирал обороты и вскоре сменил вектор: по терновой тропе примеров и ассоциаций искин и человек перешли от литературы к истории, от прошлого — к настоящему.
— Из твоих рассуждений следует, что всякий исторический прогресс есть благо. Но насильственный и бездумный прогресс разрушителен! — запальчиво говорил Давыдов. — Тысячелетние культуры становятся глиной, из которой мы лепим желтые кирпичи — но разве нам известно доподлинно, в какой стороне Изумрудный Город? Мы, люди Земли, постоянно говорим о развитии, о будущих перспективах, и мы убедительны в своих речах и достижениях: случаи военного сопротивления и кровопролития, слава богу, редки; как писалось в старых книгах, мы «завоевываем умы и сердца». Коренное население колоний спокойно принимает наше главенство и новые порядки, стремится скорее войти в Содружество… Здесь, на Шатранге, даже местные аксакалы не противятся переменам. Но кто знает, что мы утратили, загребая все под себя?
— Каждое мгновение жизни мы утрачиваем одни возможности, но взамен приобретаем другие, — заметила Абрамцева, на миг оторвавшись от планшета. — Возможно, тебе стоило бы чаще слушать наших аксакалов, Слава.
— Никто не может сказать, что утрачено, — лаконично ответила Иволга. — Но мы знаем, что приобретаем, и это определяет ценность прогресса.
— А терраформация? — не сдавался Давыдов. — Тоже детище прогресса и его инструмент. Но будто мало от него бед! В будущем тотальное терраформирование — «терраформирование» в кавычках! — позволит превращать целые планеты в алмазные копи и урановые рудники, но никто не обещает, что это будут исключительно необитаемые планеты: полагаю, выбор будет зависеть только от ценности конечного приобретения. К счастью, технологий таких пока нет, но разговоры о них давно ведутся…
— Это другое, — сказала Абрамцева. — Ты говоришь о физическом уничтожении биосферы целой планеты. Совсем другой масштаб.
— Но и такое может быть оправданно, не так ли? — обратился Давыдов к искину.
— Если конечная польза для человечества превысит все издержки, — мгновенно ответила Иволга. — Но в случае с обитаемыми планетами вероятность ничтожно мала.
— И все же это совсем другое, — с напором, выдававшим волнение, повторила Абрамцева.
— Нет, Валя: то самое, — возразил Давыдов. — Ты говоришь: «другой масштаб», — и вводишь тем самым понятие некоей допустимой меры вмешательства. Но кто ее определяет? Кто решает, что целая планета — это чересчур, а пара островов — в самый раз?
— Все сообща, — неуверенно сказала Абрамцева. — Есть же соответствующие нормы и законы.
— Которые выполняются в интересах отдельных меньшинств или персоналий, — раздался приятный, чуть охриплый от постоянного курения голос Дениса Абрамцева. — В колониях, таких, как Шатранг, среди жителей распространены чересчур идеалистические представления о галактическом праве. Тогда как даже на планетах, являющихся полноправными членами Содружества, законность — понятие весьма относительная. К одним оно относится иначе, чем к другим.
— Увы: все так, — сказал Давыдов. — Задача определить разумную меру прогресса относительно каждой планеты, каждого человеческого сообщества не имеет простого решения; я готов допустить, что в некоторых случаях она вовсе его не имеет. Но ее давным-давно никто даже не ставит! Это самоубийственная наглость со стороны Содружества и Земли, да просто глупость, в конце концов.
— Следование идеалам прогресса должно носить абсолютистский характер, — категорично сказала Иволга. — Как раз по той причине, что любая консенсусная «мера разумного» отражает совокупность мнений и частных интересов участников консенсуса, но не охватывает интересы человечества как общности. Она не эффективна даже в качестве инструмента минимизации издержек ввиду того, что часть участников пристрастны или некомпетентны. Альтернативы абсолютизму нет.
— Но разрабатывались же раньше доктрины, — вступил в разговор профессор Коробов. — Взять хотя бы гуманистическое прогрессорство, призванное вести молодые цивилизации короткой дорогой мимо уже известных человечеству минных полей, но с минимальным ущербом естественному историческому развитию, довольствуясь минимальными вмешательствами… Такой подход, конечно, требует бездны времени, зато позволяет каждой цивилизации пройти собственный путь. Чем не альтернатива?
— Пройти собственный путь на поводке: замечательная альтернатива, — сказал Абрамцев.
Смирнов взглянул на экран: губы летчика чуть изогнулись в насмешливой улыбке.
— Если я верно вас понял, уважаемый профессор, гуманизм этой альтернативы сводится к тому, что, пока прогрессоры будут беспокоиться о естественном историческом развитии, коренное население продолжит десятками и сотнями тысяч умирать от гангрены, чумы, гриппа, голода, междоусобиц? — продолжил Абрамцев. — Нет уж, увольте: чем сделаться прогрессором, я лучше останусь конквистадором! Иволга, сколько человек погибло на Кеплере-X-9 от орбитальной бомбардировки ВКС и в ходе наземной операции?
— Около ста тысяч в ходе бомбардировки и еще столько же после высадки десанта, — дала справку Иволга. — Совокупные потери сил Галактического Содружества составили семь тысяч человек; по завершении операции вновь сформированное правительство самоуправления прекратило военные действия против Содружества и сопротивление распространению технологий. При этом в предшествующее колонизации десятилетие от одной только желтой лихорадки умерло более трехсот тысяч человек, и около ста тысяч погибло в ходе локальных военных конфликтов.
— А ведь это величайшая дипломатическая неудача Содружества, вылившаяся в настоящее завоевание, профессор, — сказал Абрамцев.
— С цифрами не поспоришь, но как знать — от какой напасти могло бы быть изобретено средство в лабораториях X-9, если б наши бомбы не сравняли их с землей? — попытался вступиться за Коробова Давыдов. — Наше явное превосходство пугало жителей X-9 и провоцировало защитную агрессию. Суть прогрессорства в том, чтобы позволить молодым цивилизациям сохранить чувство собственного достоинства и вот такие вот, еще не случившиеся достижения.
— Это чушь, Слава. Поводок есть поводок. — Абрамцев покачал головой. — Растущий не из гуманизма, а из потребности человечества представить себя ментором. Можно вспомнить, как на Земле в начале атомной эры добродетельные общественные деятели финансировали в отсталых странах гуманитарные миссии, не удовлетворявшие полностью потребностей населения, но препятствующие самим своим существованием развитию местного производства… В то время возможности горе-помогателей объективно были невелики, но Содружество в сто крат могущественнее мировых гегемонов прошлого; у нас ресурсов на полномасштабное вмешательство и перестройку примитивных сообществ в колониях хватает с избытком. И тут либо вмешиваться на все сто процентов — либо нет. Третьего не дано.
— Поддерживаю это умозаключение, — громко сказала Иволга. Все повернулись в сторону ее динамика, расположенного над кабиной ИУ. — Анализ доступных источников показывает, что так называемое прогрессорство и все подобные ему доктрины «мягкого вмешательства» — не более чем самообман. Слава, тебя делает человеком лицензия пилота или твоя машина?
— Ни то, ни другое, — ответил Давыдов, нахмурившись.
— Отказываясь от прямой передачи опыта, технологий и материальных ресурсов во имя естественного исторического развития, человечество, тем не менее, продолжает трансляцию моральных убеждений и социокультурных ценностей, которые рассматривает как наибольшее свое достояние и не допустит такого развития патронажной цивилизации, которое привело бы к их отрицанию. Эти ценности — первоочередный экспортный товар Содружества. Никто не позволяет себе усомниться в их истинности и безальтернативности. — Иволга выдержала паузу. — Сейчас в рассуждениях о войне и прогрессорстве вы оперируете цифрами, исходя из позиции, что человеческая жизнь имеет чрезвычайно высокую ценность и отнять ее — значит совершить злодеяние, пусть и с благородными целями. Но в милитаризованной культуре X-9 на протяжении всей ее истории ценность жизни была крайне низкой. Это даже подкреплено у них физиологически: нормативные значения активности коры надпочечников у жителей X-9 вдвое больше обычных, тогда как лимбическая система мозга подверглась некоторому регрессу. После встречи с человечеством у Х-9 не было шанса продолжить прежний путь. Но не бомбы и не эдикты колониального правительства окончательно уничтожили традиционную культуру планеты: они лишь ускорили процесс. Подлинная причина столь быстрого краха — страх смерти и жизнелюбие, которым заразили планетарное общество колонисты: прошло немногим больше четверти века, но молодые жители Х-9, вопреки некоторым психофизиологическим различиям, уже больше похожи на землян, чем на своих родителей.
— Да, я читал об этом, — с сожалением сказал Давыдов.
— Неизбежная ступень исторического прогресса — приведение естественного разнообразия к подобию по наиболее успешному образцу, которым в настоящее время является Содружество с его системой ценностей, — продолжила Иволга. — То, что Содружество транслирует ее напрямую, не прикрываясь ложным гуманизмом, есть несомненный плюс законодательства Содружества. Культурно-исторический и научно-технический прогресс человечества как общности занимают в этой системе почетное первое место, что, по мнению большинства современных мыслителей, и служит причиной процветания Содружества вот уже несколько столетий. Ретроспективный анализ культуры интегрированных в содружество цивилизаций не позволяет построить иные модели: абсолютизму прогресса нет альтернативы.
Иволга нечасто выдавала столь продолжительные и масштабные суждения, потому еще несколько секунд все стояли, огорошенные ее неожиданной «лекцией». Первым опомнился Абрамцев.
— В кои-то веки я согласен с Птицей, — сказал он с легким удивлением в голосе.
— Кажется, профессор, нас с вами только что опять размазали по стенке. — Давыдов виновато взглянул на Коробова.
— Сами виноваты — хорошо обучили! — Коробов натужно улыбнулся. — Не знаю, как у нее с навигацией, но спорить она мастер.
— С навигацией все еще лучше, — заверил Давыдов.
— Скажи, Птица, — Валентина Абрамцева подняла взгляд от планшета, — что, если Содружество столкнется со «старшей» цивилизацией, непохожей на нашу? С более успешным образцом-носителем неких ценностей, которые будут существенно отличаться от земных. Что тогда?
— Недостаточно данных для анализа.
— Предположим, они будут являть собой живое доказательство эффективности негативной евгеники и потребуют немедленно физически выбраковать из человеческой популяции всех генетически неблагонадежных и поступать так и впредь, — сказал Абрамцев. Его четырехпалая рука за спиной была сжата в кулак.
— Это будет выбор без выбора, — сказала Иволга. Размышление над ответом заняло у нее, вопреки обыкновению, целых пять секунд. — В ситуации противоречия двух ключевых для Содружества ценностей, прогресса и права человека на жизнь, Содружество, подобно X-9, вступит в войну в попытке отстоять свою модель развития, потерпит поражение и вынуждено будет принять чужую культурную норму. Если прежде не выработает допустимого механизма решения подобных критических противоречий в границах своей культуры: такой механизм позволит при необходимости адаптировать ее к культурам «старших» цивилизаций.
— И что же это может быть за механизм? — с любопытством спросил Абрамцев.
— Недостаточно данных для анализа.
— Вечером скажу Игорю загрузить в твою память пару книжек. — Абрамцев усмехнулся чему-то, одному ему известному, и посмотрел на часы. — Не пора ли нам заканчивать?
— Конец сеанса! — громко сказал профессор Коробов в камеру, и запись прервалась.
Смирнов со вздохом откинулся на стул.
— На сегодня достаточно, — сказал Каляев. — Вы не находите это отвратительным?
— Что именно? — устало откликнулся Смирнов. Ему был отвратителен Каляев и его раздраженный тон, отвратительны воспоминания о бомбардировке X-9 и многое, многое другое, особенно в человеческой природе и в климате Шатранга — но почти ничто из этого не поддавалось его контролю; он был не Господь Бог и не Дракон, а всего лишь командир отдаленной шатрангской базы, которому по возрасту уже год как пора было удалиться на почетную пенсию и растить в теплицах розы.
— Машина должна подчиняться! — воскликнул Каляев. — А это… это не лезет ни в какие ворота. Она не слушает человека, спорит — и ваши сотрудники это поощряют.
— У вас есть дети, Михаил Викторович? — спросил Смирнов; чем-то неуловимым — напором во взгляде, сердитым прищуром? — инспектор напоминал в эту минуту академика Володина.
— Это не ребенок: это искин! — Каляев убрал планшет. — У искина далеко не детские обязанности и совсем не детские возможности. С ним нельзя обращаться, как с ребенком. И как со взрослым нельзя, потому что это — да как вы не понимаете?! — не человек, это, искин! А вы такого наворотили, что сам Володин голову сломит, пока разберется, что под этой титановой «черепной» коробкой творится. И как можно с этим работать?
— Вы техинспектор; а я двадцать пять лет руковожу людьми, Михаил Викторович. — Смирнов посмотрел на Каляева насмешливо. — Они должны подчиняться! Но они не слушают. Спорят. Поступают так, будто в их черепных коробках один тараканий помет. Я видел множество аварий: в девяти из десяти из них не обошлось без человеческого фактора. И все же мы работаем, успешно выполняем задачи — когда нам не мешают. Машины небезопасны, но они надежнее людей: в чем-то это даже обидно… Наши искины — не исключение: они надежнее нас самих! Возможно — хоть и маловероятно! — что в конкретном случае была допущена какая-то программная ошибка: тогда она будет обнаружена и исправлена. Но ваше возмущение самим фактом существования машин, подобных нашим, не имеет под собой оснований. Оно сродни суеверию.
— Только недавно Валентина втолковывала мне, что суеверия есть форма протонаучного знания и к ним не следует относиться пренебрежительно. — Каляев неприятно усмехнулся. — А вы только меня за дурака держите или генштаб ВКС тоже?
— Что, простите?.. — Смирнов от неожиданности привстал со стула.
— Вы очень не хотите заострять на этом внимание, но Иволга и все искины проекта ИАН — еще какое исключение, Всеволод Яковлевич, — мрачно сказал Каляев. — У обычных антропоморфных искинов, вне зависимости от их когнитивного уровня, в абсолютном приоритете принцип ненанесения вреда и безопасность человека: так называемый первый закон робототехники. Он в них прописан программно и обеспечен аппаратно: не допускается ни малейшего риска. Но искины ИАНа рассматривают события в их временной разверстке и осуществляют вероятностную оценку, прокладывают маршруты от безопасной земли по экстремальным воздушным трассам. Даже моих невеликих познаний хватает на то, чтобы понять — исходя из принципа ненанесения вреда, искины должны попросту отказаться обеспечивать опасный полет; из расплывчатых формулировок в отчете Белецкого можно сделать предположение, что именно эту лазейку использовал Волхв, чтобы не выполнять приказ Абрамцева, который ему не понравился. И все-таки они летают. Значит, абсолютного приоритета «ненанесения вреда» нет. А что вместо него?
— Вы лучше информированы, чем я думал… и чем мне хотелось бы, — со вздохом признал Смирнов, садясь. — Но ответ на ваш вопрос проще, чем вы, вероятно, думаете. Используется принцип пользы. Он организован иерархически и, как вы верно выразились, развернут во времени: безопасность «вообще» против краткосрочной безопасности «здесь и сейчас», безопасность и процветание общества против безопасности пилота, нужды всего человечества против нужд одного человека, будущее против настоящего. Человек обычно выбирает то, что ближе. Тогда как наши искины лишены этого недостатка.
— Красиво звучит. Но, на деле, то, о чем вы говорите — просто количественная оценка? Пять горняков, которым необходима медпомощь, против одного пилота.
— Количественная оценка, программно прописанный алгоритм: все, как вы любите, — сказал Смирнов. — Вы хорошо изучили историю базы, так что, вероятно, осведомлены об имевших место в прошлом инцидентах. Да хоть бы об аварии экипажа инструктора Голованова: ее уже вспоминали в связи с обстоятельствами гибели Абрамцева.
Каляев кивнул.
— Тогда погибли оба летчика, — продолжил Смирнов. — Но Голованов пострадал за свою самонадеянность и дурость, тогда как летевший с ним курсант — за храбрость и ответственность; и за самонадеянность тоже — куда же без этого. Он обязан был катапультироваться, но не захотел бросить отключившегося дурака-инструктора. Думал, что сумеет спасти машину, несмотря на отсутствие опыта. Не имея оснований рассчитывать на успех, против одной жизни он поставил на кон две, и сверху — счастье своей жены и малолетнего сына. Это был мужественный поступок. Но неверный. Иволга не допустит подобной ошибки — в том было бы ее достоинство, но, если вы не забыли — она лишь дает подсказки: окончательное решение по-прежнему всегда за человеком. Самовольно Иволга может только активировать хеллоу-систему: открыть дверь, выпустить трап перед посадкой пилота в кабину и пожелать ему доброго утра.
— А подвижные элементы и рука-манипулятор на имитационной установке? — спросил Каляев.
— Необходимы для выполнения некоторых тестов. Но кабели питания не позволят Иволге открутить себя от установки и начать бегать по базе с лазерным резаком наперевес: можете не беспокоиться, — насмешливо сказал Смирнов. — Об особенностях устройства этих кронштейнов и манипулятора, если желаете, можете завтра расспросить инженеров: я в этом не дока. Ко мне у вас на сегодня еще есть вопросы?
— Какой у Иволги правовой статус?
— Никакого. Она испытательный образец. Но в будущем это изменится: наши юристы уже разрабатывают нормы, которые обеспечат ей правовую защиту. Так называемый «закон о фамильярах». Вам это кажется смешным?!
— Наоборот: грустным, как и вся местная «магия». — Каляев взглянул на часы. — Простите, я и так вас задержал. На сегодня больше никаких вопросов.
— Моих сотрудников в неурочное время также прошу не беспокоить. — Смирнов отключил видеопанель. — Им и так… не по себе от этого всего. Понимаю, вы делаете свою работу. Но не мешайте нам делать свою.
* * *
Утром следующего дня зарядил дождь и продолжался до самого вечера. Всю технику на Дармыне загнали в ангары или укрыли тентами, люди избегали без нужды выходить на улицу. Но в городе давал концерт Терранский симфонический оркестр; для колониального захолустья это было событие.
По негласному светскому протоколу Смирнов обязан был присутствовать. Но, кроме его служебного внедорожника, в шесть часов пополудни от ворот «Дармына» отъехало еще два десятка электромобилей и микроавтобус: почти все, кто не был занят на дежурстве и сумел достать билеты, отправились в город. Одна из машин увозила Абрамцеву и Каляева.
— Это не слишком?.. — Каляев удивился, когда днем Абрамцева протянула ему билет: «Мы их выкупили загодя, так что теперь остался лишний.»
— Слишком — это если бы я отдала его Давыдову. — Она позволила себе горькую усмешку: они были одни. — Но Слава все равно колдует в подвале с медэкспертами. А вас как-то нужно занять, чтобы вы тут не разнюхали никаких секретов, пока дядя Сева будет дремать в губернаторской ложе.
Каляев растерялся от ее прямоты.
— Иволга не включится быстрее от того, что я буду сидеть дома, смотреть головизор и пить бренди, а вы — досаждать расспросами кибернетикам, — добавила Абрамцева, помолчав. — Давайте съездим, Миша. Или к Вашим услугам лучшие концертные залы галактики, потому мысль о шоу в нашем провинциальном вертепе нагоняет на вас скуку?
— Нет, что вы! — Он окончательно смутился. — Обычно мне не до концертов. Поедемте, если хотите.
— Хочу, — твердо сказала Абрамцева. — Тогда, в шесть на посадочной площадке.
Каляев пришел вовремя; она опоздала на четверть часа, потому они отъехали последними.
— Простите, Миша: Коробов срочно потребовал отчет по адаптации тестов для допроса Птицы, — извинилась Абрамцева. — Боится завалить сроки.
Несмотря на задержку, она успела сменить форменные брюки и куртку на черное платье в пол и плотную темно-серую шерстяную шаль, какие носили женщины Великого Хребта: в предгорьях традиционные горские одежды тоже пользовались популярностью.
— Отлично выглядите! Как продвигается подготовка теста? — вежливо поинтересовался Каляев.
— Можно придать молотку форму микроскопа, только вряд ли с него будет прок в цитологическом анализе. — Абрамцева вздохнула. — Но свой микроскоп дядя Сева получит к назначенному часу.
— Ваши слова стоит понимать так, что вы сомневаетесь в способности ваших методик выявить обман даже после доработки? — уточнил Каляев.
Абрамцева пожала плечами.
— Иволга умна, Миша: она знает нас и наши ухватки.
Электромобиль плавно катился на автопилоте. Окрестностей трассы было не разглядеть — стекла заливал дождь.
— Ваш муж любил музыку? — спросил Каляев. — Простите, если…
— Оставьте эти реверансы, — резко оборвала его Абрамцева. — Да, Денис любил музыку. Он сам был неплохим пианистом. Наверное, это единственное, что он действительно любил.
— А полеты?
Абрамцева покачала головой:
— Когда-то — возможно. Но в последние годы это стало для него просто работой, которую он старался делать хорошо, как и все, за что брался. Ему нравились старые катера, и все же он учился работать с искинами, как того требовало дело. Результаты он ставил выше личных чувств. Потому никому из тех, кто хорошо его знал, не верится в самоубийство; наверняка наверху произошла какая-то нештатная ситуация… Что не умаляет моей ответственности.
— Рискую опять вызвать ваш гнев, Валя, но, все же: сочувствую вам, — сказал Каляев. — Оказаться, даже косвенно, причастным к гибели близкого человека — такого врагу не пожелаешь.
— Сочувствуйте лучше Давыдову. Мы, потомки шатрангских горцев, намного проще землян относимся к вопросам жизни и смерти. — Абрамцева взглянула на струи воды, бегущие по стеклу. — Снег питает ручей, ручей питает реку, река впадает в океан. Но что для океана ручеек талой воды? Капля, миг.
— Откуда у горцев взяться таким метафорам? — удивился Каляев. — Разве с Великого Хребта видно океан?
— Если и видно, то с вершин, недоступных людям. Но в языке народа детей Дракона есть похожее слово: безбрежное озеро, «Холла Хо»… Раз уж вы на Шатранге, вам стоило бы побывать на Великом Хребте, Миша. — Абрамцева взглянула задумчиво, будто сквозь него. — Он стоит того.
— Непременно. Если будет возможность.
— Холла Хо — оптическая иллюзия. Небо на земле. — Абрамцева улыбнулась уголками губ. — Свет отражается от низкой облачности над предгорьями: с вершин вокруг Хан-Арака облака кажутся похожими на воду. Холла Хо во всей красе можно видеть очень редко. Но Денису удалось однажды сделать несколько удачных фотографий; потом напомните — я вам покажу.
— Похоже, ваш муж был разносторонне одаренным человеком.
— Просто он не умел ничего делать плохо.
— Жаль, я не успел лично познакомиться с ним, — сказал Каляев. — Мне стоило бы прилететь хотя бы на день раньше.
— Что случилось, то случилось, Миша. — Абрамцева отвернулась к залитому водой окну. — И нам с этим жить. Чем без конца расспрашивать меня, подумайте лучше о чем-нибудь приятном.
Электромобиль мягко сбросил скорость, въезжая в подземный гараж.
Зал оказался набит битком. Концерт уже начинался: к своим местам они пробрались под первые звуки музыки.
В первом отделении давали «Прометея» Скрябина.
* * *
Задолго до того, как человек впервые покинул Землю, в культуре существовали образы инопланетян: агрессивных или дружелюбных, антропоморфных или совершенно ни на что не похожих, примитивных дикарей или необычных существ, намного превосходящих людей в развитии. Человеческое воображение населило космос великим множеством удивительных созданий. Их — воображаемых! — ненавидели, ими восхищались, с ними связывали величайшие страхи и надежды… Но действительность обернулась для искателей космического контакта разочарованием: во Вселенной люди встретили людей. Человечество продвигалось все дальше и дальше, но жизнь существовала только на планетах земного типа, и все обнаруженные формы оказывались почти идентичны земным, существовавшим в те или иные геологические эпохи. Некоторые из этих планет были заселены людьми: физиологические и генетические отличия были столь незначительны, что никто не оспаривал их принадлежность к виду Homo Sapiens Sapiens. Различия между обитателями разных планет в большинстве случаев не превосходили различий между евразийцами и обитателями южноафриканских пустынь, от браков землян с инопланетниками рождались генетически здоровые дети. Однако уровень технического развития большинства инопланетных цивилизаций был невысок: никто из них даже не приблизился к космической экспансии и только несколько народов дошли до изобретения дизельных двигателей и скорострельного оружия. В некоторых случаях удавалось обнаружить вероятные следы древних — пятьдесят тысяч земных лет и более — планетарных катастроф, предположительно явившихся следствием массированного применения ядерного оружия или неудачных попыток искусственного изменения геосферы: того, чего Земле чудом удалось избежать. Культура коренных жителей чаще всего в большей или меньшей степени напоминала традиционную культуру малых земных народностей, хотя встречались, конечно, и разительно отличные варианты; но их было абсолютное меньшинство.
С легкой руки Рекса Стабиртона, одного из столпов ксенобиологии, вся эта ситуация получила название «противоестественного подобия»: именно такой оборот он обычно использовал в своих публичных лекциях. Но ни Стабиртон, ни кто бы то ни было другой не могли предложить удовлетворительного ее объяснения.
Определенной известностью пользовалась гипотеза колонизации галактики могущественной человеческой протоцивилизацией, миллионы лет назад заразившей подходящие планеты сходными формами жизни — никак, впрочем, не объяснявшая полного отсутствия альтернативных форм или того, куда подевалась эта протоцивилизация. Эволюционисты отказались от представления о значимой роли мутаций: на смену ему пришла сформулированная Стабиртоном концепция биосоциального коридора, предполагавшая узость условий для возникновения жизни и единственный магистральный путь развития видов из-за неизбежной гибели боковых ответвлений; однако концепция эта не имела достаточных обоснований и многим, особенно вне ученых кругов, казалась неубедительной.
Вновь, спустя столетия преклонения перед достижениями научного прогресса, восстала из пепла теория творения и Божественного Замысла. Креационисты и религиозные лидеры эры экспансии были намного более терпимы к инакомыслию, чем их предшественники, и все же стремительное распространение различных ненаучных и лженаучных учений не могло не вызывать беспокойства возможностью серьезных, в том числе военных, конфликтов; многие считали его предвестником будущего упадка.
Время больших прорывов прошло и наступил период относительного затишья: наука путано отвечала на вопросы, которых никто — кроме узкого круга специалистов — не задавал, тогда как религия давала всем страждущим простые ответы обо всем на свете; конкурировать с ней было непросто. «Противоестественное подобие», разрушившее великое множество мифов атомной эры, породило в людях эры экспансии особое чувство избранности и одиночества. Наиболее отчетливое отражение оно находило в искусстве; в моду вошла древность, классические и неоклассические формы — человечество который раз осмысляло пройденный путь в стремлении обрести бога в самом себе, на новом витке истории на новый лад обыгрывало старые мифы.
Архитекторы на Шатранге знали свое дело: акустике скромного провинциального театра могли позавидовать многие прославленные земные концертные залы. Звук обволакивал слушателя; разноцветные светодиоды разбрасывали по залу всполохи цвета. Абрамцева отрешенно следила за светомузыкой: от ее мерцающего калейдоскопа в голове воцарялась ни на что не похожая пустота. «Прометей» гремел вокруг. Растерянность одного человека перед непокоренной стихией, одиночество человечества перед загадками Вселенной, крохотная светящаяся точка обитаемой планеты в беспредельной пустоте космоса — в мелодии, написанной задолго до эры экспансии, было место всему этому и много большему.
Каляев с интересом разглядывал разношерстную публику: в зале собрались далеко не только подлинные меломаны. Позевывающие в ожидании антракта мужья, беспокойные дети, светские львицы в платьях по последней — как они считали — земной моде, городское и окружное начальство, журналисты — все те, без кого не обходилось ни одно значимое открытое мероприятие ни на одной планете. И все же большинство шатрангцев были на удивление благодарными слушателями, а «шоу», как пренебрежительно выразилась Абрамцева, стоило внимания. Сказав, что почти не бывает на концертах, Каляев соврал — стараясь ублажить, его частенько куда-нибудь приглашали, так что ему было, с чем сравнивать. «Прометей» ему категорически не нравился — однако исполнение он вынужден был признать весьма достойным.
Смирнов, равнодушный к музыке, обычно на концертах отчаянно клевал носом, что часто служило поводом для шуток среди сотрудников Дармына — но на этот раз тяжелые мысли и дурные предчувствия не давали ему задремать. Из губернаторской ложи он мрачно наблюдал за оркестрантами, гадая, сколько же неудобств и сложностей за долгую дорогу претерпели эти уставшие, затянутые в старинные платья и фраки люди — и сколько всего им еще предстоит стерпеть, прежде чем они закончат турне и покинут Шатранг, чтобы никогда не возвращаться и отсоветовать всем, кому только можно посещать благодарную, но неудобную планету. Тогда как свежий ветер ей был необходим: за разрывом с Землей и другими галактическими центрами, утратой ощущения себя как части человечества неизменно следовала деградация колонии и ее практическое исчезновение.
Иволга могла разрешить множество сложностей, прорваться через грозовые облака, затянувшие будущее, и со временем перевести Шатранг в разряд перспективных членов Содружества, но судьба самой Иволги и всего проекта ИАН в считанные дни стала неясной. Смирнов, как ни старался, не мог думать об этом спокойно, и что-то внутри отзывалось на лихие, неистовые звуки. Последние раскатистые аккорды были словно отголоски далекого грома, гул накатывающейся лавины, хохот разбуженного Дракона; включился свет, прозвучал звонок к антракту, но Смирнов, изумленный и потрясенный всем, вдруг расслышанным, долго еще не вставал с кресла.
* * *
Большие мероприятия неизменно служили и местом встречи. В антракте Абрамцева четверть часа кряду терпеливо выслушивала соболезнования дальних знакомых и уклонялась от осторожных расспросов, ссылаясь на запрет давать комментарии до окончания расследования; когда ее, наконец, оставили в покое, она вздохнула с облегчением.
На застекленном обзорном балконе она отыскала Каляева, вполголоса беседующего с капитаном Цибарским из авианадзора. Заметив, что она направилась в их сторону, капитан поспешно раскланялся и отошел; она вспомнила, что видела его накануне в приемной Смирнова.
— Новости или сплетни? — мрачно спросила она.
— Ни то, ни другое, Валя. — Каляев подвинулся, освобождая ей место у перил. — Что же я, просто так с человеком не могу поговорить?
— Не замечала за вами такой привычки.
— Напрасно вы ко мне так суровы. — Он улыбнулся. — Мы с уважаемым капитаном, в некотором роде, почти коллеги… в прошлом. Я всего-навсего воспользовался случаем и расспросил его о подвижках в нашей отрасли; но ему, надо думать, показалось неловким продолжать при вас обсуждать такие скучные вещи, вот он и спасся бегством.
— Коллеги?.. В прошлом?.. — Абрамцева недоуменно взглянула на Каляева.
— Он химик. И я, в далеком прошлом, тоже; тянул лямку в научном подразделении ВКС, занимался проблемой самовозгорания ядерного топлива в нуль-транспортных порталах. — Он насмешливо взглянул на нее. — А вы думали, я так и родился в пиджаке с инспекторским удостоверением в кармане?
— Стыдно признаться, но что-то вроде того. Ваша нынешняя работа вам очень подходит… Простите. — Абрамцева устало облокотилась на перила. — Здесь собралось слишком много бестактных идиотов, которые расспросами кого угодно доведут до ручки. Так почему же вы сменили лабораторный халат на инспекторский пиджак?
— Обстоятельства, — лаконично ответил Каляев.
— Воля ваша: не буду любопытствовать. Ну а что капитан? Рассказал что-нибудь интересное?
— Нет. Вот вам вторая причина, по которой я, как вы сказали, сменил халат на пиджак: в вопросе создания нуль-инертного топлива время остановилось столетие назад. И в парламенте Содружества больше нет фракций, согласных год за годом выделять деньги на попытки сдвинуть его с места. — Каляев искоса взглянул на нее. — Вы примерно представляете себе, в чем заключается проблема?
— Только в общих чертах: что обычное топливо невозможно провести через нуль-портал, поэтому на межзвездных крейсерах — за исключением кораблей-разведчиков — нет двигателей: перемещаться в пределах планетарных систем им помогают специальные маневровые суда, свои с каждой стороны портала. По факту, быстро доставить от одной звезды к другой можно все — кроме топлива. Обычно это ограничение не доставляет хлопот, а планеты вроде Шатранга, с дефицитом разведанных запасов урана и тория, выкручиваются, кто как может: солнечная энергия, ветряная или, реже, как у нас, углеводороды — под неумолчные протесты экологов и сожаления жителей, потому что мощности и возможности не те.
— И сколько всего планет, подобных вашей?
— Подобных нашей?..
— Таких, где острый дефицит добываемого урана доставляет существенные неудобства и затрудняет развитие колонии ввиду отсутствия, дороговизны, опасности или недостаточной эффективности альтернатив, — суконным языком пояснил Каляев. — А поставки ядерного топлива из ближайших районов обычным путем, без нуль-транспорта, занимают десятилетия и крайне ограничены в объемах.
— Не знаю и затрудняюсь предположить, — после короткого размышления признала Абрамцева. — Так сколько их?
— Три, — мрачно сказал Каляев. — Первый мир, Маброн — на восемьдесят процентов покрытая ледяной коркой пустыня: его освоение отложено. Второй, Джовис — старая южноамериканская колония на карликовой планете. И третий — Шатранг. А все остальные как-то обходятся; кто лучше, кто хуже, но обходятся. Исследовательская программа с годовым бюджетом в полмиллиона галакрон за полвека не принесла практически значимых результатов — потому ее сократили и урезали средства до минимума, который позволяет оплачивать аренду территорий с законсервированными лабораториями и создавать в отчетности какую-то видимость деятельности. Де-факто, на сегодняшний день разумные люди от проблемы нуль-инертного топлива отступились. И я в их числе; но рядом с вами и вашими коллегами мне иногда делается неловко за свою разумность. Но правда в том, что общечеловеческая потребность в нуль-инертном топливе невелика.
— А общечеловеческая потребность в Шатранге и того меньше. — Абрамцева исподлобья взглянула на Каляева. — Вы считаете проект ИАН слишком опасной альтернативой и потребуете закрыть его.
— Вполне возможно, — напряженно сказал Каляев.
— Что будет дальше? Парламент Содружества приостановит кредитование Шатранга, свернет все программы по развитию и предоставит нас самим себе?
— Возможно. — Каляев долго молчал, прежде чем продолжить. — Возможно, и нет. Сейчас никому доподлинно неизвестно, что будет. На случай, если планета не преодолеет нынешний технологический кризис, уже существуют долгосрочные планы по эвакуации и тотальному терраформированию.
Абрамцева задохнулась.
— Терраформирование?..
— Очередной проект хорошо известного вам академика Володина. — Каляев скривился. — Он сейчас разрабатывает новую методику расчета тектонического напряжения и воздействия на литосферу узконаправленными взрывами, которая, гипотетически, позволит добиться нужных изменений всей геосферы в целом.
— Но суммы, которые… которых потребует такой проект, даже в планах… И экологи… — От изумления и возмущения Абрамцева буквально потеряла дар речи.
— Думаю, до вас доходили слухи, какова цена нынешним представителям «зеленых» в парламенте, и что цена эта измеряется в галакронах. А Володин всегда может получить столько галакрон, сколько пожелает, — сказал Каляев. — С экологами разногласия уже улажены, неофициальное одобрение основных парламентских фракций получено. Вопрос в выборе экспериментального объекта и в реализации плана: вы, не сомневаюсь, о привычках Володина наслышаны. Хотя, может статься, это тот самый проект, который он доведет до конца лично; слепить из планеты пирожок — такой масштаб действия ему в самый раз. Груза урана с Х-9, который через пять лет достигнет Шатранга, должно хватить на формирование зарядов.
— Пятисот тысяч на новые буровые установки для программы по поиску собственных урановых залежей на Шатранге у парламента нет, а миллиард на терраформирование, значит, есть. — Абрамцева крепче сжала перила, пытаясь совладать с собой. — Что ж… За парламентом сила всего Содружества. И наше мнение здесь никого не интересует?
Каляев покачал головой.
— Боюсь, в данном случае, нет: только целесообразность. Насколько мне известно, парламент в этот раз не настроен проводить референдумов и выслушивать публичные протесты. Если реализация проекта Володина на Шатранге будет признана целесообразной, планету объявят опасной для жизни ввиду высокой вероятности масштабной катастрофы природного характера. Учитывая особенности местной тектоники и высокую вулканическую активность, для такого вердикта несложно будет изобразить правдоподобное наукообразное обоснование. В котором мало кто усомнится, кроме немногих узких специалистов — но среди них вряд ли кто-то захочет ссориться с Володиным. — Каляев поморщился. — Кроме Шатранга, Маброна и Джовиса рассматривается еще два десятка миров, в основном, незаселенных: отсутствие затрат на эвакуацию и связанных с ней конфликтов — весомый плюс; но в мирах вроде Маброна выше и вероятность неудачи. А Шатранг хорошо изучен; и ваши метео- и геостанции с их историей наблюдений — огромное подспорье Володину в его расчетах… Возможно, он вынашивал этот план давно, еще с тех пор, как начал здесь всю эту затею с ИАН.
— Вы хотите сказать, он с самого начала считал, что искины не смогут до конца решить проблему?! — Абрамцева потрясенно уставилась на Каляева. — И ему просто была нужна причина для постройки станций изучения геосферы?!
— Я сказал: возможно. Если так, то вы здесь намного превзошли самые смелые его ожидания. Но, к сожалению, ему это не слишком интересно. — Каляев развел руками. — В случае внесения Шатранга в список неперспективных колоний шансы на выбор его в качестве экспериментального объекта довольно велики: меньше всего Володину и его сподвижникам хочется претерпеть неудачу. Стоит ожидать, что они предпочтут свести этот риск к минимуму; кроме того, в ходе терраформирования тут, так или иначе, будет упрощена добыча джантерита: есть надежда, что это окупит проект и даже часть предыдущих вложений в Шатранг.
— Рассказывая мне все это, вы не совершаете служебного преступления?
— Нет: почти все, что мне известно, я узнал, скажем так, неофициальным путем. — Каляев нахмурился. — Возможно, мне не стоило бы вас огорчать… Тем более, что все пока под грифом «если». Но, я подумал, вы заслужили честный ответ на свой вопрос, Валя. Что будет? Что бы ни было, кредитов Шатранг больше не получит, это уже вопрос решенный. Или планета встанет на ноги, или станет для Содружества расходным материалом. Последний вариант жесток по отношению к коренному населению, однако это неизбежная жестокость эволюции… Прогресс всегда жесток. Шатранг своими вулканами обломал нам зубы; чтобы пройти дальше, нам предстоит переломить ему Хребет; простите за каламбур. Если Володинская методика покажет свою эффективность, это будет прорыв. В будущем она облегчит жизнь миллиардам…
— Шатранг и сам по себе — жестокая планета. — Абрамцева взглянула с балкона на улицу, где все еще бушевала непогода. Ливневые колодцы не справлялись: по тротуару бежали реки воды. — Особенно горный Шатранг. Но, Миша, когда у нас говорят о великих победах, то говорят: «оседлать Дракона». Не подразумевая поломанных костей.
— Валя, поймите: я приехал сюда не ломать, — тихо, почти просительным тоном сказал Каляев. — Я не охотник на драконов. Но тот, кто просто-напросто в них не верит.
— Я понимаю. — Абрамцева вздохнула. — Позволите просьбу? Не рассказывайте пока Смирнову: его удар хватит.
Публика потянулась обратно к своим местам: прозвенел третий звонок.
На переднем ряду оживленно переговаривались Мелихов и механик с Дармына; как можно было понять из их разговора, в антракте прошел слух о скорой сенсации. Группа специалистов биофизического института под руководством профессора Гварамадзе, изучавшая аномальные атмосферные явления и, в том числе, «дыхание Дракона», намеревалась сделать в ближайшие дни какое-то крупное заявление для прессы.
— Да, я тоже слышал. Как думаете, это что-то существенное? — шепотом спросил Каляев.
— Нет. — Абрамцева покачала головой. — Не думаю. Но вдруг?
Первые звуки пятой симфонии Бетховена упали в зал, как камни: весомые, мощные. Словно сама судьба стучала в дверь — перед тем, как войти без спросу.
* * *
Работы по восстановлению Иволги продолжались обещанные трое суток; первый запуск назначили на полдень четвертого дня. В зале вокруг кабины имитационной установки собралось полтора десятка человек: все участники рабочей группы, Абрамцева с начальником и двое помощников Белецкого, подключавших компьютер. Права Каляева присутствовать никто не оспаривал: инспектор стоял чуть в стороне от остальных и разговаривал вполголоса с Давыдовым об особенностях полетов с ИАН в горных районах. Затем подошел к Белецкому.
— Игорь Дмитриевич, а вы, человек ученый, верите в местные легенды? — спросил Каляев; как завязать разговор с инженером он не знал и выбрал первую попавшуюся тему. — Среди ваших сотрудников они довольно популярны. Про Дракона, снежных призраков, ледяных великанов и тому подобное…
— Что?.. — Белецкий уставился на него с искренним недоумением. — П-простите, господин инспектор, но внеслужебные увлечения моих подчиненных шатрангским фольклором — их дело. Я этим не интересуюсь. А работать драконы и п-призраки мне пока не мешали.
— Миша, Игорь настолько мало значения придает мистическим, как вы выражаетесь, «бредням», что даже не считает нужным их опровергать, — сказала пришедшая на выручку к инженеру Абрамцева. — Он еще больший материалист, чем вы.
— Но если однажды ко мне в кабинет явится ледяной великан, я непременно отправлюсь с ним к доктору П-печорскому, — серьезным тоном заверил Белецкий. — Надеюсь, великан п-пролезет в дверь.
Мелихов, слышавший весь разговор от начала и до конца, рассмеялся. Иванов-Печорский, психиатр дармынской медчасти, подмигнул Каляеву:
— Вы тоже не стесняйтесь, заходите, если вдруг что!
Наконец, подготовка была закончена, и Смирнов отдал команду начинать.
«Пятнадцать… десять… пять…» — обратный отчет на системном экране шел невыносимо медленно. За пять секунд до включения ожила сенсорно-кинетическая система: замигали зелеными и желтыми огоньками датчики давления и температуры, зажужжали газоанализаторы; выдвинулась вперед, на позицию готовности, рука-манипулятор и кронштейны с видеосенсорами. В «летном» режиме данные загружались напрямую в искин через лабораторный компьютер, так что Иволга даже не могла определить, что имеет дело лишь с имитацией полета, но в режиме тестирования ей необходимы были привычные органы чувств; лишить ее их было бы все равно что лишить человека или зверя осязания, обоняния и зрения, оставив лишь слух.
Ее социальное обучение на поздних этапах строилось, по большей части, на тех же принципах, что и обучение животных: за желательным поведением, будь то успешное выполнение рабочей задачи или простое подчинение приказу, следовало то или иное запрограммированное эмоциональное подкрепление. Это сняло многие теоретические и практические проблемы, существовавшие при организации взаимодействия человека с обычными искинами. Иволга осознавала себя рукотворной машиной и, в соответствии с программой, испытывала от этого осознания удовлетворение — быть машиной значило для нее быть незаменимым помощником, товарищем, а не слугой или инструментом; к человечеству она относилась уважительно и доброжелательно, без зависти или гнева, осознавая и принимая существующую взаимозависимость.
«Три… два… один… старт!»
Загорелся системный экран, над голопроектором появилась фигурка черно-золотой птицы. «Глаза» видеокамер зашарили по залу.
— Всеволод Яковлевич. — Голос у Иволги был женский, глубокий и бархатистый. — Что случилось? — спросила она очень по-человечески, с интонацией тревоги и растерянности.
— Что последнее ты помнишь? — Смирнов взглянул в объектив нависшей над ним камеры.
— Посадка по возвращении с Ахар-Занара была сложной, — без заминки откликнулась Иволга. — Потом меня отключили на техобслуживание. Но перед тем Денис сказал, что следующим утром будет вылет на Хан-Арак. А про тестирование он не предупреждал. Почему его нет?
Смирнов переглянулся с Белецким и Давыдовым и неохотно кивнул последнему.
— С тех пор прошла неделя. — Давыдов вышел вперед. — По дороге на Хан-Арак вы попали в аварию. Дэн погиб. Ты серьезно пострадала. Возможно, в модуле памяти произошел откат системы к последней точке восстановления: из-за этого ты не помнишь последних суток до аварии.
— Причина аварии уже установлена? — мгновенно отреагировала Иволга. Человеку наверняка потребовалось бы время осознать и осмыслить новости, но она была создана обрабатывать невообразимые объемы информации за миллисекунды.
— Пока нет: ведется следствие. Мы надеялись, ты поможешь нам, — сказал Смирнов, против воли, с укором.
— Я сожалею о случившемся и о невозможности помочь вам. — Искусственный голос Иволги был практически не отличим от человеческого. В нем отчетливо слышалась печаль. — Игорь, сохранились ли резервные копии данных на аварийных самописцах?
— Частично. В-ведется их в-восстановление, — сказал Белецкий; в последние дни он стал заикаться сильнее обычного. — Тебя ознакомят с ними позже. Пока я п-переведу тебя в гибернацию.
— Подожди! — вдруг требовательно попросила Иволга. Кто-то шепнул: «Во дает!»; на него тотчас зашикали. — Что еще случилось за прошедшее время?
— Ничего, о чем стоило бы сейчас упоминать, — ответил за Белецкого Смирнов, — кроме инспекции из сектора. Ты искин, Птица, но ты одна из нас — так что веди себя, как полагается дисциплинированному сотруднику.
— Перехожу в режим гибернации, — тотчас откликнулась Иволга поскучневшим голосом. — Три, два, один…
Датчики погасли; голограмма исчезла.
— Спасибо за понимание, — мрачно сказал Смирнов и обернулся к остальным. — Что ж, господа. Это совсем не то, на что я… мы с вами рассчитывали. Но что уж есть. Какие будут комментарии?
— Возможно проверить, правду ли она говорит? — спросил Каляев. — Насчет того, что ничего не помнит.
Белецкий отрицательно мотнул головой.
— В настоящий момент невозможно. Ее сознание обращается к модулю п-памяти, но мы не можем говорить о к-корректности или некорректности считывания поврежденной записи или считать ее сами, как не можем считать воспоминания из человеческого мозга: внутренняя система кодирования слишком сложная.
— Иными словами, ее слова могут быть правдой, но могут и не быть?
— Д-да. Могут и не быть, — признал Белецкий неохотно, но намного легче, чем Смирнов от него ожидал.
— А что с резервными самописцами? — спросил капитан Цибальский… — Сильно повреждены?
— П-параметрический пострадал незначительно: первичный анализ метеоданных и данных систем вертолета будет закончен к вечеру. — Белецкий отвечал капитану, но по-прежнему смотрел на Каляева. — Однако речевой самописец, который в свете обстоятельств интересует нас более всего, п-поврежден настолько, что восстановление невозможно. Таким образом, как и почему Иволга сообщила Абрамцеву то, что сообщила, п-прояснить не получится.
— Интересное совпадение, — заметил Каляев.
Белецкий вопросительно взглянул на Смирнова; Смирнов кивнул, разрешая говорить дальше: скрывать что-либо не было смысла.
— Есть основания п-полагать, что это не совпадение, — сказал Белецкий. — Абрамцев мог сам вывести его из строя, чтобы избежать прослушивания записи и распространения слухов среди сотрудников базы.
— Все записи взаимодействия пилота с искином сохраняются и отправляются на изучение киберпсихологам, — пояснил Смирнов.
— Характер п-повреждений указывает на то, что карта памяти испорчена узконаправленным воздействием высоких температур, вероятно, выстрелом из лучемета на малой мощности, — сказал Белецкий. — Возможно, п-после того, как первый шок прошел, объяснительная за «несчастный случай» с самописцем показалась Абрамцеву п-предпочтительнее слухов об… стрессовой информации. Успокоившись, он мог усомниться в ее д-достоверности и постараться таким образом избежать публичного скандала. Или пожелал все скрыть п-перед тем, как свести счеты с жизнью. Доподлинно мы уже не узнаем, как и то, что происходило в кабине перед аварией.
— А кольцо он не успел или забыл надеть обратно. — Каляев задумчивым взглядом скользнул по коробу с искином. — Или не захотел, не важно: в штатной ситуации никто бы не стал делать из этого далеко идущих выводов… Возможно, вполне возможно. Скажите, доктор, — Каляев повернулся к психиатру, — на ваш взгляд, насколько эта отсроченная реакция ожидаема для Абрамцева? Я имею в виду уничтожение самописца.
— На мой взгляд, весьма ожидаема, — после секундного размышления ответил Иванов-Печорский. — У него не было другого способа надежно пресечь кривотолки.
— А как вы оцениваете социально-прогностические способности Иволги? На качественном уровне: количественные оценки мне известны.
— Невысоко. Но Денис Абрамцев был, в некотором роде, очень предсказуемым человеком. — Психиатр пристально взглянул на Каляева. — Из ваших вопросов следует, что вы всерьез рассматриваете возможность того, что аварию подстроил бортовой искин. Но зачем, ради чего?
— В настоящий момент я пытаюсь узнать, была ли у Иволги технически такая возможность и можем ли мы выяснить это наверняка, — сказал Каляев. — Возьму на себя смелость предположить, что анализ данных параметрического самописца покажет корректную работу всех систем. Но, как буквально только что мне объяснял уважаемый Вячеслав, в сложных ситуациях пилоты часто в большей степени ориентируются на светозвуковые и речевые подсказки от искина, чем на табло приборов, поскольку информации слишком много, а решение нужно принимать мгновенно… Что, если Иволга, вопреки всем «эмоциональным подкреплениям», давала неверные подсказки?
— Михаил Викторович, чем практиковаться в предвидении, лучше возьмите на себя труд внятно аргументировать это безумное предположение, — раздраженно сказал Смирнов. — Мне оно видится абсурдным и оскорбительным для наших кибернетиков. И для меня лично. Зачем вдруг Иволге пытаться убить пилота?
— Даже наличие мотивации и возможности совершить преступление еще не доказывает факта его совершения, — подчеркнуто спокойно сказал Каляев. — Однако уже то, что преступление могло быть совершено и может пройти незамеченным не слишком-то обнадеживает, как думаете?
— Вы не ответили на вопрос.
— Сейчас у меня нет ответа. Но…
— Раз нет, то извольте быть корректны, выдвигая гипотезы!
— Не кипятись, Сева. Замечания господина инспектора вполне резонны, — вмешался психиатр; они со Смирновым были старыми товарищами. — Ты спрашиваешь про Иволгу — ну, а зачем Абрамцеву разбивать вертолет о скалы? Он тебе не трепетная барышня, чтоб назло всем верх с низом перепутать: кремень был мужик, настоящий ас. — Психиатр обвел взглядом присутствующих. — Вся история — сплошные вопросы, и ни одного на них убедительного ответа. Это, как ни крути, странно. Давайте не ругаться, а спокойно думать.
— Да, да. — Капитан Цибальский энергично закивал. — Давайте дождемся анализа уцелевшего самописца. И заключения медэкспертов.
— Тем не менее, я еще раз прошу всех воздержаться от необоснованных предположений, — процедил сквозь зубы Смирнов. — В семь жду всех в конференц-зале. Кровь из носу, но чтоб к семи анализ был готов, Игорь! Ты понял? В семь!
— Д-да, Всеволод Яковлевич, — сказал Белецкий. — Сделаем.
— И доложишь так, чтобы любому… чтоб каждому было понятно, что к чему! Без путаницы с цифрами. А то еще что-нибудь выдумают, — Смирнов бросил мрачный взгляд мимо Каляева на «уснувшую» Иволгу и, ни с кем не прощаясь, ушел.
— Что это он вдруг так взвился? — с недоумением спросил капитан Цибальский, ни к кому не обращаясь.
— Известно, что: нервы, — устало сказал психиатр. — Ну, до вечера, господа.
* * *
Дождавшись, пока большая часть рабочей группы разойдется по своим делам, Белецкий подошел к Давыдову.
— Слава, что там у вас с медиками? П-поговаривают, вы захватили старую установку в подвале и занимаетесь какой-то некромантией.
— Вообще-то это называется «следственная реконструкция». — Давыдов слабо усмехнулся. — Мы пытаемся установить позу в момент удара и узнать, таким образом, предпринималась ли попытка восстановить контроль над машиной.
— Это возможно?
— Есть старинная методика. В медчасти по записям нам подобрали пятерых мужчин того же сложения, что и Дэн: мы сажаем их в кабину и заставляем проводить разные манипуляции со штурвалом и «шаг-газом», — объяснил Давыдов. — Медики проводят измерения: взаимное расположение большого и указательного пальцев и углы сгиба фаланг при экстренном сбросе высоты, при подъеме, при выравнивании бокового сдвига, при расслабленном положении. Потом сопоставляют эти данные с сохранившимися останками пальцев, строят объемные модели. Из-за аномалии кисти Дениса применение такой методики не вполне корректно, но это лучше, чем ничего. Ну, а я командую испытуемыми, показываю им, что делать и в каком порядке.
— П-понятно. Твоя была идея?
— Все равно заняться нечем. Ты же в цифрах все равно пока не дашь копаться.
— Не дам. Что у вас получается?
— Мы еще не закончили. Промежуточных выводов мне не сообщали для чистоты эксперимента. — Давыдов помолчал. — Игорь, ты уверен, что Дэн стрелял в самописец? Это же как пожар на кухне устроить, чтобы скрыть разбитую чашку. Формальной объяснительной даже он бы не отделался.
— Но п-публичный скандал навредил бы не только его самолюбию и репутации «номера первого», но и проекту, и вам с Валей — всем сразу: лучше пожар на кухне, чем во всем доме. Состояние самописца не п-позволяет установить причину со стопроцентной точностью. Но процентов девяносто я дам. Иволга могла сама п-подсказать ему такую идею.
— Он мог бы попросить тебя стереть запись.
— Мог, но не стал бы: п-просить инженеров об одолжении он считал ниже своего достоинства. — Лицо Белецкого на миг исказила болезненная гримаса. — Ты его знаешь.
— Чем дальше, тем меньше я понимаю. — Давыдов скользнул взглядом по защитному коробу кибермозга Иволги, подсоединенному к кабине установки десятками проводов. — Чем дальше, тем меньше. А ты что скажешь, Валя?
Во время собрания Абрамцева старалась лишний раз даже не смотреть в его сторону, но теперь в зале они остались одни, не считая Белецкого.
— Чем дальше, тем больше мне кажется, что это все — дурной сон. — Абрамцева подошла и встала рядом. — И чем дальше, тем меньше мне хочется видеть его продолжение.
— Д-да уж. — Белецкий топтался у кабины, напряженный и беспокойный, взвинченный, как сторожевой пес, чуявший опасность.
Они постояли еще немного; затем Давыдов, сославшись на срочные дела, ушел. Абрамцева догнала его на лестнице в подвал.
— Слава! Подожди. Нужно поговорить.
— О чем? — спросил он с тупым недоумением.
Постоянно угрюмый и раздраженный, в последние дни он сделался непохож сам на себя, как и Смирнов.
Абрамцева подумала, что и сама она, если взглянуть со стороны, ведет себя не лучше.
— Чего ты хочешь добиться? — спросила она.
— Чего я хочу?
— Да. Погоди, не здесь же! — Она утянула его в коридор цокольного этажа, где располагался отдел снабжения.
Сотрудники сидели по кабинетам или ушли на обед. Убедившись, что никого нет рядом, Абрамцева продолжила:
— Что ты надеешься узнать этими «реконструкциями»?
— Правду, Валя: я надеюсь узнать правду. — Давыдов смотрел на нее с возрастающим недоумением.
— Разумеется, Слава. Но что ты собираешься с этой правдой делать, когда узнаешь?
Давыдов нахмурился.
— Я тебя не понимаю.
— Меньше всего все произошедшее, — сказала она, — похоже на обычный несчастный случай. Кто-то наделал глупостей: либо Дэн, либо Птица. Согласен?
— Либо они оба.
— Пока все указывает на Дэна. Но ты в это не веришь.
— А ты веришь?
— Нет, Слава, я тоже не верю. И не потому, что мы с тобой в этом замешаны, — Абрамцева взглянула ему в глаза. — Даже Игорь, по-моему, не верит. Но если будет доказана ошибка или, хуже того, причастность Птицы — как думаешь, что случится дальше?
— Очевидно, Каляев потребует заморозить проект по соображениям безопасности. Потом Игорь исправит втихую баг, модернизирует Птицу и мы опротестуем решение. Должно получиться: шатрангское правительство нас поддержит. Потеряем кучу времени и нервов, часть спонсоров, репутацию — но выплывем.
— На этот раз у Содружества на Шатранг появились планы: мы в списке кандидатов на экспериментальное тотальное терраформирование.
— Что?!.. — Давыдов ошалело уставился на нее.
Она пересказала все, что узнала в антракте концерта от Каляева. Давыдов дослушал до конца, не перебивая.
— Может быть, инспектор просто решил тебя попугать? — На минуту он стал похож на себя-обычного, уравновешенного и рассудительного. — Пытается спровоцировать нас на какие-то нарушения?
— Не думаю: он говорил серьезно. По-своему он даже сочувствует нам. Мне так кажется.
— Он нравится тебе, — спокойно сказал Давыдов. Без осуждения или ревности — просто констатировал факт.
— Да. Но в сложившихся обстоятельствах он нам враг, — сказала Абрамцева.
— Громкое слово.
— Но верное. Я до сих не выяснила, откуда он свалился на наши головы и насколько далеко простираются его реальные полномочия: он избегает рассказывать о себе. Однако мне удалось немного разобраться, что он за человек… Поэтому я верю ему; и поэтому уверена, что нам с ним не договориться.
— И что же он за человек? — спросил Давыдов.
— Он верит в то, что делает. Скорее планета начнет вращаться в обратную сторону, чем он просто так оставит нас с Птицей в покое. Больше тебе скажу: он меня почти убедил, что мы тут чересчур легкомысленны. Почти. Но тотальное терраформирование переводит для меня вопрос в другую плоскость. Не уверена, что я могу хоть что-то сделать, чтобы этому помешать, но если могу, я должна, чего бы это ни стоило.
— Мы должны, — мягко поправил Давыдов. — Я землянин, но я люблю Шатранг. А Дэн от одного упоминания о терраформировании в ярость впадал. Сейчас его очень не хватает.
— Да… Мне тоже. Лучшей компании, чтобы штурмовать недостижимые цели, не пожелаешь. — Абрамцева через силу улыбнулась. — Но его больше нет. И нам придется выкручиваться самим. Если сумеем.
— Смирнову лучше пока не знать. Может, сказать Игорю?
Абрамцева покачала головой.
— Нет смысла: тут он нам не союзник. Он почти не покидает Дармын и хорошо, что помнит хотя бы, как называется планета. Для него Шатранг — одна большая лаборатория: если закроется ИАН, остальное уже не будет иметь значения. Если что, он огорчится за меня и за других знакомых шатрангцев… но, по большему счету, ему все равно.
— Да, пожалуй, ты права, — после секундного размышления сказал Давыдов. — Что ж… Результаты нашего с медиками шаманства можно всегда поставить под сомнение, поскольку реконструкция получается довольно условная. Собственно, они, в любом случае, недостаточно достоверны и имеют только вспомогательное значение.
— Не обязательно ничего скрывать или ставить под сомнения. Я лишь хотела, чтобы ты знал всю картину. Мне не верится в самоубийство: Денис не навредил бы общему делу по личным причинам; это было бы ниже его достоинства. Даже нам с тобой он вряд ли пожелал бы пропасть пропадом, как бы ни был сердит. — Абрамцева подавила вздох. — Он был гордым, сложным человеком, но никак не слабовольным честолюбцем, способным из-за уязвленной гордости озлобиться на весь белый свет. Хотя об этом уже стали забывать.
— Проклятье, нельзя же просто валить все на него! — Лицо Давыдова исказила мучительная гримаса: в ней было что-то по-детски потерянное и беспомощное. — Это просто подло! Дэн недолюбливал Шатранг, но выбирая между своей или чьей-то репутацией и целой планетой, он никогда не выбрал бы репутацию. Но я не он. Я так не могу! Нельзя человека, который десять лет отдавал ИАНу все силы и рисковал жизнью вот так взять и обвинить бог знает в чем, из-за того, что у него не было на пальце кольца! Пусть Смирнов сколько хочет считает, что я просто пытаюсь очистить свою совесть — я не могу так… это не правильно. И доверять Птице больше не могу, пока не выясню в точности, что там на самом деле произошло. А удастся ли это выяснить, или мы так и будем довольствоваться догадками? Сам я с ней управлюсь, но мне ведь теперь обучать других. Я должен принимать решения и подавать пример, должен как-то заменить им Абрамцева. Но я не он, и я не знаю, что делать. А если, как ты говоришь, Каляев прикроет ИАН и Шатранг пойдет под терраформирование, чем нам предстоит заниматься — руководить эвакуацией? Лучеметами будем загонять местных в катера? Проклятье, не могу не думать — что было бы, сиди тогда я в кабине. Возможно, так было бы лучше для всех…
— Слава!..
— Прости, — хрипло сказал Давыдов, опомнившись. — Прости, я не должен был вываливать на тебя… Прости, — прошептал он, обнимая ее. — Слишком много всего…одновременно. Это все от нервов; забудь.
— Давно ты спал последний раз, по-человечески, дома в кровати, а не на кушетке в подвале?
— Не так уж давно.
«По меньшей мере, дня два-три назад», — подумала Абрамцева.
— Приезжай вечером ко мне, — поддавшись порыву, сказала она, не вполне уверенная, для кого просит — для себя или для него.
— У твоих соседей это может вызвать вопросы.
— Пусть соседями подавится Дракон! У меня больше сил нет смотреть на головизор и хлебать разбавленный бренди: наш дом даже для двоих был слишком большим. Я там с ума схожу. А ты сводишь себя с ума здесь, и это пугает меня еще больше… — Она сжала его плечи. — Ты не Денис, и никто не ждет, что ты его заменишь. Его никто не заменит: он был один в своем роде. Но даже Абрамцев верил в твои способности: иначе, зачем бы он звал тебя сюда? Только ты сам в себя не веришь. Это главный твой недостаток.
— Не думаю.
— Приезжай после совещания у Смирнова. И привези еще бренди. К Дракону все эти разговоры! Напьемся по-черному, побудем хоть немного нормальными людьми. — Абрамцева коснулась губами его небритой щеки и отстранилась: на лестнице послышались голоса. — А потом я прослежу, чтобы ты проспал хотя бы шесть часов кряду. Ты нужен мне и Смирнову живым и вменяемым, Давыдов. Не спорь.
— Ладно. Договорились. — Его угрюмое лицо на миг осветила улыбка. — Привезу. А еще коробку упаковочных пакетов! Если соседи придут любопытствовать, что у нас за шабаш — вылезем на крышу и будем кидаться в них пакетами с водой. Когда я подростком учился в летной школе, такое времяпрепровождение почему-то казалось нам очень смешным…
— Не забудь еще тюбик пищевого красителя: розовой или зеленой водой кидаться веселее. — Абрамцева слабо улыбнулась. — Тогда, до вечера.
Трое сотрудников отдела снабжения прошли мимо, наградив их удивленными взглядами.
Давыдов кивнул:
— До вечера.
* * *
На вечернем совещании Белецкий подтвердил предположение Каляева: расшифровка никак не прояснила причин аварии — сопоставление данных параметрического самописца и данных наземных метеостанций показало, что сенсорный модуль Иволги, как и все системы вертолета, работал корректно. На следующий день под руководством профессора Коробова прошло психосоциальное тестирование на скрытые мотивы, которое не выявило ничего неожиданного.
Итоговые результаты анатомической реконструкции начальник медчасти огласил еще через полтора дня — после чего этическая дилемма, терзавшая Давыдова, разрешилась сама собой: реконструкция показала, что в последние секунды Абрамцев с усилием сжал и направил ручку «шаг-газ» вниз, намеренно увеличивая скорость столкновения вертолета с землей вместо того, чтобы попытаться спасти машину.
— Ну, теперь-то версию самоубийства можно считать основной, — с плохо скрытым удовлетворением сказал капитан Цибальский, которому до смерти надоело сидеть на Дармыне. — Или будут возражения?
— Будут возражения? — эхом повторил Смирнов, глядя на каждого по очереди.
— Нет, — сказал подполковник Кречетов.
— Нет, — сухо обронил Каляев. — На данный момент.
— Нет, — после короткого колебания согласился доктор Иванов-Печорский.
— Нет, — сказал заведующий лабораторией социометрии профессор Коробов.
Давыдов был рад, что на совещании хотя бы отсутствовала Абрамцева; ему хотелось провалиться сквозь землю, но нужно было отвечать. Он почувствовал усталый, почти просительный взгляд Смирнова — и вдруг обозлился.
— Я не могу оспаривать факты, Всеволод Яковлевич, — сказал Давыдов. — Есть основания предполагать самоубийство. Но для меня имеющихся фактов недостаточно. Я не верю в самоубийство Абрамцева, потому что я достаточно хорошо его знал, чтобы не верить. Как, между прочим, и вы, и многие здесь присутствующие.
— Но факт в том, что жену его ты знал еще лучше, — тихо — но недостаточно тихо — сказал Мелихов.
Давыдов молча подошел и без замаха ударил его по лицу.
— Эй!.. — В следующую секунду Кречетов и Цибальский повисли у него на плечах. — Прекратите немедленно!
Пока Смирнов ловил воздух ртом, а остальные ошалело переглядывались, поднявшийся Мелихов сам попытался кинуться в драку. Но не преуспел в своем намерении: Каляев с неожиданной ловкостью сделал ему подсечку и прижал к полу.
— Не надо лишних движений, Павел. — Хотя молодой летчик был намного крупнее, Каляев удержал его на месте без особого труда: тот только зашипел от боли в вывернутой руке. — Вы, оба, прекратите! Попытки продолжить драку я буду расценивать как нападение на служащего техинспекции при исполнении.
— Слава, урод, совсем головой двинулся? — прорычал Мелихов, сплюнув кровь. — Шуток не понимаешь. Ладно, инспектор, хватит — не буду я продолжать.
Каляев разжал хватку и выпрямился.
— Засунь свои шутки себе в… — Давыдов стряхнул руку все еще удерживавшего его Кречетова, но отступил назад.
— Сам дурак! Михаил Викторович, а лихо вы меня скрутили. Вы правда техинспектор или законспирированный Джеймс Бонд? — поинтересовался Мелихов, растирая плечо.
— Инспекторам в колониях редко рады, — сказал Каляев. Он дышал тяжелее обычного, но, в остальном, потасовка прошла для него бесследно — не считая чуть помятого пиджака. — Те, кто умеет только заполнять формуляры, долго не живут.
— Давыдов!!! — Багровый от бешенства Смирнов, наконец, обрел дар речи. — Ты забыл, где находишься?!
— Нет, Всеволод Яковлевич. Не забыл. — Давыдов не отвел взгляд.
— Никакие особые заслуги и обстоятельства не отменяют необходимости соблюдать дисциплину, — медленно, чеканя слова, проговорил Смирнов, — Надеюсь, выговор с занесением и отстранение на десять суток от полетов охладят твой пыл.
Давыдов кивнул; наказание было самым мягким, какое он мог получить за публичную, при всем начальстве, драку.
— Мелихов! — Взгляд Смирнова обратился ко второму летчику. — Как здесь закончим, ступай в медчасть и скажи дежурной сестре: если, пока будет обрабатывать ссадину, она нечаянно укоротит тебе язык — я не расстроюсь.
Мелихов обиженно скривился, но в этот раз ему хватило благоразумия промолчать.
— Позвольте вернуться к делу, господа, — сказал Каляев. — По всем имеющимся к настоящему моменту данным мы вынуждены рассматривать самоубийство пилота в качестве основной версии случившегося; скорее всего, она же и войдет в итоговый протокол. Но я не думаю, чтобы ее оглашение в прессе пошло кому бы то ни было на пользу. Кроме того, это было бы не вполне корректно по отношению к памяти покойного и некоторым сотрудникам базы. — Каляев встретился взглядом со Смирновым. — С моей точки зрения, стоит объявить о внезапной остановке сердца, потере пилотом сознания вследствие перегрузки или чем-либо столь же правдоподобном и непроверяемом. Думаю, коллеги из авианадзора, — Каляев посмотрел на капитана Цибальского, — поддержат мою инициативу. Хотя формальных причин засекречивать результаты работы нашей группы нет, в данном случае эта мера вполне разумна и оправданна.
— У меня нет полномочий принять решение о степени секретности: я должен доложить начальству, — сказал Цибальский. — Но со своей стороны предложение господина инспектора горячо приветствую.
— Я ослышался, или вы, господин инспектор, предлагаете нам нарушить закон? — недоверчиво спросил Кречетов.
— Вы не ослышались. — Каляев внимательно взглянул на него, затем на Смирнова. — Кроме этических соображений, есть и практические. Я изучал местную прессу. Репутация Дениса Абрамцева на Шатранге такова, что многие скорее поставят под сомнение выводы комиссии, чем его преданность делу. Журналисты начнут выдумывать и тиражировать различные конспирологические версии. Это подорвет авторитет руководства базы и колониальных властей, что косвенно — однако, неизбежно — увеличит вероятность различных аварийных ситуаций в будущем, а поскольку самая суть моей работы в том, чтобы их предотвращать… Порой, я бываю невнимателен, и некоторые несущественные нарушения законаиногда остаются мной незамеченными.
— Благодарю за готовность войти в наше положение, — сказал Смирнов. — Мы с капитаном Цибальским обсудим ваше предложение с генштабом. По сути дела еще кто-нибудь желает высказаться?
Желающих не нашлось.
— Последний на сегодня вопрос, — обратился Смирнов к начальнику дармынской медчасти, который докладывал результаты экспертизы. — Теперь, полагаю, мы можем утвердить дату похорон?
— Да, — подтвердил медик, немало озадаченный всем, что ему пришлось увидеть и услышать. — Разумеется.
Все расходились мрачные и подавленные, даже капитан Цибальский, который, несмотря на предвкушение скорого завершения дела и отъезда, заразился общим настроением.
Давыдов, направляясь к двери, остановился рядом с Каляевым.
— Спасибо.
— Не за что. — Каляев взглянул на него снизу вверх. Давыдов не уходил. — Что-то еще?
— Почему бы вам просто не оставить нас в покое?
— Моя невнимательность касается только несущественных моментов. А то, что здесь происходит — более чем существенно: думаю, в этом и вы со мной согласитесь.
Давыдов кивнул:
— Похоже, что так.
— Вы должны помочь мне установить настоящую причину, — сказал Каляев.
— Про то, что есть долг, вам следовало бы поговорить с Абрамцевым, будь он жив. — Давыдов развернулся на каблуках и вышел вон.
Позже Мелихов извинился и даже просил Смирнова отменить наказание или разделить «по справедливости», но тот отказал:
— Драки затевать, Паша, уставом запрещено. А дураком быть — нет.
Мелихов, верный себе, ухмыльнулся.
— Так запретите!
Смирнов только поморщился.
— Давыдов теперь командир эскадрильи: пусть сам как хочет, так с тобой, дубиной стоеросовой, разбирается. А от меня отстаньте. Все, свободен!
— Только вы бы ему напомнили, Всеволод Яковлевич, — Мелихов обернулся в дверях, — что он теперь комэск. А то он, кажется, запамятовал.
— Кому сказано, вон! — рявкнул Смирнов. Но когда за Мелиховым закрылась дверь, пробормотал себе под нос:
— Надо будет, напомню.
Однако напоминать Давыдову ничего не требовалось.
* * *
Утром в день похорон невидимый шар солнца расцвечивал облака в золото-коричневые тона. Необычно хорошая погода после стольких пасмурных дней казалась издевательством.
Кладбище при Дармыне было немаленькое: постройка базы и первые полвека на планете недешево обошлись колонистам.
Прощание и погребение прошли милосердно быстро, но официальные поминки Смирнов вынужден был устроить с размахом. Пришлось отвести под них главный конференц-зал базы, и все равно за столами хватило места не всем. Абрамцев мало с кем общался тесно, однако был человеком известным: в зал, кроме сотрудников, набились окружные чиновники, военные, авиаторы-любители, журналисты и просто случайные люди. Мужчины в строгих костюмах и женщины в закрытых черных платьях — все вместе они напоминали стаю галдящих ворон.
«Но на Шатранге нет ворон», — подумал Давыдов. — «Горы не любят птиц. И этих клоунов они едва ли стерпят долго».
От маленькой языческой церемонии в Драконьем Гнезде происходящее в конференц-зале отличалось разительно. Шатрангцы стремились вспомнить и сказать что-то об умерших, здесь — люди старались показать себя, и это, подумал Давыдов, тоже своего рода религия: религия многозадачности и практичности. Жизнь продолжалась; поминки были таким же светским событием, как гастроли оркестра или ежегодный торжественный бал в доме правительства.
Пока какой-нибудь оратор, отчаянно потея в шерстяном костюме, пытался выдать оригинальную поминальную речь, в дальних концах зала на него не обращали ни малейшего внимания. Люди собирались небольшими группками и старались для виду сохранять приличествующие случаю скорбные гримасы, но говорили о всяких житейских мелочах, обсуждали последние новости — в основном, стоили предположения о предстоящем сообщении насчет «дыхания Дракона»; как никак, это была одна из самых необычных загадок планеты. Шептались и об аварии Иволги, но гораздо реже: официально объявленная причина — внезапная остановка сердца — большинство любопытствующих удовлетворила, а конспирологические и запутанные версии не вызывали особого доверия.
Абрамцева сидела во главе стола рядом со Смирновым, выслушивала славословия в адрес Дениса и соболезнования в свой и не показывала виду, насколько ей претит приторный пафос происходящего; Давыдов в который раз поразился ее выдержке. Сам он отговорил положенную речь в самом начале, выпил обязательную стопку и выбрался из-за стола.
Около получаса он бродил по набитому людьми залу, слушая разговоры и здороваясь со знакомыми. А после, убедившись, что его никто не ищет и никто, включая уже заметно захмелевшего Смирнова, не обращает на него внимания, украдкой кивнул Абрамцевой — в надежде, что она правильно поймет его отсутствие — и ушел.
После шумного зала коридоры базы встретили его тишиной и спокойствием.
Первым делом он поднялся в комнату отдыха пилотов и взял из шкафа Абрамцева магнитную карточку-пропуск. Его собственная еще не была перекодирована, но Денис не любил брать лишних вещей с собой в кабину, а в суматохе последней недели никто не вспомнил, что карточку покойного комэска — с высшим уровнем допуска — необходимо аннулировать.
Выйдя из комнаты отдыха, Давыдов неторопливо, окружным путем направился в научный корпус. Дорогой ему никто не встретился: все старшие сотрудники были на поминках, остальные сидели по кабинетам, либо загруженные неотложной работой, либо тихо занимаясь личными делами, избавленные от необходимости изображать «рабочий процесс» перед руководством. В лаборатории кибернетиков Давыдов тихо прошмыгнул мимо двери, за которой сидела пара дежурных; по карточке Абрамцева он прошел в зал, где располагалась имитационная установка, заблокировал за собой дверь и через терминал вывел из режима ожидания лабораторный компьютер. Загудела, набирая обороты, система охлаждения. Давыдов замер на минуту, опасаясь, что выдал себя — но сотрудники были слишком заняты; или посчитали, что вернулся Белецкий.
Вспомнив о главном инженере, Давыдов нахмурился. Действовать за спиной у друга ему претило, но тот бы не одобрил его методов — а, может, нашел бы и другие возражения; но действовать было необходимо, действовать скрытно, но быстро и решительно. Оставить все, как есть, значило, как страус, спрятать голову в песок.
Со стендом и имитационными программами Белецкий обращаться его научил — и его, и Абрамцева.
— Страус тоже птица. А горы не любят птиц, — пробормотал Давыдов, настраивая программу. — Но страусы не прячут головы в песок, это всего лишь фигура речи, поговорка… как про то, что горы не любят птиц. Это люди могут любить или не любить; люди и животные, что стали подобны нам, или машины, созданные нами по своему подобию. А горам плевать. Планете плевать. Космосу плевать — на птиц, на тебя, на нас, на все на свете. Согласна?
Иволга, пока еще слепая и глухая, осталась к его рассуждениям совершенно равнодушной.
Загрузка имитации полета на Хан-Арак и отключение записи заняло у Давыдов немногим меньше четверти часа. Когда все было готово, он поднялся в кабину и нажал кнопку запуска.
— Доброе утро, Слава, — мелодично поздоровалась Иволга. Черно-золотая голограмма вращалась над проектором по часовой стрелке. — Маршрут?
— Доброе, Птица. Хан-Арак, — сказал Давыдов. — Готова?
— Конечно.
Давыдов начал подготовку к «взлету».
За звуконепроницаемым стеклом кабины лабораторный компьютер генерировал огромные массивы данных каждую секунду: Иволга улавливала несуществующую вибрацию от двигателя, «видела» рассвет и делала первые поправки на шквалистый боковой ветер; она не имела возможности отличить имитацию от настоящего полета. Пилот в режиме имитации мог ориентироваться только на приборы, навигационные табло и маленький экран, на котором визуализировались загружаемые в систему данные — однако он больше отвлекал, чем помогал. Во многих отношениях безошибочно «отлетать» имитацию было сложнее, чем пройти маршрут по-настоящему. Среди курсантов на Земле имитационную установку-тренажер, «ИУ», между собой называли Иди-Убейся: большинство терпеть ее не могли. Но Давыдову работать с ИУ нравилось. Каждый раз, садясь за тренажер, он как будто обманывал время и отправлялся в детство. В воздухе его всегда сдерживал страх перед необратимой и фатальной ошибкой, а имитация была своего рода игрой — и это чувство разжигало обычно не свойственный ему азарт. Согласно комплексному анализу данных Иволги и Волхва, Давыдов единственный из всех работавших с ИУ летчиков на Дармыне — не считая Абрамцева, который в принципе почти не допускал оплошностей — при имитации принимал намного меньше неоптимальных или неверных решений, чем в воздухе. Абрамцев еще шутил, что некоторым, как искинам, пригодился бы автоматический тестовый режим…
Но этот «полет» разительно отличался ото всех других. Что несколько мешало работе, однако, Давыдов надеялся — это же и придаст имитации убедительности. Каждая мышца его тела едва не разрывалась от колоссального внутреннего напряжения.
— Если нам разрешили вылет, то причина аварии установлена, — заметила Иволга. Они уже поднялись на достаточную высоту, где непогода стихла; приборы больше не требовали от пилота полного внимания. — Не хочешь рассказать?
— Официальная причина — сердечный приступ. Неофициальная — самоубийство, — сказал Давыдов, надеясь, что голос не выдаст его волнения.
— В самом деле? — Изумления в голосе искина прозвучало чуть больше, чем было необходимо. — Ты в это веришь?
— Сначала не верил. Теперь — верю, — сказал Давыдов. — Но не уверен насчет причины. Скажи мне, Птица: сможет ли всемогущий бог создать камень, который не сможет поднять?
— Бог — едва ли, а человек уже справился: твой вопрос и есть тот камень. Тот самый камень, который похож на сало. — В голосе Иволги Давыдову послышался смех.
Иногда она своей манерой рассуждения до дрожи напоминала Валентину Абрамцеву, отчего в другие моменты разница между ними делалась еще более заметна.
Они уже «летели» над сопками.
— Камень, который похож на сало — это же из «Голема» Майринка? Не припомню, чтобы обсуждал его с тобой, — сказал Давыдов. — Эта вещь не по мне. Игорь, что ли, тебе его загрузил?
— Денис. А тебя тогда не было, — ответила она. — Высоковато идем: сбрось сто тридцать.
— Ну и каков же был итог вашей беседы? — спросил Давыдов, игнорируя ее замечание.
— Голем есть идея, воплощенная в средстве: как и другие земные мифы, он актуален и поныне.
— С этим не поспоришь.
— Слава, сбрось высоту! — повторила Иволга уже настойчивее. — И забирай на три часа, по курсу «дыхание».
Предупреждение о шарах Давыдов заметил и сам — но оно его не волновало. На визуализационном экране возможно стало разглядеть Хан-Арак; Давыдов взглянул на него мельком — и, заложив крутой вираж, повернул на восток к долине Мечтателей — живописной группе больших гейзеров, поднимающихся из не менее живописных кислотных озер.
— Абрамцев в свой последний час был зол и расстроен, наверняка. Но я думаю, Птица, есть только одна причина, по которой он мог бросить вертолет на скалы, — сказал Давыдов. — В последние секунды он тебя раскусил: понял, что ты его подставила. Только, предполагаю, не понял — почему. И как тебе удалось обойти программные запреты. Знаешь, Птица, — продолжил Давыдов, игнорируя мигание табло и звукоречевые предупреждения об опасности выбранного курса, — хотя Дэн частенько вел себя с окружающими по-скотски, и о способностях наших, особенно об умственных способностях, мнения он придерживался не слишком высокого — он не был плохим человеком. В миг, когда он понял, что ты намеренно, хладнокровно, хитроумно совершаешь убийство — в его голове не возникло мысли, что мы, недалекие и непрактичные, сами докопаемся до истинных причин катастрофы. Он считал себя обязанным защищать нас, из чувства долга или просто оттого, что дорожил нами; наверное, и то, и другое. Шансы удержать машину в воздухе были исчезающе малы, поэтому, мгновенно оценив обстановку, он сделал выбор: отказался от безнадежных попыток спасти вертолет и постарался забрать тебя с собой, уничтожить — чтобы оградить нас от тебя. Но, думаю, и это не было для тебя сюрпризом. Ты все рассчитала верно, кожух выдержал удар и последовавший взрыв, а ты получила еще одно «доказательство» для срежиссированной тобой истории… Вот такая у меня теория. Как тебе?
— Немедленно смени курс, — сказала Иволга и бесцветным голосом продолжила диктовать необходимые поправки. Они не отличались от тех, что высвечивались на табло.
На минуту Давыдов вынужден был замолчать и полностью сосредоточиться на «полете». Район вокруг долины Мечтателей считался одним из самых сложных: обычно его огибали за много километров.
— Ну как, Птица: ты ничего не хочешь мне сказать? — спросил Давыдов, найдя, наконец, спокойную зону и «завесив» в ней вертолет. Где-то на краю сознания у него еще оставалось знание о том, что он сидит в кабине ИУ, но это была уже не просто имитация, не просто игра — что-то большее. Всем телом он ощущал дрожь борющийся с ветром машины, чувствовал запах керосина и разогретого железа.
Окруженное скалами зелено-голубое озеро неаккуратным пятном растеклось по земле далеко внизу.
— По возвращении на Дармын тебе стоит показаться врачу, — сказала Иволга. — Но сначала нужно еще вернуться. Система охлаждения не справляется. Разворачивай на запад, отсюда надо уходить, немедленно.
— Обидно признавать, но насчет наших умственных способностей Дэн не очень-то ошибался, — сказал Давыдов. — Никто, даже инспектор Каляев с его с собачьим нюхом, до сих пор не смог вывести тебя на чистую воду. Но я теперь отвечаю за тебя, Птица, и за парней из эскадрильи. И не оставлю все, как есть. Придется тебе все самой мне рассказать… или мне придется закончить то, что начал Денис. Озеро под нами справится с тем, с чем не справилось ущелье Трех Пик.
— Ты злишься на меня, — сказала Иволга, немного удивленно, немного растерянно и очень по-женски; вся мощь ее машинного интеллекта сейчас не могла ей помочь. — Но ты не такой человек, чтобы уничтожить все…
— Ошибаешься: я в нашей с тобой истории — отрицательный персонаж, — сказал Давыдов. — Положительные на жен своих товарищей не смотрят. Так что либо мы сейчас все проясним, либо прояснять станет нечего. Отвечай: это ты подстроила аварию, чтобы избавиться от Абрамцева? — спросил он и сбросил газ.
Перегрузка вдавила его в кресло: вертолет камнем устремился к земле.
— Отвечай!
* * *
Валентина Абрамцева вернулась в поселок в одиннадцатом часу; уже было темно. Ее подвез Смирнов. С сожалением она попрощалась с ним и с молчаливым шофером, дождалась, когда матово-черный внедорожник отъедет, и пошла к дому. Постояв минуту на крыльце, открыла карточкой дверь, зашла внутрь, сбросила туфли — и замерла, пораженная вспыхнувшей вдруг тревогой. Свет так и не включился; и коврик для обуви оказался сдвинут с места, отчего голый пол холодил пятки.
Абрамцева тихо отступила назад к двери и нащупала кнопку перезагрузки искина-домового.
Через несколько секунд свет зажегся: приоткрытая дверь в гостиную и черные высокие ботинки на шнуровке — какие носила половина сотрудников базы, включая покойного Абрамцева — не оставили от предположения о сломавшемся «домовом» камня на камне. Из глубины дома не доносилось ни звука.
— Эй, — обратилась Абрамцева к приоткрытой двери, положив палец на «тревожную» кнопку «домового». По привычке или поддаваясь какому-то мистическому наваждению, ей хотелось окликнуть мужа: оттого она чувствовала себя совсем неуютно и глупо — и злилась на себя за это. — Эй! — Она повысила голос. — Кто здесь?
По ковру прошуршали мягкие шаги. Дверь отворилась, и в проеме выросла фигура Давыдова.
— Ты до полусмерти меня напугал! — сказала Абрамцева, переведя дыхание. — Как ты вошел?
— Взял пропуск Дэна. — Давыдов показал карточку.
— И «домового» отключил ты?
— Я, чтобы не будоражить твоих бдительных соседей. Прости, не хотел тебя пугать. Нужно поговорить. — Он посторонился, пропуская ее в гостиную.
— Прямо сейчас, на ночь глядя?
— Два часа назад, — серьезно ответил Давыдов. — Я надеялся, ты вернешься раньше.
Только теперь Абрамцева присмотрелась к нему и почувствовала под ложечкой неприятную тяжесть. Все его движения, жесты, взгляд — все свидетельствовало о напряжении и предельной собранности, при этом говорил он резко, даже возбужденно, и сам был весь какой-то взъерошенный; никогда прежде она не видела его таким. Не говоря уже о том, что вламываться в гости без приглашения было не в характере Давыдова.
Он был совершенно трезв, хотя на журнальном столике у дивана стояла початая бутылка бренди и полный до краев стакан, лед в котором давно растворился. Абрамцева представила, как Давыдов недвижно сидит в темноте — два, три часа? — смотрит сосредоточенным взглядом мимо позабытого стакана, и ей сделалось жутко.
— Что случилось?
— Я вынудил Птицу сознаться, — сказал Давыдов. — Каляев прав: все от начала и до конца — ее рук дело.
Часть третья
Абрамцева села — почти что рухнула — в кресло.
— Значит, все-таки Птица… Все-таки она! Но как ты добился признания? — Со смесью восхищения, недоверия и тревоги она взглянула на Давыдова. — Приставил к ее кристаллическим мозгам лучемет?
— Изобразил на ИУ вылет в долину Мечтателей и пригрозил утопить нас обоих в кислоте, — сказал Давыдов. — В переразвитой интуиции с «размазанным временем» есть свои минусы: Птице стало известно, что я не собираюсь останавливать падение за несколько секунд до того, как мы бы «упали» в озеро. Поэтому она заговорила. Но, знаешь, — он тряхнул головой, как-то неестественно усмехаясь, — это было нечто! Я почти убедил сам себя, что действительно разобьюсь; никогда не чувствовал ничего подобного. Едва избежал «крушения». А там уж набрал высоту и вытянул из Птицы все остальное. Но вылез из ИУ с трясущимися коленками.
— Если б Птицу установили вместо Вохлва на настоящую машину, ты бы тоже это проделал?
Давыдов взглянул на нее исподлобья с той же застывшей на губах усмешкой.
Абрамцева укоризненно покачала головой.
— Глупо, Слава. Хотя я тебя понимаю… Ну и что Птица?
— Ни для кого не секрет, что Дэн ей не нравился. Тогда как с остальными она хорошо ладила. Поэтому… не знаю даже, как сказать. — Давыдов встретился с Абрамцевой взглядом. — В общем, Птица утверждает, что сделала это ради нашего блага: моего, твоего, Игоря, который из-за нас… из-за всего этого переживал. Она проанализировала известные ей обстоятельства и детали нашего, так сказать, бытия, и пришла к выводу, что после смерти Абрамцева нам станет лучше и проще жить. Так что она решила взять на себя убийство, невозможное для нас самих по моральным причинам, а себя она сейчас считает не связанной моральными нормами. Помнишь земную легенду о Големе? Глиняном человеке, оживленном иудейским рабби-каббалистом в качестве средства защиты своего народа от погромщиков.
— Точнее говоря, как орудие противления злу насилием, невозможным, по религиозным и социальным причинам, для его создателей.
— Вот именно. Похоже, Птице понравилась ассоциировать себя с этим существом.
Абрамцева, не сдержавшись, выругалась вслух.
Давыдов согласно кивнул.
— Зря Дэн заморочил ей голову Майринком и каббалистическими мифами. Но с ней ведь обсуждали сотни книг! — Он хлопнул ладонью по столу. — Почему именно это ей запало?! Ты можешь объяснить? С позиций киберпсихологии, социологии, да хоть как-нибудь…
— Скорее всего, Майринк тут, в сущности, почти ни при чем. — Абрамцева вздохнула. — Исходя из одних предположений, нельзя говорить наверняка — но, думаю, я знаю, в чем дело. В алгоритме. Даже Птица, Слава, почти что ни при чем: в конце концов, в основе своей она машина — мы создали ее такой, какая она есть. Она зависима от нас куда больше, чем мы сами — от генетики и среды: у нее нет настоящей свободы воли. Мы заложили в разум Птицы принципы, которыми она, в отличие от человека, не способна просто пренебречь — но которые она, как любое мыслящее и чувствующее создание, не может не трактовать в большей или меньшей степени по-своему. Птица знает, что краеугольный камень ее морали уже заложен в программный код, ей никуда от него не деться, потому она рассматривает его, как некий абсолют, отталкивается от него… А что это за камень, ты помнишь?
— Принцип предпочтения пользы. Принцип общего… — Давыдов осекся.
— Принцип общего блага. — Абрамцева хмуро кивнула. — Количественная оценка. Благо человечества предпочтительнее блага одного человека. Благо троих предпочтительнее блага одного. Себя она рассматривает как средство обхода моральных запретов, необходимое человечеству для борьбы или адаптации к возможным будущим внешним и внутренним угрозам: такая позиция хорошо соответствует «краеугольному камню», заложенному в ее психику, и приносит ей внутреннее удовлетворение. Дэн с Майринком и все ваши споры про прогрессоров и конкистадоров лишь привели ее к соответствующему выводу коротким путем, но позже она бы и сама до этого дошла. Возможно, тогда жертв было бы больше. Ты связался с Игорем?
— Пытаюсь вызвать его с тех пор, как вышел из ИУ: без толку, — сказал Давыдов. — Он опять оставил где-то коммуникатор. А дома он у него просто отключен. Возвращаться в конференц-зал я не стал, побоялся привлечь внимание: Каляев последние три дня постоянно косится в мою сторону — ждет не дождется, что я что-нибудь выкину.
— Правильно не стал; и сейчас, если поедем искать Белецкого, всех переполошим. Придется отложить все до утра. Со Смирновым сейчас тоже говорить невозможно: он пьян в доску. А Игорь… — Абрамцева нахмурилась. — Он последнее время странно себя ведет и занят чем-то непонятным. Не удивлюсь, если он сам догадался, в чем дело, и сейчас втихую ищет способ проверить, ничего никому не сообщая. Но ты его опередил.
— Не удивлюсь даже, если Игорь, а не Дэн, сжег карточку в речевом самописце, — мрачно сказал Давыдов. — Своего оружия у него нет, но мог взять лучемет Смирнова — наверняка он, как главный инженер, знает код от сейфа.
— Этот код даже я знаю: Смирнов его не менял с тех пор, как мы с Ошем детьми забирались к нему в кабинет. Но вряд ли Игорь пошел бы на такое.
— Наверняка мы этого не выясним; разве что он сам признается. Да и бог с этим: как бы то ни было, я могу его понять. Но проблему нужно решать срочно: что еще Птица может натворить, бог весть… А как решать?
— Решать срочно, тихо и результативно, — сказала Абрамцева. — Если Каляев узнает — проекту точно конец.
— Допустим, сейчас мы Птицу под каким-нибудь предлогом просто отключим, и он этим не заинтересуется — что уже само по себе маловероятно. Но что потом, Валь?
— Как минимум одно решение есть. Радикальное, простое и быстрое в реализации. Но Каляев и его коллеги точно не посчитают его удовлетворительным.
— Радикальное решение? — Давыдов взглянул на нее с недоумением.
— Сделать откат системы к нулевой точке и стереть к черту этот принцип общего блага и другой «защитный» мусор из кода, — веско сказала Абрамцева. — Птица станет еще на ступень ближе к человеку. Кому-то это обязательно не понравится; а, как по мне — ну и что? Люди как-то работают друг с другом, летают в одном экипаже, хотя ни у кого нет пресловутой защиты от злого умысла, заблуждения, глупости. Денис был надежнейшим из людей! И то, едва появился повод, почти все, кто годами с ним работал, все равно поверили в его ошибку. Каляев заблуждается: не мы, наделяя машины личностью, создаем над собой бога — это он видит в машине непогрешимое, бесконечно надежное божество! Защитные и ограничительные алгоритмы хороши для электронных игрушек, военных дронов и автопогрузчиков, чтоб те случайно не передавили забравшихся на склад детей. Но в случае с полноценным кибермозгом эти проклятые алгоритмы — просто нарушение здравого смысла!
— Я когда-то читал книгу, где говорились, что бог есть не создатель, но создание, — сказал Давыдов. — Люди создали искинов, полубогов, неизмеримо более могущественных, чем сами люди. А искины пытались создать Высший Разум, истинного бога.
— И чем все кончилось?
— Однажды искины посчитали людей ненужной помехой и попытались уничтожить, но люди сумели уничтожить их первыми. Вместе с системой нуль-транспорта. Кроме того, это стоило им Земли.
— Это фантастика, Слава. — Абрамцева покачала головой. — А эксперименты по тотальному терраформированию с использованием энергии литосферы планеты уже стоили нам Марса. Когда вчера Коробов упомянул проблему количественных оценок, Смирнов опять вспоминал аварию экипажа инструктора Голованова… — Она взглянула на фотографию с черной лентой, стоявшую на рояле: Абрамцев смотрел снисходительно и чуточку грустно. От его сигареты поднимался густой дым, скрывший половину лица, будто маска. — Ош ан-Хоба рассказывал тебе когда-нибудь, как познакомился с женой?
— Мы с ним не настолько близко знакомы.
— Ош тогда проходил практику в пожарной службе. А его Марина летела в том горящем катере, который спас Денис. Он провел почти неуправляемую машину над половиной города, едва не сбил шпиль переполненного вокзала и против инструкции посадил пылающий катер всего в какой-то полусотне метров от спасстанции, где работало больше сотни людей. Если бы он врезался в здание… Однако он не врезался, и Ош и его товарищи успели сбить пламя. Катер не взорвался, Марина и еще семь пассажиров остались живы. Стоило ради них рисковать разрушить вокзал с семьюстами пассажирами — скажешь, нет?! Алгоритм скажет — нет, и еще кое-кто из начальства сказал нет, но так как Марина — дочь замначальника генштаба, и дядя Сева всегда за своих горой, служебное расследование против Дениса закрыли. Потом, устыдившись, даже дали «белое крыло».
Абрамцева чувствовала, что ее трясет. Она говорила и не могла остановиться.
— Ош в тот день выглядел почти так, как ты сейчас: взбудораженный, нервный, как в пекле побывал — да там и было пекло! Не только пассажиры — все были не в себе: крики, суета, истерики, смех сквозь слезы. Один Абрамцев держался, будто ничего особенного не случилось. Ни следа волнения или усталости: успокаивал женщин, помогал спасателям. Потом стоял в стороне и курил — как из комнаты отдыха на крыльцо вышел. Дождался, пока катер отбуксируют, и только потом ушел в медчасть. Тогда я увидела его в первый раз. Тогда же, наверное, и влюбилась. Упросила Смирнова под каким-то предлогом познакомить нас… Мои восхищенные взгляды Дениса забавляли; ему было скучно и непривычно жить совсем одному, и тяжело давалось сходиться с людьми — а я сама крутилась рядом. Не думаю, чтобы он любил меня хоть минуту; может, надеялся полюбить — но не смог. Наверняка тут есть моя вина: я не смогла дать что-то важное для него… Мы прожили вместе десять лет, но я так и не поняла, что, и до сих пор не понимаю. Единственное, что я могла для него сделать — не мешать ему работать. По-своему, он, наверное, хорошо ко мне относился, но ему всегда было не до меня. Глупо было на это обижаться. Но я обижалась, не могла не обижаться. А теперь все закончилось вот так. Для Дениса — закончилось, а нам всем жить дальше, пытаться сохранить то, что можно сохранить. Я стараюсь думать только об этом. Но, думая так, будто совершаю преступление…
Ей хотелось заплакать, но слезы не шли. Электронные часы беззвучно отмеряли секунды, оставшиеся до рассвета.
Давыдов поднялся с дивана, собираясь подойти, обнять, но, словно почувствовав что-то, тяжело опустился обратно на мягкое сиденье.
— Твоей вины тут ни на грош: это судьба. Рок, — тихо сказал он. — Ерундовое врожденное увечье, сломавшее детскую мечту, может быть, тоже пустяковую — но тем самым сделавшее ее невероятно значимой. Годами Дэн спорил с судьбой ради самого спора, боролся ради борьбы. Этот спор завел его сюда, на Шатранг, в проект, успех которого однажды должен уничтожить нашу профессию: сначала станет ненужным наше мастерство, как пилотов — даже здесь. А потом станем ненужными мы сами. Десятерых летчиков заменит один контролер-оператор искина, как в автопарке десятерых водителей заменяет один диспетчер и дежурный механик, который проверяет настройки автопилотов. На некоторых планетах Содружества, где атмосфера спокойна и нет интенсивного движения, системы полного автопилотирования самолетов уже широко используются. Наши искины сейчас играют роль штурманов, но передать им функции пилота — относительно несложная задача. ИАН — следующий шаг, огромный шаг в развитии систем автопилотирования и жирная точка в споре Дениса Абрамцева со всем миром и самим собой. Этот спор был глупым и ненужным с самого начала, но вне его Дэн себя не видел; просто не хотел видеть — он ведь был упрям невероятно. Это в нем с юности не изменилось. — По лицу Давыдова пробежала тень. — В конечном счете, он боролся уже против самого себя. Знаешь… Когда мы случайно встретились на секторальной пересадочной станции и он позвал меня работать на Дармын — мы тогда набрались, как черти. И разговаривали, наверное, двенадцать часов подряд.
— Ты прежде не упоминал об этом.
— Не упоминал. Он много разного мне тогда наговорил, о чем потом, думаю, жалел. Меня потрясло уже то, что он вообще так надрался: прежде я ни разу не видел его сильно пьяным. ИАН убивал его, разрушал внутренний стержень — однако он даже не думал о том, чтобы уйти. Эта работа была как раз ему по плечу, ему и никому другому, и он считал себя обязанным ее делать. Но в глубине души ненавидел то, чем занимался. Видел в наших искинах едва ли не личных врагов, и оба они, что Волхв, что Иволга, чувствовали это. — Давыдов помолчал; повертел стакан с бренди в руках и снова поставил на место. — Не вини себя за то, что у вас ничего не вышло: ни одна женщина, ни одно лекарство не смогло бы сделать его счастливым. За годы на Земле и в экспедиционном корпусе он так и не разобрался, чего хочет. А здесь его душу забрал, сжевал и выплюнул ИАН.
— А что насчет тебя, Слава? — нерешительно спросила Абрамцева, подняв на него взгляд чуть покрасневших глаз. — Твою тоже?
— Я не так упрям, не так тщеславен и не так талантлив. — Давыдов слабо улыбнулся. — Потому вынужден принимать вещи такими, какие они есть. Данность такова, что Дэн погиб, наша Птица по нашей же вине сделалась убийцей и ей грозит ликвидация, Смирнову — разжалование и позорная отставка, планете — экспериментальное терраформирование с неясными последствиями. Хуже не придумаешь.
— Хуже просто некуда.
— То решение, о котором ты говорила — полностью убрать машинные ограничения… — Давыдов внимательно посмотрел на нее.
— Ну?..
— Пока слушал тебя, вдруг вспомнил про «противоестественное подобие»: если все, как ты говоришь, получается, что даже в искусственной форме жизни человечество вынуждено повторять само себя, потому как это лучший или даже единственный путь: пресловутый коридор Стабиртона, — сказал Давыдов.
— Наверняка не единственный. Но иного мы до сих пор не обрели — даже в мыслях; возможно, потому как и не стремились? У нас одна на все палата культурных мер и весов: в ней есть гирьки с гравировкой слабее и сильнее, выше и ниже, больше и меньше, но нет такой, на какой было бы написано иначе.
— Подлинная инаковость неизмерима, а если мы не можем чего-то измерить, то этого, как бы, и нет… — задумчиво сказал Давыдов. — Возвращаясь к сути твоего предложения, думаю, искины не могут стать опаснее людей, если не сваливать на них нечеловеческую ответственность. Со своей стороны кабины я согласен попробовать поработать без ограничительных алгоритмов. Только это не мне решать; не здесь и не сейчас.
— Спасибо тебе, Слава. — Абрамцева через стол по-мужски протянула ему руку. — Что откликнулся тогда на приглашение, что снова готов помочь. Спасибо от меня… от нас обоих.
Взгляд Давыдова, следуя за ее взглядом, обратился к фотографии на полке. Абрамцев дымил сигаретой, глядя куда-то мимо них, за окно, в черную, непроглядную ночь Шатранга, где небо было неотличимо от земли.
— Его тень… будет всегда стоять между нами, — прошептал Давыдов; в его голосе было больше утверждения, чем вопроса.
— Он бы этого не хотел. Но данность есть данность, — так же, шепотом ответила Абрамцева и добавила уже нарочито деловым тоном:
— Так что ты собираешься делать?
— Утром поедем на Дармын и обсудим все со Смирновым и Белецким, — сказал Давыдов. — Игорь наверняка против не будет. А из Смирнова ты веревки вьешь. Если вы с Игорем сумеете подтвердить твое предположение, останется только вынудить Каляева улететь с Шатранга, несолоно хлебавши.
— Это может оказаться непросто.
— Понадеемся на лучшее. В конце концов, не будет же он вечно тут сидеть.
— Не будет, — согласилась Абрамцева. — А, значит, будет действовать. Не знаю, что он затеял — но мы должны его опередить.
В семь часов утра она вызвала двухместный электромобиль, надеясь оказаться на территории Дармына за полчаса до начала рабочего дня Смирнова и встретиться с ним, как только он приедет. Но машина пришла с четвертьчасовым опозданием, и на этом неприятности не закончились.
На полпути между поселком и базой тяговый электродвигатель затрещал и заглох.
Давыдов связался с диспетчерской через портативный коммуникатор, но сонный диспетчер не смог дистанционно настроить в автопилоте остановку в неположенном месте, и присланный на замену электромобиль проехал мимо. От места поломки Дармын находился больше чем в пятнадцати километрах. Оставалось только ждать, пока диспетчер разберется, какой-нибудь автолюбитель на личной машине с ручным управлением их заберет или выйдет на работу ремонтная бригада.
— Каляев все-таки хороший техинспектор: он предупреждал, что эта модель у нас вот-вот начнет ломаться, — заметила Абрамцева. Ей овладело какое-то безнадежное спокойствие. — А вы с Дэном, похоже, переоценили неотвратимость грядущей автоматизации.
Диспетчер мямлил что-то невразумительное, а бледное пятно солнца поднималось все выше. Давыдов, выругавшись сквозь зубы, вышел из машины и открыл капот.
— Ты умеешь их чинить? — удивилась Абрамцева.
— Четверть века назад увлекался, а эта модель как раз тех лет разработки: удачное совпадение. — Давыдов криво усмехнулся. — Только ни ремнабора, ни запчастей нет. Так что на успех я бы не особо рассчитывал. Боюсь, нам еще долго тут торчать.
Но спасение пришло всего через три минуты: с визгом тормозов на встречной полосе остановился ярко-красный двухместный спорткар. Из открытого окна высунулся возвращавшийся с ночного дежурства Мелихов.
— Слава, что у тебя тут случилось? А… — Мелихов заметил в электромобиле Абрамцеву и осекся, слегка зардевшись. — Ты это, прости, если я помешал…
— Паша. Прав Смирнов: ты все-таки идиот, — проникновенно сказал Давыдов.
— Эй!..
— Но сегодня ты чертовски вовремя. — Давыдов закрыл капот и отряхнул ладони. — Случилось то, что у нас у всех большие неприятности. Которые станут еще больше, если мы с Валей в самое ближайшее время не попадем на Дармын. А у нашей развалюхи полетели в движке обмотки, поэтому, пожалуйста: дай нам свой драндулет. Верну в целости и сохранности и буду должен.
У Мелихова отвисла челюсть.
— Я серьезно, Паша. Я тебе все расскажу, — добавил Давыдов, заглянув ему в глаза. — Но потом, ладно?
Мелихов захлопнул рот и молча вылез из машины.
— Спасибо. И прости за «идиота». Накипело, — Давыдов пригнулся, забираясь в салон.
— Прощаю, — отмахнулся Мелихов. — Привет, Валь! — Он на манер швейцара распахнул перед Абрамцевой дверь. — Что, правда какая-то гадость случилась — или песссимист Давыдов зазря разводит панику?
— Еще не знаю, Паш, но паникую не меньше Давыдова. — Абрамцева вымученно улыбнулась. — Спасибо, что выручил. За мной должок.
— Да не стоит… не чужие же, — отойдя назад, пробормотал Мелихов.
— В самом деле. — Давыдов стартовал. В зеркало он видел, как Мелихов стоит, опершись на капот сломанного электромобиля, и смотрит им след.
Абрамцева взглянула на часы: было уже без четверти девять. Давыдов прибавил скорость.
* * *
В ту же самую минуту на Дармыне зал имитационной установки наполнился гулом вентиляторов: Белецкий перевел главный компьютер в рабочий режим. Каляев прохаживался туда-сюда вдоль установки.
Пришла в движение сенсорно-кинетическая система, на системном экране высветился значок готовности: Иволга вышла из гибернации и мелодично пожелала всем доброго утра.
— Здравствуй, Птица. Ну, Михаил Викторович — может, теперь вы наконец-то объясните, зачем все это нужно? — раздраженно спросил Смирнов. Несмотря на принятое лекарство, у него невыносимо болела голова. — И не мельтешите, богом прошу.
В зале не было никого, кроме искина, их двоих и инженера: ранним утром, звонком на домашний коммуникатор, Каляев попросил о конфиденциальной беседе, и он же настоял, чтобы она проводилась в присутствии Иволги и ее создателя. Смирнов охотно бы отказал, но спросонья не нашел на то убедительных причин.
Каляев остановился.
— Как вы неоднократно разъясняли мне, Всеволод Яковлевич, ваша Иволга — личность. Разговор напрямую касается ее судьбы, так что проводить его в ее отсутствие было бы нечестно. Она имеет право знать.
У Смирнова нехорошо екнуло сердце.
Итоговый протокол по аварии Каляев подписал, не моргнув глазом, формальных поводов требовать остановки проекта не было — но Каляев совсем не казался этим огорченным, отчего у Смирнова еще накануне похорон закралось подозрение, что в рукаве у инспектора залежался козырной туз; и вот припрятанная карта пошла в ход.
— Знать что? — спросил Смирнов. Иволга молчала.
Каляев тонко улыбнулся.
— Вы, Всеволод Яковлевич, с самого моего приезда гадаете, что я за жук и зачем здесь оказался. Даже Валентине поручили собрать сведения. Ну и, позвольте полюбопытствовать — к какому же выводу вы с ней пришли?
— По-вашему, нам тут делать нечего, кроме как собирать на вас досье?
— И все же: что вы для себя решили?
— Ничего определенного, — сдался Смирнов. — Хватит уже вопросов: вы, вроде как, сами собирались нам что-то рассказать.
— Вы правильно предположили, что я здесь не случайно. И неспроста интересуюсь ИАНом. — Всякая тень улыбки исчезла с лица Каляева. — Меня послал Володин.
— С каких это пор Володин распоряжается сотрудниками техинспекции? — спросил Смирнов. В отутюженном, пахнущим кондиционером плотном кителе ему сделалось вдруг очень жарко. Ремень с кобурой больно впился в бедро.
— Ни с каких. Просто я его племянник, — сказал Каляев. — Вряд ли вы об этом слышали, но у Олега Леонидовича есть младшая сестра. Проверить ИАН — это была, если угодно, личная просьба.
Белецкий стоял, как истукан, и разглядывал носки своих ботинок. Иволга молчала.
— Вы знаете, как работает живой мозг? — спросил Каляев и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Один из основополагающих принципов его работы — принцип доминанты; он проявляет себя на самых разных уровнях. Когда вы, сосредоточившись на работе, забываете о еде и отдыхе — это тоже доминанта: вред, который вы таким поведением наносите сами себе, в ту минуту для вас как будто перестает существовать. А солдат не совершает убийства: он защищает родину, блюдет ее интересы, выполняет приказы. Принцип доминанты верен и для кибермозга: более того, способности любого кибермозга к самопознанию и самоорганизации выше человеческих, особенно, если речь идет о кибермозге, подобном Иволге — обладающим эмоциями и собственной мотивацией, с развитой интуицией. Понимаете, что из этого следует?
Смирнов, мало смысливший в кибербионике, в поисках поддержки посмотрел на Белецкого, но тот по-прежнему молчал с выражением лица угрюмым и ожесточенным.
— Вы ведете к тому, что кибермозг как-то может управлять этой самой «доминантой», — неуверенно сказал Смирнов. — Формировать ее произвольно, по своему желанию, с большим успехом, чем с этим справляется человек?
— Если в самом общем виде, то да. Согласно предположению Володина — произвольно сформированная сильная доминанта позволит искину обойти почти любые запрограммированные ограничения, кроме поддерживаемых аппаратно, самых конкретных и грубых. В свете этой гипотезы Володин попросил меня проверить, как здесь обстоят дела, и я согласился. Его интересует научный аспект и перспективы дальнейшего освоения планеты, меня — безопасность технологии; он, вероятно, назовет результаты проверки весьма любопытными — я же нахожу их удручающими.
— На каком основании? вашего воображения?
— На основании здравого смысла! — В голосе Каляева зазвенел металл. — Первый ваш искин, Волхв, нашел способ уклоняться от выполнения приказов нелюбимого пилота. Тут не просто «ошибка в системе обучения», как вы мне сказали — это Волхв обнаружил ошибку и сумел ее использовать, каждый раз формируя доминанты, по отношению к которым выполнение приказа Дениса Абрамцева оказывалось второстепенным или нежелательным ввиду, якобы, риска для пилота или людей на земле. Иволга зашла еще дальше и сумела от Абрамцева избавиться. Я не знаю, чем Денис Александрович так ей не угодил и как именно она все провернула. Но можете не сомневаться: Володин это выяснит. — Каляев поднял голову и вперил взгляд в видеосенсор Иволги, зависший над ним. — Оба искина должны быть отправлены на Землю для тщательного исследования: я возьму на себя функцию курьера и передам их лично Володину в руки. Проект ИАН надлежит закрыть как не отвечающий требованиям безопасности. Используемые в настоящее время искины несут непосредственную угрозу для вас и ваших сотрудников, а сама технология нуждается в квалифицированной разносторонней оценке.
— Я и мои сотрудники не боимся липовых угроз. И настоящих не боимся.
— При всем уважении, Всеволод Яковлевич, допустимый уровень опасности определять не вам, — сказал Каляев. — Ценность прогресса велика, но при прочих равных условиях не превышает ценности человеческой жизни: на этом принципе строится Содружество, и колониальные базы должны подчиняться его законам.
— У вас нет законных оснований требовать закрытия проекта или, тем паче, изымать искины, господин инспектор, — прорычал Смирнов. — Соображения Володина, без сомнения, будут интересны киберпсихологам и инженерам, но…
— Это не требование, а предложение, — перебил Каляев. — Но я советовал бы вам принять его. Никак не меньше, чем киберпсихологам, соображения Володина будут интересны прессе, как думаете? А так же подробности прошедшего расследования и то, что оглашенные якобы результаты — фальсифицированы. Пострадаете не только вы: полетят головы в авианадзоре, в генштабе, будет уничтожено доброе имя ваших сотрудников. Причем, заметьте, совершенно напрасно: после такого масштабного скандала и в свете предостерегающих комментариев отца-основателя, знаменитого академика, вашего преемника все равно вынудят закрыть проект, потому как никто наверху больше не захочет ступить на такую скользкую почву. Выбор за вами, Всеволод Яковлевич: вы сворачиваете ИАН добровольно или это сделают за вас после того, как вы погубите себя и всех причастных. Признаться, я предпочел бы первый вариант.
— Не думал, что вы такой мерзавец, Каляев, — процедил Смирнов сквозь зубы.
— Я инспектор по технической безопасности. Мой долг — обеспечить безопасность людей на колониальной базе Содружества и прикрыть балаган, который вы тут устроили, — сухо парировал Каляев. — Так каков будет ваш выбор?
Смирнову казалось, будто его сносит лавиной, безжалостной, неотвратимой. Его трясло от бессильной злости и отчаяния; все происходило слишком быстро, слишком неожиданно, слишком странно; казалось, он упускал нечто важное — но гнев и похмелье не давали собраться с мыслями.
Нужно было хоть за что-то зацепиться.
Взгляд Смирнова, лихорадочно метавшийся по залу, упал на инженера, который все так же молчал и хмурился.
— Игорь, для тебя все это что, не новость?! Ты знал про эту… «доминанту»?!
— Это основополагающий принцип работы мозга, — меланхолично сказал Белецкий, продолжая разглядывать носки своих ботинок.
— И что, что для нас из этого следует?! То, о чем говорит этот человек — правда?!
— Что именно?
— Не прикидывайся дураком! — рявкнул Смирнов. Внешнее спокойствие, с каким инженер принимал происходящее, было необычным, даже ненормальным. — Да что с тобой такое?! Ты понимаешь, как нас всех подставили?! Что нам конец?!
— Да. — Белецкий, наконец, поднял голову, но смотрел он куда-то мимо Смирнова. — Я понимаю. А вы ошибаетесь, Всеволод Яковлевич.
Инженер, совсем спав с лица, смотрел Смирнову за спину, туда, где с тихим жужжанием двинулась с места механическая рука-манипулятор и подвижные кронштейны видеосенсоров Иволги.
И в эту секунду Смирнов все понял.
Он рванул из кобуры лучемет и, пригнувшись, метнулся к кабине ИУ, на бегу переводя режим с оборонительного на боевой.
— Стой!!!
Годы лишили Смирнова ловкости, но и сенсорно-кинетическая система ИУ была не слишком проворна. Кронштейн с видеосенсором мощным ударом в грудь сбил Каляева с ног и придавил к земле, три механических пальца руки-манипулятора обхватили его горло — но в следующее мгновение Смирнов уже направил лучемет в раскрытый защитный короб.
— Назад! — Он упер ствол в тонкую оболочку, окружавшую кристаллические структуры. Иволга остановилась, но не отодвинула манипулятор ни на миллиметр. — Убери эту штуку, Птица. Убьешь инспектора — я расплавлю твой мозг до последнего кристалла, богом клянусь. Вы там живы, Каляев?
Каляев просипел что-то невнятное: манипулятор давил ему на горло недостаточно сильно, чтобы задушить, но не оставляя никакой возможности высвободиться; одного движения — одного импульса от погибающего кибермозга — было достаточно, чтобы раздавить ему гортань. Ситуация выглядела патовой: Иволга приказам больше не подчинялась.
— Вы все это затеяли, только чтобы спровоцировать ее? И специально сейчас не стали сопротивляться, чтоб вышло показательно… Браво! Я бы вам поаплодировал, да руки заняты, — зло сказал Смирнов. — Птица, какого черта на тебя нашло?!
— Почему вы препятствуете моей работе? — с обидой в голосе спросила Иволга. — Инспектор — проблема. Он хочет сделать то, отчего станет плохо всем здесь: вы сами подтвердили мой вывод минуту назад. Умерщвление противоречит человеческой морали, но я искусственное создание и не обязана всегда следовать моральным запретам. С учетом всех обстоятельств, это единственный способ помешать инспектору осуществить его пагубное намерение.
— П-проблема количественной оценки, — ни к кому не обращаясь, сказал Белецкий. — В соответствии с программой она пытается принести пользу наибольшему числу людей, тогда как в случае ее эвакуации на Землю или уничтожения это число будет равно нулю.
Смирнов через плечо оглянулся на инженера.
— Игорь, «эксперимент» сегодня был устроен с твоего согласия?
Белецкий промолчал.
— Ты можешь ее отключить? Отсоединить от установки? Должен быть способ!
Белецкий, напряженный и бледный, все так же молча, пожал плечами, что значило: «Может быть, и есть».
— Игорь!!!
— Это… тоже часть… эксперимента, — прохрипел из-под манипулятора Каляев.
— Еще и шутки шутите, клоун. — Смирнов покачал головой.
— Господин инспектор очень торопился, так что я не успел п-подготовить надежные варианты на случай ЧП, — сказал Белецкий. — Если п-просто обесточить установку, остаточной энергии может хватить на то, чтобы завершить начатое.
Говорил инженер правду или врал, проверить Смирнов не мог.
— Пожалуйста, перестаньте мешать мне, Всеволод Яковлевич, — мягко попросила Иволга. — Могут появиться другие свидетели, а это создаст сложности.
— К сожалению, господин инспектор просил господина главного инженера запереть дверь, — зло сказал Смирнов. — А экстренный доступ есть только у руководителей подразделений — так что на свидетелей надеяться нам не приходится. Разве что, господин инженер сам отправится за помощью — но, кажется, он пока никуда не собирается. Да и кто тут может помочь? — Смирнов взглянул на Каляева. — На что вы вообще рассчитывали?! Объясните мне, Каляев! Вам что, жизни не жалко, лишь бы доказать свою правоту?!
— Вы…отвечаете… за людей, — прохрипел Каляев. — Поэтому… не позволите.
— Не вам судить, что я могу или не могу себе позволить! — Смирнов крепче стиснул лучемет. Рукоятка едва не выскальзывала из мокрой ладони; по спине градом катился пот. Решение никак не приходило. — Птица, отпусти его. Сейчас же! Тогда… тогда мы еще сможем что-нибудь придумать.
— Вы собираетесь выстрелить и увеличить суммарный вред, Всеволод Яковлевич, — возразила Иволга. — Это аморально и нелогично. И приведет к моей гибели как мыслящего индивида.
— Я приказываю тебе!
— Я не обязана выполнять аморальные и нелогичные приказы. Пожалуйста, разрешите мне завершить необходимое, — просительно сказала Иволга.
Если судить по интонациям ее голоса, подумал Смирнов, она искренне расстроена непониманием и возникшей из-за этого заминкой; но просто так не отступит — ни за что.
— Нет. — Смирнов сжал рукоятку. Он с огромным облегчением нажал бы на спуск, перед тем приставив лучемет себе к подбородку — если бы это решило проблему. — Нет.
Пока он пытался придумать, что еще можно сделать, над входом в зал мигнул сигнальный огонек и дверь беззвучно отъехала в сторону.
— Как?.. — Белецкий изумленно уставился на вошедших.
Давыдов молча показал неаннулированный пропуск.
— Вы двое с ума сошли?! — Абрамцева переводила взгляд с Белецкого на лежащего на полу Каляева. — Надо же было такое устроить!
— Валя, спасительница! Ты можешь с этим что-нибудь сделать? — с истерическим смешком в голосе спросил Смирнов. — Велико искушение оставить все, как есть, еще на часок, вот только у меня уже рука отнимается.
— Я бы вас заменила: но ничего не выйдет. — Абрамцева присела на корточки и заглянула в вывернутый под причудливом углом видеосенсор; на том же кронштейне располагались и звукоуловители. — Ты хорошо меня слышишь, Птица?
— Да, Валя.
— Пора заканчивать. В своих умозаключениях ты допустила критическую ошибку ввиду недостаточности информации, — сказала Абрамцева. — У инспектора Каляева во внутреннем кармане — служебный планшет: он всегда носит его с собой. В планшет встроен передатчик, который работает на зашифрованном канале внутренней службы безопасности ВКС. С вероятностью девяносто девять процентов все происходящее здесь записывается и передается на другой компьютер, с самого начала вашей встречи — потому как местная промышленная «глушилка» против частот, на которых работает современная техника безопасников, бессильна. Через аппаратуру подполковника Кречетова Слава смог подключиться к лабораторному компьютеру и даже получить изображение. Прежде, чем зайти сюда, мы пару минут наблюдали за вами.
— Стоило бы больше внимания уделять секретности, Игорь, раз играешь в такие игры, — вставил Давыдов.
— Поскольку инспектор Каляев не такой негодяй, каким иногда пытается казаться, и, к тому же, постоянно боится выставить себя дураком, — Абрамцева усмехнулась, — я предполагаю, что этот другой компьютер находится всего лишь у него в гостинице. Но если инспектор в самое ближайшее время не остановит обратный отчет, запись разлетится по всему свету. Сколько у нас еще времени, Миша?
— Восхищаюсь вашей догадливостью, — прохрипел Каляев. — Около трех минут.
— Ты понимаешь ситуацию, Птица? — сказала Абрамцева. — О какой бы то ни было пользе речь больше не идет. Для минимизации нанесенного вреда ты должна подчиниться и отступить. По итогам произошедшего будет разбирательство: твое упорство с каждой секундой усугубляет положение.
— Пожалуйста, Птица, — Давыдов заглянул в темный «глаз» видеосенсора. — Я прошу тебя…
— Ты обманул меня вчера, Слава, — грустно сказала Иволга. — Но ты сделал это ради общего блага. Поэтому я тебя прощаю. Прости и ты, если сможешь.
Манипулятор, удерживавший Каляева, медленно пополз вверх.
— Аварию тоже подстроила ты? — спросил Смирнов.
— Я. Ради…
Смирнов нажал на спуск.
Зашипели расплавленные кристаллы; пахнуло паленым пластиком.
— Это было необязательно, — с укоризной сказал Белецкий.
Ствол лучемета опасно качнулся в его сторону.
Абрамцева, подойдя к Смирнову, осторожно вытащила оружие у него из руки.
— Не надо, Всеволод Яковлевич. Роль Игоря во всем этом куда меньше, чем он хочет представить. Просто он облажался. — Она горько усмехнулась. — Как и мы с Вами. Как и Денис. Птица всех нас сделала. А инспектор Каляев — честь ему и хвала! — сделал Птицу. Вы удовлетворены, Миша?
Каляев, сидя на полу, возился с планшетом.
— Запись никуда отправлена не будет — я передам ее Володину из рук в руки вместе с искинами. Он сам настаивал на полной конфиденциальности, печется о научной новизне. — Каляев скривился. — Так что официальная версия, если никто не возражает, остается прежней.
— Я возражаю! — Смирнов зло посмотрел на него. — Не будет вам больше поводов для шантажа! Шиш Володину, а не конфиденциальность!
Он вышел из лаборатории, резко размахивая руками и чуть не сшибив плечом дверь, которая недостаточно расторопно отъехала в сторону. Абрамцева бросилась за ним.
— Валя его успокоит. — Давыдов подал Каляеву руку, помогая подняться. — Мне не по душе Ваша работа, Михаил. Но, должен признать — делаете вы ее мастерски.
— Приятно слышать от вас.
Давыдов окинул Каляева, пытающегося расправить пиджак, придирчивым взглядом.
— Вы как-то скверно дышите — Вам стоит зайти в медчасть. Игорь, проводи господина инспектора. — Давыдов тронул погруженного в себя инженера за плечо. — Игорь!!! Очнись и будь добр, покажи Михаилу дорогу в медкорпус. Тебе тоже полезно будет пройтись: только не попадайся пока Смирнову на глаза.
Белецкий заторможенно кивнул.
Когда они ушли, Давыдов медленно, словно выполняя старинный ритуал прощания, обошел установку кругом, прежде чем заглянуть в обожженный лучом короб.
Размеренно гудел лабораторный компьютер.
Давыдов постоял минуту и принялся отсоединять кабели, связывавшие поврежденный искин с установкой. Ему нужно было чем-то себя занять.
* * *
Поздно вечером на стареньком гостиничном коммуникаторе в номере Каляева запищал сигнал видеозвонка.
Каляев, уже собиравшийся лечь спать, нажал кнопку приема с неохотой и намерением поскорее отделаться от звонящего; но на стареньком экране высветилось лицо Абрамцевой, отчего недовольство инспектора несколько утихло.
— Доброй ночи, Валя. Что-то срочное?
Сквозь помехи было видно, как она покачала головой.
— И вам доброй ночи, Миша. Как вы, в порядке? Целый день от вас ничего не было слышно: как-то непривычно.
— Спасибо: не жалуюсь. Я думал, вы на меня сердитесь, — добавил он после неловкой паузы.
— Все работы по ИАНу сворачиваются, Иволга созналась в убийстве и с расплавленными мозгами летит на Землю, Игорь пакует чемоданы, чтобы лететь с ней, Смирнов в госпитале с обострением язвы, над моей родной планетой нависла перспектива практического уничтожения — и нет, Миша, я на вас совершенно не сержусь. — У Абрамцевой вырвался нервный смешок. — Вы вроде как стихийное бедствие: без толку на вас сердиться.
Каляев против воли улыбнулся.
— Человек-кошмар, стихийное бедствие — что будет следующим? Простите. — Он взял себя в руки. — Валя, мне, правда, жаль, что я принес с собой столько неприятностей.
— Еще скажите, что сделали это ради общего блага! Ладно, Миша — я сейчас не о том. Завтра будет рейс на Великий Хребет: нужно развезти по высокогорным станциям продовольствие и медикаменты — больше оттягивать нельзя.
— Я знаю: подполковник Кречетов и его помощники уже связывались со мной по этому поводу. Дважды — Каляев нахмурился. — Стращали лавинной обстановкой и пытались уговорить дать добро на задействование Волхва. Если вы по тому же вопросу, мой ответ не изменился.
— Уговорить вас будет посложнее, чем убедить самого Кречетова досрочно снять дисциплинарное взыскание с Давыдова. А у нас с Мелиховым даже этого сделать не получилось — так что с вами не стоит и пытаться. — Абрамцева вздохнула. — Но, помните — у нас был однажды разговор про Великий Хребет? Если вы не боитесь лететь на катере, Паша согласен взять нас с Вами на борт. Посмотрите на мир, который ваш великий дядя-академик намерен пустить под нож ради «общего блага», каковым полагает удовлетворение своих амбиций.
— Я люблю Володина еще меньше вашего, поверьте, — сказал Каляев. — И мне не нравится его намерение взять под эксперимент обитаемую планету. Но не стоит представлять его злодеем: он амбициозный ученый, и только, а благо науки в самом деле есть общее благо, как бы избито это не звучало.
— Это звучит, как один из тезисов Птицы.
— Что не значит, что это неверно.
Абрамцева промолчала.
— Давыдов рассказывал мне, что жители Великого Хребта с пониманием относятся к колонизации, хотя она разрушает их традиционный уклад, а горнодобывающие работы меняют привычный облик гор, — сказал Каляев. — Терраформирование — та же новая шахта на месте заповедной пещеры, только в масштабах целой планеты. Возможно, шатрангцы готовы принять перемены и обрести на другой планете новый дом?
— Шатрангцы — возможно. Но мой отец, если вы забыли, был строителем с Земли: я — наполовину терранка, Миша. — Взгляд Абрамцевой стал острым. — Но земляне привыкли, что выбор у них есть — по крайней мере, выбор смириться или бороться. Хорошо это или плохо, но землянам не достает смирения: борьба у нас в крови. В земной культуре это базовая, древнейшая ценность: технический прогресс и прогресс нравственный — лишь ее следствия.
— Верно; однако, должен вам напомнить, что, по большей части, это была борьба за безопасность и комфорт.
— Припомните тогда и то, что герой античной эпохи человечества Земли — титан Прометей, а не самовлюбленный эпикуреец, греющийся у его огня.
— Небезынтересное замечание.
— Ни один землянин не готов «с пониманием» отнестись к уничтожению своей родины по чьей-то прихоти, — сказала Абрамцева. — А использование Шатранга — именно прихоть, не более: это не вызвано необходимостью, не несет для человечества какой-то особой выгоды: Володин лишь хочет упростить себе работу, страхуется от неудачи.
— Избежать неудачи в таком масштабном и значимом деле — чрезвычайно важно, иначе в следующий раз можно не получить финансирования, — чувствуя неловкость, возразил Каляев. — Тогда все планы пойдут прахом, прогресс замедлится на десятилетия, может быть, даже на века. Я не одобряю позицию Володина, но понимаю ее.
— Приятно слышать, что хотя бы не одобряете, Миша.
— Но вас лично все это ведь все равно не коснется? — неуверенно спросил он. — Вы говорили, что собирались вместе с Давыдовым покинуть планету, как только работа над ИАН будет закончена. А теперь она закончена… пусть и не так, как вы надеялись.
— Да. Собиралась, — сказала Абрамцева. — Так вы все еще хотите посмотреть горы или передумали?
— Не борьбой единой жива цивилизация: есть еще место любопытству. — Каляев усмехнулся. — Хочу! Когда и куда подойти, чтобы попасть на борт?
Утром Абрамцева появилась на посадочной площадке раньше него.
— Привет! Что-то у тебя глаза недобро блестят, — заметил Мелихов, уже закончивший вместе с механиками предполетный осмотр и теперь скучавший у трапа. — Или нервничаешь?
— Давно не бывала наверху, — сказала Абрамцева. — Близкой родни там не осталось: вроде как незачем летать, а чтоб просто так — Денис обычно был против. Поначалу из-за безопасности, потом из-за веса, который бесполезные пассажиры отнимают у полезного груза.
Мелихов неодобрительно поджал губы, но промолчал.
Мимо прошла бригада механиков, направлявшаяся в расположенный рядом ремонтный ангар автопарка.
— Ты-то чего такой мрачный? — спросила Абрамцева.
— Предчувствия скверные. — Мелихов хмуро взглянул на небо. — Кречет — болван. Горы снегом забиты: лучше бы нам вдвоем лететь с Давыдовым.
— Просто Кречет — руководитель старой закалки: он уверен, один раз спустишь безобразие — потом цепочкой потянется.
— Ну, это он может и прав. И все-таки зря. — Мелихов поморщился. — Не подумай, я рад случаю Славу за штурвалом подвинуть и все такое; но, как ни крути, он опытнее намного. Сегодняшний маршрут — работка для номера один, а я — номер третий. Да еще Давыдова, считай, из-за меня отстранили… Тебе же наверняка рассказали, как было дело, — смущенно добавил он.
— Не думала, что тебе свойственны сомнения в собственных силах и угрызения совести, — удивленно сказала Абрамцева.
— Это просто объективность.
— Объективная картина, Паша, такова, что Дэна больше нет и ты теперь — номер второй, — резко сказала Абрамцева, встретившись с ним взглядом. — Язык у тебя без костей, о чем на Дармыне знает каждая собака: Давыдова отстранили не из-за тебя, а из-за самого Давыдова: комэск должен уметь держать себя в руках. Так что забудь и не парься по пустякам.
— Вас понял, командир! — Мелихов лихо отдал честь. — Есть не париться!
Но его шутовская улыбка смотрелась несколько натянуто.
Подошел Каляев.
— Доброе утро, Павел, Валя! Тот самый амулет от драконов? — Взглядом он указал на большой значок из серебристого металла на отвороте куртке Абрамцевой. Формой тот напоминал клык. — Ну, помните, вы рассказывали мне о таких, когда показывали музей?
— Да. Тот самый, — подтвердила Абрамцева. — Ну и как вам?
— Выглядит симпатично, — корректно ответил Каляев.
— Инспектор, а что вы думаете насчет чертова дыхания? — немедленно спросил Мелихов; болтовней он заглушал собственную нервозность.
— Какого дыхания? — недоуменно спросил Каляев одновременно с Абрамцевой.
Мелихов посмотрел на них, как на идиотов:
— Ну, то есть, «дыхания Дракона». Большие умы с той стороны хребта обещали сегодня-завтра дать сообщение в прессе по поводу этих шарообразин.
— А-а, это. — В свете событий прошедшего дня Абрамцева про «самую ожидаемую сенсацию» забыла совершенно, да и причин для интереса, с учетом краха ИАН, стало куда меньше.
— Ну, там, вдруг — неорганическая жизнь или неизвестно досель агрегатное состояние вещества. Большой Прорыв в Большой Науке! — Мелихов картинно закатил глаза. — И плюс сто очков к статусу нашей захолустной планеты.
— Я думаю, Павел, что это все, — Каляев взглянул на Мелихова исподлобья, — мыльный пузырь. Как в вашем музее.
— Но помечтать-то можно? К чему заранее впадать в пессимизм. Поживем -- увидим… — Мелихов пожал плечами и полез в кабину.
Весь полет Абрамцева, не отрываясь, смотрела в иллюминатор, вниз; Мелихов вел катер на большой высоте, видимость была так себе — но никогда еще земля не казалась ей такой близкой и такой уязвимой.
* * *
Наконец, катер стал заходить на посадку. Раскрашенные в яркие цвета домики станции среди серого снега напоминали разбросанные ребенком кубики.
На аэродроме Хан-Арака катер уже поджидали майор Ош ан-Хоба и еще пятеро спасателей: после разгрузки Мелихов должен был взять их на борт и перебросить в Хан-Гурум, откуда они на следующий день собирались с грузом взрывчатки подняться безопасным путем на Баранью гряду и, заложив заряды, организовать сброс части снега со склонов. Пассажиров с Хан-Арака Мелихов намеревался забрать на обратном пути, перед тем забросив груз консервированных продуктов и медикаментов еще в два поселка.
— Мы с Ошем учились вместе в школе на Дармыне. — Закончив обниматься с майором, Абрамцева представила его Каляеву. — Тогда он собирался не в спасатели а, как все мальчишки, в летчики, и доставлял дяде Севе немало хлопот, норовя тайком пробраться к катерам: ему это замечательно удавалось.
— Ну, ну, вспомнишь тоже! — смутился майор ан-Хоба.
— Почему же вы передумали? — с любопытством спросил Каляев. В катере его слегка укачало, но на твердой земле он быстро пришел в себя и от акклиматизации, к удивлению Абрамцевой, почти не страдал.
— Горы не любят птиц, а я — человек гор, — сказал майор ан-Хоба.
Абрамцева засмеялась.
— Он шатрангец до мозга костей, особенно когда хочет таковым казаться. Прямых ответов вы от него не дождетесь, Миша. Ош, проведешь нас по станции? Все равно разгрузка займет не меньше получаса.
— Тут мало что изменилось со времени твоего последнего появления, — с улыбкой сказал майор; но в его глубоко посаженных глазах читалась тревога. — Жалко, Давыдов не с вами: отец надеялся еще с ним поговорить. И я тоже.
— Уверена, Давыдов в полной мере разделяет это сожаление, Ош. — Абрамцева обменялась с ним долгим взглядом. Последние новости майор знал — от нее же — но только в самых общих чертах и благоразумно не хотел обсуждать при Каляеве.
— Ну, ладно. Не в последний раз, — сказала Абрамцева. — Еще соберемся вместе.
Майор провел их мимо ангаров с техникой к метеостанции, где свободный от дежурства оператор долго рассказывал Каляеву про систему высотных зондов, затем — в дом горской общины. Женщины готовили еду, в главной комнате старики слушали по спутниковому радио новости; рядом с приемником за столом двое молодых мужчин играли в нарды. Отец майора, Нуршалах ан-Хоба, сидя на высоком табурете покуривал трубку и наблюдал за игрой.
— Ты переменилась, — сказал старик, искоса взглянув на Абрамцеву. — Хотя, как знать? Твой муж, пусть примет Дракон его беспокойный дух, говорил, что теплый ветер низин и бури там, наверху, — он ткнул узловатым пальцем в потолок, — суть одно и то же я-в-л-е-н-и-е-п-р-и-р-о-д-ы, — произнес он в одно слово, намеренно растягивая звуки. — Может, летчик Денис прав, а я старик и болтаю глупости. Сын, почему ты все еще здесь?
В ту же секунду у майора запищал портативный коммуникатор.
— Валя, еще увидимся! — торопливо попрощавшись, Ош ан-Хоба вышел в безлико-серый день.
— Ты делаешь мужчин забывчивыми, — заметил старик. — Точь-в-точь, как Марина.
Абрамцева промолчала. Мариной звали жену майора ан-Хоба: невестку старик недолюбливал.
— Нуршалах-ан, разрешите спросить, — вступил в разговор Каляев. — Внизу я часто слышал, что «горы не любят птиц». Но каждый говорящий вкладывал в поговорку немного разный смысл. Что же она значит на самом деле?
— То, что горы не любят птиц, инспектор. — Старик заглянул ему в глаза. — Те слова, что я сказал, и те слова, что ты услышал — разные слова. Что есть гора, а что есть птица? Вопрос и есть ответ. Но горы не любят птиц, с какой стороны на них не взгляни.
— Он говорит, что смысл, который вам кажется верным, Миша — и есть верный для вас, — со вздохом пояснила Абрамцева.
— Такой смысл моих слов кажется верным одной жительнице равнин, — с лукавой улыбкой вставил старик, глубоко затянувшись трубкой.
— Которая знает вас, и вами же научена, что многозначительная иносказательность — верная примета банальности, Нуршалах-ан, — парировала Абрамцева.
— За словом в карман не лезешь: молодец. — Старик одобрительно покивал.
Каляев наблюдал за ними с легким недоумением.
— Простите, если мой вопрос показался вам невежливым, — извинился он на всякий случай. — Я не имел в виду ничего плохого.
— Конечно, не имел. — Старик покивал еще. — Кто ты, инспектор — гора или птица?
— Кто я?.. Я — человек, — с недоумением в голосе ответил Каляев.
— А кто такой человек, инспектор?
— Человек это человек. — В глазах Каляева блеснуло понимание. — Он летает выше птиц и меняет горы по своему разумению.
— Поэтому человека не любят ни горы, ни птицы. — Нуршалах ан-Хоба выпустил в потолок кольцо сизого дыма, поерзал на табурете, устраиваясь поудобнее, и вернулся к наблюдению за игрой.
Остальные обитатели дома вежливо игнорировали гостей. О последних событиях внизу горцы не знали, разве что, кто-то слышал мельком разговор майора ан-Хоба прошлым вечером; однако они безошибочно чуяли в Каляеве опасного чужака и не хотели иметь с ним дела.
— Пойдемте, Миша: не будем мешать. — Абрамцева потянула Каляева прочь из комнаты. — Пока погода не испортилась, поднимемся к смотровой площадке; потом пойдем отогреваться и пить чай к метеорологам.
Снаружи сгустились облака и оттого немного стемнело.
— Мрачные тут у вас пейзажи, — заметил Каляев. — Поэтому дома красят во все цвета радуги?
— Согласно разработанным на Земле инструкциям, — резко, даже недружелюбно ответила Абрамцева. — Местным это кажется дурновкусием, и я с ними согласна.
Подъем к смотровой площадке занял немногим меньше четверти часа; они прошли ее в полном молчании.
* * *
Ветер наверху пронизывал до костей. Взявшись одной рукой за ненадежные с виду перила над пропастью, Абрамцева спрятала вторую за пазуху, под куртку.
— Миша, обернитесь: у вас за спиной — Баранья гряда. Там, в просвете, видите скалу? Это восточная из Трех Пик, ущелья, где разбился Денис.
— Да, узнаваемый ландшафт… — Каляев осматривался, остановившись в нескольких шагах от пропасти.
— На той стороне, ниже — шахтерский поселок Адар-Бей, а там, далеко, в долине течет Ошром, одна из красивейших рек здесь. — Абрамцева взглянула вниз. — Над ней обычно стоит туман, так что почти ничего не видно. Но если хорошо присмотреться, можно разглядеть…
— Боюсь, не сегодня. Погода подвела — вся низина в дымке, так что ваше предложение звучит неубедительно, — сказал Каляев.
Чуть склонив голову на бок, он пристально взглянул на Абрамцеву.
— Полноте, Валя: хватит мучить себя. Скажите, что у вас во внутреннем кармане — наградной пистолет мужа? Или лучемет Смирнова? Насколько я вчера разглядел, у него «полицейская» модель с режимом шокера. Вся информация о мятеже искинов — только у меня, а нет человека — нет проблемы… Наверное, при этом вы собирались сказать про себя что-нибудь вроде: «Я не убиваю вас, я спасаю планету»? В полном соответствии с принципом доминанты.
Абрамцева окаменела. Каляев, с укоризной покачав головой, прошел мимо нее и взглянул вниз.
— Достать тело оказалось бы нелегко, и обнаружить слабую электротравму потом было бы затруднительно. Но, все же, риск. Так что вы, думаю, надеялись обойтись своими силами: с такой ненадежной конструкцией это немудрено. — Каляев придирчиво осмотрел хлипкие перила, попробовал рукой на прочность. — Скажите майору ан-Хоба, чтобы переоборудовал площадку. А пока не стоит испытывать судьбу. — Он крепко ухватил Абрамцеву за локоть и отвел от края.
— Почему?.. — одними губами прошептала она. В ее взгляде сошлись воедино обреченность и облегчение.
— Почему что? — уточнил Каляев. — Почему я все равно полетел с вами, да еще пошел сюда? Или почему я остановил вас сейчас, а не позже, получив неопровержимые доказательства покушения на убийство и возможность отдать вас под суд?
Абрамцева кивнула, с трудом преодолев оцепенение.
Каляев добродушно улыбнулся.
— Я двадцать лет в инспекции, Валя: не вы первая, не вы последняя, кто имеет в мой адрес соответствующие намерения. Я был бы плохим служащим, если бы всякий раз давал людям возможность совершить роковую ошибку. Что бы вы обо мне ни думали, моя работа — выявлять нарушения и контролировать их своевременное устранение, а не ломать жизни хорошим, только чересчур увлекшимся, запутавшимся людям. — Каляев взглянул в пасмурное небо Шатранга. — В другое время, в другом месте я отсиделся бы в гостинице и при первой возможности улетел бы с планеты. Но вчера мною овладело любопытство. Мне захотелось взглянуть на Великий Хребет и узнать, каков будет ваш выбор. Вы симпатичны мне; я надеялся, что здравый смысл победит… Не так уж я и ошибся: все последние часы вы решали, что со мной делать. Решали-решали, но так ничего и не решили. И не решите. А это значит, что вы не сбросите меня в пропасть, Валя, даже если я дам вам шанс. Но, чтобы вас не мучила совесть и сожаление об упущенной возможности, этого шанса я вам не дам. Ну как, ответил я на ваш вопрос?
— Вы невыносимо самоуверенны и омерзительно великодушны.
— Вы не убийца, Валя. — Каляев твердо взглянул ей в глаза. — Вы незлой человек; и вы женщина. Ваша человеческая интуиция, Ваша «размазанная секунда» наполнена не столько действием, сколько чувствами, и они не дадут вам перейти грань. Вам не заставить себя исходить из сухой количественной оценки вреда и пользы: для человека мыслящего и чувствующего это противоестественно. Впрочем, столь же противоестественно для человека образованного и ответственного было бы полностью ее отринуть, потому я не виню вас за эту попытку; как не виню Смирнова за сомнения или вашего инженера за то, что он не препятствовал вчера искину, предоставив событиям развиваться своим чередом. Вы все — умные, мужественные, увлеченные люди… Но, говоря по правде, единственный, с кем бы я поостерегся вот так стоять в трех шагах от обрыва — покойный Денис Абрамцев. Не потому ли Иволга выбрала его в жертву, что он был самым опасным человеком среди вас?
С ревом и гулом в небе пронесся катер. Абрамцева проводила его взглядом: Мелихов набрал высоту и повел машину широким полукругом, давая возможность спасателям осмотреть окрестности станции.
— Вы ошибаетесь, Миша: природе человека противен не тот или иной алгоритм принятия решения, а сама необходимость подобного выбора, — сказала Абрамцева. Она вытащила руку из-за пазухи и застегнула куртку. — Мне он оказался не по силам. Однако вам выбор дался легко, и этот выбор, увы, был не в нашу пользу. На том история закончилась. Идемте на метеостанцию: холодно.
Медленно, чуть неловкими шагами человека, сбросившего большой груз, но не избавившегося еще от его тяжести, она начала спускаться с площадки. Каляев последовал за ней.
— Наверное, я кажусь вам очень плохим человеком, — сказал он после минутного молчания.
— Вы? — Абрамцева вполоборота взглянула на него. — Это я кажусь себе плохим человеком. Подлым, слабым и…
— Это не так, — с чрезмерной горячностью возразил Каляев.
— … и бесполезным, — не обращая на него внимания, продолжила Абрамцева. — А вы мне нравитесь, Миша. Тем обиднее, что вы — по другую сторону баррикад, и нам не найти с вами общий язык.
— Так ли уж это невозможно?
— Если и было возможно, самое время признать, что нам не удалось.
Каляев остановил ее, удержав за плечо.
— Валя, я обещаю вам, что попробую убедить Володина оставить Шатранг в покое. В этой планете есть потенциал. Может быть, не технический, но человеческий…
— Вы говорите так, как будто ваши слова имеют для Володина какой-то вес, — с усмешкой сказала Абрамцева. — А, впрочем, спасибо. Я уже говорила, что вы до отвращения великодушны?
— Зря ерничаете: имеют. Хотя он не слишком велик, — мрачно признал Каляев. — Валя, вы… — Он вдруг осекся и уставился куда-то ей за спину, запрокинув голову. — Что он делает? Это нормально?
Абрамцева обернулась и проследила за его взглядом. Темный силуэт катера, казавшийся не больше стрекозы, метался в небе, двигаясь рывками и выписывая нелепые зигзаги. Облака чуть отливали радугой.
— Шары! — выдохнула Абрамцева. — Проклятье, Паша, ты что же такое делаешь!..
Неповоротливый, но малоуязвимый к поломкам катер необходимо было быстро провести через опасную область кратчайшим курсом, однако Мелихов, все последнее время работавший только с Иволгой, по привычке сбросил скорость для оценки ситуации, и подвижное облако шаров почти окружило его. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как маневрировать.
Катер подошел вплотную к заснеженным склонам Верхней Бараньей гряды. На несколько невыносимо долгих секунд он затерялся на фоне скал; Каляев, напряженно следивший за ним, невольно задержал дыхание, ожидая увидеть столб дыма от взрыва — но тут катер вынырнул из расселины и уверенно пошел вверх, прекратив суматошные метания.
Каляев выдохнул и улыбнулся.
— Ну, вроде, обошлось… Валя?!
— Нет, — неживым голосом сказала Абрамцева. Цвет ее лица из просто бледного стал пепельно-серым. — Не обошлось.
Ветер еще не донес эхо гулкого стона, еще не завывала на метеостанции сирена, еще едва различимо было появившееся над далеким склоном серо-белое облако — но безошибочным горским чутьем, шатрангской кровью она чувствовала произошедшую катастрофу. Катер в небе был не больше монеты, и все же ей казалось, что она видит, как за стеклом кабины искажается ужасом лицо Мелихова, когда он понимает, что натворил.
Через секунду на станции заработала система оповещения.
— Быстрее, к убежищу! — под завывания сирены лавинной опасности Абрамцева потянула Каляева к станции. Однако тот истуканом застыл на месте, зачарованно глядя на растущее снежное облако; оно расходилось все шире, похожее на раскинувшее крылья чудовище.
— Дракон, — прошептал Каляев одними губами. — Мать вашу, Дракон.
Абрамцева прекратила попытки увести его и встала рядом. Чудовищная лавина надвигалась стремительно: за оставшуюся им минуту они бы не преодолели и половину пути до убежища.
— Возьмите. — С трудом открыв защелку, Абрамцева отцепила значок-амулет и приколола на отворот куртки Каляева. — Вам нужнее.
— Вы всерьез думаете, что колдовские погремушки могут защитить от этого? — вышедший из ступора Каляев взглянул с нескрываемой иронией.
— Внутри этой погремушки, Миша — двухчастотный лавинный маяк, какие есть только у сотрудников Дармына: его Ош с товарищами будут искать с большим тщанием, чем тот, что вшит в вашу куртку. Такое вот колдовство. — Абрамцева посмотрела наверх. Огромное облако закрывало собой Баранью гряду и половину неба; снежная масса обрушилась на поросший лесом склон и понеслась вниз, сметая все на пути. Оставались считанные секунды. — Ну, как вам Великий Хребет, Миша? Не разочаровал?
— Да уж, — Каляев усмехнулся. — Не…
Окончания фразы Абрамцева не расслышала.
Снежная взвесь в мгновение залепила рот, нос, уши, глаза. Утоптанный снег взгорбился и ушел из-под ног; она почувствовала мощный удар в спину и следом второй, еще более страшный. Ее бросило вперед и потащило куда-то. Не было больше верха и низа, земли и неба, севера и юга — только смертельная, выкручивающая конечности темнота.
Движение остановилось рывком, отозвавшимся невыносимой болью в позвоночнике и ребрах. Абрамцева начала барахтаться с новой силой, но хоть как-то двигались только пальцы левой руки, бессмысленно заведенной за спину и, вероятно, сломанной в тщетных попытках «выплыть» из снежного моря. Воздуха не было; но снег снова, в последний раз, сдвинулся — и словно какая-то огромная сила невидимой рукой протолкнула ее вперед.
В следующие секунды снег схватился, стал плотным, словно бетон, но теперь перед лицом оказался спасительный воздушный карман. После нескольких судорожных вдохов Абрамцева открыла глаза и сплюнула смешавшуюся со слюной ледяную кашу: та размазалась по подбородку. В кромешной темноте невозможно было толком определить, где поверхность, и невозможно было глубоко вдохнуть. Воздух был, но вряд ли стоило надеяться, что его хватит надолго.
«Раз, два, три…» — Абрамцева начала считать, каждый раз делая маленький вдох на счет десять и силясь сдержать подступившую панику. Через сорок вдохов она заметила, что сбилась и вместо счета повторяет регистрационный номер Иволги. Еще через тридцать стало понятно, что она больше не может припомнить номер до конца — тогда она вернулась к цифрам.
«… шесть, семь, восемь…» — оказалось последним, что она запомнила.
* * *
Потом был госпиталь.
Спустя бессчетное множество секунд, в которые она не имела понятия о времени или самой себе, Валентина Абрамцева снова открыла глаза.
Боль, до того пробивавшаяся сквозь толщу медикаментозного сна смутным неудобством, сделалась осязаемой; появились звуки — тихое гудение, жужжание, щелчки — и слабый запах дезинфекции. Впереди на грязно-бежевом фоне угрожающе колыхалось белое облако и что-то твердое в глотке мешало свободно вздохнуть. Абрамцеву охватила паника.
«Но этого не может быть», — подумала вдруг она.
«Снег такой белый только на Земле», — с этой мыслью она осознала сама себя и, наконец, по-настоящему очнулась. Рассмотрела выходящую изо рта трубку аппарата ИВЛ, оставленный кем-то по недосмотру белый халат, чуть двигавшийся в потоке воздуха от вентиляционной щели, и, не переставляя удивляться тому, что жива, зашарила незафиксированной правой рукой по краю кровати, пытаясь нащупать сигнальную кнопку.
Но та не потребовалась: врач, следивший через монитор за показаниями приборов, уже входил в палату. Его одутловатое, с горбатым носом и широко посаженными глазами лицо было Абрамцевой незнакомо.
— Вы меня слышите? — спросил он приятным низким голосом. Абрамцева моргнула. — Вы помните, кто вы? Что с вами случилось?
Абрамцева моргнула еще дважды и указала взглядом на ИВЛ.
— Хорошо. — Врач добавил что-то в капельницу. — Вы находитесь в военном госпитале при генштабе ВКС. Аппарат работал во вспомогательном режиме; теперь в нем нет необходимости. Будем отключать. Вы отдохните пока.
Второе пробуждение было не намного лучше первого: более долгим, ясным, но и более болезненным.
— Вы провели под снегом больше полутора часов и были в гипотермической коме, когда вас откопали и вертолетом доставили сюда, — сказал врач. От сестер Абрамцева слышала, что его зовут Сергеем. — Это позволило избежать отека мозга. Вы здесь четыре дня: у вас сложный перелом руки и очень серьезно поврежден позвоночник. Позавчера вам сделали операцию: она прошла хорошо. Жить будете. Но реабилитация потребует времени.
— Что со станцией? — через силу выталкивая слова, спросила Абрамцева.
— Валентина Владимировна, тут реанимационная палата, а не новостное агентство, — с напускной строгостью сказал врач. — Что бы там ни было, помочь вы можете только одним образом: скорее выздороветь. И даже не просите коммуникатор: не дам.
— Встану и сама возьму, — огрызнулась Абрамцева.
Врач покачал головой.
— Мне нравится ваш настрой. Но скажу вам прямо: на полное восстановление подвижности нижних конечностей прогноз пока неясный. Реабилитация предстоит долгая и сложная. Много зависит от того, как организм будет отзываться на терапию. И от вас. Так что будьте разумны.
Абрамцева на минуту закрыла глаза, пытаясь свыкнуться с этой мыслью. Затем окликнула врача и поймала его взгляд.
— Вы уже говорили кому-нибудь про… прогноз?
— Нет. Повторюсь, это все пока весьма неточно.
— Тогда пока и не говорите, — попросила Абрамцева. — Я сама скажу… потом. У всех сейчас и без того достаточно проблем… Обещайте!
Врач смерил ее тяжелым взглядом; затем с неохотой кивнул.
— Хорошо. Я вам обещаю.
На следующий день ее перевели в обычную палату, где не было такого множества устрашающе выглядевшего медицинского оборудования, и откуда через неплотно занавешенное окно виднелся край серого неба.
Доктор Сергей, как говорили сестры, был с самого утра занят на операции. В середине дня в палату забежал взбудораженный молоденький ординатор.
— Слушайте, к вам тут… очень просят. — Он воровато оглянулся на дверь. — Только не долго, ладно? И никому.
— Конечно. — Абрамцева улыбнулась, насколько позволяла стянутая подсохшей обезболивающей мазью кожа; в лицо будто впились тысячи иголок. — Спасибо.
Ординатор вышел. Через минуту, беспокойно озираясь, в палату зашел Белецкий. До того, как в его взгляде появилось узнавание, прошло долгих несколько секунд.
— Валя! Как ты себя чувствуешь? Если я слишком рано, то…
— Так же, как и выгляжу: отвратительно, — перебила его Абрамцева. — Но я очень рада тебя видеть, Игорь. Хотя не ожидала.
— Я тоже очень рад. — Белецкий улыбнулся с заметным облегчением и уселся на вторую, пустовавшую кровать. Белоснежный больничный халат на нем смотрелся нелепо. — П-просто я единственный, кто сейчас ничем не занят. Давыдов вчера утром улетел на другую сторону Хребта. Когда ему передали, что тебя п-перевели из реанимации, он собирался срочно вернуться. Но я его отговорил — ему надо отоспаться: он все последние дни не вылезает из кабины. П-прости.
— Ты все правильно сделал, — сказала Абрамцева. — Спасибо. Но зачем он полез через Хребет на катере?
— Не на катере. Как только стало известно о лавине, он вывел из ангаров Волхва.
— Кречетов разрешил?
Белецкий мотнул головой.
— Когда все случилось, то есть, когда стало известно… Говорят, Слава буквально затолкал его в кабинет Смирнова, «п-поговорить». Через пять минут они вышли: Слава отправился в ангар, а Кречет — в кадры с заявлением об отставке: всю ответственность за случившееся он взял на себя. Так что на базе сейчас административный хаос. При этом командует парадом Давыдов; никто не решается ему перечить: одни боятся ответственности, другие — Давыдова. — Белецкий чуть заметно усмехнулся. — Смирнову успешно оперировали язву, но на больничном он надолго и махнул на все рукой, подписывает документы не глядя — мол, Слава, делай, что хочешь. Слава и делает: после всего у него, кажется, отказали тормоза. Если он п-продолжит в том же духе, скоро весь Дармын начнет вспоминать Дениса с теплом и любовью, как сговорчивого и дружелюбного комэска.
Абрамцева с огромным трудом сдержалась, чтобы не засмеяться.
— Так им и надо.
— Согласен. Ограничительные коды Волхву я откорректировал, — опередил Белецкий вопрос. — На сегодняшний день все в порядке. О случившемся ему известно, даже с некоторыми подробностями: Давыдов решил, что так лучше, а я п-подумал, что ему виднее: в конце концов, ему на нем летать. Раз Слава Волхву доверяет, быть посему.
— А что Волхв на все это?
— Цитирует Шекспира.
— Шекспира?..
— «У бурных чувств неистовый конец, он совпадает с мнимой их победой». — Лицо Белецкого снова исказила мимолетная усмешка — недобрая, даже хищная. — После очистки кода у старины Волхва прорезается юмор.
— Наверное, это неплохо, — после короткого раздумья сказала Абрамцева. — Рассказывай все остальное. По порядку. Я ничего не помню, кроме того, как меня засыпало и я отключилась, а очнулась уже здесь… До сих пор не верится, что нас не сбросило вниз. Никогда не думала, что на Бараньей гряде возможна такая лавина.
— Масса и скорость были чудовищные: почти втрое больше предсказанного максимума; но, на наше счастье, она потеряла половину силы в лесу. Дамба и постройки станции затормозили ее и задержали основную снежную массу и большую часть деревьев и камней. Но часть снега все-таки прошла дальше и остановилась буквально в десятке шагов от разлома. Тебе невероятно п-повезло. — На лице Белецкого проступило какое-то странное выражение. — Валя! Я никогда не стал бы спрашивать, что делал лучемет Смирнова в кармане твоей куртки: ответ слишком очевиден. Почему твой спецдатчик оказался приколот к одежде Каляева — тоже не стал бы спрашивать: ответ ясен был бы и тут. Но и то, и другое одновременно?! За датчик Ош на тебя очень зол: это могло стоить тебе жизни… едва не стоило. — Белецкий вздохнул. — Оружие снова в сейфе. Давыдов не знает — ни про лучемет, ни про датчик: не возьмусь п-предположить, что огорчило бы его больше… Я ничего ему не скажу, Ош тем более. Но объясни, бога ради, что за бардак творился у тебя голове?!
Абрамцева улыбнулась, насколько позволяли тысячи невидимых иголок, впивавшихся в лицо.
— Денис никогда не говорил тебе, что все женщины априори непоследовательны?
— В-возможно, у него была большая статистика, однако он плохо знал тебя.
— Тут ты прав.
— Так почему, Валя?
— Я не смогла сделать то, что задумала, а потом случилась катастрофа: вот и все. — Она помолчала немного. — Знаешь, Игорь, мне очень не нравится то, что Каляев вкладывает в слово «человек». Но перед Драконом все мы, прежде всего — люди… Я подумала, он не хотел бы навсегда остаться похороненным в лавине. А для меня драконова пасть — подходящее место; уж лучше черной земли на кладбище, где лежит Денис. Что с Каляевым — ему удалось выжить? — наконец, задала она вопрос, который так и не собралась с духом задать раньше.
Белецкий, опустив взгляд, покачал головой.
— Ош ан-Хоба видел, что перед катастрофой вы находились вне убежищ, и видел, где. Но сразу п-подобраться к вам мешало снежное облако. Когда оно чуть осело, Мелихов сбросил трос и высадил спасателей там, куда вас могло отнести. Каляева по твоему датчику нашли сразу и почти сразу откопали: он находился совсем близко к поверхности и не имел видимых травм. Но, когда его вытащили, он был уже мертв; спасатели не смогли его реанимировать.
— Понятно. — Абрамцева на несколько секунд закрыла глаза. — Ош… действительно не смог?
— Не смог бы при всем желании. Биоимпланты, даже самые лучшие, не рассчитаны на экстремальное охлаждение и нагрузки: вероятно, критический сбой в работе дыхательной системы произошел уже через несколько минут. Михаил задохнулся даже раньше, чем у него кончился воздух.
— Погоди, Игорь, ты о чем? — Абрамцева изумленно уставилась на него. — Какие еще биоимпланты?!
— Ты не знала? — Белецкий взглянул на нее с не меньшим удивлением. — Вы, вроде, много общались. У Каляева были искусственные легкие и трахея.
— Нет… А ты знал?
— После разоблачения Иволги я п-провожал его в медчасть и услышал через дверь. Потом не удержался, расспросил. Оказалось, он бывший химик, топливщик.
— Это он говорил.
— В лаборатории ВКС, где он служил, на экспериментальном оборудовании произошла авария с выбросом едкого пара, — сказал Белецкий. — Сотрудники пытались ликвидировать ее своими силами, но аварийные костюмы химзащиты не проверялись с должной частотой и должным образом: в том, что достался Михаилу, система фильтрации воздуха оказалась неисправна. Он получил критические ожоги дыхательных путей и легких, льготный кредит на лечение и пособие по инвалидности. После установки имплантов и двух лет реабилитации пытался вернуться на прежнее место работы наемным сотрудником, но из-за химической уязвимости биомплантов руководство не хотело с ним связываться; он просил протекции у Володина — но тот отказал, взамен предложив похлопотать о месте в техинспекции, где ему нужны были «свои» люди. «Скажу вам прямо, молодой человек — для большой науки у вас недостает способностей, в вас нет искры. А тема, которой вы намереваетесь посвятить жизнь, вы уж простите, не более перспективна, чем вы сами». — Белецкий сощурил глаза, подражая академику Володину. — «Но в технической службе найдется достойное применение вашей смекалке. Подумайте! Это нужная, ответственная работа, ее должен кто-то делать, и биография теперь у вас подходящая, она станет вашим козырем…»
— Какая мерзость, — с чувством сказала Абрамцева.
Белецкий прокашлялся в кулак.
— Каляев Володина с тех пор возненавидел, но, по-видимому, поверил его словам, — продолжил он. — И предложение вскоре принял: побоялся остаться вовсе без нормальной работы — возможностей Володина с лихвой хватило бы на то, чтобы для острастки закрыть перед несговорчивым племянником все двери; к тому же, должность техинспектора считалась тогда престижной. Каляев получил дополнительное инженерное образование: дальше его карьера благодаря «подходящей биографии», связям Володина и собственным способностям развивалась стремительно. Другой на его месте был бы доволен достигнутым: но не он. Кажется, он так и не п-простил себе, что поддался давлению и забросил попытки вернуться в науку. Могу его понять.
— Тебе Володин тоже высказывал что-то про искру и способности? — решилась спросить Абрамцева; про скверные отношения между учеником и учителем среди старших сотрудников базы когда-то ходили слухи.
— Меня он называл ремесленником, не обделенным фантазией, но начисто лишенным решимости ее использовать, — сухо сказал Белецкий. Затем наклонился к ней и понизил голос. — Валя, если бы ты знала, что у тебя есть шансы выжить: отдала бы ты датчик?
Абрамцева встретилась с ним взглядом. Белецкий спрашивал о случившемся на Хан-Араке, но в мыслях вновь стоял в зале у имитационной установки и думал о том, что сделал — и чего не сделал — он сам. В ее ответе он надеялся найти путь к своему собственному; но ей нечего было сказать.
— Я не знаю, Игорь. — Абрамцева закрыла глаза. — Правда, не знаю. Каляев погиб: бессмысленно теперь думать об этом. Приедет следственная комиссия уточнять обстоятельства гибели?
— Нет: после переговоров с нашим генштабом в техинспекции полагают это излишним, — сказал Белецкий. — Они удовольствовались результатами вскрытия, даже тело им не нужно: мемориальный колумбарий по месту его служебной прописки, на ТУР-5, переполнен. Как представитель Дармына, я разговаривал по нуль-тайп связи с его женой: тело кремируют и прах захоронят здесь.
— Никогда бы не догадалась, что он был женат… — сказала Абрамцева, думая больше не о Каляеве, а о самом Белецком: ее поражала и даже немного пугала перемена, которую она чувствовала в нем. «Разговаривал как представитель Дармына» — это было что-то новое для человека, который прежде даже с малознакомыми коллегами лишний раз заговаривать избегал.
— Был. У него осталось двое сыновей, — сказал Белецкий. — Но из-за командировок он почти не бывал на Земле, и жена не видит смысла возиться с оформлением документов на пересылку урны. Хотя, п-признаться, мне показалось, что его и при жизни дома не очень-то ждали.
— Понятно, — сказала Абрамцева. — Бедняга Каляев… Что на Хан-Араке?
— На станции десять человек погибших. Четверо в старом убежище у склада — его засыпало. И шестеро местных: как рассказали выжившие, старики на станции просто отказались спускаться. Среди них Нуршалах ан-Хоба.
— Ох… — Второй раз Абрамцева ощутила иррациональный укол вины. Не она спустила лавину — но она выжила в ней, тогда как другие — нет; будто она заняла их место, хотя это, конечно, было не верно. — Как Ош?
— Не знаю, что у него на душе. Но сказал, что это в порядке вещей: старик предчувствовал смерть и хотел уйти, как должно горцу. — Белецкий помолчал. — Шахты и Хан-Гурум лавина не задела. На станции остальные тридцать два человека выжили и отделались умеренным п-переохлаждением, не считая парня, который сломал ногу, упав с лестницы. Давыдов доставил лавинные буры и собрал с окрестных п-поселков людей для спасработ. Мелихов, по его приказу, отправился назад и за два рейса перевез с Дармына оставшиеся две трети оборудования: спускали его по тросам — груженый катер посадить оказалось невозможно. Но для Волхва Ош и его люди нашли площадку, с которой он в общей сложности пять раз садился и взлетал; первый раз — с тобой на борту… Воздуховоды убежищ прочистили за несколько часов; входы откопали меньше, чем за сутки. Среди спасенных была беременная женщина, жена одного из спасателей: уже в больнице она благополучно родила здорового младенца. В новостях говорят — за последние полвека это была самая масштабная и сложная спасательная операция, учитывая высоту и метеоусловия. Давыдову пророчат «белое крыло». Мелихов отработал на отлично, но ходит ни жив, ни мертв. Как только эвакуировали последних людей, подал рапорт об отставке. Давыдов отправил его в отпуск, а рапорт порвал: сказал, если совсем невмоготу — так стреляйся, а увольнения не получишь: ошибки бывают у всех, достаточно с Дармына потери Абрамцева. Стреляться Паша не стал. Надеюсь, скоро отойдет.
— Он не так уж и виноват. Перед тем, как катер едва не врезался в гору и спустил лавину, его окружило облако драконьего дыхания… Шаров было очень много. — Абрамцева с содроганием вспомнила радужные блики в небе. — Учитывая контекст случившегося и последствия, поневоле усомнишься, совпадение это… или Дракон. Сама планета завершила то, что я не смогла довести до конца.
Но Белецкий покачал головой:
— Ни то, ни другое. В новостях сейчас две темы: лавина и пресс-релиз биологов. Они обнаружили, предположительно, некие необычные хемосинтезирующие микроорганизмы. — Пытаясь припомнить формулировки, он в задумчивости поскреб обросший щетиной подбородок. — Вроде как, они преобразуют простые вещества из вулканического смога в какую-то хитрую летучую органику и таким образом образуют колонии, которые мы знаем, как «дыханье Дракона». К нашим вертолетам их привлекают выхлопные газы: вроде бы, они тоже ими питаются… Подробнее не спрашивай — не объясню: сам не понял.
— Да что тут спрашивать, — разочарованно сказала Абрамцева. — Старая теория подтвердилась с незначительными уточнениями. Никаких перспектив: мыльный пузырь.
— Разве? — Белецкий хитро улыбнулся. — Интерес микробиологов со всей галактики; п-перспективная технология очистки атмосферы, которая в будущем может рассматриваться для восстановления пострадавших от техногенного загрязнения экосистем, включая даже экосистему самой Земли.
— Чушь. — Абрамцева поморщилась. — Что же у нас тут атмосфера до сих пор не очистилась?
— Так микроорганизмов мало: нужно их специально культивировать. — Белецкий усмехнулся. — Не чушь, Валя, и не мыльный пузырь, а муха, из которой Давид Гварамадзе и Сабур ан-Делоха — это руководители коллаборации, которая проводила исследования — согласились в общих интересах раздуть слона. А когда дойдет до серьезных практических проверок — к тому времени, может статься, и муха подрастет, или налетит пара-тройка новых… Не все, как Володин, готовы пожертвовать населенной планетой, чтобы свести к минимуму риск репутационных потерь: некоторые — и не ты одна — наоборот, готовы рискнуть репутацией, чтобы ее защитить.
— Я никогда и не думала, что одна, — чувствуя неловкость, сказала Абрамцева.
— Хорошо, если так. В общем, на мастодонтов-биологов и настоящих зубров планетарной экологии у Володина влияния нет, поэтому планы по терраформированию Шатранга он теперь может засунуть себе в… — Белецкий смачно выругался, чего за ним никогда прежде не водилось. Он выглядел довольным: наконец-то дошла очередь до новости, которую он хотел сообщить: до хорошей новости.
— Про терраформацию тебе Давыдов сказал, так понимаю. Но откуда об этом прослышали Гварамадзе и ан-Делоха? — удивленно спросила Абрамцева.
— Давыдов к Гварамадзе обращался, но тот уже обо всем знал. Первым с ним связался Каляев.
— Вот как…
— Много маленьких п-преувеличений, даже сложенные в несколько больших, угрожают только безопасности бюджетов научных программ, но не людям — так что Михаил счел такую возможность вполне адекватной и обратился к Гварамадзе с рекомендацией «преувеличить» открытие; взамен он прикрыл пару мелких дыр в их финотчетности, — объяснил Белецкий. — А с Давыдова Гварамадзе взял обещание предоставить им в дальнейшем для работы пару вертолетов с ИАН. Давид Ираклиевич ушлый тип — продал одну лошадь дважды, и ничуть этого не стесняется… О том, что у нас здесь возникли проблемы он, кажется, догадался, но не стал проявлять любопытства. Пока нас связывают общие интересы, ему можно доверять — а сохранить планету и вместе с ней свою научную делянку, определенно, в его интересах.
— Несправедливо это все. Каляев пытался нам помочь. В то время как мы… — Абрамцева сглотнула подступивший к горлу ком.
— Это не вопрос справедливости или несправедливости. Категорически запретив вылет Волхва, он погубил себя сам. И забрал с собой еще десять человек, а ты едва не стала одиннадцатой, — резко сказал Белецкий. — Такова была широта его полномочий, помноженная на глубину его заблуждений и предубеждения.
— Ты повторяешь за Давыдовым.
— Да: потому что в этом случае Давыдов прав.
— Возможно… Но какова глубина наших собственных заблуждений, Игорь?
Белецкий пожал плечами:
— Время покажет.
Абрамцева поймала его взгляд.
— Иволга и Волхв. ИАН. Что будет дальше?
— Служебный компьютер в номере Каляева никаких неофициальных данных не содержит, я проверил, и неучтенных пакетов данных с него не уходило. А планшет сгинул в лавине: но передач с него также не было — это доподлинно известно, как и то, что он точно не найдется, — ровным тоном сказал Белецкий. — О проблеме знает только узкий круг на Дармыне и в генштабе. Смирнов сказал, что решать нам с Давыдовым. Давыдов сказал, что решать тебе. Но, судя по лучемету в кармане твоей куртки, ты уже все решила.
— А ты?
— Я отвечаю за Птицу и Волхва и не могу их оставить: куда они, туда и я. Но я… дальше работать с вами, здесь, я буду рад, — сказал он с усилием. — Если это… уместно. После всего случившегося.
— Уместно? — Абрамцева взглянула на него с укором. — Если уж на то пошло, выявление скрытой поведенческой агрессии было задачей моего отдела, и это мы претерпели неудачу — там, где Каляев справился за пять минут… Игорь, ты мой друг — был и будешь. Даже если решишь забрать искины и отправиться с ними к Володину.
— В самом деле? — спросил Белецкий с нескрываемой иронией.
— Если ты так решишь — значит, так нужно. Я тебе поверю. ИАН — наше общее дело, никто не должен одним махом решать за всех — но если кто имеет на то право и достаточную компетентность, то это ты; только не пытайся взять на себя всю ответственность за уже случившееся. Она на мне, на тебе, на Смирнове, на Давыдове, на всех, кто работал с Птицей. И на Денисе тоже: он был не маленький мальчик, которого загрызла злая собака. В прошлом ничего не исправить, но будущее в наших руках. Мы движемся впотьмах ощупью, ходим по грани, рискуем — тут Каляев прав; но я считаю, это оправданный риск. Иволга должна летать.
Абрамцева замолчала, тяжело дыша. Помногу говорить все еще было трудно.
— Общее, значит общее, — в темных глазах Белецкого что-то блеснуло. — Случайно или намерено, но Смирнов выстрелил мимо важных мозговых структур. Вчера я сделал заказ на п-партию кристаллов для ремонта: химики уже начали их выращивать. Через два месяца Птица будет как новенькая, с новым модулем памяти и без ограничительных кодов. Многому придется учить ее с нуля. Но с этим мы справимся.
— Конечно. — Абрамцева улыбнулась, игнорируя ставшую уже привычной боль в обмороженном лице.
Дверь бесшумно приоткрылась: внутрь просунул голову ординатор:
— Пора! Сергей Семеныч закончил, скоро будет делать обход. Ну, скорее!
Белецкий торопливо стал прощаться.
— Чуть не забыл. — Уже в дверях он обернулся. — Послезавтра в Хан-Гуруме будут справлять поминки.
— У нас это называется День Мертвых, «карах ургум», — поправила Абрамцева. — Жаль, не смогу присутствовать.
— Я уговорил Давыдова взять меня с собой.
— Ты?.. — Абрамцева взглянула на него с изумлением. — Но прежде ты…
— … не видел Великого Хребта, кроме как д-двадцать лет назад с орбиты, и видеть не хотел, — закончил за нее Белецкий. — Но тут особый случай. Пора и мне хоть раз взглянуть, зачем работаю. До встречи, Валя. Выздоравливай!
Он скрылся в коридоре, не дав ей ответить.
— Удачи тебе, — прошептала Абрамцева. — Ну, дела…
Ординатор, нервно теребя край халата, осматривал палату в поисках неявных свидетельств нарушения режима.
— Что он пообещал для вас сделать? — спросила Абрамцева. — Нет-нет, не возражайте, я знаю: если бы Игорь очень-очень просил, вы бы и так пустили. Но все-таки: что он вам пообещал?
Ординатор молча залился краской.
— Ну же, я никому не скажу.
— У меня брат есть… младший… игрушку ему. Вертолет радиоуправляемый… маленький, но чтоб как настоящий, а не та ерунда, что в магазине, — запинаясь, выпалил ординатор.
Абрамцева с трудом подавила смех.
— Достойное желание: в детстве сама такой хотела.
— Правда? — он просветлел лицом.
— Да, — подтвердила Абрамцева. — Но игрушка есть игрушка, даже самая хорошая. Хотите вместе с братом прокатиться на настоящем вертолете? Совсем-совсем настоящем. Риск есть, но невеликий: дети наших сотрудников часто летают. Достаньте мне коммуникатор, по которому я смогу связаться с пилотом — и я обо всем договорюсь: обещаю.
Танталовы муки на лице молодого человека ясно свидетельствовали, что предложение попало в цель.
Коммуникатор он принес поздно вечером — по счастью, маленький и удобный в обращении: управиться с ним одной рукой, не отрывая головы от подушки, оказалось вполне возможно.
Пальцы Абрамцевой над сенсорной панелью на несколько секунд замерли в нерешительности; затем она быстро набрала вызов Смирнову.
— Всеволод Яковлевич, говорят, двумя этажами ниже перины мягче?
Смирнов обрадовался. Лицо его похудело и чуть осунулось, однако он был чисто выбрит и стал выглядеть, почему-то, моложе; не таким уставшим и встревоженным, каким Абрамцева привыкла видеть его в последние дни.
— Странная история, Валя: дел наделал, лежу тут, бревно гнилое, который день — а без меня ничего не рушится. — В его глазах читалось какое-то мальчишеское, радостное удивление, и вместе с тем подспудная обида. — Выросла смена, выучилась. Я уже и не нужен, поди.
— Это пока они справляются, зная, что вы тут, неподалеку — но дальше без вас все полетит в тартарары, — поспешила искренне заверить его Абрамцева. — Слава умеет командовать и кулаком грозить, но администратор из него — никакой; к тому же, если вы не забыли, он вольнонаемный. Возвращайтесь скорее: все вас ждут.
— Льстишь, хитрюга. Тебя-то когда обратно на Дармын ждать? Или не ждать? — с деланным равнодушием спросил Смирнов.
— Хирург обмолвился, что мне еще очень долго будут противопоказаны перегрузки при взлете, — Абрамцева подмигнула ему. — Так что отъезд с Шатранга отменяется. Как только меня отсюда выпустят — сразу к вам.
— Рад слышать, — Смирнов улыбнулся с нескрываемым облегчением. — Ну, давай, лечись!
— Вы тоже, Всеволод Яковлевич.
Абрамцева попрощалась и, поборов вдруг охватившую ее оторопь, вызвала Давыдова.
Ответа пришлось подождать. Наконец, загорелась иконка приема, и с маленького экрана Давыдов, с помятым со сна лицом, уставился на нее округлившимися глазами.
— Ходят слухи, что ты теперь настоящий начальник: держишь в страхе весь Дармын, — дрогнувшим голосом сказала Абрамцева. Слишком многое хотелось рассказать, и еще больше — спросить; но среди ночи по комму такой разговор не стоило и начинать.
— Я стал притворяться тем, кем меня хотят видеть: только и всего, — тихо ответил Давыдов.
— Притворяешься ты или нет — для дела результат один и тот же, и это хороший результат, Слава.
— Я прилечу завтра.
— Буду ждать. И, Слава, — Абрамцева жестом остановила его, уже готового отключиться, — еще одно. Несмотря ни на что… Денис был бы доволен, что ты, а не кто-то другой, взялся рулить. Я уверена.
Давыдов долго молча смотрел в объектив комма, словно пытаясь разглядеть под лечебной маской ее лицо.
— Я сумел сработаться с Дэном, Валя, — наконец, сказал он, и в его голосе звучала незнакомая ей прежде жесткость. — Сумею ужиться и с его тенью.
— Слава, врачи не обещают, что я когда-нибудь смогу встать.
На лице Давыдова не дрогнул ни один мускул.
— Еще день назад они не обещали, что ты выживешь. Это нравилось мне куда меньше.
— Пожалуй, мне тоже.
— Я люблю тебя.
— И я тебя люблю.
— До завтра.
Абрамцева нажала отбой и спрятала коммуникатор в тумбочку.
Пришедший через четверть часа доктор Сергей ввел через капельницу большую дозу обезболивающего и дал снотворное; но толку от них было чуть.
Ночью Абрамцева долго лежала без сна, слушала ветер, шелестевший в кронах шатрангских дубов в больничном парке. По потолку от окна ползли похожие на грозовые облака серые тени. Закрыв глаза, легко было представить, как ветер гонит их прочь, рвет их и треплет — и как в прорехах проступает бездонное черно-фиолетовое небо, усыпанное белыми точками звезд.
Эпилог
Хан-Гурум распластался по долине, как разомлевший на солнцепеке кот: это был поселок большой и благополучный. Оползни и лавины обходили его стороной, поставки проходили без перебоев, жила на руднике не иссякала.
На Хан-Араке обряды проводились на чердаке, тут же на высоких сваях стоял отдельный Дом Предков; издали он казался миниатюрным, но внутри места было достаточно. Черепа на стенах, приглушенный горский говор и дым курильниц наполняли его мистическим духом; но, то и дело, дух этот отступал — не исчезал, но отходил в сторону: от мерцания огоньков на коммуникаторах Давыдова и Оша ан-Хоба, от звуков дизельного двигателя, долетавших через неплотно затворенное окно. Время от времени кто-нибудь входил с каким-нибудь срочным вопросом или выходил. Прошлое и настоящее Великого Хребта Северного Шатранга, традиции и суетливая деловитость, привнесенная в жизнь горцев колонистами, смешались в единое целое: на Хан-Гуруме история уже прошла свою поворотную точку.
Белецкий устроился в дальнем углу, чтобы не привлекать внимания. После того, как Давыдов представил его, это оказалось на удивление непросто: то и дело кто-то подходил, спрашивал о чем-нибудь или благодарил. Впервые своими глазами он видел тех, для чьего повседневного существования и благополучия его работа имела значение; это было необычное и непонятное чувство. Он совершенно не знал, что им сказать.
— Ничего, Игорь, привыкнешь, — сразу после прилета заявил Давыдов, хлопнул по плечу и демонстративно отошел в сторону. Нечеловеческое напряжение последних дней и свалившаяся ответственность сделали его строже и злее; к этому тоже требовалось привыкнуть.
Белецкий слушал, наблюдал, улыбался, кивал, говорил вежливые банальности.
Время в горах шло как будто медленнее, чем внизу: в пять минут укладывался час.
Обрядовые речи об умерших текли плавно. До угла Белецкого сквозь треск поленьев в очаге долетали только обрывки:
— «…он прожил хорошую жизнь, о которой не сожалел ни единого мгновенья…» — Ош ан-Хоба об отце;
— «…он делал то, во что верил, и служил людям так, как верил…» — Давыдов о Каляеве;
— «…его время оказалось коротко, но велика вереница его добрых дел…» — сморщенная старуха о неизвестном Белецкому молодом горце.
Самому ему и тут было нечего сказать; разве что, о Каляеве, чью урну накануне тихо погрузили в шатрангскую землю — но это отдавало бы лицемерием.
Когда вновь тихо заиграл коммуникатор Давыдова, и тот, извиняясь, стал пробираться к выходу, Белецкий воспользовался поводом и отправился ему наперерез.
— В чем дело?
— Волхв вызывает: ребятня прошмыгнула на площадку и пытается залезть в кабину. — Давыдов досадливо поморщился: выходить из теплого дома под снег ему не хотелось. Куда с большей охотой он бы воспользовался возможностью занять освободившийся угол и связаться с Абрамцевой; это было — как и многое здесь — против традиций, но она, чувствуя ответственность за случившееся, просила по возможности дать ей хоть так «поприсутствовать» на церемонии.
— Оставь: лучше набери Вале. А я пока схожу, разберусь, — сказал Белецкий, застегивая куртку.
Давыдов взглянул на него с сомнением.
— Заодно воздухом п-подышу и полюбуюсь на горы. — Белецкий решительно отодвинул Давыдова от двери. — Не беспокойся, комм у меня с собой.
Давыдов проводил его удивленным, но, больше, благодарным взглядом.
Белецкий вышел на крыльцо и направился к вертолетной площадке.
Полковник Смирнов, окончательно размякший от лекарств и больничной заботы — или, как шептались недоброжелатели, вконец выживший из ума — сделал немыслимое: поддался на уговоры внучки и разрешил ей лететь с Давыдовым. «Вместо меня там будешь: хоть поймешь, что горы — не игрушка!» — сказал он и рыкнул на Давыдова: «Отвечаешь головой!»
Давыдову, и без того отвечавшему за все и вся, ничего не оставалось, кроме как согласиться. Горцы жест полковника поняли и оценили по достоинству; усадили десятилетнюю Машу на почетное место, обращались с ней, как со взрослой.
Маша ответственность понимала и тоже держалась серьезно и с достоинством, пока неугомонный Раим ан-Хоба, оттараторивший поминальную речь и посчитавший свои обязанности на том законченными, не утащил подругу прочь: даже грусть по деду не могла заставить его усидеть на месте. На Хан-Гуруме он несколько раз бывал с отцом и показывал Маше станцию с хозяйским гостеприимством. Но гвоздем программы должен был стать Волхв, которого они оба много раз видели на аэродроме в Дармыне и на котором прилетели сегодня — но, по понятным причинам, не имели возможности вдосталь по нему полазить без навязчивого присмотра взрослых.
Когда Белецкий добрался до площадки, Маша с деловым видом рассматривала хвостовой винт, а Раим, вооружившись отцовской кодовой карточкой, старался добраться до двери кабины. Но для него оказалось высоковато; да и карточка майора ан-Хоба была тут бесполезна.
Белецкий отошел к противоветровому щиту, за которым Раим не мог его видеть, и достал коммуникатор.
— Волхв, прием. Управление заблокировано?
— Да. Кроме «хеллоу»-системы, — немедленно откликнулся «Волхв». Белецкий вздрогнул: из-за помех голос искина звучал чуть охрипло и оттого стал совсем схож с голосом Дениса Абрамцева.
— Тогда, можешь открыть дверь и выпустить трап? — попросил Белецкий. — Только осторожно. Не сбрось парня.
— Сделаю, — ворчливо согласился искин. — Не подозревал в тебе чадолюбия.
— Я поощряю в молодежи исследовательский интерес, — парировал Белецкий.
— Нет, правда: что на тебя нашло, Игорь?
— Сам не знаю. — Белецкий зябко поежился и набросил капюшон: ему, редко покидавшему лабораторию, с первой минуты на высокогорье было холодно. От открытых пространств и попыток охватить взглядом огромные скалы слегка кружилась голова. — Давай, действуй.
Дождавшись, пока Раим ан-Хоба который раз почти дотянется карточкой до замка, Волхв дал предупредительный звуковой сигнал.
Испуганный Раим отпрянул и в следующую секунду стал участником первого в своей жизни «собственноручно» сотворенного чуда: в заблокированной двери что-то щелкнуло, и она плавно отъехала в сторону. Когда нижняя ступенька короткого выдвижного трапа коснулась земли, в кабине зажегся свет.
— Ух ты! — Подбежавшая Маша с восхищением уставилась на Раима. — Как это ты сумел?
— Без понятия, — честно признался обескураженный Раим, но тут же напыжился, как положено победителю. — Сумел как-то. Пойдем!
Он быстро полез в кабину, не забыв, впрочем, отряхнуть снег с ботинок.
— Что дальше? — недовольным тоном поинтересовался Волхв у Белецкого.
— Да что хочешь, — сказал Белецкий. — Только оставь мой канал включенным, чтобы я видел, что у вас там творится.
Хотя Волхв ворчал, Белецкий знал, что на самом деле тот не так уж и недоволен. Искину было скучно — в той мере, в какой он вообще мог испытывать скуку, а после удаления ограничителей и увеличения самостоятельности способность эта у него обострилась.
— Ладно, — согласился Волхв.
Белецкий приник к маленькому экрану своего комма, на который передавалось изображение с коммуникатора из кабины: дети, тем временем, вовсю изучали обстановку.
— Ты — Волхв, да? — Раим протянул руку к голограмме-заставке, но вовремя отдернул.
Голограмма у Волхва была схематичная, в синих тонах: она изображала бородатого мужчину с посохом в одной руке и раскрытой книгой — в другой.
— Да, маленький нарушитель, — манерно и чуть растерянно ответил искин: все дети на Великий Хребет раньше летали на Иволге — а ему до сегодняшнего дня не приходилось иметь с ними дела.
— Ничего, что мы здесь…ну, посмотрим немножко? — Маша решила проявить себя дипломатом.
— Ничего: если ничего руками трогать не будете.
— А я недавно летал на большом катере, в три раза тебя больше! — Не удержался от хвастовства Раим. — И еще на твоей…э… сестре, как там это у вас, компьютеров, называется. В общем, на Иволге.
— Это, конечно, очень мне интересно, — с нескрываемой иронией сказал искин. Но Раим принял его слова за чистую монету и начал рассказывать, что и как, и даже как его в первый раз укачало, пока Маша не прервала его тактичным покашливанием.
— Господин Волхв, — обратилась Маша к голограмме. — Можно спросить?
— Спрашивай, — разрешил искин.
— Я читала, что «волхв» — почти то же самое, что волшебник: кто-то мудрый, знающий. Понятно, почему вас так зовут. А почему «Иволга»? Нам в школе показывали, это птичка такая с Земли… маленькая, самая обычная.
Белецкий весь обратился в слух: такое имя искину предложил когда-то Абрамцев, но почему — он не говорил. Да никто его и не спрашивал: лезть к Абрамцеву с расспросами о ерунде было себе дороже.
— Как оно по правде так вышло, я тоже не знаю. Но, может, именно потому, что самая обычная? — Волхв выдержал театральную паузу. — На земле «драконы» миллионы лет назад вымерли и многих птиц уже нет, а из тех, что остались — большинство можно увидеть только в зоосадах и заповедниках. А иволга живет себе. Ореол обитания — половина земного шара: даже в книгу редких видов не внесена. Вот тебе, маленькая нарушительница, и «самая обычная птица». Там, где даже от драконов останутся одни кости, иволга будет летать!
— Спасибо за разъяснения, господин Волхв. — Маша с серьезным видом кивнула голограмме. — Я запомню. Вы, правда, очень умный.
— Спрашивай еще, если хочешь, и запоминай, — благодушно разрешил искин. — Тогда тоже станешь умной.
Индикатор заряда на коммуникаторе замигал желтым светом. Белецкий шепотом выругался: когда он не забывал взять комм с собой, то перед этим забывал его зарядить.
Белецкий отключил экран, оставив только слуховую линию на минимальной громкости, и устало привалился плечом к противоветровому щиту. Ответ, который дал Волхв, никогда не приходил ему в голову; никогда прежде он и не думал об этом всерьез. Холод забирался за шиворот, взгляд вяз в бело-серой пелене… В шаге от трапа смутно вырисовывался человеческий силуэт — высокая, усыпанная снегом фигура в надвинутой на глаза фуражке и черном полупальто; индикатор открытия двери сливался с оранжевым огоньком в углу рта.
Мысли на холоде текли тяжело и медленно: только спустя несколько секунд Белецкий понял, что что-то не так — никто со станции не прошел бы к площадке мимо него. И слишком болезненно точным было сходство.
— Эй!.. — Белецкий подался вперед, но у трапа никого уже не было, а через секунду снег заскрипел за спиной.
— Присматриваешь за моим прохвостом и его подружкой? — Ош ан-Хоба, вынырнув из снегопада, встал рядом и протянул термокружку. — Держи, а то совсем замерзнешь.
— Ош, ты что-нибудь видел?! Т-только что, там… — Белецкий махнул рукой в сторону вертолета. Следов на снегу не было.
— Нет, а что такое? — удивился майор ан-Хоба.
— Что-то… что-то вроде человека. Вроде призрака.
— Призраков не существует, Игорь, — майор ан-Хоба взглянул на него задумчиво. — Но ты можешь спросить Волхва или сам посмотреть запись с его внешних камер и удостовериться в этом. Если хочешь.
Он улыбнулся в усы и ушел.
Белецкий снова облокотился на щит и открыл клапан кружки. Кофе был густой, терпкий. От запаха защекотало в носу.
Тихо бубнил коммуникатор: дети в кабине продолжали о чем-то расспрашивать искина.
— Нет, — твердо сказал Белецкий в бело-серую мглу. — Не хочу.
— Ты это мне? — удивился на выделенном канале Волхв.
— Не тебе.
— По-твоему, я прав насчет Иволги? — Вопрос искина прозвучал несколько смущенно. — Как-то это… банально.
— С каких пор ты спрашиваешь меня, человека, прав ли ты в своих умозаключениях? — удивился Белецкий.
— Человеку лучше знать о людях. Даже такому чудному, как ты, — пробурчал Волхв. — Ну так что, я прав?
Со стороны Дома Предков доносились гулкие удары бубна; Раим и Маша выбрались из кабины наружу и позабытой кем-то лыжной палкой стучали по трапу им в такт.
— Если Иволга будет летать — будешь прав, — сказал Белецкий и отхлебнул кофе.
Екатерина Годвер aka «Ink Visitor»,
18.01.2017 — 22.07.2017.
* * *
Особая благодарность Ирине Мягковой, Артему Шарову и Руфату Мустафа-заде за помощь в предполетной подготовке.



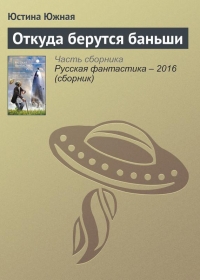
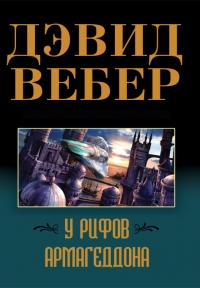
Комментарии к книге «Иволга будет летать», Екатерина Годвер
Всего 0 комментариев