Елена Клещенко Иоганн и Василиса
Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вкруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствует под собою ног… вот уже выбивается из сил… Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!» — с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит вместо одинокой — двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска.
Н.В.Гоголь…Он вынимал все новые и новые очки, так что, сваленные на столе, они начали странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз смотрели на Натанаэля, судорожно мигая; он не мог от них оторваться; все страшнее и страшнее скрещивались сверкающие взгляды и пронзали своими багровыми лучами грудь Натанаэля. Охваченный невыразимым ужасом, он закричал:
— Остановись же, остановись, ужасный человек!
Он крепко схватил руку Копполы, который полез было в карман, чтобы достать очередные очки, хотя весь стол уже был ими завален. Коппола мягко высвободил свою руку и с противным смехом проговорил:
— А, не для вас — так вот еще стекла!
Он сгреб все очки, спрятал их и вынул из бокового кармана множество больших и маленьких подзорных труб.
Как только очки исчезли, Натанаэль совершенно успокоился и, вспомнив о Кларе, сказал себе, что сам вызвал из души ужасный призрак и что Коппола есть просто честный механик и оптик, а не выходец с того света и не двойник проклятого Коппелиуса. К тому же и в стеклах, которые Коппола теперь выложил на стол, не было ничего особенного и еще менее чего-либо призрачного, как в очках; чтобы все загладить, Натанаэль решил и в самом деле что-нибудь у Копполы купить. Он взял маленькую, очень изящно отделанную карманную подзорную трубу и, желая ее испробовать, посмотрел в окно. Никогда в жизни не встречал он стекла, которое бы так чисто и отчетливо приближало предметы. Невольно он стал смотреть в комнаты Спаланцани. Олимпия, как всегда, сидела у маленького стола, положив на него руки и сплетя пальцы. Только теперь Натанаэль хорошо рассмотрел ее дивно прекрасное лицо.
Э.Т.А.ГофманЗигмунду Людвигу Дерферу, Геттинген, Паулинерштрассе, рядом с монастырской церковью, от Иоганна Теодора Риттера, город Гадяч Полтавской губернии, в собственном доме вдовы Петрыченковой.
…Итак, любезный мой Зигмунд, рано утром, не беря с собой ни гербарной папки, ни чего-либо еще кроме двух кусков хлеба с маслом, огнива, кисета и трубки, я отправился странствовать по холмам и лесам, без цели, без дела и без забот. Ивы и ветлы по берегам полноводного Псёла уже оделись зеленой дымкой, и птички на все голоса распевали хоралы, восхваляя весеннее утро.
Вообрази отрадную картину: твой приятель благодушествует у реки, греясь на солнышке, покуривая трубку, любуясь шелковистой гладью вод, отражающей изумрудные купы дерев и нежную голубизну неба — а издали доносится пение. Невольно я напряг слух: резковатое, но приятное контральто, какое не редкость у здешних женщин, выводило народную балладу или, лучше сказать, серенаду.
Я скверно знаю малороссийский язык, а он сильнее отличается от великорусского, чем баварский говор — от того немецкого, на котором пишут в журналах, но, впрочем, понял, что песня повествует о сердечной печали. Однако женщины, чей голос так звучно разносился над водой, нигде было не видать, лишь в отдалении чернела на водном зеркале плоскодонная лодочка с одиноким гребцом, который стоя работал веслом, подобно венецианскому гондольеру. На носу лодочки я заметил остроухую собачью голову: животное прилежно смотрело вперед, как те деревянные девы, что украшали своими прелестями старые корабли. А серенада все длилась, как вдруг очарование нарушил звонкий лай. Пес привстал на передних лапах и повернул голову, гребец замер с поднятым веслом… и я едва не уронил трубку. В лодке была женщина.
Ты, может быть, подумаешь, что фантастическая певица в этот миг соткалась из тумана, подобно сильфидам, или что прозаические звуки, производимые псом, разрушили чары невидимости. Нет, — но гребец, пересекающий реку на плоскодонке, был женщиной.
Теперь я отчетливо видел: то, что до сих пор я принимал за долгополый сюртук, было женским платьем. Да притом не клетчатой юбкой малороссийских простолюдинок, а платьем «господским» — правда, изрядно устаревшего фасона, с высокой тальей, какие шили в дни нашей молодости. Дама легко взмахнула веслом, направляя суденышко к берегу. Как ни был я поражен, а успел выбить и спрятать трубку, подобрал с земли шляпу и встал.
Первым сошел на берег пес: едва нос лодки врезался в камыши, совершил изящный прыжок и кинулся на меня со звонким лаем — но тут же замедлил бег и приветливо замахал хвостом. Дама строго окликнула его, и услышав голос, я понял, что это точно она пела сейчас над водой. Я устремился ей на помощь, но она, подобрав подол своего коричневого платья довольно высоко, перепрыгнула на берег с удалым «гоп!», затем, обернувшись, одним сильным рывком затащила легкое суденышко на берег — подхватила со дна лодки ружье, движением заправского егеря перекинула через плечо ремень и как ни в чем ни бывало пожелала мне доброго утра. Я поклонился и приветствовал ее.
— Дерзаю спросить, милостивый государь, вы немец? — неожиданно заговорила она на моем родном языке. Немецкий ее был еще более старомоден, чем наряд, но вполне чист. Я ответил утвердительно.
— Верно, вы тот аптекарь, о котором говорил Степан Иванович?
Я не знал, кто такой Степан Иванович, но уже привык, что для русских что ни немец, то и аптекарь, поэтому кивнул и назвал свое имя. Дама без дальнейших церемоний сама представилась мне. Оказалось, она носит русское имя Василиса. Отчество же (надеюсь, ты не забыл, что все мало-мальски почтенные жители России и Малороссии должны прибавлять к своему имени имя отца, опуская эту церемонию лишь с родными и друзьями) указывало, что батюшку ее звали Каспар, между тем как фамилия говорила о польском происхождении. По всей вероятности, это объясняло владение немецким, редкое между русскими женщинами. Zuptschevska — не вдруг и сообразишь, как пишется, а ведь во время своего пребывания в прусской Польше я привык к самым затейливым krzch — да, впрочем, не мещанину по фамилии Риттер смеяться над чужими именами…
Что за приключение! — подумаешь ты, любезный друг. Незнакомка с причудливым именем, дочь поляка и местной уроженки, в утлой лодочке пересекает реку, распевая прекрасные песни, хозяйка этих чащоб и дубрав — чем не завязка фантастической истории во вкусе Фуке или Эрнста Теодора? Вынужден тебя огорчить (сказал бы «успокоить», если бы не узнал наверное за годы нашей дружбы, сколь чужда твоей душе вульгарная зависть): Василису Каспаровну я не могу поименовать ни юной, ни прекрасной. Она давно оставила позади тот ужасный для красавиц рубеж, что означен числом 30, да и сорок, пожалуй, ей было с большим лишком. Черты лица ее — те самые, что сближают малороссов с итальянцами не менее, чем веселый нрав и музыкальный дар: тонкие дуги черных бровей и большие карие глаза, вероятно, хороши были прежде, но все дело портили морщинки у губ и на лбу. Маленькая шляпка напрасно отбрасывала легкую тень на ее лицо: цвет кожи был хоть и здоровый, но желтовато-смуглый. Добавлю, что ростом она была почти с меня. А тут еще ружье за плечом… Словом, и самый чувствительный поэт не смог бы отыскать здесь той женственной прелести, той воздушной, как сновидение, красоты, которая отличает романтических героинь.
И все же, признаюсь, я ощутил смятение. Волей-неволей вспоминая ее ровесниц в Дрездене или Берлине, — знаешь, из тех, что слегка музицируют, слегка сочиняют и представляют в мимических картинах то юную Психею, то Диану-охотницу, — иная из них упала бы в обморок при виде этой охотницы, непохожей на Диану, смуглого ее лица и рук без перчаток, наконец, самого этого пса, ничем не напоминавшего мопса или болонку (положа руку на сердце — и ни одну из знакомых мне собачьих пород)… Я бы и сам, повинуясь романтическим традициям, искал в ней злую колдунью или ворожею, будь на ней, как подобает, омерзительные лохмотья или хотя бы черный плащ. Но благообразное коричневое платье… но шляпка… но ботинки, наверняка вышедшие из мастерской известного мне еврея-башмачника… Да и нос ее был скорее вздернут, чем загнут крючком, а это уж никак не идет ведьме. Нет, нет, любезный друг, передо мной стояла дама, и было весьма невоспитанным с моей стороны вот так, молча уставиться на нее.
— А я, как изволите видеть, охотилась за рекой, — весело заговорила Василиса Каспаровна, не дождавшись от меня разумного слова. — Да неудачно, государь мой, с пустыми руками возвращаюсь. Позвольте по этому случаю пригласить вас в гости. Познакомитесь с моим племянником, хозяином имения. Позавтракаем вместе да скоротаем время за приятной беседой, а затем Омельян отвезет вас, куда прикажете.
Я уже знал русское гостеприимство, которое под жарким солнцем Малороссии возрастало до размеров эпических, поэтому ради приличия поотнекивался, затем послушно двинулся вослед за Василисой Каспаровной по крутой тропке, ведущей от реки к дороге, а пес помчался за нами.
Странная на вид повозка казалась плодом греха дилижанса с простой телегой. Возница дремал на козлах, но услыхав звучное: «Эй, хлопче!», мотнул головой и схватился за вожжи. Я заверил Василису Каспаровну, что не буду возражать против присутствия ее верного пса, так как сам люблю собак; она свистнула, и тот словно не поверил сперва своему счастью, а потом запрыгнул в повозку и вытянулся у наших ног, улыбаясь и барабаня хвостом; на морде его изобразилось такое радостное дружелюбие вместе с самодовольством, какое можно наблюдать у молодых франтов, совершающих особенно приятный променад.
С тем же радостным вниманием взирала на меня и хозяйка экипажа. Узнав, что я владею польским языком, она оживилась еще более. Немедленно я был спрошен, давно ли я в Малороссии, что побудило меня оставить отчизну и доходно ли ремесло аптекаря. Чтобы избегнуть разговоров на медицинские темы, я отвечал, что лишь из человеколюбия помогаю лекарю в уездной больнице от Приказа общественного призрения; сам же занимаюсь ботаникой и состою в переписке с членами Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге и Московского общества испытателей натуры.
Ты снова хмуришь лоб, любезный Зигмунд, и я как будто слышу твои гневные слова: дескать, то, что мы называем изучением природы, есть кощунственная попытка заменить мертвой буквой истинную связь с первоистоком нашей души, доступную лишь поэтам; дескать, мы со своим латинским бормотанием уподобляемся сумасшедшим или детям, что произносят ничего не значащие слова и уверяют, что изъясняются языком богов… Все так, дорогой друг, но ответь мне: где были бы наши музыкальные гении, если бы они не изучали контрапункта и не оттачивали свое мастерство? Бинарная же латинская номенклатура, придуманная мудрым шведом для описания всего что ни есть живого в подлунном мире, не бессмысленна, а напротив, столь же точна, как нотная запись, и вместе с тем исполнена красоты, суровости или юмора — смотря по тому, какие чувства владели людьми, над коими ты насмехаешься столь безжалостно. И теперь я мог смело заявить моей спутнице, что моей величайшей амбицией было бы найти прославленную Lilium aureum, она же Lilium flammiferum, доселе известную лишь в странах Востока или в еще более отдаленных областях.
— Огненная лилея? — Моя спутница рассмеялась. — Уж не иванов ли цвет ли вам потребен?
Я не знал, что это.
— Иванов цвет, иначе папорот, — цветок папоротника. Люди сказывают, папоротник цветет одну ночь в году, в летний солнцеворот, в самую полночь и притом не дольше часа. У того, кто отыщет цветок и сумеет взять в руки, сбудется любое желание, хоть самое безумное.
— Цветок приведет его к зарытому кладу? — спросил я с иронией.
— Нет, милостивый государь, заговоренные клады открывает плакун-трава, иванов же цвет делает иного богатым — и я бы не винила бедняков, что таково у них заветное желание, — иного умным, а иного одаряет талантом. Сказывают бабки, что цветок этот весь состоит из огня. Будто похож он на золотую либо серебряную звездочку, и то меркнет, делаясь не более макового зерна, а то испускает огненные потоки, да только не дается в руки никому. Впрочем, конечно же предание об ивановом цвете — простая сказка, какой у нас в Малороссии забавляют детей.
— У вас есть дети, милостивая государыня? — тотчас же я понял, что задал вопрос не самый удачный.
— Я девица, — темные глаза прожгли меня насквозь, — и нахожу, что нет ничего приятнее девической жизни.
И то сказать, храбрецом был бы кавалер, что посватал бы такую, подумал я, бормоча извинения. Если почтенная дама любит развлечения, которые не каждому нынешнему мужчине под силу, то какова же была она в юности?..
— Но вы упоминали, что у вас есть племянник?
— Ванюша единственная моя отрада. — Она умолкла на миг и с подозрением взглянула на спину нашего возницы, но потом, верно, вспомнила, что мы говорим на чужом для него языке, и продолжила: — Он сирота, и у меня никого кроме него на свете не осталось. Скоро придет ему время входить во все дела. Он и теперь уже хороший хозяин, это я говорю не из пристрастия, спросите хоть Ивана Ивановича, хоть самого заседателя. Одного бы мне еще хотелось: дожить до его свадьбы, понянчить внуков.
— Ваш племянник имеет на примете какую-нибудь достойную девушку?
— Что вы, что вы, — поспешно ответила моя собеседница, — он еще совсем молоденький мальчик.
— Сколько же лет ему?
— Дайте сочту. Кончивши училище в семнадцать лет, Ванюша вступил в пехотный полк. Служил под Могилевом одиннадцать лет, до подпоручика дослужился (рот мой самым неучтивым образом открылся для удивленного возгласа, который мне едва удалось удержать), и еще четыре года служил, а затем вышел в отставку поручиком, и тому уже шесть лет… — тридцать восемь лет Ванюше.
— Тридцать восемь?!
Осудишь ли ты меня, любезный Зигмунд, за то, что я хлопнул себя по коленям и расхохотался? Я-то решил, что подопечный Василисы Каспаровны и впрямь молоденький мальчик, не заслуживающий, быть может, даже имени юноши — а он, оказывается, отставной поручик без малого сорока лет! Приметив, что моя собеседница отворотилась от меня и выпятила губу, я попросил прощения и сослался на то, что на моей родине мужчины в таких летах давно бывают женаты.
— Что ж, и у нас такое бывает, — сердито отвечала она, — но почтенные люди, с достатком и при чинах, с женитьбой не торопятся. И после сорока многие женятся, и после пятидесяти — весьма многие.
— Правду сказать, сударыня, я и сам в сорок лет не был женат, — сознался я, поняв, как задел ее мой смех.
— А теперь женаты? — осведомилась Василиса Каспаровна не без яда.
— Нет, холост, к великому моему сожалению, но тому причиной совершенно особые обстоятельства.
Ответом был звук неопределенный, но саркастический, похожий и на «гм-м» и на «фрр». С тем Василиса Каспаровна сочла, что мы квиты, и перевела разговор на имение своего племянника — что произрастает в этом имении и почем идет на рынке.
К усадьбе, со всей определенностью, не приложили рук ни Ленотр, ни Луи ле Во. Дом по виду вместительный, крытый тростником; беленые стены, резные голубые ставни, подслеповатые окошки — вот и все, что можно о нем сказать. Я давно уже заметил, что провинциальное малороссийское дворянство не гонится за роскошью или же ищет роскошь совсем не там, где столичные жители. Отменной дородности свинья, что нежится в луже, будто знатная римлянка в бассейне, тут считается лучшим украшением двора. Имелось это украшение и в хозяйстве Василисы Каспаровны. Сунув ружье кому-то из слуг, она тут же принялась распоряжаться о завтраке; две девицы и почтенная женщина устремились в амбар, четвертая — в курятник за свежими яйцами…
Амбары, погреба и прочие необходимые здания толпой окружали помещичий дом, словно почтительные подданные властелина. Человек в сюртуке, по всему видно — тот самый холостой племянник, о чем-то толковал троим крестьянам. Говорили по-малороссийски, но судя по движениям рук, речь шла о крыше небольшой пристройки, балки и перекладины которой были обнажены. Хозяин сурово о чем-то спрашивал раз за разом; работники делали прежалостные лица и разводили руками на самый комичный манер; ответы их всякий раз начинались со слов «та паничу…» Тот снова указал на крышу, потом на небо, потом разом оборвал сетования тружеников, явил их печальным взорам не слишком внушительный кулак и повернулся к нам.
Я с любопытством разглядывал его. Хозяин имения был недурно сложен, хотя и уступал ростом своей юноноподобной тетушке. Лицо его я не назвал бы особенно значительным или красивым, однако же не было в нем ни уродства, ни какого-либо изъяна, разве что русые волосы со лба редели, а за ушами чересчур отросли. В глазах светились добродушие и смекалка, серый сюртук был чист и опрятен, сапоги блестели.
— Ванюша! — позвала тетушка. — Вот наш гость, господин Иоганн Риттер, ученый из Германии. А это, прошу любить и жаловать, настоящий владелец всего, что здесь есть, — племянник мой, Иван Федорович Шпонька.
Я поклонился, а когда поднял голову, заметил в лице Ивана Федоровича робость и неудовольствие. Обыкновенное приветствие он произнес с запинкой и не договорил до конца, будто бы пораженный некоей неприятной мыслью. Что бы это означало, уж не предубежден ли он против немцев? Или гость не ко времени?
Массивная дверь, снизу подбитая тряпками, мягко прошуршала по глинобитному полу. Вслед за хозяйкой я прошел в комнаты, низкие, полные старомодной мебели. Пахло сухими травами, сундуком со старой одеждой, огоньком лампадки. У стены под лавкой стояла плоская корзинка, в ней белая кошка с кислым выражением морды оглядывала троих котят. Скатерть, однако, была отменно свежа, и обильный завтрак явился мгновенно: яйца, творожные лепешки, жаренные на масле, жирная сметана, свежий хлеб, домашняя пастила; различные сорта варенья сверкали, словно драгоценные камни, — какое в хрустальной вазочке, какое в глиняной плошке, блестящей от глазури. Немолодая женщина принесла кофий, не слишком дурной, и сливки к нему, а затем и кувшин с простоквашей, и масло, и пирожки с маком, и еще иные, с кашей, и некое пирожное, которому имени я не знал, и, казалось, она не перестанет ходить из кухни в комнату и назад, пока на столе есть еще место. Как зашла речь о грибочках, соленых с чабрецом, я взмолился хозяйке, сказав, что не привык так много есть с утра и не стоит ради меня стараться, и Василиса Каспаровна остановила свой рог изобилия.
Разговор за столом был несколько принужденным. Теперь мы говорили по-русски: Иван Федорович, видимо, не был сведущ в иностранных языках. Но и по-русски, сколько я ни пытался завести приятную беседу, о событиях ли в Греции или о персидской кампании, о погоде ли майской или о ценах на сено и хлеб — беседовали все больше я да хозяйка, а Иван Федорович, если и начинал говорить, сразу умолкал. Я мог бы счесть его заикой, если бы не видел, как свободно он только что объяснялся с мужиками. Быть может, он лучше владеет малороссийским наречием, нежели великорусским? — но ведь он служил в русской армии, учился в местной школе, освоил даже латынь, как тетушка успела мне сообщить дорогой. Странно. Я думал уже изыскать предлог и удалиться, когда вдруг почувствовал это… Ты знаешь, о чем я, любезный друг. Когда я открылся тебе, ты принял мои слова с полным доверием, и этого я не забуду вовеки.
Как всегда, внезапно и некстати. Ни выбежать вон, ни предупредить хозяев — лишь мысленно выругаться и выдвинуть локти вперед, чтобы не упасть, если буду раскачиваться… о, холера, зачем сейчас? Но мгновенная досада тут же исчезла, смытая восторгом.
Полотно скатерти, нити, сплетенные в частую сеть, мне доставляет удовольствие прослеживать путь каждой из них, будто я летаю над бескрайней снежной равниной. Фарфоровый глянец тарелки, холодный, нежный. Теплый рыжий край лепешки, масленая мука липнет к пальцу, пахнет жареной корочкой, этот запах выплескивается яркой картиной, виденной когда-то в детстве, и я наклоняюсь, чтобы снова ощутить его… Прорези в стенках лампадки горят рубиновым огоньком, поют скрипкой; белеют складки вышитого рушника, звенит колокольчиком красный узор, золотится нимб над темным лицом, и все это есть музыка, под которую мне привольно летать. Запах сухих цветов, свисающих с потолка, пылью забивает ноздри, кружит голову, пресекает дыхание — Achillea millefolium, говорит кто-то, и эти звуки вспыхивают рубиновыми сполохами, и я повторяю их, чтобы снова увидеть эти вспышки: Achillea millefolium. Другие люди испуганы, и я свободно разглядываю их свет. Удивительно, я ждал от нее красного или в крайнем случае пурпурного, а она испускает лучи синие, лазурные, узорные, словно россыпь цветов — васильки, цикорий, весь синий аспект разнотравья, и каждый лепесток танцует лохматым язычком пламени… красиво. Женщина что-то говорит, и та часть меня, которая теперь заключена в крохотной темнице, отмечает, что говорит она на разных языках, повторяет одно и то же, пытаясь пробиться ко мне, ее тревога и недоумение растут, и узор становится все чудеснее, повторяясь заново с каждым новым вопросом, как все новые и новые круги от брошенного камня на поверхности пруда — только конечно, это не круги, а пламеобразные линии, узоры, что расцветают новыми узорами… Вбегает другая женщина, молодая, ее испуг пушистый, как желтый одуванчик или новорожденный феникс, а в середине алый уголек — это прекрасно. А тот, что рядом? Его пламя заключено в тесный сосуд изо льда, который, однако же, тает, языки вырываются наружу, и преяркие язычки, огненно-рыжие волосы… кажется, я смеюсь, и тот Иоганн Риттер, который сидит сейчас в темнице, — не умалишенный, а, напротив, весьма ученый и многознающий, — разрывает оковы слабости и со всех сил ударяет костяшками пальцев по столу.
Больно. Зеленые звезды фейерверка так хороши, что возникает соблазн повторить опыт, и я не отказываю себе в этом. Тогда боль возвращается на свое законное место, в мою бедную руку, и умолкает огненный узор, и меркнет пение скрипок, и некий приличный господин уже больше не сидит раскачиваясь, пуская слюни, будто глухой идиот.
Сквозь глухоту пробивается голос:
— …Припадкам такого рода, но они не приносят никакого вреда, если не считать огорчения, причиняемого моим близким. Молю меня извинить…
О черт, я же говорю по-немецки… а надо по-польски? Или по-русски? С какой стати по-русски? Почему я подумал про русский язык?!
Я отлично знал: после «особых минут», как деликатно называл их один варшавский доктор, память о том, кто я и где и в каком отношении ко мне находятся окружающие люди, возвращалась не сразу. Я помнил это, как и слова, которые надлежит произносить, помнил и то, что память вернется. Но, Господи, как страшны были минуты неведения!
Женщина отвечала мне по-немецки, потом, коротко что-то сказала по-русски. Мужчина раскрыл шкафчик, в котором поблескивали бутылки. Горькой настойки? Горькая, tinktura amara. Горечь, едкая пыль. Да.
Я принял у него толстую стопку с желтоватой жидкостью, выдохнул воздух и влил на его место себе в глотку зелье, сам себе вздернув голову, словно коновал — старой лошади. Взбодрись, кляча.
Фейерверки угасли окончательно, музыка смолкла. Я — Иоганн Риттер, путешествующий ученый, в гостях у малороссийской помещицы и ее племянника. Полулежу на продавленной кушетке, испытываю стыд и досаду. Стыд — оттого что предстал перед людьми жалким безумцем. Досаду — оттого что исчезли огненные узоры и музыка, и Бог весть когда мне случится снова увидеть сей волшебный спектакль.
Хозяйка дома сидела у меня в головах, придвинув стул.
— Ну, легче вам, батюшка мой?
Я благодарно покивал. В лице почтенной дамы не было ни испуга, ни отвращения, ни жеманной жалости. На меня взирали… скорее строго, да.
— Что же это делается — сидите и улыбаетесь, ровно блаженный, я вам кричу — вы лепечете какую-то ересь, «хилея-милея», и не по русски, и не по-немецки. Зачем-то сунулись носом в самые мнишки, вон и сметаной испачкались. (Помянутую часть моего лица не слишком деликатно утерли салфеткой.) Потом рукой стучать начали, кабы всех пальцев не отбили… Разве добрые люди так поступают?
Я помотал головой: мол, не поступают, виноват, драгоценнейшая. Теперь, когда я видел ее сапфировую корону, нас будто связывала тайна, о чем она, конечно, не могла знать. Но сам я проникся к ней странной симпатией. Как если, вовсе не будучи дружны с неким господином, вы случайно услышите прозвище, какое он носил в студенчестве, или узнаете, что он держит дома пять пуделей и подумывает о шестом, — казалось бы, и нет вам дела до этой пустяковой тайны, но этот субъект уж вам не чужой. Нечто в подобном роде приключалось со мной почти каждый раз после моих «припадков». Тайны, иногда пустяковые, порой же…
Да, я не удивился бы, увидев горделивый багрянец, императорский пурпур, ибо передо мной была, подстать своему имени, царица маленького царства, населенного тремя десятками подданных, не считая четвероногих и пернатых; здесь, где крестьяне все еще принадлежат господам и где господа не менее тщеславны и ревнивы к своим правам, чем польские паны или немецкие князья… Однако ж нет: сияющая синева, прохладная и радостная, вот что я видел. Эта женщина никогда не боролась за власть в этом царстве, не интриговала, не заручалась ничьей поддержкой и никого не страшилась. Она распоряжалась, казнила и миловала с той же счастливой эгоистической уверенностью, с какой четырнадцатилетняя барышня отдает команды бульдогу, и кузену, и усатому улану, и учителю музыки, — и точно так же ни в ком и никогда не встречала ослушания. Я мог бы побиться об заклад на десять рейхсталеров, что ни единый человек во всем уезде не спросил Василису Каспаровну, на каком основании она, а не кто-либо другой, управляла имением племянника, пока тот служил в армии. На таком основании, что иначе все хозяйство расстроилось бы, а кто вздумает мешаться не в свое дело, тому пускай черт приснится.
— Она ведь у вас беременна, не правда ли? — вот что брякнул меж тем мой глупый язык. В ответ на удивленный взгляд хозяйки я кивком головы указал на дверь — поднимать руку было тяжело, я весь был точно избит.
— Ганна? А вы почему знаете?
— Как-никак, я аптекарь, — с невинным видом сказал я. — Простите мою бесцеремонность.
— Мне на ум не приходило, что так заметно… — протянула Василиса Каспаровна; по особому выражению лица ее я заключил, что она мысленно ставит крестик в неком реестре — и посочувствовал отцу ребенка. Хотя, безусловно, воздастся ему по грехам.
«Молодец, Ганс, — сказал я сам себе, — а теперь еще поведай, что один из трех котят в корзинке, к несчастью, вскорости издохнет, авось прослывешь провидцем. Блаженным, как она сказала… Нет, есть нечто поважнее».
Сдавленное ледяными стенками пламя, и молочно-белые лепестки у края сапфировой короны, будто васильки сохнут без воды… Холостяцкое положение племянника Ванюши огорчало мою хозяйку гораздо более, нежели она признавалась в том. И дело не только в самом племяннике, и даже не в мечте услыхать топотанье детских ножек в печальном старом доме. Вопрос о продолжении династии в маленьком поместье не менее важен, чем в любом королевстве или княжестве, от этого самым очевидным образом зависит благополучие подданных, тем паче крепостных. А между тем надежды мало, ибо недуг Ивана Федоровича неведом не только местным лекарям, но, пожалуй, и лучшим германским медикусам. Теперь я сообразил, что следует делать, и мне стало весело — как всегда, в те редчайшие мгновения, когда из проклятия моей жизни удается извлечь пользу.
— Благодарю вас, почтеннейшая Василиса Каспаровна, я уже вполне здоров. Еще бы чашечку кофию в вашей компании, если позволите, и ничего более я не смогу желать.
Пока хозяйка распоряжалась, я осторожно спустил с кушетки сперва левую ногу, потом правую, сел прямо, ощупал лицо. Да, голова слегка кружится, но глаза уже не следят за видениями и рот закрыт. Пришел в себя.
Кухарка принесла свежий кофий. Я осведомился, не отправился ли Иван Федорович распоряжаться по хозяйству, пока я был без памяти, просил передать ему от меня извинения. Затем, перейдя на польский, испросил у досточтимой госпожи позволения задать вопрос не вполне скромный для первого знакомства.
— Не случалось ли такого, что Иван Федорович сватался к некоей девице, но сватовство расстроилось по ничтожным или вовсе непонятным причинам?
Наградой мне был неописуемый взгляд, красноречивее любого «да».
— Ох и доберусь я до того, кто эти сплетни пускает, — ласково пропела Василиса, — ох поубавлю волос на темечке! Кто вам сказывал про Сторченок?
— Никто не сказывал, и я даже не ведаю, кто они такие, а предположение сделал только как ученый. В этой семье имеется дочь на выданье?
— Не дочь, сестра… — далее следовал семейный роман, в коем фигурировали Григорий Григорьевич Сторченко, неуч, бурбон, негодяй и дурак, две сестрицы его, старшая в изрядных летах и меньшая, не совсем урод, их матушка, «добрая женщина, и Господь с ней», покойная матушка Ивана Федоровича — сестра Василисы Каспаровны, по молодости наделавшая глупостей, и вдобавок какой-то луг, на коем растут отменные травы, причем луг был некоторым образом связан с ошибками молодости ветреной сестры… Я скоро потерял нить рассказа, суть же состояла в том, что младшая из девиц Сторченок и была той самой особой, брак с которой по неясным причинам расстроился.
— …Я делала, что могла, и мать ее была не против. Мы к ним ездили, они у нас с визитом побывали. Но Ванюша сам мне сказал, что этого не желает, а отчего — сколько я ни пытала… Уж и фрак затевали шить, я к сукну приценилась в городской лавке, а он… сперва захворал, да так тяжело, и в бреду все твердил, что не хочет жениться, а потом вовсе перестал к ним ездить. Уж я знаю, это Григорий Григорьевич, старый греховодник, сказал ему что-нибудь гадкое.
— Быть может, и нет, — отвечал я. — Конечно, я не университетский профессор и не осматривал Ивана Федоровича, но почти уверен, что единственная помеха тут в нем самом.
— Это о чем же вы? — подозрительно спросила меня Василиса Каспаровна, кинув взгляд за окошко. Во дворе я заметил ту самую Ганну.
— Милостивая государыня, я отнюдь не имел в виду…
Ради своей безопасности я решил не пояснять, чего собственно не имел в виду. Но предположение об амурной связи Ивана Федоровича с крепостной девкой было абсурдным. Не то чтобы подобного никогда не приключалось в Малороссии, тут, как и везде в подлунном мире, не все поступают по-написанному. Но для Ивана Федоровича это было бы недолжным и непристойным поведением, а всего недолжного и непристойного он боялся пуще черта. Те прозрачные стенки вокруг пламени… как это объяснить на бедном людском языке, хоть польском, хоть немецком? Строгость и порядочность? Не то. Робость и страх? Ближе, но не то… Ладно, каково будет лечение, таков и диагноз.
— Вот что я хотел сказать: может статься, что ваш племянник страдает расстройством зрения, редким и неопасным, однако способным…
— Бог с вами, батюшка, никогда в нашем роду подслеповатых не было! На что я стара, а по утке со ста шагов не промахнусь. И с чего бы ему глазами страдать, он и книжек совсем не читает, как кончил училище, — последнее было сообщено тоном оскорбленной гордости, как если бы тетушка сказала, что ее любимец не пьянствует и не бездельничает.
— Конечно же нет, — согласился я, — нисколько не сомневаюсь, что Иван Федорович отменно все примечает, когда распоряжается по хозяйству вот в этом дворе или, к примеру, в поле. Но в минуту волнения, в обществе, и особенно когда он беседует с персонами, коих почитает выше себя…
— И чем это Сторченки выше нас? — снова перебила меня Василиса Каспаровна. — Крыша в усадьбе деревянная, важное дело! Они за счастье должны знать, коли Ванюша к ней посватается, я ему так и сказала!
— А он что вам ответил?
Мой вопрос застал ее врасплох.
— Да… ничего не ответил, бедный мой, вздохнул только.
— Был сильно смущен, — произнес я самым своим докторским голосом, — не мог толком объясниться с девушкой, как ни старались этому споспешествовать родные. В конце концов идея свадьбы начала внушать ему ужас столь сильный, что это привело к болезни… Да, я уверен, Василиса Каспаровна. Недуг, причиняемый не столько физическими, сколько душевными причинами, при коем пациент не способен видеть истинного облика собеседника, чьего суда над собой он опасается или чье положение ему не вполне ясно. Без всякого затруднения и даже с большим успехом он руководит крестьянами или, скажем, солдатами у себя в полку. Но ничтожный господин вроде меня или самая непримечательная барышня являются ему в обликах фантастических, внушающих растерянность, и эта растерянность еще пуще усугубляет расстройство. Если вам доводилось видеть человека, внезапно ослепшего или с завязанными глазами, — его робость и неуверенность, и как он пытается узнать, что скрывает море тьмы вокруг него, и не ведает, разверзнется ли пустота у его ног, наткнется ли вытянутая рука на каменную стену или чье-то лицо, и как явственно он ощущает превосходство зрячих, которым открыто все то, что скрыто от него — вообразите себе это и поймете, до сватовства ли ему. У вашего племянника на нервической почве расстраивается зрение, и он не различает людей.
— Ну наплели веночков, батюшка мой, — недовольно проворчала она по-русски. — Я, старая дура, и половины не поняла. Что ж, и лекарство предложите?
— Всеконечно, любезнейшая Василиса Каспаровна. Лекарство, или, вернее сказать, средство простое и давно известное — очки для глаз.
Василиса Каспаровна поставила чашку и воззрилась на меня, как обыкновенно и глядят на умалишенных.
— Что вы такое говорите, пан Риттер? Отставной поручик, дворянин, и вдруг очки взденет на нос? Будто канцелярист или приказной?
Я долго заверял мою собеседницу, что ничего постыдного в очках нет, что в Европе и Петербурге очки носит и самый высший свет, князья и графы, и те из дворян, кто состоит на дипломатической службе, каковая, по мнению многих, ничуть не плоше военной. Сошлись на том, что вскоре я нанесу повторный визит и привезу очки, если же они не помогут, то и вреда, конечно, не принесут. Тетушка призвала племянника, объявила ему наше решение, которому тот удивился, но не противился. С помощью тонкого шнурка я сделал необходимые измерения и откланялся.
Я отпустил Омельяна с его повозкой, сказав, что дойду до города пешком. Мне хотелось побыть одному, наедине с природой. Это всегда помогало.
Еще одно следствие моих «особых минут» — после них я как бы выпадал из времени, переставал понимать его смысл и значение. Я не вспоминал, а снова существовал в прошлом, которое становилось для меня настоящим, и, коснувшись лба, мимолетно дивился, что волосы мои острижены, а не свисают длинными локонами, как то подобает буршу. Будто я только что расстался с Джузеппе Копполой и, покинув город, вольно брожу по геттингенским холмам. (Будем ли мы когда-нибудь вновь гулять по этим холмам, любезный мой Зигмунд?)
…Едва он вошел в трактир «У святого Петра», я враз узнал эту мерзкую рожу — несчастный Натанаэль описывал его весьма живо. Кошачьи выпученные глаза, искривленный рот, большая уродливая голова, покрытая слишком маленьким париком, из-под которого торчали седые космы, руки, похожие на двух пауков и — как только он заговорил — анекдотический итальянский акцент. Поймав мой взгляд, он тут же перешел в наступление.
— Эй, студенто, купи глаза, э? Кароши юношо, тедеско богати, глаза от книги болеют? Купи мои глаза, э?
Нет, никакого мистического ужаса этот шарлатан мне не внушал. Обычный бродячий торговец, даром что вместо лубков и зеркалец предлагает простофилям более тонкие изделия. В университете его знали как торговца барометрами Джузеппе Копполу. Но отчего-то мне стало не по себе, когда я приметил, что из-под засаленного рукава его куртки выбивается белоснежное кружево.
— Твои глаза? — я повернулся к нему на стуле и положил ладонь на рукоять палаша — ведь мы с тобой уделяли фехтованию не меньше времени, чем книгам, а многие наши товарищи и гораздо больше. — Твои прекрасные желто-зеленые глаза, о бескорыстный служитель просвещения? Как есть уже у меня пара своих, куда ты посоветуешь мне вставить твои? И неужели ты сам без них обойдешься — не трудно ли будет, не имея глаз, отыскивать покупателей?
Он вытаращился на меня еще сильнее, потом понял и захихикал.
— Э, no, no… нет, не глаза, а как по-вашему — бериллы, бериллы! Купи бериллы пару, студенто! Вот! Вот!
С каждым «вот» он выкладывал на трактирный столик новый образец своего товара, и тут уж я понял, что «глазами» или «бериллами» он именует немецкие Brille. Очки выстраивались в ряд, опираясь на лапки заушин, и таращились на меня глазами подводных тварей, круглые, сверкающие, словно налитые ртутью; кокетливые бальные лорнетки поблескивали оправой, похожей на настоящее золото.
Я облокотился на стол и положил голову на руку, любуясь представлением. Был я уже порядочно пьян, что, как ты помнишь, приключалось со мной почти ежедневно. Я успел понять, что алкоголь предупреждал припадки, а коль скоро пьянство более пристало доблестному буршу, чем духовидение, я предавался самоисцелению с усердием и страстью — пил и в компании, и в одиночестве, как сейчас, убеждая себя, что занят подбором верной дозы. По совести говоря, верной мне казалась та доза, приняв которую, я переставал печалиться о прошлом и трепетать перед будущим — а чуть позже валился под стол, если ты или иной добрый человек не успевал меня доставить в мою комнату.
Столик был у окна, сквозь которое еще проникали лучи заходящего солнца, посему не было ничего необыкновенного в том, что выпуклые стекла отбрасывали световые зайчики. Они привлекли мое хмельное внимание, как вдруг в одном из них промелькнул изумрудный сполох, синие искры отозвались перезвоном нежнейших колокольчиков… Леденящий ужас охватил мои члены, я содрогнулся всем телом, будто злой шутник сунул за ворот рубахи снежный ком. Что есть силы затряс я своей пьяной башкой — и, благодарение небу, перезвон умолк.
Эти очки ничем не отличались от других, лишь за стеклами на столешнице лежали не простые светлые пятнышки, а разноцветные, словно два мельчайших обрывка радуги, — подобное явление, впрочем, тоже не покажется чудом истинному знатоку оптики. Но я теперь знал, что Натанаэль был кругом прав — передо мной стоял проклятый колдун, зовите ли его продавцом барометров, адвокатом Коппелиусом, масоном и алхимиком либо самим дьяволом — и он явился по мою душу.
Я проглотил рюмку киршвассера, вытер вспотевшей рукой мокрый лоб. Коппола продолжал бормотать и восклицать, расхваливая свой товар.
— Ты, чертово отродье! (Я не узнал своего голоса.) Что это ты мне подсо-выва-ешь?!
Торговец нисколько не смутился.
— Зря бранишься, студенто! Кароши бериллы (он безошибочно подхватил со стола ту самую пару и, кривляясь, приложил к своим глазам, потом убрал и чмокнул губами), луччи-наилуччи, си! Так видишь, чего нет — тени, видения, иллюзии, — а так (снова поднес их к глазам, будто лорнетку) — так видишь, что есть, пакости всякой не видишь, нет-нет, сударь мой! Ты не с той стороны глянул, с этой надо, с этой!
Он щелкнул ногтем по внутренней стороне линзы. Я же, как ни был пьян, отметил, что его акцент куда-то пропал.
Купить очки… отгородиться от высшего мира, некогда столь желанного, теперь ненавистного, не водкой и вином, а стеклышком в оправе… как же это раньше не пришло мне в голову? Разве не говорил нам профессор Мейер на лекции, что стекло пропускает видимый свет, но задерживает невидимый?!
— Что у тебя вышло с Натанаэлем Земаном? — спросил я, тщательно выговаривая слова. — За что ты его погубил?
Коппелиус гадко ухмыльнулся.
— А-ах, славный мальчик находит, что слишком дорого заплатил за подзорную трубу? Но разве я мог предположить, что он решится взирать сквозь нее не на звезды или ландшафты, а на будуар профессорской дочки? Так что же, мой прекрасный прибор показал ему истину! Красоту без пошлости, без мелочных женских забот, без единого изъяна, пока не поломается механизм — и кого же следует винить, что мальчик признал в этом видении свой поэтический идеал? Как вы думаете, братец бурш?
Дорого заплатил… Днем раньше ты, любезный мой друг, успел рассказать мне, что получил письмо от родных Натанаэля, твоего названого брата, где говорилось о его безумии и страшной гибели. С другой стороны, что терять тому, кто теперь уже безумен и готов наложить на себя руки?
Я выхватил палаш и взмахнул им. Позднее другие посетители говорили, что я был слишком пьян и нетвердая моя рука избавила меня от участи убийцы. Я же точно знал, что должен был отрубить эту безобразную голову, если бы Коппола в ту же секунду не исчез. Но несколько пар очков и лорнеток остались на столе, как трофеи.
…Пронзительный крик сороки привел меня в чувство. Я поднял к глазам руку, вяло испугался старческим распухшим суставам и сплетению вен на тыльной стороне. Следовательно, я не только что расстался с Копполой, а много лет назад, что бы это ни значило у людей здравомыслящих. Темно-зеленый плющ, друг мечтателей, не обвивал стволов, зато у моих ног нежно синел шалфей, и дерево, под которым я сидел, привалясь к нему спиной, было не геттингенским платаном, а осокором. «Тополь черный, Populus nigra L. var. piramidalis, крона вытянутая, как у кипариса, произрастает в южных губерниях России», — сказав это про себя, я тут же сообразил свое положение и вспомнил дорогу в Гадяч. Ботаника, видишь ли, надежней оптики, когда требуется вернуться в действительность. Как скоро я это понял, то занялся ботанической таксономией как мог усердно, и даже сам профессор Мош Терпин отзывался обо мне с похвалой.
Очки же Копполы, вопреки ожиданиям, не помогли. Дьявольская магия алхимика дала слабину против изумрудно-сапфировых звезд и хрустальных колокольчиков. Только то и вышло из этой затеи, что безумный Риттер сперва дико скосил глаза, до истерики напугав даму, с которой беседовал, затем сорвал и отшвырнул очки, так что сломалась оправа, но почему-то уцелели стекла, потом же… но к чему эта печальная повесть? Итог тебе известен. Не могу не признать, однако, что идея была здравой. Впоследствии я не раз мечтал снова встретить этого торговца шлифованным стеклом, чтобы заказать ему за любые деньги, какие будут в моем распоряжении, очки особого фасона, пусть даже величиной с кофейные блюдца — ибо лучше слыть в обществе чудаком, чем сумасшедшим… Но или наша новая встреча не была угодна небу, или ему не полюбились мои манеры, или кто-то оказался удачливее меня и положил предел его деяниям.
Сожалел я и об ином: подобно Натанаэлю, я не попросил Копполу, чтобы он дал мне взглянуть на его барометры. Как ты полагаешь, друг любезный, что за погоду могли показывать приборы, сконструированные столь необыкновенным мастером?
В город я вернулся уже затемно, а наутро без особого удивления узнал от доброй женщины, у которой снимал флигель, что мастера, изготовляющего очки, в Гадяче нет. Пришлось обратиться к слесарю, который делал ключи и замки.
Немного жаль было стекол: другие пары очков и в особенности золотая лорнетка обладали совершенно иными качествами. Эта пара, уничтожающая фантомы, была единственной, и разглядывая растительные препараты попеременно сквозь них и в лорнетку, я некогда сделал одно-два не совсем ничтожных открытия. Через эти стекла человек и вправду «видел, что есть» — только то, что видно простым глазом, ни сияния высшего мира, но зато и никаких призраков, порожденных нашим собственным разумом… Что ж, моя матушка всегда говорила, что хороший подарок тот, который хочется оставить себе.
Слесарь был унылый белокурый еврей лет за тридцать. Уныние и безнадежность плотным облаком распространялись вокруг него, и даже светлые пряди у висков свисали как-то особенно меланхолично, словно у них сил не хватало завиться веселыми кольцами. Он повертел в пальцах стекла Копполы, рассмотрел принесенный мной портрет Грибоедова, обреченно вздохнул. Я разъяснил ему, как должна быть устроена оправа, где находятся шарниры, к которым крепятся заушины. Он, казалось, меня не слушал. Положил два стекла рядом, грустно воззрился на них — они воззрились на него с тем же скорбным удивлением; снова переспросил меня. Я поведал со всей обстоятельностью, как надлежит плющить и гнуть железную проволоку, дабы она удерживала стекла — вздох был мне ответом… Услышав в третий раз печальное «и що вы хотите, щоби я изделал?», я не выдержал; русские и польские слова вылетели из головы, осталось лишь одно немецкое, зато длинное, его я и выговорил в сердцах. Оно произвело волшебное действие, печаль моментально рассеялась.
— Я понял вас, пане аптекарю, по-онял, и для чего же так сердиться? За десять рублей и к послезавтриму…
«К послезавтриму» меня вполне удовлетворило, относительно десяти рублей мы поторговались, причем мастер совершенно ожил и сделался даже остроумен. «Ка-ак, за десять рублей пан бы съездил в Миргород и назад? От пусть тот кучер вам и делает!» Договорились на семи с полтиной, и я ушел. На следующий день я все равно был зван в гости.
— «О, драгоценная, прелестнейшая Гармония! — вскричал Хризостом, словно невыносимая боль пронзила его сердце, — ничего не желал я так сильно, как заключить тебя в объятья и остаться подле тебя на всю вечность. Но я не могу нарушить обещаний, которыми связан. Не давши слова крепись, а давши держись…» — хм, кто был переводчик, Иоганн?
— Не припомню сейчас имени, — признался я. — Поэт, его у вас знают. Веневицын, Веневиди… имя русское, но похоже на vene, vidi, vici.
Серж весело рассмеялся, выпустив клуб ароматного дыма.
— Я понял. Что там было на самом деле?
— «Ein Mann — ein Wort». Не знаю, как перевести точнее.
— И не надобно, суть ясна. Итак, герой отказался от вознесения в царство совершенной красоты и поэзии, потому что был связан земными обещаниями и полагал их не менее священными, чем поэзия и красота… Наши критики сочли эту сказку сатирой на обывателя, сочиненной эпигоном Эрнста Теодора Амадеуса. Сходство мотивов налицо — золотисто-зеленая змейка, которая оборачивается прекрасной синеглазой девушкой, или вернее, девушка и змейка — одно; бедный юноша видит эту змейку в древесной кроне и страстно в нее влюбляется, однако, в отличие от Ансельма из «Золотого горшка», отказывается от чудесной любви ради старой матушки, двух сестер-бесприданниц и подруги детства, с которой он обменялся клятвами верности… да, романтические герои вроде Ансельма обыкновенно бывают круглыми сиротами, авторам не с руки обременять их семейством. Наказание за измену царице Поэзии, конечно, не замедлило… Только мне казалось тогда и кажется теперь, что это сатира сочинена не романтиками, а скорее их противниками. Как ваше мнение?
— И да, и нет… — я затянулся дымом, чтобы помолчать. Серж был единственным из числа моих здешних знакомых, с кем можно было толковать о литературе и прочих подобных материях. Менее всего мне хотелось, чтобы он счел меня шутником и мистификатором либо экзальтированным безумцем. Это архивариусу Линдгорсту позволительно было объявлять сказку о духах и драконах собственным семейным преданием, а я постыдился даже объявить имя автора своей сказки — сообщил только, что мне доводилось читать это самое сочинение и по-немецки, и не кто иной, как я, привез его в Москву.
Серж, или Сергей Александрович Б., некогда известный петербургский литератор и издатель, проживал в своем южном имении второй год безвыездно. Он не был членом тайных обществ, не участвовал в мятеже 1825 года, и обратного не смогли доказать все его враги — а если бы смогли, то пребывал бы он теперь куда дальше к северо-востоку от благодатных малороссийских земель. Однако он был коротко знаком с двумя-тремя известными русскими карбонариями, даже публиковал сочинения кого-то из них в своем журнале. Правда, то были невинные поэтические опыты, но этого оказалось довольно для серьезного подозрения в сочувствии и недоносительстве. Служебной карьере Сержа пришел конец, журнал был закрыт, и он покинул столицу для сельской жизни. В уезде его недолюбливали — вряд ли подозревали в нем заговорщика и цареубийцу, однако осуждали пристрастие к иностранным книгам и русским журналам, равнодушие к наслаждениям местной жизни, равно как и привычку выпивать в одиночестве. Либо в компании немца-аптекаря, тоже, поди, революционера и фармазона.
Местные вина не идут в сравнение с немецкими, и даже знать здесь предпочитает разнообразные настойки и наливки. Серж обыкновенно пил водку на кориандре да еще малороссийскую особенную водку, самое название которой происходит от слова «гореть» — хотя едва ли и самый отважный гусар, не говоря о штатских лицах, решился бы отведать пылающий пунш, приготовленный из такой амброзии! Да и лимонов здесь нелегко достать. Вместо них был шпик, натертый солью с толченым чесноком, колбасы, ничем не уступающие баварским, и колечки из сухого теста.
Глядя, как роса оседает на ледяном теле бутылки, взятой с погреба, созерцая сквозисто-белые завитки дыма из наших трубок, уходящие в вечернее небо, что кротко глядело на нас меж яблоневых цветов — ибо стол наш стоял в саду, под роскошно отцветающей яблоней — я не сожалел о синем пламени и трескучих искрах немецкого пунша.
Водка в больших количествах производит на душу странное действие. Ни безудержного веселья, ни болтливости, что считаются важнейшими признаками приятного возлияния; ты остаешься серьезен, ум твой ясен, даже более, чем в трезвые минуты, мысли текут свободнее и скорее; при этом, однако, твое «я» обособляется, будто лодка, которую отталкивают от берега — дно ее еще трется о песок, но водяные струи увлекают прочь, и ты смотришь свысока и со стороны на себя самого, на собственные и будто бы чужие заботы и беды; а новообретенная острота разума впервые дает возможность распутать эти узлы. Лишь одна трудность тут есть, и состоит она в том, чтобы вспомнить наутро все те прекрасные и удивительные мысли, что являлись накануне вечером.
Серж был младше меня годами двадцатью, но водка и это делала неважным. Сухое красивое лицо его в яблоневом сумраке, в кольцах дыма казалось мне ликом неведомого духа, пришедшего ко мне для беседы. Наскучив моим молчанием, он заговорил сам:
— Во всяком случае, любовь героя — безусловно, метафора поэзии, искусства. Автор даже дал девушке имя Гармония, отказавшись от аналогии с Гофманом…
— Как раз наоборот, — я обрадовался смене предмета, — автор подхватил и раскрыл аналогию. У сестрички прелестной Серпентины тоже змеиное имя. Вспомните Овидиевы «Метаморфозы».
Серж на мгновение задумался, но я не успел спросить, доводилось ли русскому дворянину читать Овидия.
— Кадм и жена его Гармония?
— Дочь Марса и Венеры, которую боги по ее просьбе обратили в змею, — подтвердил я. — Как знать, может, миф о Гармонии-змее и навел автора «Золотого горшка» на причудливую мысль о змейке-Поэзии. Будучи юристом, он хорошо знал латинский язык и любил Овидия… насколько мне известно.
Мой собеседник одобрительно хмыкнул и разлил еще понемногу.
— Так, но что же с наказанием героя? Я позабыл окончание, а здесь… — он повернул журнал, и я ахнул. Последних листов не было, текст обрывался на середине.
— Хивря, — с досадой сказал Серж. — Баба глупая, наладилась печь пироги на листах из альманахов. Пока я не заметил, изодрала едва ли всю первую книжку «Полярной звезды» и взялась, как изволите видеть, за «Московский вестник». Я ей — что делаешь, дура, а она — та що вы, пане, вон их у вас еще сколько… А у меня был обычай: брал каждой книжки по два экземпляра и один отправлял сюда, в имение. На тот случай, если застряну тут надолго, вместо пилюль от скуки — и заметьте, как верно угадал! Ну, за прекрасных дам… Так каков был финал, вы помните?
— Наказание героя… — протянул я. — Наказание было обыкновенное, как положено в сказках: юный Хризостом получил то, о чем молил. Прекрасная Гармония спросила любимого, что подарить ему на прощание, на память о ней и о царстве высшей жизни. Хризостом отвечал примерно в таком роде: он, дескать, и так уже довольно несчастен, но станет еще несчастнее, если утратит новое зрение, которое обрел, полюбив Гармонию, и которое открыло ему столько прекрасного даже и в дольнем мире, так вот нельзя ли устроить так, чтобы он сохранил чудесную способность видеть суть вещей? Трижды Гармония умоляла его избрать иной дар, будь это земные блага или же необыкновенные душевные качества. Но все было тщетно: Хризостом не возжелал ни таланта поэта или композитора, ни способности привлекать людские сердца, ибо не хотел до самой смерти петь о том, что навеки для него недосягаемо, любовь же людская и вовсе ему не нужна. Он снова и снова просил возлюбленную оставить ему высшее зрение, и тогда Гармония, опять обернувшись золотисто-зеленой змеей, ласково обвила его своими кольцами, раздвоенное жало, словно солнечный луч, коснулось ресниц юноши… и он очнулся там, где и жил, в познаньском предместье.
— А, так он был из прусской Польши? Уже не помню этих подробностей… Вы закусывайте, Иоганн, с горилкой шутки плохи. И что же дальше?
— Дальше, собственно, финал, — помолчав и откашлявшись, сказал я. — Высшее зрение принесло своему обладателю невыносимые мучения. Он взглянул на особу, с которой был помолвлен, и вместо юной девы из хоровода муз ему предстала напудренная барышня, которую продвижение по службе любимого и его виды на наследство от дядюшки волнуют — о ужас, о горе — не менее, чем его стихи. Взглянул на ковер из трав и цветов у себя под ногами — и вместо поэтических былинок и лилий увидел ботанические «экземпляры». Словом, совершенное зрение, развеяв сладкие иллюзии, уничтожило поэзию, навсегда лишив героя ее красот и повергнув в несчастье.
— И только-то? — протянул Серж. — Не обижайтесь за вашего земляка, Иоганн, но это, воля ваша, не остро. Я ожидал большего, пока пытался вспомнить.
— В самом деле? — как ни глупо, я и вправду почувствовал себя уязвленным. — Чего же, к примеру?
Вместо ответа Серж продекламировал что-то по-русски. Русский я знаю изрядно, однако мало что понял — стихи изобиловали поэтическими и старинными оборотами.
— Это из Пушкина.
Я наклонил голову с видом серьезным и почтительным. Александр Пушкин для русских то же, что для немцев Иоганн Вольфганг Гете. С той разницей, что Гете тайный советник в почтенных летах, а русский поэт молод и вольнодумен, нигде не служит и, вероятно, поэтому люди необразованные не относятся к его имени с должным уважением. Тем горячей, однако, любят его ценители поэзии.
— В начале говорится… — Серж помолчал, подбирая французские слова. — …Примерно следующее: к одинокому человеку в пустыне явился светлый дух, серафим. Легкими, как сновидение, пальцами он коснулся его глаз, и они, провидя грядущее, раскрылись, как у испуганной орлицы… Дальше просто, позвольте, я по-русски.
Действительно, дальнейшее я вполне уразумел — и незаметно прижал рукой забившееся сердце. Серж кончил декламировать и выжидательно посмотрел на меня.
— «Как труп, в пустыне я лежал»… — повторил я. Мороз побежал по коже. — Прекрасные стихи, мой друг. Прекрасные.
— Рад, что вам понравилось. Но вы поняли, что я хотел сказать? Высшее знание должно быть страшно не мелкими недоразумениями в частной жизни — оно ужасно само по себе.
— Чем же оно ужасно?
Серж опять рассмеялся.
— Что это вы спрашиваете, Иоганн! Дать точный ответ я не могу, так как, благодарение Богу, не обладаю высшим знанием. Но думаю, что во многом знании многие печали, а всеведения ограниченный человечий разум попросту не вместит.
— Что ж, это верно, — вежливо согласился я.
— Вы что-то недоговариваете?
— Нет, пустяки. Просто мне подумалось, что ваш серафим добрее нашей змеи. Коснувшись очей и ушей, он не забыл дать поэту новый язык.
— Добрее? Ну вы скажете, Иоганн! Это же было самым страшным испытанием.
— И все же, представьте… (Я вовремя остановил себя: говори, да не заговаривайся, не доводи до неизбежного «откуда вам это известно».) И все же вы правы в том, что высшее знание не должно быть враждебно поэзии. Оно разрушает только пошлые заблуждения, настоящая же красота мира остается неприкосновенной и только лучше видна. Вспомните нашего Гете, он был и естествоиспытателем.
— Верно. И у Гофмана, сколько помню, золотая лилия символизирует вместе и высшее знание, и поэзию. Странно, кстати, что в сказке о Хризостоме и Гармонии золотой горшок и лилия ни разу не упоминаются, вы не находите?
— Действительно странно. Должно быть, герой оказался недостоин лилии.
Надеюсь, ирония в моих словах не прозвучала слишком явно. Настоящее объяснение было простым: писать об этой лилии я не имел ни малейшего желания, ибо знал от самого автора, каким брутальным был первоначальный замысел «Золотого горшка». В первых редакциях помянутый горшок был куда более презренным сосудом, а чудеса, с ним происходящие, приводили на ум озорную сказку Виланда о принце Бирибинкере, что мочился померанцевой водой. Золотой же лилии, коротко говоря, вовсе не существовало, как не бывало никогда огненного цветка папоротника. Кому и знать, как не студенту профессора Гофмана (не родственника Эрнста Теодора, а геттингенского ботаника): цветок тайнобрачного растения есть эмблема бесплодных надежд, наподобие русского рака, свистящего на горе, а Lilium flammiferum не присутствует и в самом полном ботаническом атласе…
Его я повстречал, когда следующим утром возвращался от Сержа в город. Он сидел у ручья, осененного ивами: длинная рубаха навыворот, неописуемые шаровары, босые грязные ноги, сизые от утренней прохлады. Козлиная бородка и длинные сальные волосы добавляли странности (в здешних краях бороду бреют даже простолюдины и очень гордятся этим отличием от обитателей северных губерний). Даже если бы он не вертел в воздухе кистями обеих рук, затейливо сложив пальцы, и не гудел в такт жестам, раз за разом выпевая терцию, не было бы сомнения: передо мной безумец.
Я уже видал раньше этого Иванка — простолюдины, а иногда и дворяне охотно зазывали его к себе, кормили, задавали различные вопросы. Многие верили, что в его ответах мелькают прорицания будущего: например, если вол Иванку не нравится — верное дело, скоро сдохнет. Беда была в том, что говорил он редко и невнятно, и сам человеческую речь не понимал. Я молился, чтобы никто здесь не заметил того, что сам я знал твердо: если умыть Иванка Кацапа, сбрить ему бороду и облачить в немецкий сюртук…
Осторожно, опасаясь спугнуть, я приблизился к нему. Тут же отступил назад и зашел с другой стороны, откуда дул ветер. Где бы он ни странствовал сейчас, бань в этих волшебных землях не водилось, а возможно, также и горшков, хоть простых, хоть золотых.
Умалишенные бывают разные: бешеные или же задумчивые, подобные растениям, иные боятся черноволосых людей, а иные ненавидят капусту за то, что она отравлена, иные целыми днями плачут и ждут смерти, а другие смеются диким смехом и сочиняют плохие стихи. И есть еще такие, что не хотят либо не могут говорить с людьми и видят в обычных предметах больше, чем здравые умом. И часами смотрят в ручей, и смеются, и волнуются, будто читают занимательную книгу, написанную на песчаном дне иероглифами света и тени.
Человек разговаривал с ветром на его собственном языке. Повторял его порывы и трепетания, выпевал его песню в ушах, его скольжение между ивовых листьев — так волосы скользят через гребень. Я не знал, слышит ли он сейчас музыку, перед которой «Волшебная флейта» — детский этюд, или сам скользит между листьями, держась за шелковые пряди, или наслаждается радужными переливами, вспыхивающими перед ним с каждым новым порывом ветра, или смеется и кружится в танце с волшебными существами, настолько же превосходящими обычных людей, насколько Гете и Кант превосходят орангутанга. Я знал другое: пока это длится, от созерцания его не оторвут ни чьи бы то ни было требования, ни дождь или холод, ни иные прозаические нужды телесной сущности. Все это не более чем докучливый кашель в соседней ложе, не более чем нытье и попреки злой жены для вдохновенного композитора. И вправду — блаженный.
Тем горше будет неизбежное возвращение.
Мой собеседник угадал верно. Лгут романтики, но лгут и их противники. Нет ничего поэтического и возвышенного в умении видеть то, чего не видят заурядные люди, но не менее враждебно это умение прозаическому спокойствию, умеренности и трезвости, и всему тому, что зовется благим. Сочинитель сказки, переведенной на русский господином Веневитиновым, придумал язвительную мораль в назидание юным мечтателям, потому что действительность была стократ неприятнее.
Мать героя вскорости заболела и умерла, по всеобщему убеждению, от горя. Невеста героя после одного особенно непристойного случая вернула ему слово, сказав, что не может стать супругой припадочного, хотя бы он был богатым наследником и имел чин рефендария. Сестры героя, получив каждая по трети дядюшкина наследства, благополучно вышли замуж. А сам герой поспешил убраться с глаз долой, пока драгоценные родственники не добились, чтобы его официально признали умалишенным. Подальше от Восточной Пруссии, в Геттинген, потом и от Германии — в Петербург, куда едут многие немцы, затем в Москву, в южные губернии, чем дальше, тем лучше… Хризостом — Иоанн Златоуст — Иоганн Риттер из познаньского предместья, которого ты, любезный друг, так хорошо знаешь.
Что проку видеть скрытое от глаз, если люди считают подлинным лишь то, что может увидеть любой. А для того, что видим мы, даже нет и слов человеческих, за ненужностью человечеству. Если я начну рассказывать, что речь и другие звуки подобны огненным лентам, что рубиновое стекло, за которым горит огонек, поет скрипкой, что по мерцанию людей можно понять, здоровы они или больны, и что душа может парить отдельно от тела, то я окажусь в сумасшедшем доме быстрее, нежели успею договорить. Здравомыслящие люди по этому именно признаку и узнают нас, умалишенных: мы зрим видения и слышим голоса. И чем я лучше безумца, воображающего, будто он король испанский, или другого, который доподлинно знает, что голова его сделана из стекла?
Лютер в своих «Застольных беседах» советовал предавать смерти сумасшедших, ибо они суть вместилища бесов. Современные нравственные понятия требуют их миловать, ходить за ними, не давая причинить вред себе и другим, что, конечно, куда более приличествует христианам. Вот даже и здесь в губернском городе, говорят, теперь есть лечебница для них с особым доктором, с новейшими приспособлениями для водолечения и, буде явится нужда, для усмирения буйных… Да только куда же деться от страха и омерзения?
Есть одно, в чем безумие и высшее знание сходятся между собой: они отъединяют человека. Чем более необычно то, что нам открывается, тем меньше людей, с которыми можно этим делиться. У гениев обыкновенно бывают один-два достойных собеседника, у таких, как я, их вовсе нету. Не прими за обиду, дорогой Зигмунд, это не твоя вина, что ты не можешь разделить со мной бредовых видений; и знай, как благодарен я тебе за то, что ты все еще читаешь эти строки. Впрочем, иногда нам, безумцам, удается поговорить друг с другом.
Когда мне в руки попал третий том «Фантазий в манере Калло», я тут же кинулся в Берлин, отыскивать автора. У меня не было ни малейших сомнений относительно того «странного способа», благодаря которому ему стала известна история студента Ансельма. И точно, я обрел товарища по несчастью, который, в отличие от меня, внял предостережениям золотисто-зеленой змейки и сделал верный выбор, испросив себе дар писателя и композитора лишь с малой толикой безумия. Жало мудрыя змеи — и отзвуки высшей Гармонии, которые удается облечь в слова и ноты. Его жизнь могла бы стать довольно-таки благопристойной, особенно в сравнении с моей, когда бы не маленькая дочурка американского консула, ныне счастливая супруга в высшей степени достойного человека…
То был последний вечер старого года, и я, должно быть, никогда не забуду, как скрипели флюгера под пронизывающим ветром… Мы долго сидели в пивном погребке на Егерштрассе. Нас было четверо: я сам; ci-devant капельмейстер, впоследствии сочинитель и юрист, убежавший со званого вечера без пальто и шляпы; долговязый субъект в туфлях, надетых поверх сапог, что ботанизировал на склонах Чимборасо (вот уж в это я бы никогда не поверил, если бы не получил из его рук совершенно свежий, будто только что сорванный, оранжевый цветок, описанный Гумбольдтом и Бонпланом); и еще один, низкорослый, что страшно боялся зеркал и получил за это от челяди прозвище «Суворов»… «В нашем разговоре зазвучал тот юмор, который доступен только смертельно раненым душам» — записал позднее один из нас, и к этому мне нечего прибавить. Нам, кто видел сияние высшего мира и получил за это, что причитается, от мира дольнего — один юмор и остается, заменой надежде.
Один московский литературный критик как-то задал мне простодушный вопрос: почему это немцы ввели моду на романтическое безумие, или среди них сумасшедших больше, чем среди других наций? Я отвечал, что немцы сходят с ума совершенно так же, как прочие нации, однако в силу своего педантизма и склонности к порядку, каковая справедливо забавляет французов и русских, чаще бывают в силах противостоять безумию и рассказывать о нем. Мой ответ ему отчего-то не пришелся по душе.
…На прощание я оставил Эрнсту Теодору одну из двух лорнеток и впоследствии был рад узнать, что он подарил ее своему молодому приятелю, ныне известному читающей публике под именем Бальтазара, коему волшебные стекла сослужили бесценную службу. Взамен я попросил о малом одолжении: не упоминать меня в числе собутыльников, сошедшихся в погребке той новогодней ночью. Возможно, и зря: создатель «Крейслерианы» представил бы мою плачевную историю лучше, чем она была на самом деле, и много лучше, чем это удалось мне самому.
На сем прощай, дорогой мой Зигмунд. Не знаю, свидимся ли мы когда-нибудь, не знаю даже, как скоро ты получишь это письмо и получишь ли. Извини мне печально-саркастический тон: ты сам понимаешь, что мне больше не к кому писать столь откровенно.
Остаюсь верный твой друг
И. Т. Риттер.* * *
Немец достал из платка очки и молча положил их на стол.
— Благодарю вас за хлопоты, милостивый государь, — произнес Иван Федорович и подумал, не поклониться ли, потом решил, что получится неловко, потом все же приподнялся со стула и исполнил нечто вроде полупоклона. Никогда в жизни он не осмелился бы просить об услуге ученого профессора проездом из самого Санкт-Петербурга, да притом немца, да еще страдающего нервной болезнью, потому что совершенно не знал, как с ним говорить и чем отдаривать. Но тетушка была непреклонна, и пришлось покориться. Сейчас Ивана Федоровича одолевало множество мыслей: надо ли спросить его о деньгах, или это выйдет обида, или, быть может, надо просто сразу вручить ему деньги — но сколько? И если очки окажутся плохи, можно ли будет так прямо и сказать, или этим он выкажет невежливость? И что делать, если с профессором опять приключится припадок… впрочем, это-то просто: поднести рюмку настойки… Все эти соображения повергали его в полную растерянность, и он действовал и говорил как во сне.
— Теперь уж надо их… э-э…
Немец серьезно кивнул. Иван Федорович взял очки, медленно отогнул правую заушину, потом левую, и с видом решительным сунул между ними голову, так что окуляры заняли надлежащие места.
Мир, видимый сквозь круглые стеклышки, ничуть не переменился, все кругом лишь очертилось более четкими линиями и как бы отодвинулось вдаль, а огонек лампадки из красного кружка с пурпурной каемкой принял настоящий свой вид рубинового стеклышка. Тетушка Василиса Кашпоровна и сквозь очки виделась прежней тетушкой, разве морщинок прибавилось.
— Что, друг мой, удобно ли? (Иван Федорович согласно качнул головой.) Поди к зеркалу, погляди на себя.
Подойдя к старинному зеркалу, которое мухи щедро усеяли веснушками, Иван Федорович увидел в нем свое лицо. Вопреки опасениям, очки не слишком его безобразили и даже придавали что-то солидное, чему, однако, несколько мешали выпученные глаза. Иван Федорович постарался сделать значительное лицо, подобающее отставному поручику и хозяину имения, но вдруг не выдержал, тряхнул волосами и расхохотался. И тут же словно какая-то дверца отомкнулась у него в груди, и дышать стало свободнее.
Он оглянулся на господина Риттера. И увидел немолодого человека в длиннополом сюртуке сливового цвета; тонкие его седые волосы были зачесаны так, что наводили на мысли о пудреных париках екатерининского века. Худое лицо было серьезно, но на щеках залегли складки, словно он хотел улыбнуться. А глаза серо-голубые, яркие, как у ребенка. Отчего то Иван Федорович в тот же миг позабыл свои тревоги и, напротив того, ощутил у себя в душе нечто забытое и весьма приятное. Когда он был еще не Иваном Федоровичем, а Ванюшей; и не обучался в поветовом училище, а жил здесь, с маменькой и батюшкой, и не знал, что за не вовремя сделанный вопрос или другое нарушение приличий и правил могут пребольно ударить линейкой по пальцам, и когда на хуторе являлись новые лица — все равно, ходебщики с лубками и народными книжками, землемеры с цепями и кольями или маменькины гости — до чего весело было подбежать, спросить: «Дяденька, а ты кто?» — и слушать ответы…
— Милостивый государь, я премного вам обязан! Ей-Богу, будто глаза водой промыли. Прошу извинить, как величать вас по батюшке?.. Скажите, Иоганн Теодорыч, вы сделали их сами?
Господин Риттер широко улыбнулся.
— Стекла у меня были с собой, а оправу я заказал гадячскому слесарю.
— Что вы заплатили этому мошеннику?! — тут же вмешалась Василиса Кашпоровна. — Скажите, сколько вы ему дали, это наш расход.
— Пустяки. Мне в удовольствие сделать подарок моему тезке.
— Подарок! Ах, да как же можно…
— Тетушка, — перебил ее Иван Федорович, и Василиса Кашпоровна удивленно умолкла. — Отчего вы не прикажете подавать завтрак?
Подъезжая к господскому дому в селе Хортыще, Иван Федорович еще с повозки увидел во дворе черноволосую барышню, старшую из двух сестриц — Лизавету. Она, обернувшись на лай собак, подозвала босоногую девку и что-то ей сказала на ухо. Девка опрометью кинулась в дом, а барышня остановилась посреди двора, улыбаясь едва приметно, как если бы ей на ум пришло что-то чрезвычайно смешное.
— Имею честь доложить вам мое почтение, любезнейшая Лизавета Григорьевна, — произнес Иван Федорович, подходя на приличное расстояние и кланяясь. — Все ли у вас благополучно?
Лизавета Григоревна от неожиданности даже моргнула — это была едва ли не самая длинная речь, ею слышанная от соседа. Ресницы ее, к слову сказать, были очень хороши.
— Вполне, душевно вам благодарны, — отвечала она, по-прежнему усмехаясь, — только диву даемся, отчего вас давно не видно. Что это, у вас очки?
Иван Федорович не мог отвести от нее взгляда, словно видел впервые или был поражен чем-то в ее наружности — как оно, собственно, и было. Сестрица Григория Григорьевича не отличалась особенной дородностью, но фигуру имела статную и соразмерную. Выйдя из возраста, в каком обыкновенно ищут женихов, она бросила затейливые наряды и девичье жеманство, однако простое кофейного цвета платье смотрелось на ней чрезвычайно мило, несмотря даже на то, что лиф был несколько тесен. Черную свою косу Елизавета Григорьевна закалывала на темени таким способом, что получалось похоже на пышную плетеную булку. Через плечо ее были перекинуты несколько длинных мотков нитей, окрашенных в лиловый, синий и малиновый, и это неумышленное украшение сообщало ей нечто удивительно прелестное.
— Очки, Лизавета Григорьевна, велел мне носить постоянно профессор Риттер, что проживает сейчас в Гадяче. — Иван Федорович поправил окуляры и тут же соврал, будто бес толкнул его под ребро: — Сказал, что иначе могу и вовсе ослепнуть.
Лизавета Григорьевна ахнула и подняла пальцы к щекам, и это проявление участия очень обрадовало Ивана Федоровича.
— От глаз надо пить водку, перегнанную на золототысячник, — сказала барышня серьезно, будто самый ученый доктор из Петербурга. — Я вам дам с собой бутылочку, пожалуйста, испробуйте.
— Буду крайне вам признателен, дорогая Лизавета Григорьевна, — отвечал Иван Федорович с трепетом в голосе, наклоняя голову точь-в-точь так, как это делывал один его полковой товарищ. При этом ему даже и не вспомнилось, что бутылок золототысячниковой в тетушкином погребе не менее дюжины, о чем прежний Иван Федорович не преминул бы сообщить. — Непременно испробую, и на минуту не сомневаюсь, что поможет.
Тут он снова встретился с ней глазами, и обнаружил, что в этом нет решительно ничего неловкого, а, напротив, все именно так, как ему и следует быть.
— А вы, я гляжу, — он осторожно протянул руку и поддел пальцами малиновую нитку, — красили шерсть для ваших превосходных ковров?
— Девушки красили вчера, сегодня уже высохла. Досадно, малиновый бледен вышел.
— Нет, отчего же, очень красиво, — возразил Иван Федорович и слегка потянул нитку к себе. — Жалею от всей души, что не имел еще случая ознакомиться с этим промыслом.
— На что вам? — Лизавета Григорьевна теперь казалась несколько смущенной. — Это дело женское, мужчинам не занимательно.
Чтобы знать, как все это ковроткачество устроить на нашем хуторе, когда мы с вами обвенчаемся, чуть было не сказал Иван Федорович, — до того легко ему теперь стало, но все же смекнул, что это несколько преждевременно, и вымолвил тихо:
— Мне все то занимательно, что занимает вас, Lise.
По-французски Иван Федорович не знал почти ничего, но что Лиза будет «Лиз», помнил отменно, от того же полкового товарища.
— Но что ж мы стоим посереди двора? — щеки Лизаветы Григорьевны порозовели ярче ее ниток. — Пожалуйте в дом, маменька, должно быть, уже на стол собирает. Маша будет вам рада, она о вас спрашивала…
— Не надо! — внезапно перебил ее Иван Федорович. Прежде бы он умер со стыда, вырвись у него столь неучтивое слово, или, по крайности, коли остался бы жив, ничего больше не вымолвил бы до нового дня, теперь же он ясно видел, что сказал именно то, что надлежало. Лизавета Григорьевна отворотилась в сторону и, потупившись, принялась наматывать на пальчик пушистую лиловую нитку.
Через ее плечо Иван Федорович увидел в окошке физиономии остальных Сторченок. Марья Григорьевна, наряженная в голубое платье и шаль, кажется, приготовлялась плакать, Григорий Григорьевич имел такое выражение лица, словно собирался, по своему обыкновению, вскричать: «Что это, что это?!», маменька же их просто раскрыла рот в изумлении, наблюдая, как живо ее старшая дочь беседует с господином Шпонькою.
— Простите, Лизавета Григорьевна. Но только я так рад вас видеть…
— Вы от этого не ездили к нам? — тихо спросила она.
— Да, от этого, — Иван Федорович, хоть не совсем понял, почувствовал, что самое лучшее будет согласиться.
— А теперь вы…
— Теперь я буду иметь честь просить руки вашей, Лизавета Григорьевна, — и даже произнося эти страшные слова, что и в сердце самого великого храбреца поселяют ужас, Иван Федорович не оробел и не запнулся.
— Моей? Но… братец мне приданого не назначит, он хочет, чтобы Маша сделала партию…
— А пусть он поцелуется с тем приданым, у меня в Вытребеньках всего довольно; да впрочем, я буду с ним говорить и об этом. Но скажите, Lise, вам-то я не слишком противен?
Лизавета Григорьевна ничего не сказала, а только чуть приметно покачала головой, потом добавила шепотом:
— Как чудно… Ведь мне весной говорил Иванко Кацап, что я прежде сестрицы замуж выйду. Он блаженный, знаете? Братец смеялся над ним, и я не поверила…
— Напрасно не поверили, даю вам в том слово дворянина. А что до блаженных, иные из них точно…
На этот раз Иван Федорович, как и прежде с ним бывало, не окончил фразы, позабыв, что хотел сказать, но виною тому была уж не робость.
* * *
…Только то и сделал бестолковый немец, что Ванюша посватался вместо младшей сестры к старшей! Глаза вылечил, а ума лишил. Грех мне бранить господина Риттера, добрый он человек, без него Ванюша, я чай, так бы и робел перед девицами, не в силах слова вымолвить. Но подумайте только — перестарка за себя взял, да еще и без приданого, ничего ведь за ней не дал старый лиходей, кроме луга, а этот луг по-настоящему и так был Ванин… Спору нет, Лиза девушка славная, за кухней надзирает хорошо и сама стряпает, хоть до матери ей далеко. А только лет ей давно уже не двадцать, и как-то еще обойдется, о Господи вседержителю… Лизанька, для чего ты встала так рано? Тебе надо больше спать, и так вчера допоздна сидела, это нездорово… Да что же, убегут твои узоры? Хоть и сегодня их нарисуешь, хоть и завтра, будут у нас ковры не хуже, чем у твоей матушки. Поешь пока пампушек с маком, а я Солохе скажу принести вишневого узвара кисленького, или вот свежих вишен Гапка нарвала… Ну как знаешь, может быть, потом захочется. А если тебе что-нибудь нужно, или так просто, фантазия какая придет, ты говори мне сразу, слышишь?
* * *
Ивана Федоровича, его тетушку и жену я навещал по меньшей мере один раз в неделю. Ездил на обывательских либо ходил пешком: кучер Омельян, которого недавно обвенчали с Ганной, поглядывал на меня, как москвич на француза.
Узнав, какое действие возымели очки Копполы, я положил остаться здесь по крайней мере до следующей Пасхи. Пока не явится на свет наследник хутора, крытого тростником. Я знал, что будет мальчик, и надеялся, что сумею вовремя заметить неблагополучие. Так или иначе, не хотелось оставлять Лизу на милость бабок-повитух, а единственный доктор в городской больнице — теперь мой хороший друг, да и сам я не все забыл из лекций «отца акушеров», славного профессора Озиандера. Как говорил пастор, любивший некогда обедать у матушки, доброе дело не бросают на полпути. К тому же Серж у себя в имении затеял писать романтическую повесть и о каждой главе спрашивает моего мнения и совета. Наконец, флора южных губерний России по-прежнему изучена прискорбно плохо, и на мои письма из Москвы и Санкт-Петербурга приходят самые восторженные отзывы…
Василиса присела к столу, с тревогой взирая на невестку, которая все держала вишенку за хвостик и не несла к губам. Женщины не смотрели на меня, и я поднес к глазам лорнетку.
В окаймлении кобальтовой сини васильков, словно пламя, изваянное из золота, сияла огненная лилия.
2009
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



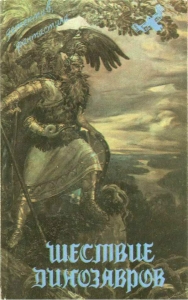
Комментарии к книге «Иоганн и Василиса», Елена Владимировна Клещенко
Всего 0 комментариев