НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ
1
— Уж очень все мрачно, Алеша, — со вздохом произносит Василий Васильевич Русин, дочитав последнюю страницу научно-фантастической повести сына, опубликованной в журнале «Мир приключений».
— Но в рукописи тебе это не казалось?
— В рукописи это не звучало так страшно… Ведь не что-нибудь — целая планета превращается у тебя в космическую пыль. И не просто планета, а обитаемая, населенная разумными существами… Право же, это ужасно!
Он не смотрит в лицо сына — знает, какое оно, ждет его возражений. Алексей молчит — обиделся, значит… Надо бы утешить, подбодрить его чем-то, а он снова:
— Сам не пойму, откуда у меня теперь это чувство страха… Может быть, иллюстрации так повлияли? Художник не поскупился на мрачные тона… Ты, однако, не сердись на меня, Алеша. На обсуждении тебе, наверно, еще и не то скажут. Я ведь и раньше тебе говорил, что в повести твоей много спорного…
— А что у меня спорного? — произносит, наконец, Алексей. — Существование Фаэтона? А есть разве какое-нибудь иное объяснение происхождению пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера? Академик Шмидт считал его, правда, «недоделанной планетой», но почему же тогда астероиды имеют осколочную форму? У него нет на это ответа. А осколочная форма явное свидетельство взрывного их происхождения.
Все это известно и Василию Васильевичу. Существование планеты меж орбитами Марса и Юпитера допускают ведь академики Заварицкий и Фесенков. Не возражает против этого и такой известный астроном, как Воронцов-Вельяминов, да и другие ученые. Может быть, они и правы, но что же тогда погубило эту планету? Почему она развалилась?…
Этот вопрос Василий Васильевич задает сыну вслух.
— А знаешь, почему? — отвечает Алексей. — Да по той причине, что все имели в виду мертвую, необитаемую планету. С нею действительно ничего не могло случиться…
— А с обитаемой? Населенной разумными существами?
— Могло случиться именно то, что описано в моей повести.
Василий Васильевич молчит, хотя доводы сына его не убеждают. Но спорить ему не хочется.
— А я знаю, почему повесть моя не понравилась тебе сегодня, — задумчиво, будто рассуждая вслух, произносит вдруг Алексей. — У тебя, наверно, какие-то неприятности на работе…
— У меня лично — никаких.
— Не обязательно у тебя лично. Но случилось ведь что-то?
— Да, пожалуй… — помолчав, соглашается Василий Васильевич.
— Что же?
Василий Васильевич отвечает не сразу. Задумчиво ходит по комнате, вздыхает.
— Если это секрет… — прерывает его молчание Алексей.
— Нет, нет, никакого секрета! Просто не знаю, как тебе все это объяснить… А случилось вот что: у одного нашего профессора пропал портфель с научными материалами…
— А ты-то тут при чем?
— Да разве в том только дело, при чем я тут или ни при чем? Просто я знаю, сколько труда было вложено в его работу. Он ведь не один день провел в моей библиотеке. Приходилось даже уступать ему иногда свой кабинет, и он сидел в нем до поздней ночи, заваленный книгами, написанными чуть ли не на всех европейских языках.
— Что же он — полиглот?
— Знает английский, французский и немецкий, а с их помощью нетрудно разобраться и в остальных. Его интересует ведь главным образом математический аппарат, а он универсален. Не случайно один из наших физиков назвал язык математики «божественной латынью современной теоретической физики». Кстати, это он же назвал книгу Уилера «Гравитация, нейтрино и вселенная» почти религиозным гимном нейтрино.
— А профессор, потерявший портфель с научными материалами, работает, значит, в области этого таинственного нейтрино?
— Ты угадал. Он не сомневается, что природа создала нейтрино с какими-то очень глубокими, но пока не очень ясными для нас целями.
— Но ведь исследования этого профессора не секретные, наверно, раз он работал в твоем кабинете?
— Официально его работы называются: «Нейтринным аспектом слабых взаимодействий» и «Возможным макроскопическим проявлением слабых взаимодействий».
— Насколько я себе представляю, это пока сугубо теоретические работы. Чего же вы переполошились тогда?
Василий Васильевич снова вздыхает.
— Дело, видишь ли, в том, что портфель свой он не потерял, а скорее всего его украли… Во всяком случае, я лично в этом почти уверен.
— А профессор?
— Напротив, всячески старается меня уверить, что портфель потерян.
— А по-моему, ты все это просто выдумываешь, — после довольно продолжительного молчания заключает Алексей.
Василий Васильевич, не сказав ему на это ни слова, уходит в свой кабинет. Лишь перед ужином снова заходит к сыну.
— Когда будет обсуждение твоей повести? — спрашивает он Алексея.
— Завтра.
— И ты уверен?…
— Ни в чем я теперь не уверен. А вселил в меня эту неуверенность ты. Наверно, и в самом деле банальна придуманная мною катастрофа Фаэтона… Но отчего же еще может погибнуть целая планета, жизнь на которой достигла высокого совершенства?
Василий Васильевич, не отвечая, садится рядом с ним на диван.
— Что же ты молчишь, папа? Ты ведь зашел ко мне не затем только, чтобы спросить, когда будет обсуждение моей повести? Тебе это и без того было известно…
— Я вспомнил слова Леонида Александровича, произнесенные им сегодня. Они, пожалуй, могут тебе пригодиться.
— А кто такой этот Леонид Александрович? Тот самый профессор?…
— Да, тот самый. И знаешь, что он сказал? Он сказал, что в наше время, как никогда, велика ответственность за научный эксперимент. По его мнению, не только ни одна термоядерная бомба любой эквивалентности, но и никакая атомная война не может наделать стольких бед, как чрезмерное любопытство ученых… Над этим стоит подумать и вам, научным фантастам.
— Ты думаешь, что Фаэтон мог погибнуть в результате какого-нибудь глобального научного эксперимента? По-твоему, там ученые были настолько безрассудны?…
— Нет, зачем же!
— Ну, а в чем же тогда может быть причина катастрофы?
— Эксперимент мог быть поставлен одновременно двумя или несколькими странами. Странами с различным общественным строем, враждующими между собой, скрывающими друг от друга свои эксперименты… Ты понимаешь мою мысль?
Алексей уже не может спокойно сидеть на диване, он возбужденно ходит по комнате. А Василий Васильевич продолжает:
— Ты вообще подумай над глобальным характером современных научных экспериментов. Помнишь, еще в 1958 году в связи с отработкой аппаратуры для создания искусственных комет нашими учеными было создано облако из паров натрия на высоте нескольких сот километров? Его видимые размеры заполняли расстояние между крайними звездами Большой Медведицы, и наблюдалось оно с территории в несколько миллионов квадратных километров. Разве подобный эксперимент не носит глобального характера? Да ты не слушаешь меня, Алеша?
— Прости, папа, я задумался… Ты подсказал мне очень интересную идею. Боюсь только, как бы не пришлось из-за нее переписывать наново всю мою повесть.
— А ты послушай сначала, что тебе скажут на обсуждении.
— Да, придется…
2
Хотя все, кто собрался на обсуждение повести Алексея Русина, говорят о ней в основном доброжелательно, ему чудится все же какая-то предвзятость в их словах. Особенно же неприятно ему выступление Гуслина, считающего себя теоретиком научной фантастики. Он не утверждает прямо, что повесть Русина кажется ему примитивной, однако эту мысль нетрудно угадать в не очень глубоком подтексте его речи. И это не удивляет Алексея. Он знает, что для Гуслина ясность научных и философских позиций признак несомненной примитивности мышления и бесспорной ограниченности автора.
Председательствует на обсуждении редактор журнала «Мир приключений» Петр Ильич Добрянский. Чувствуется, что и ему не очень нравится выступление Гуслина, но Петр Ильич не подает никаких реплик, лишь изредка высоко поднимает брови и слегка покачивает головой, когда мысль выступающего кажется ему очень уж спорной.
Но вот берет слово молодой, очень плодовитый фантаст Фрегатов. Алексей хорошо знает его и ценит, как человека талантливого, оригинального, но никак не может понять, почему он, молодой ученый, отлично знающий физику, астрономию и астрофизику, пишет вещи, в которых почти начисто отсутствует наука. Во всяком случае, та современная наука, перед могуществом и величием которой преклоняется Алексей Русин. Книги его называются научно-фантастическими, и повествуется в них о далеких мирах, в которые залетают на космических кораблях обитатели нашей планеты в XXI и XXII веках. Их техника, наука, терминология придуманы Фрегатовым и потому кажутся наукообразными, ибо все это не опирается ни на одну из ныне существующих наук.
Фрегатов, высокий, рыжеволосый, держится очень прямо, даже когда сидит, никогда не прислоняется к спинке стула. Говорит быстро и не очень связно. Небрежно отбросив тяжелую прядь густых волос, он выпаливает скороговоркой:
— Я завидую ясности повествования Русина. Но… как бы это сказать поточнее?… В них нет находок. Все логично и понятно, а ведь в науке не так-то все просто…
— Зато бесспорно логично! — выкрикивает кто-то.
Алексей ищет его глазами. А, это Возницын, кандидат физико-математических наук и тоже молодой фантаст. Он очень нравится Алексею. Его позиции ему ясны.
— Ну, это знаете ли, не всегда так, — возражает Возницыну Фрегатов.
— Если бы в науке все было так логично, — усмехается Гуслин, — единая теория поля не оказалась бы такой сложной проблемой.
— Но уж это не из-за отсутствия логики, или, вернее, закономерности явлений природы, — не сдается Возницын, — а из-за недостаточности знаний у физиков-теоретиков. А знаний этих нет потому, что физики-экспериментаторы не поставили еще такого эксперимента, который…
— Э, бросьте вы это! — выкрикивает еще кто-то из фантастов. — А из чего выводил свою теорию относительности Эйнштейн? Скажете, может быть, что ей предшествовали труды Максвелла, Герца и Лоренца?
— Этого не отрицал и сам Эйнштейн, — замечает Возницын.
— Но ведь их труды были известны всем, — повышает голос Гуслин, — а истолковать результаты опыта Майкельсона-Морли смог только Эйнштейн.
— Но позвольте! — протестующе машет руками Фрегатов. — Это что — научная дискуссия на вольную тему или обсуждение повести Русина? Петр Ильич, — взывает он к Добрянскому, — дайте же мне возможность…
Председательствующий стучит авторучкой по графину с водой.
— Давайте действительно поближе к делу, товарищи. Хотя в общем-то все это очень интересно и полезно, конечно…
— Да, но в другой раз! — выкрикивает кто-то.
— Прошу вас, товарищ Фрегатов, продолжайте, мы не будем вам больше мешать.
— А об Эйнштейне тут вспомнили весьма кстати, — довольно улыбается Фрегатов. — Все вы, конечно, знаете, что его гениальную теорию сами же ученые называют «сумасшедшей»? Чего не скажешь о теориях многих современных физиков. И из этого следует, что они далеки от гениальности…
— Вы, однако, тоже, кажется, начинаете уходить от темы, — перебивает Фрегатова Добрянский.
— Нет, я не ухожу от нее, Петр Ильич, я подхожу к ней. Конечно, нереально требовать от нашей научной фантастики гениальных произведений, но лучшие из них должны, по-моему, тоже быть немного с «сумасшедшинкой». Все дружно смеются. Фрегатов умоляюще простирает руки вперед.
— Я все сейчас объясню!
— А чего объяснять? Все и так ясно! — снова вскакивает Гуслин. — Поменьше фантастики гладенькой, «научпоповской», побольше будоражащей!
— Не нужно только путать «сумасшествие» с бредовостью и невежеством, — замечает Возницын. — А то у нас снова появятся «космачи», чихающие на все пределы возможного.
— Вот и создай при этом что-нибудь «сумасшедшее», — демонстративно вздыхает фантаст Сидор Кончиков, подписывающий свои произведения псевдонимом «Сид Омегин». — Какие же могут быть пределы у науки? Забыли вы разве, какое жалкое существование влачила наша фантастика в период культа, когда фантазировать дозволялось только в пределах пятилетнего плана народного хозяйства…
— Пределы, однако, существуют и сейчас, — усмехается Возницын. — Этими пределами являются объективные законы природы. Вы ведь знаете, конечно, почему скорость света предельна для любой материальной частицы?
Омегин, к которому обращается Возницын, смущенно молчит, делает вид, что вопрос этот относится не к нему. А его сосед восклицает почти возмущенно:
— Ну, это знаете ли, запрещенный прием! Удар ниже пояса!..
— В самом деле, — поднимается со своего места Добрянский, — не будем экзаменовать друг друга. Всем и без того известно…
— Почему же известно! — пожимает плечами Гуслин. — Достоверно ничего еще не известно.
— Вот именно! — выкрикивает Омегин. — Вспомните-ка эффект Вавилова — Черенкова! Разве он не опровергает…
Агрессивный Гуслин оттесняет тем временем Фрегатова и завладевает трибуной.
— Эффект Вавилова — Черенкова, дорогой, ничего не опровергает. В нем речь идет о фазовой, а не об истинной скорости света. И я имею в виду именно эту истинную скорость и ту трудность, которая возникает при попытке объяснения нелокального взаимодействия элементарных частиц. Эту трудность все-таки можно было бы разрешить, если бы пренебречь теорией относительности, утверждающей отсутствие в природе сигналов со сверхсветовой скоростью.
— Такие сигналы могли бы существовать лишь вне материальной среды, — возражает ему Возницын. — Но такой среды, как известно, не существует.
— А вакуум? — раздается голос неизвестного Русину бородатого существа студенческого возраста.
— Вы, наверно, представляете его себе как абсолютную пустоту? — не без иронии осведомляется Возницын.
— Зачем же пустоту? — обижается «бородач». — Это нулевое состояние физического поля. «Нуль-пространство», так сказать.
— Значит, что-то антиматериальное?
— Во всяком случае, пространство без частиц и электромагнитных и гравитационных полей.
Чувствуя, что спор снова приобретает опасный характер, Добрянский встает и примирительно машет руками.
— Я боюсь, что так мы действительно договоримся до отрицания материи. Давайте все-таки вернемся к повести товарища Русина.
— Ну вот, как только дошли до самого интересного, так сразу же снова запрет, — ворчит яростный противник всяких пределов Сидор Омегин. — Боимся, как бы чего…
— А чего бояться? — смеется Возницын. — Бояться можно только собственного невежества, а не ниспровержения материализма. Правильно сказал споривший со мной товарищ: вакуум — это действительно нулевое состояние физического поля, но это не совершенно пустое пространство. В нем существуют виртуальные электронно-позитронные и иные пары. Есть в нем и виртуальные фотоны. Я уже не говорю о все проникающих и, пожалуй, даже все заполняющих нейтрино. Следовательно, физический вакуум — это не отсутствие материи, а разновидность материи. Не нужно поэтому спекулировать такими словечками, как «нуль-пространство», сбивающими с толку людей недостаточно просвещенных.
— И все-таки, — улыбаясь, стучит стаканом по графину Добрянский, — вернемся к Русину, тем более что материалистическая точка в споре этом явно восторжествовала. Дадим возможность товарищу Фрегатову закончить его выступление. Куда он, кстати, делся?
— А меня товарищ Гуслин выжил с трибуны, — смеется Фрегатов. — Да я и забыл уже, что хотел сказать. А что касается предела скорости, то я тоже думаю…
— Нет, давайте все-таки подумаем сначала о повести Русина, — настаивает Добрянский. — Вы, кажется, сетовали, что она недостаточно «сумасшедшая»?
— Не только она, но и вообще вся наша фантастика… А в повести Русина не очень убедительно утверждение высокого совершенства населения Фаэтона. И это досадно. Сама жизнь подбрасывает ведь эти доказательства. Все, наверно, читали недавнее сообщение о Калифорнийском метеорите? Непонятно? В нем обнаружили ведь кристаллы кремния. Какие-то сплющенные пластмассовые и металлические детали, но главное — кристаллы химически сверхчистого кремния! Разве вам не ясно, что это такое? Это транзисторы! Какое же вам еще доказательство несомненного существования высокоразвитой цивилизации на Фаэтоне?
— Но ведь их нашли в метеорите, который мог быть и не осколком Фаэтона, — замечает кто-то.
— Ну, едва ли, — покачивает головой Фрегатов. — У астрономов ведь почти нет сомнений, что метеориты — осколки астероидов, а астероиды, видимо, осколки Фаэтона, хотя эту точку зрения разделяют далеко не все. Я лично почти не сомневаюсь в этом, но гибель Фаэтона, описанная Русиным, меня не убеждает. Едва ли это результат атомной катастрофы. Да и не ново. Такую гипотезу высказал еще в 1962 году украинский писатель Микола Руденко. У него, правда, имеется в виду атомная война, а у Русина спонтанная детонация огромного количества термоядерного оружия, накопленного многими государствами Фаэтона. В этом есть, конечно, некоторая разница, но все равно не оригинально.
Потом выступают другие, но Алексей никого уже не слушает. Он и сам не удовлетворен своей повестью — чего-то в ней явно не хватает.
3
Когда участники обсуждения повести Русина начинают расходиться, Добрянский протягивает Алексею руку.
— Ну что ж, будем считать, что все прошло хорошо.
— Хорошо? — удивляется Русин.
— По пятибалльной системе не менее четверки, — смеется Добрянский.
— Но ведь явно же ругали…
— А за что? Нет, дорогой мой Алексей Васильевич, я расцениваю это обсуждение как явно положительное и не жалею, что напечатал вашу повесть в «Мире приключений». Мне она по душе, и я не изменил своего мнения о включении ее в сборник, которым мы начнем первый том приложений к нашему журналу. Нужно только доработать кое-что.
— Спасибо вам, Петр Ильич! — пожимает руку редактору растроганный Русин. — Но если вы действительно включите мою повесть в этот сборник, то я ее не только доработаю, но и основательно переработаю.
С Добрянским прощаются проходящие мимо литераторы, и это мешает его разговору с Русиным.
— Знаете что, давайте поедем домой вместе? — предлагает он Алексею. — Нам ведь по пути. Вот дорогой и поговорим…
— А что, если хватить по рюмочке, Петр Ильич? — весело предлагает вдруг подошедший к ним Сидор Омегин и бесцеремонно берет редактора под руку.
— Ну нет, увольте меня от этого: я ведь не пьющий.
— А я разве пьющий? — удивляется Омегин, увлекая Петра Ильича к скрипучей лесенке, ведущей с антресолей старого здания Дома литераторов к залу ресторана. — Это для бодрости духа и профилактики. А главное — повод поговорить по душам.
Видя, что от Омегина не отделаться, Добрянский смущенно оборачивается к Русину.
— А как вы, Алексей Васильевич?
Русин достаточно хорошо знает Омегина, чтобы надеяться отвязаться от него. Да и сам он так переволновался сегодня, что не прочь выпить немного.
— Ну, если только по одной…
— А у меня на большее и денег нет, — смеется Омегин. — Сами знаете, какие нынче гонорары. Вон, кстати, и столик свободный.
Чувствуется, что Сидор Омегин завсегдатай в клубном ресторане. Пока он ведет Добрянского с Русиным к облюбованному им столику, одна из официанток уже получает от него все необходимые указания при помощи выразительной жестикуляции. Графинчик появляется на их столе почти тотчас же. Добрянский подозрительно косится на его слишком уж пузатую конфигурацию, заполненную какой-то коричневатой жидкостью.
— Не много ли?
— Не более трехсот, клянусь вселенной, — успокаивает его Омегин, наполняя рюмки. — Никогда еще не хотелось так выпить, как сегодня. Уж больно тревожно на душе…
— Чего так? — удивляется Петр Ильич.
— Похоже, что снова стреножат нас скоро.
— Не понимаю.
— Ножки нашему фантастическому Пегасу перевяжут, чтобы далеко не ускакал, а пасся бы на ниве чистого, так сказать, диалектического материализма.
— А вы разве за идеализм или мистику в научной фантастике?
— Зачем же такие крайности! — всплескивает руками Омегин. — Но нельзя же все строго в пределах «Основ марксистской философии». У польских фантастов посвободнее. Они могут позволить себе сочинить планету, покрытую океаном сплошной мыслящей плазмы. И никто с них не требует, чтобы они объясняли, каким же образом достигнута его способность мыслить.
— У нас тоже придумал кое-кто кристаллические существа, превосходящие человека по своему интеллекту, не утруждая себя объяснением причин столь высокого совершенства, — замечает Русин.
— А по-твоему, все нужно разжевывать? — неожиданно зло спрашивает Омегин. — Все строго по Энгельсу и его теории о роли труда?…
— Если тебе известен другой путь совершенствования живых существ, то и поведай о нем читателям. Я лично против каких бы то ни было ограничений в научной фантастике, но при условии, если не строгой научной доказуемости, то хотя бы элементарной логики выдвигаемых гипотез. А то мы черт знает до чего можем дописаться!
— Ну, знаешь ли! — снова разводит руками Омегин. — Этак можно не только стреножить, но и начисто отрубить нашему Пегасу и крылья и конечности.
— А ты, значит, считаешь… — хмурится Русин, но Добрянский берет рюмку и торопливо чокается с ним.
— Хватит, пожалуй, об этом. Давайте-ка лучше выпьем!
— Да, правильно, — оживляется Сидор Омегин, ловко опрокидывая содержимое своей рюмки в рот.
Его примеру следует Добрянский. Русин подносит рюмку к губам и спрашивает:
— А вы, Петр Ильич, на чьей же стороне?
— Какая же тут может быть сторона? — пожимает плечами Добрянский. — Тут не может быть двух сторон.
Повернувшись к Омегину, он продолжает:
— Я не думаю, Сидор Андреевич, чтобы и вы были за фантастику без берегов, так сказать. Наша фантастика научная все-таки. Мы ведь не только за оригинальность, но и за…
— И за многое другое, конечно, — иронически заключает за него незаметно подошедший к ним Фрегатов. — Я бы только добавил к этому, что мы еще и за широту позиций научной фантастики. Спор же шел у нас сегодня лишь в одном направлении — в направлении научного предвидения. А ведь мы решаем еще и социально-психологические, этические и философские проблемы…
— Но позвольте, — удивленно разводит руками Русин, — а как же вы представляете себе научное предвидение без всех этих проблем?
Чувствуя, что фантасты снова могут схватиться, Добрянский смотрит на часы и с деланным беспокойством восклицает:
— Ого, как поздно уже! Ну, давайте допьем, и мне пора. Вы холостяки, а у меня семья. Да и вы, Алексей Васильевич, тоже, кажется, спешите…
4
Русин живет в тихом узком переулке. В эту пору тут всегда безлюдно, но сегодня почему-то необычно много народу на противоположной стороне улицы и как раз перед окнами Алексея. А может быть, это под окнами Вари? Ну да, конечно, под ее окнами!
— Видно, опять учинил дебош этот Ковбой? — спрашивает Алексея какой-то пожилой мужчина.
— Не знаю, — отвечает Алексей, не очень интересующийся уличными происшествиями.
— А я не сомневаюсь, что это именно он.
— Господи, да кому же больше! — вступает в разговор старушка лифтерша, вышедшая на улицу. — Ну просто житья нет от этого хулигана!
— И вовсе это не хулиганство, — раздается тоненький голосок какой-то школьницы. — Это, тетенька, любовь.
— Э, какая там, к лешему, любовь! — пренебрежительно машет рукой пожилой мужчина. — Просто силушку некуда девать этакому верзиле.
— Вообще-то он и вправду перед нею выкобеливается…
— Ну что вы такое говорите, тетя Даша! — конфузится школьница. — Любит он ее — эго же всем известно.
— А мне, видишь ли, неизвестно, — хмурится лифтерша. — А что он под ее окнами представления разные устраивает, это я действительно почти каждый день наблюдаю.
Алексей уже не слушает их болтовню, и не только потому, что она ему неинтересна, — она ему неприятна. А неприятна потому, что ему жалко эту милую девушку, о которой он знает только то, что зовут ее Варя и что отец ее, подполковник в отставке, горький пьяница. Не верится ему, однако, что Вадим Маврин, известный чуть ли не всему району под кличкой «Ковбой», действительно влюблен в Варю. Сомневается он, что такой тип вообще в состоянии влюбиться.
Более же всего неприятна Алексею мысль, что Вадим может быть не безразличен Варе. А это вполне вероятно — не случайно же многие часы проводит она у окна. Тому, правда, есть и другие причины: Варя почти не отводит глаз от зеркала, поставленного на подоконник, с поразительным трудолюбием взбивая чуть ли не каждый отдельный волосок своей пышной прически.
С высоты своего пятого этажа Русин хорошо видит окно Вари, живущей тремя этажами ниже его. Вот и сейчас колышется ее тень на занавеске. Значит, она дома и видела, конечно, что происходило на улице, а окно задернула, наверно, только теперь?
Алексею очень неприятно делать эти выводы, и он уходит в комнату отца, чтобы не думать больше о Варе. А с отцом обязательно нужно посоветоваться о переработке повести.
Василий Васильевич снова, кажется, не в духе? Неужели опять приключилось что-то с его профессором или произошла очередная «схватка» с мамой?
Ну да, невозмутимая Анна Павловна что-то слишком уж тщательно прикрывает многочисленные дверцы кухонного шкафа. Обыкновенно она оставляет их распахнутыми, а ящики всех столов в квартире выдвинутыми почти до отказа. Педантично аккуратный Василий Васильевич Русин время от времени приходит в ярость от этой, как он выражается, «жизни нараспашку».
— Если ты не можешь понять, — говорит он в такие минуты своей рассеянной супруге, — что для меня порядок не прихоть, что он мне нужен для моей работы, что он помогает мне думать, то считай меня чудаком, оригиналом, странным человеком, которому кажется почему-то, что дверцы и ящики устраиваются для того, чтобы открывать их лишь по надобности, а в остальное время держать закрытыми. И считайся, пожалуйста, с этой моей прихотью и странным убеждением, будто в противном случае вообще незачем было бы делать дверцы…
Анна Павловна, конечно, делает это не нарочно, а по удивительной своей рассеянности, и потому никак не может понять, чем закрытая дверца шкафа помогает ее мужу. А Василий Васильевич Русин ведет огромную, для всякого другого, может быть, даже непосильную работу по статистике научных фактов. «Всякий другой» упоминается тут в том смысле, что нормальная человеческая память просто не в состоянии запомнить всего того, что он вычитывает у себя в библиотеке, а потом еще и дома. Такая работа, по мнению не только Алексея, но и его коллег по институту, под силу лишь кибернетической машине. Однако Василий Васильевич успешно конкурирует с такой машиной. Он ведь не только обладает феноменальной природной памятью, но еще и всячески совершенствует ее хорошо продуманной системой запоминания. В эту систему входит и тот порядок, который он завел в институтской библиотеке и особенно в своем домашнем кабинете. Каждый пустяк тут играет роль, помогает сосредоточиться или, наоборот, вызывает раздражение. И это хорошо понимает его сын Алексей, но никак не может понять супруга, преподаватель литературы в старших классах средней школы.
Алексей в последнее время вообще много думает об отце и его увлечении теорией информации. Василий Васильевич не сомневается ведь, что можно сделать крупное открытие, если овладеть возможно большим количеством сведений, известных современной науке. Алексей, хотя и не разделяет этих убеждений, очень уважает отца за ту цель, которую он себе поставил. Добьется он ее или не добьется, это покажет будущее, но уже теперь его знания таковы, что он давно уже мог бы защитить докторскую диссертацию по любому разделу физики. А он все еще довольствуется скромным званием кандидата, хотя за справками к нему обращаются даже академики. И не только за литературой, но и за советом, ибо мало кто обладает такими универсальными познаниями, как он.
Очень нужно и Алексею поговорить сейчас с отцом, но Василий Васильевич явно расстроен схваткой с Анной Павловной. На какое-то время все теперь смешалось, разладилось в ходе его мыслей, во всей стройной их системе, и, для того чтобы извлечь какую-нибудь справку из его памяти, необходимы, видимо, слишком большие усилия. Алексей хорошо понимает это и решает не беспокоить отца. Да и поздно уже. Может быть, пора и в постель?
Но прежде чем лечь, он снова подходит к окну и смотрит вниз, на занавесочку Вари. Теперь у нее горит настольная лампа. Значит, Варя сидит еще за своим столом.
5
Хотя Василий Васильевич Русин искренне завидовал профессору Кречетову, жизнь Леонида Александровича сложилась не наилучшим образом. В молодости был он влюблен в девушку, а женился на ней ничего не подозревавший о чувствах Леонида младший брат его, бравый артиллерийский офицер. Так и остался с тех пор Кречетов-старший холостяком, влюбленным теперь лишь в науку. Судьба преподносила ему и другие сюрпризы, но он принимал их с мудростью античного философа, не ожесточаясь и не теряя веры в человечество.
В последнее время, однако ж, завидное его спокойствие и оптимизм стали одной только видимостью. Открытие, которое он сделал, вот уже целую неделю не дает ему покоя ни днем, ни ночью. Конечно, он предвидел возможность связи грозных сейсмических явлений с экспериментами академика Иванова, и все-таки это очень встревожило его. Не один и не два раза, а теперь уже пять раз очень точно совпали они со временем работы нейтринного генератора, и у Кречетова не остается уже никаких сомнений в закономерности этих процессов. И очень досадно, что Дмитрия Сергеевича Иванова ни в чем это не убеждает.
— Э, дорогой мой, — беспечно заявил он сегодня в разговоре по телефону, — науке известны и не такие еще совпадения. И до тех пор, пока вы не обоснуете теоретически…
— Именно этим я и занимаюсь теперь…
— Знаю, но сомневаюсь, что ваши усилия увенчаются успехом. Вам ведь не хуже моего известна невероятность подобного взаимодействия нейтрино с веществом.
Да, Кречетову известно это лучше, пожалуй, чем самому Иванову, и все-таки он допускает возможность такого взаимодействия. Вынужден допустить.
— Ну и когда же вы думаете завершить ваши расчеты? — спросил его Дмитрий Сергеевич.
— Не знаю, — ответил Кречетов, досадуя на академика: он мог бы и не задавать такого вопроса. — Возможно, удастся сделать это, как только Институт физики Земли предоставит мне те сведения, которые я запросил. А может быть, вообще никакие сведения не помогут решить эту задачу. А между тем факты…
— Да и фактов пока маловато, — перебил его Дмитрий Сергеевич.
— А я опасаюсь, как бы их не оказалось вскоре более чем достаточно, — многозначительно произнес Кречетов и стал торопливо прощаться с академиком.
Вспоминая теперь этот разговор, Леонид Александрович упрекает себя за свою беспомощность — не смог вселить в Дмитрия Сергеевича если не чувство тревоги, то хотя бы благоразумие. А все это может ведь кончиться поистине глобальной катастрофой.
И, уже ложась спать, снова вспоминает он пропажу своего портфеля. Похоже все-таки, что его украли. И наверное, это дело рук того самого молодого человека, который больше всех задавал ему вопросов в Политехническом музее. Когда лекция кончилась, Кречетов не сразу как-то вспомнил, где положил свой портфель. Ну, а пока искал его, многие слушатели уже разошлись. Подозрение, однако, падало на этого любознательного молодого человека, дольше других крутившегося возле профессора. Он уже не в первый раз попадался на глаза Кречетову, а профессор даже не знал толком, кто он такой — студент или молодой ученый.
«Но чем же привлек его мой портфель? В нем было ведь лишь несколько библиотечных книг да наброски расчетов взаимодействия нейтрино со сверхплотным веществом, ошибочные к тому же… Ну этого-то, положим, он не мог знать. Да и откуда вообще могло ему стать известно об этих расчетах? Нет, этого знать он, конечно, не мог. Что же тогда могло его интересовать в моем портфеле — деньги? Но ведь их не носят в портфелях. И уж конечно же, не библиотечные книги…»
Вот уже более получаса лежит профессор в своей постели и никак не может избавиться от беспокойных мыслей. Нужно, видимо, решить как-то эту загадку, иначе не заснуть.
«Чем вообще интересовался этот молодой человек? О чем спрашивал? Он ведь задавал мне какие-то вопросы… Лекция была о квазиустойчивых образованиях — реджионах, или вакуумных полюсах, а он спрашивал… Ну да, он почему-то все время задавал вопросы, относящиеся к нейтринной физике. Ему даже заметил какой-то молодой ученый из Тбилиси: „Слушай, дорогой, ты имеешь какое-нибудь представление о сильных и слабых взаимодействиях? Понимаешь разницу между ними?…“ А когда этот слишком любознательный человек спросил, не являются ли современные эксперименты в области нейтринной физики секретными, его ведь на смех подняли. А что, если все это он спрашивал неспроста? Но зачем? Откуда у него такой интерес к нейтринной физике и моей персоне? И если портфель мой стащил именно он, а больше вроде некому, то я вообще перестаю хоть что-нибудь понимать»…
На часах уже за полночь, а профессор все еще никак не может уснуть. Чтобы не думать больше о своем злосчастном портфеле, он берет сборник научной фантастики. Хотя чтение подобного рода литературы очень часто рождает у него чувство протеста, он любит дерзкие, с его точки зрения, книги фантастов. Во всяком случае, те из них, которые написаны людьми сведущими в вопросах современной науки и не лишенными литературного таланта. Они вызывают в нем желание поспорить, смешат или удивляют иным видением мира и явлений природы, а иногда даже подсказывают неожиданные решения собственных научных проблем.
Сегодня, однако, Леонид Александрович лишь механически пробегает глазами текст какой-то повести, а думает совсем об ином… Все о том же — о своем пропавшем портфеле и таинственном молодом человеке, причастном, видимо, к его исчезновению.
6
Алексей Русин тоже ложится сегодня лишь в двенадцатом часу. Не удается заснуть и ему — слишком свежи еще впечатления от обсуждения его повести в Центральном доме литераторов. Приходят вдруг на память слова Фрегатова о гипотезе украинского писателя Миколы Руденко. Алексей не читал ее, но Фрегатов сообщил ему, что опубликована она в журнале «Дружба народов» за 1962 год. Можно, конечно, посмотреть ее и завтра, но ему все равно ведь не заснуть теперь так скоро.
И он нащупывает кнопку лампы, стоящей на журнальном столике у дивана. Вспыхнувший свет многократно отражается в стеклах книжных шкафов и кажется неестественно ярким. Щурясь, Алексей встает с дивана и идет к шкафу, в котором хранятся старые журналы.
Вот он, этот журнал. Тут действительно напечатана статья Миколы Руденко. Называется она «По следам космической катастрофы».
Руденко начинает свою гипотезу с того, что еще Кеплер в конце XVI века обратил внимание на существенный пробел в солнечной системе — отсутствие планеты, которая должна была находиться между орбитами Марса и Юпитера. А почти столетие спустя Тициус и Бодэ разработали правило, по которому среднее расстояние планет от Солнца находится в зависимости от последовательного ряда чисел: 0, 3, 6, 12, 24… к каждому из которых нужно прибавить еще цифру «4».
Алексей и сам изучил многие астрономические материалы, прежде чем приступить к работе над своей повестью, поэтому ему известно, что астроном Гершель, пользуясь правилом Тициуса — Бодэ, открыл вскоре планету Уран. А отсутствие планеты, которая должна была бы согласно этому правилу находиться между Марсом и Юпитером, продолжало оставаться загадкой. Поиски ее долгое время были безрезультатны. Лишь спустя два десятилетия было открыто несколько крупных астероидов, орбиты которых пересекались почти в той самой точке, которая соответствует правилу Тициуса — Бодэ.
Допустив, таким образом, существование планеты, которую некоторые астрономы назвали именем мифического героя Фаэтона, Руденко приступает к анализу причин, приведших к катастрофе. Он приводит мнение тех ученых, которые полагали, что Марс и Юпитер могли разорвать свою соседку силами собственного тяготения, направленного в разные стороны. Но тогда они должны были бы сместиться со своих орбит, а этого не произошло. Положение их точно соответствует правилу Тициуса — Бодэ. Не могло пройти вблизи погибшей планеты и какое-либо космическое тело, ибо это отразилось бы на орбитах соседних планет.
Так как отпадают и многие другие гипотезы о внешних источниках гибели планеты, Руденко допускает, что катастрофа явилась следствием каких-то внутренних причин. Это Алексею кажется вполне вероятным, хотя ссылки Руденко на сообщения польского журнала «Урания» о находках микроорганизмов в метеоритах вызывают у него сомнение. Много писалось об этом и в наших журналах, особенно в недавнее время, но более точные исследования не подтвердили наличия микроорганизмов или каких-либо иных признаков жизни в метеоритах.
Кажутся ошибочными Алексею и те данные, пользуясь которыми заключил Микола Руденко, что геологический возраст осколков Фаэтона превосходит возраст нашей планеты на несколько миллиардов лет. По новым данным, такой разницы в их возрасте не существует. А из этого следует, что развитие жизни на Фаэтоне не могли слишком уж опередить эволюцию ее на Земле.
Дальше у Руденко следует рассуждение о внутренних причинах, способных разрушить планету. Алексей с особенным вниманием вчитывается в эти пункты его гипотезы:
«В том, что человеческий мозг способен на все, опыт истории не позволяет сомневаться. Человек может создать все, кроме земного шара, на котором он живет».
«Почему же? — невольно усмехается Алексей. — Фантасты полагают, что можно создать и такую планету, как наша Земля, распылив на части какую-нибудь другую, большего размера». Набросив на плечи халат, Алексей продолжает читать дальше:
«Человек может разрушить все, что поддается разрушению. И если в принципе можно разрушить планету — человеческий мозг, пораженный какими-то отклонениями от нормы, от нормы человеческой морали в том числе, способен и на это. Когда в руках одного какого-нибудь человека находится кнопка от жизни и смерти земного шара, человечество не может спать спокойно».
И снова Алексей прерывает чтение. Ему известно, что одной такой кнопки нет. Система современного пульта межконтинентальных термоядерных ракет гораздо сложнее. Из нее исключена возможность нажатия кнопки одним человеком, сидящим у такого пульта. Это, однако, мало что меняет. Существуют ведь не только отдельные безумцы, но и целые правительства, способные на подобные действия.
«А если таких кнопок разбросано по всему свету сотни или тысячи, — продолжает Алексей прерванное чтение, — как бы мы себя ни утешали, как бы ни боялись признать эту страшную опасность, рано или поздно может случиться то, что, я думаю, уже произошло с нашей соседкой по ту сторону дороги, то есть по ту сторону орбиты Марса».
«Конечно, человеческий разум может не только создавать, но и разрушать, — размышляет Алексей, прохаживаясь по комнате. — Однако и Микола Руденко и я, видимо, не правы. Земной шар, как планету, как физическое тело, едва ли могла разрушить любая термоядерная война или детонация ядерного оружия в хранилищах. Такая катастрофа может погубить лишь жизнь, особенно разумную. Погибнут все животные, и в первую очередь млекопитающие. Но растения, те, которые не попадут в зону светового излучения и ударной волны, не должны погибнуть. Выживут и простейшие живые существа. Мутации, вызванные радиоактивностью, должны даже пойти им на пользу, так же как и многочисленным микробам и вирусам. Страшным будет этот мир, населенный чудовищными микроорганизмами!..»
Алексей даже вздрагивает, будто от внезапного озноба, но ни о чем другом уже не может думать. Из головы его не выходит теперь сообщение американских газет о падении метеорита, в котором обнаружены химически сверхчистые кристаллы кремния. Если это не очередная сенсация, подобная «летающим тарелкам», то, вне всяких сомнений, на Фаэтоне должна была существовать разумная жизнь. Кремний в таком чистом виде в природе ведь не бывает (на всякий случай Алексей решает уточнить это у отца), а раз это так, значит фаэтонская цивилизация применяла кремниевые полупроводники. Уровень техники на Фаэтоне был, следовательно, не ниже, а может быть, даже выше, чем сейчас у нас на Земле. Но что же тогда погубило эту планету, если не термоядерная война?
И почему обязательно злые, разрушительные силы? А может быть, прав профессор, сказавший отцу, что планету может погубить и чрезмерная любознательность ее обитателей? Желание заглянуть в такие тайны материи, которые познаются лишь ценой катастрофы?
Но что же тогда делать человечеству? Приостановить дальнейшие исследования?
Руденко предлагает ввести специальное «космическое право», ибо силы, которые в наш век находятся в руках человечества, принадлежат уже не только нашей планете. Неразумное обращение с ними может привести к катастрофе глобального характера. Он считает необходимым разработать это право таким образом, чтобы в нем были учтены все случайности, способные вызвать катастрофу.
«Вот я и попытаюсь угадать более вероятные причины катастрофы Фаэтона, чтобы предостеречь человечество от страшной беды…» — решает Алексей.
7
Босс сегодня явно недоволен своими компаньонами. Он не сказал еще ни слова, но они уже чувствуют это. Даже Вадим Маврин явно присмирел. А Босс все ходит по своему «оффису», противно поскрипывая до зеркального блеска начищенными полуботинками.
— Ну хватит, Босс, не выматывай ты из нас душу, — умоляюще произносит, наконец, Вадим.
— Да, действительно хватит! — неожиданно хлопает ладонью по столу Босс. — Хватит этой дешевой оперетки из жизни Дикого Запада. С сегодняшнего дня — к чертовой матери весь этот жаргон! Никакой я вам больше не Босс, а Корнелий Иванович Телушкин.
Печально усмехаясь, он поясняет:
— Что поделаешь, мои родители не обладали чувством юмора и не подумали, видно, как будет сочетаться понравившееся им иностранное имя Корнелий с русским отчеством Иванович и особенно с фамилией Телушкин. Но таковы мои истинные позывные по паспорту, и вы их хорошо запомните. А ты, Вадим, распрощайся с кличкой «Ковбой», тем более что у тебя такое красивое имя.
— Так ведь это не я… Это так меня другие… — басит Вадим.
— Отучай их от этого. Бей, если надо, по мордасам.
— А по мордасам, значит, можно?
— Да, если это нужно для пользы дела, а не так, как вчера под окнами Вари. В милицию уже вызывали?
— Нет пока. Может, обойдется…
— И учти, еще одна такая драка — и все! Катись тогда из нашей корпорации! Последнее это тебе предупреждение.
— Но ведь ты же сам поощрял мое ухаживание за Варей…
— А какое же это ухаживание? Так, милый мой, только собаки ухаживают да мартовские коты на крышах. Да, кстати, мне стало известно, что ты недавно нахамил студенту-негру. Зачем ты это сделал?
— А пусть не пялит глаза на Варю. И потом, я же его не ударил.
— Ты сделал хуже. Ты совершил политическое преступление. Ты сказал негру, когда он присел на скамейку рядом с тобой: «Мотай отсюда! Не видишь разве, что тут сидит белый человек?» Твое счастье, что негр не понял твоих слов, да и поблизости никого не было, а то бы тебе показали «белого человека»! И чтобы это вообще было в последний раз! Нам только расиста не хватало в нашей и без того нарушающей уголовный кодекс корпорации.
— Насчет того, что Вадим назвал себя белым человеком, это же просто смешно, — хихикает щупленький, претенциозно одетый молодой человек с интеллигентным лицом. — Но вы не правы, Босс.
— Только ведь было сказано! — стучит кулаком по столу Телушкин.
— Пардон! Извините вы меня ради бога, Корнелий Иванович! — театрально расшаркивается молодой человек. — Клянусь всевышним, больше не буду! А Вадима вы зря порицаете за демонстрацию силы под окнами Вари.
— Это ты прав, Пижон, — одобрительно кивает стриженной под каторжника головой Вадим. — Женщины силу любят…
— Ну, во-первых, это не та женщина, — хмурится Телушкин. — А во-вторых, сколько раз тебе говорить, что никаких кличек? У Пижона есть имя Вася и фамилия Колокольчиков. Хорошая, звучная фамилия. А вы бросьте, Вася, считать себя интеллектуалом, и вообще никакого суперменства. Клятвы именем всевышнего тоже отменяются. Во-первых, это святотатство, а во-вторых, мы и без того начнем скоро торговать господом богом и оптом и в розницу.
Решив, что глава корпорации шутит, говоря о торговле богом, Колокольчиков возвращается к своей прерванной мысли.
— А насчет Вари вы правы, это действительно не та девушка, которую возьмешь демонстрацией силы. Но в этом есть другая сторона медали. В поступке Вадима она видит проявление дикости и неотесанности его натуры и потому пытается его перевоспитывать. К тому же не исключено, что ей, может быть, все-таки приятно, что он делает это из-за нее.
— Ну, не знаю, не знаю… — с сомнением покачивает головой Корнелий. — Не думаю все-таки, чтобы он взял ее грубостью. Этого у нее хватает и от ее папаши. Она, по-моему, натура мечтательная, и грубостью Вадима можно лишь все дело испортить. Недаром же в психологии существует такое понятие, как «совместимость» или «несовместимость» характеров.
— О, вы широкообразованный человек, Корнелий Иванович! — искренне восхищается своим шефом Колокольчиков.
— Мне не надо вашей лести, Вася, — снисходительно усмехается Корнелий. — Я типичный дилетант широкого диапазона. И потому в наш век узких специалистов выгодно отличаюсь от многих кандидатов наук. Конечно, если уж говорить откровенно, я прямой потомок Остапа Бендера, эволюционизировавшего в соответствии с духом времени. Не помню, какое было образование у Остапа — нужно будет перечитать «Двенадцать стульев», самое большое — восемь классов одесской гимназии, наверно. При его природном остроумии и таланте мелкого авантюриста этого было достаточно, чтобы стать фигурой в эпоху нэпа. А в наши дни не поднялся бы он выше рядового тунеядца.
— Ну, а у вас какое же образование? — любопытствует Колокольчиков.
— Довольно широкое. Пришлось уйти, не по собственному желанию, конечно, с разных курсов трех столичных факультетов: юридического, физико-математического и биологического. И плюс самообразование. Все это дает мне возможность быть на уровне века в нашем не очень благородном деле.
— А почему не очень благородном? — удивляется Колокольчиков. — Почему вообще мы, мыслящие и рожденные для лучшей доли личности, должны ишачить на простых советских людей? Я не желаю этого!..
— Но ведь ишачите? — смеется Корнелий Телушкин. — Вы в своей конторе, Вадим на заводе. И потому давайте, Вася, без этих красивых слов о мыслящих личностях. Мыслите вы главным образом о том, как бы повкуснее пожрать, выпить да еще по части девочек…
— А вы?
— Да, и я тоже. И скрываю это только от милиции да от тех, кого мне нужно облапошить. Ну, а теперь хватит философии — займемся делом. Вадим, сбегай-ка на кухню и извлеки там из холодильника бутылку шампанского.
— Вот это дело! — восхищенно вопит бывший Ковбой.
— Нет, это не дело, — поправляет его Корнелий. — О деле я доложу вам перед тем, как мы наполним бокалы этим благородным напитком.
Вадим поспешно уходит на кухню, а заинтригованный Колокольчиков заискивающе смотрит в глаза своему шефу.
— Видно, что-нибудь феноменальное?
— Достаньте-ка лучше фужеры из буфета.
Пока Вадим освобождает пробку бутылки от проволочек, Колокольчиков проворно расставляет фужеры на письменном столе Корнелия.
— Открывать? — спрашивает Вадим.
— Погоди, сначала я оглашу нашу новую декларацию. Отныне прекращается вся наша деятельность по так называемой фарцовке. Это слишком мелко и недостойно дельцов с размахом.
— Только поэтому! — недоумевает Колокольчиков, снискавший себе славу одного из лучших фарцовщиков столицы.
— Нет, не только. А главным образом потому, что мне сделано более солидное предложение. С завтрашнего дня мы начнем торговать с иностранцами господом богом.
— Иконками? — догадывается Колокольчиков, не выражая при этом особого энтузиазма.
— Да, иконками. Но не теми, которые мы скупали у богомольных подмосковных старушек, а произведениями живописного искусства. Шедеврами великого живописца пятнадцатого века Андрея Рублева. Слыхали о таком?
— Да нет, откуда нам… — вяло отзывается Вадим.
— Ну, ты-то известный лапоть, — беззлобно ухмыляется Корнелий. — Тебе действительно неоткуда это знать. А вот Вася знает, конечно.
— Да, я знаю. А где их взять, эти шедевры?
— Будем делать, — бодро заявляет шеф корпорации бывших фарцовщиков.
— То есть как это — делать?
— Ну, подделывать. Какая разница?
— А такая, что это будет явной липой, иностранцы ведь не дураки. Те, кому нужен Рублев, наверное, неплохо в нем разбираются. И потом, существует ведь специальная экспертиза…
— Все правильно, — соглашается Корнелий. — Но дело в том, что тот, который сделал мне предложение поставлять ему шедевры Рублева, такой же мошенник, как и мы. Не понимаете? Сейчас объясню.
— Давайте, может быть, сначала выпьем? — умоляюще произносит Вадим. — Без пол-литра, как говорится…
— Потерпи! — машет на него рукой Корнелий. — Ты и в трезвом-то виде худо соображаешь. Ну, так вот, тот иностранец, с которым меня сегодня познакомили, сам предложил мне заняться таким мошенничеством. Он снабдит нас красками. Они по своему химическому составу ничем не будут отличаться от тех, которыми пользовались современники Рублева. Нам остается только подыскать живописца. Я думаю, Лаврентьев возьмется рисовать православных наших богов под Рублева.
— А на чем? Полотно тоже ведь должно быть старинным.
— Будем писать на старых иконах, пропитанных ладаном и запахом лампадного масла. Такие иконы можно раздобыть у тех же старушек, а за более приличное вознаграждение и у служителей православной церкви.
— В крайнем случае можно и спереть, — предлагает Вадим.
— Нет, — категорическим тоном возражает Корнелий. — Мы не будем обострять наших отношений с милицией, это нам ни к чему. И вообще — как можно меньше противозаконий. Торгуя с иностранцами, будем продавать только бога, а не родину, И если, не дай бог, засыпемся — сделаем вид, что считали это антирелигиозной деятельностью.
— Нет, вы все-таки голова! — теперь уже совершенно искренне восхищается Колокольчиков. — С вами не пропадешь. Представляю себе, как бы вы развернулись за границей при их свободе предпринимательства.
— Да там нас с потрохами бы проглотили не только крупные, но и средние дельцы. Там без миллионных капиталов и мечтать нечего о настоящем бизнесе. Маркса нужно читать, дорогой мой мелкий предприниматель Вася Колокольчиков! — дружески хлопает своего компаньона по плечу Корнелий.
— Да, пожалуй… — с невольным вздохом признается Колокольчиков. — А кто же все-таки этот иностранец, с которым будем мы иметь дело?
— Американский журналист Джордж Диббль, сотрудник научного журнала.
— Наверно, даже какой-нибудь ученый?
— Да, похоже, хотя и делает вид, что поставляет в журнал лишь биографические факты из жизни иностранных ученых.
— И зачем же такой человек затевает…
— Понимаю, что вы имеете в виду, Вася. Мне тоже показалось это подозрительным. Но тот, кто познакомил меня с ним, дал мне понять, что ему это нужно не для коммерции, а для того, чтобы оставить кого-то в дураках. Американцы — они ведь большие оригиналы, а мы на этом деле можем неплохо заработать.
8
Как только Алексей Русин просыпается на другой день, он сразу же идет к окну в надежде увидеть Варю за утренним туалетом. На ее окне уже раздвинуты занавески, хорошо виден столик, но самой Вари нет.
Алексей торопливо оборачивается к настольным часам. На них восемь. Значит, Варя уже закончила свой туалет. Он длится у нее ровно час, с семи до восьми. Теперь она завтракает, наверно, а потом уйдет на работу. Алексею известно, что работает она чертежницей в техническом отделе какого-то завода. Он никого не расспрашивал об этом — узнал случайно из разговора лифтерш. А как же было им не знать о ней всех подробностей, если Варя Кречетова — самая популярная девушка на их улице. По ней «сохнут» многие парни, а один даже пытался покончить самоубийством.
Нравится она и Алексею, хотя он даже себе не хочет в этом признаться. Делает вид, что тут одно лишь любопытство.
Из соседней комнаты слышны теперь тяжелые шаги отца. Значит, он встал уже и прохаживается по своему кабинету, обдумывая идею какой-нибудь прочитанной за ночь книги.
— К тебе можно, папа? — стучится Алексей в его дверь.
— Да, заходи, пожалуйста.
Отец в своем старомодном халате, подпоясанном толстым шелковым шнуром. Высокий, длиннолицый, он очень похож на Шерлока Холмса. Особенно когда держит трубку в зубах. Курить он давно уже бросил, а с трубкой все еще никак не может расстаться. Уверяет, что она помогает ему думать.
— Знаешь, зачем я к тебе? — спрашивает Алексей. — Читал ты что-нибудь о метеорите, упавшем недавно в Америке?
— В котором нашли транзисторное устройство?
— А ты веришь в это?
— Если обнаруженный в нем кремний действительно имеет ту химическую чистоту, о которой пишут американские газеты, то его искусственное происхождение несомненно. Писали ведь, что он содержит лишь по одному атому примесей на сотни миллиардов атомов кремния. Это именно та чистота, которая требуется для полупроводниковых приборов, применяемых в самой совершенной радиоэлектронике.
— Но ведь это бесспорное свидетельство…
— А я не уверен, — перебивает Алексея Василий Васильевич. — Слишком мало данных для таких выводов.
— Ты скептик. Думаешь, может быть, что полупроводниковый кремний попал в метеорное тело в результате столкновения его с каким-нибудь из наших или американских спутников? Кремний обнаружен ведь внутри большой массы метеорита.
— А я все-таки считаю, что это еще одна из загадок нашей солнечной системы. Самая же большая загадка — наша Земля. Подлинная «Terra incognita»!
— Как и вообще все планеты.
— Да, пожалуй. И уж во всяком случае, они загадочнее звезд. Не случайно же кто-то из ученых сказал: «Нет ничего проще звезд». А выдающийся астроном Харлоу Шепли подтвердил это более обстоятельно: «Молекулы и молекулярные соединения живых организмов по сложности далеко превосходят атомные соединения неживой природы. Установлено, что химические соединения, имеющиеся в атмосфере Солнца, гораздо проще органических соединений гусеницы. Вот почему нам легче познать звезды, чем насекомых».
— А планеты?
— Планеты, конечно, тоже сложнее звезд, ибо они содержат в себе все то, что необходимо для органической жизни. Но не всякие планеты, а лишь те, которые имеют кору. Только на геологической, а следовательно, на коровой стадии эволюции планеты становятся возможными та дифференциация вещества и то усложнение и разнообразие химических реакций, которые необходимы для появления биологической формы движения материи. Некоторые ученые считают даже необходимым выделить геологические процессы, процессы формирования земной или вообще планетной коры, в самостоятельную форму движения материи, предшествующей биологической форме. Все, однако, полно загадок. Что мы знаем о Земле? Я уже не говорю о коре и мантии, даже о материках известно слишком мало. Дрейфуют ли они, как полагают некоторые? Например, немецкий ученый Вегенер. Кстати, известно ли тебе такое слово, как «Гондвана»?
Алексей напрягает память. Знакомое слово… И видимо, как-то связано с геологией, с историей материков. Ну да, конечно же, это название одного сплошного материка земного шара!
— Да, мне оно известно, папа. Я знаю также и теорию «расширяющейся» Земли, объясняющую, как из одного гигантского материка образовались пять ныне существующих.
— А тебе известно, что не все ученые согласны с этими теориями?
— Да, я знаю и это. Но теория «расширяющейся» Земли очень интересна. Ее поддерживает ведь даже такой знаменитый физик, как Поль Дирак. А венгерский профессор Эдвед высчитал, что земной радиус увеличивается в год на полмиллиметра. По его расчетам, через каждые пятьдесят миллионов лет происходит грандиозная перепланировка нашей планеты. Последний раз это произошло тридцать миллионов лет назад, значит до новой остается всего двадцать миллионов. А разве не интересно, что сближение континентов уменьшило бы нашу Землю и она стала бы похожей на современный Марс?
— Да, конечно, это очень привлекательно для вас, фантастов, — без особого энтузиазма соглашается Василий Васильевич. — Но серьезные ученые…
— Ошибаются и серьезные ученые, — перебивает отца Алексей. — Даже такие, как Эйнштейн. Он ведь, кажется, до самой своей смерти не соглашался признать, что микромир таков, каким описывают его уравнения квантовой механики. И союзником его в этом долгое время был не кто иной, как Луи де Бройль. Но для меня главное не в том, кто будет прав. Главное в неизбежном торжестве истины, а она постижима, если только вселенная конструировалась по законам логики. Пусть даже наисложнейшей, о всей сложности которой мы пока и представления, может быть, не имеем.
Василию Васильевичу нравится упрямство сына, хотя кажется, что использовать его следовало бы для достижения более высокой цели, чем писание научно-фантастических произведений.
Чтобы переменить тему разговора, он спрашивает Алексея:
— Помнишь, я рассказывал тебе историю исчезновения профессорского портфеля?
— Нашелся он? — без особого интереса спрашивает Алексей.
— Профессор просил меня никому не рассказывать о пропаже его портфеля. Имей это в виду и ты.
— А какие ты делаешь выводы из этого?
— Похоже, что он сообщил кому-то о происшествии со своим портфелем и там насторожились. Весьма возможно, что за научными секретами Леонида Александровича кто-то охотится.
— Какие же могут быть секреты у профессора, работающего над проблемами нейтрино, о котором толком никто из ученых ничего пока не знает? — удивляется Алексей.
— А вот он, может быть, узнал что-то такое, что другим неизвестно.
— Но ведь такие открытия публикуются…
— Опубликует, наверно, и он, а до того времени… И потом открытие его, может быть, таково, что о нем вообще не следует распространяться. Очень прошу тебя в связи с этим…
— Ладно, ладно! — смеется Алексей. — Можешь не сомневаться — буду нем, как сам знаешь кто.
— И еще один тебе совет, но уже из другой области: ты не очень-то разбрасывайся, не читай все подряд. Сосредоточься на главном, а главное для тебя — поиск достаточно убедительной причины гибели Фаэтона. И я бы искал ее не в космосе, не в метеоритах и астероидах, а в недрах нашей планеты. В тайнах ее ядра.
— А ты не можешь познакомить меня с этим профессором? — неожиданно спрашивает Алексей. — Как, кстати, его фамилия?
— Кречетов, Леонид Александрович. Однако познакомить тебя с ним сейчас, пожалуй, не совсем удобно. В другой раз как-нибудь.
— Дождусь я вас сегодня? — кричит из кухни рассерженная Анна Павловна. А когда они садятся, наконец, за стол, говорит Алексею: — Вчера я отважилась прочесть один из ваших сборников научной фантастики. Нужно же знать, чем так увлекаются современные мальчишки и девчонки.
— Ну и как?
— Во-первых, почти ничего не поняла. Раньше, во времена Жюль Верна, хоть что-то растолковывалось, а теперь пишут так, будто всем известно, что такое «красное смещение», «парадокс часов» и еще какой-то «фотометрический парадокс». А таких терминов, как «постоянная Планка», «постоянная Больцмана», «число Авогадро», не считая «парсек» и «астрономических единиц», больше в тексте, чем в нормальной человеческой речи.
— Но ведь сама же говоришь, литературой этой увлекаются и мальчишки и девчонки — значит, разбираются как-то во всем этом.
— Да, возможно, — пожимает плечами Анна Павловна.
9
Корнелий Телушкин развивает теперь энергичную деятельность. В антирелигиозном обществе получает он командировку в подмосковный поселок Тимофеевку. Там находится старинная церковь, священнодействует в которой воспитанник Одесской духовной академии отец Никанор. Об этом поведал Телушкину приятель его, художник-реставратор Михаил Лаврентьев. Он не раз уже помогал Корнелию обделывать его темные делишки. Привлек его Корнелий и к операции «Иисус Христос», кратко именуемой теперь «И. X.».
В Тимофеевку выезжают они тотчас же, как только Телушкин получает командировку, официальная цель которой — прочесть в поселковом клубе лекцию о современном православии и его идеологии.
— Ох, боюсь я за эту операцию, Корнелий, — вздыхает дорогой тщедушный, прыщеватый Лаврентьев. — Черт ведь его знает, как после твоей лекции отнесется к нам этот отец Никанор…
— Ты же уверяешь, что он человек интеллигентный, искренне верующий в бога?
— В том-то и дело! А ты ведь не можешь бога не разоблачать, раз твоя лекция антирелигиозная. Тогда уж лучше как-нибудь так сделать, чтобы он не слышал этой лекции…
— Наоборот, ему непременно нужно ее послушать. Это для тебя задача номер один. И не скрывай от него, что я твой приятель. Постарайся даже намекнуть ему, что я человек верящий если не в бога, то в какое-то высшее существо. А главное, что я бывший студент физико-математического факультета и произвожу будто бы какие-то непонятные тебе эксперименты по общению с этим высшим существом.
— Ну, а как же я ему объясню, почему ты антирелигиозные лекции читаешь? — недоумевает Лаврентьев, прозванный Богомазом, так как специализировался главным образом на реставрации старинных икон и вообще иконописной живописи.
— А этого ему и объяснять не надо. Это он и сам поймет, как только мою лекцию послушает, — смеется Корнелий. — А пойти на нее он, по-моему, должен. Любопытно ведь послушать идеалиста, читающего атеистические лекции. Все остальное я ему потом сам объясню, как только ты нас познакомишь.
В Тимофеевку они прибыли около шести. Телушкин сразу же является в поселковый Совет. Знакомится там с секретарем местной комсомольской организации Козыревым — лекция предназначается ведь в основном для молодежи.
— Ну-с, как у вас обстоит дело с аудиторией, молодой человек? — деловито осведомляется Корнелий, протирая свои заграничные очки в золотой оправе. Он очень дорожит ими и надевает лишь на периоды самых ответственных «операций». В этих очках у него необычайно импозантный вид. С добросовестностью киноактера он очень тщательно отработал перед зеркалом и жесты и мимику. На окружающих он производит впечатление интеллигентного, скромного, со вкусом одевающегося человека.
По просьбе Корнелия Колокольчиков даже снял его на пленку любительским киноаппаратом. Глава корпорации долго потом изучал себя на экране и обнаружил несколько дефектов в своей походке и костюме, что и было затем исправлено.
— Наша корпорация идет в ногу со временем, — любит говорить своим компаньонам Корнелий. — Она оснащена фото- и киноаппаратурой, магнитофонами для перезаписи дефицитных музыкальных новинок, мощными лупами и даже микроскопами — пока, к сожалению, школьными — для обнаружения фальшивок, которые иногда подсовывают нам конкурирующие с нами коллеги-бизнесмены. Главная наша задача теперь — поднять культурный и профессиональный уровень членов корпорации. Моя личная библиотека для этого в полном вашем распоряжении. Лекции по профессиональному мастерству придется читать мне самому. К сожалению, мы не располагаем возможностью публиковать их типографским способом.
Очки Корнелия, его хорошо поставленный голос и манеры производят сильное впечатление на секретаря комсомольского комитета. Он принимает его за серьезного ученого и даже немножко робеет.
— С обеспечением широкой аудиторией, сами понимаете, не так-то легко, — смущенно отвечает он на вопрос Корнелия. — Комсомольский актив будет, конечно. Ну, еще кое-кто из дачников. А верующих, сами понимаете…
— Но ведь главная наша забота, дорогой вы мой товарищ Козырев, именно о верующих, — деликатно поучает его Корнелий. — А комсомольцев, да еще актив, и агитировать нечего. Богомольцев бы побольше, особенно тех, кто помоложе, кого еще есть надежда отвратить от церкви.
— Так ведь не идут. Летняя пора, да и вечер сегодня, как нарочно…
— А вы бы самого батюшку пригласили! — восклицает вдруг Корнелий, будто сейчас только осененный этой идеей. — Батюшка-то, как мне известно, тоже молодой. Может быть, и в дискуссию со мной ввяжется. Это бы лучше любой лекции.
— Да что и говорить, чертовски заманчиво! — вздыхает Козырев. — Но как к нему подъехать?
— А чего особенно мудрить? Пошлите ему официальное приглашение, может быть, заинтересуется.
— Попробую, — без особой уверенности в успехе соглашается Козырев. — Пошлю с нарочным. Кстати, домик его недалеко от клуба.
До начала лекции у Корнелия остается еще полчаса, и он решает пройтись по поселку и заодно посмотреть на церковь.
Церковь эта, выстроенная в стиле «московского барокко» и недавно добротно отремонтированная, стоит на высоком берегу реки в небольшой рощице. Корнелий рассматривает ее издалека, чтобы не попадаться на глаза отцу Никанору раньше времени.
«Да, умели строить в доброе старое время, — отмечает он про себя. — Красивая церквушка. Надо полагать, на должном уровне и ее иконопись…»
К семи часам (хотя лекция назначена на половину седьмого) с трудом собирается человек пятнадцать комсомольцев, две девушки, работающие в поселковом Совете, да несколько пожилых дачников.
— Вы уж извините, — смущается Козырев, то и дело вытирающий мокрый от волнения лоб. — Лето… И потом в кинотеатре новый фильм. А это, сами понимаете…
— Ну, ничего, — снисходительно улыбается Корнелий. — Дело это не из легких, я понимаю. К тому же у вас это, наверно, впервые, хотя церквушка отца Никанора, кажется, на полном ходу?
— Да, к сожалению.
— А что, если мы по случаю малочисленности аудитории проведем вольную беседу вместо лекции? — обращается Корнелий уже не к Козыреву, а к собравшимся, заметив среди них Маврина и Колокольчикова. Они подсели к дачникам, держась подальше друг от друга. — А то ведь как-то не совсем удобно читать лекцию почти пустому залу. Как вы на это, товарищи?
— Правильно говорит товарищ лектор, — зычно подает голос Вадим Маврин. Он уже успел познакомиться со своим соседом, и тот энергично поддакивает ему. — А лекции — это же одна скукота. Я извиняюсь, конечно…
— Правильное предложение вносит товарищ, не знаю, к сожалению, его фамилии, — поддерживает Вадима Маврина Колокольчиков. — А вот, кстати, и батюшка, кажись, идет, — кивает он на окно. — Пусть с ним и подискутирует товарищ лектор. А мы послушаем…
— Ну так как, принимается, значит, это предложение? — спрашивает Козырев.
Собравшиеся одобрительно кивают головами.
А в зал в сопровождении Лаврентьева и нескольких старушек входит отец Никанор. У него совсем еще молодое, добродушное лицо, жиденькая бородка и длинные русые волосы. Корнелий жестом гостеприимного хозяина приглашает его вперед, но батюшка снимает соломенную шляпу и скромно садится в задних рядах.
— Прошу задавать вопросы, — предлагает Корнелий и поясняет, обращаясь к отцу Никанору: — Мы тут решили из-за малочисленности собравшихся вместо скучной лекции, как остроумно заметил один из присутствующих здесь граждан, провести беседу на вольную тему.
— Вы только, пожалуйста, не обижайтесь на этого дачника, — шепчет Корнелию Козырев, кивая на Вадима. — Дачники — они народ хамоватый.
— У меня есть вопрос, — поднимается со своего места Колокольчиков. — Тут ведь собрался в основном народ молодой и в бога все равно не верящий, а батюшку и старушек разубеждать в этом явно бессмысленно, поэтому давайте договоримся не требовать от товарища лектора доказательств того, что бога нет. В том случае, конечно, если батюшка не докажет нам, что он есть.
— Простите, товарищ, не знаю вашей фамилии, — обращается Корнелий к Колокольчикову. — Давайте сначала договоримся не оскорблять священника. Времена грубой антирелигиозной пропаганды, как вы знаете…
— Да что вы, товарищ лектор! — испуганно восклицает Колокольчиков. — Я и не думал… В крайнем случае могу и извиниться…
— Что вы, что вы! — испуганно простирает руки вперед отец Никанор. — Не надо мне никаких извинений! Молодой человек ничем меня не оскорбил. А доказывать вам существование бога я не собираюсь. Доказать это, к сожалению, так же нелегко, как и опровергнуть его существование.
— Ну, так позвольте мне тогда продолжить мой вопрос, — просит Колокольчиков. — Вот что хотелось бы нам узнать у товарища лектора: правда ли, что великий русский физиолог Иван Петрович Павлов был верующим?
— Очень хорошо, что вы задали именно этот вопрос, — одобрительно кивает головой Корнелий. — Я постараюсь рассеять это бытующее, к сожалению, даже у атеистов заблуждение… Прежде, однако, я должен напомнить вам, как Иван Петрович Павлов понимал религию. На одной из своих клинических «сред» о происхождении веры говорил он следующее.
Корнелий торопливо листает свой конспект и, поправив очки, читает:
— «Когда человек впервые превзошел животное и когда у него явилось сознание самого себя, то его положение было до последней степени жалкое: ведь он окружающей среды не знал, явления природы его пугали, и он спасал себя тем, что выработал себе религию, чтобы как-нибудь держаться, существовать среди этой серьезнейшей, могущественнейшей природы». Такое толкование Павловым происхождения религии совпадает, конечно, с точкой зрения исторического материализма.
— Значит, он признавал веру? — снова спрашивает Колокольчиков.
— Да, в какой-то мере и только для слабых. «Вера существует для того, чтобы дать возможность жить слабым», — говорил Иван Петрович.
— Он выражался и более ясно, — бросает вдруг реплику отец Никанор. — Он заявлял: «Есть слабые люди, для которых религия имеет силу».
— А откуда это, извиняюсь, батюшке известно? — подает голос Вадим Маврин.
— Читает, наверно, не только библию, — высказывает предположение Корнелий.
— «Павловские клинические среды», например, — подтверждает отец Никанор. — Том третий, страница триста шестидесятая.
— Вот видите, — улыбается Корнелий. — И вообще должен я вам сказать, мы недалеко пойдем в нашей атеистической деятельности, если всех церковников будем изображать людьми невежественными, незнакомыми с достижениями современной науки. Даже в православных духовных академиях преподаются теперь естественные науки, а высшее духовенство католической церкви, кардиналы и епископы вообще люди высокой культуры. Покойный папа римский боролся к тому же за мир во всем мире.
— Куда же это мы попали?! — вскакивает вдруг Вадим Маврин. — За кого нас тут агитируют? Против попов или за попов? Ничего себе лектора нам прислали!..
— Ведите себя как полагается, товарищ! — повышает голос Козырев.
— А чего вы его осаживаете? Он правильно говорит, — поддерживает Вадима его седоволосый сосед. — Когда я комсомольцем был, разве так мы с попами боролись? Мы тогда в их церквах комсомольские клубы устраивали. А сейчас против них и слова нельзя сказать. Если не в милицию за это потащат, то извиняться заставят. А за что извиняться? За то, что мы их религиозный дурман разоблачаем?
— И лектор тоже, видать, из бывших попов!.. — уже совсем не в себе вопит Вадим Маврин.
— Ну, знаете ли, товарищ Козырев!.. — повышает голос Корнелий. — Раз меня так оскорбляют тут, я лучше уйду…
— Нет, уж лучше тогда я уйду, — встает отец Никанор. — А вы продолжайте свою работу, гражданин лектор.
— Это же безобразие, товарищи! — стучит стаканом по графину с водой Козырев. — Форменное хулиганство! Я сейчас милицию вызову…
— Вот-вот! — ехидно ухмыляется сосед Вадима Маврина. — А я что говорил? Перед батюшкой пардоны, а нашего брата в милицию. Дожили…
Отец Никанор между тем успевает выйти вместе со своими старушками.
Тогда снова поднимается Колокольчиков.
— Может быть, теперь, когда священнослужитель, так действующий на нервы некоторым молодым и пожилым комсомольцам, удалился, дадим возможность товарищу лектору закончить свою беседу?
— Правильное предложение! — выкрикивает кто-то из поселковых комсомольцев. — Хватит этим дачникам волынить!
Корнелий с хорошо разыгранным волнением долго пьет воду. В зале воцаряется тишина.
— Ну хорошо, я продолжу, — примирительно произносит он наконец. — Жаль однако, что батюшке пришлось ретироваться. Он ведь выслушал только позитивную, так сказать, часть моей оценки высшего духовенства, что, как вы понимаете, было с моей стороны чисто ораторским приемом. А теперь, к сожалению, уже в его отсутствие придется мне рассказывать вам, почему же приходится современному духовенству изучать естественные науки и даже марксизм. Конечно, не от хорошей жизни, товарищи.
В зале понимающе улыбаются.
— С этого бы и надо было начинать! — снова выкрикивает Вадим, но на него шипит теперь даже его сосед.
— Полемика — дело тонкое, требующее дипломатии, дорогой товарищ, — обращается теперь уже к Вадиму Корнелий.
— Да не отвлекайтесь вы на него, — недовольно произносит кто-то из комсомольцев.
И Корнелий начинает обстоятельно разоблачать ухищрения духовенства, спекулирующего на терпимости Ивана Петровича Павлова к религии. Излагает он вкратце и материалистическое мировоззрение великого физиолога.
Беседа его кончается в девятом часу. К этому времени подходит еще кое-кто из жителей поселка, так что зал заполняется почти до половины. Это дает основание Козыреву написать в отзыве на путевке Корнелия Телушкина, что его интересная лекция прошла при переполненном зале.
10
Леониду Александровичу Кречетову очень легко разговаривать с майором Ураловым. По его вопросам чувствуется, что он сведущ если не в геофизике, то в физике бесспорно. А потом профессор не без удивления узнает, что Уралов имеет степень кандидата физико-математических наук, и ему даже кажется, что майору государственной безопасности оно ни к чему.
Наблюдательный майор Уралов замечает это удивление на лице ученого, но лишь снисходительно улыбается — не рассказывать же профессору, как кандидатская степень помогла ему однажды поймать «электронного шпиона», передававшего секретную информацию с одного из наших полигонов.
— Вы полагаете, значит, что подобные эксперименты ведутся и еще кем-то? — спрашивает он профессора.
— Не могу этого утверждать, но такой вывод напрашивается. Институт физики Земли сообщил мне сегодня, что периоды проведения экспериментов академиком Ивановым совпадают, оказывается, не только с сейсмическими явлениями, но и с изменением напряжения геомагнитного поля.
— А в чем это выражается? — интересуется майор Уралов. — В каких единицах?
— Всего в нескольких гаммах, но ведь и интенсивность магнитного поля Земли равна лишь трем десятым эрстеда. А гамма…
— Равна одной стотысячной эрстеда, — улыбаясь, перебивает Кречетова майор Уралов. — В этом я кое-что смыслю, Леонид Александрович. Ну, а почему вы решили, что подобные же эксперименты проводит и еще кто-то?
— Дело, видите ли, в том, товарищ майор, что сотрудники Института физики Земли, тщательно изучившие по моей просьбе сейсмические явления за последние три месяца, обнаружили любопытные совпадения. Оказалось, например, что такого же характера колебания земной коры, которые были зафиксированы в момент экспериментов академика Иванова, зарегистрированы и по ту сторону нашей планеты.
— А это не те же самые?
— Нет, не те же. Они, во-первых, не совпадают по времени, во-вторых, несколько большей интенсивности и, в-третьих, таких явлений не пять, а семь. И все они, как и в нашем полушарии, отождествляются с точно таким же изменением земного магнитного поля.
— А может быть, это обычные магнитные вариации типа S-вариаций?
— Период этих вариаций равен солнечным суткам и зависит от состояния ионосферы и солнечной активности. А тут наблюдалось лишь очень кратковременное изменение постоянного магнитного поля.
Майор Уралов некоторое время молчит, задумчиво прищурив глаза. Потом спрашивает:
— И вы уверены?…
Но профессор Кречетов тотчас же торопливо перебивает его:
— Нет, нет, абсолютной уверенности, конечно, нет. Да и академик Иванов не разделяет пока моей точки зрения. Считает все это случайным совпадением. Он, правда, не знает еще об изменении интенсивности геомагнитного поля, не думаю все же, чтобы это его убедило в моей правоте. О природе магнитного поля нашей планеты вообще ведь мало что известно. Я бы, пожалуй, и не пришел к вам со всеми этими моими смутными догадками и подозрениями, если бы не сообщил вам раньше о пропаже моего портфеля, хотя связь этого происшествия с теми геофизическими явлениями, о которых я вам только что доложил, может показаться вам…
— Нет, нет, Леонид Александрович, мне это не кажется! — поспешно заявляет Уралов. — У нас есть некоторые основания подозревать «нездоровый», так сказать, интерес к вашей и академика Иванова работе со стороны некоторых иностранных разведок. Нам известно так же, что работы, подобные вашим, ведутся и по ту сторону океана. А то, что их держат в секрете, заставляет подозревать, что носят они не только научный характер. Как по-вашему, могут эти искусственные землетрясения быть «направленными», так сказать? Вы понимаете мою мысль?
— Да, вполне, товарищ майор. Я даже думал уже об этом. Мне кажется, что вызвать подобное сейсмическое явление в любом или специально заданном районе нельзя. Они, видимо, будут возникать главным образом в сейсмических зонах земною шара.
— А магнитные явления? Могут они нарушить радиосвязь?
— Это более вероятно, хотя и в этом у меня нет пока полной уверенности.
— Ну, а тот молодой человек, который задавал вам вопросы из области нейтринной физики, не попадался вам больше?
— Как в воду канул. Да это и понятно, если именно он стащил мой портфель, — усмехается профессор Кречетов. — Ну, вот и все, что я пока могу сообщить, товарищ майор.
— Спасибо вам и за это, — встает и крепко пожимает руку Кречетову майор Уралов. — Надеюсь, если еще что-нибудь…
— Можете не сомневаться, товарищ майор. Считаю это своим патриотическим долгом.
11
После завтрака Алексей идет в кабинет отца и достает с его полок книги Щербакова, Карпинского, Шмидта, Белоусова, Харлея. А когда уже заканчивает отбор нужной литературы, на глаза ему попадается книга Харлоу Шепли. Он машинально раскрывает несколько первых ее страниц и читает очень коротенькое предисловие автора, которое не прочел прежде из-за органической нелюбви ко всякого рода напутственным словам.
По мере чтения он все более сожалеет теперь, что не прочел этого раньше. «Если бы этой книге предшествовало посвящение, — писал Шепли, — то прежде всего оно, вероятно, было бы обращено к свету звезд, насекомым, галактикам, а также к ископаемым растениям и животным, так как именно они вдохновили автора написать эту книгу».
Алексей так взволнован этими простыми словами, что на некоторое время забывает даже, зачем зашел в кабинет отца. Возвращает его к действительности голос матери:
— Алеша, к тебе пришли.
Алексей хочет пройти в свою комнату, но в кабинет отца уже вваливается Сидор Омегин.
— Прости, дорогуша, что я к тебе без телефонного звонка, — гудит он. — Но я ненадолго — за одной справочкой. Знаю, что ты человек эрудированный, потому прямо к тебе. Можно было бы, конечно, и к Фрегатову или к кому-нибудь из ученой братии, но те могут еще и высмеять за невежество…
— За невежество и я, пожалуй… — хмурится Алексей, недолюбливающий Омегина за его бесцеремонность в обращении со своими коллегами по жанру и тот глубокомысленный туман в его произведениях, который очень часто отдает «развесистой клюквой».
— Да, может быть, и ты тоже, — торопливо перебивает его Омегин. — Пожалуй, даже и стоит… Но ты же не пойдешь потом всем трепаться, как Фрегатов, что Омегин лапоть и неуч? Я же тебя знаю, ты человек деликатный, а Фрегатов так даже анекдоты сочиняет о моем якобы невежестве…
— Ну, хорошо, давай все-таки ближе к делу, — останавливает его Алексей.
Но Омегин уже ходит вдоль многочисленных полок библиотеки Василия Васильевича, удивленно посвистывая.
— Ну и библиотечище! И все научные. А научной фантастики не держите, значит?
— Это отцовские, — недовольно отвечает Алексей. — Он не держит.
Видя, что Алексей хмурится все больше, Омегин переходит, наконец, к цели своего прихода.
— Вот ты очень горячо выступал вчера по поводу постоянства скорости света. Я, конечно, знаю, что это одна из физических констант, но мне всегда казалось, что есть в этом какой-то элемент метафизики. Потому я и позволяю своим космонавтам летать с суперсветовыми скоростями. А вот сегодня в одном научно-популярном журнале прочел, будто и современной наукой ставится эта константа под сомнение. Что ты на это скажешь? Мне ведь это очень важно для моего нового романа.
— Я не знаю, какими данными располагает редакция почтенного журнала, ставя под сомнение эту константу, но вот что говорит по этому поводу такой всемирно известный ученый, как Макс Борн.
Алексей берет с полки книгу «Физика в жизни моего поколения» и читает:
— «Теория относительности утверждает, что не только скорость света одна и та же для всех движущихся относительно друг друга наблюдателей, но не существует никакого другого более быстрого средства для передачи сигналов. Это утверждение является дерзостью — откуда можно знать, не перешагнет ли будущее исследование эти границы? На это можно ответить: развитая из этого предположения система физики свободна от внутренних противоречий. Ее законы автоматически предсказывают, что никакому телу и никакой групповой волне, с помощью которых можно было бы передавать сигналы, нельзя придать скорость, большую скорости света… И это утверждение опять-таки подтверждено многочисленными точными экспериментами».
Внимательно выслушав мнение Борна, Сидор Омегин неопределенно пожимает плечами. На крупном, мясистом лице его явная неудовлетворенность.
— Не убеждает? — не скрывая иронии, спрашивает его Алексей Русин.
— Да, не очень. Это я и без Борна знал. К тому же сам Борн теоретик старой школы.
— А Фок?
— Какой Фок?
— Наш академик Фок какой, по-твоему, школы?
— Ну, Фок, конечно, другое дело. А что, он тоже?…
— Да, утверждает то же самое. В одной из своих последних статей он написал: «При приближении скорости тела к скорости света масса тела неограниченно возрастает; вследствие этого ни одно материальное тело ни в одной системе не может достичь скорости света».
— Ну ладно, спасибо за консультацию, — не очень довольно произносит Омегин. — Значит, эта догма пока еще нерушима для наших академиков? Однако в наших молодежных научно-популярных журналах мыслят, видимо, прогрессивнее… И, знаешь, я все-таки на них буду ориентироваться и не стану переделывать своего романа.
— Делай как знаешь…
— Да, и вот еще что чуть не забыл тебе сказать, — спохватывается Сидор, собираясь уже уходить. — Я сосватал тебя вчера одному иностранному журналисту.
— То есть как это — сосватал? — удивляется Алексей Русин.
— Порекомендовал ему к тебе обратиться. Когда ты ушел вчера из Дома литераторов, к нам привел его кто-то из комиссии по иностранной литературе. Представил как корреспондента американского научно-популярного журнала. Он, оказывается, проявляет интерес к нашим фантастам. А конкретно — к пишущим о тайнах земного ядра. Я и назвал ему тебя. Так что он может позвонить или даже зайти к тебе. Очень энергичный джентльмен. Фамилия его Диббль, Джордж Диббль.
— Ты оказал мне ту услугу… — хмурится Алексей. — И не очень понятно: с чего это вдруг у американского журналиста интерес к такой теме?
— Говорит, что в связи с предстоящим проведением нового Международного геофизического года. И особенно из-за новых попыток сверхглубинного бурения по проекту «Мохол». В этом году возобновят его, кажется, и у нас и в Америке. Да, кстати, почему этот проект называется «Мохол»? Если в честь югославского сейсмолога Мохороховичича, то уж скорее тогда «Мохор».
— Ты порадовал меня не столько своей эрудицией по данному вопросу, — усмехается Алексей, — сколько любознательностью, которой я в тебе прежде не наблюдал.
— Пришлось кое-что почитать, — простодушно признается Омегин. — Жора Диббль обещал встретиться со мной и поговорить о моих творческих планах. Ну, а что же такое этот «Мохол»?
— Гибрид из фамилии Мохороховичича и английского слова «hole» — скважина: «Мохол».
— Ну, спасибо. Теперь мне не нужно рыться по разным книгам. А тебе я сначала позавидовал, но, наверно, это ужасно все-таки — иметь так много книг? Ну, будь здоров и извини за беспокойство. Привет мамаше!
12
Алексей Русин просыпается около семи утра. Солнце уже заглядывает в окно, отбрасывая длинные тени кактусов, стоящих на подоконнике, на большой, до блеска отполированный письменный стол. Нужно вставать и делать зарядку, но Алексею хочется полежать немного, насладиться утренней тишиной — дома все еще спят, на улице тоже тихо.
В голове ясные, четкие мысли. Радостно видеть рождение нового дня. Наверно, это совсем-совсем новый день планеты или новый миг вселенной, дальнейшее развитие ее галактик, звезд и планет. И не может быть, чтобы все это уже было когда-то именно таким же, если даже вселенная «осциллирует» или «пульсирует». Не верится Алексею, чтобы все повторялось точь-в-точь через любые миллиарды лет. После каждой катастрофы материя вселенной формируется, наверно, из новых, все более совершенных элементов. Сейчас это лептоны, мезоны, нуклоны и гипероны, а в предшествующем цикле, пятнадцать-двадцать миллиардов лет назад, было, пожалуй, что-то более простое, менее развитое, может быть, доатомное.
Как все удивительно сложно! А что происходит в период сжатия вселенной? Особенно когда она уже сжалась в сверхплотную ядерную каплю? Куда девается тогда пространство, оно ведь немыслимо без материи?…
Невообразимо труден этот вопрос! Скорее всего вселенная все-таки пульсирует между какими-то крайними точками расширения и сжатия, но не сплющивается до сверхплотной капли.
Но и тут много неясного, а Алексей так любит ясность. Когда он вычитал у Шепли, что существует определенная пропорциональность между атомом водорода, человеком и Солнцем, он буквально ликовал весь день, сообщая об этом чуть ли не каждому встречному. Ведь это и в самом деле знаменательно, что человек является средним геометрическим между звездами и атомами!
Нужно вставать, однако…
И Алексей встает, распахивает окно и, конечно же, не может удержаться от того, чтобы не бросить взгляд на третий этаж противоположного дома, хотя и знает, что Варя никогда не появляется у своего окна так рано.
Зарядку он всегда делает очень усердно, по системе, разработанной им самим.
И снова мысли о повести, которую он окончательно решается коренным образом переработать. За эти несколько дней он перечитал много книг по геологии и геофизике. Да, тайн тут немало. Не ясно ведь до сих пор: расширяется ли Земля? Дрейфуют ли материки? Из чего состоит мантия планеты? Даже о земной коре знаем мы, оказывается, слишком мало. Понятие земной коры появилось еще тогда, когда полагали, будто Земля раскаленный шар, покрывшийся твердой коркой в результате остывания. Но теперь почти не остается сомнений, что планета наша родилась холодной и лишь потом, в результате радиоактивных процессов, стала разогреваться. Что же в таком случае считать ее корой?
А сколько еще неясного, спорного, противоречивого? Даже то, что нижний слой коры базальтовый, известно лишь предположительно, на основании лабораторных опытов.
И все-таки Алексея радует то бесспорное и логически обоснованное, что удалось достигнуть геофизикам. — Ты скоро кончишь свою зарядку? — кричит из кухни Анна Павловна. — Папе сегодня нужно уйти пораньше, и завтрак уже готов.
Размышляя над тайнами планеты, Алексей и не заметил, как растянул свою физзарядку чуть ли не на полчаса. Спохватившись, он спешит в ванную, не забыв заглянуть в окно. Ну да, Варя уже на своем месте!
«Железная у нее система», — усмехается Алексей. И хотя занятие ее считает он несерьезным, неуклонное выполнение ею косметической процедуры всегда в одно и то же время нравится ему. «По всему видно, у девушки есть характер. Чего не скажешь о ее вкусе…»
Это уже в адрес Вадима Маврина.
— А куда это ты торопишься сегодня, папа? — спрашивает он Василия Васильевича за завтраком.
— Да так, разные дела, — уклончиво отвечает Русин-старший.
— Наверно, опять в связи с профессором Кречетовым?
— Да, в связи с ним. Похоже на то, что в нашу библиотеку стал приходить какой-то человек, проявляющий подозрительный интерес к профессору Кречетову.
— И ты сам это заметил?
— Да, сам. Но, может быть, мне это только показалось… После того как Кречетов рассказал мне о своем портфеле, мне теперь все время кажется, что вокруг снуют какие-то подозрительные личности.
— Но ведь ваша библиотека только для сотрудников вашего же института?
— Не только нашего. Да я и наших-то не всех знаю в лицо. Особенно аспирантов.
13
С отцом Никанором Корнелий встречается спустя два дня в Москве, на квартире Лаврентьева.
— Я специально просил моего друга Михаила Ильича Лаврентьева помочь мне встретиться с вами, — начинает он разговор с батюшкой, почтительно кланяясь и не зная, как лучше называть его: отцом Никанором или гражданином Преображенским. Решил, однако, ограничиться одними местоимениями. — Мне очень прискорбно вспоминать тот вечер…
— О, полно вам! — машет рукой отец Никанор. — Не стоит об этом. А с вами я и сам хотел повидаться, поблагодарить за непредвзятость к священнослужителям. За то, что не только не чернили их, но и отдали должное тем, кто мыслит высокими категориями современной науки, продолжая искренне верить во всевышнего.
— Вот именно — во всевышнего! — горячо подхватывает Корнелий. — Но не в смысле бога, а как высшего проявления мирового духа, хотя атеисты уверяют, что это одно и то же.
— Да ведь и я тоже так полагаю…
— В принципе — да, но есть и разница, особенно для тех, кто мыслит неглубоко, формально. Бог у них ассоциируется с живописными и часто бездарными изображениями Христа на стенах храмов. Да простит мне эти слова мой друг Михаил Ильич, ибо я не его искусство имею в виду. А это шокирует интеллигентных людей.
Отец Никанор делает робкий протестующий жест, но Корнелий не дает ему возможности произнести ни слова и начинает говорить так быстро, что священник едва успевает следить за ходом его мысли.
— Да, да, я понимаю всю сложность общения с простым народом. Необходимость… — он чуть было не произнес «наглядных пособий», — необходимость зримого образа бога для большей силы воздействия на верующих из простонародья. Но тут мы одни и можем говорить о боге, не прибегая к символике живописного искусства, языком философской идеи о боге, не воплощенном в человекоподобный облик. Вы уже знаете, наверно, что я физик по образованию…
— Да, мне поведал об этом Михаил Ильич.
— И что антирелигиозные лекции я вынужден…
— Да, это я тоже понимаю и вполне вам сочувствую.
— Главная же моя цель, — теперь уже более спокойно продолжает Корнелий, — доказать существование всевышнего или мирового духа не словами, ибо достаточно убедительно этого никому еще не удавалось сделать, а экспериментом. Да, да, совершенно реальным физическим экспериментом!
— Михаил Ильич поведал мне и об этом, — понимающе кивает русоволосой головой отец Никанор. Он кажется теперь Корнелию совсем зеленым студентиком, готовым поверить любому слову маститого профессора.
— Ему трудно было поведать вам это, ибо он человек гуманитарного образования, очень смутно представляющий себе все тупики современных естественных наук, особенно физики, — степенно продолжает Корнелий. — А вы, Никанор Никодимович… Позвольте мне называть вас вашим мирским именем?
— О, пожалуйста, пожалуйста! — снова энергично кивает головой отец Никанор и заметно краснеет.
— А вы, Никанор Никодимович, совсем недавно изучали в духовной академии естественные науки и, как мне известно, работаете теперь над диссертацией кандидата богословских наук.
— Да, имею такое намерение, Корнелий Иванович.
— Вам, конечно, приходилось читать космогонические работы аббата Леметра, отца теории «расширяющейся вселенной», доказавшего акт творения мира? Знаете вы, конечно, и сторонника Леметра, английского физика Эддингтона, которого, как мне известно, очень чтят в папской академии в Ватикане.
— Это он, кажется, сосчитал точное число протонов и электронов во вселенной? — спрашивает отец Никанор, проникаясь все большим уважением к эрудиции Корнелия.
— Да, он. Однако после обнаружения новых элементарных частиц, ему пришлось пересчитать их и дать новое, более точное число. Знакомы вы, наверно, и с работами западногерманского физика Вернера Гейзенберга?
Отец Никанор слышал и эту фамилию, но ничего из его работ не читал. Он и об Эддингтоне-то имел весьма смутное представление, ибо курс естественных наук в духовной академии был ничтожен. Но чтобы не казаться своему собеседнику неучем, он хотя и робко, но утвердительно кивает на его вопрос.
От Корнелия не ускользает эта робость его кивка. Да у него и без того нет никаких сомнений, что «попик» ничего не должен смыслить в квантовой механике, о которой и сам-то Корнелий имеет весьма смутное представление. Однако он читал кое-какие научно-популярные статьи и усвоил такие ее термины, как «соотношение неопределенности» и «принцип дополнительности» и любил щегольнуть ими в разговоре с недоучками. Известны ему и некоторые философские заблуждения Гейзенберга. Поэтому-то он и спекулирует теперь его именем.
— Известно вам, конечно, и такое выражение, как «свобода воли электрона». Наука не может одновременно определить ни точной скорости его, ни точной координаты.
Отец Никанор вспоминает теперь, что что-то подобное внушали ему и в академии. А Корнелий надеется, что ему не должно быть известно о «принципе неопределенности», объясняющем «свободу воли» электрона.
— Да и что вообще остается от материи в мире микрообъектов? На какие органы чувств могут действовать микрочастицы, если мы «общаемся» с ними лишь при помощи экспериментальной аппаратуры? — энергично жестикулируя, продолжает развивать свою мысль Корнелий. — Да и не с ее помощью даже, а посредством математического аппарата, то есть с помощью абстрактных математических формул, начертанных на листке бумаги. Разве удивительно после всего этого, что об электроне никто не может сказать ничего определенного? То он частица-корпускула, то волна, и никому не ведомо, когда переходит он из одного состояния в другое. А разве знает кто-нибудь его точные границы? Одни уверяют, что они существуют, другие утверждают, будто электрон «размазан», не локализован. Вы меня понимаете?
— О да, конечно! — поспешно подтверждает отец Никанор.
— И вот, опираясь на все эти противоречия, я решил поставить эксперимент, который неопровержимо доказал бы не только нематериальность микромира, но и подвластность его лишь всевышнему.
Корнелий умолкает, искусно разыгрывая волнение. Молчит и отец Никанор, не зная, что сказать или, может быть, сомневаясь в услышанном. Молчание его длится так долго, что у Корнелия начинают появляться тревожные мысли:
«А не догадался ли попик, что я его дурачу? Хоть и не похож он на очень сообразительного, но черт ведь его знает, этого батюшку с высшим духовным образованием…»
— Наверно, это нелегко вам одному? — произносит, наконец, отец Никанор.
— И не говорите, Никанор Никодимович! — облегченно вздыхает Корнелий. — Весь мой скромный заработок уходит только на это. Но дело не в средствах, а в необходимой аппаратуре. Не могу же я, частное лицо, приобрести ее в научно-исследовательском институте. Конструирую кое-что сам, но в настоящее время нахожусь в тупике — нужны детали, которых самому не сделать.
— А что, если я поговорю об этим с моим духовным начальством? — взволнованно предлагает отец Никанор, так и просияв весь от этой мысли. — Поставлю их в известность о вашей благородной идее и попрошу…
— Нет, нет, отец Никанор! Ради бога, не говорите пока никому! Не вынуждайте меня сожалеть, что я доверился вам…
— О, простите, пожалуйста! Не знал я, что вы к этому так…
— Да, для меня это дело чести. Хочу самостоятельно… И это не прихоть, в этом есть свой смысл.
— Понимаю, понимаю вас. Но позвольте мне лично, уже как частному лицу, хоть чем-нибудь помочь вам.
— Не знаю, право, чем могли бы вы?… — Корнелий хорошо разыгрывает раздумье и, будто осененный внезапной мыслью, произносит: — Вот разве чем: мне представляется возможность через одного иностранного ученого раздобыть за границей необходимую аппаратуру. Но…
— Нужны деньги? — с готовностью отзывается отец Никанор.
Корнелий смущенно молчит, будто не решаясь назвать того, что ему необходимо. Отец Никанор настороженно ждет.
— Нужны иконы, отец Никанор… — произносит он наконец, глядя куда-то в сторону.
— Иконы?
— Да, наши православные иконы, до которых, как вы, наверно, знаете, так охочи иностранцы. А этот ученый — страстный коллекционер русской иконописи…
— Понимаю, понимаю, Корнелий Иванович, — сосредоточенно морщит лоб отец Никанор. — И постараюсь как-нибудь вам помочь, хотя это и не легко. У нас тоже, знаете ли, все заинвентаризовано. А личных у меня одна только божья матерь — подарок моей покойной матушки.
— Да нет, зачем же это! Мне не нужны иконы ни из церкви вашей, ни личные. Но от друга моего Лаврентьева, реставрирующего у вас настенную живопись, известно мне, что есть у вас нечто вроде запасничка…
— Но ведь там иконы, пришедшие почти в полную негодность. На них и ликов-то не разглядеть…
— Но зато, наверно, старинные?
— Да, есть и такие. Некоторые, пожалуй, даже тех же лет, что и шедевры Андрея Рублева и Дионисия.
— Так ведь на это-то они, иностранцы, как раз и падки!
— Ну, если так, то пожалуйста! Буду просто рад хоть чем-нибудь помочь вам в вашем великом замысле.
— Огромное вам спасибо, Никанор Никодимович! Вы и представить себе не можете, как вы меня этим выручили. Тогда разрешите Михаилу Ильичу Лаврентьеву заглянуть в этот запасничек и выбрать там кое-что по своему усмотрению. Он в этом лучше меня разбирается.
— Да ради бога! Пусть хоть сегодня.
…Корпорацию свою Корнелий собирает вечером в тот же день. Коротко сообщив о результатах обработки отца Никанора, он излагает своим коллегам дальнейший план операции «Иисус Христос».
— Вы гений, шеф! — не выдержав, восторженно восклицает Колокольчиков. — Давно уже пора кардинально решить вопрос с иконами. Противно ведь иметь дело с разными старушками. И вы очень правильно…
— Не создавайте культа моей личности, Вася, — с показным смущением прерывает Колокольчикова Корнелий. — Вы же знаете, я этого не люблю. А от старушек мы теперь действительно избавимся. Они жадные и даром ничего бы нам не дали, а батюшка проявил бескорыстие. Надеется, наверное, что ему зачтется это господом богом на том свете.
Когда все детали дальнейших действий окончательно уточняются, Корнелий отпускает своих коллег, попросив Вадима Маврина задержаться.
— Опять я сделал что-нибудь не так? — робко спрашивает Вадим.
— А это мы сейчас выясним, — таинственно усмехается Корнелий. — Сбегай-ка сначала на кухню за коньяком.
Все еще не понимая, в чем он проштрафился, Вадим уходит на кухню, а когда Корнелий разливает коньяк в рюмки, произносит жалобным голосом:
— Плохо разве я обструкцию на твоей лекции учинил?
— Кто говорит, что плохо? Отлично сработал! Я даже не ожидал от тебя такого.
— Так в чем же дело тогда?
— Давай выпьем сначала.
— А за что? Под каким девизом? Не будем же мы пьянствовать безыдейно?
— Ты меня радуешь, Вадька! — смеется Корнелий. — Прямо-таки на глазах растешь. А выпьем мы за твои успехи у Вари.
— Это можно, — расплывается в широкой улыбке Вадим. — За это я с удовольствием.
Они чокаются и выпивают.
— А что за чувства у тебя к ней? — продолжает Корнелий свой не очень понятный Вадиму допрос.
— Сам видел, какая девушка! Нравится она мне…
— И только? А может быть, любовь?
— Ну, этого я еще не знаю. Этого со мной еще ни разу не случалось.
— А она как же? Чем тебе отвечает?
— Этого, прямо тебе скажу, тоже не знаю. Вроде нравлюсь я ей… А может быть, только перевоспитать хочет.
— А почему решил, что нравишься?
— Я всем девкам нравлюсь, — самодовольно усмехается Вадим.
— Ну, это, милый мой, не довод. По аналогии, стало быть?
— Другим-то точно знаю, что нравлюсь, а ей по правде сказать — не уверен. Загадочные они, как кошки, эти образованные женщины, — сокрушенно вздыхает Вадим.
— Почему же, как кошки?
— Статью о них, о кошках, в журнале одном прочел.
— Это ты так свой культурный уровень повышаешь?
— Так ведь все остальное в журнале том неинтересно было. Скукота одна… А ты чего про Варю все у меня выпытываешь?
— Будь с ней, Вадим, поделикатнее, — будто не расслышав его вопроса, необычно серьезным голосом произносит Корнелий. — Постарайся действительно ей понравиться. Она племянница одного очень крупного ученого и очень может нам пригодиться. И читай побольше.
— Нет уж, от этого ты меня уволь! Что-нибудь одно: или за Варей ухаживать, или культурный уровень повышать. У меня на оба дела интеллекта не хватит.
— Ох, Вадька, Вадька, — смеется Корнелий, — интеллекта у тебя действительно кот наплакал. Ты и так в нашей корпорации в основном на силовых операциях. Ну, давай еще по рюмке и ступай домой.
14
В полдень Алексей собирается поехать в редакцию «Мира приключений», но вдруг раздается телефонный звонок.
— Да, слушаю вас, — говорит Алексей в трубку.
— Мистер Русин? — слышит он незнакомый голос с иностранным акцентом.
— Да, я.
— О, простите меня, мистер Русин! Я очень рад, что застал вас. Я корреспондент американский джорналь «Сайантифик Америкэн» Джордж Диббль и очень хотел бы… как это будет по-русски? Да, встретиться с вами. А чтобы вы не думаль, что я тайный агент наш Центральный разведывательный управлений, я передаю трубка ваш товарищ.
Алексей слышит приглушенный смех Диббля, а затем знакомый ему голос сотрудника комиссии по иностранной литературе Союза писателей:
— Здравствуйте, товарищ Русин! Мистер Диббль очень любит шутить, но встретиться с вами у него действительно есть большое желание. Алексей Александрович просит вас не отказать ему в этом.
— Ну что ж, если нужно, я готов, — не очень охотно соглашается Алексей.
— И хорошо бы сегодня.
— Сегодня?… Ну ладно, давайте сегодня.
— Тогда мы минут через двадцать — двадцать пять будем у вас.
Алексей кладет трубку и критическим взглядом осматривает свою комнату. Надо бы навести в ней порядок. Он всегда делает это сам, а Анна Павловна лишь генеральную уборку. Но в комнате как будто бы и так достаточно чисто, а наводить «лоск» специально к приходу американца ему не хочется.
Джордж Диббль является в половине первого. Один, без сопровождающих.
— О, добрый день, мистер Русин! Рад с вами познакомиться! Много слышал о вас… как это будет по-русски? Похвалебного? О да, похвального! Простите ради бога за плохой знаний русский язык.
— Ну что вы, совсем неплохо для иностранца.
— Да, правда? Я очен рад. Русский — такой трудный язык! Но я немножко полиглот. Знаю французский, немецкий и итальянский, но русский дается труднее всех. А вы знаете английский?
— Очень плохо. Хуже, чем вы русский. Так что мы, пожалуй, лучше поймем друг друга, если будем разговаривать по-русски.
— А знаете, это симболично… Да, правильно, символично! — смеется Диббль.
— Я не имел никакого иного смысла, кроме прямого, мистер Диббль, — очень серьезно уточняет Алексей.
— О, не обижайтесь, ради бога, я пошутил. И называйте меня, пожалуйста, просто Джорджем.
— Мне удобнее называть вас мистером Дибблем…
— О да, да, понимаю, — снова смеется веселый американец. — Мы еще недостаточно знакомы, да? Но это ничего — мы разопьем с вами как-нибудь бутылочка виски, и вы еще будете называть меня просто Джо. Да, и не удивляйтесь, пожалуйста, что я приехал к вам один — я отпустил того господина из вашего пэн-клуба, который привез меня сюда. Пожалуйста, сигара.
— Нет, нет, благодарю вас, я не курю.
— Тогда, как это у вас говорится?… Ближе к делу, да?
— Да, правильно, присаживайтесь, пожалуйста. Я к вашим услугам, — говорит Алексей, кивая на кресло.
Диббль сразу же садится и забрасывает ногу на ногу точь-в-точь так, как делают это типичные американцы в типично американских фильмах. Он вообще выглядит (или старается выглядеть) очень простодушным, веселым, разговорчивым парнем. Алексею, однако, кажется почему-то, что русские слова он коверкает нарочито, ибо речь его звучит иногда безо всякого акцента.
— Вы, конейшн, догадывайтесь, что интересуйте меня главным образом как фантаст, — уже более деловым тоном начинает Диббль. — И еще потому, что пишете не о Марс и Венера, а о наш родной планета. Для фантаст — это необычный объект. А у читатель нашего журнала — большой интерес к эта тема. «Терра инкогнита» — так, кажется, называйт ученые наша планета? И действительно, все одна пазл… Да, правильно — загадка. А в ваш роман, как сообщил мне мистер Омегин, раскрывается загадка земного ядра. Это правильно, да?
— Да, в какой-то мере, — уклончиво отвечает Алексей. — Но об этом я ничего пока еще не написал. Собираюсь только…
— В связи с новый попытка осуществить проект «Мохол» это сейчас особенно интересует наш читатель. Вы знайт, конейшн, о наш первый неудача?
— Об этом писал в свое время ваш известный писатель Джон Стейнбек. Он ведь был на той барже, с которой велось бурение. Но тогда удалось просверлить лишь двести метров океанского дна.
— Да, был большой шум, большой реклама, но до верхний мантия остался еще четыре тысяча восемьсот метров, — вздыхает Диббль. — Да и нелегкий это дело. Мы опускаль буровые трубы сквозь четыре километра вода. А ведь это океан! Разве гидролокаторы могли удержать наш буровой установка во время шторма? Один наш бур, армированный алмазами, сломался и погиб. Фирма, финансировавший эта работа, не захотел больше рисковать. Но первый кусочек базальт, составляющий ложе океана, мы все-таки добиль. И ему, этому кусочку базальт, как показали калийаргоновые часы, двести миллионов лет!
Диббль становится очень серьезным. Не замечает даже, что потухла сигара. Кончик ее оброс толстым слоем сизого пепла, вот-вот готового осыпаться на пол. Алексей пододвигает Дибблю пепельницу. Диббль благодарит, стряхивает пепел и встряхивается сам. На лице его снова улыбка.
— Но теперь мы возобновляйт наша попытка добраться до верхней мантия. Будем бурить уже не с корабль, а с подводных лодка, на корпусах которых установим наш буровой машина. А у вас, я знай, совсем грандиозный проект. Вы будит вскрывайт земная кора не под океан, где толщина пять-десять километров, а под континент, и ваши буры должны пройти больше тридцать пять километров гранит и базальт. О, это грэндиоз!
— Да, мы будем бурить сверхглубокие скважины в Прикаспии, на Урале, в Карелии и Закавказье. Вскроем осадочный слой на материковой равнине и у подножья горных хребтов. Узнаем структуру коры там, где она уже постарела, и там, где еще идет рождение гор. Будет и еще одна скважина — на Курильских островах. Там, где до границы Мохо всего двенадцать километров. У нас есть специальные вещества, которые размягчают породы и помогут бурению. А о том, какие препятствия будут преодолевать буры, донесут исследователям электронные приборы. Вместе с ними в буровые скважины будут, видимо, опускаться и телевизионные камеры в специальных пластмассовых футлярах.
— И все это будет в ваш роман? — спрашивает Диббль.
— Нет, зачем же такую прозу в фантастический роман? — удивляется Алексей Русин. — Все это уже есть на самом деле. А в романе я буду изучать тайну ядра нашей планеты из космоса.
— Из космоса? — высоко поднимает брови Диббль и снова пытается разжечь свою сигару. — Каким образом?
— А с помощью спутников. Что мы знаем, например, о форме нашей планеты? То, что она не шар, известно еще из расчетов Ньютона. А какова более точная геометрическая фигура Земли, до сих пор еще окончательно не установлено, хотя теперь эту задачу решают уже не астрономы и геодезисты, а искусственные спутники Земли.
— О да, правильно! Сила тяготения и форма планеты связаны ведь между собой. Значит, тяготение определяет орбиту спутников, да? А по форме орбиты спутников можно высчитать и форму Земли, правильно?
— Да, правильно. И это уже сделано нашими спутниками в содружестве с электронными вычислительными машинами точнее, а главное — гораздо быстрее, чем геодезистами. Но работа еще не завершена. Нужно послать множество спутников в облет экватора, в сторону вращения планеты и в обратном направлении.
Алексею сначала очень не хотелось в разговоре с Дибблем вдаваться в подробности. Он намеревался лишь ответить на его вопросы и расспросить, над чем работают сейчас американские фантасты. Волнует ли их тайна собственной планеты или они все еще витают в иных мирах? Но, заметив, что Диббль внимательно слушает его, захотелось показать американскому журналисту, что советские писатели не только фантазируют, но и достаточно серьезно владеют научными данными, что наука в их произведениях представлена не только терминологией.
Да и сам Диббль не кажется ему теперь таким уж «стандартным американцем», каким представился поначалу. Похоже даже, что он немного играет под таких простачков, какими мы выводим их в некоторых наших фильмах, а иногда и в книгах.
Начинает даже казаться, что весь этот разговор не очень интересует его, что пришел он сюда совсем не за тем, чтобы узнать, над чем работает советский фантаст. Но что же в таком случае привлекло его в дом Русина? Это неясно Алексею. Нужно, однако, как-то поддерживать начатый разговор.
Распахнув окно, так как комната стала заполняться густым дымом от сигары Диббля, Алексей уже без особого энтузиазма продолжает развивать свою мысль:
— Теория дрейфующих материков тоже ведь может быть окончательно доказана либо опровергнута с помощью спутников. Для этого нужно в течение нескольких лет понаблюдать за ними одновременно с разных континентов.
— Да, наши ученые тоже такого мнения, — поддакивает Диббль и, теперь только сообразив, что русский фантаст открыл окно из-за его сигары, восклицает: — О, простите меня ради бога, я устроил вам тут настоящий дымовой завеса!
— Ну что вы, курите, пожалуйста.
— Нет, все — больше я не курю! Я совсем забыл, что у вас нет кондейшн… Как это будет по-русски — вентиляции, да? А под космос вы имейт в виду только спутник?
— Почему же? И в более широком смысле тоже. Я имею в виду изучение нашей Земли и по аналогии ее с другими планетами солнечной системы. Посмотрите-ка на наш глобус. Где на нем океаны? В основном на юге. А материки? На севере. А на Марсе? Там, конечно, нет или уже нет океанов, но впадины, которые могли бы быть морями, размещены тоже ведь в его южном полушарии. Наблюдается нечто подобное и на Меркурии. Нет ли в этом какой-то закономерности?
— О, я вижу, вы серьезно оснащены научными данными, — улыбается Диббль. — Не понимаю только, как с помощью космоса доберетесь вы до тайны ядра наша планета?
— Тут уж придется пофантазировать, — улыбается и Алексей. — Вы ведь знаете, что между Марсом и Юпитером существовала когда-то еще одна планета?
— Теперь, после находка транзистор в метеорите, упавшем в Калифорния, в этом не может быть никакой сомнений! — оживляется Диббль. — И поверьте мне, мистер Русин, это не сенсейшн, а подлинный факт. Я сам видел этот метеорит. Его нашел наш ученый неподалеку от город Чико, на берегу река Сакраменто.
— Ну, тем более! Нам неизвестно, в результате какой катастрофы погиб Фаэтон, но если бы с помощью космических ракет удалось исследовать все его осколки-астероиды, то по химическому анализу их вещества можно было бы установить всю структуру бывшей планеты. В том числе и ее ядро. А по аналогии…
— Простите, мистер Русин, но я в этом не уверен, — энергично качает головой Диббль и даже встает со своего места. — Что нам известно о земном ядре? Что оно, видимо, железное? Но ведь это одно лишь сапазишн, предположение. Зато температура его — три тысячи градусов — не вызывает сомнений. Нет больших расхождений и в оценка давления внутри ядра. Это, кажется, три с половиной миллиона атмосфер. Правильно, да? В каком же тогда состоянии там вещество? Разве вы не знаете, что достаточно одного миллиона атмосфер, чтобы разрушить все электронные оболочки в атомах? Но когда это давление и температура были сняты, а они не могли быть не сняты, раз планета разлетелась на куски… Правильно, да? Что тогда стало с веществом ядра, а? Разве оно могло остаться в том же самом состоянии? Вне всяких сомнений, это уже совсем иной вещество. Наверно, оно такой же, как в железных метеоритах. Правильно, да?
Алексей молчит. Конечно же, Диббль прав.
— А надо ведь как-то узнать, какое же ядро внутри живой планета, — продолжает Диббль. — Да, я не оговорился, именно живой планета!
— Я понимаю вас, мистер Диббль. Конечно, она как живая, а ядро — это, может быть, ее сердце.
— Да, правильно, сердце! Один наш американский фантаст написал жуткий роман — «Реквием». Он описал в нем, как в результате термоядерной война произошел инфаркт такого сердца одной из планет, населенных разумными существами.
— А я не верю, чтобы планета могла разорваться в результате термоядерной войны, — качает головой Алексей. — Скорее она может погибнуть от чрезмерного любопытства разумных существ.
— Вы думаете, что мы можем доковыряться до этого в ее недрах? — смеется Диббль. — А я не верю. Если ей не страшны титанические силы землетрясений и извержений, что тогда для нее наши буровые, пусть даже самые сверхглубокие? Нет, пусть уж лучше разумные существа соревнуются в разгадке тайн космоса и недр своей планета, чем в производстве термоядерный бомба.
— Я тоже за это.
— О, я не сомневался! Наш журнал очень поощряет такой соревнований. И когда вы напишете свой роман, пропагандирующий подобный идея, мы охотно будем напечатать такой советский пропаганда.
Он весело смеется и протягивает Алексею руку.
— Ну, мне пора. Я и так отнял у вас слишком много время. Но я очен рад, что познакомился с вами. Когда будете в Штатах, обязательно заходите ко мне в гости. Вот вам мой визитный карточка с адресом. И я и мой жена будем очен рады. Но прежде чем уйти, я хотел бы задать вам еще один вопрос.
— Да, пожалуйста, мистер Диббль.
— Вы ведь не думаете, что тайна земного ядра можно разгадать одним только сверхглубоким бурением? Я тоже так не думаю. Никаким бурением даже до внешнего ядра нам не добраться. И никакой аппарат типа «подземный крот» тоже туда не доберется, хотя и у вас и у нас много подобных проектов. Правильно, да?
— Я тоже не думаю, чтобы это был тот путь.
— Что же тогда? Может быть, прощупать земное ядро каким-нибудь локатором, как Луну и Венеру, а?
— Но ведь никакой оптический луч, даже луч квантового генератора…
— Да, конечно, — живо перебивает его Диббль. — Им туда не проникнуть. Ну, а если луч нейтрино?
— Нейтрино?
— Да, нейтрино. Сейчас много пишут о нейтринных телескопах. И у вас и у нас тоже. Думали вы об этом?
— Но ведь для нейтрино прозрачна не только наша планета, но и само Солнце. Вы же знаете, что нейтрино почти не взаимодействует ни с каким веществом.
— Да, это так. И все-таки наши ученые предполагают, что именно нейтрино тот инструмент, с помощью которого можно проникнуть в тайну ядра нашей планеты. Ну, извините, когда-нибудь я должен все-таки уйти!
Он простодушно посмеивается и снова крепко жмет руку Алексея.
— И не провожайте меня, пожалуйста, я сам доберусь до свой гостиница. Я хорошо ориентируюсь в чужих городах.
Он уже стоит у самых дверей, когда, будто совсем уже между прочим, задает Алексею еще один вопрос:
— А вы разве не знакомы с работами вашего профессора Кречетова?
— Нет, не знаком.
— Кажется, именно он у вас экспериментирует с нейтрино.
— Крупнейшим специалистом по нейтрино является у нас академик Понтекорво.
— Да, но именно профессор Кречетов с помощью нейтрино пытается разгадать тайну земного ядра. Странно, что именно вы этого не знаете.
— В первый раз слышу об этом.
— Ну, тогда, значит, профессор этот очень у вас засекречен, — посмеивается Диббль.
15
Алексею, может быть, и не показались бы столь подозрительными последние слова Диббля, если бы он не выглянул в окно сразу же после его ухода. Диббль мог ведь и пошутить, говоря о засекреченности Кречетова. А назвать его фамилию было, видимо, не мудрено, так как на самом-то деле, как уверяет отец, профессор не ведет никаких секретных исследований и, наверно, о его работах писалось что-то в научных журналах. Правда, сам Алексей сделал вид, что ничего о нем не слышал, но это уж под впечатлением рассказов отца о недавних происшествиях с Кречетовым.
Однако что-то все-таки его насторожило. Может быть, слова Диббля о том, что именно ему, Русину, почему-то должна быть известна фамилия Кречетова. Без этой настороженности Алексей не стал бы, конечно, наблюдать за выходом Диббля из своего дома. А теперь он стоит у окна и, укрываясь за гардиной, осторожно выглядывает на улицу.
Диббль выходит из подъезда не торопясь и идет почему-то не вправо, к остановке троллейбусов и такси, а влево. Мало того, он останавливается у дома, в котором живет Варя, слегка задирает голову и долго смотрит на Варино окно. Может быть, правда, смотрел он и не на ее окно, но Алексей почти не сомневается почему-то, что именно на Варино.
Весь день после этого он ни о чем уже не может спокойно думать и безуспешно ломает голову над странным поведением Диббля.
А когда приходит с работы Василий Васильевич, спрашивает его:
— Тебе не известно, папа, такое имя, как Джордж Диббль?
— Нет, впервые слышу. А кто он такой?
— Корреспондент американского научно-популярного журнала. Был у меня сегодня, расспрашивал о моей работе. И вот что меня удивило: ему откуда-то известно, над чем работает профессор Кречетов. Разве об этом публиковалось что-нибудь?
— Что-то, кажется, было в начале года, — припоминает Василий Васильевич. — Какая-то краткая информация в одном из вестников Академии наук. А почему это так тебя встревожило?
Алексей уже собирается рассказать отцу о том, как Диббль смотрел на окно Вари, но раздумывает. Конечно, очень странно, что Диббль смотрел на ее окно, но какая же тут связь с его интересом к профессору Кречетову? Зато связь интимных мыслей Алексея с этим окном может оказаться для отца уже несомненной, И он не решается сообщить Василию Васильевичу о своих подозрениях.
— Мне показалось странным, что Диббль почему-то считает профессора Кречетова засекреченным, — после небольшой заминки отвечает он на вопрос отца.
— Они вообще всех наших ученых считают засекреченными, — усмехается Василий Васильевич.
— Ну, а ты-то знаешь ли, над чем на самом-то деле работает Кречетов?
Русин-старший не сразу отвечает на этот вопрос, хотя еще совсем недавно он ответил бы на него не задумываясь.
— Не знаю, право, как тебе и ответить, — задумчиво произносит он. — До сих пор я твердо был уверен, что он работает над теоретическими проблемами нейтринной астрономии, но теперь… Теперь я уже не знаю, только ли над этим. Теперь вообще многое стало загадочным. Помнишь, я говорил тебе о подозрительном посетителе моей библиотеки?
— Как раз хотел спросить тебя об этом.
— Ну, и кем, ты думаешь, он оказался? Работником государственной безопасности.
— Так что же тогда получается? — недоуменно произносит Алексей. — Детективный роман какой-то… Сам-то Кречетов знает ли об этом?
— Думаю, что не знает. Во всяком случае, товарищ из госбезопасности просил меня ничего не говорить ему об этом. Им нужно, видимо, установить, кто же интересуется Кречетовым.
— Да, пожалуй, — соглашается с отцом Алексей. — Но тогда и этот Диббль тоже, может быть, не случайно интересовался Кречетовым? Не мог он каким-нибудь образом узнать о том, что ты работаешь с Кречетовым в одном институте?
— Ну, это ты уже фантазируешь, Алеша. Откуда ему знать такие вещи? Расскажи-ка лучше, как идут твои дела с повестью, — переводит Василий Васильевич разговор на другую тему. — Не отказался ты еще от идеи разгадать тайну гибели Фаэтона?
— Наоборот, все более убеждаюсь в необходимости такой разгадки, — убежденно произносит Алексей. — Кто знает, может быть, это действительно послужит предостережением ученым нашей планеты. Теперь я все больше убеждаюсь, что погубить Фаэтон могла не только атомная война.
— А я на твоем месте написал бы лучше другую повесть. Повесть о тайнах собственной планеты, и назвал бы ее «Терра инкогнита». А загадок тут хоть отбавляй. Ты уже прочел то, что я тебе порекомендовал?
— Да, спасибо тебе за это. Очень интересно! Но такие же загадки стояли, видимо, и перед учеными Фаэтона, и их планета была для них такой же «терра инкогнита». Они и к разгадке шли, конечно, теми же путями, пока что-то не привело их к катастрофе. Вот я и попробую предугадать причину этой катастрофы.
— Ну, как знаешь…
В этот вечер Анне Павловне каким-то чудом удается уговорить Василия Васильевича пойти в кино, и, как только они уходят, Алексей тотчас же набирает телефон Сидора Омегина.
— Слушай, Омегин, это действительно ты порекомендовал Дибблю встретиться именно со мной?
— Я порекомендовал ему еще троих, но он заинтересовался именно тобой, — уточняет Омегин. — А что? Ты разве этим недоволен?
— Да нет, так просто. Извини за беспокойство.
16
С Корнелием Телушкиным Джордж Диббль встречается на квартире «подпольного» коммерсанта, по кличке «Каин», через которого велись все предварительные переговоры по операции «Иисус Христос».
— О, вы совсем не такой, как я думал! — удивленно восклицает Диббль, увидев Корнелия. Он говорит теперь почти без акцента. — Симпатичный, интеллигентный, прилично одетый человек.
— А каким же вы меня представляли, мистер Диббль? — интересуется Корнелий, польщенный словами американского журналиста.
— Типичным тунеядцем! — смеется Диббль, предлагая Корнелию сигару. — Стилягой с длинными волосами и в желтой кофте с черными полосками. Сам не знаю почему.
— Вы, наверно, выписываете у себя в Америке наш журнал «Крокодил»? — улыбается Корнелий.
— Зачем выписывать «Крокодил», у нас есть и свои стиляги. Этого добра везде хватает. В Англии тоже их полно. Перед тем как приехать к вам, я насмотрелся на них в кафе «Эйс» у вокзала «Стоун-бридж Парк». Вы тоже слыхали, наверно о «рокерах» и «модернах»?
— Но ведь они не тунеядцы, эти «рокеры»? Они в основном рабочие парни.
— Вы у нас тоже не считались бы тунеядцем. Вы были бы бизнесменом.
— Я и тут не тунеядец, — стараясь скрыть невольную обиду, говорит Корнелий. — Я работаю в государственном учреждении. Бизнес — это моя вторая профессия.
— У вас хорошо заниматься именно таким мелким бизнесом — тут вы вне конкуренции. А у нас вас давно проглотили бы более крупные предприниматели. И я не советовал бы вам…
— А я и не собираюсь. Мне и тут совсем было бы хорошо, если бы не милиция, — усмехается Корнелий.
— У нас тоже есть полиция, но с нею можно… как это будет по-русски? О да, поладить. Но перейдем к делу, мы уже достаточно наговорились на неофициальную тему. Ну-с, а как обстоит дело с заказом?
— Заказ готов.
— Можно посмотреть?
— Да, пожалуйста. Прошу вас, Михаил Ильич, — кивает Корнелий появившемуся из соседней комнаты Лаврентьеву.
Лаврентьев приносит чемодан. Извлекает из него пять икон среднего размера и осторожно кладет их на стол. Со старых, тускло поблескивающих масляными красками, потрескавшихся во многих местах досок, удивленно взирают на бизнесменов Старого и Нового Света скорбные лики святых.
— Это что же? Что за персонажи? — тычет в них пальцем Джордж Диббль.
— «Архангел Гавриил», «Апостол Павел», «Иоанн Предтеча».
— И все это намалевано действительно под знаменитого вашего Рублева?
— Сам Рублев не отличил бы их от своих. Господин Лаврентьев главный реставратор чуть ли не всех православных соборов и крупнейший знаток иконописи Рублева.
— Ну, а как с древностью этих досок? — Диббль стучит ногтем по иконам. — Не окажутся они… как это по-русски? Липой, да?
— Не окажутся, мистер Диббль, — уверяет Корнелий. — Ни в прямом, ни в переносном смысле. Доски добротные, действительно старинные. А за краски мы не несем ответственности. Краски ваши.
— Краски меня не тревожат. У нас тоже есть свои жулики, специалисты по подделкам старинных картин. Целая фирма. Эти краски — их открытие. Через несколько дней они так потрескаются, что их никто не отличит от тех, какими писали Мазаччо, Пизанелло, Андреа дель Кастаньо. Эти итальянские мастера современники вашего Рублева. Ну, а теперь нужно, кажется, рассчитаться?
— Да, не мешало бы, — плотоядно улыбается Корнелий.
— Какой валютой: долларами, фунтами стерлингов или западными марками?
— Лучше долларами.
Диббль отсчитывает сумму, о которой заранее была достигнута договоренность, добавляет несколько лишних долларов и протягивает Корнелию.
— Покорнейше благодарю, — подобострастно произносит Корнелий, сам дивясь лакейскому обороту и интонации своей речи.
Не пересчитывая, он прячет доллары в карман и спрашивает с явными нотками тревоги:
— А как же будете вы переправлять этих «богов» через границу?
— Понимаю, — усмехается Диббль. — Опасаетесь таможенного досмотра? Знаю, что у вас с этим строго, и не буду рисковать. Попрошу кого-нибудь из своих друзей в одном из посольств, аккредитованных у вас в стране, оказать мне маленькую услугу.
А когда Корнелий с Лаврентьевым уже собираются уйти, Диббль неожиданно предлагает:
— А что, молодые люди, если я предложу вам подработать еще немного долларов? И даже не немного, а весьма солидную сумму.
«Бизнесмены» замирают на месте. И без их ответа Диббль догадывается, что они ничего не имеют против такого заработка.
— Меня интересует один ваш ученый, у которого нужно кое-что разведать, — поясняет Диббль смысл своего предложения.
— Это тот профессор, Корнелий, о котором я вам уже говорил, — уточняет Каин, маленький лысый человечек.
— Кречетов?
— Он самый.
— Если вам это неизвестно, то я могу сообщить, что он не ведет исследований оборонного, как у вас говорят, значения, — продолжает Диббль. — Он не изобретает ни новых бомб, ни лучей смерти, ни прочего смертоносного оружия. Ведет тихую, скромную научную работу, не имеющую пока практического значения. Дело, однако, в том, что мы тоже ведем такую же работу и нам небезынтересно знать, чего достиг этот профессор.
— А разве он не публикует своих работ? — интересуется Корнелий.
— Пока не публикует. К тому же нам очень важно узнать о его работах до того момента, когда он их опубликует.
— Понимаю, — усмехается Корнелий. — Это важно для укрепления вашего приоритета?
— Ну, не совсем так… Весьма возможно, что мы вообще настолько опередили Кречетова, что…
— Это тоже понятно. Только и вы учтите, что это не контрабандная торговля предметами культа. Это идет уже по другой статье уголовного кодекса.
— Да, конечно, это я понимаю. И это будет учтено при вознаграждении.
Корнелий довольно долго молчит, переглядываясь с Лаврентьевым. Потом произносит:
— Предложение ваше слишком серьезное, мистер Диббль. Дайте нам подумать.
— Хорршо, но не позже чем завтра я жду окончательного ответа.
17
Как только Телушкин с Лаврентьевым выходят на улицу, Корнелий предлагает:
— Едем ко мне. Там все обсудим, а пока ни слова. Похоже, что влипли…
Но и у себя дома Корнелий долго не начинает разговора, а лицо у него такое, что Лаврентьев не решается заговорить первым. Лишь после второй рюмки коньяка глава корпорации подпольных бизнесменов мрачно произносит:
— Прокрутил я все варианты на этой вот не электронной вычислительной машине, — хлопает он себя по лбу, — получается, что на самом деле влипли…
— Ты думаешь, что пахнет государственной изменой?
— Изменой не изменой, а все-таки…
— Так на кой нам черт тогда это дело! — простодушно восклицает Лаврентьев. — Откажемся, и все!..
— Нет, уж теперь, милый мой, поздно отказываться. Теперь мы у них в руках. «Боги» нас подведут. «Боги», которых мы так дешево продали этому заокеанскому дельцу.
— Так черт с ними, с этими богами! — ругается слегка захмелевший после третьей рюмки Лаврентьев. — Признаемся КГБ, что «боги» — наших рук дело, их мы действительно продали, а Родиной не торгуем. Ты же сам говорил…
— Ну, что ты лопочешь! — досадливо машет на него рукой Корнелий. — Копнут ведь глубже. Вот и выяснится, каким образом отца Никанора надули, да и прежний бизнес с иностранцами всплывет на поверхность. Если бы в этом деле были только мы с тобой замешаны, а то еще и Вадим с Колокольчиковым. Первый, как ты сам знаешь, дурак, а второй — трус. На первом же допросе все расскажут. В общем повторяю: мы у них в руках!
— Да почему у них? Кого ты имеешь еще в виду?
— Диббля и Каина.
— А Каин разве с ним заодно? — удивляется Лаврентьев. — Разве он не только посредник?
— Он сволочь, каких мало! — плюется Корнелий. — И как это я так опростоволосился? Ведь знал же, что рано или поздно продаст. Еще когда он только стал проявлять интерес к Вариному дяде, я сразу же подумал — неспроста!
— А ты полагаешь, что Кречетов все-таки какой-нибудь атомщик или ракетчик? — невольно шепотом спрашивает Лаврентьев.
— Ну, это едва ли. Не похож он на ракетчика. Едва ли имеет отношение и к атомной бомбе. Насколько я разбираюсь в науке, он, кажется, специалист по элементарным частицам.
— Так ведь это тоже атомная физика!
— Не всякая атомная физика связана с атомной бомбой. Но за границей теперь вообще нашими учеными интересуются. Всех направлений. Если уж они у себя экономическим и научным шпионажем занимаются, то у нас и подавно. И Каин это хорошо знает. Не первый год с иностранцами имеет дело. Я даже думаю, что покупку у нас «богов» он сам придумал, чтобы дать возможность Дибблю держать нас в руках.
А когда доморощенные бизнесмены выпивают еще по рюмке, заметно успокоившийся Корнелий произносит вдруг:
— А с другой стороны — тут только и может начаться настоящий бизнес! На «богах» мы как нищие на паперти зарабатываем, а на ученых можно сколотить настоящий капиталец.
— Так ты, значит?…
— А что же еще остается? Я убежденный атеист, и мне за «богов» нет никакого желания отбывать наказание. А без риска в нашем деле все равно не обойтись. И потом — чем больше риск, тем больше и приз!
На другой день они снова собираются у Каина. Джордж Диббль сдержанно хвалит их за мудрое решение. Потом начинает объяснять их новую задачу:
— Мне известно, что вы смыслите кое-что в науке, мистер Телушкин.
Корнелий смеется.
— Мистер Телушкин плохо звучит по-русски, мистер Диббль. Называйте меня лучше Корнелием.
— Мне нравится, что у вас есть чувство юмора, — сухо усмехается Диббль. — Это очень помогает в такой работе, как наша. Так вот, мистер Корнелий, мне известно, что вы смыслите кое-что в науке.
— Он у нас почти кандидат наук, — набивает цену своему партнеру Каин.
— Это правда, мистер Корнелий?
— Да, мистер Диббль, ибо числился одно время в аспирантуре, не имея законченного высшего образования, — усмехается Корнелий.
— Это тоже хорошо… Это свидетельствует о вашей… Как это будет по-русски? Ах да, пройдошливости. Нам нужны такие ловкачи. О физике вы имеете какое-нибудь представление?
— Да, некоторое.
— Я имею в виду физику атомного ядра, мистер Корнелий.
— И я то же самое, — не очень почтительно отвечает Корнелий. Ему начинает действовать на нервы совсем иной тон, каким разговаривает теперь с ним Джордж Диббль.
Диббль догадывается об этом и решает, что нужно как-то объяснить Корнелию разницу в их теперешних взаимоотношениях.
— Я думаю, вы и сами понимаете, что вам теперь придется заниматься куда более серьезным делом, чем торговля иконками, — строгим голосом произносит он. — Значит, с шуточками и… как это по-русски? Ах да, с ваньковаляйством надо кончать. Дело очень серьезное. Поэтому я должен устроить вам маленький экзамен, мистер Корнелий, чтобы точно знать, какова будет цена вашей информации о работе профессора Кречетова.
Он просит у Каина лист чистой бумаги, достает свой паркер и крупно пишет:
Е = mc?
Корнелий усмехается.
— Вы хотите сказать, — без улыбки произносит Диббль, — что это знают у вас даже дети?
— Да, мистер Диббль. Дети среднего школьного возраста.
— А это? — снова пишет Диббль на бумаге:
2 + 2 = 3,975
— Это пример синтеза ядер и дефекта массы. И тоже из курса средней школы.
— Я могу написать и такую формулу, прочесть которую не поможет вам даже кандидатская степень, — заметно сердится Диббль, — У меня ведь honoris causa…
— Простите, пожалуйста, господин доктор, — теперь уже серьезным тоном извиняется Корнелий, — но не продолжайте вашего экзамена. Скажите лучше прямо, что я должен знать для выполнения вашего задания?
— Мне нужно знать, сумеете ли вы разобраться в некоторых бумагах, которые могут попасть вам на глаза. Понять, что в них такое. Хотелось поэтому, чтобы вы могли распознавать некоторые физические константы…
— Все ясно, мистер Диббль. Чтобы у вас отпали всякие сомнения на этот счет, я напишу вам сейчас одну формулу, которая лучше всяких слов должна свидетельствовать о моей эрудиции.
И он небрежно пишет знаки какой-то формулы.
— О! — восхищенно восклицает Диббль. — Это же знаменитое гравитационное уравнение Эйнштейна!
— Да, мистер Диббль, — скромно подтверждает Корнелий. — Вот тут у меня тензор Риччи, построенный из кристоффелей и их производных. А вот это тензор плотности энергии — импульса — натяжения.
— Так какого же вы черта с такими знаниями занимаетесь мелким жульничеством? — поражается Диббль. — Торгуете иконками? Нет, в Советском Союзе, видно, просто некуда девать ученых парней, если они вынуждены с такими знаниями промышлять мелким бизнесом. Но мы это учтем и при расчете с вами повысим вашу ставку. Слушайте теперь внимательно, что нам хотелось бы узнать у профессора физики Леонида Александровича Кречетова.
…А потом, спустя полчаса, когда Телушкин с Лаврентьевым возвращаются от Каина, Лаврентьев с восхищением говорит своему шефу:
— И откуда у тебя такие познания, Корнелий? Даже этого американского доктора потряс. И чего тебе действительно с такими знаниями якшаться с такими подонками, как Вадим Маврин и Васька Колокольчиков? Неужели ты и в самом деле все это знаешь?
— Эх, Миша, Миша!.. — вздыхает Корнелий. — Кабы я на самом деле все это знал, я бы не только с этими подонками, но и с тобой не стал бы иметь дело. Прости ты меня за такую откровенность!..
— Но ведь формула была действительно эйнштейновская?
— Да эйнштейновская, но я понятия не имею, из чего она выводится. Прочел ее в какой-то книге и заучил. Память у меня, сам знаешь, какая. А такие термины ее, как тензор плотности энергии — импульса — натяжения или тензор Риччи, построенный из кристоффелей, очень мне понравились. Они производят внушительное впечатление на собеседников.
Корнелий Телушкин был авантюристом, а не карьеристом, и в этом была если не принципиальная, то довольно существенная разница, хотя обе эти категории носят знак отрицательного потенциала общественной энергии, как квалифицировал бы это сам Корнелий. И он не скрывал от своих друзей своего незнания чего-либо или неполного знания, как сделал бы это карьерист. Напротив, он гордился своей победой, достигнутой приемами, типичными для авантюриста. И цена ему в том мире дельцов и мошенников, в котором он подвизался, была высокой как раз за это умение «обвести», перехитрить лицо более значительное. А если бы он и на самом деле был таким образованным, каким старался казаться, то в глазах его сообщников никакой заслуги его в этом бы не было.
Поэтому-то он и не скрывает, а напротив, охотно рассказывает теперь Лаврентьеву, что и эту формулу и сложнейшие термины современной физики вычитывает он из разных научных книг, а потом ошарашивает ими образованных людей. Любит щегольнуть он и именами таких крупных западных ученых, как Дирак, Гейзенберг, Шредингер, Уилер и Хойль.
— Выходит, что обвел ты этого американского доктора наук еще поэффектнее, пожалуй, чем нашего образованного русского батюшку, — не перестает восхищаться Корнелием Лаврентьев. — Непонятно мне только, чем привлек американцев дядя нашей Вари? Что-то не очень я это уразумел из его разговора с тобой.
— Прямо он этого и не сказал. Но думается мне, что тут что-то связанное с тайной недр нашей планеты. Ты знаешь, наверно, что и мы и американцы бурим сверхглубокие скважины. Об этом сейчас много пишут и говорят. Но это вряд ли даст что-нибудь существенное. Похоже, однако, что есть и другой, более перспективный путь, нащупанный профессором Кречетовым. Во всяком случае, Диббль почти не сомневается в этом. Таким же путем идут, наверно, и американцы. Поэтому-то их и интересует, чего же достиг Кречетов. Проиграв соревнование в космосе, они хотят теперь опередить Советский Союз в разгадке тайн земного ядра.
Прощаясь с Лаврентьевым, Корнелий замечает:
— Вчера завершилась наша операция «Иисус Христос», а сегодня началась новая. Думается мне, что самое подходящее название для нее — «Нейтрино».
18
От завидного спокойствия и оптимизма профессора Кречетова теперь уже не остается никаких признаков. На людях, правда, он еще кое-как держится, но дома, наедине с самим собой, «растормаживается» окончательно. А это значит, что он уже не сдерживает тяжких вздохов, раздраженно комкает бумагу, швыряет ее на пол и ходит по комнате так быстро, что это становится похожим на попытку сбежать от самого себя. При этом он еще и приговаривает в свой адрес:
— Ай-яй-яй, профессор Кречетов, почтенный доктор физико-математических наук, что же это вы так распускаетесь? Не знаете разве пагубного влияния отрицательных эмоций на нервную систему? Постеснялись бы хотя своего двойника…
Он стоит теперь перед зеркалом, с неприязнью всматриваясь в свое отражение.
— Хорошо еще, что зеркала способны лишь к геометрической симметрии. А если бы этот двойник из зеркального антимира болтал и ругался бы так же, как и я, а может быть, еще и плевался бы оттуда?…
Эта неожиданная мысль веселит профессора, и он начинает смеяться, представив себе свое плюющееся отражение.
— И вообще любопытно, что говорило бы оно, это потустороннее существо? По законам зеркального отражения его слова должны были бы иметь перевернутой не только фонетику, но и смысл… Хватит паясничать, однако! Марш к столу!
И он идет к своему письменному столу, понуро сгорбив плечи. Сколько раз уже перечеркивал он написанное, комкал и бросал на пол страницы, вырванные из блокнота! Институт физики Земли предоставил ему на сей раз все необходимое, большего у них уже просто нет, а нужных результатов все не получается. В чем же ошибка? Считал ведь и сам и на, электронной машине…
— Ни к черту, значит, не годятся мои попытки математического описания этих явлений! — раздраженно восклицает он и решительно встает из-за стола. — Математикой, значит, ничего пока не докажешь этому упрямцу Иванову… А что, если увеличить импульс нейтринного генератора? Хотя бы на один порядок… Чтобы не десять в пятнадцатой степени нейтрино пролетало за одну секунду через каждый квадратный сантиметр, а десять в шестнадцатой степени!..
И снова страницу за страницей покрывает он формулами, пестрящими птичками греческой буквы? — символом нейтрино. После нескольких часов работы начинает, кажется, что-то получаться. Во всяком случае, выясняется, что генератор может дать необходимый импульс. Можно, значит, попытаться сделать такое предложение Иванову. Он, конечно, пересчитает все сам, но профессор Кречетов теперь уже почти не сомневается, что результат у него не будет иным.
Жаль, что сегодня воскресенье — нужно было бы позвонить ему сейчас же. Но ничего не поделаешь, придется потерпеть до завтра. И он заказывает телефонный разговор с академиком на десять часов утра.
Академик Иванов приветствует его бодрым голосом:
— Рад слышать вас, дорогой Леонид Александрович! Хотелось бы и увидеть. Когда же вы собираетесь к нам? Не закончили еще своих расчетов? Ну, так отдохнете тут у нас, а потом со свежими силами… Нужно торопиться? Вот уж этого-то, дорогой вы мой, я положительно не понимаю. И если хотите знать — не одобряю. Не мне вам напоминать, сколь сложна эта задача. Я экспериментатор, а вы теоретик, и вам это должно быть виднее. И если бы я мог хоть чем-нибудь… Что?… Могу помочь новым экспериментом?… Не понимаю вас что-то…
— Эксперимент должен быть все тем же, — поясняет профессор Кречетов. — Просто необходимо даже, чтобы он был абсолютно тем же. Нужно только увеличить импульс хотя бы на один порядок…
— Хотя бы! — несдержанно перебивает его академик. — А вы не знаете разве, что представляет собой это увеличение импульса всего на один порядок? В повышении этого импульса мы и сами заинтересованы, но вы же знаете, каковы трудности… Ах, вы уже сделали приблизительный расчет такой возможности? Ну что ж, присылайте этот ваш расчет, а мы посмотрим… Подсчитаем тут на наших, не столь, конечно, совершенных машинах. Вы же меня знаете, — добавляет он, добродушно посмеиваясь.
Потом, помолчав немного, спрашивает:
— Ну-с, а что это даст нам? Усилит взаимодействие нейтрино с веществом детектора? Это, конечно, само собой. Ну, а чем поможет доказательству вашей гипотезы?
— Ведь если сейсмические явления по времени и продолжительности снова совпадут с периодами нейтринного зондажа…
— Так, так! Понимаю вас. Да, пожалуй, это действительно может подтвердить вашу догадку. Даже если колебания земной коры возрастут всего на один балл или полбалла. Нужно, конечно, попробовать, но вы ведь знаете, что главная наша задача…
— Да, я знаю это, Дмитрий Сергеевич, однако мои опасения заслуживают постановки и такого эксперимента. Может ведь случиться, что разгадка тайны ядра нашей планеты будет равносильна глобальной катастрофе.
— Ну, ну, дорогой мой Леонид Александрович, — добродушно посмеивается академик, — вы слишком уж мрачно настроены. Вам нужно на свежий морской воздух. Приезжайте-ка к нам поскорее.
— Спасибо, Дмитрий Сергеевич, я уже и сам подумываю об этом.
19
— Алеша дома? — спрашивает Анну Павловну Василий Васильевич, вернувшись с работы.
— Кончилась, наконец, их конференция по научной фантастике, — облегченно вздыхает Анна Павловна. — Весь день сегодня дома. Даже к телефону ни разу не подошел.
Василий Васильевич надевает свой любимый халат, берет в зубы трубку и идет к сыну.
Алексей лежит на диване и читает книгу.
— А, мистер Шерлок Холмс! — улыбается он отцу. — Давненько мы с тобой не виделись. Садись, пожалуйста. Ну, как дела у профессора Кречетова? Все еще интересуются им подозрительные личности?
— Наоборот, похоже, что все успокоилось. Даже товарищ из госбезопасности больше не появляется. А у тебя как идут дела? Ты будешь завтра вечером дома? Очень хорошо. Я тебя с интересным человеком познакомлю. С глациологом, специалистом по льдам.
— И ты думаешь, что он поможет мне разобраться в тайнах недр нашей планеты?
— А почему бы и нет? Ты, по-моему, очень разбрасываешься, а нужно идти к разгадке этой тайны в каком-то одном направлении. Разгадать ее с позиции глациологии — будет, по-моему, очень оригинально. Тем более что некоторые ученые считают Антарктиду ключом к решению многих загадок планетарной геофизики. Лед лежит там на скальном основании и, по существу, является такой же горной породой, как и скалы. Тысячелетия так же мало изменяют его, как и камни…
— Если не считать, что он иногда тает, — усмехается Алексей.
— Но ведь некоторые породы, как, например, осадочные в Поволжье, разрушаются гораздо быстрее, чем лед в Антарктиде. К тому же у кристаллического льда гораздо больше сходства с камнями, чем у песка и глины. А разве кто-нибудь предполагал, что толщина ледяного покрова в Антарктиде столь колоссальна? Думали, что не более тысячи метров, а оказалось четыре тысячи двести! Наблюдения над силой тяжести и сейсмическими волнами свидетельствуют о том, что колоссальная масса этого льда вдавила земную кору в районе Антарктиды глубоко в недра планеты. Если бы можно было снять эту ледяную нагрузку, то поверхность скальных пород поднялась бы там в среднем на тысячу пятьсот — тысячу шестьсот метров. А это вдвое превышает среднюю высоту всех континентов нашей планеты. Понимаешь теперь, какая это тема для фантаста?
— Ох, папа, — почти стонет Алексей, — зачем ты говоришь мне это? Я и так совершенно захлебнулся в обилии загадок, тайн и прочих диковин нашей удивительной планеты.
— Вот и возьмись за разгадку тайн планеты с позиции глациолога! И учти, что накопление льда на нашей планете является наиболее устойчивым процессом. Предполагается в связи с этим, что в будущем отступление ледников сменится их наступлением. И вообще, к твоему сведению, более одиннадцати процентов всей поверхности суши на нашей планете покрыто вечным льдом. И льда этого в семь с половиной раз больше, чем пресной воды во всех озерах, реках, прудах и прочих водохранилищах земного шара.
Обрушивая эти сведения на Алексея, Василий Васильевич степенно прохаживается взад и вперед вдоль его дивана, посасывая свою трубочку и бросая на сына торжествующие взгляды.
— Ты меня совсем заморозишь своими льдами, папа, — шутливо ежится на диване Алексей.
— А ужинать вы будете? — раздается из кухни голос Анны Павловны.
— Ну ладно, — с огорчением произносит Василий Васильевич, — доскажу тебе остальное в другой раз, но учти, глациолог, с которым я собираюсь тебя познакомить, знает об этом гораздо больше, чем я.
— А с профессором Кречетовым ты все еще не можешь меня познакомить? — спрашивает Алексей.
— Подожди еще немного. Профессор очень занят сейчас.
— Долго я буду вас ждать? — снова раздается уже явно раздраженный голос Анны Павловны.
— Ну, пойдем, — берет сына под руку Василий Васильевич, — мама начинает сердиться. Да, кстати, ты знаешь, что эта девушка Варя, которая живет в доме напротив, родная племянница профессора Кречетова?
— А этот пьяница полковник, значит, его брат? — морщась, как от физической боли, спрашивает Анна Павловна — разговор теперь происходит уже на кухне. — Да и сама Варя тоже, видно, из тех девиц…
— Из каких? — настораживается Алексей.
— Сам должен понимать — из каких, если у нее такие ухажеры, как Вадим Маврин.
— Ну, что касается ее пьяницы отца, — замечает Василий Васильевич, — то не поноси его так, не зная трагической его судьбы. Профессор Кречетов рассказал мне недавно, что на фронте он был подлинным героем, а потом его очень обидели чем-то и вынудили в расцвете сил уйти в отставку. И новое, еще более тяжелое испытание — трагическая смерть жены. Вот он и запил. Так что ты его не осуждай. А Варе следовало бы посочувствовать — наверно, нелегко ей с ним…
Некоторое время все молча едят приготовленный Анной Павловной ужин, но каждый думает о Варе по-своему. Василию Васильевичу действительно жалко и ее и ее отца, которого он довольно часто встречал на улице пьяным. Встречал он несколько раз и Варю, поражаясь ее красоте.
А Алексей видел Варю только из своего окна и ни разу не встречался с нею на улице, хотя в последнее время специально прогуливался несколько раз перед ее домом. Конечно, ему неприятно, что соседи слишком уж много говорят о Вадиме Маврине, совершающем свои нелепые подвиги в ее честь. А еще неприятнее — думать, что Варе все это может нравиться.
Анна Павловна знает Варю лучше других, ибо преподает литературу в десятом классе той школы, которую Кречетова с трудом окончила в прошлом году. Она нисколько не сомневается, что Варе сочувствуют все мужчины только потому, что она красивая девушка. По глубокому убеждению Анны Павловны, училась она так посредственно по той же причине.
— Да, а насчет этого лоботряса Вадима, — снова произносит Василий Васильевич, — вот что слышал сегодня утром, когда выходил из дома на работу. Образумился, говорят, парень. В вечернюю школу взрослых записался. И конечно же, это заслуга Вари. Ее Леонид Александрович Кречетов очень хвалит. Говорит, что без нее брат его Антон либо руки бы на себя наложил, либо совсем бы спился.
— И без того куда уж больше, — замечает Анна Павловна, — почти каждый день вижу его пьяным.
— Но уже не до такой степени, как прежде, и без буйства. А это опять-таки влияние Вари, — убежденно говорит Василий Васильевич. — Леонид Александрович сказал мне даже, что у нее «железная система» и если уж она за что возьмется…
— Что-то не очень помогала ей эта «железная система» в школе, — усмехается Анна Павловна.
А Алексей уже не слушает мать. «Значит, я не ошибся, — думает он. — У Вари действительно есть характер…» С дядей ее он непременно должен теперь познакомиться. И не потому только, что интересовался им Джордж Диббль.
20
Глава корпорации подпольных бизнесменов Корнелий Телушкин никогда еще, кажется, не смотрел так мрачно на своего младшего партнера Вадима Маврина, как сейчас.
— К Вариному дяде все еще, значит, никаких подступов? — суровым голосом спрашивает он Вадима.
— А какие могут быть подступы? — вздыхает Вадим. — Сам же ты меня в школу взрослых силком загнал, хотя Варя и считает это своей заслугой. Бывать у нее стал я поэтому гораздо реже и с дядей ее почти не встречаюсь. Не устраиваться же мне из-за этого в его институт младшим научным сотрудником? Но ты не забывай, однако, что я и в школу-то устроился только в седьмой класс. Да и то потому, что Варя со мной занималась.
— Кончай острить! — хмурится Корнелий. — Больно остроумным стал. Учиться ему не нравится! А доллары огребать тебе нравится? Пользуясь слишком гуманными законами советской власти, ты не только учишься бесплатно, но еще и получаешь за это деньги.
— Но не от советской же власти, — ухмыляется Вадим.
— А ты что же хотел — чтобы советская власть тебе еще и деньги платила за то, что ты ей пакостишь? Добрый заокеанский дядюшка платит за твое учение тоже не даром. Его доллары нужно отработать, а ты этого не делаешь…
— Я бы и рад, но как?…
— А разве я тебя не инструктировал?
— Но ведь Варин дядя давно уже не был у нее. А к нему она ходит без меня.
— А ты бы попросился.
— Уже просился — не берет. Говорит, что могу скомпрометировать.
— И она права. Ну, о чем бы ты говорил там с профессором физики? О погоде или о футболе?
— Я пробую читать научно-популярные книги по физике. Покупаю в киоске «Науку и жизнь»…
— И надеешься с этими жалкими познаниями выведать у профессора Кречетова его научные секреты? — презрительно фыркает Корнелий. — Не смеши меня, пожалуйста, и выбрось все это из головы. Твоя задача — проникнуть в дом профессора и если уж не втереться к нему в доверие, то чтобы хоть за жулика он тебя не принимал. Не прятал бы от тебя ценных вещей. А путь в его дом для тебя только один — через его любимую племянницу Варю. Я, однако, совсем не уверен, что она в тебя влюблена, но ее уверенность, что она может тебя перевоспитать, ты должен всячески в ней поддерживать. Об этом уже гремит ее слава по всей вашей улице. Это я сам проверил. А как у тебя дела с ее отцом?
— Выпивали с ним несколько раз…
— Ну и зря. Ты же знаешь, как Варя переживает из-за того, что он пьет?
— А мы не при ней, мы в пивной. А когда он потом у себя стал угощать — я упорно отказывался. Специально для Вари…
— Соображаешь, значит, кое-что.
— Ну, а как же? Это ведь ты только меня болваном считаешь, а все остальные… Даже на работе…
— А ты не поддавайся лести. Не создавай себе культа собственной личности. И не такие еще люди на этом горели. Будь поскромнее — скромность украшает человека. Проводи побольше времени с Варей. Какие у тебя планы на июль?
Вадим молчит.
— Чего молчишь? Не думал еще об этом? Июль — самый разгар лета. Надо бы подумать о загородных прогулках. Как она насчет этого?
Вадим смущенно ерзает в своем кресле.
— Ты что-то уж очень мнешься? Говори, в чем дело?
— Уезжает она на июль. Берет отпуск и уезжает…
— Как уезжает? Куда?
— В Гагру.
— Одна?
— Нет, с дядей.
— С профессором Кречетовым?
— Ага…
— Извини ты меня, Вадим, не хотел я тебя обижать, но, ей-богу же, ты кретин! Что же ты сразу-то мне об этом не сказал? Лучшей ситуации и не придумаешь. Надо, значит, и нам подаваться на юг.
— И мне тоже?
— А что же — я, что ли, за тебя за Варей буду волочиться?
— Так я же на работе… Меня не отпустят. И года еще нет, как я на этом заводе…
— Летун чертов! Не сидится тебе на одном месте. Но что бы там ни было, а в июле ты должен поехать в Гагру поправить свое пошатнувшееся здоровье.
— Какое здоровье? По твоему же совету я в боксерскую секцию записался и уже медосмотр прошел.
— Сошлись на нервное потрясение, на болезнь престарелой тети, живущей в глухой деревне. Придумай еще что-нибудь, но чтобы в июле был у тебя отпуск. Хватит мне с тобой нянчиться — пошевели самостоятельно мозгами хоть раз в жизни.
Вадим вздыхает, долго чешет затылок, потом спрашивает:
— А с Варей как быть? Как ей сказать, что тоже хочу в Гагру?
— Незачем ей этого говорить. Предстанешь перед ней там, в Гагре. Скажешь, что не мог без нее оставаться в Москве. И еще какие-нибудь трогательные слова. Ты же, наверно, умеешь это делать, раз все девицы от тебя без ума, как ты уверяешь.
— Так они ко мне без всяких слов с моей стороны, — хихикает Вадим.
— Это тоже твое дело. Действуй по своей технологии, но только без грубости. И с завода не смей уходить, а добейся отпуска. Сейчас нам очень важна твоя репутация.
— Ладно уж, придумаю что-нибудь.
— А теперь давай выпьем по рюмочке за успех предстоящей операции под поэтическим названием «Гагра».
Когда они выпивают уже по третьей, Вадим вдруг вспоминает:
— Да, слушай, чуть не забыл тебе сказать! Похоже, что Вариного отца еще кто-то стал спаивать. Раза два видел его с каким-то интеллигентом в забегаловке.
— А почему решил, что его спаивают?
— Платил за него тот тип. Я издали за ними наблюдал.
— И что же он — здорово его накачивал?
— Нет, не очень. Один раз я слышал даже, как он ему говорил: «Вам много нельзя… Вам вредно…»
— И кто он, по-твоему? Может быть, действительно какой-нибудь спившийся интеллигент?
— Не похож что-то на спившегося… Пожалуй, даже и пьяным не был ни разу, а прикидывался только.
— Да, загадка, черт возьми… — почесывает затылок Корнелий. — Может быть, кто-нибудь из оперативников? Тогда непонятно — зачем им это? А что, если и еще кто-то за Кречетовым охотится, помимо нас? Может быть, даже и Диббль об этом не ведает…
— Думаешь, еще чья-нибудь разведка?
— Все может быть. Не удивлюсь, если даже окажется, что и он нанят Дибблем для перестраховки. Только не тем путем он идет. Путь к профессору Кречетову лежит не через его брата, а через племянницу. И если ты не оплошаешь, мы обскачем наших конкурентов.
21
В течение последних двух недель встретиться с Леонидом Александровичем Кречетовым Алексею Русину так и не удается. Профессор в принципе дает Василию Васильевичу согласие на такую встречу, просит даже дать почитать что-нибудь из произведений его сына, но свободного времени у него все эти дни так и не оказывается.
Алексей теперь редко сидит дома. Несколько раз был на творческих встречах с читателями. Участвовал в обсуждении альманаха научной фантастики, был на просмотре новых фильмов в Центральном доме литераторов. И вчера весь вечер провел там же на встрече с молодыми учеными.
Алексей вообще не пропускает ни одной из таких встреч. В Доме литераторов они давно уже стали традицией, и ученые охотно приезжают к писателям. Алексею посчастливилось встретиться там с многими прославленными деятелями науки самых различных направлений. Более всего интересовали его, однако, физики и астрономы.
Много читал он и сам по всем вопросам физики и астрофизики. Но более всего интересовала его теперь физика элементарных частиц, среди которых особенное внимание привлекло, конечно, нейтрино. Он прочел все работы Понтекорво, какие только оказались посильными для него. Отец принес еще и статьи Филиппа Моррисона, Серджио де Бенедетти, Фримена Дайсона. И чем больше он читал все это, тем очевиднее становилась для него необходимость встречи с профессором Кречетовым.
А сегодня утром разговор о Кречетове заводит сам Василий Васильевич.
— Забыл тебе сказать, — говорит он, заходя к Алексею, — Леонид Александрович собирается в июле в ваш Дом творчества в Гагре. В Академии наук существует, оказывается, специальная договоренность с Литературным фондом Союза писателей, и многие ученые пользуются вашими домами творчества, а писатели — нашим кардиологическим санаторием в Болшеве.
— Значит, мне так и не удастся повидаться с ним до отъезда? — упавшим голосом спрашивает Алексей.
— А почему бы тебе самому не поехать в Гагру? Ты ведь был там как-то, и тебе она понравилась. Там бы вы с Леонидом Александровичем вволю наговорились. Да, между прочим, он берет туда с собой и Варю.
— Ему что ж, дают две путевки?
— Варе он достал курсовку. Устроит ее у кого-нибудь на квартире — там это не проблема, а сам будет жить у вас по путевке.
Алексей до того взволнован этой новостью, что не сразу отвечает на вопрос отца. Василию Васильевичу приходится повторить его:
— Ну, так как же ты, Алеша?
— Я бы поехал, пожалуй, — деланно-спокойным голосом отвечает Алексей. — Только вряд ли сейчас достанешь путевку в Гагру на такой месяц, как июль.
— А ты попытайся все-таки.
— Попытаюсь… А с профессором Кречетовым мне о многом нужно поговорить.
22
Поезд отходит из Москвы поздно вечером. Кречетовы, запоздавшие по какой-то причине, входят в вагон уже почти перед самым его отходом, и Василий Васильевич едва успевает познакомить их со своим сыном. Лицо Леонида Александровича кажется Алексею очень усталым, даже хмурым, пожалуй. На Варю он вообще старается не смотреть. Да она и сидит так, что почти все время находится в тени от верхней полки. Кречетов, видно, из вежливости задает Алексею несколько ничего не значащих вопросов, а как только проводник приносит постели, сразу же предлагает:
— А что, если мы с вашего разрешения, Алексей Васильевич, ляжем спать? Время-то позднее.
— Да, да, конечно!.. — торопливо отзывается Алексей, ибо разговор у них явно не клеится.
И он выходит из купе, прикрыв за собой дверь. В коридоре вагона почти никого нет. Только какой-то средних лет мужчина слишком уж поспешно, как кажется Алексею, отходит от окна перед их купе.
«Не похоже, чтобы он был нашим четвертым соседом, — невольно думает о нем Алексей. — Чего бы ему стоять здесь так долго, ведь чемодан и макинтош его давно уже лежат в купе на верхней полке…»
Подозрительный пассажир прохаживается теперь по коридору, не обращая на Русина никакого внимания.
«А может быть, он охраняет Кречетова? — продолжает рассуждать о нем Алексей. — Но тогда ему лучше было бы устроиться четвертым пассажиром в нашем купе. Да так оно, наверно, и есть…»
Подождав минут десять, Русин решается приоткрыть дверь. Ну да, Леонид Александрович и Варя улеглись уже и даже потушили верхний свет. Алексей гасит и настольную лампу, включая плафон ночного освещения. Свое нижнее место он сразу же уступил Варе и без особого труда взбирается теперь на верхнее. А четвертого пассажира все еще нет. Алексей засыпает, так и не дождавшись его.
…Просыпается Русин около восьми. Похоже, что все еще спят в его купе. На второй верхней полке он видит теперь чью-то спину. Внизу спит Варя, укрывшись с головой легким летним одеялом.
Алексей торопливо одевается, намереваясь встать первым. Но когда спускается со своей полки, обнаруживает, что Леонида Александровича в купе уже нет. Стараясь не шуметь, Русин осторожно открывает дверь и выходит в коридор.
— А, вы тоже проснулись уже, молодой человек? — слышит он веселый голос профессора Кречетова.
Леонида Александровича не узнать — будто совсем другой человек. У него теперь очень доброе, пожалуй, даже веселое лицо. Большой лоб с тремя глубокими морщинами, темные, с сильной проседью волосы, крутой («волевой», — отмечает про себя Алексей) подбородок. Рост выше среднего и не просто широкие плечи, а плечи человека, занимающегося спортом.
Алексей и сам увлекается гимнастикой, которую считает более высокой категорией физической культуры человека, чем все остальные виды спорта. А спортсменов распознает он обычно по соотношению их талии и плеч. Особенно это бесспорно, когда человек в летах и талию уже не так-то просто сохранить, не занимаясь спортом. А Кречетову, видимо, около пятидесяти (потом Алексей узнает, что ему уже за пятьдесят).
— Я вообще встаю рано, — отвечает Леониду Александровичу Русин.
— Это похвально, — улыбается профессор. — Утром все видишь по-иному, даже если утро ненастное. А за окнами-то какая прелесть! И вообще я вам скажу — на отличнейшей планете мы с вами живем! Я бы даже сказал — на уникальной планете. Это ведь только у вас, фантастов, чуть ли не каждый астероид обитаем, не говоря уже о планетах. А я, должен вам признаться, боюсь, что мы очень одиноки. Во всяком случае, в радиусе нескольких десятков световых лет. И учтите, я слыву в нашем институте оптимистом. Да я и на самом деле оптимист!
В этом у Алексея теперь почти не остается сомнений, хотя заявление Кречетова об одинокости Земли кажется ему слишком мрачным.
— Вы имеете в виду разумную жизнь только на углеродной основе? — спрашивает он профессора.
— Да, только такую. Никакой другой не признаю. На нашей планете, да, видимо, и на большинстве других достаточно крупных планет в начальном этапе их развития условия для возникновения жизни на кремниевой основе были ведь куда более благоприятные. И все-таки жизнь возникла гораздо позже, когда Земля в процессе эволюции обогатилась органическими соединениями. И вообще, дорогой Алексей Васильевич, я вижу глубокий смысл в том, что в основе жизни лежат такие легкие химические элементы, как водород, углерод и кислород, а не более тяжелый кремний или германий.
«Надо бы как-то перевести разговор на нейтрино…» — думает Алексей, а профессор Кречетов и не собирается менять тему, напротив, он заявляет:
— Я, знаете ли, вообще сожалею, что посвятил себя физике, а не биологии. Это ведь куда более тонкая материя. Только биологам, по-моему, недостает того, я бы сказал, изящества эксперимента, которым владеют физики. Да и вообще, для того чтобы успешно заниматься вопросами биологии на молекулярном ее уровне, по-моему, нужно сначала получить степень доктора физико-математических наук.
— А изучение таинственного нейтрино разве менее интересно? — удивляется Алексей.
— Ну, теперь-то оно не такое уж таинственное, хотя было открыто, как говорится «на кончике пера», а экспериментально обнаружено уже совсем недавно. Померкла в связи с этим его слава и как неуловимого.
— Да, я это знаю, — кивает головой Алексей. — И все-таки нейтрино продолжает оставаться частицей довольно загадочной.
— Не знаю, не знаю, — задумчиво произносит Кречетов. — Я бы этого не сказал. Мы знаем теперь о нейтрино вполне достаточно, чтобы не только регистрировать его присутствие вспышками сцинтилляционного счетчика и другими детекторами излучения, но и…
Но в это время шумно открывается дверь купе и в коридор выходит, к великому удивлению Алексея Русина, его коллега по жанру Сидор Омегин.
— Так это вы наш четвертый сосед по купе! — оживленно восклицает Кречетов. — Вот кого я действительно считал таинственным, — добавляет он, смеясь, и протягивает руку Омегину. — Будем знакомы — Кречетов Леонид Александрович.
— Омегин Сидор Евсеевич. И совсем не таинственный. Я раньше всех в наш вагон пришел и сразу же к соседям… Там наши с Русиным коллеги. Вот и заболтался до двенадцати…
— А кто из коллег? — интересуется Алексей.
— Фрегатов и Семенов.
— Как, и Фрегатов тоже?
— Ну да. Проспорили с ним почти всю ночь.
— Да, теперь не будет нам в Гагре спокойного житья, — полушутя, полусерьезно вздыхает Русин. — Это ведь все фантасты, — обращается он к Кречетову.
— Ну, так это же очень интересные собеседники! — довольно восклицает Леонид Александрович. — Кстати, у меня к вам много претензий.
— Это профессор физики, — объясняет Алексей Омегину. — Ты только Фрегатову об этом не говори — не даст ведь спокойно доехать до Гагры.
— Нет, нет, Сидор Евсеевич, — протестующе трясет головой профессор Кречетов. — Пусть заходит, охотно с ним поспорю. Это не он ли написал роман «Счастливая планета»?
— Нет, это творение Семенова.
— А вы его читали? — спрашивает Кречетов Омегина.
— Да так, полистал… Ужасная скучища! Я ему так прямо и сказал… Чуть не поругались из-за этого. А ты разве не читал его романа, Алеша? — обращается Омегин к Русину. Никогда прежде Сидор не называл его по имени, но ведь от него всего можно ожидать. Он и на «ты» перешел так же бесцеремонно. — В общем-то правильно, конечно, сделал, а я вынужден был полистать — он подарил его мне. Роман этот про очень счастливую жизнь на какой-то планете. Ну что может быть скучнее?
— Смотря какое счастье ты имеешь в виду, — замечает Русин.
— Да и не в счастье там дело, — морщится Кречетов. — На такой «идеальной планете» вообще ни о какой жизни не может быть и речи, и уж во всяком случае о разумной.
— Дядя Леня, а мы будем сегодня завтракать? — раздается вдруг голос Вари.
Алексей и не заметил, как она приоткрыла дверь купе.
— Ну, а как же, Варюша, — ласково отзывается Леонид Александрович. — Вот и молодых людей пригласим.
— Ну, я пойду тогда умываться.
И она выходит из купе в легком светлом халатике, а Омегин, смешно разинув рот, смотрит ей вслед.
— Это что, наша спутница?
— Это племянница профессора Кречетова, — торопится уточнить Русин, опасаясь, что Омегин может позволить себе какую-нибудь вольность.
— А и в самом деле, товарищи фантасты, давайте-ка сообща? — снова приглашает их Леонид Александрович. — Варя будет у нас за хозяйку.
— Что за вопрос? — широко улыбается Омегин. — Я лично просто счастлив буду. Только ведь у меня…
— Ничего, ничего! — успокаивает его Кречетов. — Зато у нас все в избытке. Варя позаботилась.
— Вы не беспокойтесь, Леонид Александрович. Обо мне тоже ведь позаботилась мамаша, — улыбается Алексей.
— Ну, это тогда на обед. А на завтрак мы вас приглашаем.
— Ты видал, какая девушка? — восхищенно шепчет Омегин, едва профессор уходит в купе. — Я сейчас сбегаю к Фрегатову. У него, кажется, осталось еще что-то в бутылке от вчерашнего…
— А я тебя прошу не делать этого, — хмурится Русин. — Кречетов известный ученый, и неудобно…
— Да что же неудобного-то? Что они, известные ученые, не люди разве?
— А я тебя очень прошу воздержаться от этого, — слегка повышает голос Алексей. — Не будем начинать с этого наше знакомство с Кречетовыми.
— Ну хорошо, тогда коньяк на обед.
«Надо же, чтобы так не повезло? — сокрушенно вздыхает Алексей. — Лучше уж было бы с Фрегатовым попасть в одно купе. Представляю себе, какое впечатление сложится у Кречетова о нас, фантастах… За коньяком он хотел сбегать! У Вари от этого коньяка и без того, наверно…»
А Варя уже возвращается в купе. Через плечо у нее полотенце, в руках мыло и зубная щетка с тюбиком пасты. Лицо свежее, сияющее. Копна густых русых волос так и полыхает в солнечных лучах, когда она проходит мимо окон. И никакой косметики. Чем же тогда занимается она по утрам у своего окна?…
— С добрым утром, Алексей Васильевич, — кивает Варя Алексею, поравнявшись с ним.
— Познакомь же меня, — шепчет Русину Омегин, но Алексей делает вид, что не слышит его.
А Варя уже скрывается в купе, закрывая за собой дверь.
— Ну что же ты? — обиженно морщится Омегин.
— Успеется еще, — смеется Алексей. — Почти сутки будем вместе, да и в Гагре тоже…
— А они в Гагру?
— И даже в наш Дом творчества. Только ты учти, Омегин, у Вари есть жених…
— Подумаешь — жених! Вот если ты только?…
— Да и я тоже… — хмурится Алексей.
— Ну-с, прошу вас, друзья! — энергично открывает дверь Леонид Александрович.
На столике в купе пестрая салфетка, на ней — бутерброды, тарелка с помидорами, масленка с маслом и еще что-то.
— Будет и чай, — весело сообщает Варя. — Я уже заказала проводнику.
— А спиртного ничего нет, — разводит руками Леонид Александрович. — Уж извините…
— А мы непьющие, — заявляет вдруг Омегин.
— Так я вам и поверил! — смеется профессор.
Омегину очень хочется сесть рядом с Варей, но Алексей опережает его. На Варе теперь пестрый сарафанчик (и когда только успела переодеться?), он очень ей идет, так же, видимо, как и вообще все, что бы она ни надела на себя. Так, во всяком случае, кажется Алексею.
— Ну-с, а теперь приступим к скромной трапезе, — приветливо улыбаясь, произносит Кречетов. — Прошу вас!
Но тут широко раздвигается дверь и в купе просовывается рыжая голова Фрегатова.
— А, вот он где! Ба, да тут и Русин!.. Это что же такое — выездной пленум фантастов на брега Черного моря?
— Это ваши друзья, наверно? — кивает Кречетов на Фрегатова и выглядывающего из-за его плеча Семенова.
— Да, это те самые фантасты, о которых я говорил вам, — без особого энтузиазма подтверждает Омегин.
— И один из них — автор «Счастливой планеты»?
— Да, вот тот, что сзади, — комментирует Омегин. — Познакомьтесь с профессором Кречетовым, товарищ Семенов. Он в восторге от вашего романа.
— Заходите, заходите, пожалуйста, товарищи! — приветливо кивает им Леонид Александрович. — В тесноте да не в обиде, как говорится. А роман ваш я действительно читал.
— И он вам, в самом деле, понравился?
— Я не берусь судить о нем с чисто литературных позиций, но мне думается…
И тут завязывается научный спор, в пылу которого участники его забывают не только о бутербродах Вари, но и о принесенном проводником чае.
— Я не буду спорить с вами о возможности небелковой материальной основы жизни. Допускаю даже азотную планету… — пытается высказать свою мысль Кречетов, но его сразу же перебивает Русин:
— Но тогда моря и океаны заполнятся ведь жидким аммиаком!
— Ну и что же? — набрасывается на него Семенов. — Это ведь только на Земле господствует кислород, а во всех внешних планетах солнечной системы, начиная с Юпитера, азот. Зато метеорология азотной планеты куда благоприятнее нашей кислородной, жидкая фаза которой имеет значительно меньший молекулярный вес, чем средний молекулярный вес земной атмосферы. Поэтому-то и неспокойна наша атмосфера, насыщенная парами воды. А небо азотных планет должно быть вечно безоблачным, без гроз, дождей и снегопадов…
— Я же и не спорю с этим… Я не против такой возможности, — удается, наконец, произнести несколько слов профессору Кречетову.
И снова взволнованный голос Алексея Русина:
— И вы допускаете жизнь на такой планете?
— Он допускает. Об этом свидетельствует его роман, — подтверждает Кречетов. — Но и я готов допустить на такой планете только какую-то низшую форму жизни…
— А я нет! — упрямо трясет головой Русин. — Не может быть никакой жизни на такой планете!
— Ну вот, снова ограничение! — сокрушенно разводит руками Омегин.
— А я не понимаю, почему Русин допускает жизнь только на белковой основе, а не на кремниевой? Вы же не против иных форм жизни, профессор? — спрашивает Фрегатов.
— В принципе не против. Биология живых существ должна, видимо, определяться химическим составом планеты. А поскольку нет пока достаточной ясности в характеристике живой материи, воссоздание биологии какой-нибудь иной, чем наша, планеты лежит, конечно, в области смутных догадок.
— То есть в области фантастики! — смеется очень довольный этим заявлением профессора Омегин, убежденный сторонник смутных догадок.
— Да, в какой-то мере, — соглашается с ним Кречетов.
— Не будем спорить сейчас о степени смутности наших догадок в научной фантастике, — предлагает Фрегатов, — но в допущении возможности жизни на азотной планете нет ведь ничего антинаучного.
— Ну, а как же могла она там возникнуть? — спрашивает Русин. — Как осуществлялась на ней миграция химических элементов? Если мы исключаем из этого цикла господа бога, смыслящего в химии, то кто помог «встретиться» там химическим элементам, которые образовали затем органические вещества, на основе которых…
— Ну, знаешь ли, если еще и в такие детали вдаваться в научной фантастике!.. — почти возмущенно восклицает Омегин.
— А может быть, мы все-таки будем завтракать? — робко предлагает Варя, протягивая спорщикам бутерброды.
Чувствуя, что Варе не очень интересен, а может быть, даже и неприятен этот спор, Алексей готов прекратить его, хотя он так полон протеста, что и есть уже не хочет. А Фрегатов не только не отказывается от бутерброда, но и откусывает от него большую его половину, не собираясь, однако, прекращать полемику.
— Вас смущает, что на азотной планете не будет дождей и рек, а жидкий аммиак во впадинах ее коры окажется слишком спокойным? — обращается он к Русину. — А почему бы не допустить, что химические элементы такой планеты «встретятся» в нужных сочетаниях в результате одних лишь тектонических явлений?
— Но ведь это будет совсем уж исключительный случай…
— Да, но в условиях неограниченного времени и планет, которыми располагает такой экспериментатор, как природа…
— Да, да, — утвердительно кивает Кречетов. — Теория вероятности допускает это. Допустим и мы, что жизнь на такой планете возникла. А что дальше? Каково ее дальнейшее развитие? На вашей идеальной планете, товарищ Семенов, отсутствует ведь даже наклон ее оси. А это исключает смену времен года и необходимость живых существ приспосабливаться то к летней жаре, то к зимнему холоду. И как же вы не понимаете, что именно «неидеальность» нашей планеты, ее дождливое, грозовое небо (кстати, не забывайте о роли грозы в возникновении жизни!), ее суровые зимы и летний зной как раз и вынуждали живые существа приспосабливаться к условиям, а следовательно, и совершенствоваться.
— Но возможны ведь и другие стимулы эволюции живых существ, — не очень уверенно произносит Семенов.
— А какие? Вы в своем романе даже не намекаете на них.
— Может быть, действительно прекратим на этом полемику? — неожиданно предлагает Фрегатов.
На сей раз никто не возражает.
23
В Гагру они прибывают рано утром. У подъезда светлого, типично южного вокзала их уже ждет автобус Литфонда. Минут через пятнадцать он почти битком наполняется литераторами, членами их семей и чемоданами. Из знакомых, кроме приехавших вместе с ним фантастов, Русин узнает еще человек пять москвичей, остальные либо из областных отделений, либо из республиканских союзов писателей. И конечно, как всегда, кто-нибудь, никакого отношения не имеющий не только к Союзу писателей, но и к литературе вообще, но по самой официальной путевке. Факт этот более, пожалуй, фантастический, чем некоторые произведения фантастов, ибо никто из администрации Литературного фонда просто не в состоянии дать этому объяснение.
Несмотря на тряску и шум, в автобусе сразу же завязывается оживленный разговор. Кто-то интересуется погодой и температурой моря, кто-то ценами на фрукты, а очень смуглый человек явно кавказского типа, оказавшийся местным жителем, вдруг заявляет:
— А знаете, дорогие курортники, нас ведь вчера тряхануло.
— То есть как это — тряхануло? — недоумевает пожилой писатель, сидящий с ним рядом.
— Что такое землетрясение, знаешь? Вот оно и тряхануло.
— Да быть этого не может! — восклицает писатель. — Каждый год сюда езжу и не помню, чтобы хоть раз было такое.
— Сами удивляемся, — пожимает плечами местный житель.
— В самом деле, очень странно, — замечает и Семенов. — Район тут не такой уж сейсмический…
— А чего вы удивляетесь? — перегибается к ним с переднего сиденья Фрегатов. — В каком-то справочнике по Кавказу я прочел, что «геологическая молодость горнообразовательных процессов, создавших современный рельеф Кавказа, проявляется в ярко выраженной сейсмичности и в настоящее время».
— Спасибо за цитату, — усмехается Омегин. — Утешил, называется!..
— А справка, между прочим, достоверная, — подтверждает сидящий рядом с Омегиным пожилой литератор из Еревана. — Кавказские горы действительно очень еще молодые. У нас в Армении особенно сейсмичен район между Ереваном и Араратом. Он так и называется — Араратской группой очагов. А в полосе Черноморского побережья — это районы Анапы, Туапсе, Сочи, Сухуми, Поти и Батуми.
— А Гагра? — с тревогой в голосе спрашивает какая-то женщина с ребенком.
— Тут это очень редкое явление, — успокаивает ее ереванец.
Алексей все посматривает на Кречетова, который не произнес пока ни слова, но по всему чувствуется, что очень внимательно прислушивается к разговору. Русину кажется даже, что он встревожен чем-то. Продольные складки на его лбу стали заметно резче, сузились чуть-чуть и глаза.
«С чего бы это?… — недоумевает Алексей… — Не испугался же он…»
— Простите, пожалуйста, товарищ, — обращается вдруг Кречетов к местному жителю, сообщившему о землетрясении. — Вы не помните, когда это было?
— Как не помнить — хорошо помню. Около двух часов это было. Как раз перед обедом. Я тут у вас в Литфонде на кухне работаю. А когда тряхануло, у меня в руках противень с соусом был, ну, я и плеснул его на халат шефа. Знаете, что потом было? Хуже, чем само землетрясение!
Все невольно смеются. Это разряжает обстановку, порождает шутки, воспоминания подобных же случаев. А Кречетов даже не улыбается. Он достает записную книжку и торопливо листает ее. Это не ускользает от внимания Русина. Связь между сообщением о землетрясении в Гагре и беспокойством профессора Кречетова теперь кажется ему несомненной.
В вестибюле центрального корпуса Дома творчества прибывших встречает сестра-хозяйка и приглашает в кабинет директора. Директор очень вежлив, приветлив, но сдержан. Он знает, что сейчас предстоит самый драматический момент его деятельности — распределение комнат. Он уже не раз слезно просил делать это в Москве, но там тоже понимают, что сие такое, и не хотят «ущемлять» его прав.
С трепетом протягивает он руку к путевкам протиснувшегося к нему ближе всех полумаститого москвича, и сухощавое кавказское лицо его покрывается заметной бледностью.
Более четверти часа длится эта неприятнейшая процедура распределения комнат, и конечно же, никто не остается довольным. Даже тот полумаститый, которому досталась самая лучшая угловая в приморском корпусе на втором этаже. А Русин доволен. И не потому, что он тоже получил комнату в приморском корпусе (правда, на первом этаже и к тому же над котельной), а по той причине, что рядом с профессором Кречетовым.
Спустя еще полчаса удается устроить и Варю неподалеку от Дома творчества. Профессор очень доволен, а Варя просто в восторге — она ни разу еще не бывала в таких домах с отдельными комнатами и лоджиями, выходящими на море. В штормовую погоду брызги от волн иногда перелетают тут даже через высокий барьер.
— Нравится тебе? — спрашивает Варю Леонид Александрович, хотя и так видит, что ей все нравится.
— О, тут прекрасно! — восклицает Варя.
— Вот и будешь находиться у меня, сколько захочешь.
— Я бы и ночевала тут в лоджии…
— Нет, ночевать будешь на той квартире, которую мы сняли. А тут, как говорится, «не положено». А бояться тебе нечего. Мне твою хозяйку сам директор порекомендовал. Да и я за тебя вполне спокоен, раз тут, в Гагре, нет твоего неандертальца.
— Неандертальца? — удивляется Варя, но, вспомнив, что дядя называет так Вадима, густо краснеет. — Ну, почему вы так о нем, дядя Леня?
— Сам не знаю, — смеется Леонид Александрович. — Такое впечатление он на меня производит. А какого ты мнения об Алексее Русине?
— Не знаю даже… Очень уж серьезный какой-то…
— А тебе, значит, несерьезные больше нравятся?
— Ну, почему вы это решили, дядя Леня? — надувает губки Варя.
— По этому неандертальцу твоему… Ну ладно, ладно! — снова смеется Леонид Александрович. — Пошли на пляж! Смотри-ка, там уже почти все фантасты.
Из лоджии им видно, как Фрегатов, Семенов и Омегин раскладывают на пляжной гальке свои поролоновые матрасики.
— Уж очень они шумные, эти фантасты… — морщится Варя. — Не говорят по-человечески, а все спорят.
— Тебе, значит, скучно с ними?
— Да, не весело, — простодушно признается Варя. — Этот, Омегин, кажется, еще ничего… А остальные…
— Ну да, я так и знал, что Омегин тебе понравится, — усмехается Леонид Александрович.
— Почему же?
— У него есть что-то общее с твоим неандертальцем… Ну, все! Больше не буду. Даю слово! И пошли!..
Но в это время в их дверь раздается деликатный стук.
— Войдите! — кричит Леонид Александрович, почти не сомневаясь, что это Русин. Но в дверях показывается широкоплечий молодой человек в морском кителе.
— А, Виктор Тимофеевич! — весело восклицает Леонид Александрович. — Уже разыскали, значит? Ну и оперативность! Даже дорожную пыль не даете смыть…
— Да что вы, профессор…
— Ладно, ладно, шучу! С пылью еще успеется. А ты, Варя, не жди меня, иди сама, я задержусь немного. Вот познакомьтесь, — кивает он молодому человеку, — это моя племянница Варя. А этот богатырь — кандидат наук Виктор Тимофеевич Пронин.
— Ну, как у вас тут? — спрашивает он Виктора Тимофеевича, когда Варя уходит. — Экспериментировали вчера?
— Экспериментировали, Леонид Александрович. А как это вы догадались?
— А ко мне вы прямо со своего «Наутилуса»? — не отвечая, снова спрашивает его профессор.
— Да, с батискафа.
— Прямо к берегу на нем причалили?
— Да нет, он в открытом море, а сюда я на моторке. Вон к тем камням пришвартовался. Семен Михайлович послал меня узнать, когда вы…
— А я сейчас. Вот только ключ передам Варе.
— Но ведь вы же не отдохнули с дороги…
— У меня почти целый месяц впереди.
24
Корнелий с Вадимом прилетели на Кавказ самолетом на день раньше профессора Кречетова и поселились на окраине Старой Гагры. Им еще вчера удалось раздобыть моторную лодку, на которой они курсируют теперь вдоль пляжа Литфонда, держась на таком расстоянии, чтобы рассматривать его с помощью оптики. Этим занимается лично Корнелий, вооруженный мощным двенадцатикратным морским биноклем. Профессора Кречетова неоднократно видел он, когда тот приходил к Вариному отцу, не сомневается к тому же, что на пляже будет он в обществе Вари. Пока, однако, ни Вари, ни Леонида Александровича ему не удается обнаружить.
— Зря мы так рано… — ноет Вадим. — Да и не пойдут они на пляж сегодня. Устали, наверно, с дороги.
— Устали! — усмехается Корнелий. — Ты не видел разве, какой профессор здоровяк? Да и Варя не усидит, а одну он ее на море не отпустит.
— Но не видно же их нигде. Смотри, сколько народу на пляже — видать, вся писательская братия вывалила, а их все нет. Небось полно всяких литературных знаменитостей. Будут теперь вокруг Вари увиваться…
— Можешь не волноваться, знаменитостей пока что не видно. Во всяком случае, ни Федина, ни Симонова телескоп мой не обнаружил. Да и вообще знаменитости в эту пору сюда не ездят. Они сейчас в Дубултах или Коктебеле. Это уж я точно знаю. У них не тот возраст, чтобы отдыхать, а тем более творить тут что-нибудь в этом июльском пекле. Они сюда в сентябре или октябре…
— Ну, а те, что помоложе! Евтушенко, например?…
— Этот может. Вон, кстати, какой-то длинный парень, очень на него похожий.
— Брось разыгрывать!..
— Чего разыгрывать? Определенно, это он! Теперь как начнет читать Варе свои стихи! Что тогда в сравнении с ним ты со своими лошадиными остротами?
Вадим пытается вырвать у Корнелия бинокль, но глава корпорации так отталкивает его, что он чуть из лодки не вываливается.
— Да не лапай ты этот хрупкий инструмент, чертов буйвол! — ругается Корнелий. — Вон Варя в поле зрения. Спускается на пляж по лесенке. Сейчас и сам профессор должен появиться… Но нет, не видно что-то… Неужели она одна? Как же это он отпустил ее одну?…
— Дай же ты мне хоть на Варю-то посмотреть, — молит Вадим.
— А ты зачем сюда приехал? — рычит на него Корнелий. — Амурами заниматься? Ромео из себя изображать? У нас черт знает какой важности задача международного значения, а он… А ну, заводи мотор да подай чуть ближе к берегу.
Пока обиженный Вадим возится с мотором, Корнелий обнаруживает и Кречетова. Он тоже спускается на пляж и подходит к Варе, чтобы передать ей ключ от своей комнаты.
— Ну, наконец-то! — облегченно вздыхает глава корпорации. — Появился и дядюшка. Но что такое?… Он снова куда-то уходит… И не один, с ним какой-то морячок… Э, да это, видно, тот, что в моторке мимо нас недавно проскочил! Да что ты там возишься? Заводи скорее! Видно, профессора повезут куда-то…
Теперь Корнелий уже не отводит глаз от бинокля. Профессор в сопровождении широкоплечего моряка действительно садится в моторную лодку, причаленную к одной из глыб железобетона, оставшегося от старой набережной, разрушенной несколько лет назад свирепым штормом.
— Они берут курс на юго-запад, — сообщает Корнелий Вадиму. — Держись и ты этого направления.
— Так ведь у них моторка не чета нашей. Обгонят они нас в два счета…
— Ну и пусть обгоняют. Мы будем левее их держаться, поближе к берегу и на таком расстоянии, чтобы они не смогли нас рассмотреть. Могут заподозрить? Ну, это едва ли. Смотри, сколько разных лодок в море! Что ж тут подозрительного, что и мы совершаем морскую прогулку?
— А что толку!
— Как — что? Надо же знать, куда его везут. Моторка держит курс в открытое море, но не в Турцию же.
Пропустив лодку с профессором Кречетовым вперед и значительно правее, Корнелий осторожно наблюдает теперь за ним в бинокль.
— Ты смотри, Вадим! Видишь, что там впереди по курсу их моторки?
— Подводная лодка?
— Нет, Вадим, это не подводная лодка. Это, наверно, батискаф. Ну, в общем — подводный дирижабль для исследования морского дна на больших глубинах. Сбавляй ход! Нам не следует к нему приближаться. Да, по всему видно, что этот профессор серьезное что-то замышляет. Не зря, значит, американцы им заинтересовались…
А профессор Кречетов теперь уже на палубе батискафа. В сопровождении широкоплечего моряка он проходит в рубку и скрывается из виду.
— Интересно бы узнать, что у них там? — мечтательно произносит Корнелий. — Жора Диббль немалые бы деньги нам за это отвалил. Но туда нам даже с помощью твоей красотки не попасть…
— А ты лучше вон куда глянь, — толкает его в бок Вадим. — Видишь, моторка пронеслась? Она тут давно уже циркулирует. Не за нами ли наблюдает кто-то?…
Корнелий торопливо ловит моторку в поле зрения своего бинокля.
— На ней тоже двое, — сообщает он Вадиму. — И один из них с аквалангом. Значит, не за нами… За нами ни к чему с аквалангом. А вот не за профессором ли?
— Если за ним, то, значит, заранее знали, что он в подводный дирижабль будет спускаться, — заключает Вадим.
— Ну, это едва ли, — сомневается Корнелий. — Не может же не обратить на это внимание экипаж батискафа или пограничники.
— А тут еще и пограничники имеются?
— А ты как думал?
— Я в этом деле человек серый.
— Тебе это лучше знать.
— То-то и оно.
— Тогда, может быть, акваланг этот у них для отвода глаз? Поныряли с ним возле берега, а потом маханули подальше. Вроде проветриться, а на самом-то деле за нами…
— Да, возможно… Скорее всего — мерещится нам все это.
— На нервной почве, — ухмыляется Вадим.
— Нечего зубоскалить! Глянь лучше на моторку, что профессора привезла. Не уходит. Значит, он сюда ненадолго, и нам нужно поторапливаться.
— Куда поторапливаться?…
— К Варе. Давай поскорее к берегу и дуй к ней галопом! Говори, что хочешь. Клянись в любви, уверяй, что не смог без нее в Москве и дня прожить, что… В общем все, что только в голову взбредет, лишь бы только она поверила, что ты сюда из-за нее. Не сомневаюсь, что ей должна понравиться такая безумная любовь.
— Да ты что? — дико таращит глаза Вадим. — За кого меня принимаешь? Да я сроду никому ни в какой любви не объяснялся! Противно это…
— А как же твои победы?
— Ну, так это у меня без особых церемоний…
— Но тут необычный случай и придется с «церемониями». А для этого нужно было в свое время не только в киношку, а и в театр и в оперу заглядывать, стихи читать.
— На колени еще, может быть, перед нею?…
— А что ты думаешь, вполне может быть, что понадобится и это. Ну, а в общем-то ты порядочный лапоть и, конечно же, испортишь все дело, если начнешь работать в «лирическом ключе». Так что валяй так, как сможешь, своим методом, но чтобы у нее никаких сомнений, что ты сюда только из-за нее! Плавать умеешь? Ну, прыгай тогда в море и плыви к ней. А так тебя на литфондовский пляж с твоей явно не творческой физиономией ни за что не пропустят. У них тут на этот счет строго. Туда только в трусах и только морем можно проникнуть. И не робей — таких нарушителей границ литфондовского пляжа там и без тебя не мало.
25
Пока Алексей раздумывает над тем, удобно ли постучаться в дверь к профессору и спросить его, не пойдет ли он купаться, на пляже появляется Варя. Русин замечает ее из своей лоджии. К ней сразу же устремляется Сидор Омегин. Тут уж Алексей, не раздумывая более, торопливо берет полотенце и спешит на пляж.
— А где же Леонид Александрович? — спрашивает он Варю.
— Уехал куда-то, — беспечно отвечает Варя.
— Как — уехал?
— Вернее, уплыл, — уточняет Варя. — За ним зашли и увезли куда-то на моторной лодке.
— Не на прогулку же?
— Нет, не на прогулку, — смеется Варя. — На прогулку он взял бы, наверное, и меня. Видно, у него там дела. Дядя сказал, что повезут его на батискаф. Будут, значит, опускаться на дно морское.
— А что, собственно, нужно там, на дне Черного моря, профессору Кречетову? — удивляется Омегин.
— Я, право, не знаю, — смущенно пожимает плечами Варя. — Не интересовалась как-то…
— Ну, а ты, всезнающий фантаст, — обращается к Русину Омегин, — тоже, наверно, не объяснишь нам ничего?
— Я могу только догадываться. Мне известно, что профессор Кречетов связан с какими-то работами по программе Международного геофизического года. А геофизиков интересует сейчас проект верхней мантии.
— А что, разве и мы тоже решили добираться до этой верхней мантии со дна моря? — спрашивает подошедший к ним Фрегатов.
— Не думаю, — покачивает головой Алексей. — Хотя земная кора в глубоководной части Черного моря, так же как и под океанами, имеет схожее строение. Она там базальтовая, без гранитного слоя.
— Ну, а если не бурение скважин, то на дне Черного моря вообще нечего больше делать, — убежденно заявляет Семенов. — Оно ведь примерно со ста пятидесяти метров и до самого дна заражено сероводородом и лишено жизни. Да и не для физиков эта задача. Профессора Кречегова, как я понял из разговора с ним в поезде, интересует и не верхняя мантия вовсе. Его, по-моему, привлекает ядро нашей планеты.
— Но ведь это черт знает на какой глубине! — восклицает Омегин. — Кажется, тысячи три километров?
— Две девятьсот, — уточняет Русин. — Но мне думается, интересует его даже не это, а внутреннее ядро, которое еще глубже. До него пять тысяч километров.
— И оно, кажется, жидкое? — спрашивает Омегин.
— Большинство ученых полагают, что наоборот — твердое, а в жидком состоянии лишь внешнее ядро. Но и само понятие «жидкое» тут особое, ибо вещество находится там под давлением в миллион с лишним атмосфер…
— Знаем, знаем! — перебивает его Фрегатов. — Это каждый школьник знает. А вот насчет внутреннего ядра, где давление почти втрое больше, действительно идут споры. Одни считают его железным, другие силикатным.
— А я читал, будто бы загадку эту решили метеориты, — вставляет Сидор Омегин.
— Э, ничего они не решили! — пренебрежительно машет рукой Фрегатов. — Хотя они и являются, как полагают некоторые ученые, осколками погибшей планеты.
— И притом почти такой же, как и наша, — убежденно заявляет Русин. — Весьма вероятно в связи с этим, что каменные метеориты соответствуют химическому составу мантии, а железные — ядру планеты.
— А я думаю, что в ядре — звездная материя, — возражает ему Фрегатов. — Это утверждают и немецкие ученые Кун и Риттман. Они считают, что центральное ядро нашей Земли состоит из ионизированного водорода.
— А англичанин Джеффрис утверждает, что ядро либо железное, либо оливиновое, состоящее из силикатов магния и железа. Такого же мнения и наши ученые. Разница у них лишь в том, что вместо магния они предполагают наличие в железном внутреннем ядре никеля.
— Почему же тогда Земля приобрела такую форму, какую должен был принять жидкий шар? — удивляется Омегин.
— Да, правильно, — соглашается с ним Русин. — Земля тоже жидкая, но не в буквальном смысле, а лишь вследствие ползучести ее вещества и длительности воздействия на него центробежной силы. В этом-то и состоит противоречивость свойств вещества Земли. Когда на него действуют кратковременные силы, подобные сейсмическим толчкам, оно ведет себя, как легированная сталь, а когда оказывается под воздействием медленных сил — обретает пластичность.
— Пожалуй, все-таки профессора Кречетова интересует главным образом внутреннее ядро, находящееся в сверхплотном состоянии, — задумчиво произносит Фрегатов. — Может быть, даже состоит оно из совершенно неизвестного нам вещества. Вот это-то вещество и зондируют, наверно, коллеги профессора Кречетова нейтринными импульсами.
— А есть разве такое вещество, с которым нейтрино взаимодействует? — удивляется Омегин. — Оно ведь…
— Скрозь все, хочешь ты сказать? — усмехается Фрегатов.
— Ваша ирония тут, пожалуй, ни к чему, — серьезно замечает Фрегатову Семенов. — Нейтрино действительно ведь почти неуловимо. Гамма-лучам, слабо взаимодействующим с ядрами вещества, нужно пройти в среднем два с половиной — три метра свинца, прежде чем «завязнуть». А нейтрино для этого должно пронизать сплошную толщу свинца размером в пятьдесят световых лет.
— Но тогда это явно бредовая затея — уловить поток нейтрино, проходящий лишь сквозь нашу маленькую планету! — шумно восклицает Омегин. — Удалось разве кому-нибудь «притормозить» хоть одно нейтрино?
— Ай-яй-яй, научный фантаст Омегин! — смеется Фрегатов. — Разве можно быть таким скептиком? О таком ученом, как Бруно Максимович Понтекорво, слышал ли хоть что-нибудь?
— Ну ладно, хватит меня разыгрывать, я ведь серьезно… — сердится Омегин.
— И я тоже вполне серьезно. А тебе надо бы знать мнение Понтекорво по поводу неуловимости нейтрино. Тем более что в чем-то он с тобой согласен…
— В самом деле, Фрегатов, зачем вы превращаете все это в шутку? — хмурится Семенов.
А Русин лишь понимающе улыбается. Он знает манеру Фрегатова разговаривать с такими людьми, как Омегин.
— Почему же в шутку? — удивляется Фрегатов. — Понтекорво тоже ведь считает, что пропускать одно нейтрино сквозь астрономическую толщину вещества для того, чтобы оно с достаточной вероятностью с ним прореагировало, нереально. Или, как остроумно выразился наш коллега, бредово. И он предложил обратное — пропустить астрономическое число нейтрино через разумную, скажем, метровую толщину жидкого или твердого вещества. Такой эксперимент и был осуществлен в 1956 году.
— Тогда нейтрино взаимодействовало, кажется, с протоном? — спрашивает Семенов.
— Если мне не изменяет память, — замечает Алексей Русин, — это было не нейтрино, а антинейтрино.
— Да, память вам не изменяет, — снисходительно улыбается Фрегатов. — Я умышленно не уточнял эти подробности, чтобы нашему коллеге… Ну хорошо, хорошо, Сидор! Зачем же обижаться? Никто, кроме тебя, не осуждает ведь меня за столь популярное изложение не такой уж простой проблемы макроскопического проявления слабых взаимодействий. Да, вы правы, коллега Семенов, в этом эксперименте антинейтрино, как совершенно справедливо поправил вас наш общий друг Алексей Русин, взаимодействовало с ядрами водорода, что и было зарегистрировано сцинтилляционным счетчиком. А что такое сцинтилляция, я не стану объяснять, чтобы не обидеть кое-кого из наших коллег, хотя Варя, наверное, этого не знает.
— Да, Варя не знает, — зло бросает Сидор Омегин, — и не испытывает из-за этого…
— А я не удивлюсь, — прерывает его Фрегатов, — если окажется, что ничего «не испытывает» и еще кое-кто. Но продолжим наше собеседование. Хотя, как выясняется, все тут настолько эрудированны, что я уже и не знаю, нужно ли рассказывать, как в 1962 году был поставлен подсказанный Понтекорво эксперимент, в котором нейтрино взаимодействовало уже с ядрами хлора-37. Я не ошибся, Алексей Васильевич, на сей раз действительно было нейтрино, а не его антипод? Спасибо. Ну, а то, что для этого пришлось пропустить через искровую камеру сто тысяч миллиардов нейтрино, прежде чем удалось зарегистрировать пятьдесят одно взаимодействие, всем, конечно, хорошо известно.
— К чему эта ирония, Фрегатов? — укоризненно покачивает головой Русин. — Все и так знают вашу образованность…
— Господи, какая там к черту образованность! — смеется Фрегатов. — Просто поначитался…
— Давайте все-таки поговорим серьезно. Не волнуют вас разве эксперименты профессора Кречетова?
— Какие же эксперименты? Он ведь теоретик.
— У него есть коллеги, вы же знаете. Неужели тайна недр нашей Земли менее интересна для вас, чем те планеты, которые вы описываете в своих повестях?
— Не в этом дело — просто я не очень верю в разгадку этой тайны с помощью нейтрино. Во всяком случае, в настоящее время.
— А я почти не сомневаюсь, что профессору Кречетову и его коллегам рано или поздно, но удастся заставить нейтрино или антинейтрино взаимодействовать с веществом детекторных приборов, — убежденно заявляет Русин. — И кто знает, может быть, это взаимодействие будет подобно взаимодействию фотона с веществом эмульсии фотопластинки.
— Тем более что у фотона и нейтрино есть что-то общее, — замечает Семенов.
— Что же именно? — удивляется Фрегатов. — Разве только то, что они не имеют массы покоя?
— Наверно, из-за этого у физиков тоже отсутствует покой, — хохочет Сидор Омегин.
Алексей Русин, хотя и очень увлечен этим спором, глаз с Вари, однако, не сводит. А она явно скучает. Весь этот разговор, конечно, нисколько не интересует ее. Но вдруг взгляд Вари начинает оживляться. Алексей прослеживает его направление и видит выходящего из моря здоровенного детину с волосатой грудью. Но ведь это… Ну конечно же, это Вадим Маврин!
На лице Вари сначала удивление, затем столь очевидная радость, что у Алексея начинает вдруг ныть сердце. А Варя вскакивает и не идет, а почти бежит навстречу Вадиму.
26
Ступив на рифленый настил палубы, несколько возвышающейся над корпусом поплавка батискафа, Кречетов шутит:
— Признайтесь честно: многое ли позаимствовано тут у профессора Пикара?
— Разве только идея подводного дирижабля, которую сам же Пикар, будучи в прошлом исследователем стратосферы, позаимствовал у воздухоплавателей.
— Ну, ну, дорогой мой капитан, — смеется Кречетов, — зачем же обижать почтенного ученого, сконструировавшего впервые в мире стратостат и первый в мире батискаф? А сравнение с дирижаблем тоже ведь весьма условно. Дирижабль испытывает постоянное давление, равное примерно одной атмосфере, а батискаф от одной до тысячи атмосфер.
— Но принцип все-таки тот же. Зато в отличие от батискафа конструкции Пикара поплавок нашего заполнен не бензином, а литием, дающим возможность в полтора раза увеличить подъемную силу и значительно улучшить маневренность.
Хотя подводное судно покачивается на легкой волне, профессор Кречетов, не держась за стальной канат-леер, уверенно идет к рубке с застекленными иллюминаторами. Опасаясь, что капитан станет поддерживать его при спуске в гондолу, профессор поспешно ступает на металлическую перекладину трапа.
Достигнув вестибюля, отделяющего вертикальную шахту от гондолы, Кречетов останавливается у люка, которым во время погружения задраивается гондола. Сквозь плексигласовое стекло иллюминатора видит он какую-то пучеглазую рыбу, с любопытством заглядывающую в вестибюль батискафа.
— Ну-с, профессор, что же вы остановились на полпути? — слышит Кречетов знакомый голос из гондолы батискафа. — Прошу вас!
Он быстро оборачивается и видит протянутые к нему руки академика Иванова. Залитый ярким электрическим светом, коренастый, лобастый и совершенно лысый, академик на фоне многочисленных щитов электроприборов и манометров в первое мгновение кажется Леониду Александровичу персонажем из какого-то научно-фантастического романа.
— Ну, дорогой Дмитрий Сергеевич, — громко восклицает Кречетов, — вы тут прямо-таки как настоящий конандойлевский доктор Маракот!
— Нет уж, кто угодно, только не Маракот! — энергично машет руками академик. — Вспомните-ка, как описывает его Конан-Дойл в «Маракотовой бездне». Во-первых, он называет его живой мумией, чего не скажешь обо мне. Телосложением я скорее похож на его же профессора Челленджера из «Затерянного мира», если только лишить его могучей ассирийской растительности. У меня от нее остались только мохнатые брови.
— Сдаюсь, сдаюсь! — смеясь, вздымает руки профессор Кречетов. — Ибо припоминаю, что по описанию Конан-Дойла у Маракота было суровое лицо не то Савонаролы, изобличавшего распущенность средневекового духовенства, не то Торквемады, возглавлявшего испанскую инквизицию.
— Что явно не имеет никакого отношения к нашему веселому и доброму Дмитрию Сергеевичу, — раздается из соседнего отсека гондолы молодой звонкий голос кандидата наук Скворцова.
— А, Миша! — протягивает ему руку Кречетов. — Приветствую вас, мой юный друг! Ну-с, чем порадуете, дорогие экспериментаторы? Значит, включали уже реактор?
— Включали, но энергию нейтринного импульса удалось повысить лишь вдвое.
— И это было вчера в два часа дня?
— Без пяти минут два, — уточняет Скворцов.
— Опять, значит, совпало с каким-нибудь сейсмическим происшествием? — спрашивает академик Иванов.
— Почему же совпало? — пожимает плечами Кречетов. — Это не могло не совпасть.
— А я бы сказал: этому трудно не совпасть, зная, что в год планета наша испытывает более трехсот тысяч землетрясений, — беспечно улыбается Миша Скворцов.
— А вы разве ничего не знаете о вчерашнем землетрясении в Гагре? И произошло оно около двух часов дня. Чем вы объясните подобную случайность?
— Вы, значит, все более убеждаетесь, Леонид Александрович, что нейтринная терапия нашей планете противопоказана? — задумчиво произносит академик Иванов.
— Так же, видимо, как для человека рентгенотерапия в больших дозах.
— Но мы ведь не собираемся лечить нашу планету, — удивляется Скворцов. — Речь идет пока лишь о нейтринографии ее нутра.
— Если бы только удалось получить нейтрино-грамму внутреннего ее ядра так же безболезненно, как и рентгенограмму сердца человека, — вздыхает профессор Кречетов. — И кто знает, может быть, впоследствии можно было бы подумать и о нейтрино-терапии планеты. Если я прав в своем предположении, что нейтринное облучение внутреннего ядра Земли вызывает сейсмические возбуждения в ее коре, то, пожалуй, можно будет и гасить наиболее опасные из этих возбуждений с помощью нейтрино. Вы, Миша, правильно назвали цифру триста тысяч землетрясений в год. И хотя из этого числа катастрофических сравнительно немного, от них все-таки ежегодно гибнет в среднем пятнадцать тысяч человек, а ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов.
— Да, есть над чем призадуматься, — вздыхает академик Иванов. — Но что же делать? Не приостанавливать же опыты?
— Придется, наверно, уменьшить мощность нейтринных импульсов.
— Что вы, Леонид Александрович! — удивленно восклицает Миша Скворцов. — Для того чтобы детекторы научно-исследовательского судна «Садко», плавающего по ту сторону планеты в Тихом океане, зафиксировали эти нейтринные импульсы, нужно, наоборот, усилить их.
— И я боюсь вот чего, — продолжает Кречетов, — похоже, что и американцы ведут подобные эксперименты.
— Ну, это едва ли, — усмехается академик Иванов. — При их страсти к сенсациям они давно бы разболтали об этом на весь мир.
— А на сей раз, видно, помалкивают до поры до времени. Хотят, наверно, удивить человечество разгадкой тайны земного ядра и побаиваются, как бы их другие не опередили. Ну, а что дает прием ваших импульсов на «Садко»?
— Пока нечем похвалиться. Видимо, плотность нейтринного пучка все еще недостаточна. Да и длительность импульсов нужно бы увеличить. Это-то как раз возможно, если бы не ваши опасения… С ними нельзя ведь не считаться. А не смогли бы вы теперь, Леонид Александрович, предсказать точный район землетрясения в момент очередного нашего зондажа?
Профессор Кречетов задумывается. Предложение академика Иванова кажется ему очень серьезным. Если бы удалось сделать такое предсказание, связь землетрясений с зондажем ядра планеты нейтринными импульсами была бы бесспорной.
— А знаете, — не очень уверенно произносит он, — над этим стоит подумать. Можете вы дать мне на это два-три дня?
— Конечно, Леонид Александрович.
— И еще одно условие — импульсы должны быть по возможности подобными тем, которые вы посылали в последний раз.
— Это тоже можно, — обещает академик. — А вы где же будете базироваться? В писательском Доме творчества шумно, наверно? Да и понадобиться что-нибудь может…
— Нет, нет, там вполне подходящая обстановка. Люди там более серьезным делом занимаются — романы пишут, — улыбается профессор Кречетов. — А уж мы как-нибудь… Да я уже и подружился там кое с кем. С научными фантастами. Любопытнейшая публика!
— А Ефремова там нет среди них? — интересуется Миша Скворцов.
— Ефремова нет, но и эти меня вполне устраивают. Страшные спорщики! И на любую тему. Конечно, дилетанты, но широкого профиля, так сказать. С ними не соскучишься.
— Ну, смотрите, Леонид Александрович, вам виднее. А в случае чего — прошу к нам на станцию Института океанологии в Голубой бухте.
— А вы теперь туда? Не сложно разве на такой махине?
— Так ведь это вам не пикаровский «Триест», — самодовольно усмехается молчавший все это время капитан батискафа. — Мы на атомном горючем, и автономность наша почти ничем не ограничена. Да и в скорости не уступаем даже океанографическим подводным лодкам…
— Хватит вам хвастаться-то, — добродушно посмеивается академик Иванов. — Отвезите-ка лучше профессора в Дом творчества писателей. Желаем вам успеха, Леонид Александрович.
27
Алексей Русин плохо спит в эту ночь. Просыпается рано, в начале седьмого, и больше уже не может заснуть. Решает встать. Сунув ноги в домашние туфли, выходит в лоджию. Солнце поднялось уже над горами гагринского хребта, и все суда в море полыхают теперь белым пламенем в его лучах.
Лоджия просторная, в ней вполне можно делать зарядку. Алексей без особого энтузиазма широко разводит руки в стороны, начиная первое упражнение своего комплекса. То и дело сбиваясь со счета и нарушая ритм, он вспоминает вчерашний вечер, проведенный с профессором Кречетовым и Варей.
Леонид Александрович предложил после ужина посидеть на каменных плитах старой набережной у берега моря, хотя Варе хотелось, видимо, пойти на танцевальную площадку на приморской территории Литфонда. Она надеялась, наверно, встретить там Вадима, о появлении которого в Гагре все еще не решилась сообщить дяде.
Профессор был задумчив и рассеян. На вопросы Вари и Алексея отвечал невпопад. Подолгу молчал, будто прислушиваясь к монотонному шуму волн и шороху гальки. А Алексей не знал, чем ему занять Варю, о чем говорить с ней? И хотя ему давно уже ясно было, что научные разговоры наводят на нее скуку, не смог придумать ничего лучшего, как попытаться объяснить ей происхождение морей и океанов. Ему казалось, будто он удивит ее, сообщив, что ученые до сих пор спорят о происхождении впадин, заполненных океанами и морями, и что «механизм» образования самой океанской воды все еще недостаточно ясен.
Варя, однако, смотрела не на таинственное море, а на луну, и Алексей решил рассказать ей кое-что о нашей спутнице. О том, что когда-то была она гораздо ближе к Земле, всего в двадцати тысячах километров, а в отдаленном будущем снова приблизится к ней, и настолько близко, что рассыплется на куски и опояшет Землю кольцами, подобно Сатурну.
А Варя все вздыхала и, видимо, не о судьбе луны, а о Вадиме. Алексею даже жалко ее стало, и он хотел уже попросить Леонида Александровича отпустить ее на танцплощадку, но профессор, задумчиво молчавший все это время, вдруг спросил:
— Вы, кажется, собираетесь написать роман-предупреждение, Алексей Васильевич? Пишете уже?… Это очень своевременно… Очень! Никогда еще не несли ученые такой ответственности за эксперимент, как теперь. Алхимики, экспериментировавшие с различными веществами в поисках чудодейственных камней мудрости и иногда взрывавшиеся в своих подземных лабораториях, рисковали главным образом своей жизнью. Физики первой половины нашего столетия, ковырявшиеся в недрах атомного ядра, подвергали опасности уже целые научно-исследовательские учреждения. А чуть попозже, овладев механикой цепных реакций тяжелых ядер и синтезом легких, поставили на карту судьбы человечества. Но теперь, торопясь с разгадкой тайн своей планеты, ученые могут вызвать еще большую катастрофу…
— Повторить судьбу Фаэтона? — заметно дрогнувшим голосом спросил Алексей.
Профессор не ответил ему, он снова погрузился в свои невеселые мысли. Но, помолчав несколько минут, вдруг заявил:
— А не пойти ли вам на танцплощадку, молодые люди? Только вы потом проводите Варю на ее квартиру, Алексей Васильевич.
И они пошли, хотя Алексей почти не сомневался, что Варю там ждет Вадим. Так оно и оказалось. Вадим действительно был на площадке, и не один, а с каким-то человеком, постарше его и довольно интеллигентным на вид.
— Познакомьтесь, пожалуйста, с моими московскими друзьями, Алексей Васильевич, — сказала Варя. — Это мой сосед по дому Вадим, а это его друг, инженер Корнелий Иванович. И знаете, если вы не имеете желания потанцевать, то обо мне не беспокойтесь, они меня потом проводят.
Конечно, было обидно, но Алексей сделал вид, будто его это очень устраивает и сразу же ушел к себе в комнату. Не зажигая света, выглянул из лоджии на пляж — профессор Кречетов все еще сидел у моря на глыбе светлых камней.
Чтобы отвлечься от неприятных для него воспоминаний, Алексей старается думать теперь о профессоре Кречетове. Что за эксперименты производит он со своими коллегами на батискафе? Скорее всего зондирует с помощью нейтрино внутреннее ядро планеты. Но как?
Алексей вспоминает теперь все, что ему известно о нейтрино и слабых взаимодействиях, наиболее загадочных явлениях современной науки.
С элементарными частицами вообще очень уж все неясно. Их уже несколько десятков, а теории их взаимосвязи все еще не существует. Арена их действия — ничтожно малое пространство, о котором мы тоже почти ничего не знаем, хотя и прозондировали его до расстояния порядка десяти в минус четырнадцатой степени сантиметра. Предполагается, однако, что в еще меньших масштабах существует какая-то фундаментальная длина, являющаяся квантом пространства. Весьма возможно также, что на очень малых расстояниях действуют иные законы, для познания которых квантовая механика может оказаться несостоятельной.
Алексею вспоминаются слова, сказанные Дмитрием Ивановичем Блохинцевым: «Современная квантовая теория является „слесарным инструментом“: не имея другого, мы пытаемся оперировать им в деликатном часовом механизме элементарных частиц».
А что известно о нейтрино? Обнаружены пока два его вида: электронное и мюонное. А чем они отличаются друг от друга, кроме способа рождения, все еще неизвестно. У нейтрино много и других загадок. И вот этой все еще таинственной частицей ученые пытаются теперь зондировать такое же таинственное ядро земного шара! Не зря, видно, так встревожен профессор Кречетов.
Появление большой моторной лодки с рыбаками отвлекает на какое-то время внимание Алексея. Лодка плывет довольно близко от берега, и Алексей невооруженным глазом видит, как рыбаки выбрасывают из нее мелкую рыбешку. Стаи чаек, кружащихся над лодкой, с неистовым криком хватают ее на лету. Те из птиц, которым это удается, мирно садятся затем на вспененную гребным винтом лодки поверхность моря, пожирая свою добычу. А остальные шумно вьются над головами рыбаков.
«Нужно будет непременно снять все это на цветную пленку…» — решает Алексей.
Кончив зарядку, он спешит на пляж, пока еще пустынный, и с удовольствием бросается в прозрачную воду. Не торопясь плывет брассом до буйка, ограничивающего заплыв купальщиков в открытое море. Повернувшись к берегу, видит все еще затененную сторону приморского корпуса Дома творчества с двумя ярусами лоджий. На некоторых из них уже появляются обнаженные тела проснувшихся литераторов.
До завтрака еще почти два часа, и Алексей решает пройтись после купания по городу. Поднявшись по каменным ступеням на набережную, он выходит через решетчатую дверь у проходной будки на длинную Курортную улицу. По другую сторону ее, через широкое, до блеска накатанное магистральное шоссе, возвышается многоэтажное здание центрального корпуса Дома творчества. Там тоже только еще начинают просыпаться. Постояв немного под тенью в два ряда растущих вдоль тротуара деревьев, Алексей не спеша направляется в сторону Старой Гагры.
Возвращается он в половине девятого и, не обнаружив Кречетовых ни в море, ни на пляже, решает зайти к Леониду Александровичу. На его стук отзывается голос Вари:
— Да, пожалуйста!
Алексей открывает дверь и видит Варю, а за нею, в глубине комнаты, Вадима и Корнелия.
— А где же Леонид Александрович?
— Уехал в Адлер на аэродром, — отвечает Варя. — Ему срочно понадобилось произвести какие-то вычисления. Полетит в вычислительный центр Грузинской академии наук.
Не заходя в комнату, Алексей окидывает внимательным взглядом письменный стол профессора. На нем в беспорядке лежат какие-то книги и бумаги, исписанные цифрами и формулами.
— А вы не идете разве завтракать? — спрашивает он Варю.
— Минут через пять, вот покажу только моим друзьям, как мы устроились тут с дядей…
— Я подожду вас.
— Зачем же вам беспокоиться? Они меня проводят, — кивает Варя на своих гостей.
— Ну, извините тогда… — смущенно бормочет Алексей, и ему кажется, что Варины гости иронически усмехаются.
А в коридоре он чуть не сталкивается с каким-то человеком, показавшимся ему очень знакомым. Алексей уже знает почти всех, кто обитает в этом корпусе, но готов поручиться, что этот человек тут не живет. Он мог, конечно, прийти сюда и из главного корпуса, но Русин едва ли обратил бы на него внимание, если бы ему не показалось, что он уже видел его где-то в необычных обстоятельствах.
Всю дорогу до столовой и за завтраком он думает теперь об этом и вдруг вспоминает — он встретился с этим человеком в коридоре вагона в день отъезда из Москвы и почему-то он показался ему тогда подозрительным.
Конечно, в этой новой встрече нет ничего удивительного. Незнакомец может быть каким-нибудь литератором из другого города, приехавшим в Гагру, как и он. Русин, по литфондовской путевке. Но почему же не оказалось его в автобусе, когда они ехали с вокзала в Дом творчества? Объяснить, однако, можно и это. Не все же едут с вокзала только в автобусе Литфонда — некоторые предпочитают такси.
И все-таки встреча с этим человеком вселяет в Алексея смутную тревогу.
«Нужно будет предупредить Леонида Александровича, чтобы он не разбрасывал так своих рукописей…» — невольно мелькает у него беспокойная мысль.
28
После завтрака Алексей решает не ходить на пляж, а немного поработать. Он садится за стол и достает папку с начатой повестью, но поработать ему удается только до полудня. В двенадцать к нему приходит необычно возбужденный Сидор Омегин.
— Слушай, дорогуша, знаешь, что Фрегатов мне только что сказал? Он считает, что прощупывание внутреннего ядра Земли нейтринными импульсами может вызвать катастрофу. И что будто бы недавнее землетрясение в Гагре — результат экспериментов Кречетова…
— А ты не очень его слушай. Еще совсем недавно он ведь не верил в эффективность нейтринного зондажа, а теперь… Да и вообще неизвестно пока, чем именно занимаются тут коллеги профессора Кречетова…
— А Фрегатов не сомневается, что именно этим. Но ведь это же ерунда! Разве и без того не пронизывают нашу планету мощные потоки нейтрино и не только солнечные, но и космические? И вообще какая может быть связь землетрясений с нейтрино? Разве наблюдалось что-нибудь такое?
— Связь землетрясений с солнечной активностью не отрицается многими учеными. Особенно в периоды максимума солнечной активности. Во всяком случае, астрогеологов не удивили крупные сейсмические катастрофы, которые произошли в Агадире и Чили в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов. На эти годы пришлось ведь взаимное наложение одиннадцатилетнего и многовекового максимума солнечной активности.
— А разве эти явления не гравитационного характера?
— И гравитационного, конечно, но, бесспорно, и нейтринного. Даже спокойное Солнце излучает в виде нейтрино до десяти процентов своей энергии, а в максимумы гораздо больше.
— Вот бы повестушку об этом, — мечтательно произносит Сидор Омегин. — И даже не о том, как вызывать с помощью нейтринного облучения сейсмические явления, а как гасить их. Сделать нашу планету тихой, спокойной, безопасной.
— И погубить на ней все живое, — смеется Алексей Русин.
— Да ты меня не понял! Я же сказал…
— Нет, я понял тебя, только ты просто не представляешь себе, что станет с нашей планетой, если прекратится ее сейсмическая деятельность. Вода и ветры быстро выровняют ее поверхность и превратят в сплошной океан глубиной не менее трех километров.
— И откуда ты все это знаешь? — раздраженно произносит Сидор. Он давно уже искал тему для новой повести, а когда почти нашел и загорелся ею, Русин вылил вдруг на него этот ушат холодной воды. Есть от чего разозлиться.
— А ты читай побольше, — советует ему Алексей. — Будешь тогда и сам все знать. И не очень торопись с новыми темами, чтобы не попасть впросак.
— А вот тебе следовало бы поторопиться, — зло усмехается Омегин. — Варю-то…
Но Алексей не дает ему договорить.
— Ну, вот что, Сидор, если недоумений научного характера у тебя больше нет, то я тебя не задерживаю.
— А ты не шути с этим. Они ребята ловкие. Особенно физик…
Алексей уже собирается выставить Омегина за дверь, но последние слова Сидора настораживают его.
— Какой физик?
— А тот, что поинтеллигентнее.
— Странно, — задумчиво произносит Алексей, — мне отрекомендовался инженером, а тебе физиком…
— Да, и чуть ли не кандидатом наук. Специалистом по элементарным частицам. Все расспрашивал и меня и Фрегатова, кто такой профессор Кречетов, чем занимается.
— А разве Варя ему этого не рассказала?
— Ну, что она может рассказать! — усмехается Омегин. — Она, по-моему, не только не пытается, но и просто не в состоянии понять, чем занимается ее дядя. У этих красоток, сам знаешь, сколько извилин…
Алексею очень хочется сказать, что и у него, Омегина, не так уж их много, но он сдерживает себя и даже решает оставить работу и пойти вместе с Сидором на пляж.
Варю он обнаруживает в компании Фрегатова, Семенова, Вадима и Корнелия. Корнелий рассказывает какие-то смешные истории, все дружно смеются.
— Душа общества, — ехидно шепчет Алексею Сидор Омегин.
А «душа общества» оказывается буквально неистощимым. Он рассказывает не только анекдоты, но и забавные истории, происходившие с учеными, их остроумные изречения.
— Вы знаете, чем объяснял Эйнштейн свои открытия в области пространства и времени? — спрашивает он Фрегатова. — «Нормальный взрослый человек, — говорил гениальный физик, — едва ли станет размышлять о проблемах пространства — времени. Он полагает, что разобрался в этом еще в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что, только став взрослым, начал раздумывать о пространстве и времени. Понятно, что я вникал в эти проблемы глубже, чем люди, нормально развивавшиеся в детстве».
— Великий Эйнштейн был большим оригиналом! — смеется Фретатов.
— А чего стоят его признания своих неудач? — снова завладевает аудиторией Корнелий. — «Наконец-то я нашел ключ к единой теории поля!» — воскликнул он в 1938 году. А спустя полгода признался: «Я ошибался тогда. Мои расчеты оказались неправильными. И все же я опубликую свою работу. Надо по возможности предостеречь другого глупца, чтобы он тоже не потратил два года на такую же идею».
Корнелий прямо-таки из кожи лезет вон, чтобы блеснуть перед фантастами эрудицией, осведомленностью в вопросах физики. Он пересыпает свою речь такими словечками, как «компоненты», «константы», «параметры», даже в тех случаях, когда разговор идет не о науке. Особенно же старается он произвести впечатление на Русина, уверяя Алексея, что прочел все его произведения.
— Я вообще люблю научную фантастику, — интимным тоном признается он. — Не всю, правда, но ту, которая написана авторами, сведущими в науке. А это ведь всегда чувствуется, и никакой наукообразный камуфляж не в состоянии этого скрыть.
Алексею хотя и неприятен чем-то этот человек, слушает он его не без удовольствия, нисколько не сомневаясь, что Корнелий действительно читал его произведения и хорошо понял их смысл. А на самом-то деле Телушкин лишь прочел в каком-то научно-фантастическом сборнике обзорную статью о советских фантастах, в которой давалась положительная оценка Русину.
— Вам, наверно, здорово повезло, — говорит ему Корнелий, — что вы оказались тут, в вашем Доме творчества, вместе с профессором Кречетовым. Он ведь большой специалист по слабым взаимодействиям элементарных частиц, а работ своих почему-то почти не публикует. Уж что-что, а слабые взаимодействия никак не могут быть использованы в военной технике, и потому не совсем понятна мне такая засекреченность работ профессора в этой области…
— Почему же засекреченность? — удивляется Алексей и невольно вспоминает, что уже слышал от кого-то о «засекреченности» Кречетова.
— Ну, может быть, не засекреченность, а просто секретность. Во всяком случае, не балует он своих коллег публикациями в научной литературе, да и вообще… Будь бы это сильные взаимодействия, имеющие отношение к ядерным силам, а стало быть, и к атомной и к термоядерной бомбе, тогда было бы, конечно, понятно.
— А меня это нисколько не удивляет, — пожимает плечами Алексей. — Просто профессор Кречетов не торопится с публикацией материалов о самых загадочных явлениях в современной науке.
— А как насчет обеда? — спрашивает Русина вышедший из моря Омегин. — Я, например, чертовски проголодался, да и время обеденное.
Алексей смотрит на часы. Ого, уже третий час! Действительно, пора на обед.
29
В письме, только что полученном до востребования, Каин, выполняющий обязанности резидента Джорджа Диббля, предупреждает Корнелия, что к ним прибудет скоро «дядя Вася». Под «дядей Васей» имеется в виду личный посланец Диббля. Об этом они условились еще в Москве. А о том, когда именно и каким образом он прибудет, все еще остается неизвестным.
— Что же, мы теперь должны сидеть тут каждый день и ждать этого «дядю»? — недовольно ворчит Вадим. — А работать кто за нас будет?
— Трудолюбивым каким стал! — усмехается Корнелий. — Дать бы тебе настоящую работу, а то ты мастак только за Варей волочиться!
— А кто открыл тебе доступ в люкс ее дяди? Без моей работы, какая бы там она ни была, нас и на километр бы к нему не подпустили.
— Ну ладно, ладно, нечего этим кичиться. А вот «дяде Васе» что будем докладывать?
— Ты же щелкнул микрашкой то, что было на профессорском столе?
— Не думаю, чтобы было там что-нибудь важное. Он бы так этого не бросил. Я вообще не уверен, что нам удастся спереть или сфотографировать у него что-нибудь ценное, даже если мы будем наведываться к нему хоть каждый день. Все, хоть в какой-то мере значительное, он, наверно, даже от Вари прячет. Да и из разговоров с ним вряд ли что-нибудь выудишь. Понаблюдал я за ним со стороны — серьезный мужчина!
— Может быть, тогда деньги Жоре вернем? Скажем, что…
— Ладно, кончай острить! Тоже мне Аркадий Аверченко!
— А ты чего ноешь?
— Я не ною. Я собираюсь у «дяди Васи» технику просить.
— Технику?…
— Ну да, аппаратуру для подслушивания. Присобачим ее где-нибудь в укромном местечке профессорского люкса, она и запишет нам все его беседы с его коллегами, которые непременно будут его навещать. А от них у него не должно быть секретов.
— Ну, это совсем другое дело, — довольно ухмыляется Вадим. — Кустарным способом такого нам, конечно, не раздобыть.
А «дядя Вася», которого они ждали только завтра или послезавтра, стучится к ним в окно поздно вечером в тот же день. Он оказывается ничем не примечательным мужчиной средних лет, хорошо говорящим по-русски.
«Наверно, из перемещенных лиц», — решает Корнелий.
— Ну, будем знакомы, — весело говорит он. — Я дядя Вася.
— Так и останетесь дядей Васей? — простодушно спрашивает Вадим, полагавший, что посланец Диббля назовет им свое настоящее имя.
— Так и останусь, — смеется «дядя Вася». — Ну-с, дорогие племяннички, как у вас тут дела?
Корнелий коротко докладывает, слегка приукрасив, конечно, свои заслуги. Операция только ведь начинается, и «дядя Вася» сам должен понимать, что все еще впереди.
— Нам бы техники подбросить… — вставляет Вадим, опережая Корнелия.
— Ну, это само собой, — понимающе кивает «дядя Вася». — У вас что уже есть?
— Только микрашка.
— Микрашка? — удивляется «дядя Вася».
— Это на жаргоне моего коллеги микрофотоаппарат, — усмехается Корнелий, делая Вадиму знак, чтобы он не лез не в свое дело.
— Ну что ж, это хорошо. Получите еще и «Гномика». Это микромагнитофон на полупроводниках.
— Этого-то как раз нам и не хватало, — одобрительно кивает головой Корнелий.
— Ну, а теперь вам еще одно задание: срочно найдите мне квартиру где-нибудь поближе к морю. И встречаться мы будем в дальнейшем не у вас тут, а на этой квартире.
У Корнелия уже был на примете один уединенный домик. Он присмотрел его, правда, на всякий случай для себя, но ничего, себе он еще найдет что-нибудь поближе к вокзалу.
Когда Корнелий отводит «дядю Васю» на его квартиру, посланец Диббля сообщает ему дорогой:
— Имею задание шефа переправить вас по окончании операции в Турцию, а потом и в Штаты, если, конечно, вы не возражаете. Я понял с его слов, что тут с вашими способностями вам тесновато…
— Да, тут не очень развернешься… А мистер Диббль дал указание только насчет меня?
— Да, только. Помощники ваши будут для нас лишь обузой. Подобных мелких сошек у нас и своих полно. Надеюсь, вы меня понимаете? Ну, вот и о'кэй, как говорят американцы. Значит, договорились.
Потом, возвращаясь пустынными ночными улицами Старой Гагры к Маврину, Корнелий тщательно взвешивает слова «дяди Васи». Ведь и в самом деле ни к чему везти в Америку такого подонка, как Вадим. Ему вообще нравится откровенность «дяди Васи», не скрывшего от него, что в свободный мир могут они взять только его, Корнелия. Это кажется ему очень убедительным фактом доверия к нему. Ведь в том случае если бы переправлять за границу они никого не собирались, то чего бы им стоило пообещать захватить с собой и Вадима Маврина?
О, этот Джордж Диббль прекрасно разбирается в людях! Он не мог не оценить по достоинству его, Корнелия Телушкина. Может быть, даже сообразил потом, как ловко он надул его с помощью формулы Эйнштейна. Если он, Корнелий, правильно понимает Америку, то Америке очень нужны такие люди, как он. И уж во всяком случае, ничем он не хуже этого «дяди Васи».
Смущает Корнелия лишь одно: а что, если Диббль потребует выкрасть Кречетова?… Конечно, такая ситуация чаще всего бывает лишь в детективных романах, а в жизни… Но может же быть и в жизни такое? Может ведь и не удастся ничего выведать у Кречетова (а его научные секреты, верно, очень важны), как быть тогда? Он тут ненадолго, а в Москве к нему близко не подберешься. Очень даже может случиться в такой ситуации, что Диббль потребует… Но уж если потребует, это ему будет дорого стоить! А если ему, Корнелию, удастся выполнить даже такое задание Диббля, он далеко пойдет там у них, в мире свободного предпринимательства!..
Погруженный в столь честолюбивые мысли, Корнелий незаметно доходит до своей «базы».
— Где ты так долго? — спрашивает его заспанный Видим. — Я уж думал, не драпанули ли вы за границу с этим «дядей Васей», оставив меня тут один на один с госбезопасностью…
— Ну что за дурацкие шутки, ей-богу! — злится Корнелий. — За кого ты меня принимаешь? Разве я без тебя драпанул бы? Да и на кой черт нам с тобой эта вонючая заграница с ее эксплуатацией человека человеком? Что нам, плохо разве в родной нашей стране?
— Конечно, не плохо, если бы только милиция не придиралась к нашим нетрудовым доходам.
— Ну и там тоже не мед. Пришлось бы, наверно, ишачить на какого-нибудь босса. А теперь давай спать. Завтра у нас нелегкий день — предстоит каким-то образом завоевать доверие профессора Кречетова или хотя бы произвести на него хорошее впечатление…
30
Профессор Кречетов возвращается из Тбилиси только на следующий день поздно вечером, и Алексей Русин не решается зайти к нему, полагая, что он устал с дороги и отдыхает. Но в одиннадцатом часу ночи он слышит вдруг осторожный стук в свою дверь.
— Да, прошу вас! — громко отзывается Алексей, вставая из-за стола и почти не сомневаясь, что это Омегин или Фрегатов, еще днем попросивший у него книгу Ангерера по технике физического эксперимента.
Не успевает он, однако, дойти до двери, как она распахивается и Русин видит на пороге профессора Кречетова.
— Вы уже спать, наверно, собрались, а я вот…
— Да что вы, Леонид Александрович! — восклицает Алексей. — Заходите, пожалуйста! Я раньше двенадцати, а то и часа вообще не ложусь.
— Работали, значит?…
— Нет, не работал, к сожалению. Не работается… Все кажется, что что-то еще недодумано, не осмыслено. Вот сижу читаю…
— Э, да у вас тут целая библиотека! И довольно пестрая. Борн, де Бройль, Гейзенберг, Ландау… Ну, это еще понятно. Это одного порядка. Амбарцумян, Шкловский, Хойль, Шепли — тут тоже есть связь. Ну, а Колмогоров, Анохин, Эшби? Это вам тоже нужно? Да, пожалуй, тоже…
Говоря это, Кречетов быстро перебирает книги, лежащие на столе, тумбочках и стульях. Некоторые листает, но видно, что все они хорошо ему знакомы.
— Ну, а это вам зачем? — раскрывает он толстую книгу Гарри Уэллса «Павлов и Фрейд». — Заготовки для будущей повести или для кругозора? Ба, да тут еще и избранные работы Павлова и «Философские вопросы высшей нервной деятельности». Да, у вас, фантастов, тоже работенка не из легких, если, конечно, всем этим всерьез… — смеется Кречетов, листая какую-то приглянувшуюся ему книгу. — Но ведь у вас не все так. Вот этот Альфов, например…
— Омегин, — поправляет его Алексей.
— Да, Омегин. Он ведь, наверно, в основном знает все понаслышке и не утруждает себя чтением всего этого. А вот Кораблев… Ну да, Фрегатов, он, наверно, читает. Это чувствуется. А Семенов мне не понравился. Очень уж склонен к лакировке будущего, а ведь в будущем будет не меньше, а пожалуй, еще и побольше разных нелегких проблем.
Помолчав немного, он вдруг спрашивает:
— А какого вы мнения о Варе? Ну да, понимаю, вам неудобно… Но какое-то мнение должно же у вас сложиться, и боюсь, не очень хорошее… Нет, вы меня не перебивайте, дослушайте прежде до конца. Конечно, она девушка приятная, пожалуй, даже красивая и вообще очень хорошая девушка. Но вот среднюю школу кончила с трудом, а об институте даже и не мечтает. Нет к этому интереса. И не потому, что тупица, она по-своему толковая, великолепно разбирается во всех житейских вопросах и с людьми может ладить, даже с таким тяжелым человеком, как ее отец. А науки не даются. И не только точные, но и гуманитарные. Она просто равнодушна ко всему этому. И ведь она не одна такая. Я знаю многих хороших ребят, которые с трудом кончают среднюю школу…
— Вы читали, конечно, Джорджа Томсона, — перебивает Кречетова Русин, — его «Предвидимое будущее»?
— Да, читал, и догадываюсь, что вы имеете в виду. Ее главу о будущем людей с ограниченными интеллектуальными способностями? Конечно, он исходит из будущего в условиях буржуазного строя, но и для нас будет нелегкой проблемой — дать таким людям не только среднее, но и высшее образование при условии, что станет оно еще труднее. Может быть, к тому времени педагогика найдет решение этой проблемы, а пока, по заявлению того же Томсона, лишь двадцать процентов английских мальчиков способны одолеть курс средней школы.
Чувствуется, что Леониду Александровичу нелегко говорить об этом, хотя он и старается не выдавать своего волнения. И конечно, это из-за Вари, которая, наверно, огорчила его чем-то.
— Вы уже познакомились, наверно, с ее Вадимом? — будто угадав мысли Алексея, спрашивает Леонид Александрович после довольно продолжительного молчания. — Я ведь именно от него увез ее сюда. Не нравится мне этот недоросль, и не верю я, что он в нее влюблен.
— А Варя любит его?
— Не знаю… не уверен в этом. Пожалуй, ей просто нравится, что за нею так волочится этот балбес. Она ведь уверена, что имеет на него хорошее влияние, что перевоспитывает его… А я не верю! Да и этот приятель его… Варя меня с ним недавно познакомила.
— На меня он произвел впечатление образованного человека, — осторожно замечает Алексей.
— А мне показался ловкачом, ловчилой. Эх, мне бы в отделе кадров работать! Особым нюхом обладаю на не очень порядочных людей, даже если они и образованные. А почему, собственно, вы решили, что он образованный?
— Он ведь физик и даже, кажется, кандидат наук.
— Ах, даже еще и кандидат! Учтем это. А мне ведь показалось, что он не только не кандидат, но и не физик.
— А вам не кажется, Леонид Александрович, что вами могут интересоваться? Знаете, в каком смысле?…
— Да, знаю, хотя еще совсем недавно очень удивился бы этому вопросу.
— Но ведь вы же не ведете никаких секретных работ? И уж, конечно, эксперименты ваши не имеют никакого отношения к военной технике…
— Сейчас, дорогой мой, нет такого научного открытия, которому при желании не приписали бы военного значения, — вздыхает Кречетов. — В Тбилиси, например, мне сообщили, что за границей начали пописывать о какой-то «геологической» бомбе. И знаете, это не такой уж абсурд. Конечно, все это безграмотно, ибо журналисты слышали что-то, но, не поняв сути дела, истолковали слишком прямолинейно. А теперь болтают о возможности уничтожать если не континенты, то целые государства без термоядерного оружия и пагубных последствий радиации.
— А вы считаете, что это невозможно?
— Я считаю более вероятным разрушение целой планеты. Не понимаете? Как-нибудь в другой раз объясню вам это. Во всяком случае, планету разрушить будет легче, чем какое-нибудь конкретное государство. И я докажу им это… Скорее всего, однако, идея подобной войны — безответственная болтовня буржуазной прессы, жаждущей сенсаций.
— Но не могли же они так вдруг ни с того ни с сего?
— Не совсем вдруг, конечно. Что-то, видимо, стало им известно об экспериментах их ученых. Может быть, даже и о наших экспериментах…
31
На следующий день сразу же после завтрака профессор Кречетов снова заходит к Русину.
— А на пляж вы не собираетесь, Алексей Васильевич?
— Как раз об этом раздумывал.
— Ну и очень хорошо! Пошли тогда вместе. Там уже вся ваша компания и моя Варя со своими поклонниками. А этот «кандидат наук» уже что-то им проповедует.
Профессор в светлой летней пижаме. На голове его пробковый шлем, приобретенный во время одной из заграничных командировок. В руках киноаппарат «Лада».
— Вы увлекаетесь этим? — кивает Алексей на «Ладу».
— Увлекаюсь, — улыбается Леонид Александрович. — И знаете, через маленькое окошко его видоискателя я как-то шире стал видеть мир. Особенно когда бываю за границей. Ну, вы готовы?
Алексей надевает широкополую соломенную шляпу, перебрасывает через плечо полотенце, и они выходят из его комнаты.
На пляже первым бросается к ним Корнелий.
— О, наконец-то вы, товарищ профессор! А Варя уже беспокоиться начала. Вот, пожалуйста, сюда, под зонт, а то сегодня солнце уж очень злое.
— А я его не боюсь, — беспечно смеется Кречетов. — Мне ведь и в Африке доводилось бывать.
— В научной командировке, конечно?
— Нет, просто так, туристом.
— Простым туристом? — удивляется Корнелий. — И вас пустили?
— А вы считаете, что я недостаточно благонадежен?
— Да нет, совсем в другом смысле… — смущается Корнелий.
— Ну, а в другом смысле я мало для кого представляю интерес, так что за мной никто не охотится. Да и вообще область слабых взаимодействий — а это моя главная специальность — чертовски скучная.
— Ну, не скажите, профессор! Я ведь в этом тоже кое-что смыслю.
— Это и его специальность, Леонид Александрович, — замечает Русин, внимательно прислушивающийся к их разговору.
— Ах, даже так? — удивленно поднимает брови Кречетов.
— Ну, не совсем так, — смущенно улыбается Корнелий. — Просто готовлю диссертацию на эту тему. И вот хотел бы у вас спросить: неужели нейтрино так и не взаимодействует почти ни с каким веществом?
— Не ожидал от вас столь наивного вопроса, товарищ диссертант, — усмехается профессор. — А вы имеете хоть какое-нибудь представление о константе взаимодействия Ферми в эксперименте по упругому рассеянию антинейтрино на протонах?
Догадаться, что профессор начнет сейчас свой «зондаж» познаний Корнелия в области слабых взаимодействий, Алексею Русину уже не составляет большого труда. Кречетов так и сыплет теперь такими выражениями, как: «волновые функции гармонического осциллятора поля», «пространственное описание квантового состояния нейтринного поля», «лоренцово вращение», «реперные компоненты лагранжиана» и «истинная тензорная плотность третьего ранга».
Корнелий, конечно, и сам не рад, что завел такой разговор. Вид у него очень жалкий. А Кречетов будто и не замечает его растерянности. Спросив у Корнелия: «Связано ли спинорное поле с существованием мелкозернистой топологии?», и не получив ответа, он переходит к «оценке возмущения нейтринного поля в вакуумном состоянии». Потом достает где-то лист бумаги и начинает торопливо писать на нем «релятивистское волновое уравнение для нейтрино в искривленном пространстве». И делает он это настолько обстоятельно, что записывает его в «дираковской четырехкомпонентной форме» и в «двухкомпонентной форме Паули — Ли — Янга».
Исписав весь лист бумаги с двух сторон латинскими и греческими буквами, знаками плюс, минус и равенства, скобками простыми и фигурными, профессор спрашивает Корнелия:
— А теперь вы ответьте мне: являются ли поля и частицы инородными объектами, движущимися на арене пространства — времени? Или же они являются объектами, сконструированными из пространства? Является ли также метрический континуум некоей магической средой, которая, в одном случае, будучи искривленной, представляет гравитационное поле, в другом — будучи локально скрученной — долгоживущие концентрации массы-энергии?
Совершенно ошалевший от всего этого, Корнелий кажется Русину лишившимся дара речи, и ему становится даже жалко его. А профессор Кречетов, скомкав листок с формулами, отбрасывает его в сторону и неожиданно смеется:
— Надеюсь, что после этого урока, молодой человек, вы не будете больше выдавать себя за диссертанта по таким серьезным проблемам, как слабые взаимодействия? А ухаживать за Варей можно ведь и без напускной учености. Она хоть и племянница профессора, но терпеть не может ученых разговоров.
Потом он ловко сбрасывает с себя пижаму и, демонстрируя хорошо сохранившуюся фигуру, легкой спортивной походкой идет к морю. Бросившись в воду, он плывет таким отличным кролем, что даже Алексей Русин открывает рот от удивления.
32
Никогда еще не было столь мрачного вечера в штаб-квартире корпорации свободных предпринимателей на окраине Старой Гагры. Глава ее, Корнелий Телушкин, совсем пал духом. А Вадим еще злорадствует:
— Это тебе не православный батюшка с высшим духовным образованием. Того ты ловко вокруг пальца обвел. А тут зарвался, профессора хотел одурачить. И на кой черт было тебе физиком прикидываться да еще чуть ли не кандидатом наук? Оставался бы скромным инженером системы легкой промышленности, как и было поначалу задумано. Ну, как ты теперь к ним покажешься?
А Корнелий все еще молчит, то ли не обращая внимания на слова Вадима, то ли обдумывая что-то.
— Ты хоть понял что-нибудь из того, что говорил тебе профессор? — не унимается Вадим. — Я ведь думал, что он это и не по-русски вовсе. Но я что — я неуч, а ты-то как же?…
— Что — как же? Я специально готовился к этому разговору. Прочел о нейтрино и слабых взаимодействиях все что мог, но в пределах научно-популярной литературы, конечно. А он меня на уровне квантовой механики и нейтринной теории с их умопомрачительным математическим аппаратом… Но в общем вполне деликатно, не задавая вопросов.
— Как же, не задавая? А по-моему…
— Ну, а те, что в конце задал, эти он тоже не мне, а скорее самому себе. Конечно, я во всех этих тонкостях не так уж разбираюсь, но то, что он у меня спрашивал, не знает, кажется, и современная наука. Это, правда, я потом уже сообразил, а если бы сразу, можно было бы и конфуза избежать, обратив все в шутку. Но уж очень он энергично меня атаковал…
— А теперь-то как же? Может быть, пора и удочки сматывать? Мне, откровенно говоря, чертовски все это надоело. Да и боязно…
— Боязно ему уже! А мне не боязно, и я к ним завтра же явлюсь как ни в чем не бывало.
— Смотри, Корнелий, сломаешь ты себе голову!..
— А что же остается делать? Кто за нас будет полученные доллары отрабатывать? Какое донесение Жоре пошлем? Что «дяде Васе» скажем?
— А не послать ли нам их к чертовой матери со всеми их долларами?
— Чтобы они выдали нас госбезопасности? Нет уж, попали к ним в ярмо, будем тянуть лямку, тем более что за это не так уж плохо платят, хотя мы поставляем им пока форменную липу. Сочинил ведь я, что профессор Кречетов ведет интенсивное зондирование внутреннего ядра планеты мощным генератором нейтрино. Вернее, не знаем мы этого, предполагаем только, а сообщили, будто нам это достоверно известно. Теперь надо подкрепить нашу догадку какими-то вескими фактами.
— И ты надеешься, что профессор Кречетов тебе что-нибудь расскажет? Да он тебя после вчерашнего на пушечный выстрел к себе не подпустит.
— Подпустить-то, положим, подпустит, — самодовольно улыбается Корнелий. — Но ничего рассказывать, конечно, не станет. Да я и не буду его расспрашивать об этом. За нас с тобой «Гномик» поработает. Уж от него-то у профессора Кречетова не должно быть секретов.
— А «дяде Васе» мы ничего не будем докладывать?
— Зачем же его беспокоить? Он вообще просил пореже с ним встречаться. Боится, наверно, что за нами может быть слежка.
— А может быть, и в самом деле?… Не понравился мне что-то тот тип с аквалангом в моторке…
— Да что ты панику поднимаешь! В каждом курортнике чекист тебе мерещится. Не ожидал я этого от тебя… Иди-ка лучше спать, а я подумаю, что нам делать завтра.
Утром оба просыпаются в хорошем настроении — вчерашних тревог как не бывало.
— Хватит дрыхнуть, паникер несчастный, — весело говорит Корнелий, стягивая с Вадима простыню. — Рубанем сейчас чего-нибудь — и на работу.
Позавтракав в кафе, воспрянувшие духом предприниматели бодро шагают к автобусной остановке. С «привратниками» приморского корпуса Литфонда у них уже установились самые добрые отношения, и они принимают их за своих курсовочников. Бравый старичок с военной выправкой, дежурящий у проходной двери чаще других и лихо козыряющий всем, кто с ним здоровается, почему-то даже уверен, что Корнелий и Вадим — сатирики, сотрудники «Крокодила».
— Здравия желаем, кацо! — весело приветствует его Корнелий. — Что нового на вверенном вам объекте?
— А вы чего так поздно?
— Почему поздно, дорогой?
— Потому, что на Пицунду все уехали. Целых два автобуса.
— И профессор?
— Нет, профессор опять в Адлер, в аэропорт, а остальные почти все в Пицунду. И эта красавица Варя тоже. Профессор сам ее усадил в автобус.
— Ну что будем делать? — упавшим голосом спрашивает Вадим. — Махнем, может быть, вслед за ними на такси?
— Нет, не махнем. Раз профессор не поехал в Пицунду, нам тоже нечего там делать.
— А эти, как их?… Ископаемые сосны не худо бы посмотреть…
— Сам ты ископаемый, а сосны реликтовые, вымирающие представители древней флоры. Да и откуда вдруг у тебя интерес к этим древностям? Скажи лучше, на Варю захотелось посмотреть. Но нам сейчас о другом нужно думать. Нужно Варе подарочек какой-то сообразить. Но не дорогой. Дорогой она не примет, да и дядя ей не разрешит. А главное, чтобы он и ей и нам службу сослужил. Шевельнем мозгами в этом направлении.
33
Профессор Кречетов возвращается в Гагру утром. Весь вчерашний день провел он у академика Иванова в Голубой бухте под Геленджиком. Он привез Дмитрию Сергеевичу свои расчеты и те соображения, которые подсказали ему тбилисские геофизики. Академик долго и придирчиво изучал все это, потом заметил:
— Доводы тбилисских геофизиков кажутся мне разумными. Может быть, и в самом деле не стоит рисковать еще одним местным землетрясением? Они зарегистрировали, значит, последний наш импульс во всех сейсмических районах Кавказа?
— Они регистрировали и прежние, только сейсмичность их была значительно слабее. Но ведь и импульс вашего нейтринного генератора был тогда вдвое меньше.
— Да, не будем больше рисковать, — решил академик. — За границей и так ведь пишут уже, что мы с вами испытываем какое-то геологическое оружие.
— Неужели и фамилии наши называют? — удивился Кречетов.
— Вот это-то и удивительно. Надеюсь, вы не давали никому из иностранных журналистов информации о нашей работе? Ну, а фантасты ваши не могли чего-нибудь опубликовать?
— Фантасты не журналисты. Им нужно время, чтобы что-нибудь написать. Один из них — Алексей Русин — еще собирается только писать повесть об ответственности ученых за современный физический эксперимент глобального характера. И я лично поощряю его поскорее осуществить этот замысел.
— А не толкаете вы его этим на запугивание?…
— Он человек здравомыслящий и запугивать своих читателей не собирается.
— А разве что-нибудь вызывает тревогу?
— Да хотя бы проникновение в глубь некоторых микрочастиц при помощи самих же микрочастиц, обладающих скоростью, близкой к скорости света.
— Это вы о допущении некоторыми физиками таких цепных реакций, при которых будто бы рождаются галактики? Ну, а я в этом совсем не уверен. Будем надеяться, однако, что если не чувство благоразумия, то хотя бы инстинкт самосохранения остановит наших коллег перед постановкой подобных экспериментов. Что же касается меня, — добавляет академик, довольно улыбаясь, — то я, как видите, не глух к зову рассудка и не только прекращаю свои эксперименты, но и вылечу завтра в Академию наук со всеми вашими расчетами и собственными соображениями. Прошу вас только помочь мне написать подробный доклад об этом.
…Давно уже не чувствовал себя профессор Кречетов так спокойно, как сегодня. В отличном настроении заходит он к Алексею Русину попросить какую-нибудь научно-фантастическую новинку.
— Похоже, что вас можно поздравить с какой-то удачей? — замечает его состояние наблюдательный фантаст.
— Да, можете, Алексей Васильевич, — улыбается профессор.
— Ваши эксперименты увенчались, значит, успехом?
— Наоборот, мы их прекращаем.
— Прекращаете?
— Да, временно. Помните, я говорил вам, что современный научный эксперимент становится все более ответственным?
— Значит, землетрясение, которое было тут в день нашего приезда…
— Да, весьма возможно, что оно было в некоторой связи с нашими экспериментами. Решено поэтому временно их прекратить. Для этого, правда, необходимо еще согласие Академии наук, но туда уже вылетел мой коллега академик Иванов.
— А не придется из-за этого совсем отказаться от просвечивания ядра планеты?
— Зачем же совсем? Нейтриноскопия, конечно же, самое прогрессивное средство изучения недр планеты, и мы от этого не собираемся отказываться. Нужно только никогда не забывать о той угрозе, которую таит в себе современный эксперимент на планетарном уровне. Ну-с, а теперь не податься ли нам на пляж?
Алексей не возражает против такого предложения, и они присоединяются вскоре к Вариной компании. Кроме Омегина, Фрегатова и Семенова, тут и Корнелий с Вадимом.
— А мне наговорили, будто вы обиделись? — добродушно улыбаясь, говорит им Леонид Александрович. — Но я не поверил. Не сомневался, что придете. Ну вот и хорошо, что пришли! И не будем больше говорить о слабых взаимодействиях. Давайте лучше пойдем купаться.
А потом, заплыв с Русиным дальше всех, профессор спрашивает Алексея:
— Какого вы мнения об этих ребятах?
— Лично мне они не внушают доверия, — признается Алексей.
— Да, пожалуй, вы правы.
— И знаете, мне очень не нравится, что они бывают в вашей комнате в ваше отсутствие. Вам бы не следовало оставлять на столе свои рукописи.
34
День проходит на редкость спокойно, без происшествий. Даже фантасты почти не спорили сегодня друг с другом. Море, немного пошумевшее утром, совсем успокоилось к вечеру.
Уже поздно — двенадцатый час. Алексей стоит в лоджии и решает: лечь сегодня пораньше или почитать еще немного?
Далеко в море медленно движется большой лайнер с тремя ярусами огоньков. Прожекторы пограничных застав выхватывают из темноты еще какие-то суда, обрушивают потоки голубоватого пламени на берегоукрепительные стены и парапеты набережных.
«Да, нужно, пожалуй, лечь пораньше…» — решает Алексей и идет в комнату. Но едва он снимает одеяло с постели, как слышит стук в свою дверь. И сразу же, не ожидая разрешения, входит к нему Кречетов. Лицо его явно взволновано чем-то.
— Хорошо, что вы еще не спите, — торопливо говорит он. — Зайдите тогда ко мне…
Алексей идет за ним, ничего не понимая. В комнате Кречетова горят все лампы, стол отодвинут от стены, стулья вынесены в лоджию.
— Удивляетесь этой живописной картине? — мрачно усмехается Леонид Александрович. — А знаете, что я тут делал? Производил обыск у самого себя. По какой причине? Не знаю даже, как вам ответить на это… По интуитивной, пожалуй.
Некоторое время он молча смотрит на эстамп, висящий над столом, потом снимает его со стены и внимательно рассматривает со всех сторон.
— Наверно, я произвожу на вас впечатление сумасшедшего с симптомами мании преследования? — спрашивает он, настороженно вглядываясь в глаза Алексея. — А между прочим, это вы вселили в меня тревогу… Вернее, усилили во мне тревогу. А при чем тут самообыскивание? Сейчас объясню. Дело, видите ли, в том что обнаружен тайно установленный микромагнитофон. Вот я и решил, что подобное устройство может быть установлено и у меня, но ничего пока не нашел…
Леонид Александрович растерянно разводит руками.
— А искал я очень усердно, — продолжает профессор Кречетов после небольшой паузы — И не только таким вот образом, — кивает он на смещенные со своих мест вещи в комнате. — Пытался осмыслить все это и логически, так сказать… Видите, сколько бумаги извел, — хлопает он ладонью по исписанным цифрами и какими-то геометрическими фигурами страницам, разбросанным по столу. — Однако все пока безрезультатно.
— А может быть, и нет тут никакого микромагнитофона? — высказывает предположение Русин.
— Нет-нет, — делает протестующий жест Леонид Александрович. — Допустить такое проще всего. Исходить нужно из худшего. Из того, что микромагнитофон где-то тут все-таки установлен.
Он снова пристально вглядывается в лицо Алексея, будто изучает в нем что-то.
— Вы писатель-фантаст, вот и попробуйте-ка решить такую головоломку: где тут может быть спрятан магнитофон? А то, что он где-то тут спрятан, у меня почти нет сомнений: этот Корнелий смыслит, наверно, в электронике и мог придумать что-нибудь такое…
Леонид Александрович беспомощно шевелит пальцами, не находя нужных слов. А Алексей, внимательно осмотрев комнату профессора, спрашивает:
— Диван и матрасы вашей кровати вы, конечно…
— Да, вывертывал все это почти наизнанку. Видно, запрятали они его очень хитроумно. Не исключено, впрочем, что ситуация тут такая же, как в «Украденном письме» Эдгара По. Помните, как в этом рассказе провел префекта парижской полиции министр «Д», спрятавший в своем кабинете письмо, компрометирующее высокопоставленную особу?
Задача, поставленная профессором Кречетовым, чем-то напоминает Алексею «психологический практикум» по тренировке наблюдательности, предлагаемый редакцией журнала «Наука и жизнь» своим читателям, и он невольно улыбается. Решить эту задачу оказывается, однако, не так-то просто, а может быть, и невозможно, ибо неизвестно ведь, существует ли вообще такой микромагнитофон, который ищет Кречетов.
— Такую загадку вам бы надо было загадать не писателю-фантасту, а писателю, работающему в детективном жанре, — шутя произносит он вслух.
— А что же, у фантастов логические способности разве послабее? — серьезно спрашивает Леонид Александрович. — У вас должно быть могучее воображение. Но я не требую от вас немедленного ответа. Присмотритесь повнимательнее да поразмышляйте. А утром скажете мне свое решение. Может быть, оно даже во сне вам приснится, — добавляет он, впервые улыбаясь. — Вы знаете, конечно, о такой науке, как эвристика, а она допускает решение даже более сложных задач подобным образом. Один из учеников Менделеева поведал ведь потомкам, будто великий химик, собрав весь необходимый ему материал о химических элементах, никак не мог представить его себе в виде стройной таблицы. А потом увидел вдруг такую таблицу во сне.
— Может быть, и мне также повезет, — смеется Алексей, — если, конечно, удастся заснуть.
И он уходит, стараясь возможно дольше сохранить в зрительной памяти обстановку комнаты профессора Кречетова, но у дверей останавливается вдруг.
— А где же Варин зонтик? — поспешно оборачивается он к Леониду Александровичу.
— Какой зонтик? — не сразу понимает его вопрос профессор. — Ах, этот новый, «противосолнечный», как она его называет. Он стоял тут в углу возле моего письменного стола, но я вынес его в лоджию.
— А вы знаете, что этот зонтик подарил Варе Вадим?
— Да, правда, она сама мне об этом сказала… Как же я этого не сообразил?…
И он почти бегом бросается в лоджию. Возвращается оттуда с изящным, скромным зонтиком в руках. Торопливо раскрывает его, звонко щелкая пружинками. Медленно вращает его под потолочной лампой, тщательно рассматривая со всех сторон.
— Обратите внимание на ручку, — советует Алексей.
— Да, пожалуй, это единственное место, где можно что-нибудь спрятать.
Пластмассовая грушеобразная ручка зонта не сразу поддается усилиям профессора, но вот, наконец, начинает она вращаться по виткам нарезки.
— Ну да, так оно и есть! — со вздохом облегчения восклицает Леонид Александрович, извлекая из ручки зонта продолговатое устройство. — Это, конечно, микромагнитофончик на полупроводниках. А вот и его название — «Гном», Наверно, это одна из последних новинок техники подслушивания Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.
— Что же вы теперь делать будете, Леонид Александрович? Поздно ведь уже…
— Все равно придется пойти сообщить об этом одному товарищу. А вы побудьте у меня, пожалуйста…
— Я побуду, Леонид Александрович, — охотно соглашается Алексей.
И в это время раздается негромкий стук в дверь.
— Войдите, — не совсем уверенно произносит Кречетов.
Дверь открывается, и Алексей видит того самого человека, которого заметил он сначала в поезде, а затем здесь, в Доме творчества, возле комнаты профессора Кречетова.
— Очень хорошо, что вы пришли, товарищ капитан, — с облегченным вздохом произносит Кречетов. — А я собирался к вам…
— Я ведь теперь тут у вас устроился, — объясняет вошедший. — В комнате напротив. И кажется, вполне своевременно. Штуку эту, — кивает он на магнитофон, — удалось вам, значит, обнаружить. Так она в зонтике оказалась?… Да, остроумно, ничего не скажешь. А теперь давайте-ка поставим ее на место. Надо полагать, за ней придет ведь кто-нибудь. И этим надо воспользоваться. А вы, значит, сын Василия Васильевича Русина? — оборачивается капитан к Алексею, протягивая ему руку. — Мы с ним старые знакомые. Рад и с вами познакомиться — капитан Петров. Папаша ваш помог мне в одном деле, надеюсь, и вы не откажетесь?
— Конечно, товарищ капитан!
— Очень вас прошу повнимательнее присматриваться к Телушкину и Маврину. Особенно завтра, когда они будут на пляже. А вы, Леонид Александрович, постарайтесь, чтобы завтра Варя ушла на пляж без зонта. Интересно, что они предпримут, чтобы иметь возможность вывинтить из него свой магнитофон.
— Думаете, что им не терпится получить поскорее информацию, записанную этим «Гномом»? — спрашивает Леонид Александрович.
— Не только это. Им важно знать еще и качество этой магнитной записи.
— А что, если я запрещу Варе водить этих субъектов в мою комнату?
— Вот этого-то я просил бы вас не делать. Нам ведь нужно поймать их с поличным. Если удастся, то мы сделаем это уже завтра, только вам придется снова куда-нибудь «уехать», поставив в известность Варю. Ну, а она, наверно, сообщит об этом Маврину и Телушкину. Постарайтесь и вы, Алексей Васильевич, как-нибудь уведомить их об «отъезде» Леонида Александровича, но так, чтобы…
— Я понимаю вас, товарищ капитан.
— И еще одна к вам просьба, Алексей Васильевич. Мне понадобится ключ от вашей комнаты после того, как вы вернетесь с завтрака. А вам придется побыть это время на пляже в компании Телушкина и Маврина. Они ведь теперь приходят на ваш пляж ежедневно.
— Да, как на работу, — усмехается Алексей.
35
Капитан Петров устраивается в лоджии Алексея Русина таким образом, чтобы не быть замеченным со стороны пляжа. Ему хорошо видна отсюда вся прибрежная полоса, примыкающая к приморским корпусам Дома творчества. Но его интересует сейчас только светлая глыба камней, сохранившихся от прежней разрушенной штормом набережной. На них устроились Варя, Алексей Русин и Сидор Омегин. А вокруг на поролоновых лежаках расположились Фрегатов, Семенов, Маврин и Телушкин.
«Интересно, сообщила ли уже им Варя, что дядя ее уехал? — думает капитан Петров. — Если не она, то Русин должен был бы это сделать. А если это так, то кто-нибудь из Вариных ухажеров найдет повод сходить за ее зонтиком. Но кто — Вадим или Корнелий?…»
Время идет, а они все еще лежат на пляже, и Корнелий, не умолкая, шутит, как всегда вызывая дружный смех. Неужели так и не решатся?… Или не могут найти подходящего повода?
Но вот Корнелий говорит что-то Варе, показывая на солнце, а она, смеясь, мотает головой. К Корнелию присоединяется и Вадим. По его жестам можно догадаться, что он предупреждает ее от солнечного удара. Похоже, что им удается уговорить девушку. Набросив на плечи полосатый халатик, она неторопливо идет к каменной лестнице. Как же они ее одну?… Но вот поднимается и Вадим. Догоняет Варю. Они идут теперь вместе, разговаривая о чем-то.
Но что такое? Похоже, что Варя отдает ему ключ. Значит, она решилась пустить его в комнату дяди одного. Да это и вполне естественно — она ведь убеждена, что Вадим любит ее и у нее нет, конечно, никаких оснований не доверить ему.
Ну да, вот она уже возвращается к своей компании, а Вадим не спеша поднимается по каменным ступенькам лестницы, ведущей на набережную. Значит, через полторы-две минуты он будет здесь.
Капитан Петров поспешно выходит из комнаты Русина и проходит в комнату напротив.
Как только Вадим с Варей уходят, сердце Алексея Русина начинает тревожно биться. А когда Варя возвращается и ему становится очевидным, что Маврин войдет в комнату Кречетова один, он уже перестает воспринимать происходящее вокруг и почти не отрывает взгляда от лоджии профессора. В первое время он не замечает даже, что Корнелия уже нет на его лежаке. На нем теперь лишь его аккуратно сложенные белые брюки да рубашка в причудливых узорах.
— Слушай-ка, Леша, — шепчет вдруг Сидор, слегка толкнув Русина в бок. — Корнелий-то нырнул и не выныривает что-то…
— Как не выныривает? — торопливо оборачивается к нему Алексей.
— А так — ушел под воду, и все… Минуты три уже прошло. Он вообще сегодня какой-то…
Алексей поспешно вскакивает, вглядываясь в море, буквально кишащее купающимися.
— Тут, правда, моторная лодка стояла у самого берега, — продолжает Сидор. — Может быть, он поднырнул под нее?
— А где же она?
— Отошла теперь поглубже, вон идет вдоль берега… Но в ней, как и раньше, один моторист. Корнелий, правда, за тем бортом ее может быть… Уцепился и плывет. Что Вадим, что он — оба они перед Варей фокусничают… Смотреть противно. Да и вообще подозрительные типы…
Алексей замечает теперь, что еще один человек с явным беспокойством наблюдает за моторной лодкой, уже развившей довольно значительную скорость. Что-то подсказывает Алексею, что этот человек — коллега Петрова, и он поспешно подходит к нему.
— Вы не от капитана Петрова? — спрашивает он шепотом.
— Да, товарищ Русин.
— Боюсь, что Телушкин удрал вон на той лодке.
— Да, пожалуй… Больше ведь не на чем. Спасибо, товарищ Русин.
И он бежит к еще какой-то лодке, причаленной к берегу.
— Ага, за ним, значит, уже следили! Этот товарищ, с которым ты шептался, не из органов случайно?… — торопливо говорит Алексею Омегин. — Значит, мне это не показалось…
— Что не показалось?
— А то, что Корнелий явно подозрительный… Я его вчера вечером, знаешь, где встретил? Возле вокзала. Я Петросяна ходил провожать. А когда после отхода его поезда вышел на вокзальную площадь, то увидел, как Корнелий сошел с автобуса. Один, без Вадима, но с чемоданом, и похоже было, что спешил куда-то. Но не на вокзал. Мне показалось это подозрительным, и я осторожно пошел за ним следом. И что ты думаешь — шмыгнул он вскоре в домик в переулочке. А я ведь хорошо знаю, что они с Вадимом в Старой Гагре живут, совсем в другом конце…
— А чего же ты мне этого раньше не рассказал?
— Боялся, что смеяться будешь, Пинкертоном назовешь…
— Ну вот что, давай тогда быстро туда! Ты помнишь тот домик?
— А может быть, лучше сообщить об этом кому-нибудь из…
— Не будем время терять! — возбужденно прерывает его Алексей. — Нужно такси ловить поскорее!
— Вы куда? — бросается к ним встревоженная Варя.
Она уже догадывается, что происходит что-то неладное. Корнелий исчез куда-то, а Вадим все еще не возвращается.
— Анатолий, побудьте, пожалуйста, с Варей, — обращается Русин к Фрегатову. — Не отпускайте ее никуда одну. А нам с Сидором нужно по одному очень важному делу…
И, одеваясь на ходу, они спешат к выходу с пляжа. Им везет — у самых ворот приморской территории Дома творчества стоит свободное такси.
— На вокзал! — бросает Русин шоферу, садясь с Сидором на заднее сиденье.
— А если он вооружен? — тревожно шепчет Омегин.
— Такой здоровяк — и испугался?
— Чего это ты решил, что я испугался?
— Ну, а если не испугался, то и не будем больше говорить об этом. Смотри лучше, туда ли едем.
— А ты думаешь, он туда метнется?
— Моторка в ту сторону пошла…
Как ни тихо разговаривают Русин с Омегиным, шофер все же слышит кое-что из их разговора, и это настораживает его. Он сбавляет скорость и начинает внимательно смотреть по сторонам. И вдруг останавливается возле майора, идущего по тротуару им навстречу.
— Ох, и хорошо, что я вас встретил, товарищ начальник! — бурно восклицает шофер, выскакивая из машины. — Подозрительные личности у меня в такси!
— Позволь, а ты кто? Откуда меня знаешь?
— Я Джанелидзе из второго таксомоторного. Был свидетелем по делу Григоряна.
— А, помню! Ну, а что за пассажиры у тебя?
— Очень подозрительные, товарищ начальник! Шепчутся о каком-то вооруженном нападении…
Майор, уже не слушая Джанелидзе, распахивает дверцу машины.
— Ваши документы!
— Мы без документов… Прямо с пляжа… — заикаясь, объясняет Сидор Омегин.
— Мы писатели из Дома творчества Литературного фонда, товарищ майор, — уточняет Алексей Русин.
— Не верьте им, товарищ начальник. Знаем мы таких писателей!..
— Ладно, Джанелидзе! Садись в машину и вези нас в управление. Там разберемся.
— Вот к чему приводит самодеятельность… — сокрушенно вздыхает Омегин.
В управлении, однако, все довольно быстро разъясняется. Туда как раз в это самое время звонит капитан Петров, и майор сразу же все выясняет. Выслушав потом Русина и Омегина, он просит Сидора показать ему на плане города тот дом, в котором скрылся вчера Корнелий Телушкин.
— Ну, вот и все. Спасибо вам, товарищи, за помощь, — благодарит он писателей. — Остальным мы сами с товарищем Петровым займемся. А вы извините нас за беспокойство.
36
Узнав об аресте Вадима, Варя падает в обморок. К счастью, вскоре появляется Леонид Александрович!
— Наконец-то! — с облегченным вздохом бросается к нему Алексей. — С Варей совсем плохо… Вызвали врача. А этих…
— Да, да, я все знаю. Но об этом после, а сейчас к Варе!
А Варя, вся в слезах, лежит на диване, уткнувшись лицом в подушку. Она не поворачивается ни на стук двери, ни на звук голоса дяди. Леонид Александрович осторожно садится с ней рядом и говорит очень тихо, почти шепотом:
— Ну успокойся же, Варюша. И скажи спасибо, что обнаружилось все это не слишком поздно. А к Вадиму, ты знаешь, у меня никогда не лежала душа. Я, правда, думал, что он всего лишь неандерталец по умственному своему развитию, а оказался…
— А я все равно ни за что не поверю, чтобы он что-нибудь украл… — всхлипывая, произносит Варя.
— А он и не украл. Он совершил более тяжкое преступление. Его арестовала не милиция, а государственная безопасность.
— Это правда? — вскакивает вдруг Варя. — Тогда это не он, а Корнелий!
— Успокойся, Варюша, работники госбезопасности во всем разберутся:
Корнелию устраивают засаду в том доме, возле которого видел его вчера Сидор Омегин. Но Телушкин долго не появляется. Оперативные работники государственной безопасности начинают уже сомневаться — тот ли это дом? А если тот, то, может быть, это и не запасная «база» Корнелия? Но даже в том случае, если это его «база», он все равно может не решиться прийти сюда.
Теперь, правда, ведется наблюдение и за вокзалом и за пригородными станциями. Установлено дежурство и на пароходной пристани. Группа оперативных работников послана даже на Адлерский аэродром. Но Телушкин может, конечно, отсидеться несколько дней в каком-нибудь укромном месте.
Капитан Петров надеется все же, что Корнелий непременно придет на свою запасную «базу» — он ведь бежал в одних плавках, и ему нужно же где-то переодеться. Владелец моторной лодки, которого допрашивал помощник капитана Петрова, оказался непричастным к корпорации Телушкина. Он случайно находился в тот момент возле пляжа Литфонда, и Корнелий совершенно неожиданно для него вынырнул из-под днища его лодки с правого борта. Он попросил пробуксировать его немного вдоль пляжа, а потом снова нырнул под лодку и смешался с многочисленными купальщиками.
На всякий случай капитан Петров ставит в известность о розыске Корнелия Телушкина пограничников и сообщает обо всех этих событиях своему начальнику майору Уралову.
К исходу первых суток с момента розыска Телушкика прилетает из Москвы и сам майор Уралов. Капитан Петров подробно докладывает ему обстановку.
— Значит, прямо-таки как в воду канул этот авантюрист? — спрашивает Уралов.
— Никуда из Гагры кануть он, однако, не мог, — убежденно заявляет капитан Петров.
— А на чем же зиждется подобное убеждение?
— Помните, я докладывал вам, товарищ майор, об агенте под кличкой «дядя Вася»? Взяли его вчера в Геленджике. На допросе этот «дядя» показал, что обещал Телушкину переправить его в Турцию, а затем и в Америку.
— И вы думаете, что Телушкин ждет, когда он выполнит это обещание?
— Во всяком случае, надеется. Вот этим-то и надо бы воспользоваться.
— А как?
— С помощью того же «дяди Васи». У него была договоренность с Корнелием в случае провала встретиться в Старой Гагре на квартире, известной лишь им. Сам Телушкин, видимо, не решается пока прийти туда. Это мы уже проверили, так как держим ту квартиру под наблюдением. Телушкин, наверно, тоже поглядывает на ее окна из какого-нибудь укромного местечка. Не рискнуть ли нам в связи с этим…
— Понимаю вашу мысль, товарищ капитан. Ну, а как «дядя Вася» — не подведет?
— Он совершенно деморализован, товарищ майор, и, по-моему, готов на все, чтобы только иметь возможность смягчить свою вину.
— Ну что ж, давайте тогда попробуем, — после некоторого раздумья соглашается майор.
Поздно вечером в тускло освещенном окне домика на окраине Старой Гагры появляется не очень выразительный профиль худощавого человека средних лет. Похоже, что он ищет что-то, поворачиваясь при этом так, что лицо его хорошо освещается настольной лампой. Потом он не торопясь раскладывает на столе какие-то бумаги.
А вокруг все тихо, лишь с соседней улицы доносятся приглушенные звуки музыки. И вдруг еле слышный стук в дверь. Значит, кто-то подошел к домику и настороженно прислушивается теперь у его входа.
Несколько секунд спустя слышится скрип открываемой двери. Свет из дома падает на ссутулившуюся фигуру человека в темном макинтоше.
— Наконец-то вы пожаловали, дорогой племянничек! — раздается неестественно радостный голос «дяди Васи».
Названный «племянничком» человек испуганно бросается в сторону спасительной тени. Но его освещают уже несколько сильных электрических фонарей, а за спиной «дяди Васи» появляется капитан Петров.
— Ну-с, Корнелий Телушкин, — почти равнодушным тоном произносит он, — давайте-ка поднимем руки.
37
Как и предполагал академик Иванов, профессора Кречетова действительно вызывают вскоре в Академию наук.
— Оставляю племянницу мою на ваше попечение, Алексей Васильевич, — прощаясь, говорит он Русину, крепко пожимая его руку.
— Можете о ней не беспокоиться, Леонид Александрович, — обещает Алексей.
Варя к тому времени заметно успокаивается и начинает даже ходить на пляж. Алексей теперь проводит с нею целые дни и, хотя еще не так давно мечтал об этом, к удивлению своему, замечает, что день ото дня ему становится все скучнее с этой красивой девушкой.
Он и не пытается, конечно, говорить с нею ни о какой науке. Разговаривают они в основном о погоде, качестве обедов в литфондовской столовой, температуре морской воды и прочих житейских мелочах, но ему не стоит большого труда представить себе, что скажет Варя по любому иному поводу. Она в общем-то много читает, любит кино и театр и, наверно, имеет обо всем прочитанном и увиденном свое мнение, но Алексей боится даже спрашивать ее об этом.
А Сидор Омегин сказал ему о ней как-то:
— Очень толковая девица профессорская племянница. Чертовски трезво обо всем судит. Только ты брось забивать ей голову наукой — это ей ни к чему. С ней нужно говорить о жизни, а не о…
— Вот и говори с ней об этом, — с едва скрываемым раздражением оборвал его Алексей.
— Что-то ты слишком охотно стал уступать мне эту возможность, — усмехнулся в ответ Сидор. — Тебе в собеседницы знаешь кто нужен? Не красивая девушка, а электронное устройство с большим запасом информации и способностью к логическому мышлению.
А Алексей потом долго раздумывал над этим разговором.
«Все было бы, наверно, по-другому, будь я по-настоящему в нее влюблен, — невесело рассуждал он, прохаживаясь по своей лоджии. — А все-таки что же было бы?… Говорил бы я с нею только „о жизни“, как советовал мне Сидор, а для беседы о том, что представляет для меня основной смысл моего существования, искал бы более интеллигентного собеседника? Или собеседницу… Не знаю, не знаю, может быть, настоящая любовь выше всего этого, но надолго ли? А скорее всего у таких, как я, и не бывает, наверно, такой любви…»
Профессор Кречетов возвращается из Москвы спустя три дня.
— Ну, как вы тут без меня обитаете? — спрашивает он Русина.
— А у нас что? У нас все в соответствии с местным распорядком, — невесело говорит Алексей. — Расскажите лучше, что у вас нового?
— Пробыл там всего три дня, — задумчиво произносит профессор, — а событий столько, что всего и не припомнишь. Главное же вот что: теперь уже совершенно точно установлено, что эксперименты, подобные нашим, производят и по ту сторону планеты. О том свидетельствует возросшее количество сейсмических явлений, не типичное для года «спокойного солнца». Я боюсь даже, что они могут расшатать нашу планету до такого состояния, что она вообще развалится. К счастью, ни один из нейтринных импульсов не совпал пока с ритмом собственных колебаний земной коры. Мог бы (да и может еще!) произойти такой сейсмический резонанс, в сравнении с которым землетрясения в Сан-Франциско, Мессине и Токио, происшедшие в первой четверти нашего века и стоившие полмиллиона человеческих жизней, окажутся пустяком.
— Нужно, значит, немедленно что-то предпринимать! — возбужденно восклицает Алексей Русин. — Они ведь могут…
— Да, они могут, — перебивает его профессор Кречетов. — Могут, потому что торопятся опередить нас. Об этом свидетельствует дурацкий шпионаж за мной и академиком Ивановым. В Москве все это было взвешено и поручено мне с академиком Ивановым выступить на страницах газеты «Известия» с открытым письмом к нашим заокеанским коллегам. Что мы и сделали.
— И вы думаете, что это их остановит? — с сомнением покачивает головой Русин. — Едва ли такое предприятие в руках только ученых…
— Мы не сомневаемся, что письмо наше будет перепечатано прогрессивными газетами. К тому же мы передадим его по радио на всех основных языках мира, и нас услышит мировая общественность.
— А ваше письмо подкреплено какими-нибудь фактами?
— Оно подкреплено моими расчетами и статистикой Института физики Земли. Мало того, мы предсказываем характер землетрясений, которые неизбежно должны произойти в ближайшее время в основных сейсмических поясах земного шара, в случае если не прекратятся опасные эксперименты зондирования внутреннего ядра планеты нейтринными импульсами. А пояса эти проходят по берегам Тихого океана, Средиземного моря, по горным цепям Кавказа, Гиндукуша, Каракорума и Гималаев. Мы очень надеемся на благоразумие человечества. Оно победило уже один раз в борьбе за запрещение испытаний атомного и термоядерного оружия, победит, наверно, и теперь.
На страницах газеты «Известия» действительно появляется вскоре хорошо аргументированное письмо академика Иванова и профессора Кречетова. Его перепечатывают почти все газеты мира. С комментариями его выступают в печати и по радио виднейшие сейсмологи и геофизики Европы, Азии, Африки и многих стран Латинской Америки. Молчат пока лишь ученые Соединенных Штатов.
Алексей Русин и профессор Кречетов с Варей возвращаются тем временем в Москву, и Леонид Александрович, навещая племянницу и брата, не упускает теперь случая побывать и у Русиных. Разговор, естественно, почти всегда заходит об одном и том же.
— А может быть, американцы не экспериментируют больше? — с надеждой спрашивает профессора Алексей.
— Почему же тогда не дают они согласия на участие в международном конгрессе, который мы предлагаем созвать в Москве или Вашингтоне? Да и по сведениям, поступающим в Институт физики Земли более чем с четырехсот сейсмических станций мира, совершенно очевидно, что они все-таки продолжают свои эксперименты. Надеются, наверно, получить нейтринографию внутреннего ядра планеты и закрепить этим свой приоритет в области исследования недр Земли. Однако это не такое простое дело. Мы убедились в том на собственном опыте. Делать это надобно сообща, без торопливости, чреватой многими бедствиями. Мы ведь и собираемся как раз предложить им на конгрессе наше сотрудничество. Ох, боюсь я, что все это кончится если и не грандиозной катастрофой планетарного масштаба, то одновременным землетрясением сразу в нескольких сейсмических зонах мира.
Слова профессора Кречетова оказываются пророческими — землетрясения силою до шести-восьми баллов происходят вскоре в один и тот же день и даже примерно в одно и то же время в Перу, Чили, Объединенной Арабской Республике, Индонезии, Китае и Японии. Такого никогда еще не бывало. И это буквально будоражит весь мир. Многие государства требуют специального заседания Организации Объединенных Наций. А американцы соглашаются, наконец, на созыв международного конгресса в Вашингтоне.
Перед отъездом на конгресс профессор Кречетов заезжает к Русиным попрощаться с Василием Васильевичем и Алексеем.
— Ну, друзья, пожелайте нам удачи! — говорит он. — А вы, Алеша, не забывайте Варю. Ни разу ведь не навестили ее с тех пор.
— Да ведь все некогда, Леонид Александрович…
— Вам-то некогда! Да ведь вы люди свободной профессии.
— Потому и некогда. Нет у нас, писателей, никакой охраны труда, вот мы, по выражению небезызвестного вам фантаста Омегина, и вкалываем день и ночь до первого инфаркта. А у кого уже был — до очередного.
— Ну уж, положим, Омегин-то ваш так не вкалывает, — смеется профессор.
— Он не вкалывает, это верно, но зато другие…
— Верно, верно! Сам видел, как вкалывали эти другие даже в приморском Доме творчества, полном соблазнов. Ну, а нам придется, видно, по ту сторону океана немало потрудиться, хотя сама планета своим недавним тяжким вздохом изрядно помогла нам в этом деле.
— Надеюсь и я помочь вам своею повестью о трагической судьбе планеты Фаэтон, — говорит Алексей Русин.
А потом, когда садится он за свою рукопись, никак не может избавиться от сомнений: только ли излишняя любознательность ученых Фаэтона погубила их планету?
Ну, а правительства? Без их ведома разве могли производиться эксперименты такого масштаба? А если так, то обнаруженная учеными возможность вызывать искусственные землетрясения не могла разве вскружить голову тем, кто мечтал о мировом господстве? На нашей планете все наиболее значительные открытия почти всегда обращались ведь в средства ведения войны. Да и сейчас, едва просочились в печать первые скудные сведения о нейтриноскопии земного ядра, как за океаном завопили уже о новом, геологическом оружии глобального характера.
Весьма вероятно, что и на Фаэтоне не только увидели возможность подобного же применения этого открытия, но и попытались с его помощью решить судьбу двух социальных систем своей планеты. И как бы ни договаривались между собой ученые Фаэтона не способствовать этому, среди них нашлись, наверно, такие же милитаристски настроенные представители науки, как доктор Эдвард Теллер и Вернер фон Браун на нашей Земле. А погиб ли их Фаэтон из-за того, что ошиблись они в расчете мощности нейтринных импульсов или не учли явлений резонанса недостаточно изученной внутренней структуры своей планеты, после происшедшей катастрофы это уже не имело большого значения.
Алексей еще не написал тех глав, в которых должна изображаться гибель Фаэтона, но он уже с достаточной отчетливостью представляет себе его агонию. Погибал он, наверно, не сразу. Гибель его не могла быть похожей на взрыв. Скорее всего первыми стали рушиться какие-то внешние связи планеты. Может быть, сначала исчезло ее магнитное поле. А это повлекло за собой распад поясов радиации и ионосферы.
И уже одного этого было, конечно, достаточно, чтобы погубить если не жизнь, то цивилизацию на Фаэтоне. На него обрушился, наверно, значительно больший поток космических частиц, вырвавшихся из «ловушек» радиационных поясов. А ионосфера при этом утратила, конечно, свою «зеркальность», перестала отражать радиоволны, разладив радиосвязь на всей планете.
Не мог не прийти в негодность и компас. Размагнитились, наверно, постоянные магниты, а сердечники электромагнитов потеряли способность намагничиваться.
А резонанс тем временем продолжал расшатывать связи внутренних сфер планеты. Все более слабела и гравитация, позволяя силам тяготения соседних планет и Солнца расчленять одрябшее тело Фаэтона…
Алексей не очень еще уверен, найдет ли он нужные краски для изображения столь мрачной картины, но убежденность в необходимости нарисовать такую картину, чтобы предостеречь человечество от страшной участи Фаэтона, вселяет в него недостающие силы.
Москва — Гагра
КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ПРОФЕССОРА ХОЛМСКОГО
1
Конечно, Евгения Антоновна Холмская могла бы поговорить с академиком Урусовым во время его неоднократных посещений Михаила. Но разве могла она при нем расспрашивать Олега Сергеевича обо всем том, что так тревожит ее? Особенно необходим ей этот разговор теперь, когда с мужем ее происходит что-то непонятное. А поговорить нужно именно с ним, специалистом в области физики. Ни доктор Гринберг, никто иной тут, видно, не помогут. Она и сама ведь психиатр и понимает, что одной психиатрии для лечения ее мужа явно недостаточно.
А что, если самой сходить к Урусову? Ей, правда, известно, что он очень занят в последнее время, но она не посторонний ему человек, а жена его старого друга. Да и причина для такого посещения немаловажная.
— О, это очень хорошо, что вы зашли ко мне, дорогая Евгения Антоновна! — взволнованно произносит Олег Сергеевич Урусов, помогая Холмской снять макинтош. — Я и сам собирался к вам сегодня.
Это тревожит Евгению Антоновну еще более, но Олег Сергеевич, не давая ей произнести ни слова, торопливо продолжает:
— Надеюсь, вы не разрешаете Михаилу слушать радио и не приносите ему иностранных газет? Я, конечно, шучу, но это невеселая шутка. Знаете, что они передают и пишут? Они намекают, что Михаил может оказаться… виновником происшедшей в Цюрихе катастрофы. То есть, проще говоря, чуть ли не диверсантом! Человеком, взорвавшим Международный центр ядерных исследований. И не стоит большого труда догадаться, с какой целью. Затем, конечно, чтобы уничтожить находившихся там ученых и овладеть результатами их экспериментов…
— Но ведь это чудовищно!
— Да, чудовищно! Об этом пишут, правда, пока лишь в самых реакционных буржуазных газетах Америки и Западной Европы. И не прямо, но так, чтобы легко было прочесть это между строк. А началось все из-за того, что один крупный ученый в интервью, данном им корреспонденту «Нью-Йорк таймс», высказал мысль, будто эксперимент, ставившийся на цюрихском ускорителе, мог иметь военное значение.
— Но ведь все же знали…
— Да, все знали, что ведутся исследования дискретных свойств пространства, но официально ничего не было объявлено. И не могло быть… Никто вообще не знал, что у них может получиться. Это был первый опыт подобного рода в ядерной физике. Новый ускоритель, построенный в Швейцарии на международные средства, давал ведь возможность получать частицы с энергией, близкой к энергии космических лучей, движущихся с релятивистскими скоростями. А знаете, что это такое? Брукхейвенский ускоритель в Америке рассчитан на энергию в тридцать миллиардов электроновольт, наш серпуховской — на семьдесят, а совместными усилиями физиков Европы и Америки удалось довести энергию частиц до нескольких тысяч миллиардов электроновольт! Представляете, что это такое?
Хотя смысл эксперимента, поставленного на цюрихском ускорителе, Евгении Антоновне все еще непонятен, она не решается расспрашивать Олега Сергеевича. Он слишком взволнован и возмущен вымыслом буржуазной прессы. Ей, правда, объяснял идею задуманного эксперимента сам Михаил Николаевич перед поездкой в Цюрих, но она не очень представляла себе тогда всю его сложность. А потом, когда произошла эта катастрофа, когда жизнь Михаила висела на волоске, вообще было не до этого. Но и сейчас, видимо, не время просить разъяснения у академика Урусова, который даже не замечает, каким специальным языком говорит он с ней об этом.
— И знаете, в чем еще счастье? — вдруг хватает ее за руку Олег Сергеевич. — Счастье, что подозрение возникло только теперь, а не раньше… Не сразу же после катастрофы…
— Вы думаете, что они не отпустили бы Михаила? — заметно переменившись в лице, спрашивает Евгения Антоновна.
— Да, могло быть и такое. Лечили бы его, пожалуй, там, в Швейцарии… А может быть, увезли бы и в Америку. Будем считать, что все это хорошо кончилось. Положение, однако, очень замысловатое. Даже мы, ученые, не знаем, что там у них произошло. Несомненно только одно: они проникли в такие глубины материи, в которых обнаружились принципиально новые ее свойства. Очевидно, уже на квантовом уровне пространства — времени. А это область сплошных и притом очень смутных догадок. Мы ведь даже об открытом уже микромире не все еще знаем достоверно, а там… Ну, в общем вы сами понимаете, какой это простор для необузданной фантазии буржуазной прессы. Подогревается это еще и тем обстоятельством, что доступ журналистов в Международный центр ядерных исследований в Цюрихе был запрещен.
— А почему?
— Там собрались серьезные ученые Европы и Америки, и они опасались преждевременных сенсаций.
— Но ведь что-то все-таки об этом писали…
— Да, но не ученые, а все те же журналисты. Их прогнозы уже тогда разжигали страсти, накаляли атмосферу. Обстановка теперь такова: в Международном научно-исследовательском центре сделано крупное, видимо, мирового значения открытие. Все участники его трагически погибли. Буквально чудом, в состоянии клинической смерти, уцелел только советский ученый. Да, он все еще болен, частично утратил память, но все же жив и по энергичному настоянию Советского правительства увезен в Советский Союз. Понимаете, какие мысли порождает все это у склонной к подозрительности западноевропейской и американской публики? В такой обстановке она готова поверить любым домыслам безответственной буржуазной прессы.
— Да, я хорошо представляю себе это, Олег Сергеевич… Но что же делать?
— Нужно всеми средствами окончательно восстановить память Михаила.
— Это главное, конечно. И я думаю, что это удастся. Ну, а если…
— Не удастся?
— Нет, не это… Если он не сможет объяснить, что там у них произошло?
— Нужно быть готовыми и к этому.
— Ну, и как же тогда?
— Тогда будет проще. Самое сложное все-таки сейчас. Они могут подумать, а может быть, и думают уже, что мы что-то скрываем от них… Что Михаил симулирует потерю памяти…
— Но ведь его исследовали их же психиатры. Неужели и им могут не поверить? Я не говорю о читателях их газет, но врачи, ученые, интеллигенция — должны же хоть они-то считаться с мнением своих психиатров?…
— Найдутся и такие. Особенно те, которые связаны с военными ведомствами. Их не может не беспокоить то обстоятельство, что о каких-то, видимо, качественно новых явлениях природы нам станет известно раньше других. Ну, в общем, Евгения Антоновна, голубушка, вы уж постарайтесь…
— Да что вы меня так просите, Олег Сергеевич? — невольно улыбается Холмская. — Я бы сделала все, что смогла, будь это любой больной, а ведь он мой муж.
— Ну, простите вы меня, пожалуйста! — взволнованно пожимает ей руку академик Урусов. — Для меня он тоже не только коллега, но и друг. А сейчас очень уж многое зависит от окончательного его выздоровления. Только-только начали ведь налаживаться более серьезные, чем прежде, международные наши контакты в области науки. Контакты, от которых будет зависеть судьба не только всего человечества, но, может быть, и самой планеты… Хотелось бы поэтому, чтобы ни малейшая тень недоверия не могла возникнуть между учеными.
— Можете не сомневаться, Олег Сергеевич, я…
— А я и не сомневаюсь, дорогая вы моя Евгения Антоновна! — дружески кладет ей руку на плечо академик Урусов. — Но я хотел бы, чтобы вы отважились и на благоразумный риск. Не ждали бы естественного процесса восстановления памяти Михаила, а подстегнули бы ее чем-нибудь, помогли бы ей «растормозиться».
К академику Урусову шла Евгения Антоновна с надеждой на его помощь, а возвратилась в еще большем смятении. Правда, ей теперь понятна причина ухудшения состояния Михаила. Он, видимо, слушал иностранные радиопередачи на английском или немецком языках, которыми в совершенстве владел до катастрофы, а потом, после этого несчастья, забыл так же, как и многое другое. Но теперь он вспомнил, наверно Может быть, даже случайно, включив приемник и услышав английскую речь.
2
Доктор медицинских наук Александр Львович Гринберг — старый учитель Евгении Антоновны Холмской. Она училась у него в студенческие годы, продолжает учиться и теперь в психиатрической клинике. С кем же ей посоветоваться, как не с ним? Он, правда, несокрушимый оптимист, а психиатрия так еще беспомощна во многом… Потому, может быть, неугасимая вера его в благополучный исход лечения даже безнадежно больных иногда кажется Евгении Антоновне напускной. И все-таки она верит ему больше, чем иному другому авторитету в области психиатрии.
В тот же день она созванивается с ним и едет к нему домой.
— Хочу посоветоваться с вами, Александр Львович…
— О чем советоваться, Женечка? — Он еще со студенческой поры в неофициальной обстановке называет ее Женечкой. — Вы же показывали его мне, и я за него спокоен. А то, что в первое время у него афазия наблюдалась, то теперь ведь этого уже нет. У него она была сенсорная?
— Да, амнестическая. Ему и сейчас еще нелегко вспомнить некоторые названия и научные термины. Особенно в области его родной физики. А главное — Михаил все еще побаивается, что у него необратимое интеллектуальное расстройство. Он, правда, говорит это в шутку…
— Ну, если шутит — уже хорошо, — смеется Александр Львович.
— «Теперь, — говорит, — у тебя дома свой сумасшедший…»
— И он абсолютно прав. Физики, они все сумасшедшие, даже те, которые без всяких травм. Мне рассказывали, что когда известный немецкий физик Паули сделал в Нью-Йорке доклад о новой теории элементарных частиц, созданной им совместно с Гейзенбергом, присутствовавший при этом знаменитый Нильс Бор заметил: «Все мы согласны, что ваша теория безумна. Вопрос только в том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шансы быть истинной. По-моему, она недостаточно безумна для этого».
— Вы не шутите, Александр Львович, я ведь жена физика и знаю, что они называют «безумными» лишь принципиально новые идеи, такие, как теория относительности Эйнштейна, например.
— Нет, Женечка, они вообще все немножко сумасшедшие! — смеется доктор Гринберг, энергично полируя свою, сияющую в солнечных лучах, лысину. — В какой-то статье я читал, что солидный американский физический журнал «Physical Review» отклоняет рукописи многих ниспровергателей основ современной науки не потому, что их нельзя понять, а как раз наоборот — потому, что их можно понять. Ну ладно, не буду больше шутить, хотя все это и не шутки вовсе. Ну, так что же хочет ваш «сумасшедший»? Чтобы мы произвели над ним патопсихологический эксперимент? А вы знаете, это идея!
— Ну, а если?…
— Уверяю вас, он с блеском выдержит такое испытание. Хотите, я лично проделаю с ним это?
— Да, пожалуйста, лучше уж вы…
— Вот и отлично! Мы проверим его на реакции с выбором. Вы ведь не сомневаетесь в его сенсомоторном акте? Не вполне? Ну, а я совершенно уверен, что он не будет иметь существенных отклонений от нормального стандарта.
— А что, если попробовать показать ему «чернильные пятна» Роршаха?
— Ну, что вы такое говорите, милая моя! — возмущенно машет руками доктор Гринберг. — Этим очень модным на Западе проективным методом пользуются главным образом неофрейдисты.
— Мы же не будем вскрывать с его помощью «либидозные комплексы» Михаила. Мы…
— Нет, нет и нет! — упрямо мотает головой доктор Гринберг. — Меня буквально воротит от всего, что хоть чуть-чуть попахивает фрейдизмом или гештальтпсихологизмом. Давайте уж лучше проведем над ним ассоциативный эксперимент, который ведет свое начало еще от Сеченова. Не брезговал им и Бехтерев.
— Нужно будет тогда проверить еще и состояние его процессов обобщения, логического хода и целенаправленности мышления. И хорошо бы проделать все это сегодня же.
— Ну что же, Женечка, сегодня я свободен, и вы можете считать меня в полном вашем распоряжении.
3
Уже раздевшись у Холмских, доктор Гринберг обнаруживает, что не надел своего «визитного» пиджака, а пришел к ним в стареньком джемпере.
«Ну, да это и лучше, пожалуй, — осмотрев себя в зеркале, решает доктор. — По-домашнему… Я ведь у них свой человек…»
— Ну-с, дорогой мой Михаил Николаевич… — с широко распростертыми руками идет он навстречу Холмскому. — Думаете, наверно, что скажу: «Как мы себя чувствуем?» Э, нет, это старо! Этого я уже не говорю. Теперь я задаю моим больным вопросы, которым может позавидовать даже армянское радио.
Небольшой, толстенький Александр Львович Гринберг больше похож на провинциального портного, чем на столичного психиатра, доктора медицинских наук, профессора, читающего лекции чуть ли не во всех московских медицинских институтах, автора трудов по невропатологии и психиатрии, переведенных на многие иностранные языки.
«А вы знаете, — смеясь, говорит он своим коллегам, — это даже хорошо, что у меня такой простецкий вид. Больные меня не боятся, не подозревают во мне гипнотизера и вообще подавляющей их сильной личности. Им ведь все время кажется, что не только психиатр-экспериментатор, но и лечащий врач — их враг, действующий на них гипнозом, читающий их мысли. А меня они не боятся и многое доверяют».
Крепко пожав Михаилу Николаевичу руку и похлопав его по плечу, он спрашивает с лукавой усмешкой:
— Не хотите, значит, быть сумасшедшим? А еще физик! Ну-с, а как же тогда быть с «сумасшедшими идеями»?
— Мне не до шуток, доктор, — серьезно говорит Холмский. — Я действительно хотел бы…
— Ну что ж, — сразу же становится серьезным доктор Гринберг. — Раз вы сами этого требуете, подвергнем вас патопсихологическому испытанию со всею строгостью. Ну-с, с чего же мы начнем? Давайте-ка с ассоциативной экспертизы. Я буду называть вам разные слова, а вы должны будете отвечать мне другими, имеющими противоположное значение. Ну-с, вот отец, например.
— Мать, — поспешно отвечает Холмский.
— Осень.
— Весна.
— Ангел.
— Демон.
— Республика.
— Монархия.
— Электрон.
— Позитрон.
— Сигма-минус-гиперон.
— Антисигма-минус-гиперон.
— А вы не ошиблись? Может быть, «антисигма-плюс-гиперон»?
— Нет, доктор, — торжествующе смеется Холмский. — Физику-то я, оказывается, лучше вас знаю, хотя и сумасшедший. «Сигма-минус-гиперон» и «антисигма-минус-гиперон» — это частицы антиподы, так сказать, с одинаковой массой — 2340,6, а «сигма-плюс-гиперон» и «антисигма-плюс-гиперон» — антиподы с массой — 2327,7.
— Ну, все! — решительно поднимает руки вверх доктор Гринберг. — Конец экспертизе, ибо экспериментатор посрамлен. Евгения Антоновна, какой там у вас латентный период реакции?
— В среднем около половины секунды, — торопливо отвечает счастливая Евгения, пряча хронометр в футляр. — Да я ведь просто не успевала…
— Ну да, вы же привыкли к медлительности мышления ваших подопечных, — смеется Александр Львович. — А я отказываюсь от второго предъявления.
— А что это значит, доктор, второе предъявление? — настораживается Холмский.
— Это значит, что на те же слова вы должны были бы отвечать мне уже другими, не повторяться.
— А может быть, все-таки попробуем? — умоляюще смотрит на доктора Гринберга Холмский. — Что там у вас было первое — «отец»? Ну, так тогда — «сын». Правильно?
— Да, можно и так. Теперь ведь не обязательно противоположное значение, а лишь близкое по смыслу. Осень.
— Лето.
— Вальс.
— Танго.
— Республика.
— Федерация.
— Электрон.
— Лептон.
— Кси-частица.
— Гиперон. Это слово я употребляю не потому, что не нашел другого, — заметно беспокоится Холмский. — А потому, что кси, сигма и ламбда-частицы относятся по классификации к группе гиперонов.
— Ну, дорогой мой профессор Холмский, я могу лишь позавидовать вашей реакции. Даже признаюсь вам по секрету: попробовал как-то проделать над собой такой же эксперимент, так, поверите ли, латентный период реакции оказался у меня не выше, чем у некоторых, не совсем безнадежных, правда, больных нашей клиники. Вы только, пожалуйста, никому это не рассказывайте. Ну, а мне пора… Нет, нет, Женечка, вы меня не провожайте! Я тут у вас свой человек.
Но она все-таки идет за ним. И тогда он сердито шепчет ей:
— Неужели вы не понимаете, что у него опять начнутся сомнения, если мы будем тут с вами шушукаться?… Обо всем — завтра.
4
Но Евгения Антоновна не может дождаться завтра и заходит к нему в тот же день перед тем, как идти на ночное дежурство в клинику. Александр Львович необычно хмур. Рассеянно здоровается с нею, будто не помнит, что виделись уже.
— Ну и мерзавцы! — сокрушенно качает он головой. — Никто из них еще не знает, что они такое там открыли, а уже… Вот бы кого нужно в психиатрические клиники! Мышление типичных шизофреников! Как тут не вспомнить психоаналитика неофрейдистской школы Фромма? Он пришел ведь к выводу, что большинство, если не все люди в буржуазном обществе в той или иной степени являются психопатами. Да вы присаживайтесь, пожалуйста! Сейчас нас Майка чайком… Ах, вы спешите на дежурство? Ну, все равно присядьте, стоя я не буду с вами разговаривать.
И он почти насильно усаживает ее на диван, а сам короткими шажками нервно ходит по комнате.
— Только что послушал их, — кивает он на радиоприемник. — Не ожидал этого от французов!.. Нам, привыкшим иметь дело с сумасшедшими, казалось бы, ничему уже нельзя удивляться, но я удивляюсь. Уже говорят о новой бомбе!.. Бомбе с начинкой из антипространства… Чушь! А вы что смотрите на меня такими скорбными глазами?
— Александр Львович, вы же знаете, зачем я к вам пришла…
— Нет, не знаю. По поводу мужа? Так вы же сами психиатр, и не рядовой, а кандидат наук. Разве вам не ясно, что все идет лучше, чем можно было ожидать? Память его…
Но тут он замечает слезы на глазах Холмской.
— Это еще что такое?
— Вы так его обнадежили, Александр Львович, что он сразу же, как только вы ушли, схватил какую-то свою книжку по физике…
— А зачем вы дали ему ее? Разве не знали, что его слишком возбужденный мозг нельзя было перегружать?
— Я не успела… Когда вошла к нему, он уже швырнул книгу на пол и бросился на диван. Значит, снова катастрофа?… Снова он потерял веру в себя?…
— Вы только не расклеивайтесь, Женечка, — неожиданно ласковым голосом произносит Александр Львович. — Конечно же, он еще не совсем здоров, и лечить мы его будем теперь так же, как когда-то артиста Заречного. Помните, он начисто забыл все слова своих ролей, которые так блистательно играл много лет?
— А вы зайдете к Михаилу?
— Зачем? Чтобы он еще больше переполошился? Он ведь только и ждет теперь этого моего прихода. Не сомневается, конечно, — если что-нибудь серьезное, то вы непременно за мной. А я не хочу оправдывать его опасений. И вы делайте вид, что ничего серьезного не произошло. Надеюсь, вы при нем…
— Конечно же, Александр Львович! Дома я даже смеялась над ним. Это тут вот у вас, старого моего учителя, раскисла…
— Ну, не такого уж старого, положим, — смеется доктор Гринберг. — Но не это сейчас нужно уточнять. Вы мне скажите лучше, в каком фильме снимается ваша Лена? Из жизни физиков-атомников, если мне не изменяет память?
— Вам не изменяет память, Александр Львович. Но какое это имеет отношение к Михаилу?
— Хочу попробовать один эксперимент, но пока не скажу вам какой. Нужно сначала почитать кое-что из области физики.
— Из области физики?…
— А что вы удивляетесь? Для того чтобы лечить вашего мужа, нужно знать и это. И вообще, к вашему сведению — без современной физики с ее «безумными» идеями нельзя познать психологию нашего века. Подумайте-ка над этим во время вашего ночного дежурства. А Леночка пусть обязательно ко мне зайдет.
Когда Евгения Антоновна уже подходит к двери, Александр Львович спрашивает ее:
— Да, телефона академика Урусова нет ли у вас с собой?
— Я и так его помню, Александр Львович. Запишите, пожалуйста.
И она диктует ему телефон Олега Сергеевича.
— Они, значит, большие друзья с Михаилом Николаевичем?
— Да, еще со студенческой скамьи.
— Нужно, значит, обязательно встретиться с этим Урусовым…
5
И он в тот же день звонит академику. У Олега Сергеевича какие-то неотложные дела, но узнав, что говорит с ним профессор Гринберг, лечащий его друга Холмского, он решает отложить все до завтра и тотчас же ехать к Александру Львовичу.
— Если не возражаете, лучше к вам я? — предлагает ему доктор Гринберг.
Александр Львович приезжает к Урусову спустя полчаса. Знакомясь, они почтительно жмут друг другу руки. Огромный, широкоплечий, бородатый академик почти вдвое выше доктора Гринберга. Ему даже неловко своего богатырского роста, и он торопится поскорее усадить Александра Львовича. Садится и сам в глубокое кожаное кресло, сразу став вдвое меньше.
— Ну, как дела у Михаила Николаевича? — спрашивает он, предлагая гостю сигареты.
— Спасибо, я не курю, — мотает головой доктор Гринберг. — А у Михаила Николаевича все идет вполне нормально. Но, как я понимаю, этого нормального хода теперь недостаточно.
— Совершенно верно, Александр Львович. Вам, наверно, уже известно…
— Да, известно. Слышал собственными ушами, что они там говорят.
— «Голос Америки»?
— Нет, я обхожусь без помощи чужих голосов. Для того чтобы быть в курсе мировой науки в области психиатрии, мне приходится читать в подлинниках немецких, французских и английских авторов. Так что, вы понимаете…
— Да, конечно, Александр Львович. Мне, значит, не нужно ничего вам объяснять?
— Кое-что все-таки придется. Хотелось бы знать, хотя бы в самых общих чертах, в чем заключался этот эксперимент в Цюрихе, закончившийся такой катастрофой. Да, и имейте в виду, что элементарное представление о современной физике я имею. В частности, об элементарных частицах.
— Ну, тогда это значительно облегчает задачу нашего взаимопонимания. А что касается эксперимента, производившегося в Международном центре ядерных исследований, то об этом мы можем только догадываться. Имея возможность с помощью нового ускорителя сообщать заряженным частицам небывалую в предыдущей практике энергию, экспериментаторы надеялись проникнуть за пределы радиуса ядерных взаимодействий. Он равен примерно десяти в минус тринадцатой степени сантиметра. А новый сверхмощный ускоритель позволял прозондировать пространство, составляющее уже минус шестнадцатую и даже, наверно, семнадцатую степень сантиметра. Тут-то и предполагалось обнаружить нечто принципиально новое… Возможно, им это и удалось, но, к сожалению, слишком уж дорогой ценой.
— Михаил Николаевич может, значит, и не объяснить, что же все-таки там произошло?
— Да, весьма вероятно, что это будет ему не под силу, — задумчиво покачивает головой академик Урусов, — ибо происшедшая там катастрофа почти не объяснима. Михаил Николаевич смог бы, однако, сообщить нам о ходе эксперимента, о каких-то своих догадках и тех предварительных результатах, которые были получены перед катастрофой. Ну, а у вас есть какая-нибудь надежда ускорить окончательное выздоровление Холмского?
— Теперь есть, но с вашей помощью.
— С моей?
— Да, именно с вашей. У нас с Евгенией Антоновной почти нет больше сомнений, что Михаил Николаевич слушает радио, когда остается дома один. И он, конечно, хорошо понимает всю сложность теперешней ситуации.
— А нельзя разве убрать радиоприемник?
— Нет, теперь этого не следует делать. Это сразу же его насторожит, и уж тогда-то он просто потребует, чтобы мы сообщили ему истинное положение. А пока мы стараемся ничем его не тревожить. Всякое волнение может ухудшить его состояние. Если бы ситуация не была столь необычайной, память его уже восстановилась бы, пожалуй. А пока все осложнено… Даже в том случае, если он и не слушал иностранных передач, не понимает разве, как важно вспомнить все то, что там произошло? И думается мне, что именно этот страх, боязнь не вспомнить всего, буквально парализуют его…
— Да, я понимаю, доктор, как все это сложно, — вздыхает академик Урусов. — Но вы ведь, кажется…
— Да, я нащупал тактический прием, который должен привести нас к победе. Военную хитрость, обходный маневр, так сказать. И моими союзниками в этой операции будете вы, дочь Холмского Лена и, может быть, даже киностудия, на которой она работает.
Заложив руки за спину, Александр Львович прохаживается мелкими шажками по кабинету академика. Внезапно остановившись перед Урусовым, спрашивает:
— Можем мы рассчитывать на то, что киностудия прекратит работу по уже запущенному в производство сценарию и начнет съемку по нашему с вами?
— Восстановление памяти профессора Холмского — дело большой государственной важности, и все, что потребуется для этого…
— Понимаю вас, Олег Сергеевич, и надеюсь, что вы не откажетесь быть моим соавтором в написании нужного нам сценария?
— Конечно, доктор! Но учтите, что я…
— Понимаю вас, — снова нетерпеливо перебивает его Александр Львович. — Я тоже не Лев Толстой. Но от нас этого и не потребуется. Достаточно будет наших знаний в области медицины и физики. А теперь слушайте меня внимательно…
6
Молодая киноактриса Лена Холмская приходит к Александру Львовичу на другой день прямо в клинику.
— Мама велела разыскать вас где угодно, — смущенно говорит она, увидев доктора Гринберга в больничном халате, занятого каким-то делом.
— Мамы всегда знают, что говорят, — добродушно посмеивается доктор Гринберг. — И очень хорошо, что вы нашли меня именно здесь. Не понимаете? Сейчас я вам объясню. С сегодняшнего дня мы с вами начнем лечить вашего папу. Ах, вы не психиатр? Академик Урусов тоже не психиатр, однако он не отказывается делать это. И вы, конечно, тоже будете нам помогать, и не потому, что профессор Холмский ваш папа, а потому что, как выразился академик Урусов, восстановление памяти профессора Холмско-го — дело большой государственной важности. И я еще добавлю от себя: дело это международного значения.
— Вы понимаете, конечно, Александр Львович, что я бы и так…
— Да, я понимаю. Но и это вы тоже имейте в виду. Ваш папа знает, в каком фильме вы снимаетесь?
— Несколько дней назад он поинтересовался этим.
— И сказал что-нибудь по этому поводу?
— Нет, тяжело вздохнул только.
— А как вы поняли этот вздох?
— Его можно толковать по-разному…
— А все-таки?
— Ну, во-первых, он опасается, наверно, что ему лично уже не придется больше заниматься физикой…
— Мне не нравятся скорбные нотки в вашем голосе, Леночка, — хмурится Гринберг. — Ну, а во-вторых?
— Во-вторых, он, видимо, сожалеет, что ничем теперь не сможет мне помочь.
— Вот за это-то «во-вторых» мы и зацепимся! — оживляется Александр Львович. — Нужно, чтобы он все-таки помог вам в работе над непривычной для вас ролью молодого физика. Подсказал бы что-нибудь или проконсультировал. Но чтобы желание это возникло у него без всякой вашей просьбы. Вы актриса, и, мне кажется, талантливая актриса, вот и постарайтесь средствами искусства дать ему понять, что вы очень нуждаетесь в его помощи. Вам и на самом деле нужно вживаться в образ физика, проникнуться романтикой таинственного мира его элементарных частиц и если не читать их замысловатые следы на фотографиях, то иметь хоть какое-нибудь представление об их «визитной карточке».
С этими словами Александр Львович извлекает из своего портфеля несколько фотографий пузырьковых следов, образованных элементарными частицами в камере, наполненной жидким пропаном.
— Вот они, эти «визитные карточки»! — торжественно произносит он, протягивая Лене фотографии. — И ни у одного в мире фотографа или кинооператора нет более динамичных кадров. Это не схематическое изображение действующих лиц микромира, а графическая запись их судеб. И судеб преимущественно трагических. Вот эти многочисленные углы, перекрестья и развилки на их пути и есть резкие изменения в их судьбах, распад их семей, оскудение могущественных родов, растранжиривание их огромной энергии многочисленным, но уже маломощным потомством. Вашим киностудиям, Леночка, и не снятся даже такие трагедии, которые запечатлены тут почти на каждом квадратном сантиметре фотоэмульсии.
Лена с удивлением смотрит не столько на снимки элементарных частиц, сколько на Александра Львовича.
— И откуда вы, психиатр, так хорошо знаете романтику микромира?
— Скажу вам по секрету, — смеется доктор Гринберг, — не будь я психиатром, непременно стал бы физиком. Там ведь не меньше «безумия» и «странностей», чем у нас в психиатрической клинике, так что довольно много общего. И из меня мог бы получиться неплохой физик — толкователь судеб населения этого микромира. А теперь слушайте меня внимательно — я дам вам кое-какие советы для той роли, которую вы теперь будете играть не только на киностудии, но и у себя дома.
7
В тот же день Олега Сергеевича Урусова приглашает к себе президент Академии наук.
— Догадываетесь, о чем будет у нас разговор? — спрашивает он Урусова, всматриваясь в его черную бороду и обнаруживая в ней значительно больше седых волосков, чем в предыдущую их встречу.
«А когда же была она, эта „предыдущая встреча“? — задумывается он невольно. — На ходу, на заседаниях встречаемся почти каждый день, а так, чтобы попристальней посмотреть друг другу в глаза или хотя бы в бороду, не часто ведь доводится…»
— Интересную новость хочу вам сообщить, — продолжает он уже вслух, переводя взгляд с бороды на глаза Урусова. — Соединенные Штаты собираются предпринять восстановление Международного центра ядерных исследований в Цюрихе. Они обратились уже в связи с этим к нашему правительству с просьбой поддержать их и выделить необходимые средства.
— А затем продолжить эксперименты, прерванные катастрофой? — спрашивает Урусов.
— Это уж само собой.
— Но ведь все может повториться…
— Они такого же мнения, но готовы пойти на риск, если и мы примем участие в этих экспериментах. Понимаете, на что тут делается расчет?
— Да уж яснее ясного, — вздыхает Урусов, нервно теребя бороду. — Ну и что же ответило им наше правительство?
— А что оно могло ответить? Разве можно было отказаться от их предложения в сложившейся ситуации?
Оба долго молчат, глядя в разные стороны. Урусов не торопясь закуривает, президент отпивает несколько глотков давно остывшего чая, стоящего у него на столе.
— Ну, а если память Холмского не восстановится к тому времени? — спрашивает, наконец, Урусов. — Нужно иметь в виду и это…
— Все равно придется принимать участие. Нужно, однако, сделать все возможное, чтобы Холмский обязательно вспомнил все, что там произошло… Есть ли какая-нибудь надежда? Спрашиваю вас об этом потому, что знаю о вашей дружбе с Холмским.
— Теперь есть. За это взялся человек, которому я верю. Но абсолютной уверенности у меня лично все еще нет. Я бы хотел, чтобы вы имели это в виду…
— Нужен, значит, запасной ход?
— Да, необходим.
— А что нужно для того, чтобы выздоровление Холмского было более вероятно? Каких врачей к этому привлечь? Какие лекарства?…
— Его лечит профессор Гринберг — один из крупнейших специалистов в области психиатрии, и если он…
— Ну, а если и он и другие не смогут все-таки вернуть ему память?
— Не знаю… Просто не знаю, как тогда быть. Пока мы совершенно безуспешно ломаем голову над тем, что там у них произошло, какое новое явление они обнаружили.
— Сюрпризов, значит, не избежать?
— Да, нужно быть готовыми ко всему…
8
Михаил Николаевич Холмский давно уже заметил, что дочь его Лена очень озабочена чем-то. Сидит в своей комнате, обложившись какими-то книгами и журналами, читает, ерошит волосы, вздыхает… А когда заглянул в комнату Лены в ее отсутствие, все книги оказались по вопросам физики. Ну, да это и понятно: она ведь играет роль физика в каком-то новом фильме. Ему очень хотелось полистать ее книги, но он так и не решился на это. Испугался, что снова не поймет в них ничего. Будет смотреть, как на написанные на каком-то неизвестном ему языке.
Сегодня Лена снова сидит в своей комнате и вздыхает так тяжело, что Михаил Николаевич уже не в силах оставаться безучастным.
— Что, Леночка, никак не можешь постигнуть всех премудростей физики? — участливо спрашивает он.
— Ох, нелегкое это дело, папа, — вздыхает Лена. — Наш консультант по вопросам физики объясняет все очень красочно и даже поэтично, а станешь сама вникать — полнейшая неразбериха. Вот эти снимки следов элементарных частиц, например. Они похожи на мазню абстракционистов, а ему представляются следами каких-то загадочных животных, И он легко узнает по ним их повадки, встречи с другими, подобными им или более свирепыми существами, их мгновенную схватку и все подробности ее исхода. А для меня все это подобно лишь следам дождя на оконном стекле…
— Ваш консультант действительно слишком образно изображает все это, — задумчиво произносит Михаил Николаевич. — Ну-ка, дай мне посмотреть, что тут у тебя такое?
Он берет одну из фотографий и пристально всматривается в нее.
— А ты знаешь, тут и в самом деле интересная картина! — восклицает он оживленно. — Этот снимок сделан, наверно, в пузырьковой камере с жидким пропаном. Эти вот пузырьки — следы пролетавших через нее частиц. Их много, и не все прочтешь, но вот главное событие. Видишь этот пунктир? Это след отрицательного пиона.
— Пиона?
— Да, пи-мезона. Их принято так обозначать для краткости. Вот видишь его след?
— Вижу, но он обрывается…
— А это значит, что тут произошло столкновение его с протоном — ядра водорода. В результате образовалась новая частица — нейтральный ка-мезон. Он не имеет заряда и потому не вызывает образования пузырьков. Ка-частица распадается затем на пару противоположно заряженных пионов — видишь, как разошлись их следы?
— И образовали ту самую вилку, которую стали называть V-событием?
— Ну да, правильно! И виновницей этих V-событий почти всегда ка-частица.
— А не является ли эта ка-частица той самой «странной частицей», о которой так много говорит моя героиня в сценарии? — спрашивает Лена.
— Да, это одна из так называемых «странных частиц», вызвавших в свое время большой переполох среди физиков всего мира. Тут должна бы быть и вторая «странная частица», так называемая нейтральная ламбда-частица. Она обычно рождается при столкновении отрицательного пиона и протона.
— А не видна потому, что нейтральна?
— Вот ты и начинаешь кое в чем разбираться, а говорила, что тут полнейшая неразбериха.
— Когда ты так толково объяснил…
— Ну, ладно, ладно! — смеется заметно польщенный Михаил Николаевич. — Только без лести. Ответь лучше, почему мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе ламбда-частицы?
Лена энергично ерошит густые рыжеватые волосы и не очень уверенно произносит:
— Наверно, она покинула камеру, не столкнувшись ни с какой иной и не распалась на заряженные частицы, оставляющие следы?…
— Женя! — радостно кричит Михаил Николаевич. — Ты смотри, какая у нас толковая дочь! Такие вдруг способности к физике!
— А почему «вдруг»? — счастливо улыбается Лена. — Это же у меня наследственное.
9
На другой день Михаил Николаевич просыпается с ощущением давно уже не испытываемой бодрости. Сразу же после завтрака идет гулять на Тверской бульвар. Долго прохаживается там под тенью его лип и вязов. И если вчера еще многие встречные казались ему то эпилептиками, то параноиками, то теперь наоборот — бросаются в глаза здоровье и бодрость не только молодых, но и пожилых людей, попадающихся ему навстречу. Особенно привлекает его внимание почтенного возраста мужчина, энергично помахивающий толстым портфелем и улыбающийся каким-то своим мыслям.
«Видно, что-то приятное вспомнилось человеку», — тепло думает о нем Михаил Николаевич, хотя вчера принял бы его за ярко выраженного шизофреника с «симптомами монолога».
Евгении Антоновне нужно было бы спрятать от него книги по психиатрии и патологии мышления, он ведь все чаще в последнее время берет их из ее шкафа.
Вот и теперь, вернувшись с прогулки, обнаруживает он на столе жены историю болезни какого-то Карлушкина, страдающего параинфекционным энцефалитом. Сегодня почему-то привлекает Холмского «неврологический статус» этого больного.
«Симптом Гордона слева, — читает он, не без труда разбирая мелкий почерк Евгении Антоновны. — Экзофтальмус. Реакция на свет вялая. При конвергенции отклоняется кнаружи левый глаз. Ассиметрия носогубных складок. Справа симптом Маринеско. Гипотония в конечностях. Коленные и Ахилловы рефлексы справа живее. Пошатывание в позе Ромберга. Гипомимия. Тремор век, языка, пальцев рук. Саливация…»
Прочитав это, Михаил Николаевич беспечно улыбается и вслух произносит:
— Ну и терминология у психиатров! Пожалуй, еще помудреней нашей.
Но так как он муж врача-психиагра, то многие из только что прочитанных терминов ему знакомы. А когда смысл их доходит до его сознания, он невольно идет к зеркалу, очень внимательно всматривается в свое лицо и даже высовывает язык. Нет, дрожания век, языка и пальцев у него как будто не наблюдается. Нет и саливации — чрезмерного отделения слюны.
И так как у Михаила Николаевича сегодня хорошее настроение, он уже добродушно посмеивается над своей мнительностью и возвращается к столу Евгении Антоновны. Ему известно, что вот уже несколько дней работает она над статьей для сборника трудов психиатрической клиники, выходящего под редакцией доктора Гринберга. Он находит рукопись Евгении Антоновны в ее столе и с интересом начинает перелистывать.
Внимание его привлекает анализ результатов ассоциативного эксперимента, проведенного ею над группой больных. Так как и сам он подвергался этому эксперименту, ему любопытно узнать, как же отвечали на вопросы экспериментатора настоящие больные. Читая эти ответы, он самодовольно улыбается. Да, конечно, это «настоящие сумасшедшие».
Очень любопытны определения понятий больными с искажением процесса обобщения. Одному из них предлагают объяснить значение слова «шкаф», и он отвечает: «Это скопление атомов».
Михаил Николаевич громко смеется:
— Похоже, что свихнулся какой-то физик…
А понятие «лошадь» определяется другим больным такими словами: «Существо, приближенное к взаимосвязи с людьми».
— Ну, до таких-то премудростей я пока не договариваюсь! — снова усмехается Михаил Николаевич. Но то, что пишет Евгения Антоновна дальше, кажется ему уже имеющим отношение и к нему. Ссылаясь на Павлова, она утверждает, что речь, будучи преимуществом человека, вместе с тем таит в себе возможность отрыва от действительности, ухода в бесплодную фантастику, если за словами не стоит контроль их практикой, «госпожой действительностью», как любил выражаться Павлов.
— А ведь это чертовски верно! — восклицает Холмский. — Сколько я уже в положении больного? Четвертый месяц?… Почти полгода! С этим нужно значит, кончать! Пора начинать понемногу работать. И нечего бояться собственных сочинений!..
Не без трепета, однако, берет он с полки свою книгу «Вакуум как некоторое нулевое состояние физического поля». Медленно листая ее, пробегает глазами текст, внимательно всматриваясь в формулы. Еще совсем недавно казавшиеся ему загадочными и непонятными, они обретают теперь ту «прозрачную ясность», о которой так поэтично говорил когда-то Луи де Бройль. Вот эти треугольнички греческой буквы «дельта» в сочетании с латинским «иксом» и «пэ», соединенные знаком приблизительного равенства с буквой «аш», не являются разве соотношением неопределенностей Гейзенберга? А как можно было не узнать в букве «h» постоянной Планка?
Теперь-то ему все тут предельно ясно, и он легко читает условные обозначения дебройлевской и комптоновской длины волны для мезонов и нуклонов. А вот и его собственные расчеты квантов пространства — времени…
Устроившись поудобнее у окна, Михаил Николаевич погружается в чтение, которое никогда еще не было для него столь захватывающе интересным. Однако внимание его начинает вскоре рассеиваться, отвлекаться воспоминаниями того, что произошло хотя и недавно, но казалось так безнадежно забытым…
Даже не закрывая глаз, Михаил Николаевич видит перед собой сухощавого, с продолговатым, вечно озабоченным лицом инженера Харпера, ведающего вакуумной техникой. Профессор Холмский всегда сочувствовал ему, вполне разделяя его волнение при проверке вакуумных камер на плотность гелиевым течеискателем. Чтобы достигнуть того сверхвысокого вакуума, который был необходим для эксперимента, ему приходилось ведь с особой тщательностью в течение многих часов «тренировать» эти камеры, добиваясь полного прекращения выделения газов с их стенок.
Не прекращались его волнения и потом, когда начинали действовать молекулярные механические насосы…
В памяти всплывают и другие инженеры, обслуживающие сложное хозяйство ускорителя. Почти со всеми мельчайшими подробностями возникает перед ним вечно улыбающееся лицо Андрея Кузнецова, лучшего специалиста по регулировке магнитных линз, применяемых при жесткой фокусировке пучков заряженных частиц. Постоянно одержимый новыми идеями, он был готов модернизировать буквально все, начиная с квадрупольных и шестипольных линз и кончая корректирующими обмотками.
Слышится ему и слитный шум работающего ускорителя, периодически перекрываемый хлесткими, как удары гигантского бича, выхлопами сжатого воздуха из пузырьковой камеры.
И вдруг совершенно явственный голос скептика Уилкинсона:
— У теоретиков и так голова идет кругом от обилия экспериментальных данных, а мы им еще атомы пространства собираемся подкинуть…
— А раз атомы, значит, и мезонную их начинку, — смеется еще кто-то.
— Кто, однако, верит всерьез в принципиально новые открытия, кроме нашего русского коллеги? — смеется Уилкинсон. — Не забывайте только, дорогой доктор Холмский, что великие открытия в физике бывают не чаще одного раза в шестьдесят лет. Тридцать лет проходит между наблюдаемым загадочным явлением и рождением новой идеи и еще тридцать с момента возникновения этой идеи и до освоения ее «безумных» концепций. Мы сейчас так же далеки от понимания природы элементарных частиц, как современники Ньютона от понимания квантовой механики, А такие фундаментальные открытия, как ньютоновская динамика и квантовая механика, разделяют промежуток в полтора столетия.
Затем чей-то испуганный крик:
— Посмотрите, что творится на экране осциллографа!..
Кто-то подает команду выключить ускоритель, а он, профессор Холмский, бросается к детекторам излучений… А потом… Потом торопливая обработка данных. Гул электронных машин и невероятные результаты вычислений!.. Это кого-то настораживает, Уилкинсона, кажется… И он, Холмский, тоже требует прекратить эксперимент, осмыслить показания приборов. Но Роджер слишком уж торопится. Перед глазами ослепительное пламя, грохот взрыва и падение в бездну…
Больше Михаил Николаевич уже ни о чем не может думать. Он бросается на диван и бессмысленно смотрит в потолок.
А вечером вместе с Евгенией Антоновной приходит очень веселый, как всегда, доктор Гринберг.
— Снова будете производить надо мной эксперименты? — с трудом улыбаясь, спрашивает Михаил Николаевич.
— Зачем же эксперименты? — искренне удивляется Александр Львович. — Они и раньше производились только по вашей просьбе. А сейчас мы устроим маленький праздник. Вот торт и шампанское. Я купил это потому, что у вашей жены сегодня знаменательная дата. Ровно десять лет назад она пришла в мою клинику. А пятнадцать лет назад я впервые увидел ее в аудитории медицинского института, в котором читал тогда лекции.
— А меня, значит, даже не посмотрите?
— А чего вас смотреть? — пожимает плечами доктор Гринберг. — Я лично больше не считаю вас больным.
— А кем же — симулянтом?
— Зачем симулянтом? Вы выздоравливающий, как те, которые были в батальонах выздоравливающих на фронте. Они не лежали уже в госпиталях, а зачислялись в подразделения армейских запасных полков для прохождения боевой подготовки.
— А потом в маршевые роты? — очень серьезно спрашивает Михаил Николаевич.
— Да, в маршевые роты и батальоны, — так же серьезно отвечает ему доктор Гринберг. — Чтобы снова на врага, снова в бой!
— Вы, значит, считаете, что и мне пора?
— Да, пора и вам.
10
«Надо взять себя в руки и начать работать», — твердо решает Холмский, проснувшись утром на следующий день. А после завтрака, как только Евгения Антоновна и Лена уходят, садится за свой письменный стол.
«Нужно вспомнить все по порядку. В хронологической последовательности. Может быть, с самого того дня, когда я впервые переступил порог Международного центра ядерной физики. Когда же это было?… Всего год назад, а кажется, что прошла с тех пор целая вечность. Пожалуй, следует попробовать записать все это в мемуарной манере. Вспомнить людей, их внешний облик, характеры… Математика Анциферова, например. А какой же он?… Мы ведь так подружились с ним за те дни, неужели я забыл его облик? Кажется, высокий, худощавый… Нет, толстяк, похожий чем-то на Александра Львовича. Но почему же тогда все называли его Дон-Кихотом? Уж скорее Санчо Панса… Путаю я его с кем-то, наверно…»
Как ни напрягает память Михаил Николаевич, но образ человека, с которым он довольно близко сошелся в Цюрихе, так и не возникает в его сознании. Не может он вспомнить и инженера Кузнецова, ведавшего вместе с англичанином Гримблем наладкой электрофизической аппаратуры, хотя вчера еще его образ возник перед его глазами, как живой. А физика Уилкинсона Михаил Николаевич не может вспомнить теперь даже по фамилии.
«Что же это со мной такое? Почему снова не помню ничего? Все еще болен, значит? Зачем же тогда Александр Львович уверяет меня, что я здоров или почти здоров? И не лечит… Женя, правда, ежедневно делает уколы, а меня нужно, наверно, в клинику… Разве они не заинтересованы вылечить меня поскорее? Не известно им разве, что передает иностранное радио? Да и в газетах пишут, конечно, об этом… Пожалуй, мне не нужно было слушать эти передачи. Я тогда не боялся бы так, что мне ничего не удастся вспомнить…»
И тут в его памяти всплывают школьные годы, занятия спортом — снарядной гимнастикой. Тогда Холмский увлекался турником (сейчас он называется, кажется, перекладиной) и неплохо работал на нем до тех пор, пока не сорвался во время исполнения «солнца». Упал, правда, довольно удачно, без серьезного увечья, но потерял сознание. С тех пор чувство страха сковывало его при одной только мысли о возможности нового срыва… Что-то похожее на то состояние неуверенности в себе испытывает он и теперь. Наверно, это не пройдет само собой и, уж конечно, не так скоро…
Если бы не этот шум за границей, он уехал бы в какое-нибудь дальнее путешествие, отключился, убежал бы от мрачных мыслей…
«А что они передают теперь?… — бросает он тревожный взгляд на радиоприемник. — Может быть, поняли, наконец, нелепость своих подозрений и утихли?… А что, если включить радио и послушать еще раз? Теперь-то уж ничем больше они меня не удивят…»
И он включает приемник, настраивая его на диапазон коротких волн.
Из стереофонических динамиков слышится то веселая музыка, то умопомрачительная колоратура какой-то певицы, потом отрывок из пьесы Шекспира — что-то похожее на монолог Гамлета. Но вот, наконец, характерный голос диктора Британской радиовещательной корпорации.
Рука Михаила Николаевича перестает вращать ручку настройки. Он прислушивается. Дикторский баритон сообщает о недавних событиях в Южной Африке, об инцидентах на границах Израиля и арабских государств, переходит затем к разногласиям между Францией и Соединенными Штатами, и к проблемам Европейского экономического содружества. Баритон сменяет приятное сопрано. В ее информации тоже нет ничего интересного. Холмский собирается уже выключить приемник, как вдруг начинается то, из-за чего он включил его.
«Мы уже сообщали вам, господа, что американское правительство обратилось недавно к Советскому правительству с предложением продолжить физический эксперимент в Международном центре ядерных исследований, прерванный катастрофой. В Вашингтоне официально объявлено сегодня, что русские дали, наконец, свое согласие сотрудничать с американскими учеными. Восстановительные работы, самостоятельно начатые американцами еще на прошлой неделе, скоро завершатся, и тогда захватывающий и, видимо, небезопасный эксперимент будет продолжен. Мы беседовали в связи с этим с почетным членом Лондонского королевского общества содействия успехам естествознания сэром Чарльзом Дэнгардом, который так прокомментировал это сообщение:
«Если русский доктор Холмский не симулирует потерю памяти, а действительно лишился рассудка, никто в мире не узнает, что произошло в Цюрихском центре ядерных исследований. Возобновлять в подобных обстоятельствах этот эксперимент могут только самоубийцы».
А известный физик Джордж Кросс совсем другого мнения. Он не сомневается, что Холмский лишь симулирует сумасшествие и все, что произошло в Цюрихе, хорошо известно русским. Они, однако, готовы, видимо, послать на явную смерть других своих ученых, которые примут участие в продолжении этого рокового эксперимента, лишь бы только скрыть от мировой общественности тайну, которой они владеют. И кто знает, может быть, в недалеком будущем тайна эта даст им возможность неограниченно господствовать над миром».
— Бред!.. — шепчет Холмский, с яростью выключая приемник. — Чистейший бред сумасшедших!..
Но теперь он уже не может мыслить связно:
«Неужели мы согласились?… Нет, это провокации, наверно! И почему обязательно — „самоубийцы“?… Там была ошибка… Да, да, была какая-то ошибка! Кто-то ведь предупреждал… Уилкинсон, кажется… И я… Да, я сделал какие-то расчеты, хорошо помню это… И предупредил их. „Самоубийцы“!.. А может быть, и в самом деле? Но нужно же делать что-то… Поговорить… Да, обязательно поговорить с Олегом!»
И он торопливо набирает номер служебного телефона Урусова.
— Это ты, Олег? Мне очень нужно поговорить с тобой? Как себя чувствую? Отлично. Почему не поздоровался?… Забыл. Ты же знаешь, что я забыл нечто гораздо более серьезное. Ну, так как же, могу я к тебе приехать? Пришлешь машину? Спасибо. Я жду!
11
— Все знаешь, значит? — притворно улыбаясь, говорит академик Урусов, терпеливо выслушав Холмского. — Ну и очень хорошо. Плохо только, что источник твоей информации не слишком надежный.
— Спасибо и такому! — хмуро усмехается Михаил Николаевич. — Без Британской радиовещательной корпорации вообще бы ничего не знал. Все еще больным меня считаете… А я вспомнил кое-что, и очень важное притом.
— Но ведь и мы не настолько легкомысленны, чтобы согласиться на продолжение эксперимента без учета возможных последствий его. Туда поедут Азбукин, Орешкин и Жислин. Они, как ты знаешь, разбираются в этих вопросах. Азбукин, кстати, должен был еще в прошлом году поехать туда вместо тебя, но заболел. А Жислин — прекрасный математик, расчетами которого…
— Ну, а я? — нервно перебивает Урусова Холмский. — Совсем, значит, уже не нужен?
— Тебе нужно еще немного отдохнуть, набраться сил, а как только…
— Ну что вы все в постель меня укладываете! — злится Холмский. — Я ведь совершенно здоров. Меня уже и не лечат даже. Доктор Гринберг шампанское со мной пьет. Я уже свободно читаю любую книгу по физике. Освоил даже твой трактат о сверхмультиплетах. И знаешь, в нем есть какие-то элементы «безумия», хотя он написан явно не для сумасшедших.
— И в математической основе восьмеричного способа Гелл-Манна, которым я так широко пользовался, тоже разобрался? — смеется академик Урусов, очень довольный не столько похвалой друга, сколько столь явными признаками восстановления его памяти.
— Да, потому что вспомнил алгебру Софуса Ли с восемью независимыми компонентами и группой SU. Не совсем, значит, свихнулся? А скоро вообще все вспомню. И учти, все, что я вспоминаю, записываю и в любое время могу тебе представить.
— Правда, записываешь? Это ведь очень важно! Непременно покажи все, что записал. Когда ты смог бы это сделать?
— Да хоть завтра.
12
И вот Холмский мчится на машине Урусова к своему дому, уверенный, что теперь обязательно вспомнит и запишет все свои расчеты, как только сядет за стол. Торопясь, без лифта, вбегает он на второй этаж. От волнения долго не может вставить ключ в замочную скважину. Но вот дверь распахнута. Не проверив, защелкнулась ли она, Михаил Николаевич спешит в свой кабинет. Сбрасывает с письменного стола книги, журналы, газеты. Выхватывает из ящика кипу бумаги и, не найдя ручки, пишет карандашом, торопясь поскорее записать то, что начало всплывать в памяти.
Радуясь и не веря своим глазам, он поспешно пишет несколько секунд, без особого труда вспоминая нужные формулы… Но тут ломается карандаш. С проклятием он бросает его на стол, снова начинает искать ручку. Да вот же она, в боковом кармане пиджака!
Нужно поскорее продолжить запись. Что такое тут, однако?…
Но теперь он уже с трудом разбирает только что написанное, не узнавая собственного почерка.
И вдруг сомнение: а верно ли все это? Откуда во второй формуле греческая буква «тета»? Должна ведь быть «тау»… И корень квадратный не в числителе, а в знаменателе. А почему здесь «постоянная Планка»?
«Нет, что-то тут не так… Явно не так!..»
Холмский в ярости комкает бумагу, бросает ее под стол, вытирает пот со лба. Теперь он уже не в состоянии не только писать, но и связно думать. Сидит некоторое время неподвижно, откинувшись на спинку кресла, отбросив голову назад. Потом встает, расслабленной походкой идет к дивану и почти падает на него…
Снова бешеное мелькание зигзагов осциллограммы перед закрытыми глазами и звенящий в ушах, давящий гул напряженно работающего ускорителя…
Он лежит так почти целый час. Постепенно успокаивается. Встает с дивана, нетвердой походкой идет в ванную и долго умывается холодной водой. Внимательно рассматривает себя в зеркале…
Задумчиво ходит потом по квартире. Останавливается у телефона и несколько минут стоит возле него, прежде чем снять трубку. Но и сняв ее, не набирает номера, а подержав в руках, опускает на рычажки аппарата. И, уже не раздумывая больше, решительно выходит из дому.
Расплатившись с шофером у здания психиатрической клиники, Холмский поднимается на второй этаж и идет в кабинет Александра Львовича Гринберга.
— Ба, кого я вижу! — радостно восклицает Александр Львович. — Чем обязан, как говорится?…
— Кладите меня, доктор, на любое свободное место. В крайнем случае и в коридоре полежу, — мрачно произносит Холмский. — И лечите всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами. Это сейчас очень нужно не только мне. А в том, что я болен, у меня нет уже больше никаких сомнений. Как физик, я все еще в состоянии клинической смерти…
— Ну, зачем же так мрачно? — пытается обратить все в шутку Александр Львович. — Я ведь психиатр, и, говорят, неплохой, потому лучше вас знаю, больны вы или нет.
— А где моя память? Почему не могу вспомнить самого главного? Вспоминаю даже то, что казалось давно забытым и во всех подробностях, а то, что было со мной всего три месяца назад…
— Вспомните и это.
— Но когда? А нужно сейчас. Я ведь все знаю. Я слушал радио… И Урусов не отрицает того, что я услышал. Он, правда, делает вид, что они и без меня во всем разберутся, но зачем этот риск? Может быть, прав тогда Чарльз Дэнгард, и они действительно идут на самоубийство?
— Ну зачем же вы так?…
— Только не утешайте меня, пожалуйста, Александр Львович. Я ведь не настоящий сумасшедший и все понимаю, поэтому, может быть, мне так тяжело… Сегодня, казалось, вспомнил, наконец, самое главное, а как только сел за бумагу — все смешалось. А ведь до этого такая светлая была голова! В разговоре с Урусовым вспомнил даже афоризм, приписываемый Будде, так как он напоминает манипуляцию восемью квантовыми числами новой системы симметрии, называемой восьмеричным способом. Все это имеет отношение к трактату Урусова о сверхмультиплетах.
— Мультиплеты, мультиплеты… — задумчиво произносит доктор Гринберг. — Это что-то, имеющее отношение к нуклонам атомного ядра? А что за афоризм Будды? Может быть, вы его и сейчас помните?
— Нет, сейчас уже не вспомню… Хотя, постойте… Вспомнил! «Вот вам, о монахи, та благородная истина, которая показывает, как избавиться от страданий. К этой цели ведут восемь достойных путей: справедливое представление, справедливое намерение, справедливая речь, справедливое действие, справедливая жизнь, справедливое усилие, справедливое внимание и справедливая сосредоточенность».
— Ну, милый мой! — весело смеется доктор Гринберг. — Если вы в состоянии на память цитировать Будду…
— Ведь потому только, что его афоризм имеет отношение к сильным взаимодействиям ядерной физики.
— Тем более! И уж теперь-то я не сомневаюсь больше в окончательном восстановлении вашей памяти. Хватит вам лежать целыми днями на диване…
— Я не лежу, а хожу, и не только по квартире, но и по бульварам.
— Нет, это тоже не то. Вам нужно заняться делом. В институт вам еще, пожалуй, рано, а вот консультантом на киностудию, снимающую фильм из жизни физиков, в самый раз. Лена жаловалась мне, что вы не хотите ей помочь. А вам нужно переменить обстановку, отвлечься от мрачных мыслей, от страха, что вы не вспомните всего.
— И вы думаете, это мне поможет?
— Не сомневаюсь в этом!
— Ну, так я тогда попробую.
13
В клинике доктора Гринберга собираются чуть ли не все психиатры столицы. Мало того — приезжают еще два профессора из Америки и один из Швейцарии.
— А они-то зачем? — удивляется Евгения Антоновна.
— Ничего не поделаешь, Женечка, — сокрушенно вздыхает Александр Львович. — Ваш супруг — больной международного значения.
— Неужели снова начнут осматривать его?
— Этого мы не должны допустить. Этим только все дело можно испортить.
— А как же не допустить? Они ведь могут подумать…
— В том-то и дело, — снова вздыхает доктор Гринберг. — В крайнем случае, если уж очень будут настаивать, подпустим их к нему только после моего эксперимента. Думаю, однако, что тогда этого и не понадобится.
— Не сомневаетесь, значит?
— Не сомневаюсь.
— Ну, а наши психиатры как к этому относятся?
— Терпимо.
— А иностранцы могут и усомниться?
— Не исключено. На них не могла ведь не сказаться болтовня их прессы.
— Оказались, значит, под психологическим ее воздействием? — грустно усмехается Евгения Антоновна.
— И не только это. У нас вообще разные точки зрения на патологию высшей нервной деятельности.
Приезд иностранных психиатров и особенно предстоящая встреча с ними очень беспокоит теперь Александра Львовича. Ему известно, что оба американца — психотерапевты и психоаналитики, а психотерапия, в их понимании, не наука, а искусство, что явно противоречит точке зрения доктора Гринберга. Да и в самой Америке не все ведь являются сторонниками психотерапии. Известный американский психолог Хобарт Маурер считает, например, что психотерапия приводит больного не к нормальному состоянию, а к тому психопатическому и антиобщественному поведению, которое типично для преступников и не умеющих владеть собой людей. Особенно же пугает Александра Львовича «комплекс вины», столь дорогой сердцу многих американских психотерапевтов. Он боится, как бы прибывшие из-за океана психиатры не стали подвергать Холмского психоанализу, исходя из этого «комплекса вины». А повод к этому могли им дать измышления буржуазной прессы. Утешает доктора Гринберга лишь надежда на более трезвые взгляды швейцарского психиатра Фрея. Насколько известно Александру Львовичу, профессор Фрей считает, что поведение человека определяется не столько психологическими, сколько неврологическими и биохимическими факторами.
И вот иностранные психиатры сидят теперь перед доктором Гринбергом, придирчиво перелистывая бланки с результатами анализов и длинные ленты электроэнцефалограмм Холмского. Александр Львович только что сообщил им о воздействии на Михаила Николаевича сонной и лекарственной терапии.
Швейцарский профессор тотчас же спрашивает его, применял ли он фенамин, повышающий скорость замыкания условных рефлексов и уменьшающий их латентный период. Интересуется он и дозировкой хлоралгидрата, ослабляющего внутреннее торможение. Задают несколько вопросов и американцы.
— По тому, что вы спрашиваете, господа, — обращается к ним доктор Гринберг, — я вижу, что вы все еще считаете Холмского психически не вполне полноценным. Однако это не так. Я и мои коллеги, лечившие Холмского и длительное время наблюдавшие за ним, не сомневаемся в состоянии его психики. А такие фармакологические стимуляторы, как лимонник китайский и женьшень, о действии которых на Холмского я вам рассказывал, применяем мы теперь лишь в самых малых дозах для повышения работоспособности его нервных клеток.
— Да, но память мистера Холмского все еще полностью не восстановлена, — замечает Хейзельтайн. — И это, конечно, результат посттравматического состояния его мозга.
— А мы не сомневаемся, что это результат лишь психического шока.
И доктор Гринберг снова терпеливо излагает им свою теорию этого шока, вызванного передачами иностранного радио. В них утверждалось ведь, будто Холмский симулирует умопомешательство, чтобы утаить результат открытия, сделанного международным коллективом ученых. В результате травмированный в недавнем прошлом, а потому весьма ранимый мозг профессора Холмского под влиянием страха, боязни не вспомнить всего того, что произошло накануне катастрофы, находится сейчас в состоянии психического шока.
С недавнего времени Александр Львович утвердился в этом мнении непоколебимо, однако психологический эксперимент, предлагаемый им теперь для окончательного «расторможения» памяти профессора Холмского, кажется его зарубежным коллегам несколько рискованным. Они долго молчат, прежде чем решиться высказать свое мнение по этому поводу.
И вдруг профессор Фрей предлагает:
— А что, если пригласить сюда инженера Хофера? Профессор Холмский хорошо знал его. Хофер согласовывал с ним установку какой-то аппаратуры ускорителя накануне катастрофы. Я вообще думаю, что подвело их тогда не какое-то новое явление природы, а несовершенство их ускорителя. Он ведь тоже был принципиально новым, и эксплуатировали его впервые.
— А я не уверен в этом, — возражает Фрею американский профессор Хейзельтайн. — В ускорителях, по-моему, просто нечему взрываться.
— А жидководородная пузырьковая камера? — замечает профессор Фрей. Ему известно, что даже небольшая утечка водорода или проникновение воздуха в такую камеру может привести к образованию гремучего газа и взрыву. — Если мне не изменяет память, то в этих пузырьковых камерах никак не меньше пятисот, а то и шестисот литров жидкого водорода.
— Не думаю, не думаю, чтобы это именно он взорвался, — упрямо повторяет Хейзельтайн. — У них там строгие меры предосторожности. Тут другое, и кажется, по нашей с вами специальности…
Все недоуменно смотрят на Хейзельтайна. Даже его соотечественнику неясна его мысль.
— Я имею в виду психопатологию, — уточняет Хейзельтайн, хотя мысль его не становится от этого понятнее.
А Хейзельтайн не торопится с пояснением. Он, пожалуй, и не добавил бы ничего более, если бы не попросил его об этом профессор Фрей.
— Дело, видите ли, в том, что доктор физико-математических наук Харт Харрис, входивший в состав нашей группы ученых Цюрихского центра ядерных исследований, лечился у меня. Правда, это было довольно давно, но он страдал тогда манией преследования.
— А какое же отношение имеет это к цюрихской катастрофе? — пожимает плечами соотечественник Хейзельтайна.
— Может быть, и никакого, но, может быть, все-таки имеет… Дело, видите ли, в том, что перед отъездом из Штатов я посетил его вдову. Она мне рассказала кое-что такое, что невольно насторожило меня. Харрис, оказывается, был одержим страхом перед глобальным характером современных научных экспериментов. Уверял жену, что сделает все возможное, чтобы предостеречь человечество от их неизбежной, по его мнению, пагубности. А один раз, это было уже перед самым его отъездом из Штатов в Швейцарию, он заявил, что готов ради спасения человечества не пощадить даже собственной жизни…
— А что же жена его молчала об этом? Как могла не сообщить?…
— Спокойствие, спокойствие, дорогой коллега! — кладет руку на плечо своего соотечественника Хейзельтайн. — Она ведь не принимала всего этого всерьез. На него это лишь находило иногда. Вообще же был он очень рассудительным человеком, и жена не считала его способным ни на какие безрассудные поступки.
— А я вообще не вижу связи всего того, что вы рассказали нам, уважаемый мистер Хейзельтайн, с тем, что произошло в Цюрихском центре ядерных исследований, — спокойно замечает профессор Фрей.
— А я вижу, — мрачно произносит Хейзельтайн. — Харрис, одержимый идеей предостережения человечества от опасных экспериментов, мог принести в жертву не только ведь себя. Он мог не пощадить и своих коллег, ибо был не вполне вменяем. Сумасшедших вообще гораздо больше, чем принято считать, даже среди нас, психиатров. А у большинства физиков, по моему глубокому убеждению, мозги явно…
— Ну, хорошо, мистер Хейзельтайн, — деликатно прерывает американца профессор Фрей. — Может быть, вы и правы. Не будем, однако, обсуждать сейчас этой проблемы. Вернемся к Харрису и допустим, что он действительно решил подорвать Цюрихский центр ядерных исследований, но каким же образом?
— Да с помощью хотя бы той же жидководородной камеры, о возможности взрыва которой сами же вы только что говорили. Мог использовать и еще что-нибудь, не менее взрывчатое…
Мысль эта кажется настолько чудовищной, что некоторое время никто из психиатров не может произнести ни слова. Первым приходит в себя доктор Гринберг.
— Чем же тогда может помочь в разгадке тайны цюрихской катастрофы профессор Холмский? — спрашивает он Хейзельтайна.
— Да хотя бы подтверждением того, что никакого нового явления природы они не обнаружили. В этом случае мое предположение приобретает реальность.
— Ну, а если мощный цюрихский ускоритель дал все-таки возможность проникнуть в принципиально новую сферу материи?
— Не будем сейчас ломать головы и над этим, — снова предлагает Фрей. — Наша главная задача — окончательно восстановить память профессора Холмского, а уж он потом поможет физикам разгадать тайну катастрофы Цюрихского центра ядерных исследований. А доктор Харрис, даже если он и был одержим какой-то манией, безусловно, был прав в одном — на нас, ученых, действительно лежит большая ответственность за судьбы человечества. Может быть, даже еще большая, чем на государственных деятелях. И знаете, господин Гринберг, мне очень понравилось выступление крупного вашего ученого на одной из международных конференций в Дубне. «Я подошел к концу своего обзора, — сказал он в своей заключительной речи на этой конференции, — и вполне понимаю, что он далек от совершенства. Следуя намечающейся традиции, я не упоминал ни имен, ни лабораторий, ни даже стран, в которых были выполнены те или иные исследования. Пусть сознание того высокого духа коллективизма, который начинает развиваться в современной науке, заменит мелкое тщеславие. Кстати, это будет подкреплять надежду человечества на возможность лучшего будущего».
— Неплохо сказано, — одобрительно кивает седовласой головой Хейзельтайн.
— У меня хорошая память, — продолжает Фрей, — и я запомнил эту мысль советского физика дословно. Давайте и мы проникнемся таким же высоким духом коллективизма и объединим наши усилия для окончательного восстановления памяти профессора Холмского. Этим мы лишим возможности безответственных журналистов продолжать свои спекуляции на тайне трагической гибели ученых Цюрихского центра ядерных исследований. Я подаю свой голос за осуществление эксперимента нашего коллеги доктора Гринберга и снова предлагаю пригласить для этого моего соотечественника инженера Хофера. Он поможет воссоздать необходимую для задуманного эксперимента обстановку. Кроме того, немаловажное значение будет, видимо, иметь и личное его участие в этом эксперименте.
— Тогда можно вызвать из Нью-Йорка еще и Бриггза, — присоединяется к идее Фрея Хейзельтайн. — Он тоже работал с мистером Холмским и улетел из Цюриха в Штаты всего за неделю до катастрофы.
14
На киностудию Михаил Николаевич Холмский приезжает в сопровождении Лены. Она знакомит его с режиссером, операторами, исполнителями главных ролей. Режиссер сразу же ведет его в съемочный павильон и показывает макеты электрофизической аппаратуры и ускорителя заряженных частиц, выполненные почти в натуральную величину.
— Кое-что мы снимаем в Дубне и даже в Серпухове, — объясняет он Холмскому, — но главным образом их внешний вид и те громадные сооружения, макеты которых просто не в состоянии сделать наш макетно-бутафорский цех. Однако снимать там игровые сцены, надолго включая для этого аппаратуру ускорителей, мы, конечно, не можем. К тому же нам не совсем удобно размещаться там со своей тоже довольно громоздкой техникой. Да и небезопасно, — добавляет он, улыбаясь. — Поэтому-то нашим художникам-декораторам и приходится кое-что сооружать тут у себя. Конечно, нас консультировали, но вы все-таки посмотрите — нет ли каких нелепостей?
— По-моему, вы вообще зря все это мастерите, — пожимает плечами профессор Холмский. — Во время работы ускорителей мы ведь наблюдаем за ними лишь через смотровые плексигласовые окна пультов управления. А возле его резонансных баков, вакуумных камер, мишеней, пробников и триммерных устройств бываем главным образом при разборке ускорителя и ремонте его. Я понимаю, вам нужен какой-то антураж современного научно-исследовательского центра…
— Вот именно! — перебивая Холмского, энергично кивает головой режиссер. — И если можно, то подскажите, какой же именно.
— Подскажу, — улыбается Холмский, очень довольный, что хоть кому-то понадобился, наконец, его совет. — Вы знаете, что такое жидководородная пузырьковая камера?
— Пузырьковая, пузырьковая… — морщит лоб режиссер. — А у нее есть что-нибудь общее с камерой Вильсона?
— Ее называют «антикамерой Вильсона», — усмехается Холмский. — Почему? Да потому, что является она как бы ее зеркальным отражением. След частиц в ней состоит не из капелек жидкости, парящих в газе, а из пузырьков газа, плавающих в жидкости. И хотя камера эта всего лишь прибор для исследования элементарных частиц, конструкция ее — пример той сложности, которая характерна для современных научно-исследовательских центров ядерной физики. Даже в восьмилитровой дубненской камере насчитывается шестьдесят один вентиль, около сорока манометров, десятки сложнейших клапанов, насосов, расходомеров, уровнемеров и километры разных труб. А у нас есть ведь лаборатории, в которых установлены пузырьковые камеры на сотни кубических литров жидкого водорода.
— И вы предлагаете соорудить все это у нас? — удивляется режиссер.
— Нет, зачем же! Вы соорудите всего лишь макет пульта управления такой пузырьковой камерой. И он почти ничем не будет отличаться по разнообразию приборов от пульта управления мощной гидростанции или автоматического завода.
Они долго еще ходят по съемочному павильону, и режиссер с оператором не только советуются с Холмским, но и задают ему множество вопросов, имеющих отношение к ядерной физике. Хотя Михаил Николаевич понимает, что вопросы эти вряд ли имеют прямое отношение к будущему фильму, интерес киноработников к физике микромира кажется ему вполне естественным.
Все это происходит, конечно, не случайно, а по просьбе Александра Львовича Гринберга. Мало того, весь этот разговор незаметно для Холмского записывается на магнитную ленту, которую придирчиво прослушает потом академик Урусов.
Вот он сидит сейчас в кабинете доктора Гринберга и, откинувшись на спинку кресла, вслушивается в глуховатый голос Холмского, объясняющего режиссеру действие автомата, обрабатывающего снимки треков элементарных частиц.
«Координаты отдельных точек следа на таких фотографиях, — говорит Михаил Николаевич, — шифруются специальным кодом и посылаются в электронно-вычислительную машину, которая обучена обработке этих данных. Заложенная в нее программа предписывает все необходимые действия для определения пространственных координат следа, углов разлета частиц, радиусов кривизны и многих других данных…»
— Ну как, все у него правильно? — спрашивает Александр Львович. Доктора тревожит слишком уж торопливый голос Холмского.
— Да, все совершенно точно, — подтверждает Урусов. — И даже… Подождите-ка минутку… А вот это уже интересно! Это он о новом, у них только применявшемся автомате, сканирующем весь кадр пленки со следами элементарных частиц.
— Сканирующем?
— Да, разбивающем кадр на горизонтальные полосы, по которым последовательно пробегает луч света, подобно электронному лучу телевизионной камеры. Такого нет еще ни в одной лаборатории мира. Это результат их коллективного творчества. Вы сохраните эту пленку, она сможет пригодиться. Неизвестно ведь пока — удастся ли восстановить этот автомат после катастрофы. А идею сканирования очень трудно было реализовать из-за большой сложности обучения автомата правильному отбору событий, происходящих в микромире. Для него нужно было разработать необычайно тонкую программу, предусматривающую не только всевозможные, но и самые неожиданные ситуации на пленке. Ну, а что касается Михаила Николаевича, то за него я теперь спокоен. По-моему, он вполне здоров и вспомнит все без всяких психологических экспериментов. Нужно только…
— Нет, нет! — испуганно перебивает академика Урусова Александр Львович. — Ничего не нужно. Это лишь усилит шок. Он уже пробовал вспомнить интересующие вас подробности, но это вызывало у него лишь чувство отчаяния и вообще могло завершиться серьезным психическим расстройством.
— Но ведь вы же знаете, как важно…
— Да, я знаю это и поэтому только решаюсь на эксперимент.
Михаил Николаевич Холмский ходит теперь на киностудию почти каждый день. Консультирует художников и декораторов, дает советы режиссеру и актерам, присутствует на некоторых репетициях и даже съемках. А недели через две ему предлагают посмотреть несколько отснятых кусков кинофильма.
— Когда мы начали работу над этой картиной, — доверительно говорит Михаилу Николаевичу режиссер, — нам хотелось показать современных физиков этакими покорителями природы, властелинами вселенной. Но чем глубже вникали мы в суть проблем современной физики, тем труднее представлялось и нам и авторам сценария наше положение. Конечно, можно было бы решить образ нашего главного героя романтически и даже символически, но нам хочется показать современного физика реалистически, в решении не каких-то абстрактных научных проблем, а тех конкретных загадок, которые постоянно ставит перед ним природа.
— Мне нравится, что именно так понимаете вы свою задачу, — заметно оживляется Холмский. — И то, что вы говорите, очень напоминает мне слова известного американского физика Артура Комптона, сказанные им в его статье «Стоит ли вашему ребенку быть физиком?». «Физик, — писал в ней Комптон, — становится человеком, который не столько гордится покорением вселенной, сколько смиряется перед трудностями ее понимания».
— Ну, это слишком уж приземлено! А мы за то, чтобы показать физиков если и не властелинами природы, то бесспорными героями в битве с нею. И героями в буквальном смысле, как на фронте. И с теми же реальными опасностями, как на настоящей войне… Один из эпизодов такой битвы, в котором физики отвоевывают еще одну тайну у природы, мы и хотим вам показать.
Они проходят в просмотровый зал киностудии. Садятся в его глубокие, обитые темным, похожим на плюш, материалом.
Почти тотчас же гаснет свет.
В стереофонических динамиках звучит какая-то музыка, напоминающая «Лунную сонату» Бетховена. Незаметно она переходит в ритмичный шум работающего ускорителя, с характерными жесткими щелчками выхлопа сжатого воздуха из пузырьковой камеры.
А на экране все еще мелькают лишь просветы в поврежденном слое эмульсии кинопленки.
Холмский мысленно считает: три секунды — щелчок, затем несколько секунд паузы. И снова все сначала… Ну да, конечно же, это циклы работы синхрофазотрона! Значит, они записали эту «музыку» на настоящем ускорителе.
Михаил Николаевич снова чувствует себя в той обстановке, в которой не был уже много месяцев — для него это целая вечность! По его расчетам в невидимом ускорителе только что произошла инжекция частиц. Размытым сгустком с огромной скоростью они несутся теперь по трубе линейного ускорителя. У входа в кольцевую камеру их скорость достигает сорока тысяч километров в секунду, а энергия каждой из многих триллионов частиц не менее десяти миллионов электроновольт.
Мощный магнит поворачивает их и заставляет войти в кольцевую камеру по касательной к расчетной траектории. Не всем, однако, удается последовать его указке из-за разбросанного направления скоростей. Многие из них слишком уж приближаются к стенкам камеры, совершая вертикальные колебания с большой амплитудой. У таких очень мало шансов перенести все дальнейшие трудности ускорительного цикла.
Полный оборот в двухсотметровой баранке вакуумной камеры ворвавшиеся в нее частицы совершают за пять миллионных долей секунды, получая свое первое ускорение. Но могучий поток несущего их магнитного поля не идеален. Он все время довольно основательно перетряхивает их, и те, которые сбились с расчетной орбиты, отклоняются от нее все больше. Не попав в нужную фазу ускоряющего промежутка, тысячи частиц то и дело натыкаются теперь на стенки камеры, выбывая из дальнейшей сумасшедшей гонки по кольцу ускорителя.
Михаил Николаевич, конечно, не видит всего этого, так же как и те, кто находится возле ускорителя, ибо просто не существует пока таких приборов, с помощью которых можно было бы это увидеть. Но Холмский хорошо знает обо всем этом по расчетам, по личному опыту, по результатам своих и чужих экспериментов. Теперь все это как бы перед глазами у него, хотя в просмотровом зале по-прежнему темно, а из динамиков все еще слышится лишь шум работы ускорителя и вакуумных насосов, разряжающих его камеру до давления, в сотни миллионов раз меньше атмосферного.
Когда энергия пучка частиц, возрастающая с каждым оборотом на тысячу вольт, превышает миллиард, они все реже выпадают из ритма ускорения. Радиальные, вертикальные и фазовые колебания их становятся все медленнее, а амплитуда затухает. Поток частиц сжимается теперь в узкий шнур. Они совершили уже много миллионов оборотов, и энергия их возросла до десяти миллиардов электроновольт, а скорость приблизилась к скорости света. Но и потери велики — осталась всего одна тысячная от того количества, которое начало свой бег по кольцу вакуумной камеры три секунды назад.
Цикл ускорения теперь завершен, и частицы обрушиваются на мишень, сокрушая ядра ее вещества и оставляя причудливый рисунок треков в пузырьковой камере, наполненной жидким водородом…
И в это время на экране появляются, наконец, первые кинокадры. Холмский не сразу разбирается, что именно там изображено. Кадры очень затемнены, похоже, однако, что на экране пультовое помещение ускорителя. Ну да, конечно! Вон защитные блоки, смотровые окна, пульт управления с осциллографами и множеством других приборов.
А что это за люди, склонившиеся над экранами осциллографов? Один из них кажется Михаилу Николаевичу очень знакомым. Уж не Хофер ли это? Ужасно похож на швейцарского инженера Хофера! А рядом?… Да ведь это вылитый Бриггз! Физик Дональд Бриггз из Нью-Йорка!..
Оператор дает их теперь крупным планом. Да, это они! Холмский хорошо помнит родинку на верхней губе Бриггза, а у Хофера шрам на левой щеке. Конечно, это они, но как попали в эти кинокадры?… А вот снова вся группа… Но что такое? Откуда тут инженер Кузнецов? Ведь он погиб… Холмский хорошо знает, что он погиб. Об этом ему стало известно еще там, в Цюрихе. А вот и скептик Уилкинсон… Да что же это такое?… Галлюцинация?…
Холмский осматривается по сторонам. В зале полумрак, но можно все же разглядеть, что ни впереди, ни сзади никого нет. Неужели он тут один?…
А на экране встревоженные лица, судорожное мигание зеленых изломанных линий осциллографов, тяжелое, натужливое дыхание ускорителя. И вдруг яркая вспышка, слепящая весь кадр! Страшный грохот, от которого дрожат даже стены и пол зрительного зала! И сразу же полный свет и тишина…
Холмский сидит, закрыв глаза, беспомощно откинувшись на спинку кресла. Ему кажется, что взрыв произошел не только на экране и что сам он не в просмотровом зале киностудии, а в Цюрихе, среди развалин Международного центра ядерных исследований. И, наверно, вокруг ни души?…
Но он тут не один. Рядом с ним теперь доктор Гринберг.
Лишь спустя несколько секунд Михаил Николаевич медленно открывает глаза. Долго, не узнавая, смотрит на Гринберга. Потом произносит чуть слышно:
— Кажется, я все теперь вспомнил, Александр Львович. Но боюсь, как бы снова… Может быть… Может быть, сразу же все записать? Нет, срочно к Урусову!
— Он здесь, Михаил Николаевич.
Потом, уже в клинике, взволнованная и все еще не очень верящая в происшедшее, Евгения Антоновна Холмская спрашивает Александра Львовича:
— И вы совсем не боялись?…
— Я храбрый, — добродушно посмеивается доктор Гринберг, уставший за этот день так, как не уставал, кажется, еще ни разу. Даже на фронте, когда приходилось работать по нескольку суток без сна.
— А я трусиха, я боялась… И будь бы это не мой муж, а кто-нибудь посторонний мне…
— Ну и что бы вы тогда? — настораживается Александр Львович. — Это просто любопытно.
— Я бы, наверно, протестовала против вашего эксперимента. Постаралась бы как-то отговорить вас, хотя это было бы, конечно, безнадежно.
— Почему же? — поднимает на Холмскую притворно удивленные глаза доктор Гринберг.
— Вы ведь были так уверены в успехе. Разве я смогла бы чем-нибудь поколебать эту уверенность?
Конечно же, Александр Львович почти не сомневался в успехе, ему, однако, не хотелось рассказывать Евгении Антоновне, как нервно сосал он таблетку валидола в просмотровом зале во время этого эксперимента.
Только себе мог он признаться теперь, что был все-таки некоторый риск. И не того, что Холмский ничего не вспомнит, а еще страшнее — забудет на какое-то время даже и то, что уже вспомнил. Но для доктора Гринберга и работа физиков у синхрофазотронов и собственная его работа над воскрешением памяти профессора Холмского были таким же сражением, какие бывают на фронте. А на войне как на войне, там ничто не исключено…
ОПЕРАЦИЯ «БЕЗУМИЕ»
1
Черт знает до чего самоуверенная физиономия у этого профессора Рэллэта! Ему, конечно, многим обязана наша военная техника, особенно термоядерное оружие, но ведь ему давно уже ни один порядочный ученый руки не подает. А он будто и не замечает этого. Меня, бывшего помощника военного министра, а теперь всего лишь личного советника президента по военным вопросам, он вообще, видимо, считает ничтожеством. Вот и сейчас ведет себя так, будто не президент пригласил его на консультацию, а сам глава государства явился к нему с докладом о положении дел в стране. Ужасно зарвались эти длинноголовые из мозгового центра военных ведомств!
— Что вам известно о гравитационном оружии красных, доктор Рэллэт? — нервно прохаживаясь по кабинету, спрашивает его президент.
— Как, и вы, сэр, верите этому?! — удивленно вскидывает густые косматые брови ученый муж.
— А по-вашему, это пропаганда красных?
— Нет, сэр. Это просто нелепость. Такие слухи распространяют люди, невежественные в вопросах науки.
— Я не буду ссылаться на нашу печать — в погоне за сенсацией она слишком часто теряет чувство меры. Ну, а мнение профессора Коллинза? Его ведь очень тревожат эксперименты красных в этой области.
— Эксперименты — да, — снисходительно соглашается Рэллэт. — Но не более того. Науке вообще мало что известно о гравитации. Даже серьезной теории ее до сих пор не существует. Хотя тяготение известно людям, может быть, раньше многих прочих явлений природы, последние полвека эта область науки характеризуется полным отсутствием экспериментальных работ. Этим обстоятельством объясняю я, кстати, и все неудачи в создании единой теории поля.
— А гравитационные теории Поля Дирака и Джона Уилера? — вставляю я, ибо имею некоторое представление о современной физике.
— Всего лишь гипотезы, — пренебрежительно замечает Рэллэт, даже не удостоив меня взглядом.
А меня просто бесит его высокомерие. Знаю, что в разговоре с ним не следует горячиться, но не выдерживаю и произношу почти с вызовом:
— Вам лучше, чем мне, доктор, должно быть известно, что теория не всегда предшествует практике. А что касается гравитационного оружия, то прежде чем отрицать его существование у красных, не мешает вспомнить историю с атомным оружием. Когда-то мы тоже не допускали мысли, что красные овладеют им столь скоро.
— Вы, генерал, вообще, кажется, слишком симпатизируете красным, — холодно роняет Рэллэт. — И я лично не уверен даже, в состоянии ли вы достаточно объективно информировать президента о наших противниках.
— Предоставьте судить об этом самому президенту, — с трудом сдерживая ярость, произношу я.
Тут бы и сказать президенту хоть что-нибудь в мою защиту, а он молчит. И это очень странно. Я проработал у него около года, и за все это время он не имел повода быть недовольным мною, почему же не хочет произнести теперь хоть слово в мою защиту?
— А мне доподлинно известно, — уже почти с нескрываемой угрозой продолжает Рэллэт, по-прежнему глядя не на меня, а на президента, — что вы неверно информируете президента о военной мощи наших противников и запугиваете главу государства неотвратимостью их ответного удара.
— А вы разве отрицаете такую возможность? — настораживаюсь я.
— У них не должно оставаться времени для осуществления такой возможности. Мы постараемся…
— «Не должно» и «мы постараемся» — это не аргументы, — иронически усмехаясь, прерываю я доктора.
Видя, что дальнейший наш спор может перерасти в открытую ссору, президент останавливается перед Рэллэтом и, любезно улыбаясь, протягивает ему руку.
— Спасибо, доктор. Я вполне удовлетворен вашим ответом на мой вопрос о гравитационном оружии.
Рэллэт тотчас же уходит, даже не удостоив меня кивком головы. Они ведь страшно заняты, эти деятели из мозгового центра нашей военной машины.
— Фанатик, — не без горечи произношу я после довольно продолжительного и тягостного молчания.
Президент неопределенно пожимает плечами. Потом спрашивает:
— А вы считаете, что у красных есть все-таки гравитационное оружие?
— Несомненно! — энергично киваю я, хотя не имею ни малейшего представления о том, какое оно, это оружие. Нужно же, однако, хоть президента предостеречь от безумного шага.
— А их космические средства? — снова спрашивает он.
— Да и эти средства, конечно, — подтверждаю я, догадавшись, что президент имеет в виду существование у красных такого оружия, которое смогло бы автоматически нанести нам ответный удар. — И это не только мое мнение. В этом уверены многие наши ученые, работающие в области военной техники.
— И все это сработает у них, не ожидая специальной команды?
— Даже если уже некому будет подать такой команды. Поэтому-то идея превентивной войны и нелепа, чего никак не хотят понять мои военные коллеги.
Я говорю все это с абсолютной убежденностью в правоте своих слов, хотя, откровенно говоря, не очень уверен, что красные нанесут нам ответный удар с помощью именно космических средств или гравитационного оружия. Я вообще не очень уверен, что наши сведения о средствах обороны красных вполне достоверны. Но за последнее десятилетие красные столько раз удивляли нас своими успехами в области науки и техники, что я всему готов верить. Весьма вероятно даже, что у них имеется и еще более могущественное оружие. В противном случае они не вели бы себя с таким потрясающим хладнокровием и строили бы не новые города, а подземные убежища.
— Но что же нам делать в подобной ситуации?
— Это вам лучше знать, сэр. Вы глава государства, а я всего лишь ваш скромный советник по военным вопросам.
Очень хочется добавить еще, что я не завидую моему президенту, но мне становится жаль его. Что, собственно, он может поделать, если бы даже захотел, когда вся наша страна с помощью пресловутого военно-промышленного комплекса давно уже сломя голову мчится к атомной катастрофе!..
Ракетное оружие и новые дивизии наращиваются теперь совершенно автоматически. Самое же страшное для нашего государства — это даже не ракеты и дивизии, а генералы. Я-то их знаю лучше господина президента! Они не только с подозрением относятся ко всем нашим гражданским властям, но и совершенно убеждены, что все штатские — безнадежные кретины.
Очень мудро сказал недавно кто-то из наших государственных деятелей, что в целях государственной безопасности нашим военным министром должен быть лишь такой человек, который, находясь на этом посту, будет подозрительно относиться к мотивам, руководящим действиями военных.
Счастье еще, что у нас не один военный министр, а целых три. Очень хорошо также, что существуют распри между армией, военно-морскими и военно-воздушными силами. Было бы гораздо опаснее, если бы они достигли единодушия.
— Вы допускаете, значит, что кто-то из наших стратегов может решиться нажать «кнопку»? — снова выводит меня из задумчивости президент, все еще нервно прохаживающийся по своему огромному кабинету.
— Это не исключено, — убежденно заявляю я. — Даже если среди них все совершенно нормальные люди.
— А вы думаете, что есть и ненормальные?
— Я лично этому, может быть, и не поверил бы, но один из наших крупных психиатров заявил недавно, что некоторые люди злобны по натуре и им ничего не стоит спустить курок всеобщего уничтожения просто по злобе.
— Как вы посмотрите на то, генерал Рэншэл, если я пошлю вас проинспектировать главный наш бункер, в котором сосредоточено управление почти всеми нашими стратегическими ракетами?
— В логово генерала Фэйта?
— Да, генерал.
— Боюсь, что он меня и близко не подпустит, хотя когда-то считал себя многим мне обязанным.
— Вы поедете туда как мой личный представитель. Я предупрежу об этом Фэйта специальной телеграммой. А вы присмотритесь повнимательней, что там у них творится.
— Слушаюсь, сэр, — вставая, покорно наклоняю я голову и щелкаю по старой привычке каблуками.
2
Лететь приходится в один из наших западных штатов на личном самолете президента. Всю дорогу лезут в голову мрачные мысли. Вспоминается разговор с одним из крупнейших наших биохимиков, лауреатом Нобелевской премии. Он полагает, что мы совершенно запутались в масштабах и потому готовы выпустить на нашу маленькую планету чудовищные космические силы, рассчитывая спрятаться от них в жалких дырах, именуемых убежищами.
Не мешало бы послушать этого биохимика доктору Рэллэту. Идея нор-убежищ — его ведь идея.
Дернул же черт президента послать именно меня в эту поездку! Наши ультра, пожалуй, в самом деле не пустят меня в свои ракетные бункера, несмотря ни на какие его приказы.
Мы уже миновали первые боевые рубежи ракетных баз, расположенных в западных штатах, и летим дальше. В их бункерах ракеты «второго поколения» типа «Атлас» и «Титан», а президента интересуют огневые позиции межконтинентальных баллистических ракет «третьего поколения» типа «Минитмен», работающих на твердом топливе.
Под крыльями нашего самолета — пустынная равнина, покрытая огромными железобетонными плитами. Каждый клочок прерии просматривается тут с помощью телевизионных камер. Безлюдно вокруг, но стоит только прозвучать сигналу боевой тревоги, как придут в движение гигантские гидравлические подъемники и железобетонные плиты покрытия ракетных бункеров превратятся в колоссальные дверные створки, толщиной около метра и весом до двухсот тонн. Из пятидесятиметровой глубины тотчас же поднимутся покоящиеся там на опорных подушках баллистические ракеты, похожие на шариковые ручки фантастических размеров.
Зеленой ракетой нам подают сигнал к посадке.
И вот мы уже поднимаем сизую пыль с бетонных плит. Какой-то майор без особого почтения приветствует меня и просит следовать за ним.
На скоростном лифте опускаемся в чрево командного бункера — в его мозговой центр. Отсюда осуществляется контроль за ракетными эскадрильями при помощи пульта, напоминающего огромный электроорган.
Перед личным бункером генерала Фэйта меня довольно бесцеремонно предупреждают, что войти к начальнику ракетной базы я должен без сопровождающего меня адъютанта.
— Ничего не поделаешь, Гарри, — беспомощно развожу я руками и ободряюще похлопываю капитана Робертса по плечу. — Порядок есть порядок. Подождите меня тут.
— О генерал Рэншэл! — приветливо восклицает Фэйт, устремляясь мне навстречу. — Давненько мы с вами не встречались, старина! Очень рад вас видеть!
Вот уж не ожидал от Фэйта такого радушия. Помнит, значит, что когда-то именно я привез в часть, которой он командовал, приказ о присвоении ему генеральского звания.
— Похоже, что президент послал вас пошпионить за мной, — добродушно посмеивается Фэйт, кивая мне на кресло. — Боится, как бы я или кто-нибудь из моих молодцов не нажал на роковые «кнопки»?
— Ну, зачем же… — улыбаюсь я. — Ему просто хочется знать, какова готовность нашего глобального оружия к операции «Возмездие».
— А о каком возмездии можно говорить в наше время? — простодушно удивляется Фэйт. — Кто нанесет первый удар, тот и будет прав, и ни о каком ответном ударе, а следовательно, и о возмездии не должно быть и речи.
— Вот президент и хотел бы знать…
— Что еще знать? — бесцеремонно перебивает меня Фэйт. — Он и так хорошо знает, что мы уже в состоянии нанести такой удар и медлить с этим просто рискованно — слишком велико напряжение… и соблазн.
— А разве кто-нибудь, у кого сдадут вдруг нервы, сможет один, без дублирования, нажать «кнопку»?
Я хорошо знаю, что никаких «кнопок» в железобетонных капсулах, в которых находятся пункты управления звеньями из десяти межконтинентальных баллистических ракет, не существует. Их заменяют ключи, вставляемые в гнезда пусковых панелей. Но, видимо, Фэйту больше по душе слово «кнопка», и я не хочу вносить своих поправок в его терминологию.
— Один не нажмет, конечно, — с непонятным мне раздражением произносит Фэйт. — Теперь все, к сожалению, дублируется. Но нервы могут сдать и у тех, кто подает команды из постов управления ракетными эскадрильями… Мы каждый день репетируем боевую тревогу, и в капсулах проделывают все, что требуется для запуска ракет. Однажды это может, конечно… Во всяком случае, не исключено… Да и кто знает — безумие или разум могут толкнуть на это?…
Меня очень тревожат и речь и жестикуляция Фэйта. Смысл слов его путаный, а руки нервно дергаются все время. Особенно указательный палец. Будто непрестанно нажимает он какую-то невидимую кнопку.
— Так где же выход? — спрашиваю я, тоже начиная нервничать.
— Не знаю, не знаю… — совсем уже невнятно бормочет Фэйт. — Самым идеальным было бы, конечно, если бы какой-нибудь неврастеник решился наконец… И дело бы с концом! Ну, ну, генерал, я шучу! Да и неврастеников у меня не осталось. Каждую неделю медосмотр. Недавно, правда, один чуть не нажал… Психиатры его проморгали. Он был болен не по их специальности, так сказать. У него был рак в неизлечимой форме. И вот ему захотелось отправиться на тот свет не в одиночку, а со всей планетой…
— Вы же мечтали о таком безумце, — с трудом сдерживая раздражение, произношу я, чувствуя себя не в реальном мире, а почти на том свете.
Фэйт не находит, видимо, нужным отвечать на мой вопрос.
3
Весь следующий день я осматриваю сооружения ракетной базы в сопровождении генерала Фэйта. Сегодня он гораздо спокойнее. Вчерашней говорливости его как не бывало. Объяснение новой техники дает мне один из его помощников, полковник Браун. Я стараюсь не задавать лишних вопросов. Мне, однако, все время кажется почему-то, что Фэйт сам хочет спросить меня о чем-то. И он действительно спрашивает вскоре:
— Послушайте, Рэншэл, вы поближе к нашему мозговому центру: что они там болтают о каком-то гравитационном оружии красных?
— Об оборонительном гравитационном оружии, генерал, — поправляю я Фэйта.
— Действительно, значит, говорят об этом?
— Да, поговаривают.
— И что же это такое?
— Этого пока никто не знает. Одни предположения только…
Генерал Фэйт молчит некоторое время, потом кивает Брауну:
— Позовите-ка майора Прайса, полковник.
— Слушаюсь, сэр.
— Прайс — это доктор физико-математических наук, — поясняет Фэйт, как только Браун уходит выполнять его поручение. — Он, конечно, такой же военный, как я балерина, но нам был нужен серьезный математик, и мы нарядили его в форму майора. Все еще никак не привыкнет к ней. Ученый он, однако, настоящий, и у него есть кое-какие соображения о гравитационном оружии.
Майор Прайс действительно оказывается очень щуплым, явно невоенным человеком в старомодных очках. Приветствуя меня, он подносит руку к козырьку своей фуражки так неумело, что я с трудом сдерживаю улыбку.
— Генерал Рэншэл хочет потолковать с вами о гравитационном оружии, майор Прайс, — обращается к нему Фэйт. — Узнать вашу точку зрения на этот счет.
— Я плохой специалист по вопросам оружия, — смущенно пожимает плечами Прайс.
— Ну, а возможно ли оно в принципе? — спрашиваю я. — Многие ведь отрицают…
— Знаю, знаю, — оживленно перебивает меня Прайс. — Читал эти возражения. Меня они ни в чем не убедили, и я по-прежнему не сомневаюсь, что силами гравитации можно овладеть.
— Но ведь ученые уверяют, что они ничтожны.
— Напрасно, — укоризненно покачивает головой доктор Прайс. — Энергия носителей сил тяготения — гравитонов ничтожна, конечно. Но известно ли вам, что гравитоны, подобно нейтрино, почти не поглощаются? Сколько же должно накопиться их за время существования вселенной?
— А это разве известно?
— Очень приблизительно, конечно, но известно, — близоруко щурится доктор Прайс. — Предполагается, что плотность гравитационных волн во вселенной равняется плотности энергии или соответствующей ей массе всей обычной материи в виде звезд, планет, туманностей и космической пыли.
— Но ведь это чудовищно! — восклицаю я, так как впервые слышу подобное заявление из уст серьезного ученого.
— А из этого следует, что энергия эта всюду, — продолжает доктор Прайс, — нужно только научиться концентрировать ее.
— И вы думаете, что красные научились это делать? — спрашивает Фэйт.
— Весьма возможно. Во всяком случае, я не удивился бы этому.
— Значит, разговоры об их гравитационном оружии имеют какое-то основание?
— Безусловно, — энергично кивает головой доктор Прайс. — Но оружие это главным образом оборонительное.
— А почему же нет его у нас? — спрашиваю я.
— Да потому, что мы не собираемся обороняться! — опережая Прайса, возбужденно восклицает Фэйт.
— Но при подобной ситуации нападать на красных тоже ведь нелепо, — усмехается Прайс с таким ехидством, которого я от него никак не ожидал. — Это было бы подобно самоубийству…
— Спасибо вам за консультацию, майор Прайс, — прерывает его генерал Фэйт уже официальным тоном. — Я не задерживаю вас больше.
— Скажите мне откровенно, генерал Рэншэл, — обращается он ко мне, как только Прайс уходит, — знает президент об этом гравитационном оружии красных или ему ничего о нем неизвестно?
— Консультанты президента уверяют его, что такое оружие просто немыслимо, — отвечаю я.
— Я не знаю его консультантов, но для меня вполне достаточно мнения доктора Прайса по этому вопросу. Такого оружия, может быть, и нет еще пока у красных, но ведь оно может появиться. Разве не следует из этого, что нам нельзя терять времени?
Он не развивает своей мысли, но мне и так все понятно, и я не спрашиваю его ни о чем.
4
Просто не знаю, что доложить президенту: сообщить, может быть, что все в порядке?…
Решительно распахиваю дверь его кабинета и невольно застываю на месте, пораженный видом главы государства. Откинувшись на спинку кресла, президент судорожными движениями непослушных пальцев пытается сорвать с себя галстук. С ним явно плохо. Бросаюсь к сифону с газированной водой, но президент жестом останавливает меня.
Никак не могу понять, что с ним такое. И как теперь быть с докладом? Отложить, может быть, на другое время? Но обстановка ведь очень серьезна. Во всяком случае, у меня нет никакой уверенности в том, что может произойти не только через день, но и через час…
— Я выполнил ваше поручение, сэр, — произношу я, наконец, каким-то чужим голосом. — Побывал у генерала Фэйта. Положение внушает мне тревогу. Боюсь, что именно он может нажать роковую «кнопку»…
— Уже!.. — хрипит президент.
— Не понимаю, сэр.
— Фэйт уже нажал ее! Его насторожило, видимо, ваше посещение. Показалось, наверно, что мы собираемся удалить его от «кнопок». И он нажал!.. Наши ракеты летят уже за океан. Неизвестно сколько, но летят… И это самое ужасное, что неизвестно сколько.
— А разве нельзя…
— В том-то и дело, что нельзя! — прерывает меня президент. — О запуске ракет сообщил полковник Браун, и связь с базой генерала Фэйта сразу же прервалась. Восстановить ее до сих пор не удалось.
— Но ведь красные предпримут ответные меры… Нужно же что-то делать… Предупредить население…
Задыхаясь, я бросаюсь к телефону, но президент снова останавливает меня.
— Наверно, уже объявлена атомная тревога. Она загонит всех в убежища. Поспешим и мы. Поторапливайтесь же, генерал! — теперь уже буквально рычит президент, хватая меня за руку и увлекая из своего кабинета.
…Убежище президента большое, из нескольких помещений — настоящий подземный дворец. Ходами сообщения оно соединено с убежищами министров и других членов правительства.
В подземелье президент заметно успокаивается, видимо, чувствуя себя здесь в значительно большей безопасности. Ему негромко докладывает что-то государственный секретарь.
— Ну и что они ответили? — спрашивает его президент. — Ничего пока? Тогда, может быть, дать еще несколько залпов?… Уже поздно теперь?…
— Не только теперь, но и тогда было бы поздно, — вмешивается в разговор начальник генерального штаба. — Нужно было сразу — всеми ракетными эскадрильями, чтобы не дать им времени опомниться. А теперь они уже запустили, наверно, свои…
— Но ведь наш государственный секретарь почти тотчас же известил их, что это несчастный случай.
— А поверят ли? Где гарантия, что это не хитрость с нашей стороны?
— Но в их сторону действительно летят лишь десять наших ракет. Это установлено теперь довольно точно.
— Этого, во-первых, они еще не знают. А во-вторых, это может быть расценено как обманный маневр с нашей стороны.
— А наши ракеты разве не достигли еще их границ? — спрашивает президент почему-то у меня.
— Едва ли. Скорее всего они где-нибудь на полпути, — отвечаю я, почти зримо представив себе, как наши ракеты, медленно разогнавшись в стартовом участке своего пути, со все большим ускорением устремились вверх, пробив по кратчайшему расстоянию плотные слои атмосферы. Миновав участок выведения с работающими двигателями, система управления ракетами отклонила их затем от вертикального направления в сторону цели под заданным углом к горизонту.
Президент некоторое время нервно ходит по толстому ковру убежища. Потом спрашивает что-то у секретаря. А меня даже не интересует, о чем могут они разговаривать. У меня такое состояние, будто я сам лечу туда, за океан, вместе с нашими ракетами. В их двигатели давно прекращена подача топлива и полет теперь неуправляем, ибо аэродинамические рули из-за небольшой плотности атмосферы не играют уже никакой роли. Какую высоту они набрали? Более тысячи километров, наверно, а скорость, конечно, не менее семи километров в секунду. Значит, весь пассивный участок своей траектории пройдут они примерно за полчаса.
Никакая сила уже не вернет эти чудовища назад. Они летят почти с космической скоростью, и только поле тяготения Земли не дает им оторваться от планеты, заставляя описывать вокруг нее эллиптическую кривую, зависящую лишь от скорости их полета и угла бросания.
Убежище президента между тем наполняется людьми, но я вижу их, как во сне. Кто-то звонит по телефону, что-то докладывают президенту о состоянии противовоздушной обороны, а мне кажется, что я слышу только тиканье моих часов — так возбуждены мои нервы.
Ракеты пролетели уже пик своей траектории, достигнув наибольшей высоты. Теперь они приближаются к Земле на противоположном полушарии, и скорость их, частично утраченная под влиянием поля тяготения планеты, снова начнет возрастать…
Меня спрашивает о чем-то президент, но теперь тут доктор Рэллэт, он лучше меня сможет ответить на все его вопросы.
А ракеты уже над целью, наверно. Входя в плотные слои атмосферы, они постепенно затормаживаются. Стабилизируется и их положение относительно цели. Они летят теперь носовой частью вперед…
Но что это за шум в убежище президента? Почему так возбужден доктор Рэллэт? Что кричит ему президент? Почему так грохочет радио? И что это за музыка? Гимн… Государственный гимн красных! У них сейчас полночь, значит это пробили их куранты и теперь исполняется гимн. Что же это такое, однако?
— Что же это такое, доктор? — различаю я, наконец, разъяренный голос президента. — Может быть, Фэйт пошутил над нами? Почему у красных такое спокойствие? Мне только что доложили, что строго по объявленной программе работают абсолютно все их станции. В чем же дело, черт вас побери!
— Не знаю, сэр… — еле слышно бормочет Рэллэт. (Куда девалась вся его самоуверенность?) — Не могу ничего понять… Не сомневаюсь только, что «кнопка» была нажата и ракеты стартовали. Их полет засекли наши радиолокационные установки.
— Но куда они полетели? Не на Луну же?…
— Может быть, и на Луну, — теперь уже совершенно спокойно и даже не без злорадства произношу я. — Генерал Фэйт так торопился, что впопыхах мог задать им и вторую космическую скорость.
— Кто производил расчет их траекторий? — продолжает допрашивать Рэллэта президент.
— Электронно-счетные машины по координатам, приготовленным офицерами Фэйта. Всего несколько дней назад я проверял эти расчеты и ручаюсь, что начальная скорость полета ракет и оптимальный угол их бросания были высчитаны правильно. Не сомневаюсь я и в работе органов управления ракетами.
— А в таком случае остается допустить, что у красных действительно есть гравитационное оружие, — заключаю я.
— И ракеты, значит, летят теперь в нашу сторону? — спрашивает кто-то дрожащим голосом.
Я не отвечаю ему. И без того не ясно разве, что летят они теперь к нам? Вижу, как бледнеют лица государственных деятелей, окружающих президента. Невольно горбится, вбирая голову в плечи, и сам президент.
А я уже почти не сомневаюсь больше, что у красных в самом деле есть гравитационные установки. Видимо, они разбросаны по всей территории стран их лагеря и отрегулированы так, что всякое тело, летящее в верхних слоях атмосферы со скоростью, близкой к первой космической, вызывает их возбуждение. А межконтинентальные баллистические ракеты и не могут ведь летать с меньшими скоростями. С большими же они неизбежно превратятся в спутников или вообще покинут нашу планету. Овладев тайной гравитационных сил, красные с помощью своих автоматически действующих установок мощными импульсами увеличили, конечно, скорость наших ракет. Вне всяких сомнений, они летят теперь в нашу сторону.
— Но позвольте, — неуверенно замечает пришедший, наконец, в себя президент, — если даже они действительно летят в нашу сторону, разве следует из этого, что непременно должны упасть на нас? Гравитационные установки красных, придав им дополнительную скорость, могли же превратить их и в спутников нашей планеты.
— А я все-таки скорее готов допустить возможность ошибки в расчете их траекторий, чем наличие у красных подобных установок! — ни на кого не глядя, упрямо произносит Рэллэт.
— Рано еще делать окончательные выводы, — раздается чей-то трезвый голос. — Нужно сначала дождаться сигналов наших радиолокационных станций дальнего обнаружения и опознавания. Они должны засечь ракеты, запущенные Фэйтом, как только хоть одна из них появится вблизи наших границ.
— Ну что ж, — соглашаюсь я, взглянув на часы. — Ждать теперь осталось недолго. Хотя неизвестен еще период их обращения, думаю все же, что появятся они не позже, чем через полчаса.
5
Конечно же, мне очень хочется, чтобы никаких ракет над нами не появлялось. Я надеюсь даже, что они получили от гравитационных установок красных такое ускорение, от которого приобрели не первую, а вторую космическую скорость и, может быть, уже летят теперь в сторону Луны или Марса. Зыбкая надежда эта рассеивается, однако, очень скоро — военный министр приносит сообщение, что радиолокационная система сверхдальнего обнаружения засекла их только что в нашем полушарии.
Что теперь толку в разносе, который учиняет президент Рэллэту? Вместо этого нужно бы немедленно арестовать Фэйта и потребовать у него все расчетные данные по запуску и корректировке ракет. От этого многое зависит. Будем знать по крайней мере, действительно ли была допущена ошибка нашими ракетчиками или у красных на самом деле есть какие-то мощные противоракетные средства. Я собираюсь уже подать президенту такой совет, но тут, чуть не сбив меня с ног, вбегает адъютант военного министра и докладывает:
— Генерал Фэйт застрелился, сэр!..
— Этого только не хватало! — драматически всплескивает руками президент. — А расчеты?… Кто там у них производил расчеты траекторий этих злосчастных ракет?
— Всей системой счетно-решающих устройств и программированием траекторий ракет ведал полковник Браун. Но беда в том, что генерал Фэйт, видимо считая Брауна виновником всех бед, прежде чем покончить с собой, пустил сначала пулю в него. Наш психиатр, доктор Крафт, наблюдавший за генералом Фэйтом, уже давно ведь считал его психически неполноценным.
Кто-то из советников президента робко спрашивает его:
— Можем мы теперь выбраться, наконец, из этого склепа?
— Откуда я знаю, — раздраженно машет рукой президент. — Спросите у доктора Рэллэта, он у нас крупнейший специалист по термоядерным войнам. А я не знаю даже, президент ли я еще или нам вообще не нужно больше президента…
— Вас, значит, волнует только это? — обнажает в ехидной усмешке желтые зубы Кроуфорд, председатель сенатской комиссии по расследованию деятельности правительственных органов. — А упадут ли на нас наши ракеты, вас, значит, не интересует?
— Разве кто-нибудь знает это, кроме бога? — удивляется кто-то из набожных сенаторов.
— Они могут упасть на нас с такой же вероятностью, как и на красных, — не очень уверенно замечает Рэллэт.
— А я все-таки думаю, что они упадут только на нас, — возбужденно заявляю я.
— Почему же? — теперь уже на меня скалит зубы Кроуфорд. — Вам разве не хочется, чтобы они упали на красных?
— Этого не хочется прежде всего самим красным, — огрызаюсь я. — Для этого-то они и создали свои гравитационные установки.
— А если у красных нет таких установок?
— Тогда у них есть еще что-нибудь такое, что позволяет им сохранять спокойствие, — упрямо стою я на своем.
— О господи! — истерически заламывает руки все тот же набожный сенатор. — Неужели же все вы потеряли рассудок от страха? О чем вы спорите? Раз на красных не упали наши ракеты и летят теперь в нашу сторону, то и упадут, значит, на нас.
— В том-то и дело, мистер Даусон, что не упадут пока, — объясняет военный министр. — Прежде они покружатся какое-то время вокруг нашей планеты. Упадут ли затем на нас или на красных, будет зависеть от координат их орбиты.
— Настоящий дамоклов меч! — вздыхает кто-то. — Сиди, значит, теперь в этих крысиных норах и жди, когда обрушатся на тебя свои же термоядерные чудовища?
— А зачем же гадать, на кого и когда они обрушатся? — спрашиваю я. — Для того чтобы узнать это, достаточно дать задание нашим электронным машинам, и они совершенно точно вычислят это.
Президент резко поворачивается к доктору Рэллэту.
— Ваше мнение, доктор?
— Генерал Рэншэл прав — электронным вычислительным машинам под силу такая задача. При условии, конечно, что ракеты летят теперь лишь по инерции и не подвергаются воздействию гравитационных установок красных. Я лично совершенно уверен, что так оно и есть на самом деле. Видимо, генерал Фэйт действительно поторопился нажать «кнопку» и ошибся в расчете траекторий наших ракет. Весьма возможно также, что подвела его электроника. Случалось ведь такое…
На какое-то время убежище президента погружается в тишину. Нетрудно догадаться, о чем думают загнанные в подземелье люди. Да они и не скрывают этого. А вон тот почтенный сенатор, стоящий лицом к совершенно голой стене, наверно, вообще потерял способность думать про себя.
— Что же это получается такое? — растерянно бормочет он. — Если у красных действительно имеется гравитационное оружие, то как бы и чем бы мы в них ни стреляли, это равносильно стрельбе в собственную голову…
— Да что вы бубните все о каких-то гравитационных установках?! — возмущается начальник генерального штаба. — Красные могли какими-нибудь импульсами просто нарушить работу всех приборов системы управления нашими ракетами. От этого все данные, поступающие в их счетно-решающее устройство от акселерометров и интеграторов, ни черта уже не стоили бы, конечно. Мало того… Э, да что теперь говорить об этом!
— А я все-таки думаю, что у красных есть гравитационное оружие, — упрямо трясет головой сенатор. — В противном случае они не ограничились бы одним только расстройством системы управления наших ракет, а обрушили бы на нас свои ракеты. Я вообще молю теперь бога, чтобы у них было именно гравитационное оружие…
— Да вы, видно, совсем спятили! — возмущается начальник генерального штаба.
— Нет, господин генерал, я не только не спятил, а напротив, поумнел за это время. И я бы посоветовал нашему президенту незамедлительно обратиться с посланием к красным и попросить их с помощью этих гравитационных установок вышвырнуть наши злосчастные ракеты за пределы планеты. С этого, кстати, можно было бы и начать первый этап всемирного разоружения…
Проходит еще один полный тревог день. Только к концу его самым совершенным нашим машинам в Главном вычислительном центре удается с достаточной точностью определить, куда же в конце концов упадут ракеты. И в тот же день, несмотря на позднее время (уже почти в полночь), собирается экстренное заседание конгресса. Слово для сообщения о результатах вычислений предоставляется директору вычислительного центра доктору физико-математических наук Свифту.
Видимо, стараясь хоть как-нибудь смягчить неблагоприятные результаты вычислений, Свифт начинает издалека, но его тотчас же перебивают выкриками:
— Ближе к делу, доктор!
— На кого они упадут в конце концов, черт их побери!
— Может быть, действительно как-нибудь покороче? — шепчет доктору Свифту председательствующий.
— Хорошо, джентльмены, я скажу совсем коротко. Не стану даже комментировать своего сообщения. Ракеты упадут на наш континент, господа!
Несколько секунд длится буквально гробовая тишина. Нарушает ее чей-то истерический вопль:
— Доигрались!..
— Но, позвольте, разве их нельзя сбить? — спрашивает кто-то из конгрессменов. — Есть же какие-то противоракетные средства? Мы без конца ассигновали деньги на их усовершенствование.
— Генерал Фэйт запустил как раз такие ракеты, которые нельзя сбить никакими антиракетами, — отвечает на его вопрос военный министр. — Во всяком случае, на испытаниях они были признаны неуязвимыми.
— Остается, значит, уповать только на господа бога?…
— А ведь еще совсем недавно один мудрый человек, известный наш ученый, предупреждал нас, — мрачно произносит сидящий со мной рядом старик с профессорской внешностью. — Если у нас все еще мышление пещерного человека, заявил он, то мы можем избежать катастрофы, поняв лишь одно: наука уничтожила расстояния и все мы живем теперь в одной пещере, на стене которой давно уже следовало повесить записку:
«Играть с атомными бомбами в этой пещере строго воспрещается»!
Москва — Переделкино



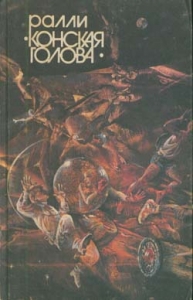
Комментарии к книге «Неизвестная земля», Николай Владимирович Томан
Всего 0 комментариев