Летать или бояться сборник под редакцией Стивена Кинга и Бева Винсента
FLIGHT OR FRIGHT
edited by
Stephen King and Bev Vincent
Серия «Вселенная Стивена Кинга»
Перевод с английского И. Я. Дорониной
Компьютерный дизайн А. А. Кудрявцева, студия «FOLD&SPINE»
Печатается с разрешения автора и литературных агентств The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Flight or Fright, 2018
© Перевод. И. Я. Доронина, 2019
© Перевод. Н. И. Эристави, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Эта антология посвящена всем пилотам, реальным и вымышленным, которые сумели посадить самолеты в экстремальной ситуации, благополучно доставив на землю своих пассажиров. В их числе:
Уилбур Райт
Чесли Салленбергер
Тэмми Дж. Шульц
Вернон Димирест
Роберт Пирсон
Эрик Женнотт
Тим Ланкастер
Минь-Хуан Хо
Эрик Муди
Питер Беркилл
Брайс Маккормик
Роберт Шорнштаймер
Ришар Шампьон де Креспиньи
Робер Пише
Брайан Энгл
Тед Страйкер
Предисловие
Существуют ли в современном мире развивающихся технологий люди, которым доставляет удовольствие летать? Как бы трудно ни было в это поверить, я уверен: существуют. Это пилоты, большинство детей (не младенцев, конечно: этих перепады давления воздуха сводят с ума), некоторые энтузиасты воздухоплавания – ну вот, пожалуй, и все. Остальным же из нас авиаперелеты кажутся столь же приятными и вызывающими восторг, как и процедура колоноскопии. Современные аэропорты зачастую представляют собой перенаселенные зверинцы, в которых наши терпимость и обычная вежливость подвергаются нешуточному испытанию. Рейсы откладываются или отменяются, багаж летает, как шарики в погремушке, и зачастую не прибывает в порт назначения вместе с пассажиром, отчаянно нуждающимся в чистой рубашке или хотя бы одной смене белья.
Если у вас билет на ранний утренний рейс, да поможет вам Бог. Это означает, что вам предстоит вылезти из постели в четыре утра, чтобы успеть пройти процесс регистрации и посадки, такой же сложный и требующий такого же огромного напряжения, как выезд из какой-нибудь маленькой коррумпированной южноамериканской страны в 1954 году. У вас есть документ с фотографией, удостоверяющий личность? Позаботились ли вы о том, чтобы ваш шампунь и кондиционер были в маленьких прозрачных пластиковых бутылочках? Готовы ли вы к тому, что ваша обувь потеряется, а ваши многочисленные электронные устройства подвергнутся облучению? Уверены ли вы, что паковали ваш багаж сами и никто не имел к нему доступа? Готовы ли вы пройти полное сканирование тела, а сверх того, возможно, и ощупывание его пикантных частей? Да? Отлично. Тем не менее может оказаться, что ваш рейс перебронирован и для вас места нет, что он откладывается по техническим причинам или из-за погодных условий, а также отменен из-за компьютерного сбоя. И храни вас Господь, если вы летите, находясь в списке ожидания: уж лучше купить билет моментальной лотереи.
Но вот, преодолев все эти препятствия, вы поднимаетесь на борт того, что автор одного из рассказов, вошедших в эту антологию, назвал «ревущей оболочкой смерти». Вы можете спросить, не чересчур ли это сильно сказано, не говоря уже о том, что это противоречит фактам. Ладно. Авиалайнеры редко загораются (хотя все мы видели снятый на мобильный телефон ролик, на котором двигатели выбрасывают столбы огня на высоте более девяти километров), и полеты редко заканчиваются гибелью (статистика утверждает, что вы больше рискуете жизнью, переходя улицу, особенно если в этот момент по глупости пялитесь в свой мобильник). Тем не менее, садясь в самолет, вы оказываетесь в капсуле, наполненной легковоспламеняющимся кислородом, и сидите на тоннах воспламеняющегося с еще большей легкостью авиационного горючего.
Едва запечатанная, как (держитесь!) гроб, капсула из металла и пластика оторвется от взлетной полосы, оставляя позади себя постепенно убывающую тень, уверенным можно быть лишь в одном исходе – столь несомненном, что он не нуждается ни в какой статистике: вы обязательно приземлитесь. Это гарантирует закон гравитации. Единственный вопрос: где, по какой причине и в скольких фрагментах, – идеально было бы в одном. Если воссоединение с матушкой Землей произойдет в пределах бетонной мили (желательно в аэропорту вашего назначения, однако, в крайнем случае, сойдет любая миля асфальтированной поверхности), – все в порядке. Если нет, ваши шансы выжить стремительно убывают. Это тоже статистический факт, и любой, даже самый закаленный, воздушный путешественник постоянно думает о том, когда же самолет, в котором он летит на высоте свыше девяти тысяч метров, попадет в турбулентность при ясном небе.
В такие моменты от вас ничего не зависит. Вы не можете предпринять ничего конструктивного, кроме как перепроверить свой ремень безопасности. А тем временем в бортовой кухне будут дребезжать посуда и бутылки, над вашей головой станут распахиваться багажные полки, начнут орать младенцы, ваш дезодорант утратит эффективность, а из динамиков над головой прозвучит голос стюардессы: «Капитан просит всех оставаться на местах». Пока набитая людьми капсула будет трястись, раскачиваться, вибрировать и скрипеть, вы успеете поразмыслить о хрупкости своего тела и непреложности того факта, что так или иначе вы приземлитесь.
Обеспечив вас таким образом пищей для раздумий насчет вашего следующего небесного путешествия, позволю себе задать уместный вопрос: существует ли другой вид человеческой деятельности, сюжетно больше подходящий для приключенческих рассказов и страшных историй, антологию которых вы сейчас держите в руках? Не думаю, дамы и господа. Здесь вы найдете все: клаустрофобию, акрофобию, утрату самоконтроля… Наши жизни всегда висят на волоске, но никогда это не ощущается так остро, как в тот момент, когда вы снижаетесь над Ла-Гуардия сквозь плотные облака и проливной дождь.
По личным наблюдениям, ваш редактор теперь стал более спокойным «воздухоплавателем», чем раньше. Занимаясь писанием романов, в последние сорок лет я много летал и примерно до 1985 года был очень трусливым авиапассажиром. Я понимал механику полета, знал статистику безопасности, но это мне ничуть не помогало. Отчасти моя проблема была следствием свойственного мне желания (которое я и теперь не утратил) контролировать любую ситуацию. Я чувствую себя уверенно за рулем, потому что доверяю себе. Если же за рулем вы… уверенность моя сильно уменьшается (вы уж простите). Когда вы поднимаетесь по трапу и занимаете свое место в самолете, вы уступаете контроль людям, которых не знаете и которых, вероятно, никогда не увидите.
Еще хуже – для меня – то, что за долгие годы я до предела отточил свое воображение. Это прекрасно, когда я сижу за письменным столом и придумываю истории, в которых с очень милыми людьми могут происходить ужасные вещи, но далеко не так прекрасно, когда я оказываюсь пленником в самолете, который выруливает на взлетную полосу, немного мешкает, а потом срывается с места со скоростью, которая для семейного автомобиля находится за гранью самоубийства.
Воображение – обоюдоострый клинок, и в те далекие дни, когда я стал часто летать в силу профессиональной необходимости, я мог легко порезаться этим клинком. Я слишком легко соскальзывал в тревожные размышления об уйме движущихся деталей в моторах там, за иллюминатором. Этих деталей так много, что кажется почти нереальным, чтобы между ними не наступил разлад. Трудно – а на самом деле просто невозможно – не начать прислушиваться к каждому изменению в гуле двигателей и не задаваться вопросом, что оно означает, или не волноваться из-за того, что самолет вдруг накренился под другим углом и вместе с ним наклонилась (опасно!) поверхность моей пепси-колы в пластиковом стаканчике.
Если пилот выходил в салон немного поболтать с пассажирами, я беспокоился, достаточно ли компетентен второй пилот (разумеется, он не может быть таким же компетентным, иначе он не был бы всего лишь дублером). Вероятно, самолет летит на автопилоте, но что, если автопилот внезапно откажет именно в тот момент, когда капитан обсуждает с кем-нибудь шансы «Янкиз», и лайнер сорвется в пике´? Что, если разблокируется багажный отсек? Что, если замерзнет механизм выпуска шасси? Что, если лопнет стекло иллюминатора, имевшее дефект, не замеченный контролером качества, потому что он мечтал о своей возлюбленной? В конце концов, что, если в нас врежется метеорит и самолет разгерметизируется?
Позднее, в середине 1980-х, большинство этих страхов отступило благодаря опыту, который я приобрел, оказавшись на волосок от смерти во время набора самолетом высоты, когда летел из нью-йоркского аэропорта Фармингдейл[1] в Бангор, штат Мэн. Уверен, у очень многих людей – вероятно, кто-то из них как раз сейчас читает эту книгу – сохранились собственные травмирующие воспоминания о самых разных происшествиях в воздухе, от разрушения передней опоры шасси до соскальзывания самолета с обледеневшей посадочной полосы, но та авария подвела нас так близко к смерти, как только возможно, и память о ней все еще жива во мне.
День клонился к вечеру. На небе не было ни облака. Я зафрахтовал «Лирджет-35», который взлетает так, как будто к вашей заднице привязана ракета. Я летал на этом «Лире» много раз, знал пилотов и доверял им. Почему бы нет? Тот, что сидел в левом кресле, начинал управлять реактивными самолетами в Корее, благополучно выполнил множество боевых задач и с тех пор не переставал летать. У него за плечами были десятки тысяч часов, проведенных в воздухе. Я достал роман в бумажной обложке и сборник кроссвордов, предвкушая спокойный перелет и приятную встречу с женой, детьми и нашей собакой.
Мы преодолели высоту в две с лишним тысячи метров, и я размышлял, удастся ли мне уговорить домашних вечером сходить в кино, когда «Лир» вдруг словно врезался в каменную стену. В тот момент я был уверен, что мы столкнулись с другим воздушным судном и все трое – оба пилота и я – сейчас умрем. Маленький бортовой буфет распахнулся и извергнул свое содержимое. Подушки незанятых кресел выстрелили в воздух. Самолет накренился… накренился еще больше… и перевернулся вверх днищем. Я это почувствовал, хотя и не видел: мои глаза были закрыты. Вся жизнь не промелькнула перед моим мысленным взором. Я не подумал: Но ведь мне еще столько нужно сделать! У меня не было ощущения покорности или непокорности – вообще ничего. Была только уверенность, что пришел мой час.
Потом самолет выровнялся, и из кабины пилотов донесся крик второго пилота: «Стив! Стив! У тебя там все в порядке?»
Я ответил, что да. И посмотрел на вещи, разбросанные в проходе: среди них были сэндвичи, салат и кусок чизкейка с ягодой клубники наверху. Я увидел желтые кислородные маски, свисавшие с потолка, и спросил – с достойным восхищения спокойствием, – что случилось. В тот момент мой состоявший из двух человек экипаж еще этого не знал, хотя и подозревал – и позднее это подтвердилось, – что мы чудом разминулись с «Боингом-747» авиакомпании «Дельта», попали в их выхлоп и были отброшены, как бумажный самолетик, захваченный бурей.
С тех пор прошло двадцать пять лет, и я стал гораздо оптимистичнее относиться к воздушным перелетам, поскольку на собственном опыте убедился, в каких кошмарных передрягах способен выстоять современный самолет и как спокойно и эффективно действуют хорошие пилоты (а таковы большинство из них) в экстремальных ситуациях. Один из них сказал мне: «Ты тренируешься, тренируешься, тренируешься, поэтому, когда шесть часов жуткой скуки сжимаются до двенадцати секунд максимальной опасности, ты точно знаешь, что делать».
Чего только вы не встретите в собранных здесь рассказах: от злого гнома, усевшегося на крыле «Боинга-727», до прозрачных монстров, живущих над облаками. Вы будете путешествовать во времени и на самолетах-призраках. А главное – вы испытаете те двенадцать секунд максимальной опасности, когда худшее, что может случиться высоко в воздухе, случается. Вы познакомитесь с клаустрофобией, трусостью, ужасом и проявлениями высшей храбрости. Если вы собираетесь лететь рейсом «Дельты», «Американ», «Саутуэст» или какой-нибудь другой компании, лучше вам взять с собой роман Джона Гришэма или Норы Робертс, а не эту книгу. Даже если вы благополучно пребываете на земле, вам может захотеться потуже затянуть ремень безопасности.
Потому что полет обещает быть головокружительным.
Стивен Кинг 2 ноября 2017 годаЭ. Майкл Льюис Груз
Э. Майкл Льюис, который начнет наш полет, учился писательскому мастерству в Университете Пьюджет-Саунд и живет на тихоокеанском Северо-Западе. Его стюард сопроводит вас на борт Локхид С-141А «Старлифтер»[2] (такого же, как в экспозиции авиамузея военной базы ВВС США Маккорд; в нем, говорят, обитали призраки), готового вылететь из Панамы, чтобы доставить груз в США. «Старлифтер» – рабочая лошадь авиации, способная перевозить до тридцати с лишним тонн грузов. Он также может взять на борт сотню парашютистов-десантников, полторы сотни бойцов линейных войск, грузовики и джипы, даже межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен». А может и более мелкие грузы. Гробы, например. От некоторых рассказов кровь стынет в жилах, и вот один из них: от него по спине побегут мурашки, и он надолго застрянет у вас в мозгах.
Добро пожаловать на борт!
Ноябрь, 1978
Мне снился груз. Тысячи ящиков заполняли трюм самолета, все они были сколочены из неотшлифованных сосновых досок, от которых в рабочих перчатках застревают щепки. Все были промаркированы какими-то цифрами и причудливыми аббревиатурами, неприятно светившимися тусклым красным светом. Считалось, что в них покрышки для джипов, но одни из них были огромными, как дом, а другие – маленькими, как свечи зажигания, и все для безопасности были привязаны к паллетам, словно облачены в смирительные рубашки. Я пытался проверить все, но их оказалось слишком много. Когда ящики передвигали, из них раздавался низкий шаркающий звук, а потом груз свалился на меня. Я не мог дотянуться до телефона внутренней связи, чтобы предупредить пилота. Пока самолет раскачивался, груз впечатывал меня в пол тысячами маленьких острых пальцев, когда накренился – начал выдавливать из меня жизнь и продолжал, даже когда мы проваливались в яму, даже когда рухнули окончательно… Звонок телефона внутренней связи напоминал пронзительный крик. Но был еще и другой звук, он шел из ящика, к которому прижималось мое ухо. Что-то боролось там, внутри, что-то влажное и мерзкое, чего я не хотел видеть, и это что-то рвалось наружу.
Потом этот звук сменился другим: словно кто-то отдирал дощечку с именем от железной рамы моей кровати. Я открыл глаза. Какой-то летчик – видимо новичок, с промокшим от пота воротничком, – стоял надо мной с планшетом в руках, будто решая, не из тех ли я, кто способен оторвать ему голову только за то, что он делает свою работу.
– Техник-сержант Дэвис, – сказал он, – вас срочно требуют в зону стоянки и обслуживания.
Я сел и потянулся. Он вручил мне планшет с прикрепленной к нему грузовой декларацией: разобранный HU-53[3] с летным экипажем, механиками и вспомогательным медицинским персоналом, порт назначения… что-то новенькое.
– Аэропорт Тимехри?
– Это возле Джорджтауна, в Гайане. – Поскольку на моем лице отразилось непонимание, он пояснил: – Это бывшая британская колония. Раньше там была военно-воздушная база Аткинсон.
– И каково задание?
– Вроде массовая медицинская эвакуация экспатов из какого-то Джонстауна.
Американцы в беде. Бо́льшую часть своей службы в ВВС я вызволял американцев из беды. И то сказать, вывозя американцев из зон бедствия, испытываешь куда большее удовлетворение, чем транспортируя покрышки для джипов. Я поблагодарил пилота и поспешно надел чистый летный комбинезон.
А ведь я надеялся провести еще один День благодарения здесь, в Панаме, на базе Говард – при тридцатиградусной жаре, с фаршированной индейкой из столовой, футболом по армейскому радио и имея достаточно времени до обратного рейса, чтобы напиться. Только что прибыл рейс с Филиппин, пассажиры и багаж были уже выгружены и отпущены. И вот сразу – новый.
Прерванный сон для помощника командира по загрузке самолета, помпогруза, – дело привычное. С-141 «Старлифтер» был самым большим транспортно-грузовым самолетом в распоряжении военно-воздушного командования, он был способен принять на борт и перенести в любую точку мира более тридцати тонн груза или двести солдат при полной амуниции. Длиной в половину футбольного поля, со стреловидными крыльями, высоко задранным Т-образным хвостом, створчатыми дверями и встроенным грузовым пандусом, «Старлифтер» не имел себе равных, когда речь шла о переброске грузов. Отчасти стюард, отчасти грузчик, я отвечал за погрузку, и моя задача состояла в том, чтобы расположить груз как можно рациональнее и безопаснее.
Когда погрузка была закончена и сводки по весам и центровке заполнены, меня нашел тот же летчик – теперь он проклинал панамскую наземную команду, оставившую царапину на корпусе самолета.
– Сержант Дэвис! Планы меняются! – заорал он, стараясь перекричать вой автопогрузчика, и вручил мне другую грузовую декларацию.
– Больше пассажиров?
– Состав другой. Медицинская команда остается здесь. – Он произнес нечто нечленораздельное по поводу изменения полетного задания.
– И кто эти новые пассажиры?
И снова мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, что он сказал. А может, я его и расслышал, но, похолодев внутри, хотел убедиться, что ошибся.
– Похоронная служба, – прокричал он.
Вот что, как мне показалось, я услышал.
Тимехри был типичным аэропортом третьего мира – достаточно просторный, чтобы принять «Боинг-747», но изрытый выбоинами и застроенный сборными домами из проржавевшего гофрированного железа. Ближняя линия джунглей, окружавших поле, выглядела так, словно ее атаковали всего час назад. Взлетали и садились с жужжанием вертолеты, и американские военнослужащие толпились на бетонированной площадке. Я сразу понял, что дело плохо. От асфальта поднимался такой жар, что я боялся, как бы подошвы моих ботинок не расплавились прежде, чем я успею подставить под колеса тормозные колодки. Наземная команда из американских солдат спешно разгружала вертолет. Один из членов команды – с голой грудью и завязанной вокруг талии рубашкой – подошел и вручил мне декларацию груза.
– Не расслабляйтесь, – сказал он. – Как только разгрузим вертолет, начнем загружать вас. – Он кивнул через плечо.
Я тоже посмотрел в том направлении на мерцающую в раскаленном воздухе рулежную дорожку. Гробы. Вереницы унылых алюминиевых погребальных ящиков мерцали под безжалостным тропическим солнцем. Я знал, как они выглядят, по полетам в Сайгон шестилетней давности, когда только-только стал старшим по погрузке, и ощутил, как внутри меня словно затрепетали бабочки, – может, оттого, что не имел возможности отдохнуть, а может, потому что уже несколько лет не переносил трупы. Тем не менее, сглотнув ком в горле, я посмотрел на порт назначения: Довер, штат Делавэр.
Наземная команда уже загрузила новые авиационные паллеты, когда я понял, что на обратном пути у нас будет два пассажира.
Первый был почти ребенком, на вид только что окончившим школу, – с черными коротко стриженными волосами, в маскировочном костюме для джунглей, который был ему явно велик, накрахмаленном, чистом, со знаками отличия рядового авиации бизнес-класса. Я сказал ему: «Добро пожаловать на борт!» и подошел, чтобы помочь пройти в дверь кабины экипажа, но он отшатнулся, едва не ударившись головой о низкую притолоку. Думаю, он бы отскочил, если бы было куда. Меня обдало исходившим от него запахом – резким, медицинским: «Викс ВапоРаб»[4].
За ним следовала бортмедсестра, решительная и профессиональная во всех отношениях – в походке, одежде и жестах. Она тоже поднялась на борт, отказавшись от помощи. Я спокойно поприветствовал ее, узнав в ней одну из многих, с кем регулярно летал из Кларка[5] на Филиппинах в Дананг и обратно в первые годы службы, – лейтенанта со стальным взглядом и серебристыми волосами. Она недвусмысленно – и не раз – указывала мне, что любой тупица, исключенный из школы, мог бы выполнять мою работу лучше. На ее бейдже значилась фамилия: «Пембри». Она положила руку мальчику на спину и повела его к креслам. Если она меня и узнала, то ничем этого не выдала.
– Садитесь где хотите, – сказал я. – Я – техник-сержант Дэвис. Мы взлетаем меньше чем через полчаса, так что устраивайтесь поудобнее.
Парнишка внезапно остановился и обратился к медсестре:
– Вы мне не говорили…
Трюм «Старлифтера» с его нагревательными, охлаждающими и нагнетательными трубопроводами, расположенными на поверхности, а не скрытыми, как в пассажирском лайнере, очень похож на внутренность котельной. Гробы поставили двумя рядами по всей длине трюма, по четыре один на другом, оставив посередине свободный проход. Всего сто шестьдесят. Желтые грузовые сетки удерживали их на месте. Глядя в конец прохода, мы видели, как солнечный свет мерк, по мере того как закрывался грузовой люк, оставляя нас в неуютном полумраке.
– Это самый быстрый способ доставить тебя домой, – бесстрастным голосом ответила мальчику медсестра. – Ты же хочешь попасть домой, правда?
Его голос сочился испугом и гневом:
– Я не хочу их видеть. Я хочу сидеть лицом по направлению полета.
Если бы парнишка осмотрелся, он бы заметил, что в самолете не было сидений, обращенных вперед.
– Все в порядке, – сказала женщина, потянув его за руку. – Они тоже возвращаются домой.
– Я не хочу на них смотреть, – повторил он, когда медсестра подтолкнула его к сиденью у одного из маленьких иллюминаторов.
Поскольку мальчик не пошевелился, чтобы пристегнуть ремень, Пембри наклонилась и сделала это за него. Он вцепился в подлокотники, как в перекладину на головокружительных американских горках.
– Я не хочу о них думать.
– Я поняла.
Пройдя вперед, я выключил свет в грузо-пассажирском салоне. Теперь длинные металлические контейнеры освещали только парные мигающие красные лампочки. На обратном пути я принес мальчику подушку.
На идентификационной карточке, прикрепленной к его слишком просторной куртке, значилось: «Эрнандес». Он поблагодарил, но рук от подлокотников не оторвал.
Пембри села рядом с ним и пристегнула ремень. Я уложил их вещи и в последний раз перед взлетом просмотрел контрольный перечень операций.
Как только мы оказались в воздухе, я сварил кофе на электрической плите, закрепленной на паллете. Сестра Пембри отказалась, а Эрнандес выпил. Пластиковый стаканчик дрожал у него в руках.
– Боишься летать? – спросил я. В этом не было ничего необычного. – У меня есть драмамин…
– Я не боюсь летать, – сквозь стиснутые зубы ответил мальчик. Он все время смотрел мимо меня на выстроившиеся в трюме ящики.
Теперь об экипаже. Ни один самолет не имел постоянного экипажа, как в старые времена. ВТАК – военно-транспортное авиационное командование – очень гордилось взаимозаменяемостью своих служащих, тем, что летная команда, члены которой никогда прежде не видели друг друга, могла собраться на площадке стоянки и обслуживания самолета и лететь на любом «Старлифтере» в любой конец Земли. Каждый умел выполнять мою работу, а я – его.
Я прошел в кабину пилотов и увидел, что все заняли свои места. Второй бортинженер сидел ближе всех к двери, склонившись над контрольно-измерительной аппаратурой.
– Выравнивание на четыре. Держать малый газ, – сказал он.
Я узнал это отталкивающее лицо и тягучий арканзасский говор, но не мог вспомнить откуда. За семь лет полетов на «Старлифтерах» я успел поработать почти со всеми. Он поблагодарил меня, когда я поставил чашку черного кофе на его стол. На его летной куртке было написано: «Хедли».
Первый бортинженер сидел на «сиротском месте»[6], обычно предназначавшемся для «черношляпника» – представителя воздушной инспекции, бича всех экипажей военно-транспортной авиации. Он попросил двойную порцию сахара, потом встал и сквозь стекло пилотской кабины посмотрел на проносившуюся мимо синь.
– Держать малый газ на четыре, понял, – ответил пилот. Официально командиром корабля был он, но они со вторым пилотом были такими опытными летчиками, что вполне могли поменяться местами. Оба заказали кофе с двойной порцией сливок.
– Мы стараемся обогнуть зону болтанки в чистом небе[7], но это будет непросто. Предупредите пассажиров, чтобы были готовы.
– Есть, сэр. Что-нибудь еще?
– Спасибо, помпогруз Дэвис, это все.
– Слушаюсь, сэр.
Наконец-то можно немного расслабиться. Направляясь в спальный отсек для экипажа, чтобы ненадолго принять горизонтальное положение, я увидел, что Пембри ходит вокруг паллеты, что-то выискивая.
– Вы что-то ищете? Могу я помочь?
– Дополнительное одеяло.
Я вытащил одеяло из шкафа между бортовой кухней и туалетом и, скрипнув зубами, спросил:
– Что-нибудь еще?
– Нет, – ответила она, снимая с шерсти воображаемую пушинку. – Мы ведь и раньше летали вместе.
– В самом деле?
Она приподняла бровь.
– Мне, наверное, следует извиниться.
– Нет необходимости, мэм, – сказал я, обошел ее и открыл холодильник. – Чуть позже я могу подать бортовое питание, если желаете…
Она положила руку мне на плечо, так же, как раньше клала ее на спину Эрнандеса, – чтобы привлечь мое внимание.
– Вы ведь меня помните.
– Да, мэм.
– Во время тех эвакуационных полетов я была излишне резка.
Я бы предпочел избежать такого прямого разговора.
– Вы говорили то, что думали, мэм. Это помогло мне лучше овладеть специальностью старшего по погрузке.
– И все же…
– Мэм, нет необходимости.
Почему женщины не могут понять, что их извинения только усугубляют ситуацию?
Строгость в выражении ее лица сменилась искренностью, и мне вдруг пришло в голову, что она хочет поговорить.
– Как ваш пациент? – спросил я.
– Отдыхает. – Пембри старалась вести себя непринужденно, но я видел, что ей хочется сказать что-то еще.
– А что с ним?
– Он прибыл одним из первых, – сказала она, – и уезжает первым.
– Из Джонстауна? Там все было так плохо?
Прежний взгляд, тяжелый и холодный, мгновенно вернулся, словно кадр из тех наших давних полетов.
– Мы вылетели из Довера по приказу Белого дома через пять часов после того, как им позвонили. Он специалист по медицинской документации, служит всего полгода, нигде прежде не был, никогда в жизни не видел ни одного раненого. И сразу – южноамериканские джунгли и тысяча трупов.
– Тысяча?
– Точно еще не подсчитано, но около того. – Она провела по щеке тыльной стороной ладони. – Столько детей!
– Детей?
– Целые семьи. Они все выпили яд. Говорят, это какой-то культ. Кто-то сказал мне, что сначала они умертвили своих детей. Не знаю, что может заставить человека сделать такое с собственной семьей. – Она покачала головой. – Сама-то я находилась в Тимехри, помогала организовать сортировку. Эрнандес сказал, что запах был невообразимый. Пришлось опрыскивать трупы инсектицидом и защищать их от гигантских голодных крыс. Он сказал, что его заставили протыкать трупы штыком, чтобы ослабить давление газов. Он сжег свою форму. – Пембри переступила с ноги на ногу, чтобы сохранить равновесие, потому что самолет тряхнуло.
Я старался прогнать картину, возникшую перед глазами во время ее рассказа, но по задней стенке глотки ползло что-то отвратительное. Я изо всех сил пытался сдержать гримасу.
– Капитан говорит, что может начаться болтанка. Вам лучше пристегнуться.
Я проводил ее на место. Эрнандес неуклюже распластался в своем кресле, приоткрыв рот; со стороны казалось, что ему здорово досталось во время драки в каком-нибудь баре. Я улегся на свою койку и заснул.
Можете спросить любого помпогруза: после стольких часов, проведенных в воздухе, перестаешь замечать рев двигателей и можешь спать в любой обстановке. Однако сознание не прекращает свою работу и пробуждается при первом же необычном звуке, как было во время перелета из Якоты[8] в Элмендорф[9], когда джип сорвался с крепления и врезался в ящик с ПГУ[10]. Сушеное мясо засы́пало все вокруг. Будьте уверены, наземной команде от меня за это досталось как следует. Поэтому неудивительно, что я мгновенно очнулся от пронзительного крика.
Не успев ничего сообразить, я уже спрыгнул с койки, обежал паллету и увидел Пембри. Она стояла перед Эрнандесом, бессмысленно молотившим руками, и, уклоняясь от них, что-то спокойно говорила ему. За ревом двигателей слова ее разобрать было невозможно, чего нельзя было сказать о словах Эрнандеса:
– Я слышал их! Я их слышал! Они там, внутри! Все эти дети! Все эти дети!
Я решительно и твердо положил руку ему на плечо.
– Успокойся!
Он перестал размахивать руками. На лице его появилось пристыженное выражение. Он впился в меня взглядом.
– Я слышал, как они пели.
– Кто?
– Дети! Все эти… – Он сделал беспомощный жест в направлении неосвещенных гробов.
– Тебе приснилось, – сказала Пембри. Голос у нее слегка дрожал. – Я все время была рядом с тобой. Ты спал и не мог ничего слышать.
– Все дети мертвы, – продолжал он. – Все. Они не знали. Откуда им было знать, что они пьют яд? Кто способен дать яд собственным детям? – Я убрал руку с его плеча. Он посмотрел на меня. – У вас есть дети?
– Нет, – ответил я.
– Моей дочке полтора года, сыну – три месяца. С ними нужно быть очень осторожными и терпеливыми. Знаете, у моей жены это очень хорошо получается. – Я только теперь заметил, что по лбу у него катится пот. – Но я тоже справляюсь, то есть на самом деле я не очень хорошо, черт меня побери, понимаю, что делаю, но я никогда не причинил бы им вреда. Я держу их на руках, пою им песенки, а если бы кто-нибудь попробовал их обидеть… – Он схватил мою руку. – Кто мог дать яд детям?!
– Ты в этом не виноват, – сказал я.
– Они не знали, что это яд. Они и сейчас этого не знают. – Он притянул меня к себе и прошептал на ухо: – Я слышал, как они пели.
Будь я проклят, если от его слов у меня по спине не поползли мурашки.
– Я проверю, – пообещал я ему, срывая со стены фонарь и направляясь по центральному проходу.
Была и практическая причина проверить его слова. Как ответственный за груз, я знал, что необычный звук означает непорядок. Рассказывали, как один экипаж во время полета постоянно слышал кошачье мяуканье, доносившееся откуда-то из трюма. Стюард не смог найти кошку и решил, что она сама объявится, когда самолет разгрузят. А оказалось, что мяукающий звук издавал ослабший крепежный ремень, который лопнул, едва шасси коснулось посадочной полосы, освободив три тонны разрывных снарядов, что сделало приземление весьма впечатляющим. Странные звуки означают опасность, и я был бы круглым дураком, если бы не выяснил, в чем дело.
Идя по проходу, я трогал все скобы и сетки, останавливался, прислушивался, проверял, не сдвинулся ли груз. Я прошел в конец салона, исследовав всю правую сторону, потом обратно, осмотрев левую, даже проверил грузовой люк и ничего не обнаружил. Все было надежно закреплено, я сделал свою работу, как всегда, на совесть.
Вернувшись к своим пассажирам, я увидел, что Эрнандес плакал, закрыв лицо руками. Пембри, сидя рядом, гладила его по спине, как гладила когда-то меня моя мама.
– Все чисто, Эрнандес. – Я повесил фонарь обратно на стену.
– Спасибо, – ответила за него Пембри. – Я дала ему валиум, теперь он должен успокоиться.
– Просто проверка безопасности, – сказал я. – А теперь вам обоим надо отдохнуть.
Вернувшись к своей койке, я увидел, что она занята вторым бортинженером Хедли. Я лег на нижнюю, под ним, но сразу заснуть не смог. Я старался не думать о том, почему гробы оказались в нашем самолете.
Груз – это эвфемизм. От плазмы крови до взрывчатых веществ большой мощности, от лимузинов секретных служб до золотых слитков – ты таскаешь и пакуешь все это, потому что это просто твоя работа, и нужно сделать все возможное, чтобы ее ускорить.
Просто груз, думал я. Но это были целые семьи, убившие себя… Черт, я был рад вырвать их тела из этих джунглей и вернуть домой, их семьям, но медики, прибывшие на место первыми, все те, кто работали на земле, и даже наш экипаж, мы все появились слишком поздно, чтобы сделать для них что-то большее. В некоем туманном, неопределенном смысле я думал о том, что когда-то у меня будут дети, и меня бесило, если я слышал, что кто-то невольно причинил детям зло. Но ведь эти родители поступили так умышленно!
Я никак не мог расслабиться. На койке валялся забытый кем-то старый номер «Нью-Йорк таймс». «Мир на Ближнем Востоке уже при нашей жизни», – гласил один из заголовков. Статья сопровождалась фотографией, на которой президент Картер и Анвар Садат пожимали друг другу руки. Я уже начал было впадать в дрему, но тут мне показалось, что Эрнандес снова кричит, и я неохотно вылез из койки.
Пембри стояла, зажав рот ладонями. Я решил, что Эрнандес ударил ее, поэтому подошел и отвел ее руки, ожидая увидеть следы от удара. Но их не было. Через плечо медсестры мне был виден Эрнандес, вжавшийся в кресло, его глаза мерцали в темноте, как отражение светящегося экрана цветного телевизора.
– Что случилось? Он вас ударил?
– Он… он опять это слышал, – заикаясь, ответила она, и ее рука снова потянулась к лицу. – Вам… вам бы нужно еще раз проверить. Еще раз…
Угол наклона самолета изменился, и она немного подалась в мою сторону. Чтобы сохранить равновесие, я схватился за ее плечо, и она упала на меня. Я посмотрел на нее как ни в чем не бывало. Она отвела взгляд.
– Что случилось? – повторил я свой вопрос.
– Я тоже слышала, – ответила Пембри.
Я посмотрел в сторону затененного прохода.
– Только что?
– Да.
– Это было то, о чем он говорил? Детское пение? – Я был близок к тому, чтобы встряхнуть ее. Они что, оба сошли с ума?
– Детские игры, – ответила она. – Ну, такой шум, какой бывает на детской площадке, понимаете? Когда дети играют.
Я напрягся и попытался представить предмет или группу предметов, которые, находясь на С-141 «Старлифтере», летящем на высоте почти двенадцать тысяч метров над Карибами, могли бы издавать звуки, похожие на шум детских игр.
Эрнандес изменил позу, и мы оба переключили внимание на него. Он обреченно улыбнулся и произнес:
– Я же вам говорил.
– Пойду проверю, – сказал я.
– Пусть играют, – попросил Эрнандес. – Им просто хочется поиграть. Разве вам не хотелось, когда вы были ребенком?
В голове у меня промелькнуло воспоминание: бесконечные летние дни, катание на велосипеде, сбитые коленки, возвращение домой в сумерках и мамины слова: «Ты посмотри, какой ты грязный!» Интересно, поисковые команды вымыли тела, прежде чем положить их в гробы? – подумалось мне.
– Я выясню, что это может быть, – сказал я, снова снимая со стены фонарь. – Оставайтесь на месте.
Я не стал рассеивать темноту фонарем, надеясь, что в ней слух будет острее. Турбулентность к этому времени ослабла, и я светил только себе под ноги, чтобы не запутаться в грузовых сетках. Я прислушивался ко всему необычному и новому. Звук был не один, это была комбинация звуков, и она продолжалась непрерывно, а не затихая и потом возобновляясь. Утечка топлива? Человек, тайно прокравшийся на борт? Мысль о змее или какой-нибудь другой тропической живности, шныряющей в одном из этих металлических ящиков, усилила мою тревогу. Я вспомнил свой сон.
Возле грузового люка я выключил фонарь и прислушался. Сжатый воздух. Четыре турбореактивных двигателя «Пратт энд Уитни». Дребезжание в стыках. Хлопанье грузоподъемных строп.
А потом – что-то еще. Вдруг возник еще какой-то звук, сначала глухой и однородный, как гул, доносящийся из глубины пещеры, но постепенно становившийся отчетливым – как случайно ворвавшийся в наушники радиоперехватчика разговор.
Дети. Смех. Как на школьной переменке.
Я открыл глаза и обвел лучом фонаря серебристые ящики. Они ждали, обступив меня и словно бы глядя на меня почти с надеждой.
Дети, подумал я, всего лишь дети.
Промчавшись мимо Эрнандеса и Пембри, я заскочил в туалет. Не знаю, что они увидели на моем лице, но если то же самое, что увидел я, глянув в маленькое зеркало над умывальником, то наверняка и пришли в ужас, и одновременно испытали удовлетворение.
Я отвел взгляд от зеркала и посмотрел на внутренний телефон. О любой обнаруженной проблеме с грузом следовало немедленно доложить – этого требовала инструкция, но что я мог сказать капитану? На миг у меня возникло желание ничего не сообщать, просто сбросить гробы и покончить со всем этим. Если бы я сказал, что в трюме возник пожар, мы должны были бы снизиться до трех тысяч метров, чтобы я мог мгновенно открыть затворы и скинуть весь груз на дно Мексиканского залива, – никто и вопросов бы задавать не стал.
Потом я опомнился, выпрямился и заставил себя думать. Дети, размышлял я. Не монстры, не демоны, всего лишь шум детских игр. Ничего убийственного. Ничего такого, что может тебя убить. Я сдержал охватившую меня дрожь и решил обратиться за помощью.
В спальном отсеке я нашел Хедли – он все еще спал. На груди у него домиком лежала книга с загнутыми уголками, на обложке которой были изображены две женщины, слившиеся в страстном объятии. Я потряс его за руку, он сел. Несколько секунд мы оба молчали. Потом он потер лицо рукой, зевнул и посмотрел прямо на меня. Я увидел, как на его лице появилось выражение тревоги, и он схватил свой переносной кислородный прибор, но через мгновение напустил на себя деловой вид.
– Что случилось, Дэвис?
Я нащупал опору и сказал:
– Груз. Кажется… там что-то сдвинулось. Мне нужна помощь, сэр.
Тревога Хедли сменилась раздражением.
– Ты доложил капитану?
– Нет, сэр. Я… Я не хочу зря беспокоить его. Может, там ничего серьезного.
Лицо его исказила недовольная гримаса, и я подумал, что он начнет ругаться, но он позволил мне проводить его в хвостовую часть. Самого́ его присутствия оказалось достаточно, чтобы мой профессионализм вновь восторжествовал и я начал сомневаться, что действительно что-то видел. Походка моя сделалась увереннее, желудок вернулся на свое место.
Теперь Пембри сидела рядом с Эрнандесом, оба притворно изображали безразличие. Хедли равнодушно взглянул на них и последовал за мной по проходу между гробами.
– Может, зажечь основной свет? – спросил он.
– Это не поможет, – возразил я. – Вот здесь. – Я вручил ему фонарь и спросил: – Вы слышите?
– Что я должен слышать?
– А вы прислушайтесь.
И снова ничего, кроме рева двигателей и реактивной струи.
– Я не…
– Тс-с! Слушайте.
Хедли открыл рот и так простоял с минуту. Звук моторов сделался глуше, послышался шум, сочившийся сверху, как водяной пар, и нас обволокло звучащим туманом. Я не отдавал себе отчета в том, как похолодело все мое тело, пока не заметил, что у меня дрожат руки.
– Какого черта? Это что такое? – спросил Хедли. – Похоже на…
– Не надо, – перебил я его. – Этого не может быть. – Я кивнул в сторону металлических ящиков. – Вы знаете, что в этих гробах?
Он ничего не ответил. Звук, казалось, вдруг сделался ближе, потом снова отдалился. Хедли попытался настигнуть его лучом фонаря.
– Ты можешь сказать, откуда он исходит?
– Нет. Я просто рад, что вы его тоже слышите, сэр.
Инженер почесал голову и скривился так, словно проглотил что-то мерзкое и не может избавиться от послевкусия.
– Будь я проклят, – пробормотал он.
Вдруг, как и в предыдущий раз, шум замер, и в уши мне ворвался рев двигателей.
– Я потушу свет, – предложил я, нерешительно двинувшись назад. – Капитану звонить не буду.
Он промолчал с заговорщическим видом. Вернувшись, я заметил, что он осматривает определенный ряд гробов через сетку.
– Нужно провести обследование, – мрачно сказал он.
Я не ответил. Мне доводилось обследовать груз в полете, но такой, как этот, – никогда, даже не тела военнослужащих. Если все, что рассказала Пембри, правда, я и думать не хотел о том, чтобы вскрыть один из этих гробов.
Мы оба насторожились, снова услышав звук. Представьте себе мокрый теннисный мяч. А теперь представьте себе звук, который он издает, ударяясь о корт, – что-то вроде глухого «ч-чвак» – как птица, врезавшаяся в фюзеляж. Звук раздался снова, и на этот раз он исходил из самого́ трюма. Потом, после турбулентной волны, снова раздался «ч-чвак». Он явно исходил из гроба, стоявшего у ног Хедли.
Он попытался изобразить на лице что-то вроде: «Ничего серьезного. Мы все это просто себе вообразили. Из-за шума в одном из гробов самолет не рухнет. А призраков не существует».
– Сэр?
– Придется посмотреть, – повторил он.
Кровь снова разлилась у меня в животе. Он сказал посмотреть? Я не хочу этого видеть.
– Позвони капитану и скажи, чтобы сбросил скорость и держал самолет ровно, – велел он.
В этот момент я понял, что он собирается мне помочь. Не хочет, но поможет.
– Что вы там делаете? – спросила Пембри. Она стояла рядом, пока я стаскивал грузовую сетку с нужного ряда гробов, а инженер расстегивал стропы, скреплявшие один определенный штабель. Эрнандес спал, свесив голову: успокоительное наконец подействовало.
– Нам придется обследовать груз, – сухо ответил я. – Вероятно, от качки он разбалансировался.
Когда я проходил мимо, она схватила меня за руку.
– Так все дело в этом? Груз сдвинулся? – В ее вопросе звучало отчаяние.
Скажите же, что все это мне показалось, говорил ее взгляд. Скажите – и я поверю, пойду и немного посплю.
– Мы так думаем. – Я кивнул.
Плечи у нее опустились, и лицо расплылось в улыбке, слишком широкой, чтобы быть искренней.
– Слава богу. А то я думала, что схожу с ума.
Я похлопал ее по плечу.
– Пристегнитесь и постарайтесь заснуть, – сказал я.
Она так и поступила.
Наконец-то я что-то делал. Как помпогруз я должен был положить конец этому бреду. Поэтому принялся за работу. Расстегивал крепежные стропы, взбирался на соседние ящики, сдвигал с места верхний гроб, после чего мы его снимали, а я закреплял, потом следующий, и так снова и снова, испытывая радость от простых повторяющихся действий.
Так было, пока мы не добрались до нижнего, того, из которого шел звук, как определил Хедли. Он стоял, глядя, как я выдвигаю гроб на свободное место, чтобы можно было его обследовать. На ногах он держался твердо, но все равно было заметно, что его мутит. Среди самодовольных военных летчиков, за кружкой пива, он мог бы скрыть это, но не сейчас, не передо мной.
Я бегло осмотрел место, где до того стоял гроб, и соседние гробы, но не обнаружил никаких повреждений и дефектов.
Снова послышался звук – влажное «ч-чвак». Изнутри. Мы одновременно вздрогнули. Ледяное отвращение инженера было невозможно утаить. С трудом унимая дрожь, я сказал:
– Мы должны его открыть.
Инженер не выразил несогласия, но его тело, как и мое, двигалось медленно и неохотно. Все же он присел и, твердо положив руку на крышку гроба, отстегнул зажимы со своей стороны. Я сделал то же самое. Вспотевшие ладони скользили по холодному металлу, и стало заметно, как дрожат мои пальцы, когда я отнял их от зажимов и обхватил крышку. На миг мы с Хедли встретились взглядом, в котором сосредоточилась вся наша решимость. Вместе мы открыли гроб.
Первым мы почувствовали запах – смесь гнилых фруктов, антисептика и формальдегида, заключенных в пластик с перегноем и серой. Он ударил нам в нос и наполнил весь трюм. Верхние лампы высветили пару блестящих черных похоронных мешков, скользких от конденсата и физиологических выделений. Я знал, что это будут детские трупы, но все равно их вид ошеломил меня и причинил страшную боль. Один мешок лежал неровно, закрывая другой, и я сразу понял, что в гробу не один ребенок. Мой взгляд скользил по влажному пластику, выхватывая то контур руки, то очертания профиля. Что-то размером с младенца свернулось у нижнего края мешка, отдельно от всего остального.
В этот момент самолет дернулся, как испуганный пони, и верхний мешок соскользнул, открыв тело девочки от силы лет восьми-девяти, наполовину высунувшееся из своего мешка, свернувшееся, как человек-змея, и втиснутое в угол. На ее животе виднелись колотые раны от штыка, но он снова вспух, а скрюченные ноги и руки раздулись, как толстые древесные сучья. Слой кожи, содержащий пигмент, облез повсюду, кроме лица, которое осталось чистым и невинным, как у небесного херувима.
Именно это лицо сразило Хедли и заставило сжаться мое сердце. Нежное детское лицо.
Моя рука до боли впилась в край гроба, так что костяшки на ней побелели, но я не посмел ее убрать. Ком встал у меня в горле, и я попытался его сглотнуть.
Одинокая муха, жирная и блестящая, выползла из мешка и лениво полетела к Хедли. Он медленно встал и словно бы приготовился отразить удар, наблюдая, как она поднимается и неуклюже прокладывает себе путь в воздухе. Потом резко отступил, взмахнул руками, хлопнул ладошами – я услышал шлепок и подавился рвотным позывом.
Когда я встал, в висках у меня стучало и ноги были ватными. Я ухватился за ближайший гроб, в горле появился тухлый привкус.
– Закрой его, – произнес Хедли так, словно рот у него был чем-то набит. – Закрой его.
Руки у меня были как резиновые. Собравшись с духом, я поднял ногу и толкнул ею крышку. Она грохнула, словно разрыв артиллерийского снаряда. У меня заложило уши, как бывает при быстром снижении.
Хедли уперся руками в бедра, опустил голову и стал глубоко дышать ртом.
– Господи Иисусе, – прохрипел он.
Я заметил какое-то движение. Пембри стояла позади нас, на ее лице застыло выражение крайнего отвращения.
– Что… это… за… запах?
– Все в порядке. – Я сообразил, что одна рука у меня свободна, и попытался сделать небрежный жест. – Мы обнаружили проблему. Хотя пришлось открыть один гроб. Возвращайтесь на место.
Обхватив себя руками, Пембри пошла к креслу.
Сделав еще несколько глубоких вдохов, я понял, что запах развеялся достаточно, чтобы можно было снова приступить к делу.
– Мы должны его закрепить, – сказал я Хедли.
Он оторвал взгляд от пола, и я заметил, что его глаза превратились в узкие щелки, руки сжаты в кулаки, а широкий торс грозно напряжен. В уголке одного глаза блеснула влага. Он ничего не ответил.
Как только я защелкнул зажимы, гроб снова превратился в груз. Напрягшись, мы поставили его на место. Через несколько минут и другие гробы были уложены в штабель, закреплены стропами и затянуты грузовой сеткой.
Хедли подождал, пока я закончу, потом подошел ко мне.
– Я скажу капитану, что ты решил проблему и можно снова набирать скорость.
Я кивнул.
– И еще одно: увидишь ту муху – убей ее.
– А разве вы не…
– Нет.
Я не знал, что еще сказать, поэтому сказал лишь:
– Слушаюсь, сэр.
Пембри полулежала в своем кресле, запрокинув голову и притворяясь спящей. Эрнандес сидел прямо, его веки были чуть прикрыты. Он жестом подозвал меня, я наклонился к нему, и он спросил:
– Вы выпустили их поиграть?
Я ничего не ответил. Сердце у меня щемило так же, как бывало в детстве, когда кончалось лето.
Когда мы приземлились в Довере, похоронная команда в полной парадной форме вынесла из самолета все гробы, отдавая должные почести каждому покойному. Рассказывали, что по мере того как доставляли остальные трупы, формальности сворачивали, и в конце самолеты встречал уже только военный капеллан. К концу недели я снова был в Панаме и набивал желудок индейкой, запивая ее дешевым ромом. Потом мы полетели на Маршалловы острова с грузом провианта для тамошней базы управляемых ракет. У командования военно-воздушных сил нет недостатка в грузах.
Артур Конан Дойл Ужас в небе
Помимо рассказов о Шерлоке Холмсе Дойл написал больше сотни других, среди которых несколько десятков – о сверхъестественном. Некоторым из них недостает динамики; в них повторяется матрица рассказов о Холмсе – «смотрите, что случилось дальше»: главный герой – честный и прямодушный молодой англичанин – сталкивается со сверхъестественным ужасом и благодаря своему мужеству и изобретательности одерживает победу. Но несколько из этих рассказов – по-настоящему страшные. Таков, например, «Номер 249». А вот еще один. Как его современник Брэм Стокер Дойл увлекался новыми изобретениями (в 1911 году он купил автомобиль, хотя ни разу ни на одном не ездил), в том числе его интересовали аэропланы. Когда будете читать «Ужас в небе», помните, что рассказ был опубликован в 1913 году, всего через десять лет после того как «Флайер» братьев Райт, взлетев из Китти-Хок, провел в воздухе 59 секунд: Орвилл – за простейшими рычагами управления, Уилбур – на летном поле[11]. К тому моменту, когда рассказ Конан Дойла был напечатан в «Стрэнде»[12], рабочий потолок большинства самолетов составлял от трех с половиной до, возможно, пяти с половиной тысяч метров. Дойл попытался представить себе, что могло быть выше этого предела, далеко над облаками, и создал свой самый страшный рассказ.
Мысль о том, что удивительное повествование, получившее название «Записки Джойса-Армстронга», является изощренной мистификацией, придуманной неким человеком, наделенным извращенным и зловещим чувством юмора, давно отвергнута всеми, кто досконально изучил факты. Даже интриган, обладающий самым мрачным воображением, трижды подумал бы, прежде чем связать свои болезненные фантазии с неоспоримыми и трагическими фактами, которые подкрепляют содержание «Записок». Хотя утверждения, в них содержащиеся, ошеломляющи и даже чудовищны, тем не менее, исходя из общего уровня современных знаний, приходится согласиться, что они правдоподобны, и это означает, что мы должны пересмотреть наши представления в соответствии с новой ситуацией. Похоже, наш мир весьма зыбко и ненадежно защищен от самых невероятных и неожиданных опасностей. В этом повествовании, воспроизводящем подлинный документ – в той фрагментарной форме, в какой он был найден, – я постараюсь развернуть перед читателем все факты, известные к настоящему времени, предварив их изложение замечанием: если кто-то сомневается в повествовании Джойса-Армстронга, то в фактах, касающихся лейтенанта королевского военно-морского флота Миртла и мистера Хэя Коннора, которые со всей очевидностью встретили свою кончину в обстоятельствах, подобных описанным Армстронгом, сомневаться не приходится.
«Записки» Джойса-Армстронга были найдены в поле, которое называется Лоуер-Хейкок и расположено в миле к западу от деревни Уитихем, на границе между Кентом и Сассексом. Пятнадцатого сентября прошлого года Джеймс Флинн, работник Мэтью Додда, хозяина фермы «Чантри» в Уитихеме, заметил вересковую курительную трубку, валявшуюся неподалеку от края тропы, огибающей живую изгородь поля. В нескольких шагах от нее он подобрал разбитый бинокль. И, наконец, в канаве, среди зарослей крапивы, нашел книгу в ледериновой обложке, которая при ближайшем рассмотрении оказалась блокнотом с отрывными листками, несколько из них трепетали, прибитые ветром к нижним веткам кустов. Флинн собрал их, но какие-то, в том числе первые, так и не были найдены, и это осталось прискорбным пробелом в крайне важном тексте. Работник отнес свои находки хозяину, который, в свою очередь, показал их доктору Дж. Х. Атертону из Хартфилда. Этот господин сразу же понял, что блокнот следует передать для изучения специалистам, и рукопись была отослана в лондонский аэроклуб, где теперь и находится.
Двух первых страниц в ней недостает. Оторвана также последняя страница, однако эти пропажи никак не влияют на общий смысл повествования. Предполагается, что недостающее начало записок мистера Джойса-Армстронга касается данных о его квалификации как аэронавта, а эти сведения можно почерпнуть из других источников, и они свидетельствуют о его непревзойденном среди английских пилотов профессиональном мастерстве. Уже много лет он пользовался славой одного из наиболее отважных и мыслящих летчиков, подобное сочетание достоинств позволило ему как изобретать, так и испытывать разные новые устройства для самолетов, в том числе гироскопическую приставку, которая носит теперь его имя. Основная часть текста написана чернилами, аккуратным почерком, но последние несколько строк – карандашом, и буквы в них скачут так, что их едва можно разобрать; в сущности, именно этого и следует ожидать от послания, поспешно нацарапанного пилотом летящего самолета. Следует также отметить, что на последних страницах и на обложке блокнота имеются пятна, которые эксперты Министерства внутренних дел признали пятнами крови, – возможно даже, человеческой, и уж несомненно принадлежащей млекопитающему. Тот факт, что в ней было найдено нечто, весьма напоминающее возбудителя малярии – а Джойс-Армстронг, как известно, страдал перемежающейся лихорадкой, – превосходное свидетельство существования новых методов и средств, которыми современная наука вооружила наших детективов.
А теперь – несколько слов об авторе этого эпохального документа. Джойс-Армстронг, по словам немногих друзей, которые действительно хорошо знали этого человека, был поэтом, мечтателем, но при этом также механиком и изобретателем. Большую часть своего весьма значительного состояния он тратил на увлечение аэронавтикой. В своих ангарах неподалеку от Девайза он держал четыре личных самолета и, как рассказывают, за последний год совершил не менее ста семидесяти вылетов. Характером он отличался замкнутым и, впадая в угрюмость, сторонился общения с коллегами. Капитан Дейнджерфилд, знавший его лучше чем кто бы то ни было, говорит, что случались периоды, когда его эксцентричность грозила перерасти в нечто более опасное. Одним из ее проявлений была привычка брать с собой на борт самолета ружье.
Другая проявилась в болезненной психической реакции на гибель лейтенанта Миртла. Миртл, пытавшийся установить рекорд высоты, упал с девяти тысяч метров. Страшно сказать, но голова его была словно бы срезана, хотя тело и конечности сохранили свою форму. По словам Дейнджерфилда, на каждой встрече с авиаторами Джойс-Армстронг с загадочной улыбкой задавал один и тот же вопрос: «А где же, скажите на милость, голова Миртла?»
Однажды после обеда в летной школе на Солсбери-Плейн[13] он затеял спор на тему: какой будет самая неотвратимая опасность, с которой придется сталкиваться летчикам? Выслушав по очереди мнения всех присутствовавших – воздушные ямы, дефекты в конструкции самолета, срывы при неправильном выполнении виража, – он пожал плечами и своих соображений высказывать не стал, хотя было ясно, что они отличаются от изложенных коллегами.
Следует отметить, что после его собственного исчезновения обнаружилось: личные дела его были приведены в такой безупречный порядок, словно он заранее предчувствовал беду. Сделав эти существенные пояснения, передаю слово самому автору «Записок», начинающихся с третьей страницы испачканного кровью блокнота.
«Тем не менее, обедая в Реймсе с Козелли и Густавом Реймондом, я понял, что ни один из них не отдает себе отчета в особой опасности, таящейся в верхних слоях атмосферы. Я не стал открыто делиться с ними своими мыслями на этот счет, но подвел разговор так близко к ним, что, будь у них хоть отдаленно схожие идеи, они бы не преминули их высказать. Впрочем, они – всего лишь легкомысленные тщеславные парни, которые не думают ни о чем, кроме того чтобы увидеть свои жалкие имена в газете. Характерно, что ни тот, ни другой никогда не взлетали выше шести тысяч метров. Разумеется, люди поднимались и на бо́льшие высоты – при полете на воздушных шарах или при восхождении на горные вершины. Но, если мои предчувствия меня не обманывают, опасная для летчика зона находится гораздо выше этого.
Воздухоплавание существует уже более двадцати лет, и встает резонный вопрос: почему же опасность проявилась только сейчас? Ответ очевиден. В прежние времена слабых двигателей, когда для любых нужд использовались стосильные «Гномы» или «Грины», полеты были очень ограниченны. Теперь, когда двигатели в триста лошадиных сил считаются скорее правилом, чем исключением, полеты в высших слоях атмосферы стали доступнее и никого не удивляют. Некоторые из нас еще помнят, как во времена нашей молодости Гаррос стал всемирно известен тем, что достиг высоты в пять тысяч восемьсот метров, а перелет через Альпы был признан выдающимся достижением. Теперь наши возможности неизмеримо выросли, и количество перелетов на больших высотах увеличилось в двадцать раз по сравнению с предыдущими годами. Многие из них окончились благополучно. Раз за разом пилоты достигали высоты в девятьсот метров, не испытывая при этом никаких неудобств, если не считать холода и недостатка кислорода. Но что это доказывает? Пришелец из других миров может тысячу раз высадиться на нашу планету и ни разу не увидеть тигра. Тем не менее, тигры существуют, и если пришелец случайно приземлится в джунглях, у него есть все шансы быть ими сожранным. Такие же джунгли есть и в верхних слоях атмосферы, и населены они существами гораздо более страшными, чем тигры. Уверен, со временем эти небесные джунгли будут тщательно отмечены на карте. Уже сейчас я могу назвать два таких места. Одно из них находится над французским департаментом Атлантические Пиренеи, между По и Биаррицем. Другое – в небе Уилтшира, над домом, где я пишу эти строки, прямо у меня над головой. Весьма вероятно, что есть и третье: над Гамбургом – Висбаденом. Впервые меня заставило задуматься об этом исчезновение летчиков. Разумеется, все твердили, что они упали в море, но меня это отнюдь не убеждало. Сначала это был Веррье во Франции; его самолет нашли неподалеку от Байонны, а вот тело исчезло бесследно. Подобным же образом исчез Бакстер, хотя двигатель и кое-какие металлические детали его самолета обнаружили в лестерширских лесах. В связи с этим происшествием доктор Миддлтон из Эймсбери, который наблюдал за полетом в телескоп, заявил, что как раз перед тем как облака закрыли ему обзор, он увидел: машина, летевшая на огромной высоте, вдруг резко поднялась еще выше серией перпендикулярных рывков, что, с его точки зрения, просто невозможно. И это был последний раз, когда кто-либо видел Бакстера. Об этом много писали в газетах, но дискуссия так ни к чему и не привела. Было еще несколько подобных происшествий, а потом погиб Хэй Коннор. Сколько кудахтали все о «нераскрытой тайне неба», как изощрялись на этот счет низкопробные газетенки, и как мало было сделано для того, чтобы докопаться до сути дела! Коннор спланировал с какой-то неведомой чудовищной высоты, не сделав даже попытки выбраться из самолета, он умер прямо в кресле пилота. Умер – от чего? «Сердечный приступ», – сказали врачи. Вздор! У Хэя Коннора сердце было таким же здоровым, как у меня. А что сказал Венаблз, единственный человек, находившийся рядом с ним в момент смерти? Он сказал, что Коннор дрожал и выглядел как человек, жутко напуганный. «Он умер от страха», – утверждал Венаблз, но понятия не имел, что́ его так испугало. Перед смертью Коннор успел сказать лишь одно слово – что-то вроде «чудовищно». Те, кто вели расследование, так и не смогли разобраться, что это могло означать. А вот я могу. Чудовища! Вот какое слово оказалось последним словом бедняги Гарри Хэя Коннора. И он действительно умер от страха, Венаблз не ошибся.
А потом – история с головой Миртла. Неужели вы и впрямь верите – неужели кто-либо способен действительно поверить – в то, что человеческая голова может быть полностью вколочена в тело от силы удара при падении? Допустим даже, что теоретически это возможно, но не в случае с Миртлом. А жир на его одежде? Она была «вся липкая от жира», как сказал кто-то во время дознания. Странно, что это никого не заставило задуматься. А я задумался – но я-то думаю об этом уже давно. Я совершил три высотных полета – уж как потешался Дейнджерфилд над тем, что я беру с собой ружье! – но никогда не поднимался достаточно высоко. Однако завтра, на новом, легком «Поле Веронере» с его стасемидесятипятисильным мотором «Робур», я запросто коснусь планки в девять тысяч метров. Я нацелился на рекорд. Вероятно, придется целиться и во что-то другое. Разумеется, это опасно. Но если избегать опасности, то лучше вообще не летать, а сидеть дома в халате и войлочных тапочках. Итак, завтра я нанесу визит в небесные джунгли, и если там на самом деле что-то есть, я это узнаю. Если я вернусь, то сделаюсь какой-никакой знаменитостью. Если нет, то этот дневник, возможно, объяснит, что́ я пытался сделать и как погиб, делая это. Только прошу: не надо нести вздор насчет несчастных случаев или каких-то там тайн.
Для осуществления своей задачи я выбрал моноплан «Пол Веронер». Когда нужно сделать настоящую работу, нет ничего лучше моноплана. Бомон установил это в самом начале своей летной карьеры. Прежде всего, он не боится сырости, а, судя по погоде, лететь мне предстоит сквозь сплошную облачность. Это отличная маленькая машина, управлять которой так же легко, как лошадью с чувствительным ртом. Двигатель – десятицилиндровый ротационный «Робур» мощностью до ста семидесяти пяти лошадиных сил. Самолет усовершенствован в соответствии со всеми достижениями современной авиационной техники: закрытый фюзеляж, посадочные лыжи с круто загнутыми носами, надежные тормоза, гироскопические стабилизаторы, три скорости, соответствующие изменениям угла плоскости крыльев по принципу жалюзи. Я беру с собой ружье и дюжину обойм с патронами. Видели бы вы лицо Перкинса, моего механика, когда я велел ему погрузить их в самолет. Оделся я, как покоритель Арктики: два свитера под комбинезоном, толстые носки, утепленные сапоги, шлем с ушными клапанами и слюдяные защитные очки. На улице было душно, но ведь я собирался на высоту гималайских вершин и должен был одеться соответственно. Перкинс догадывался, что я готовлюсь к чему-то необычному, и упрашивал меня взять его с собой. Может, я и взял бы его, если бы летел на биплане, но моноплан – машина для одного, если хочешь выжать из нее все до последнего метра. Разумеется, я взял кислородную подушку: без нее человек, идущий на побитие рекорда высоты, обречен либо замерзнуть, либо задохнуться – либо и то, и другое.
Прежде чем сесть в самолет, я тщательно осмотрел крылья, рычаг руля управления и рычаг набора высоты. Насколько я мог судить, все было в порядке. Потом я завел мотор и убедился, что он работает ровно. Когда машину отпустили, она взлетела почти с места на низкой скорости. Я сделал два круга над летным полем – просто для разогрева, – после чего, помахав Перкинсу и остальным, выровнял самолет и дал полный газ. Он, словно ласточка, проскользил миль восемь – десять на потоке ветра, а затем я чуть-чуть задрал нос, и машина начала по широкой спирали подниматься к скоплению облаков над моей головой. Очень важно подниматься медленно и по ходу дела приспосабливаться к перемене давления.
Для английского сентября день был теплый и душный, все замерло в тягостном ожидании дождя. Время от времени с юго-запада неожиданно налетали порывы ветра, один из них оказался столь резким и внезапным, что застал меня врасплох и на миг развернул чуть ли не на сто восемьдесят градусов. Помню времена, когда шквалы ветра, завихрения и ямы представляли опасность – это было до того, как мы научились придавать нашим моторам мощность, способную превозмогать эти явления. Как раз в тот момент, когда я подлетал к границе облачности – альтиметр показывал высоту девятьсот метров, – хлынул дождь. Да как хлынул! Он молотил по крыльям, хлестал меня по лицу, застилал стекла очков так, что я почти ничего не видел. Пришлось снизить скорость до минимальной, потому что лететь против секущего ливня было больно. А выше посы́пался град, и я был вынужден спасаться бегством. Один из цилиндров двигателя вышел из строя – по моим соображениям, засорился, тем не менее, я продолжал равномерно и мощно набирать высоту. Вскоре проблема – в чем бы она ни состояла – рассосалась, я снова услышал ровный, сливающийся воедино утробный рокот всех десяти цилиндров. Вот когда оценишь пользу современных глушителей: наконец стало возможным по звуку контролировать работу двигателя. Когда в нем появляются неполадки, он визжит, скрипит и стонет, но все эти мольбы о помощи в былые времена были напрасны, потому что чудовищный рев вокруг машины заглушал все остальные звуки. Если бы только первые авиаторы могли воскреснуть и увидеть красоту и совершенство механизмов, доставшихся нам ценой их жизней!
Около половины десятого я приближался к плотной массе облаков. Внизу подо мной сквозь пелену дождя смутно проступал обширный простор Солсбери-Плейн. С полдюжины аэропланов отрабатывали приемы пилотажа на высоте не более трехсот метров; на зеленом фоне долины они напоминали черных ласточек. Рискну предположить, летчики терялись в догадках: что это я делаю там, в стране облаков? Внезапно серая пелена затянула вид подо мной, и влажные складки тумана заскользили по моему лицу. Он был липким, холодным и унылым. Зато я находился теперь над грозой и градом, и это уже можно было считать достижением. Туча была темной и густой, как лондонский туман. В стремлении вырваться из нее я задрал нос самолета так сильно, что раздался автоматический сигнал тревоги, и я начал скользить назад. Мокрые крылья, с которых стекала вода, утяжелили машину больше, чем я предполагал, но вскоре масса облаков стала менее плотной – я пробился через нижний слой. Далеко в вышине виднелся второй, пушистый, опаловый; сплошной белый потолок над головой и темный, тоже сплошной, пол под фюзеляжем, а между ними – мой моноплан, трудолюбиво взбирающийся все выше по широкой спирали. В этих облачных просторах было смертельно одиноко. Однажды мимо пролетела большая стая каких-то мелких водоплавающих птиц, быстро удалявшаяся на запад. Частое хлопанье их крыльев и мелодичный щебет были приятны уху. Кажется, это были чирки, но я тот еще зоолог. Теперь, когда мы, люди, тоже стали птицами, следовало бы научиться различать своих братьев по виду.
Подо мной ветер взвихривал и стремительно нес мимо необозримую массу облаков. Однажды в ней образовался туманный водоворот, огромная воронка, сквозь горло которой, как сквозь перевернутый дымоход, я на миг увидел далекую землю. Внизу, на большом удалении от меня, летел белый биплан. Наверное, это был утренний почтовый самолет, курсировавший между Бристолем и Лондоном. Затем облака втянулись в воронку, и великое одиночество вновь обрело свою бесстрастную цельность.
Сразу после десяти я приблизился к нижнему краю верхнего облачного пласта. Он состоял из неплотного прозрачного тумана, стремительно дрейфовавшего с запада. Все это время ветер постоянно усиливался и теперь достигал двадцати восьми миль в час, судя по показаниям моих приборов. Стало очень холодно, хотя альтиметр фиксировал высоту всего в две тысячи семьсот метров. Мотор работал безупречно, и мы с ровным гулом продолжали ползти вверх. Гряда облачности оказалась плотнее, чем я предполагал, но в конце концов она истончилась до золотистого тумана, а потом вдруг я вырвался из нее и очутился в чистом небе, над моей головой ослепительно сверкало солнце: вверху – синева и золото, внизу – серебристое сияние бескрайнего простора. Было четверть одиннадцатого, стрелка барографа стояла на отметке три тысячи девятьсот. Я поднимался все выше и выше, прислушиваясь к низкому мерному рокоту мотора, взгляд мой был сосредоточен на показаниях приборов: число оборотов, уровень топлива, топливный насос. Неудивительно, что авиаторов называют племенем бесстрашных. Когда приходится одновременно думать о стольких вещах, нет времени тревожиться о себе. Примерно тогда же я отметил, насколько ненадежным становится компас, когда поднимаешься на определенную высоту над землей. На четырех с половиной тысячах метров мой указывал на восток, сдвигаясь на одно деление к югу. По-настоящему ориентироваться приходилось по солнцу и ветру.
Я ожидал, что в этих высотах будет царить вечное безмолвие, но по мере набора высоты и без того штормовой ветер еще усиливался. Летя навстречу ему, моя машина стонала и дрожала всеми своими стыками и заклепками, и ее сносило в сторону, как бумажный листок, при каждом крене на вираже, а потом ветер подхватывал ее и нес со скоростью, недоступной ни одному смертному. Тем не менее, я каждый раз возвращался в исходное положение, лицом к ветру, потому что моя цель состояла не только в том, чтобы поставить рекорд высоты. По моим соображениям, воздушные джунгли располагались на сравнительно небольшом пространстве прямо над Уилтширом, и если бы я вышел за пределы этого небольшого пространства, все мои труды могли пропасть даром.
Когда к полудню я достиг отметки в пять тысяч восемьсот метров, ветер оказался здесь таким свирепым, что я с тревогой посматривал на опоры крыльев, опасаясь, что они могут в любой момент ослабнуть или надломиться. Я даже расчехлил парашют, лежавший у меня за спиной, и пристегнул его крюк к кольцу на своем кожаном ремне, чтобы быть готовым к худшему. Настал момент, когда за любой промах механика аэронавт расплачивается жизнью. Но самолет отважно противостоял натиску стихий. Все стропы и стойки гудели и вибрировали, как струны арфы, но я испытывал торжество, видя, как, несмотря на дикую тряску и швыряние из стороны в сторону, машина оставалась победительницей Природы и любимицей неба. Без сомнения, есть нечто божественное и в само́м человеке, если он способен так высоко подняться над пределом, поставленным ему самим Создателем, руководствуясь при этом таким бескорыстным героическим призванием как покорение воздушного пространства. Вот и говорите после этого о вырождении человечества! Есть ли в анналах истории что-либо сравнимое с этим?
Такие мысли бродили у меня в голове тем утром, пока я взбирался все выше в небо по необъятной наклонной воздушной плоскости и ветер то бил мне в лицо, то свистел за спиной, а страна облаков уносилась вниз так далеко, что ее серебряные складки и возвышенности сглаживались до плоской сияющей равнины. Но вдруг я испытал нечто ужасное, чего не испытывал никогда прежде. Мне уже доводилось попадать в то, что наши соседи-французы называют tourbillon[14], но чтобы он был такой силы – никогда. Гигантский, все сметающий на своем пути поток ветра, о котором я говорю, изобиловал водоворотами, столь же грозными, как и он сам. Я опомниться не успел, как был втянут в самое жерло одного из них. Минуту или две меня вертело с такой скоростью, что я почти лишился сознания, а потом вмиг провалился левым крылом вперед в безвоздушный тоннель в горловине воронки. Я падал камнем и потерял почти триста метров высоты. Лишь благодаря пристегнутому ремню мне удалось не выпасть из самолета; задохнувшись, в состоянии шока, почти лишившись чувств, я висел на нем с внешней стороны фюзеляжа. Но я в любом состоянии способен приложить сверхусилие – это, пожалуй, единственное мое достоинство как авиатора. Вскоре я почувствовал, что скорость падения замедляется. Водоворот имел, скорее, форму конуса, чем тоннеля, и в конце концов я достиг его нижней точки. Невероятным усилием я извернулся, перебросил тяжесть тела через борт, выровнял машину и отвернул ее нос от ветряного вихря. Через мгновение меня вытолкнуло из водоворота и понесло вниз. А потом, потрясенный, но победивший, я задрал нос самолета и снова начал свой размеренный упорный подъем по спирали. Я сделал большую петлю, чтобы обойти опасный участок воронки, и вскоре оказался над ней в безопасности. В самом начале второго я был на высоте шести с половиной тысяч метров над уровнем моря. К своей великой радости, я уже поднялся над ураганом, и атмосфера становилась все спокойнее. С другой стороны, стало очень холодно, и я ощущал ту особую тошноту, которая возникает в разреженном воздухе. Я впервые открутил вентиль кислородной подушки и время от времени вдыхал спасительный газ, чувствуя, как он разливается по моим жилам, словно крепкий напиток, и ощущая нечто, сходное с опьянением. Ввинчиваясь вверх, в этот холодный неподвижный внешний мир, я пел и кричал от радости.
Мне было совершенно ясно, что Глейшер потерял, а Коксуэлл почти потерял сознание, когда в 1862 году они поднялись на воздушном шаре на высоту в девять тысяч метров, потому, что шар с предельной скоростью взлетал строго вертикально. Такой ужасной реакции организма можно избежать, если подниматься плавными кругами, с небольшим наклоном и давать организму возможность медленно, постепенно привыкать к уменьшающемуся атмосферному давлению. Сейчас, на такой же высоте, я даже без помощи кислородной подушки мог дышать, не испытывая особого недомогания. Тем не менее, холод был жуткий, термометр показывал ноль градусов по Фаренгейту[15]. В половине второго я находился почти в семи милях над поверхностью земли и неуклонно продолжал подъем. Однако выяснилось, что разреженный воздух значительно хуже держит крылья моего самолета, и, соответственно, угол подъема следовало существенно уменьшить. Мне уже было ясно, что даже при легком весе и сильном моторе «Пола Веронера» настанет момент, когда дальнейший подъем окажется невозможным. В дополнение ко всем бедам одна из свечей зажигания снова забарахлила, и мотор опять стал работать с перебоями. От предчувствия вероятности провала на сердце стало тяжело.
Примерно в это время я пережил чрезвычайно необычное ощущение. Что-то со свистом пронеслось мимо меня, оставляя позади дымный след, и взорвалось с громким шипящим звуком, выбросив вперед облако пара. С минуту я не мог даже представить себе, что это было, но потом вспомнил, что Землю постоянно бомбардируют метеориты и она едва ли была бы планетой, пригодной для жизни, если бы почти все они не обращались в пар в верхних слоях атмосферы. Вот еще одна опасность для человека на больших высотах – когда я приближался к отметке двенадцать тысяч метров, мимо меня пролетели еще два метеоритных камня. У меня не было сомнений, что на краю земной сферы риск столкновения с ними будет по-настоящему велик.
Стрелка барографа показывала двенадцать тысяч шестьсот метров, когда я понял, что дальнейший подъем невозможен. Физически я вполне мог перенести такое напряжение, но моя машина достигла предела. Разреженный воздух не обеспечивал надежной опоры крыльям, и при малейшем крене самолет скользил на крыло, плохо слушаясь управления. Вероятно, сохрани мотор полную мощность, еще метров триста мы могли бы одолеть, но два из десяти цилиндров вышли из строя, и он работал с перебоями. Если я еще не достиг зоны, к которой стремился, не видать мне ее в этом полете. Но что, если я уже достиг ее? Паря́ кругами, словно гигантский ястреб, на высоте в двенадцать тысяч метров, я предоставил моноплан самому себе, вооружился мангеймовским биноклем и тщательно осмотрел пространство вокруг. Небо было идеально чистым – ни намека на присутствие той опасности, которую я себе воображал.
Я уже сказал, что пари́л на месте кругами. Но вдруг меня осенило: нужно увеличивать диаметр этих кругов и немного смещать их центр. Если на земле охотник въезжает в джунгли, то в поисках дичи прочесывает их насквозь. Логический ход мысли привел меня к заключению, что воздушные джунгли, которые я себе представлял, расположены где-то над Уилтширом, то есть, к юго-западу от моего нынешнего местонахождения. Я ориентировался по солнцу, поскольку компас здесь был бесполезен, а земли не видно – только серебристая равнина облаков далеко внизу. Однако я вычислил направление с наибольшей возможной точностью и повел самолет в соответствии с ним. По моим соображениям, топлива мне должно было хватить максимум еще на час или около того, но я мог позволить себе израсходовать его до последней капли, поскольку к земле собирался спланировать одним виртуозным скольжением.
Внезапно у меня возникло какое-то новое ощущение. Воздух впереди утратил свою кристальную прозрачность. Он заполнился длинными рваными клочьями чего-то, что я мог сравнить только с очень легким сигаретным дымом. Этот «дым» закручивался кольцами и змеился вокруг, медленно колышась и сворачиваясь спиралями в ярком солнечном свете. Когда мой моноплан пролетел сквозь них, я ощутил масляный привкус на губах, а на деревянных деталях самолета образовалась жирная пленка. В атмосфере совершенно очевидно присутствовало какое-то неплотное органическое вещество. Нет, это не было нечто живое. Оно было бесформенным и рассеянным, как взвесь, простиралось на много квадратных акров[16] и заканчивалось вдали пустотой. Но не могло ли оно быть остаточным следом жизни? А еще вероятнее – пищей для жизни, какой-то монструозной формы жизни. Ведь питаются же киты-великаны ничтожным океанским планктоном. Я как раз обдумывал подобную вероятность, когда, подняв взгляд, увидел самое удивительное зрелище, когда-либо представавшее перед человеческим взором. Хватит ли мне слов описать его вам, хотя видел я его собственными глазами всего лишь в прошлый четверг?
Представьте себе медузу, какие летом плавают в наших морях, красивой формы, но огромных размеров – куда больше, насколько я могу судить, чем купол собора Святого Павла, – нежно-розовую, с тонкими зелеными прожилками. Плоть этого гигантского существа была настолько призрачной, что контуры ее едва вырисовывались на фоне темно-синего неба, и пульсировала ритмично и плавно. От «медузы» отходили два длинных свисающих зеленых щупальца, которые медленно качались вперед-назад, словно на волнах. Это ошеломляющее видение бесшумно, со сдержанным достоинством проплыло у меня над головой, легкое и хрупкое, как мыльный пузырь, и величаво продолжило свой путь.
Я уже наполовину развернул моноплан, чтобы понаблюдать, как удаляется это прекрасное существо, когда вдруг осознал, что нахожусь в гуще целой флотилии таких же существ разных размеров, однако ни одно из них не крупнее первого. Некоторые были совсем маленькими, но большинство – величиной со средний воздушный шар, и с такой же формой купола. Утонченностью текстуры и расцветки они напомнили мне изысканные образцы венецианского стекла. В их окрасках преобладали нежные оттенки розового и зеленого, и все они испускали радужное сияние, когда мерцающий солнечный свет пронизывал их изящные формы. Несколько сотен их проплыло мимо меня – волшебная эскадра необычных небесных кораблей, существ, чьи формы и субстанция настолько гармонировали с этими чистыми горними высотами, что невозможно было представить ничего столь же воздушно-нежного среди плотных земных зрительных образов.
Но вскоре мое внимание привлек новый феномен – воздушные змеи. Они были длинными и тонкими – причудливые кольца какой-то парообразной субстанции – и извивались так быстро, летали кругами с такой скоростью, что за ними невозможно было уследить. Некоторые из этих призрачных существ имели длину в шесть – девять метров, хотя я едва ли мог судить об их истинной длине или толщине, поскольку очертания их были так зыбки, что, казалось, тут же растворялись в окружающем воздухе. Окраска этих воздушных змей была светло-серых, или дымчатых тонов, с более темными полосками внутри, которые и создавали впечатление определенности формы. Одна из змей скользнула по моему лицу, и я почувствовал ее холодное и липкое прикосновение, но существа эти выглядели настолько бесплотно, что не вызывали ощущения физической опасности, так же, как и красивые колоколоподобные создания, им предшествовавшие. Плотности в них было не больше, чем в хлопьях пены от разбившейся о берег волны.
Но оказалось, что мне была уготована и более ужасная встреча. Откуда-то сверху на меня летело скопление багрового пара, поначалу небольшое, но стремительно увеличивавшееся по мере приближения, пока не достигло размера в десятки квадратных метров. Хотя состояло из какой-то прозрачной желеподобной субстанции, оно имело гораздо более определенные очертания и бо́льшую плотность, чем все, что я видел прежде, и в нем было больше признаков физической структуры, особенно выделялись два огромных темных диска по бокам, которые можно было принять за глаза, и явно твердый белый выступ между ними, хищно изогнутый наподобие ястребиного клюва.
Облик этого монстра в целом был грозным, наводил ужас и постоянно менял цвет от светло-лилового до темного, зловеще-багрового, настолько густого, что, проплывая перед моим монопланом, чудовище полностью заслонило от меня солнечный свет. На верхнем изгибе гигантского организма виднелись три огромные выпуклости, которые я мог сравнить лишь с колоссальными пузырями; вглядевшись в них, я был почти уверен, что они наполнены каким-то сверхлегким газом, поддерживавшим эту безобразную полутвердую массу в разреженном воздухе. Существо быстро поравнялось со мной и без малейшего труда полетело вровень с монопланом. Миль двадцать, а то и больше, оно составляло мой жуткий эскорт, нависая надо мной, словно стервятник над добычей, выжидающий момент броска. Способ его передвижения – за которым было непросто уследить из-за большой скорости – был таков: чудовище выбрасывало вперед длинное клейкое подобие языка, который, в свою очередь, казалось, подтягивал за собой корчащееся тело. Оно было таким эластичным и студенистым, что даже в пределах двух минут не сохраняло одной и той же формы, и с каждой переменой становилось все более устрашающим и омерзительным.
Я понимал, что мне грозит беда, в этом убеждала меня каждая новая багряная вспышка этого безобразного существа. Липкий взгляд выпученных мутных глаз, неотрывно следивших за мной, был холоден, безжалостен и исполнен ненависти. Чтобы избежать его, я направил вниз нос своей машины. Но не успел я совершить этот маневр, как с быстротой молнии из массы плавучего студня выстрелило длинное, гибкое, словно кнут, щупальце, и хлестнуло по передней части фюзеляжа. Коснувшись раскаленного над мотором капота, щупальце снова взлетело в воздух; гигантское плоское тело сжалось, как будто от резкой боли, и издало громкое шипение. Я бросил машину в пике́, но щупальце снова обвило моноплан, и было рассечено пропеллером легко, словно лопасти прошли сквозь кольцо дыма. Но другое длинное липкое змееподобное щупальце обхватило меня сзади вокруг талии и потащило из кабины. Я отодрал его от себя, увязая пальцами в его гладкой клейкой поверхности, и на миг освободился, однако в тот же момент еще одно щупальце схватило меня за ногу, я дернулся и едва не повалился на спину, но, падая, выстрелил из обоих своих стволов, хотя полагать, что человеческое оружие может причинить вред такой туше, было все равно что палить в слона из детского пугача.
Тем не менее, выстрел мой оказался неожиданно удачным: с громким хлопком один из гигантских пузырей на спине существа, пробитый дробью, лопнул. Подтвердилась моя догадка о том, что эти обширные прозрачные пузыри были надуты газом легче воздуха, потому что почти сразу же похожее на облако огромное существо накренилось и стало отчаянно извиваться в поисках равновесия, щелкая в бессильной ярости хищным белым клювом. Но я уже стремглав, как каменный метеорит, несся прочь, максимально, насколько только мог себе позволить, направив самолет вниз; работавший на полную мощность мотор, бешено вращавшийся пропеллер и сила земного притяжения сообщали машине скорость, равную скорости выпущенной из ствола пули. Далеко позади себя я видел тусклое багровое пятно, быстро уменьшавшееся в размерах и таявшее в синем небе. Мне удалось живым вырваться из гибельных небесных джунглей.
Оказавшись вне опасности, я приглушил мотор, потому что ничто не способно разорвать самолет на куски быстрее, чем спуск с высоты на полной мощности. Это был великолепный планирующий полет с почти восьмимильной высоты: сначала до уровня серебристой гряды облаков, потом – до грозовых туч под нею и наконец – сквозь секущий ливень, к поверхности земли. Прорвавшись через слой туч, я увидел внизу Бристольский залив, но, имея в баке еще какое-то количество топлива, пролетел еще миль двадцать над сушей, пока вынужденно не сел на поле в полумиле от деревни Ашкомб. Там я позаимствовал три жестянки топлива у водителя проезжавшей мимо машины и в десять минут седьмого того же дня плавно приземлился на родном летном поле в Девайзе, совершив полет, о каком ни один смертный, кроме меня, не мог рассказать, поскольку ни один не выжил после него. Я же увидел красоту и ужас небес, еще остающиеся за пределами человеческого познания.
И теперь я замыслил совершить такой полет еще раз, прежде чем поведаю миру о своих наблюдениях. Причина в том, что мне необходимо предъявить коллегам что-нибудь в подтверждение своего будущего рассказа. Да, скоро и другие последуют за мной и подтвердят достоверность моих наблюдений, тем не менее, я считаю необходимым с самого начала иметь доказательства. Тех очаровательных переливающихся воздушных пузырей поймать будет нетрудно. Плавают они медленно, и юркому моноплану ничего не будет стоить перехватить одного из них на их неторопливом пути. Вполне вероятно, что они растворятся в нижних слоях атмосферы и мне удастся довезти до земли лишь бесформенную кучку студенистого вещества. Но и в ней, безусловно, будет нечто, что подкрепит мой рассказ. Да, я полечу, несмотря на то, что это очень рискованно. Похоже, что тех багровых чудовищ не много. А возможно, на этот раз я ни одного и не встречу. А если встречу, тут же нырну вниз. На худший случай со мной будет мое ружье, и я теперь знаю, куда…»
Здесь, к сожалению, не хватает страницы. На следующей крупным корявым почерком написано:
«Тринадцать тысяч метров. Я больше никогда не увижу землю. Они подо мной – сразу три. Помоги мне, Боже! Какая ужасная смерть!»
Вот все, что осталось от «Записок» Джойса-Арм-стронга, человека, которого с тех пор никто не видел. Обломки его разбившегося моноплана были найдены во владениях мистера Бадд-Лашингтона, на границе между Кентом и Сассексом, в нескольких милях от того места, где обнаружили и его дневник. Если теория несчастного летчика о существовании воздушных джунглей, как он их называл, верна и они действительно располагаются над юго-западом Англии, значит, он спасался из них на предельной скорости своего моноплана, но в какой-то момент был перехвачен и сожран этими жуткими существами в верхних слоях атмосферы над тем местом, где были найдены эти скорбные останки. Картина самолета, пикирующего к земле, но отсеченного от нее безымянными чудовищами, летящими под ним и постепенно смыкающими ловушку вокруг своей жертвы, – не из тех, над которыми захочет размышлять человек, берегущий свое психическое здоровье. Уверен, что многие по-прежнему высмеивают факты, которые я здесь изложил, но даже они должны признать, что Джойс-Армстронг исчез, и я рекомендую им вспомнить его собственные слова: «…этот дневник, возможно, объяснит, что́ я пытался сделать и как погиб, делая это. Только прошу: не надо нести вздор насчет несчастных случаев или каких-то там тайн».
Ричард Матесон Кошмар на высоте 6000 метров
Не самая ли это страшная из когда-либо написанных историй о боязни полетов? Весьма вероятно. Я не призываю вас уподобляться Роду Серлингу[17], но вспомните мысль, возникшую у Артура Джеффри Уилсона в момент взлета DC-7[18], пассажиром которого он являлся: «И вот он… на высоте шести тысяч метров над землей, заключенный в ревущую оболочку смерти». Впервые рассказ был напечатан в 1961 году, когда на пассажирских рейсах еще можно было курить и даже провозить пистолет в ручной клади. «Кошмар» балансирует на острие между двумя вероятностями: либо у мистера Уилсона вызванный страхом нервный срыв, либо за иллюминатором, на крыле, действительно сидит уродливое нечто, пытающееся обрушить самолет. В любом случае вы находитесь внутри, совершая весьма неприятный полет. На всякий случай затяните потуже ваш ремень безопасности.
– Пристегните ремень, пожалуйста, – бодро сказала стюардесса, проходя мимо него.
Почти в тот самый момент, когда она это произнесла, на табло над аркой, ведущей в носовой отсек, загорелась надпись: «ПРИСТЕГНУТЬ РЕМНИ», а под ней – сопутствующее предупреждение: «НЕ КУРИТЬ». Набрав полные легкие дыма, Уилсон выдохнул его толчками и погасил сигарету, раздраженно потыкав ею в пепельницу в подлокотнике.
Снаружи один из двигателей зверски кашлянул, изрыгнув облако дыма, рассеявшееся в ночном воздухе. Фюзеляж задрожал, и Уилсон, взглянув в иллюминатор, увидел языки белого пламени, вырывающиеся из гондолы двигателя. Второй двигатель тоже закашлялся, взревел, и его винт, завертевшись, превратился в размытое пятно. Пересилив себя, Уилсон затянул ремень.
Теперь все двигатели работали, и голова Уилсона тряслась в такт с фюзеляжем, пока DC-7 выруливал на бетонную площадку, раскаляя ночь своими ревущими выхлопами.
В конце рулежной дорожки самолет остановился. Уилсон посмотрел в иллюминатор на сверкающую громадину терминала. К концу утра, подумал он, приняв душ и чисто одетый, я буду сидеть в кабинете очередного партнера, обсуждая очередное великое дело, конечный результат которого ровным счетом ничего не прибавит к истории человечества. Черт бы побрал все это…
У Уилсона перехватило дыхание, когда начался разогрев двигателей перед взлетом. И без того громкий рев стал оглушительным – звуковые волны обрушивались на Уилсона, словно удары битой. Он открыл рот, будто хотел дать выход этому невыносимому давлению. Глаза его заблестели, как у человека, испытывающего мучительную боль, пальцы впились в подлокотники, словно звериные когти.
Он испуганно вздрогнул, поджав ноги, и в этот момент почувствовал на плече прикосновение чьей-то руки. Дернув головой в сторону, он увидел стюардессу, встречавшую его при посадке. Она улыбалась, глядя на него сверху вниз.
– У вас все в порядке?
Уилсон едва разобрал ее слова. Сжав губы, он помахал рукой, словно хотел ее отогнать. Улыбка стюардессы вспыхнула избыточной бодростью, но погасла, как только она отвернулась и двинулась дальше.
Самолет начал разбег. Сначала вяло, словно бегемот, с трудом несущий свой вес, потом чуть быстрее, преодолевая тормозящее трение. Повернув голову к окну, Уилсон видел темную взлетную полосу, проносящуюся мимо все быстрее и быстрее. Когда опустились закрылки, на конце крыла возникло какое-то механическое завывание. А потом, незаметно, гигантские колеса утратили контакт с землей, и она начала медленно уходить вниз. Под крылом мелькали деревья и дома, ртутные капли автомобильных фар растягивались в стремительные серебряные дротики. «Дуглас» медленно накренился вправо, одновременно подтягивая себя вверх, к морозному мерцанию звезд.
Наконец он выровнялся, и, как показалось, двигатели смолкли, пока, прислушавшись, Уилсон не уловил их мерный рокот на крейсерской скорости. На миг он почувствовал облегчение, его мышцы расслабились, пришло ощущение спокойствия. Но оно тут же и ушло. Уилсон сидел неподвижно, глядя на табло «НЕ КУРИТЬ», пока оно не погасло, и сразу же зажег сигарету. Достав газету из кармашка в спинке переднего кресла, он развернул ее.
Как обычно, мир пребывал в состоянии, близком к нынешнему уилсоновскому. Трения в дипломатических кругах, землетрясения и стрельба, убийства, изнасилования, торнадо и автокатастрофы, деловые конфликты, гангстерство. «Бог в своих небесах – и в порядке мир»[19], – вспомнил Артур Джеффри Уилсон.
Спустя четверть часа он отбросил газету. Ощущение в желудке было ужасным. Он посмотрел на табло рядом с двумя туалетами. На обоих значилось: «ЗАНЯТО». Он загасил третью с момента взлета сигарету, выключил индивидуальную лампочку над головой и уставился в иллюминатор.
В салоне пассажиры уже гасили свои лампочки и, откидывая спинки кресел, устраивались на ночлег. Уилсон посмотрел на часы. Двадцать минут двенадцатого. Он устало вздохнул. Как он и ожидал, таблетки, которые он принял перед посадкой, ничуть не подействовали.
Как только из одного туалета вышла женщина, он резко встал, схватил свою сумку и начал пробираться по проходу.
Его организм, опять же как он и ожидал, не желал сотрудничать. Уилсон встал с унитаза с тяжелым стоном и привел в порядок одежду. Вымыв руки и лицо, он достал из сумки туалетные принадлежности и выдавил на зубную щетку полоску пасты.
Чистя зубы и для устойчивости держась другой рукой за холодную переборку, он посмотрел в иллюминатор. В нескольких футах от себя он увидел бледно-голубой внутренний воздушный винт и представил, что будет, если винт оторвется и, словно тесак с тремя лезвиями, врежется в него.
Желудок сразу провалился куда-то вниз. Уилсон инстинктивно сглотнул, в горло попала слюна, смешанная с зубной пастой. Подавившись, он повернулся и сплюнул в раковину, потом поспешно прополоскал рот и выпил глоток воды. Господи, если бы можно было ехать на поезде – сидел бы он сейчас в своем купе, время от времени ходил бы в вагон-бар, садился бы на свободный стул и выпивал бы, читая журнал. Но такое счастье, увы, ему не дано.
Он уже хотел было убрать туалетные принадлежности, когда его взгляд упал на клеенчатый сверток, лежавший в сумке. Поколебавшись, он поставил несессер на раковину, достал сверток, сел на унитаз, опустив крышку, и развернул его на колене.
Он сидел, уставившись на блестящий пистолет с симметричными формами. Уилсон возил его с собой уже почти год. Изначально приобрести его он решил потому, что ему приходилось возить деньги, – для защиты от подростковых банд, орудовавших в городах, которые ему приходилось посещать. Однако подспудно он всегда знал, что настоящая причина – только одна. Причина, о которой он думал с каждым днем все больше. Как было бы просто… прямо здесь, сейчас…
Уилсон закрыл глаза и судорожно сглотнул. Во рту еще сохранялся налет зубной пасты, рецепторы ощущали ее ментоловый привкус. Грузно обмякнув, он сидел в вибрирующем холоде туалетной кабинки, держа в руке смазанный пистолет, пока, совершенно неожиданно, его не начала бить непроизвольная дрожь. «Господи, отпусти меня!» – внезапно раздалось у него в мозгу.
«Отпусти меня, отпусти меня», – едва различимо звучало в ушах.
Уилсон резко выпрямился. Сжав губы, он снова завернул пистолет, сунул его в сумку, положил сверху несессер и застегнул молнию. Встав, открыл дверь, вышел из кабинки, поспешно проследовал к своему креслу и сел, аккуратно засунув под него сумку. Потом вдавил кнопку на подлокотнике и откинул спинку. Он был бизнесменом, и завтра ему предстояло важное дело. Все просто. Организм нуждается в сне, и он обязан его ему предоставить.
Спустя двадцать минут Уилсон медленно протянул руку и снова нажал на кнопку, возвращая спинку кресла в вертикальное положение. На лице его застыло обреченное выражение. К чему себя мучить? – подумал он. Очевидно, что заснуть он не сможет. Так тому и быть.
Разгадав половину кроссворда, Уилсон уронил его на колени. У него устали глаза. Он круговым движением поводил плечами, размял мышцы спины. И что теперь? Читать ему не хотелось, спать он не мог. А до Лос-Анджелеса оставалось – он сверился с часами – еще семь-восемь часов лёта. Как их убить? Окинув взглядом салон, он увидел, что все пассажиры, за исключением одного, сидевшего в переднем ряду, спят.
На него вдруг накатила жуткая ярость, ему захотелось крикнуть, швырнуть что-нибудь, ударить кого-нибудь. Он так бешено стиснул зубы, что стало больно челюстям. Резко отодвинув шторку иллюминатора, он ожесточенно уставился в него.
Снаружи виднелись перемежающиеся огни световых горизонтов на конце крыла, бледные сполохи выхлопов, вылетающих из-под капота двигателя. «И вот он… на высоте шести тысяч метров над землей, заточенный в ревущую оболочку смерти, несущийся сквозь полярную ночь к…» – подумал Уилсон.
Вдали блеснула молния, осветив крыло самолета фальшивым дневным светом. Уилсона передернуло, он с трудом сглотнул. Начинается гроза? Мысль о дожде, густой облачности, о самолете, словно щепка, болтающемся в небесном море, была неприятна. Уилсон плохо переносил полеты. От избыточности движения ему становилось нехорошо. Может, принять еще несколько таблеток драмамина, чтобы успокоиться? Его место – естественно! – находилось рядом с аварийным выходом. А что, если дверь случайно откроется? Его засосет в нее и вытолкнет из самолета. Он представил себе, как с душераздирающим криком летит вниз.
Уилсон моргнул и тряхнул головой. Прижавшись к стеклу иллюминатора и уставившись вдаль, он почувствовал легкое покалывание в затылке. Не двигаясь, скосил взгляд. Он мог поклясться, что…
Вдруг его желудок болезненно сжался, взгляд устремился вперед. Что-то ползло по крылу самолета.
Уилсон ощутил тошнотворную дрожь в животе. Боже милостивый, неужели какая-то собака или кошка забралась на самолет перед взлетом и каким-то чудесным образом смогла удержаться на нем? От этой мысли его затошнило. Бедное животное с ума сойдет от страха. Но за что можно было зацепиться на гладкой, бешено обдуваемой поверхности крыла? Конечно же, это невозможно. Наверное, это просто птица или…
Снова вспыхнула молния, и Уилсон увидел, что это был человек.
Уилсон замер, не в состоянии пошевелиться. В оцепенении он наблюдал за черной фигурой, ползущей по крылу. Этого не может быть, звучал где-то внутри голос, окутанный множеством слоев ужаса, но Уилсон его не слышал. Он ощущал лишь, как титанически, на разрыв колотится его сердце, и видел лишь человека там, снаружи.
И вдруг, словно его окатили ледяной водой, последовала реакция: его мозг стал лихорадочно искать рациональное объяснение. Механик наземной службы из-за чудовищного недосмотра остался на крыле после взлета, и ему удалось удержаться, даже несмотря на ветер, сорвавший с него одежду, даже несмотря на разреженный воздух и температуру, близкую к точке замерзания.
Уилсон не дал себе времени на сомнения. Вскочив на ноги, он закричал:
– Стюардесса! Стюардесса! – Его голос разнесся по салону гулким звенящим эхом. Уилсон вонзил палец в кнопку вызова бортпроводника. – Стюардесса!
Она бежала по проходу, на лице ее была написана тревога, но, увидев выражение его лица, застыла на месте.
– Там человек! Человек! – кричал Уилсон.
– Что?! – Вокруг глаз стюардессы собрались морщинки.
– Посмотрите! Посмотрите! – Руки Уилсона дрожали. Он плюхнулся в кресло, указывая пальцем в иллюминатор. – Он ползет по…
Закончить он не смог, из его горла вырвался лишь какой-то треск: на крыле самолета никого не было.
Уилсон дрожал. Прежде чем обернуться, он некоторое время смотрел на отражение стюардессы в стекле иллюминатора. Озадаченное выражение не сходило с ее лица.
Наконец он повернулся и, взглянув на нее, увидел, что ее накрашенные губы полураскрыты, словно она собиралась что-то сказать, но передумала. Потом она закрыла рот, сглотнула и попыталась улыбнуться, на миг ее лицо разгладилось.
– Простите, – сказал Уилсон. – Наверное, это было что-то…
Он замолчал, словно уже закончил фразу. Девочка-подросток, сидевшая через проход, уставилась на него с сонным любопытством.
Стюардесса откашлялась.
– Принести вам что-нибудь? – спросила она.
– Стакан воды, – попросил Уилсон.
Стюардесса развернулась и двинулась по проходу.
Уилсон сделал глубокий вдох и отвернулся от внимательного взгляда девочки. Он чувствовал себя все так же, и это поразило его больше всего. Куда же делись видения, крики, сжимание висков, вырывание волос?
Он резко закрыл глаза. Там был человек, думал он. Там определенно был человек. Вот почему он так встревожился. И тем не менее его там быть не могло. В этом он отдавал себе полный отчет.
Не открывая глаз, Уилсон сидел, размышляя о том, что бы делала сейчас Жаклин, если бы была рядом. Молчала бы, онемев от ужаса? Или в своей более привычной манере порхала бы вокруг него, улыбалась, болтала, притворяясь, будто ничего не видела? И что подумали бы его сыновья? Уилсон почувствовал, как в груди у него зарождается рыдание. О господи…
– Ваша вода, сэр.
Резко дернувшись от неожиданности, Уилсон открыл глаза.
– Принести вам одеяло? – поинтересовалась стюардесса.
– Нет. – Он покачал головой и добавил: «Спасибо», сам удивляясь, почему так вежлив.
– Если вам что-нибудь понадобится, просто нажмите кнопку вызова.
Уилсон кивнул.
Не притронувшись к воде, он некоторое время спустя услышал за спиной приглушенные голоса стюардессы и одного из пассажиров. Уилсон напрягся от негодования, резко наклонился, постаравшись тем не менее не расплескать воду, вытащил из-под кресла сумку, достал из коробки со снотворным две пилюли и проглотил их, запив водой. Потом скомкал пластмассовый стаканчик и запихнул его в карман на спинке переднего кресла, после чего, не глядя, задернул шторку. Все, хватит. Одна галлюцинация – это еще не безумие.
Он перевернулся на правую сторону и постарался не замечать ритмичного подрагивания самолета. Забыть обо всем – это важнее всего. Не надо об этом думать. Неожиданно он почувствовал, как его губы складываются в кривую ухмылку. Что ж, по крайней мере, никто не сможет упрекнуть его в будничности виде́ния. Его галлюцинация была фантастически роскошной. Голый человек, ползущий по крылу «Дугласа» на высоте шести тысяч метров, – такая химера достойна благороднейшего из безумцев.
Юмористический настрой Уилсона, однако, быстро иссяк. Ему стало холодно. Все было так живо, так отчетливо! Как глаза могут видеть то, чего не существует? Как нечто, рожденное в мозгу, может заставить зрение столь реально работать на себя? Он не был в дурмане, в полубессознательном состоянии, и виде́ние не было бесформенным, призрачным. Оно было отчетливо трехмерным, точно таким же, как все, что он видел вокруг себя и что точно было реальным. Вот это-то и пугало больше всего. В той фигуре не было совершенно ничего призрачного. Он просто взглянул на крыло и…
Уилсон инстинктивно отдернул шторку.
В тот миг он не смог бы сказать, жив ли еще. У него было такое ощущение, словно все содержимое его живота и грудной клетки мгновенно и чудовищно вспучилось и протиснулось в горло и голову, перекрыв дыхание, выдавливая глаза изнутри. Стиснутое этой раздувшейся массой сердце пульсировало так, будто пыталось вырваться из своей оболочки. Уилсон замер, как парализованный.
Всего в каких-нибудь нескольких дюймах, отделенный лишь толщиной стекла, на него уставился тот самый человек.
У него было невероятно злобное, нечеловеческое лицо: грубая грязная кожа с крупными порами, расплющенный нос – какая-то бесцветная шишка, деформированные потрескавшиеся губы, которые не смыкались из-за выпирающих неимоверно больших и кривых зубов, глаза маленькие, глубоко утопленные, немигающие. И все это – в обрамлении косматых, спутавшихся волос, которые торчали густыми пучками даже из ушей и свисавшего птичьим клювом носа и покрывали все щеки.
Уилсон сидел в кресле, как громом пораженный, неспособный ни на какую реакцию. Время остановилось и утратило свое значение. Функции организма и мыслительная деятельность замерли. Потрясение сковало его льдом. Только бешеная скачка сердца продолжалась в темноте. Уилсон не мог даже моргнуть. Не дыша, он отвечал безжизненным взглядом на отсутствующий взгляд существа за окном.
Наконец он решительно закрыл глаза, и его мозг, избавившись от зрительного образа, вырвался на свободу. Его там нет, попытался убедить себя Уилсон. Он стиснул зубы, дыхание трепетало у него в ноздрях. Его там нет, его там просто нет.
Вцепившись в подлокотники побелевшими пальцами, Уилсон взял себя в руки. Никакого человека снаружи нет, сказал он себе. Это просто невозможно, чтобы кто-то, скрючившись, сидел на крыле летящего самолета и смотрел на него.
Он снова открыл глаза… и тут же вжался в сиденье, судорожно ловя ртом воздух. Человек не только оставался на месте – он ухмылялся. Уилсон сжал кулаки и вонзил ногти в ладони, пока не почувствовал боль и не убедился, что эта боль полностью отрезвила его.
Потом он медленно протянул дрожащую руку и нажал кнопку вызова бортпроводницы. Он не собирался повторять свою ошибку – кричать, вскакивать на ноги и тем самым спугивать существо за бортом. Он сидел прямо, хоть и дрожал от ужаса, потому что человек продолжал наблюдать за ним и его маленькие глазки двигались вслед за движением руки Уилсона.
Уилсон осторожно нажал на кнопку раз, потом другой. «Ну, иди же сюда, – мысленно призывал он. – Иди и непредвзятым взглядом посмотри на то, что вижу я, – только поторопись».
Он услышал, как в глубине салона отодвинулась занавеска, и его тело напряглось. Человек повернул свою чудовищную голову в направлении звука. Парализованный страхом, Уилсон не сводил с него глаз. «Ну же, скорее, – думал он. – Ради бога, скорее сюда!»
Все закончилось в одну секунду. Человек снова перевел взгляд на Уилсона, его губы искривила коварная улыбка. Потом он подпрыгнул и исчез.
– Да, сэр?
На миг Уилсону показалось, что он действительно сошел с ума. Его взгляд метался от того места, где только что был человек, к вопрошающему лицу стюардессы и обратно. В глазах плескалось смятение.
– Что случилось? – спросила стюардесса.
Именно выражение ее лица приводило его в растерянность. Уилсон постарался сдержать эмоции, но в следующий момент пришло осознание: она все равно ему не поверит.
– Я… простите, – пролепетал он. Во рту у него так пересохло, что, когда он попытался проглотить стоявший в горле ком, раздался щелкающий звук. – Ничего. Извините меня.
Стюардесса явно не знала, что сказать. Она стояла, чуть покачиваясь, чтобы сохранять равновесие при колебании самолета, одной рукой держась за спинку соседнего кресла, другой вяло водя вдоль бокового шва своей юбки. Она слегка приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но не находила слов.
– Тогда… – произнесла она наконец и кашлянула. – Если вам… что-нибудь понадобится…
– Да-да. Спасибо. Мы… летим на грозу?
Стюардесса поспешно улыбнулась:
– Небольшую. Не о чем беспокоиться.
Уилсон судорожно кивнул и, когда она повернулась, чтобы уйти, вдохнул так лихорадочно, что у него затрепетали ноздри. Он не сомневался, что она уже записала его в сумасшедшие, но не знала, что делать, потому что в программе ее обучения не было инструкций, как обращаться с пассажирами, которым кажется, что они видят человечков, скрючившихся на крыле самолета.
Кажется?
Уилсон резко повернул голову и посмотрел в иллюминатор, увидел темный скат крыла, извергающуюся струю выхлопа, мигающие аэронавигационные огни на конце крыла. Но он видел человека – в этом он был готов поклясться. Как он мог быть уверен в реальности всего окружающего, если, будучи во всех отношениях совершенно здоровым человеком, все же представляет себе нечто подобное? Что это за логика, поддаваясь которой мозг не искажает всю реальность, а лишь встраивает в нее один инородный образ, сохраняющий безупречную цельность всех своих деталей?
Нет, это совершенно не логично.
Вдруг Уилсон вспомнил, как во время войны газеты писали о предполагаемом существовании неких летающих существ, которые изводили в небе пилотов авиации союзников. Их называли гремлинами – злыми гномами, приносящими летчику неудачу. Интересно, они действительно существовали? Может, они на самом деле живут здесь, наверху, никогда не опускаясь на землю, летают верхом на ветрах и, обладая массой и весом, не подвержены закону гравитации?
Пока он так размышлял, человек появился снова.
Только что крыло было пустым – и вот уже, разбрасывая вокруг себя искры, на его плоскость прыгает человечек. Удара не было слышно. Он приземлился легко, размахивая для равновесия короткими волосатыми руками. Уилсон напрягся. Да, во взгляде человека – но можно ли назвать это существо человеком? – была осмысленность, он понимал, что играет с Уилсоном, заставляя того напрасно вызывать стюардессу. Уилсон почувствовал, что дрожит от страха. Как убедить других в существовании этого человека? Он в отчаянии огляделся вокруг. Девочка, сидящая через проход! Если разбудить ее и поговорить с ней мягко, спокойно, сможет ли она?..
Нет, человечек исчезнет прежде, чем она сможет его увидеть. Вероятно, запрыгнет на фюзеляж, где будет вне поля зрения для всех, даже для пилотов в кабине. Уилсон почувствовал прилив злости на самого себя за то, что не взял камеру, которую просил привезти Уолтер. «Господи, – подумал он, – я бы мог его сфотографировать».
Он приблизил голову к са́мому иллюминатору. Что там делает человечек? Внезапно молния выбелила крыло, тьма расступилась, и Уилсон увидел, как тот, словно любопытный ребенок, сидит на корточках на краю крыла и правой рукой тянется к одному из вращающихся винтов.
Потрясенный, Уилсон завороженно следил за человечком, чья рука тянулась все ближе и ближе к размытому пятну круговращения, пока он вдруг не отдернул ее и его губы не округлились в беззвучном крике боли. «Ему отрезало палец!» – подумал Уилсон и ощутил тошноту. Но человечек сразу же снова потянулся к винту шишковатым пальцем – ни дать ни взять безобразный младенец, пытающийся поймать вращающуюся лопасть вентилятора.
Не будь все это столь чудовищно неуместно, картинка могла бы показаться забавной, потому что, если отрешиться от обстоятельств, человечек в этот момент представлял собой комическое зрелище, словно оживший сказочный тролль: ветер рвет волосы у него на голове и на теле, а он полностью сосредоточен на вращении винта. Разве такое придумаешь? Уилсону вдруг пришло в голову: а какие последствия этот жуткий маленький фарс может возыметь для него лично?
Он продолжал наблюдать, а человечек снова и снова тянулся к винту, снова и снова отдергивал руку, иногда засовывал пальцы в рот, будто пытаясь их охладить. И постоянно оглядывался через плечо, чтобы проверить, смотрит ли на него Уилсон. «Он знает, что это некая игра между нами. Но стоит мне позвать кого-нибудь еще, как он тут же исчезнет. Если я – единственный свидетель, значит, он победил в этой игре». Ощущение забавности происходящего рассеялось. Уилсон стиснул зубы. Какого черта пилоты ничего не видят?!
Теперь, утратив интерес к винту, человечек уселся верхом на кожух двигателя, словно оседлал брыкающегося коня. Уилсон не сводил с него глаз. Вдруг человечек начал ногтями отковыривать пластину с обшивки двигателя.
Непроизвольно рука Уилсона потянулась к кнопке, и он нажал ее. В глубине салона послышались шаги, и на миг ему показалось, что он обманул-таки человечка, который, судя по всему, был полностью поглощен своим занятием. Однако в последний момент, как раз перед тем как стюардесса приблизилась к креслу Уилсона, человечек поднял голову, посмотрел на него и сразу же, словно марионетка, которую поддернули за веревочку, взлетел в воздух.
– Да? – Стюардесса опасливо смотрела на Уилсона.
– Не могли бы вы присесть? Пожалуйста, – попросил он.
Девушка колебалась.
– Видите ли, я, я не…
– Прошу вас.
Она осторожно присела в соседнее кресло и спросила:
– Что случилось, мистер Уилсон?
Он собрался с духом.
– Этот человек все еще там, снаружи.
Стюардесса недоверчиво уставилась на него.
– Я говорю вам это потому, – поспешно продолжил Уилсон, – что он начал портить один из двигателей.
Она инстинктивно перевела взгляд на иллюминатор.
– Нет-нет, не смотрите, – предупредил он. – Сейчас его там нет. – Он прочистил горло. – Он… удирает каждый раз, когда вы подходите.
Его вдруг затошнило при мысли о том, что́ она должна о нем думать. А когда он представил себе, что подумал бы сам, если бы кто-то рассказал ему подобную историю, – у него закружилась голова. Я действительно схожу с ума!
– В этом все дело, – сказал он, гоня от себя мысль о сумасшествии. – Мне все это не померещилось, самолет в опасности.
– Да, – неопределенно произнесла она.
– Я знаю, вы считаете, что я повредился рассудком.
– Конечно, нет, – ответила стюардесса.
– Единственное, о чем я прошу, – сказал он, стараясь подавить поднимающуюся в нем волну гнева, – передайте пилотам то, что я вам сообщил. Попросите их, чтобы они не сводили глаз с крыльев. Если они ничего не увидят – хорошо. Но если увидят…
Стюардесса сидела тихо, неотрывно глядя на него. Руки Уилсона сжались в кулаки и дрожали, лежа на коленях.
– Ну? – спросил он.
Она встала.
– Хорошо, я им передам.
Она двинулась по проходу какой-то неестественной походкой – слишком быстрой для нормальной ситуации, но явно сдерживаемой, чтобы ему не показалось, что она спасается бегством. Когда он снова посмотрел в окно, у него свело желудок.
Человечек появился опять, теперь он опустился на крыло в прыжке, как некий гротескный балетный персонаж. Уилсон увидел, что он снова принялся за работу: широко расставив босые ноги и балансируя на обшивке двигателя, продолжил отковыривать пластину.
Да что это я так всполошился? – подумал Уилсон. Это несчастное существо не сможет отодрать заклепки ногтями. В сущности, не важно, увидят его пилоты или нет, в конце концов, безопасности самолета он навредить не сможет. Что же касается его личных мотивов…
Как раз в этот момент человечек приподнял край одной пластины.
Уилсон чуть не задохнулся.
– Сюда, быстрее! – закричал он и увидел, как из кабины экипажа выбегают стюардесса и пилот, который быстрым взглядом окинул салон в поисках Уилсона, а потом бросился к нему по проходу, обогнав стюардессу.
– Быстрее! – кричал Уилсон. Повернув голову к окну, он успел заметить, как человечек взмыл вверх. Но теперь это не имело значения. Теперь у Уилсона была улика.
– Что происходит? – спросил пилот, запыхавшись.
– Он отодрал одну пластину от кожуха двигателя, – дрожащим голосом сообщил Уилсон.
– Он – это кто?
– Человек там, снаружи! – пояснил Уилсон. – Говорю вам, он…
– Мистер Уилсон, не кричите так, пожалуйста! – приказал пилот, и Уилсон даже приоткрыл рот. – Я не знаю, что здесь происходит, но…
– Да вы посмотрите! – выкрикнул Уилсон.
– Мистер Уилсон, я вас предупреждаю.
– Ради бога! – Уилсон поспешно сглотнул, стараясь подавить гнев, который душил его. Откинувшись на спинку кресла, он трясущейся рукой указал на окно. – Да посмотрите же вы, бога ради!
Взволнованно дыша, пилот перегнулся через кресло. Секунду спустя его холодный взгляд снова устремился на Уилсона.
– И что? – спросил он.
Уилсон обернулся к иллюминатору. Все панели были на месте.
– Но постойте, – сказал он, прежде чем новая волна ужаса накрыла его. – Я видел, как он оторвал вон ту панель.
– Мистер Уилсон, если вы не прекратите…
– Говорю вам: я видел, как он ее оторвал, – не сдавался Уилсон.
Пилот смотрел на него тем же непонимающим взглядом, каким до того смотрела стюардесса. Уилсон поежился.
– Послушайте, я его видел! – крикнул он. Голос у него неожиданно сорвался, и это его напугало.
Секунду спустя пилот сидел в кресле рядом с ним.
– Мистер Уилсон, прошу вас, – сказал он. – Ну ладно, вы его видели. Но на борту кроме вас есть ведь и другие люди. Мы не должны их пугать.
Уилсон был так потрясен, что поначалу ничего не понял.
– Вы… хотите сказать, что тоже его видели? – спросил он.
– Разумеется, – ответил пилот, – но мы не должны пугать пассажиров. Вы же понимаете.
– Конечно, конечно. Я не хочу… – Уилсон почувствовал, как внизу живота затягивается узел. Он оборвал фразу, сжал губы и злобно посмотрел на пилота. – Я понял.
– Мы всегда должны помнить… – начал было пилот.
– Давайте на этом закончим, – перебил его Уилсон.
– Сэр?
Уилсона передернуло.
– Убирайтесь отсюда.
– Мистер Уилсон, что вы себе…
– Вы можете замолчать? – Лицо Уилсона побелело. Он отвернулся от пилота и каменным взглядом уставился в иллюминатор. – Можете быть уверены, я не скажу больше ни слова! – бросил он.
– Мистер Уилсон, постарайтесь понять наши…
Уилсон злобно смотрел на двигатель. Краем глаза он видел, как два пассажира встали со своих мест и из прохода наблюдают за ним. «Идиоты!» – вспыхнуло у него в голове. Он почувствовал, как начали трястись руки, и несколько секунд опасался, что его сейчас вырвет. «Меня просто укачало», – сказал он себе. Теперь самолет бросало из стороны в сторону, как лодку на море во время шторма.
До Уилсона вдруг дошло, что пилот продолжает что-то ему говорить, и, перефокусировав взгляд, он посмотрел на его отражение в иллюминаторе. Рядом с пилотом молча стояла хмурая стюардесса. «Слепые идиоты, оба, – подумал Уилсон. Он никак не показал, что видел, как они удалились, лишь наблюдал в оконном стекле, как они проследовали в глубину салона. – Сейчас начнут меня обсуждать. Строить планы на случай, если я буду вести себя буйно».
Теперь он хотел, чтобы человек появился снова, оторвал пластину и разрушил двигатель. Сознание, что он один стоял между катастрофой и более чем тридцатью пассажирами на борту, придавало ему чувство мстительного удовольствия. Захочет – позволит катастрофе случиться. Уилсон невесело улыбнулся и подумал: это будет шикарное самоубийство.
Человечек снова свалился откуда-то сверху, и Уилсон увидел, что не ошибся: тот просто приладил оторванную пластину на место, перед тем как улизнуть. Потому что теперь он снова подцепил ее, и она легко поддалась, как кусок кожи, иссеченный неким карикатурным хирургом. Крыло резко кренилось, потом рывком взлетало вверх, но, похоже, человек не испытывал никаких трудностей с удержанием равновесия.
Уилсона в очередной раз охватила паника. Что делать? Никто ему не верит. Если он попытается еще раз убедить их, они, пожалуй, применят силу. Если он попросит стюардессу посидеть с ним рядом, это в лучшем случае даст небольшую отсрочку. Как только она уйдет или заснет, человечек вернется. И даже если она будет бодрствовать подле него, что помешает человечку ломать двигатели на другом крыле? Уилсон содрогнулся, ледяной ужас пронзил его до костей.
Господь милосердный, я ничего не могу поделать.
Уилсон дернулся, когда в иллюминаторе, через который он наблюдал за человечком, отразился проходивший мимо пилот. От абсурдности момента он чуть не взорвался: человечек и пилот в каком-то метре друг от друга, он видит обоих, а они друг друга – нет. А впрочем, не так. Человечек взглянул через плечо, когда пилот проходил мимо, но он словно понимал, что уже нет нужды убегать, что Уилсон исчерпал все возможности вмешаться в ситуацию. Уилсон задрожал от выжигающего мозг гнева. «Я убью тебя! – пронеслось у него в голове. – Я убью тебя, грязная маленькая тварь!»
Двигатель за стеклом иллюминатора дал сбой. Он длился всего секунду, но в эту секунду Уилсону показалось, что его сердце тоже остановилось. Человечек до отказа отогнул оторванную пластину и теперь, встав на колени, с любопытством ковырялся в самом двигателе.
– Не надо! – услышал Уилсон собственный умоляющий вопль. – Не надо!..
И снова перебой в двигателе. Уилсон в ужасе огляделся вокруг. Неужели все оглохли? Он протянул было руку, чтобы снова нажать кнопку вызова стюардессы, но тут же отдернул ее. Нет, они его где-нибудь запрут, каким-то образом изолируют. А он единственный, кто знает, что происходит, единственный, кто может помочь.
– Господи! – Уилсон все сильнее впивался зубами в нижнюю губу, пока не застонал от боли. Оглядевшись снова, он дернулся: по раскачивающемуся проходу спешила стюардесса. Она тоже услышала! Он пристально следил за ней и увидел, что она бросила на него взгляд, когда пробегала мимо.
Бортпроводница остановилась в трех рядах впереди и, склонившись, разговаривала с невидимым пассажиром. Двигатель снаружи кашлянул. Уилсон быстро обвел салон полным ужаса взглядом.
– Черт возьми вас всех! – простонал он.
Уилсон снова развернулся к стюардессе и увидел, что она направляется обратно. Ее лицо было спокойным. Он смотрел на нее и не верил своим глазам. Это невозможно. Он продолжал следить за стюардессой, пока не понял, что она направляется в сторону бортовой кухни.
– Нет, – прошептал Уилсон, и его начало трясти. Никто ничего не слышал.
Никто ни о чем не знает.
Потом Уилсон резко выдвинул из-под кресла сумку, расстегнул молнию, вынул несессер и бросил его на пол. Затем схватил клеенчатый сверток и выпрямился. Краем глаза он увидел, что стюардесса возвращается, и ногами задвинул сумку под кресло, а сверток положил себе за спину. Судорожно дыша и стараясь сидеть неподвижно, он стал ждать приближения стюардессы. Она прошла мимо.
Тогда он положил сверток на колени и развернул его. Движения Уилсона были столь лихорадочными, что он чуть не выронил пистолет. Он успел поймать его за дуло, затем побелевшими пальцами обхватил рукоятку и сдвинул предохранитель. Выглянув в иллюминатор, Уилсон похолодел.
Человек внимательно смотрел на него.
Уилсон сжал дрожащие губы. Неужели тот догадался о его намерении? Уилсон сглотнул и попытался успокоить дыхание. Затем оглянулся на стюардессу. Она принесла пассажиру какие-то таблетки и воду. Уилсон вновь повернулся к иллюминатору. Человечек копался в двигателе. Уилсон начал медленно поднимать пистолет.
Потом, передумав, опустил оружие. У иллюминатора слишком толстое стекло. Пуля может отскочить и убить кого-нибудь из пассажиров. От этой мысли он содрогнулся и снова посмотрел на человечка. Двигатель вновь кашлянул. Из кожуха вырвался сноп искр, осветив отвратительную физиономию человечка. Уилсон собрался с духом. Из этой ситуации был лишь один выход.
Его взгляд упал на ручку аварийной двери. Она была затянута прозрачной пленкой. Уилсон сорвал ее и бросил на пол. Глянул в иллюминатор. Человек был на месте: согнувшись, он копался в двигателе. Уилсон вобрал в себя воздух дрожащими губами, положил левую ладонь на ручку двери и попробовал нажать. Ручка не поддавалась. Он попробовал поднять ее – и это сработало.
Не раздумывая, Уилсон достал пистолет и положил его на колени. «Времени на пререкания не осталось», – сказал он себе и трясущимися руками пристегнул ремень безопасности. Когда дверь откроется, возникнет мощнейшая тяга воздуха. Ради безопасности самолета она не должна вынести его наружу.
Ну, с Богом. Уилсон с колотящимся сердцем поднял пистолет. Все нужно сделать внезапно и аккуратно. Если он промахнется, человечек перепрыгнет на другое крыло или, хуже того, на хвостовую конструкцию, где безо всяких помех сможет разорвать провода, покалечить киль и тем самым нарушить устойчивость самолета. Но другого выхода нет. Он постарается попасть человечку в грудь или живот. Уилсон набрал полные легкие воздуха и скомандовал себе: ну, давай. Давай.
Как только Уилсон начал поднимать ручку аварийной двери, стюардесса двинулась назад по проходу. Оцепенев от ужаса, она на миг застыла на месте как вкопанная, не в состоянии произнести ни звука. Лицо у нее вытянулось, она подняла руку в умоляющем жесте. А потом вдруг закричала пронзительным голосом, перекрывая рев моторов:
– Мистер Уилсон, нет!
– Отойдите! – гаркнул Уилсон и рванул ручку вверх.
У него было такое ощущение, что дверь исчезла. Только что он держался за ее ручку – и вот ее нет, а вместо нее – свистящий рев.
В тот же миг Уилсон почувствовал, как чудовищной силы тяга пытается вырвать его из кресла. Голова и плечи уже были снаружи, и он ощутил, что дышит морозным разреженным воздухом. В первые секунды, когда от рева двигателей у него чуть не лопнули барабанные перепонки, а глаза ослепил арктический ветер, Уилсон забыл о человечке. Ему показалось, что сквозь окружавший его вихрь он услышал короткий пронзительный визг и отдаленный крик.
А потом он увидел человечка.
Тот шел по крылу, сгорбившись против ветра и хищно вытянув руки со скрюченными когтями. Уилсон вскинул руку и выстрелил. В неистовом реве воздуха выстрел прозвучал, как тихий хлопо́к. Человек затоптался на месте, сделал выпад, и Уилсон почувствовал, как боль прорезала его голову. Он выстрелил снова, теперь в упор, и увидел, как человечка, размахивавшего руками, отбросило назад, а потом он внезапно исчез – словно невесомая бумажная кукла, подхваченная ураганом. Уилсон успел ощутить, как немеет мозг и кто-то вырывает пистолет из его непослушных пальцев.
А потом все окутала холодная тьма.
Он пошевелился и пробормотал что-то нечленораздельное. Тепло разливалось по его венам, но руки и ноги были деревянными. В темноте слышались шарканье ног и тихий гул голосов. Он лежал лицом вверх на чем-то двигающемся и трясущемся. Холодный ветер обдувал лицо. Он чувствовал, как кренится поверхность, на которой он лежит.
Уилсон вздохнул. Самолет приземлился, его несли на носилках. Кажется, он был ранен в голову, к тому же ему сделали инъекцию успокоительного.
– Самый безумный способ покончить с собой, о каком я слышал, – донеслось откуда-то.
Уилсона это приятно позабавило. Кто бы это ни произнес, он был не прав, разумеется. Это выяснится очень скоро, когда тщательно осмотрят двигатели и рану у него на голове. Тогда только они поймут, что он спас их всех.
Уилсон погрузился в сон без сновидений.
Амброз Бирс Летательный аппарат
Хотя Бирс и застал эпоху авиации (он умер в 1914 году), сомнительно, чтобы сам он летал. Миниатюра, которую вам предстоит прочесть, не столько об аэропланах, сколько о доверчивости людей, желавших вложить в них деньги, и она, безусловно, помогает объяснить его прозвище – Беспощадный Бирс. Мое любимое изречение Бирса: «Война – это средство, избранное Богом, чтобы научить американцев географии».
Изобретательный человек, построивший летательный аппарат, пригласил огромную толпу людей посмотреть, как он взлетит. В назначенный срок, когда все было готово, он поднялся на борт и включил зажигание. Машина стремительно промчалась сквозь массивную конструкцию, в которой была построена, и зарылась в землю. Аэронавт чудом спасся, вовремя выскочив из нее.
– Что ж, – сказал он, – я сделал достаточно, чтобы продемонстрировать безошибочность в деталях. Дефекты же, – добавил он, глядя на разрушенную кирпичную кладку, – всего лишь базовые и фундаментальные.
После такого заверения люди стали охотно собирать деньги по подписке для строительства второй машины.
Э. Ч. Табб Люцифер!
Это рассказ о воздушном путешествии. После того как самолет взлетает, вы проводите в нем определенное количество времени. Табб соединяет этот простой и бесспорный факт с чрезвычайно оригинальной – и зловещей – идеей путешествия во времени. Не стану говорить больше, чтобы не испортить впечатление от этой жуткой, леденящей кровь и совершенно необычной истории. Эдвин Чарлз Табб был одним из самых плодовитых британских писателей в жанре научной фантастики. На протяжении своей почти шестидесятилетней карьеры он написал по меньшей мере 150 романов и более дюжины сборников рассказов. В 1950-х годах он редактировал журнал «Аутентик сайенс-фикшн» («Подлинная научная фантастика») и один из номеров полностью (включая колонку писем) написал сам под разными псевдонимами. «Люцифер!» – один из его лучших рассказов. Он завоевал «Специальный приз за лучший рассказ» на первом Евроконе[20] в 1972 году.
Это было очень удобное приспособление, и все им пользовались. «Все» – в данном случае Особые люди: богатые, обаятельные и добившиеся признания в обществе. Те, кого закинуло сюда желание изучить занятную примитивную культуру и кто, по личным соображениям, предпочел остаться в мире, где они были очень крупными рыбами в очень маленьком море.
Особые люди – дилетанты в Межгалактической команде, защищенные и обласканные своей наукой, играющие в свои игры с аборигенами и тщательно сохраняющие свою анонимность. Однако несчастья случаются и со сверхлюдьми. Глупые случайности, степень вероятности которых очень низка, статистически почти равна нулю.
Такие, как, например, внезапный разрыв стального троса, на котором на высоте шести метров над землей висит сейф. Он падает, разворотив тротуар, но никакого иного ущерба не наносит. Трос, внезапно ослабленный, щелкает, словно кнут, и его конец резко отскакивает в непредсказуемом направлении. Вероятность того, что он угодит в какое-то определенное место, ничтожна. Вероятность того, что в этом самом месте в это самое время окажется один из Особых людей, настолько низка, что выходит за пределы нормальной вероятности. И все же это случилось. Перетершийся конец троса попадает в голову, кромсает череп, мозг и ткани, превращая все это в ужасное месиво. Имплантированный хирургическим методом механизм посылает сигнал бедствия. Друзья несчастного получают этот сигнал. А Фрэнк Уэстон – тело.
Фрэнк Уэстон – анахронизм. В нынешние времена никто не стал бы волочить вывернутую ногу через двадцать восемь лет своей жизни. Особенно если бы его лицо напоминало лицо ренессансного ангела. Правда, если он и был похож на ангела, то на падшего. Мертвому нельзя причинить боль, а его родным можно. Попробуйте сказать отцу самоубийцы, что его мертвая дочка была беременна. Или безумно любящей матери, что свет ее очей страдал постыдной болезнью. Они и проверять не станут – зачем? А даже если и проверят – что с того? Никто не застрахован от ошибок, а он был всего лишь санитаром морга, не врачом.
Он бесстрастно оглядел новое поступление. Трос постарался на славу, полностью уничтожив лицо, – визуальная идентификация была исключена. Весь костюм был залит кровью, но оставшихся неиспорченными участков хватало, чтобы понять, что носивший этот костюм человек денег на одежду не жалел. В бумажнике оказалось всего несколько купюр, зато куча кредиток. Еще при покойном было немного мелочи, портсигар, зажигалка, ключи, наручные часы, булавка для галстука… С тихим шуршанием все это перекочевало в конверт. Увидев кольцо, Фрэнк заколебался.
Иногда недобросовестный человек его профессии мог кое-что припрятать для себя. Фрэнк отнюдь не был щепетилен, однако проявлял разумную предосторожность. Кольцо, конечно, могло быть потеряно до того, как мертвец поступил в его распоряжение. Рука покрылась коркой запекшейся крови, так что никто ничего мог и не заметить. А даже если бы заметили, это было бы его слово против их. Если он снимет кольцо, спрячет его, отмоет руку от крови и будет вести себя как ни в чем не бывало, кольцо останется у него. Чтобы снять его, придется раздробить руку. Но ведь каких только повреждений не бывает у попавших в аварию.
Через час пришли за телом – двое тихих мужчин, аккуратно одетых и невозмутимо настроенных. Покойный был их деловым партнером. Они сообщили его имя и адрес, описали одежду, в которой он был, и дали кое-какую другую информацию. Поскольку никаких подозрений на насильственную смерть не было, не было и причины не выдавать тело.
Один из мужчин строго посмотрел на Фрэнка.
– Это все, что при нем было?
– Совершенно верно, – ответил Фрэнк. – Это все. Подпишите вот здесь – и он ваш.
– Одну минуту. – Мужчины переглянулись, и тот, что говорил, снова обратился к Фрэнку: – Наш друг носил кольцо. Вроде вот этого. – Он протянул руку. – Кольцо с камнем и широким ободом. Мы бы хотели его забрать.
Фрэнк был упрям.
– У меня его нет. И я никакого кольца не видел. Когда его сюда доставили, кольца на нем не было.
И опять молчаливое совещание.
– Само по себе кольцо никакой ценности не имеет, но оно дорого нам как память. Я готов заплатить за него сто долларов и не задавать никаких вопросов.
– Зачем вы мне это говорите? – холодно ответил Фрэнк. Он почувствовал, как от садистского удовольствия тепло разливается у него внутри: не понимая, как именно, но он причинил боль этому человеку. – Вы будете подписывать или нет? – Он покрутил в руке нож. – Если вы считаете, что я что-то украл, вызывайте полицию. И в любом случае выметайтесь отсюда.
После работы он тщательно рассмотрел украденное. Сидя в своем обычном углу столовой, сутулясь и прикрывшись газетой, для других он был не более чем предметом мебели. Он медленно поворачивал кольцо. Обод был толстым и широким, в одном месте имелся бугорок, который можно было утопить, нажав на него пальцем. Камень – плоский и тусклый, вероятно, какой-то минерал, относящийся к группе полудрагоценных камней. Металл – скорее всего, позолоченный сплав. Если бы у Фрэнка было сто долларов, он мог бы купить дюжину таких.
Но… зачем бы человек, одетый так, как был одет покойник, стал носить такое кольцо?
От трупа так и несло запахом денег. Портсигар и зажигалка были из платины и украшены драгоценными камнями – слишком заметные вещи, чтобы их красть. Кредитные карты позволяли ему путешествовать по всему свету, причем первым классом. Стал бы такой человек носить паршивое кольцо стоимостью в сто долларов?
Фрэнк тупо уставился в конец столовой. Лицом к нему сидели трое мужчин, пивших кофе. Один из них выпрямился, встал, потянулся и направился к выходу.
Фрэнк хмуро уставился на кольцо. Неужели он променял сотню на какой-то хлам? Он коснулся ногтем бугорка на ободе. Тот немного вдавился, Фрэнк нетерпеливо нажал сильнее. Ничего не произошло.
Ничего, если не считать того, что человек, вставший из-за стола и уже было приблизившийся к двери, оказался снова сидящим за столом. Наблюдая за ним, Фрэнк увидел, что человек потягивается и снова направляется к двери. Он опять нажал на кнопку. Ничего. Ровным счетом ничего.
Фрэнк нахмурился и попробовал еще раз. Внезапно человек снова оказался за столом, потом встал, потянулся и направился к двери. Фрэнк нажал кнопку и не отпускал ее, считая про себя. Пятьдесят семь секунд – и мужчина вновь сидел за столом. Потом опять встал, потянулся и направился к двери. На этот раз Фрэнк позволил ему уйти.
Теперь он понял, что́ ему досталось.
В задумчивости он откинулся на спинку стула. Об Особых людях он не знал ничего, но в его роду имелись ученые, и, даже будучи садистом, дураком Фрэнк не был. Каждый захотел бы иметь подобную вещь. Ее нужно все время держать под рукой, чтобы быстро ею воспользоваться. А что может быть в этом смысле удобнее, чем кольцо? Компактное. Декоративное. Скорее всего, вечное.
Машина времени, работающая в один конец.
Удача, счастливая комбинация благоприятных обстоятельств, но зачем нужна удача тому, кто за пятьдесят семь секунд до события знает, что произойдет? Можно сказать, за минуту. А то и больше?
Попробуй на это время задержать дыхание. Попробуй удержать руку на раскаленной плите хотя бы половину этого времени. За минуту можно пройти чуть больше девяноста метров, пробежать четверть мили, пролететь в падении три. Можно зачать, умереть, жениться. Пятидесяти семи секунд достаточно для многого: чтобы перевернуть карту, остановить катящийся мяч, дважды подбросить монету. Фрэнк безоговорочно оказался в выигрыше, причем в нескольких смыслах.
Он потягивался, наслаждаясь душем, струи горячей воды упруго хлестали по коже. Он повернул ручку смесителя и задохнулся: вода стала ледяной, по коже пошли мурашки. Холодный душ зимой – сущее наказание, когда у тебя нет выбора, и истинное удовольствие, когда выбор есть. Он вернул ручку в положение «горячая», постоял еще немного, после чего выключил душ и вышел из кабинки, вытираясь пушистым полотенцем.
– Фрэнк, дорогой, ты там еще долго?
Женский голос с характерной интонацией, свойственной представительнице высшего сословия, принадлежащей к аристократии по рождению и замужеству. Леди Джейн Смит-Коннорс была богата, любопытна, нетерпелива, и она скучала.
– Один момент, милая, – крикнул он в ответ и отбросил полотенце. Улыбаясь, он осмотрел себя. Деньги позаботились об искалеченной ступне. Деньги о многом позаботились: о его одежде, его произношении, формировании его вкусов. Он все еще был падшим ангелом, но на его сломанных крыльях поблескивала новая позолота.
– Фрэнк, дорогой!
– Иду! – Он стиснул зубы так сильно, что заболели мышцы лица. Манерная, падкая на удовольствия сука! Ее привлекли его лицо и его репутация, и она была готова платить за свое любопытство. Но это может подождать. Сначала паук должен поймать муху и надежно опутать ее своей паутиной.
Шелковый халат, чтобы прикрывать наготу. Щетки, чтобы расчесывать волосы. Спрей от дурного запаха изо рта. Жеребец был почти готов к представлению.
В ванной имелось окно. Он раздвинул занавески и всмотрелся в ночь. Далеко внизу россыпь огней ковром устилала тонущую в тумане землю. Лондон был приятным городом, Англия – приятным местом на земле. Очень подходящим, особенно для игроков: они не платили налогов с выигрышей. А в его случае – более приятным, чем любое другое: куш был очень велик. Не только в смысле денег, это для плебеев, – важно было установить правильные связи, и тогда каждый день превратится в Рождество.
Лондон. Город, который Особые люди ценили очень высоко.
– Фрэнк!
Нетерпение. Раздражение. Высокомерие. Женщина ждала, чтобы ее обслужили.
Она была высокой и отличалась той особой худобой, что делает женщину похожей на школьницу-переростка, которой положено носить твидовые юбки и ходить с хоккейными клюшками. Но ее внешность была обманчива. Межродственные браки на протяжении поколений привели к глубокому декадансу и породили множество буйных расстройств. Женщина была клинически безумна, но в ее кругах это слово никогда не употребляли – только «эксцентрична», никогда не говорили «глупа» – только «безрассудна», никогда не называли женщину злобной или жестокой – только «забавной».
Он протянул руки, обнял ее и надавил на ее глазные яблоки большими пальцами. От внезапной боли она отпрянула. Он надавил сильнее, и она закричала от уже невыносимой боли и страха ослепнуть. У него в мозгу тикали воображаемые часы, отсчитывая секунды. Пятьдесят одна, пятьдесят две…
Он нажал пальцем на головку кольца.
– Фрэнк!
Он протянул руки и обнял ее, сердце его все еще колотилось от удовольствия, которое он испытал, причиняя ей боль. Он поцеловал ее с отточенным мастерством, нежно прикусив зубами, провел руками по ее телу, и тонкая ткань с шуршанием упала с ее плеч. Он прикусил чуть сильнее и почувствовал, как она напряглась.
– Не делай так! – резко приказала она. – Ненавижу, когда так делают!
Двойка. Считая секунды, Фрэнк тянулся к выключателю. Как только погас свет, она извернулась и оттолкнула его.
– Ненавижу темноту! Неужели ты такой же, как все остальные?
Вторая двойка. Осталось двадцать секунд. Хватит для еще одного опыта. Он нащупал ее в темноте, пробежал по ее телу ладонями с натренированной решительностью. Она ахнула от наслаждения.
Он нажал на головку кольца.
– Фрэнк!
Он протянул руки, обнял ее, на сей раз не делая попытки прикусить ни так ни эдак. Ее одежда с шуршанием упала на пол, обнажив кожу, мерцавшую, как жемчуг на свету. Он смотрел на нее с откровенным восхищением, руки скользили по ее телу так, как ей нравилось.
Закрыв глаза, она вонзила ногти ему в спину.
– Говори со мной, – потребовала она. – Говори со мной!
Он начал отсчитывать секунды.
Позднее, пока она лежала, забывшись сном от пресыщения, он, отдыхая, курил и размышлял, странным образом изумленный. Он был идеальным любовником. Говорил и делал именно то, чего она хотела, точно в том порядке, в каком она этого хотела, и – что еще важнее – говорил и делал это безо всякого побуждения с ее стороны. Он был ее отражением. Эхом ее потребностей. Почему бы и нет? Изучив, испробовав и стерев все неверные ходы, он усердно трудился, следуя намеченному ею самой чертежу желаний. Каким же еще любовником мог он быть, если не идеальным?
Повернувшись, он посмотрел на женщину не как на существо из плоти и крови, а как на ступеньку лестницы, ведущей к признанию. Фрэнк Уэстон проделал большой путь и намеревался карабкаться еще выше.
Она вздохнула, открыла глаза, увидела классическую красоту его лица.
– Дорогой!
Он сказал то, что она хотела услышать.
Она снова вздохнула, звук был тот же, смысл – другой:
– Сегодня вечером увидимся?
– Нет.
– Фрэнк! – Она резко села от прилива ревности. – Почему нет? Ты говорил…
– Я знаю, что я говорил, и не отказываюсь ни от одного слова, – перебил он ее. – Но мне нужно лететь в Нью-Йорк. По делам, – добавил он. – В конце концов, надо же мне зарабатывать на жизнь.
Она заглотила наживку.
– Об этом можешь не беспокоиться. Я поговорю с папой, и…
Он поцеловал ее.
– И все же мне надо лететь, – упрямо повторил он. Под простыней его руки делали то, чего она от него хотела. – А когда я вернусь…
– Я получу развод, – подхватила она. – И мы поженимся.
Рождество, подумал он. Небо уже побледнело от близкого рассвета.
«Полетели со мной!» – как поется в песне[21]. Я – светящаяся новая комета; две стюардессы – сплошные ноги, глаза и шелковые волосы, во взгляде: «Можешь смотреть на меня, потому что я красива, но даже не думай прикоснуться ко мне»; летный экипаж и семьдесят три пассажира, лишь восемнадцать из которых путешествовали первым классом. Места хватало для всех, и Фрэнку это очень нравилось.
Он чувствовал себя усталым. Ночь была лихорадочной, и утро не лучше. Приятно было теперь расслабиться и, тщательно пристегнувшись, развалиться в моделированном кресле[22], пока сопла засасывали воздух и изрыгали позади себя рукотворные смерчи, посылающие самолет вперед по взлетной полосе, а потом – вверх, в небо. Лондон постепенно исчезал из виду, облака налетали сверху, как комки грязного хлопка, а потом осталось только солнце – внимательный зрачок в безбрежной радужной оболочке синевы.
На Запад, молодой человек! – самодовольно подумал Фрэнк. А что? Кроме любви к путешествиям, другой причины лететь у него не было, но от его недолгого отсутствия ее сердце должно было преисполниться еще большей любовью. И сам полет вызывал приятное возбуждение. Он любил смотреть вниз и думать о пустоте между ним и землей. Ощущать, как желудок сжимается от акрофобии, и испытывать сладостное чувство страха, пребывая при этом в полной безопасности. Внутри самолета высота не имела никакого значения. Если смотреть только прямо перед собой, можно было представить себя в пульмановском вагоне.
Он отстегнул ремень, вытянул ноги, глянул в иллюминатор и услышал в динамике голос пилота, сообщавшего, что они летят на высоте десяти тысяч трехсот шестидесяти метров со скоростью восемьсот шестьдесят километров в час.
Ему мало что было видно в иллюминатор. Небо, облака внизу, подрагивающий кончик металлической плоскости крыла. Все как обычно. Блондинка-стюардесса была далека от всего этого. Она, покачиваясь, шла по проходу и, поймав его взгляд, моментально переключила на него внимание. Удобно ли ему? Не принести ли подушку? Газету? Журнал? Что-нибудь выпить?
– Бренди, – сказал он. – Со льдом и содовой.
Он сидел в кресле возле стены, поэтому ей пришлось сойти с дорожки, устилавшей проход, и наклониться, чтобы опустить перед ним откидной столик и поставить на него бокал. Он протянул руку и притронулся к ее колену, потом скользнул ладонью вверх по бедру, почувствовал, как напряглись ее мышцы, и увидел выражение ее лица: смесь гнева, интереса и недоумения, – она не могла поверить в происходящее. Длилось это недолго. Правой рукой он схватил ее за горло. Без оттока крови лицо ее стало багровым, глаза выпучились, пустой поднос вылетел из рук, которыми она замахала в бессильной агонии.
В мозгу у Фрэнка часы автоматически отсчитывали секунды: пятьдесят две… пятьдесят три… пятьдесят четыре…
Он нажал на головку кольца. Раздался щелчок вставшего на место откидного столика и бульканье бренди, льющегося из миниатюрной бутылочки на лед в бокале. Стюардесса улыбнулась, занеся над бокалом открытую баночку содовой.
– Всю, сэр?
Он кивнул, наблюдая, как она льет воду, и вспоминая мягкое тепло ее бедра, прикосновение к ее плоти. Знала ли она, что он чуть не убил ее? Могла ли даже представить себе такое?
Нет, решил он, глядя ей вслед. Как бы она могла? Для нее ведь ничего не было. Она просто принесла ему бренди, вот и все. Все, но…
Задумавшись, он уставился на кольцо. Ты приводишь его в действие – и оно отбрасывает тебя на пятьдесят семь секунд назад. Все, что происходит за это время, стирается. Ты можешь убить, ограбить, нанести увечье, и все это не будет иметь значения, потому что ничего этого не случится. Но это случается. И это сохраняется в памяти. А разве можно помнить то, чего не было?
Эта девушка, например. Он ощущал ее бедро, тепло между ног, податливую мягкость шеи. Он мог выдавить ей глаза, заставить ее кричать, изувечить ей лицо. Он проделывал и не такое с другими, потворствуя своему садизму, своей любви причинять боль. Он даже убивал. Но что есть убийство, если можно аннулировать свое преступление? Если можно увидеть, как труп улыбается и уходит?
Самолет немного качнуло. Раздавшийся из динамика голос прозвучал спокойно и неторопливо:
– Пожалуйста, господа пассажиры, пристегните ремни. Мы входим в зону небольшой турбулентности. Вы можете увидеть молнию, но беспокоиться не о чем. Мы летим гораздо выше грозового фронта.
Фрэнк проигнорировал предупреждение, поглощенный размышлениями о кольце. Неотполированный камень, выглядевший как мертвый глаз, вдруг принял зловещий, угрожающий вид. Фрэнк с раздражением допил бренди. В конце концов, это кольцо – всего лишь механизм.
Блондинка шла по проходу; увидев, что он не пристегнут, укоризненно покачала головой и заставила его пристегнуться. Он отмахнулся от нее, потом нащупал концы ремня и отбросил их в стороны. Ремень ему был не нужен, ему не нравилось пристегиваться. Нахмурившись, он уселся в кресле поглубже и предался размышлениям.
Время. Это одна прямая линия или линия со множеством ответвлений? Может ли быть так, что каждый раз, когда он приводит кольцо в действие, создается альтернативная вселенная? Что где-то существует мир, в котором он напал на стюардессу и ему пришлось заплатить за свое преступление? Но ведь он напал на нее только потому, что знал: этот инцидент можно стереть, как ластиком. Не имея кольца, он бы и пальцем ее не тронул. С кольцом же он мог делать все, что ему заблагорассудится, потому что всегда имел возможность отмотать время назад и отменить последствия.
Так что теория альтернативной вселенной не годится. А какая годится?
Он не знал, и это не имело значения. У него есть кольцо – и этого достаточно. Кольцо, за которое ему предлагали паршивых сто долларов.
Что-то ударилось о крышу салона. Послышался треск, внутрь ворвался воздух, непреодолимая сила вырвала Фрэнка из кресла и вышвырнула наружу. Воздух, когда он начал падать, в один миг словно выдавили из легких. Он хватал его ртом, пытаясь дышать, пытаясь понять, что случилось. Арктический холод сковал тело и сделал его бесчувственным. Перевернувшись, он сквозь слезы, заливавшие глаза, увидел самолет с болтающимся крылом, которое у него на глазах оторвалось окончательно и вслед за самолетом полетело в море, блестевшее в восьми тысячах метрах внизу.
«Катастрофа!» – дико пронеслось у него в голове. Шаровая молния, метеорит, может, даже усталость металла. Трещина в корпусе и внутреннее давление доделали дело. И вот он падает. Падает! Фрэнк в исступлении нажал пальцем на выпуклость в кольце.
– Мистер Уэстон, пожалуйста. – Стюардесса подошла в тот момент, когда он привстал со своего кресла. – Вы должны оставаться на месте и пристегнуть ремень. Если только… – Она дипломатично посмотрела в сторону туалетов в конце салона.
– Послушайте! – Он схватил ее обеими руками. – Скажите пилоту, чтобы он изменил курс. Немедленно. Скорее!
Таким образом они смогут увернуться от шаровой молнии или метеорита. Они останутся в безопасности, если достаточно быстро сменят курс. Но только делать это нужно немедленно. Скорее!
– Быстрее! – Он помчался к кабине пилотов, девушка следом за ним. Черт бы побрал эту тупую суку! Ничего не понимает. – Опасность! – завопил он. – Пилоты должны немедленно сменить курс!
Что-то ударилось о крышу салона, появилась трещина, металл начал рваться, закручиваясь, как банановая кожура. Блондинка исчезла. Треск рвущегося металла утонул в свисте вырывающегося воздуха. Фрэнк отчаянно ухватился за ближайшее кресло, чувствуя, как воздушный поток отдирает от него его руки, а тело засасывает в брешь. И снова его выбросило наружу, и он начал долгое восьмикилометровое падение, от которого сводило живот.
– Нет! – завопил он, обезумев от ужаса. – Господи помилуй, нет!
Он снова нажал на головку кольца.
– Мистер Уэстон, я вынуждена настаивать. Если вам не нужно в туалет, вы должны позволить мне застегнуть ваш ремень безопасности.
Он стоял возле своего кресла, блондинка начинала выказывать признаки раздражения. Раздражения!
– Это важно, – сказал он, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. – Менее чем через минуту этот самолет распадется на части. Вы понимаете? Мы все умрем, если пилот немедленно не сменит курс.
Ну что же она стоит тут, словно онемев? Он ведь все это ей уже говорил!
– Тупая корова! Прочь с дороги! – Он оттолкнул ее в сторону и снова бросился к пилотской кабине. Споткнулся, упал, бешено вскочил на ноги. – Меняйте курс! – орал он. – Ради бога, послушайте и…
Что-то ударилось о крышу. И снова рев, взрыв, неистовая тяга. Что-то стукнуло его по голове, и он оказался ниже облаков, прежде чем успел взять себя в руки. Он нажал на кольцо, но обнаружил, что все равно летит, глотая разреженный воздух и дрожа от свирепого холода. С одной стороны от него, словно подвешенный, медленно вращался самолет, постепенно распадаясь на разрозненные части. Мелкие фрагменты парили вокруг него, один из них, возможно, принадлежал блондинке. Мимо промелькнули облака, внизу расстилалось море, его поверхность мерцала бликами света. При виде волн внутренности у Фрэнка сжались от ошеломляющего ужаса, у него начался приступ акрофобии, рвущий на куски каждую клеточку тела. Удариться о воду будет то же самое, что расплющиться о бетонный пол, а он будет до последней секунды оставаться в сознании. Он лихорадочно нажал на кольцо и мгновенно оказался снова высоко в воздухе, ему была дарована еще одна почти целая минута продолжающегося падения.
Пятьдесят семь секунд чистого ада.
И снова.
И снова.
И еще бесконечное количество раз, потому что альтернативой было – разбиться о поверхность ждущего внизу моря.
Том Бисселл Пятая категория
Том Бисселл – один из лучших и самых интересных (это не всегда одно и то же) американских писателей. Наряду с научно-популярными произведениями, такими как «Дополнительные жизни: почему видеоигры имеют значение», он написал сценарии видеоигр, например «Жернова войны», и стал соавтором получившей признание критиков книги «Горе-творец: Моя жизнь внутри “Комнаты”», которая была экранизирована; фильм завоевал несколько премий, исполнителем главной роли и режиссером выступил Джеймс Франко. Бисселл, освещавший войну в Персидском заливе в качестве журналиста, успел также написать несколько выдающихся рассказов. Тот, что приводится ниже, об авторе ряда спорных юридических документов, который просыпается в пустом самолете, летящем из Эстонии, – один из лучших.
Джон очнулся от какого-то тут же забывшегося сна, словно наэлектризованный. Все еще мало что соображая, он тем не менее со скоростью пулемета Гатлинга произвел «самоперезагрузку». Заснуть в самолете – все равно что заплатить кому-то, чтобы тебя грубо разбудили среди ночи. Как ни странно, Джон не помнил, как заснул. Более того, он не помнил даже, чтобы ему хотелось спать.
Последнее, что он помнил: он пьет диетическую колу и болтает с соседкой, Яникой, высокой эстонкой с лицом озорной лесной нимфы, которая сказала, что впервые летит в Штаты. Джон решительно не помнил, ни как натягивал одеяло до самого подбородка, ни как засовывал под голову восхитительно мягкую подушку, на которой покоилась сейчас его голова. А должен был бы помнить. Еще с детства у него вошло в привычку, прежде чем окончательно отключиться, твердо зафиксировать в памяти положение, в котором он засыпает, – «ложечкой», «ножничками», в позе мертвеца, эмбриона или морской звезды. Лишь два раза в жизни он проснулся в той же позе, в какой заснул. Джон представлял себе сон как путешествие во времени. Что-то происходило, шла умственная работа, двигались части тела, а ты ничего об этом не знал.
Яника исчезла, в салоне было темно, самолет, по его соображениям, летел теперь над Атлантикой. Вероятно, она пошла размяться. Ох уж эти европейцы с их разминками во время полета и обычаем аплодировать при приземлении. Шторки на всех таблетках-иллюминаторах салона были опущены. Свет исходил только от оранжевых ламп внутри салона. Джон поднял свою шторку. Того, что он увидел, не могло быть. Его рейс приземлялся в Нью-Йорке в четыре часа дня. Это не был ночной перелет. Тем не менее снаружи – ночь. Лишь теперь до Джона дошло, что пустует не только кресло Яники. Пусты и остальные сорок с чем-то мест бизнес-класса. Он расстегнул ремень безопасности.
Уютно расположенные парами кресла бизнес-класса были просторно рассредоточены, и никакие верхние багажные отделения не мешали Джону обойти весь салон. На многих сиденьях лежали скомканные одеяла. На других наушники были воткнуты в соответствующие гнезда на подлокотниках. С полдюжины подушек валялось на полу. Под многими сиденьями осталась ручная кладь. В одном ряду кто-то выставил в проход поднос, на котором стояли бутылочка из-под красного вина величиной с флакон духов и пластмассовый стаканчик. Все кресла производили такое впечатление, будто их покинули внезапно.
Случилось что-то, подумал Джон, что увлекло всех в салон эконом-класса. Пьяный финн пырнул ножом бортпроводника. Сердечный приступ. Он мысленно поставил многоточие и раздвинул синие занавески, заставлявшие пассажиров второго, или эконом-класса лишь догадываться, чего они лишены. Он нащупал серую с белыми крапинками перегородку, с которой свисала занавеска, и это отчасти вернуло ему ощущение реальности.
Перед ним простирались тридцать затемненных рядов пустых кресел. Потрясенный, Джон сделал всего один шаг и потянулся за своим айфоном, поняв, что его нет, еще до того, как рука коснулась кармана. Несмотря на темноту, он увидел несколько неотчетливых контуров в первом ряду кресел: книги в бумажных обложках, газеты, дипломат. Чем дальше он углублялся в салон, тем становилось темнее, словно он входил в синтетические дебри.
Двигаясь по узкому проходу пассажирского лайнера, он явственно ощущал: что-то не так. Добравшись до кромешной тьмы, царившей в хвостовой части, он почувствовал себя запертым в совершенно незнакомом чулане. Его руки шарили в темноте, пытаясь считывать Брайлевы знаки видимого мира. Откидные сиденья стюардесс были подняты. Рядом с одним из них оказался вмонтирован держатель для фонаря, Джон выхватил из него фонарь и повел лучом. Кухня: длинные серебристые ящики, как на подводной лодке, в самом дальнем углу – пустая тележка для раздачи еды. Он развернулся, луч высветил контейнер с надписью «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», потом он перевел сноп света на одну из запасных дверей самолета – огромную, похожую не столько на дверь, сколько на фасад эскимосской хижины иглу. Через крохотный иллюминатор Джон видел, как крыло самолета нарезает слоями облака, клубящиеся в беззвездной ночи. Он повернулся к коммутационному пульту для бортпроводников, покрытому многочисленными рычагами и кнопками. Хотя это был рейс финской авиакомпании, все надписи были на английском. В самом низу панели имелась красная кнопка «ЭВАК.». Он скользнул взглядом вверх: несколько кнопок «ВЫЗОВ» (все темные), маленький зеленый экран, на котором высвечивалась какая-то совершенно непостижимая информация, кнопка объявлений для пассажиров и, наконец, осветительный щиток, на котором кнопок не было – только рычажки. Джон тут же принялся их переключать.
В загоревшемся резком свете он открыл дверь в туалет, почти ожидая увидеть необъятную комнату, в которой несколько сотен человек, летевших на этом борту, поджидали его в остроконечных шутовских колпаках, чтобы начать осыпать конфетти. Но кабинка была пустой, удивительно белой, и в ней пахло дерьмом и мятой. Прозрачные пузыри на застоявшейся воде украшали металлическую раковину.
Джон метнулся обратно, через салоны второго класса, бизнес-класса, первого класса и вскоре очутился перед дверью кабины пилотов, которая выглядела надежно укрепленной. На техническом языке это, кажется, называется «усиленная». Как войти, было неясно. Любая демонстрация силы вблизи пилотской двери казалась Джону и неблагоразумной, и потенциально незаконной. Поэтому он постучал. Не получив ответа, попробовал открыть дверь. Заперто. Он постучал снова. Потом заметил маленький, высотой по колено, шкафчик. Внутри находились четыре желтых спасательных жилета и тяжелый стальной воздушный компрессор. Джон посмотрел на переднюю аварийную дверь, еще одну эпически-бесстрастную громадину, которую он едва ли сумел бы открыть в случае необходимости. Но зачем бы ему это понадобилось? Однако то, что он уже начал размышлять, как выбраться, было не слишком хорошим предзнаменованием.
Он вспотел. Его тело, словно наконец приняв, проанализировав и отвергнув информацию, посланную мозгом, начало бессмысленную контратаку. Из желудка – своего плацдарма – оно выплюнуло самую последнюю съеденную пищу в кишечные кольца. Джон стоял, сжавшись, прислушиваясь к работе своего сердечного насоса, его легкие ритмично заполнялись и опустошались. Шторка, разделяющая произвольные и непроизвольные функции организма, была сорвана с карниза. Нервная система, казалось, изо всех сил сконцентрировалась на том, чтобы не отключиться.
Он молотил в дверь кабины пилотов и кричал, что что-то случилось и ему нужна помощь. А когда силы иссякли, прислонился лбом к наружной обшивке укрепленной двери. Его дыхание сделалось кислым и насыщенным микробами, как содержимое чашки Петри. Он чувствовал себя слабым и беззащитным. Вдруг он услышал какой-то шум из-за двери и отскочил назад. Потом снова медленно подошел ближе и приложил к холодному металлу ухо, накрыв его сложенной ковшиком ладонью. По ту сторону двери пилотской кабины самолета без пассажиров кто-то плакал.
Ему советовали не покидать пределы Соединенных Штатов и его адвокат, и его благожелательные коллеги по университету (которых было больше, чем кто-либо думал: Джон, в сущности, являлся душой преподавательского состава), и те немногие представители юридических кругов, с которыми он еще поддерживал отношения. Но когда полгода назад впервые пришло приглашение выступить на конференции («Международное право и будущее американо-европейских отношений») в столице Эстонии Таллине, Джон сделал то, что делал всегда: посоветовался с женой.
Одним из преимуществ ухода с государственной службы, которое он ценил больше всего, было то, что теперь он снова мог разговаривать о работе с женой, а она была способна на то, в чем он нуждался больше всего, – проникать в его мысли, когда ему это требовалось, и вовремя отступать безо всякой просьбы с его стороны. В последние два года она была его доверенным лицом, его стражем, нянькой и стабилизирующим фактором. Тем не менее это были самые трудные ночи за весь период их брака: отрывки его так называемого «Меморандума о пытках»[23] просочились в печать, после чего были рассекречены и дезавуированы, о чем его даже не предупредили. Его жена не была единственным человеком, с которым он считал возможным обсуждать свои намерения написать такой меморандум. Все журналисты, которые находили время, чтобы встретиться с ним, признавали, что предполагаемый вурдалак оказался вполне приличным человеком.
Сообщив жене о приглашении на конференцию, он признался:
– Первой моей мыслью было отказаться. Но потом я решил, что хочу лететь.
Двумя годами ранее один из судов Германии возбудил дело по обвинению его в военных преступлениях, но с тех пор жернова машины правосудия едва сдвинулись с места. Другой иск был подан полгода назад в суд Калифорнии осужденным американским террористом и его матерью, утверждавшими, что юридические записки Джона привели к жестокому обращению с истцом во время его пребывания в заключении. Джон не спорил – хотя, разумеется, не мог признать, – что с негодяем плохо обращались в тюрьме, однако то, что линию причинно-следственной связи прочерчивали в обратном направлении непосредственно к нему, свидетельствовало о своего рода наивном юридическом креационизме[24]. Хотя формально Джон не имел никаких ограничений в передвижениях, мысль о том, чтобы покинуть воздушное пространство Америки, наполнила его незнакомыми прежде опасениями. Это его шокировало. Но и придало смелости.
– Только чтобы твой рейс не проходил через Германию, – ответила жена. – А также через Францию или Испанию. Я бы избегала и Италии на всякий случай.
Он догадался, что она приняла его желание лететь за шутку, и выждал минуту, прежде чем сообщить ей, что́ ему нравится в Эстонии: это молодая страна, еще не утратившая памяти об угнетении. Он всегда интересовался странами бывшего советского блока и посткоммунистическими государствами в целом (в конце концов, тем, что он стал американцем, Джон был обязан только побегу своих родителей от корейского коммунизма). Он не думал, что ему есть чего опасаться в Эстонии, которая официально была союзницей Америки в войне. Знала ли его жена, что в мире живет всего миллион эстонцев? Вероятно, сказывалось его корейское происхождение, но он чувствовал странное родство с малочисленными, часто подвергавшимися захвату и помыкаемыми другими нациями народами. Его восхищают, не без пафоса сказал он, их провинциальные амбиции. Он без зазрения совести взывал к собственным чувствам жены – непростым, учитывая ее вьетнамское наследие.
Она спросила, как он может быть уверен, что это не ловушка, устроенная, чтобы подвергнуть его публичному унижению. На это у него уже был заготовлен ответ. Организаторы мероприятия, безо всякого побуждения с его стороны, заверили, что никакие темы, которые он не пожелает обсуждать, подниматься не будут. Они знают о судебных исках и пообещали оградить его от неприятностей в ходе любой дискуссии, создав спасательную капсулу. («Спасательная капсула». Их слова, не его. Как всякий «ботаник», выросший в 1970-х, Джон хорошо ориентировался в реалиях «Звездных войн».) Более того, посольство Соединенных Штатов осведомлено о приглашении Джона. («Осведомлено». Их слово, не его. Средней руки посольство, вроде посольства США в Эстонии, без сомнения, густо нашпиговано прислужниками администрации и профессиональными «отпускниками». Учитывая, что Джон был единственным бывшим членом администрации, настаивавшим на обсуждении решений, которые он предлагал, будучи ее членом, он пользовался среди них такой же популярностью, как прокаженный с колокольчиком на шее.)
– Но тебе все же придется говорить обо всем этом, не так ли? – спросила жена.
Джон сам часто подобным образом осаживал своего адвоката. Он не боялся защищать себя при условии, что его собеседник не окажется оголтелым пропагандистом. После того как Джон дал интервью «Эсквайру», его адвокат неделю с ним не разговаривал. А потом прочел не такое уж нелестное резюме журнала и сказал:
– А вы хитрец, советник.
Джон улыбнулся жене. Разумеется, он будет говорить обо всем этом. Но он знал, что можно говорить, а чего нельзя. Он ведь юрист.
Когда он сообщил организаторам конференции, что приедет, те были удивлены не меньше, чем обрадованы. Он – единственный участник-американец, сказали они, и поэтому его вклад в дискуссию неоценим. Было решено, что он выступит с часовым докладом перед окончанием вечернего заседания, а потом ответит на вопросы, часть из которых, предупредили они, могут оказаться враждебными. Джон ответил по электронной почте, что это будет чудесно. Ему доводилось выступать перед аудиториями, более кровожадными, чем, по его представлениям, может собрать Эстония. Прежде чем дать согласие, он связался с посольством в Таллине. Там были в курсе готовящейся конференции и пожелали ему успешной поездки. Он подозревал, что это последнее, что он от них услышит.
Через полгода он провел два часа в аэропорту Хельсинки, ожидая пересадки. Когда два представителя финской службы охраны остановились поболтать возле выхода на посадку, которой ожидал Джон, он почувствовал необъяснимую нервозность. Не то чтобы Интерпол выписал ордер на его арест. Но какой человек может быть совершенно спокоен, зная, что суды на двух континентах рассматривают вопрос о его виновности в совершении преступления против человечности? Он считал, что находиться здесь – смелость с его стороны. На самом деле нет. Эта мысль была ему отвратительна. Он был преподавателем и юристом – именно в таком порядке – и не помнил, когда в последний раз повышал голос. Он не помнил, чтобы за сорок лет своей жизни намеренно причинил кому-нибудь зло. Финские стражи порядка ушли.
Джон поднялся на борт самолета до Таллина, заново подпитавшись энергией анонимности. К тому времени, когда в иллюминатор по правому борту стали видны шпили и красные крыши пункта его назначения, он был уверен, что сделал правильный выбор. До своего отеля в Старом городе он добрался уже в полдень. Процесс регистрации оказался неожиданно приятным. Организаторы конференции прислали цветы. Он позвонил им, чтобы выяснить, как доехать до места, где будет проходить вечернее заседание. Оказалось, что зал располагался менее чем в трех кварталах, в другом отеле – «Виру». Нет-нет, спасибо, он сам дойдет туда пешком. Его выступление было назначено на восемь часов вечера. Это означало, что у него целый свободный день в Таллине, и он потратил его на то, чтобы выспаться и смахнуть с себя кошмар суточного перелета через десять часовых поясов.
В пять часов Джон был бодр, выбрит, одет в костюм цементного цвета с голубой рубашкой (без галстука) и шел по Старому городу в поисках места, где поужинать. Организаторы предлагали прислать сопровождающего, но он отказался. Он хотел обозначить свое присутствие на конференции с той же неожиданностью, с какой, бывало, входил в класс. Если кто-то из участников конференции действительно хотел вступить с ним в конфронтацию, то чем меньше у них будет времени нажать на болевые точки, тем лучше. Прелести Старого города были многочисленны и совершенно нелепы. Никакое человеческое существо не могло бы здесь жить. Все это выглядело как съемочный павильон для какого-нибудь эльфийского эпоса. Улицы – таких грубо мощенных мостовых он в жизни не видел, – казалось, меняли названия на каждом перекрестке. Вдоль большинства из них тянулись пивные бары, рестораны, магазины, торгующие янтарем, – и больше ничего. Туристов было легко отличить от местных жителей: все, кто не работал, были туристами. У средневекового ресторана на Ратушной площади молодые эстонцы, одетые как девицы и кавалеры из Ганзейского союза, наблюдали, как их коллеги изображали поединок на мечах. На одной из улочек длиной в один квартал ветерок донес до него запах метана: трехсотлетней давности трубы канализации были лишь малой частью таллинского прошлого, нуждавшегося в модернизации. Сходство многочисленных декоративных черных шпилей на церквях Старого города вводило его в заблуждение. Каждый раз, когда он избирал один из них своим компасом, указывавшим, как он считал, на отель «Виру», выяснялось, что это какая-то другая башня. В течение двух часов он бродил, чувствуя себя немного заблудившимся.
По высоте и архитектурной брутальности «Виру» Джон догадался, что в советскую эпоху тот был отелем «Интуриста». В вестибюле он увидел «стену славы», на которой были запечатлены имена самых знаменитых гостей: спортсменов-олимпийцев, музыкантов, актеров, арабских принцев и даже самого президента. Его заключенная в рамку записка управляющему отеля на листе бумаги с официальной шапкой Белого дома гласила: «Благодарю также за красивый свитер и шляпу». После консультации с дежурным администратором за стойкой, поездки в лифте на этаж, где проходила конференция, и химической атаки одуряющими духами ехавшей вместе с ним дамы Джон прошел по толстому ковру коридора к столу регистрации. Сидевший за ним молодой человек указал ему на группу людей, которые вежливо ожидали перед входом в конференц-зал, когда оратор закончит свою речь. До выступления Джона оставалось полчаса. Он присоединился к ожидавшим удобного момента войти в зал, щедро украшенный позолотой и люстрами.
Оратором была немка. По переводу ее речи, воспроизводившемуся на экране на французском, эстонском и английском языках (его тоже попросили заранее прислать текст своего выступления, что он и сделал, заручившись обещанием организаторов поручить перевод носителю языка), Джон понял, что его ждет более жесткий прием, чем он предполагал. Все употреблявшиеся ею клише он уже слышал раньше. Она закончила свою речь под аплодисменты, ответила на вопросы, после чего был объявлен десятиминутный перерыв. Когда люди стали подниматься со своих мест, другая женщина в глубине зала заметила Джона и, узнав его, с улыбкой направилась к нему. Джон двинулся ей навстречу, маневрируя среди встречного потока участников.
Это была Илви, одна из организаторов, с которой он все это время держал связь, профессор юриспруденции Тартуского университета. Очень молодой профессор, что сразу расположило к ней все еще моложавого на вид Джона. Они обменялись рукопожатием, после чего Илви начала стискивать ладони, словно лепила маленький глиняный шар. После обмена любезностями – как прошел полет, удалось ли поспать, понравился ли Таллин – она спросила:
– Вы готовы?
Джон рассмеялся и ответил:
– Полагаю, да.
Она тоже рассмеялась, ее ногти блеснули желтоватым лаком. У Илви были обветренные губы и курчавые каштановые волосы, напоминавшие шляпку гриба. Удлиненное лицо с угловатыми чертами вызывало в памяти кубистскую живопись, и его своеобразная миловидность становилась очевидна только после долгого вглядывания.
По какой-то необъяснимой причине Илви подвела Джона к немке, только что закончившей осыпать его страну проклятиями. Та вела беседу с четырьмя окружившими ее людьми. Судя по всему, ей было не в новинку оказываться в центре внимания, а им – это внимание проявлять. Все эти конференции одинаковы. Словно участникам раздавали сценарии и указывали их роли. Когда Илви назвала его имя, все повернулись к нему. Он улыбнулся и протянул руку. Только один из них, пожилой мужчина в толстой шерстяной спортивной куртке, снизошел до рукопожатия, хотя и он сделал это с покорностью узника по отношению к своему тюремщику. Теперь улыбка Джона напоминала попытку умирающего изобразить безмятежность. Никто не произнес ни слова.
Гораздо дольше, чем ему хотелось бы, Илви – то ли расстроенная, то ли не обращавшая внимания на неловкость его положения – стояла рядом, потом подвела Джона еще к нескольким группам участников конференции, встретившим его ненамного теплее. Наконец она проводила его на сцену. Он плюхнулся на единственный стул и достал текст своего доклада из внутреннего кармана пиджака. Илви стояла на помосте кленового дерева, по-учительски поглядывая на часы.
Джон уже привык, что с ним обращаются как с парией, хотя нельзя было сказать, что его это не ранило. Иногда студенты (не его студенты, конечно, а его группы были всегда переполнены) надевали на рукав черные повязки и молча стояли на ступеньках крыльца юридической школы, ожидая, когда Джон пройдет мимо, направляясь к себе в кабинет. Раза два они облачались в оранжевые комбинезоны заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Он всегда желал им доброго утра и один только раз остановился поговорить с ними. Их претензии были столь многочисленны и разнообразны, что оспаривать их было все равно что спорить с поэзией битников как таковой. Подобный опыт не столько сбил его с толку, сколько разочаровал. Джон не хотел, чтобы эти студенты или кто-то еще соглашались с ним. Он уважал аргументированное несогласие. Единственное, чего он хотел, это чтобы кто-то еще помимо него признал, что проблема не так проста, как кажется.
В начале войны были захвачены двое военнопленных. Один был гражданином США, другой – Австралии. По каким законам их судить? Джон считал, что следует углубиться в очень давнюю историю американской юриспруденции – индейские войны, законы о пиратстве, – чтобы найти юридически уместные аналогии. Некоторые сотрудники министерства юстиции настаивали, чтобы пленному американцу зачитали его права, но не нашлось бы такого суда на земле, который бы не признал, что военнослужащих, совершивших преступления во время боевых действий, следует судить по особым законам. Обращаться с этими людьми как с обыкновенными преступниками означало бы отвергнуть все, что известно из прошлого. Американский и австралийский задержанные, утверждал Джон, не могут пользоваться защитой, предоставляемой военнопленным в соответствии со статьей 3 Женевской конвенции. Не имея звания, не принадлежа ни к какой определенной армии, не подчиняясь определенной субординации – а это необходимое условие, при котором, в соответствии со статьей 3, военнопленные получают защиту, – эти люди не могут рассматриваться как военнопленные ни в каком юридическом смысле.
Когда в Пакистане был схвачен третий по иерархии руководитель «Аль-Каиды», ЦРУ обратилось к Джону с просьбой предоставить им необходимую нормативную базу. Это заняло у него бо́льшую часть лета 2002 года. Джон не мог припомнить, чтобы когда-либо работал усерднее и тщательнее. Ему пришлось дать определение, нарушает ли практика допросов, применявшаяся ЦРУ за пределами США, обязательства, взятые ими на себя в соответствии с Конвенцией против пыток 1984 года[25]. Поэтому он прежде всего изучил вопрос о том, что именно называется пыткой, и выяснил, что пыткой в Конвенции называется «любое действие, причиняющее сильную боль или страдание, как физического, так и нравственного свойства, намеренно примененное по отношению к человеку». Стало быть, термин «боль» входил в юридическое определение. Американцы в качестве приложения к своей ратификационной грамоте добавили более подробное определение пытки как «действия, намеренно направленного на причинение сильной боли или нравственных страданий». Что такое «сильная боль»? Что значит «намеренно направленного»? Джон сверился с соответствующей медицинской литературой. Может ли врач точно определить термин «сильная боль»? Врач не мог. А сам закон? И закон не мог. Факт состоит в том, что можно сколько угодно исследовать вширь и вглубь юридические документы в поисках рабочего определения «сильной боли», и вы никогда там его не найдете. Поэтому Джон – безо всякого удовольствия – выработал собственное определение: пытка – это действие, при котором «сильная боль» достигает «такого уровня, когда она наносит достаточно серьезный физический ущерб, такой как смерть, отказ какого-либо органа или серьезное нарушение жизненных функций организма». Что же касается «продолжительного нравственного страдания» – еще один термин из невразумительного языка Конвенции против пыток, – то он нигде не упоминается ни в американской юридической и медицинской литературе, ни в международных документах о правах человека. И снова Джону пришлось придумывать свое определение. Основанием, по которому моральный вред можно назвать пыткой и тем удовлетворить требование соответствия термину «длительное нравственное страдание», является конечный результат, который, по мнению Джона, должен быть равен посттравматическому стрессовому расстройству или хронической депрессии, продолжающейся в течение значительного времени, то есть несколько месяцев или лет. Джон разработал эти нормы только для ЦРУ и только в отношении тех, кто подпадал под определение «объекты особой важности», но ни в коем случае не в отношении обычных заключенных, и тем более не в Ираке, где статья 3 Женевской конвенции была безоговорочно применима. В рамках допустимых методов допроса, как настаивали агенты ЦРУ в Гуантанамо (они хотели, чтобы все, что сообщали узники, передавалось в суд, забывая, или предпочитая забыть, о том, что ни один из этих людей не мог быть судим каким бы то ни было иным судом, кроме военного трибунала), заключенным нельзя было и твинки[26] предложить без того, чтобы это не сочли насильственным действием. Так было, пока не появились юридические записки Джона. Однако вскоре после того как разработанные им нормативы были преданы огласке, произошло нечто, совершенно для него неожиданное: главный юрист ФБР написал собственную «записку», в которой утверждалось, что методы допросов, свидетелем которых он был в Гуантанамо, являются незаконными. В тот же день, когда юридические записки Джона были рассекречены, Гонсалес[27] дезавуировал их на пресс-конференции, заявив, что они «не отражают политику администрации». Этого Джон так никогда ему и не простил.
После того как Илви, представляя его, просто повторила резюме, которое Джон прислал ей в свое время, в аудитории раздались аплодисменты. Он прошел на трибуну, наклонился к микрофону, посмотрел на экран у себя за спиной, снова наклонился к микрофону и снова взглянул на экран у себя за спиной. В последний раз наклонившись к микрофону и сделав свой и без того приятный голос мягким, как детский аспирин, он сказал, что не уверен, чью речь ему следует произносить. Несколько разрозненных смешков – потом всеобщий хохот в зале. Джон обернулся к экрану еще раз и увидел, что на нем появился наконец первый абзац перевода его доклада. Ну что ж, подумал он, приступим.
Он разгладил первую страницу речи, которую произносил уже много раз, и взглянул на лица слушателей, сливавшиеся в пуантилистскую картину. Триста человек, подумал он. Выражение лиц скорее любопытствующее, чем враждебное. Что-то щелкнуло у него в голове одновременно с появившимися на экране словами. Не слишком ли далеко он зашел? Он был пожизненным профессором права одного из главных американских университетов, и в голову ему не единожды приходила мысль: почему он так решительно настроен защищать себя? Неужели сознание, что он может это сделать, было настолько утешительным?
В начале сентября 2001 года Джону было тридцать четыре, и он проводил экспертизу договора, наиболее существенный с юридической точки зрения пункт которого касался белых медведей.
Прежде чем вернуться на свое место, Джон испробовал еще несколько возможностей. Он раз пятьдесят шарахнул по двери пилотской кабины тяжелым стальным компрессором. Потом отправился в хвостовой отсек, нажал кнопку «Связь с командиром» на коммутационном пульте для бортпроводников и стал истошно кричать. Но его истерика оказалась бесполезной. Успокоившись и сев на место, он попытался найти разумное объяснение происходящему. Едва ли его накачали снотворным. Он в тот день ничего не ел и выпил только диетической колы вскоре после посадки. Стюардесса принесла банку, и Джон сам вскрыл ее.
Он мысленно воспроизвел фрагменты, которые сохранила его краткосрочная память. Утренний рейс из Таллина. Сорок пять минут в аэропорту Хельсинки. Тупая, тягостная процедура посадки. Насколько мог, вспомнил пассажиров. Болтливая Яника, эстонка, направлявшаяся в Соединенные Штаты. Похожий на лягушку-быка мужчина без шеи, сидевший рядом с ним перед выходом на посадку. Молодая женщина с густыми сросшимися бровями, в толстовке Оксфорда, улыбнувшаяся Джону на пути в салон второго класса. (Ни один азиатский мужчина не забудет улыбнувшуюся ему белую женщину, независимо от того, сросшиеся у нее брови или нет.) Молодой человек, которого Джон запомнил только потому, что тот был чернокожим. Похожая на отличницу девушка с тонкими прядями волос, в свободной белой блузе. Парень лет двадцати с небольшим в футболке с надписью: «ТЫ – ОТСТОЙ». Стюардессы в зеленовато-голубых брючных костюмах. На этом финском рейсе, в этих северных краях Джон остро ощущал свою азиатскость и предвкушал облегчение, которое испытает, вернувшись в Калифорнию, в свой университетский городок с его разнорасовой толпой на дорожках, музыкальными магазинчиками и закусочными, с многообразием запахов конопляных экстрактов.
Куда же подевался его айфон? Ясно, что его кто-то взял. Джон пошарил под своим и всеми другими креслами бизнес-класса. Что же делать? Что он мог сделать? Воздушный компрессор серьезно повредил дверь, оставив на его укрепленной поверхности множество вмятин и сбив ручку. Она лежала теперь в кармане у Джона, чтобы потом в случае необходимости можно было приладить ее на место, хотя он понятия не имел, как это сделать. В шкафу в хвостовой части самолета он нашел кое-какие инструменты. Сейчас они лежали на соседнем сиденье. Но сама дверь даже не дрогнула.
Внезапно испытав потребность ощутить реальность окружающих предметов, Джон выдернул из проволочной корзины сбоку от своего кресла журнал, – его плотно заламинированная обложка была холодной и скользкой, как стекло. Журнал рекламировал товары, продающиеся на финских рейсах. Даже невзирая на нынешние обстоятельства, покупательский зуд, охватывавший пассажиров в самолете, казался ему загадочным. Тем не менее он пролистал хрустящие плотные страницы. Жемчужное ожерелье за пятьдесят евро. Сухие дезодоранты фирмы «Дольче & Габбана» за двадцать евро. Тональная основа фирмы «Л’Ореаль» – за тридцать. Целые страницы европейских конфет и шоколада. Дойдя до последней страницы с рекламой электроники, он задержал взгляд на смартфоне «Блэкберри-керв 8310», работающем на солнечной энергии, ценой в двести сорок пять евро. Почти наверняка у десятков пассажиров этого рейса были телефоны, и какое-то их количество могло все еще оставаться в их ручной клади. Хотя связаться с кем-либо представлялось маловероятным, можно было найти приложение, позволяющее послать отложенное письмо по электронной почте или эсэмэску, которая пройдет, как только самолет снизится.
В тот момент, когда Джон встал, самолет тряхнуло, как бывает при входе в плотные слои атмосферы. Он снова сел и пристегнулся ремнем. Страх, который ему удалось было обуздать надеждой, вновь охватил его с бешеной силой. Он заставил себя глубоко дышать. Ему было неизвестно, который теперь час и сколько времени он провел в этом самолете, но шторка на его иллюминаторе, как и на всех остальных в бизнес-классе, теперь была поднята, и Джон снова уставился в ледяную тьму тропосферы. Он вспомнил жену, своих студентов, то, как они тревожились за него, и снова встал.
Собрав всю ручную кладь пассажиров бизнес-класса и разложив ее вокруг своего кресла, Джон странным образом испытал облегчение. Ему казалось важным держаться неподалеку от своего законного места, хотя объяснить почему он бы не смог. Он начал осмотр сумок, большинство из которых были небольшими. Люди, готовые платить по тарифам бизнес-класса, без колебаний сдают крупные вещи в багаж. Им не приходится толкаться в очереди на такси после приземления, их встречают иорданцы с маленькими белыми табличками, на которых написаны их фамилии. Расстегивая молнии, Джон шарил во всех отделениях и ощупывал находившиеся в них предметы. Он не хотел без надобности устраивать беспорядок в чужих вещах. То, что на ощупь казалось подходящим, он вынимал. К концу своих поисков он сидел, окруженный бритвенными принадлежностями, цифровыми фотоаппаратами, айподами, беспошлинными бутылками водки с надписями на кириллице, несколькими монблановскими ручками и гладкой розовой пластмассовой торпедой, в которой он не сразу распознал секс-игрушку. Было здесь и с полдюжины корпусов от компьютеров – все пустые.
Джон направился в салон второго класса, но прежде чем ему удалось опустошить первую багажную полку, его желудок послал очередную дозу горячих испражнений к точке выхода. Джон проковылял в туалет, на ходу расстегивая брюки, и содержимое кишечника исторглось из него прежде, чем он успел сесть на пластмассовую крышку металлического унитаза. Распространившаяся вонь не поддавалась никакому описанию. Сквозь нее каким-то необъяснимым образом пробивался запах апельсинов. Кишечная затычка открылась снова, испражнения вырывались мощными залпами. Теперь ему стало нехорошо, закружилась голова, мозг его можно было сравнить с инвалидом, которого никто не навещал уже несколько месяцев. Опорожнив кишечник, он вымыл руки.
Соблюдение приличий его больше не заботило. Он прошел вдоль первого прохода, распахивая верхние багажные полки и варварски вышвыривая их содержимое на пол. Довольно скоро он оказался по колено завален багажом. Неужели придется все это перерыть? Нет. Он осознал, что дал слишком много воли гневу, поэтому пришлось восстанавливать спокойствие, чтобы внимательно обыскать сумки. Джон перешел во второй проход, по дороге нажимая на замки багажных полок до щелчка, после которого дверцы сами медленно поднимались. Сколько же всего в этом самолете держалось на пластмассовых шарнирах! Он пари́л в металлической капсуле прямо под кромкой космического пространства, между тем как гигантские двигатели в пятнадцати метрах от него изрыгали невидимый тысячеградусный огонь. Это было ненамного удивительнее, чем реальность, внутри которой он оказался заперт.
Янику он нашел в третьем от конца прохода багажном отделении – хотя, учитывая, что багажные полки были соединены по три, фактически она занимала весь последний отсек, и при этом все равно едва в него втискивалась. Ее разбитое лицо со скосившимися глазами и ртом, заклеенным скотчем, отправило Джона в нокаут с мощью боксерского удара. Когда же он наконец нашел в себе силы снова взглянуть на нее, то увидел, что одна ее рука свешивается с полки. Она чуть-чуть подрагивала в такт вибрации самолета, которой сам Джон уже не ощущал. Он осторожно снял ее с полки. Когда ее тело лишилось опоры, ему показалось, что она набрала полсотни лишних килограммов веса. Он упал спиной на кучу ручной клади с выступающими из нее твердыми углами, Яника – на него.
В скошенных глазах Яники, оказавшихся почти вплотную к его собственным, но не видевших его, будто застыло выражение некоего последнего нежеланного знания. Высохшие сгустки запекшейся крови забивали ей ноздри. Щеки были покрыты паутиной лопнувших капилляров, сине-багровые вены на лбу и висках просвечивали сквозь кожу. Джон столкнул ее с себя, издав громкий протяжный обезьяний крик. Он попытался сорвать клейкую ленту с губ Яники, но звук мертвой кожи, сдираемой с мышц, оказался настолько мерзким, что он, бросив все как есть, помчался обратно в салон бизнес-класса.
Джон решил еще раз попробовать разбить дверь пилотской кабины компрессором, причем на этот раз не прекращать усилий до победного конца. Вбежав в салон, он увидел, что экран, на котором высвечивалась предполетная информация о правилах безопасности, опускается вниз. Затем беззвучно выключилось все освещение. Джона охватила паника. Сделав два шага, он споткнулся и упал. Ничего не видя, отползая назад, в салон второго класса, по груде наваленного багажа, он вспомнил неандертальцев. Назад, назад, в укрытие. Но укрытия не существовало. То, что он испытывал до сих пор, еще не было страхом. Страх оказался жидким, он циркулировал в его крови, заполнял резервуар мозга. Теперь Джон знал: настоящий страх черпает силу не в том, что может случиться, а в том, что случится наверняка и вы это точно знаете. У него над головой послышался тихий гул, он узнал его: по всему салону второго класса опускались экраны поменьше. Джон взглянул на ближайший. Он был включен, но пуст, мерцал, как виниловая пластинка, и был темнее, чем окружающая темнота.
Затем появилась зернистая картинка цифрового видео, хотя по нижнему краю бежала размытая волна. Джон находился слишком далеко, чтобы разобрать, что там изображено. Он встал. При ближайшем рассмотрении это оказалась маленькая обшитая фанерой комната, снимаемая с высокой точки в углу. В комнате находились две фигуры. На стуле за маленьким столом – женщина. Вокруг нее ходил мужчина в тяжелых ботинках, свободных черных брюках, черной безрукавке и черной лыжной маске. Звук был тихим и удаленным, очевидно, записанным без выносного микрофона. Сквозь снежную пургу помех Джон не сразу узнал Янику. Судя по всему, она была привязана к стулу и тихо, безнадежно плакала. Мужчина посмотрел в камеру, подошел к ней поближе и рванул ее. Видимо, камера не была закреплена, может, кто-то держал ее в руках. Изображение завертелось, но, несколько раз дернувшись, быстро стабилизировалось.
Второй мужчина, одетый точно так же, вошел в комнату через не попавшую в объектив дверь. Глядя прямо в камеру, он закрыл за собой эту дверь со странной деликатностью. Первый, тот, что теперь управлял камерой, должно быть, увеличил масштаб изображения, когда приблизился второй: его лицо в лыжной маске не заполнило экран постепенно, а ворвалось в него. Джон в упор смотрел на человека, тот, в свою очередь, в упор смотрел на него. Это тоже напоминало путешествие во времени. Теперь, когда самой Яники не было видно, ее рыдания сделались громче и пронзительнее. Или, может быть, она просто так отреагировала на появление второго мужчины.
Сам человек ничего не говорил. И в глазах его почти отсутствовало какое бы то ни было выражение. Отвернувшись наконец от камеры, он сел за стол и чем-то занялся – как понял Джон, стал что-то писать. Закончив писать, он снова обернулся к камере и поднес к ней тонкий белый листок, заполненный буквами, почти идеально прилегавшими друг к другу. То, что там было написано, оказалось для Джона неожиданным. Тем не менее он испытал благодарность, потому что теперь хотя бы понимал, что происходит и почему. Прежде чем переключить внимание на Янику, которая теперь уже выла в голос, мужчина положил бумажку на стол. Что же касается надписи, то она так и стояла у Джона перед глазами: «КАТЕГОРИЯ 1».
После выступления Илви спросила Джона, не согласится ли он выпить в Старом городе с нею и несколькими другими участниками, включая даму, выступавшую до него. Неужели эта женщина действительно так глупа? Джон отказался от приглашения с супервежливым поклоном и тысячей извинений, сославшись на усталость. Он начинал чувствовать себя здесь неким ненавистным призраком – не столько человеком, сколько неприятной идеей. Когда он шел к выходу, люди бросались врассыпную, словно он нес зажженную петарду, выстреливающую снопы искр. «Сколько же еще предстоит это терпеть?» – подумал он.
Несколько заданных ему вопросов и впрямь были враждебными, и самый острый задала пожилая дама из первого ряда, с лицом, туго, как каяк, обтянутым кожей. Она сердито спросила: что будет делать Джон, если Международный уголовный суд официально предъявит ему обвинение в военных преступлениях? Джон ответил, что не предвидит такого развития событий, и добавил, солгав: «Честно признаться, я не слишком этим обеспокоен».
Ему предстояло провести в Таллине еще один день. При мысли об этом он зашел в мужской туалет, находившийся в коридоре недалеко от конференц-зала, и начал тыкать пальцем в свой айфон, пока не установилось соединение. Устроители конференции оплатили его перелет, но – по его просьбе – оставили открытой дату обратного рейса. Через несколько минут его билет был перерегистрирован. Чудо. Менее чудесным был факт, что теперь он стал на полторы тысячи долларов беднее. Но это следовало рассматривать как сделку.
На выходе из туалета его поджидал до блеска выбритый мужчина. Его наряд представлял собой предназначенную для Хеллоуина версию костюма руководителя предприятия высокотехнологической отрасли: темно-синий пиджак спортивного покроя, без галстука, джинсы, кроссовки. По-видимому, американец. На его лице отразилось узнавание, которое явно было односторонним – Джон к этому так и не привык: вероятно потому, что никогда не мог определить, действительно ли это одностороннее узнавание. Этот мужчина знал, кто такой Джон, и предполагалось, что Джон должен быть рад встрече с ним. Каждый считает себя звездой собственной биографии.
Мужчина назвал Джона по имени и протянул руку. Визитка, украшенная печатью посольства, материализовалась в ней: «РАССЕЛ ГАЛЛАХЕР, АТТАШЕ ПО КУЛЬТУРНЫМ СВЯЗЯМ». По представлениям Джона, такие слова, как «атташе» и «культурные связи», должны были служить прикрытием для разведслужбы.
Джон попытался в ответ дать свою визитку, но Галлахер сказал, что в этом нет необходимости. Джон убрал визитку в карман и спросил:
– Вы – мой сопровождающий?
У Галлахера был мальчишеский смех типа «ой-не-щекочи-меня», хотя возраст уже проделал свою работу вокруг его глаз и начал отодвигать назад линию волос.
– К сожалению, нет. Вы не слишком популярны в посольстве. Возможно, вам это неизвестно, но они пытались помешать вашему приезду сюда.
Джон отдавал себе отчет в том, что для оставшихся верноподданных осколков администрации он является персоной нон грата. Но то, что посольство пыталось предотвратить его появление на международной конференции, поразило его. Этим людям что, делать нечего?
– Вы правы, – ответил он Галлахеру, – этого я не знал.
От сознания собственной смелости Галлахер снова расхохотался. Слишком уж он старается, подумал Джон.
– Но оказалось, что вашей подруге, профессору Армастус, не нравится, когда ею манипулируют. У нее тоже есть друзья. Чем больше усилий прилагало посольство, тем более решительно они старались заполучить вас. Кстати, вы произнесли прекрасную речь.
– Я познакомился с профессором Армастус только сегодня. И спасибо.
– Послушайте, – сказал Галлахер, уверенный, что теперь, о чем бы он ни захотел поговорить, все пойдет как по маслу, – я здесь по собственной воле, хочу сказать, что многие из нас благодарны вам за то, что вы сделали.
– Еще раз спасибо.
Галлахер самодовольно, но любезно посмотрел на Джона.
– Мой семидесятидвухлетний отец был ветераном Вьетнама. Одной из операций, в которых он участвовал, была операция «Феникс»[28]. Он всегда говорил, что операция получила столь неподходящее название потому, что разрабатывалась гениями, а воплощалась идиотами. Но даже при этом она была самой эффективной операцией, какую мы когда-либо проводили против Вьетконга. После войны даже сами коммунисты это признали. Мой отец служил в Сайгоне и рассказывал, что к тысяча девятьсот семьдесят второму году средняя вероятная продолжительность жизни главаря коммунистической ячейки равнялась четырем месяцам. Ничто из того, что вы отстаиваете, ничуть не хуже того, что делал мой отец в рамках «Феникса» и чем он гордился. Просто мне хотелось, чтобы вы знали, что многие из нас восхищаются вами.
Работая над своими записками, Джон, разумеется, ознакомился с операцией «Феникс». Он выяснил, что ЦРУ сделало внутреннее заявление о том, что «Феникс» будет «проводиться в соответствии с общепринятыми военными законами». Он также узнал, что некоторые американские офицеры подали рапорты об отставке, поскольку считали аморальным то, что им приказывали делать. Джон посмотрел на Галлахера. Назначение в неперспективную Эстонию говорило само за себя. Его отец охотился за коммунистами. Самое большее, на что мог осмелиться сын, – это бросить вызов своему посольству, сказав Джону, чтобы он выше держал голову. Консерватизм, приверженцем которого он, несомненно, был, не считался правильной философией. Это было плохим умонастроением. Несколько секунд оба молчали.
– Хотите выпить? – спросил Галлахер. – Судя по вашему виду, вам это не помешает.
Джон не хотел пить. Однако решил не отказываться. Они вместе вышли из «Виру» в еще светлый летний таллинский вечер. Джон спросил Галлахера, сколько он уже служит в здешнем посольстве.
– До этого я работал в Греции. В общей сложности десять лет. А еще раньше служил в морской пехоте. В тысяча девятьсот девяносто восьмом году получил капитана. Вышел в отставку слишком рано, чтобы поучаствовать в последующем веселье.
Они направлялись в центр Старого города. В слабеющем свете дома́ казались яркими, как в рисованной мультипликации. Люди пили за вынесенными на тротуары столиками кафе, пили на ходу, пили в ожидании, пока щель банкомата выплюнет язычки местной валюты. Джон заметил группки молодых русских с тяжелыми взглядами и нетвердой походкой; шедших рука об руку и горланивших песни шотландцев; неуверенно держащихся на ногах курильщиков перед входом в каждый паб. Заметил он также старушек-нищенок в обтрепанной одежде, не соответствовавшей сезону, – все они выглядели так, словно несли на себе какое-то нерушимое цыганское проклятие. Джон спросил Галлахера:
– С какого же рода культурой вы здесь поддерживаете связь?
Галлахер посмотрел на него.
– Вы удивитесь, но это занятное место для жизни, даже при том что эстонцы в некотором роде непостижимы. Один мой приятель играет на бас-гитаре, так вот он мне рассказывал, что, где бы он ни жил, он всегда имел возможность выступать на «Открытом микрофоне»[29]. Бас-гитаристы востребованы везде. Приехав в Таллин, он явился на «Открытый микрофон», а там на сцене уже стояли пять эстонских парней, бас-гитаристов, которые искали себе руководителя. Это нация бас-гитаристов.
Взгляд Джона зацепился за шедших им навстречу двух Фрей[30] на высоких каблуках, в плотно, словно собственная кожа, обтягивающих джинсах. Эта парочка несла себя с таким видом, словно тайно жаждала постоянных низкопробных домогательств, и не без успеха. Вслед им неслись все мыслимые страстные призывы, выкрикиваемые по-русски.
Галлахер тоже заметил женщин.
– Ну, и это, конечно, тоже. В Таллине даже уродливые девушки по-своему хороши. Это компенсируется тем фактом, что даже наиболее интеллигентные из них по-своему глупы.
Когда девушки прошли мимо, Галлахер продолжил. Разговор о женщинах перетек в разговор о Финляндии, а тот, в свою очередь, – о советских спецназовцах и далее – в сжатую устную историю 1990-х. Он не делал переходов от одной темы к другой. Вскоре его монолог вернулся к отцу. Джон больше не слушал. Вместо этого он размышлял о само́м Галлахере. Волосы жидкие, слабые, цвета ржи – Галлахер часто проводил по ним от темени ко лбу: дурная школьная привычка, возродившаяся в среднем возрасте, чтобы скрыть наступление залысин. Воспоминания об отце пробудили в Галлахере какие-то неведомые обиды, хотя он по-прежнему упорно хохотал едва ли не после каждой третьей фразы.
– …вот что всегда говорил мой отец, – закончил он.
Джон, упустивший суть финала (возможно, в нем содержалась не одна, а несколько сутей), кивнул.
Галлахер тоже кивнул и добавил:
– Знаете, он ведь умер только в прошлом году.
– Сочувствую вашей утрате.
– Когда произошла утечка содержания ваших записок, мы даже обсуждали их с ним. Я поинтересовался его мнением. Он предсказал, что террористы начнут использовать наши собственные суды против нас. «Дерьмо! – сказал он. – Я лично нарушал третью статью Женевской конвенции. И не раз!»
Легкие морщинки озабоченности легли на лоб Джона. Это было ошибкой.
– Вот туда мы идем. – Галлахер указал на бар-погребок в глубине от нелепо-прелестной улицы Пикк, по которой Джон уже бродил сегодня днем.
Полуподвальные окна погребка были украшены гирляндами рождественских огней, никакой вывески на нем не было.
Джон не пил, во всяком случае, в том смысле, который обычно вкладывают в слово «пить». Бокал вина раз в несколько дней, всегда во время еды; иногда – кружка импортного пива в жаркий воскресный день, один хороший односолодовый виски после дорогого ужина. Когда Галлахер сказал «выпить», Джон представил себе, как они сидят в баре за бокалом коньяка. Существует важное правило, нарушая которое подвергаешь себя огромному риску: никогда никуда не ходи с человеком, которого мало знаешь.
Джон последовал за Галлахером вниз по бетонным ступеням, напоминавшим спуск в бомбоубежище. Дискомфорт, который он начал испытывать, еще больше усилился, когда Галлахер – свой парень, желанный гость – распахнул дверь и немедленно направился к бару, за которым стояло прекрасное видение. Галлахер тут же вступил с ним в беседу. Джон решил заключить с собой небольшое пари, чтобы посмотреть, сколько он здесь выдержит. Он сел за столик и стал ждать Галлахера, но, обернувшись, увидел, что тот держит в руках ладонь барменши, водя по неким замысловатым судьбоносным линиям на ней указательным пальцем. Барменша с улыбкой отняла руку и, отвернув кран, стала наливать пиво, между тем как Галлахер принялся самодовольно оглядывать зал. Вручив клиенту две пол-литровые кружки, женщина послала ему воздушный поцелуй. Галлахер отсалютовал ей кружками. Как только он повернулся к ней спиной, улыбка вмиг исчезла с ее лица.
Что касается других служащих, то в баре их, похоже, не было. Джон выбрал центральный из четырех столиков, который представлял собой лучший наблюдательный пункт. Рассеявшись вдоль одной стены ниши, оформленной изображениями трагических сцен, скрестив руки и держа сумочки на коленях, сидели с полдюжины молодых женщин, глазевших в потолок. В другом конце зала, на сцене размером со столик, за которым сидел Джон, танцевала еще одна женщина. Слава богу, это не был стриптиз, танцовщица не выказывала никакого намерения раздеться, хотя двигалась в томно-искусительной манере под такую тихую музыку, что Джон едва различал ее. Стены и ковер были цвета адского пламени – единственный узнаваемый мотив. То, что все это точно походило на расхожие представления о преисподней, не снижало впечатления. Галлахер уселся напротив Джона и подвинул ему кружку.
– До часу – двух ночи тут обычно немноголюдно.
Джон жестом обвел зал.
– Что это?
Припав к своей кружке губами, Галлахер приподнял брови. Потом, поставив ее на стол, проворно слизал пенные усы.
– Местечко для понимающих джентльменов. Не беспокойтесь. Ничего такого, чего бы вам не хотелось, не будет.
В этот момент танцовщица спустилась со сцены и села рядом с Джоном. Она была безумно красива в своем черном платье, которое могло бы поместиться в кошельке для мелочи, и, вспотев от танца, блестела – этакая экосистема в миниатюре.
Джон жалобно посмотрел на своего спутника:
– Галлахер, пожалуйста.
Галлахер снова рассмеялся:
– Один бокал, советник. Это отличное место, чтобы расслабиться, если не сдерживать себя. – Обращаясь к танцовщице, он добавил: – Милая, давай, садись рядом со мной.
Та подчинилась. От следующей женщины, которая подошла к нему, Галлахер отмахнулся, и она села рядом с Джоном.
Джон пожал ей руку. У нее были катастрофически тонкие ноги, эластичные брюки еще кое-как прилегали к бедрам, но болтались вокруг икр. Шея – стебелек, испещренный прожилками. Женщина жеманно шмыгнула носом и вынула две серебряные заколки из черных волос. Заколки были просто для видимости: ни одна прядь не упала ей на лицо. Женщина принялась рассматривать заколки, будто только что нашла их в прибрежном песке, ожидая, чтобы Джон заговорил. Потом водворила заколки на место и стала разглядывать свою ступню, которой притопывала по огненно-красному ковру, выглядевшему так, словно ему пришлось принять на себя множество желудочных извержений. Ногти на ее ногах имели цвет алюминиевой фольги.
Джон все еще ничего ей не сказал. Между тем Галлахер прекрасно ладил с танцовщицей. Казалось, что между ними происходил очень серьезный разговор. Соседка Джона закурила сигарету и сделала глубокую шумную затяжку, какие доставляют особое удовольствие курильщику. Дым заструился из уголков ее губ. Еще несколько минут спустя она ушла, и Джон остался один на один со своим пивом.
О чем его не спросили после выступления, так это о том, не мучили ли его сомнения, когда он писал свои записки. Иногда сомнения действительно посещали Джона. Они всех посещают. Джона беспокоило, что дознаватели не будут осознавать моральные ограничения так, как осознавал их он. Он также опасался того, что называют «дрейфом силы»: когда применяющий силу человек, не добиваясь успеха, применяет ее снова и снова, уже более интенсивно. В конце концов, интенсивный допрос простителен только в том случае, если есть серьезные основания полагать, что допрашиваемый что-то знает. Поэтому Джон никогда и не думал, что такой допрос будет применяться к кому бы то ни было, кроме членов «Аль-Каиды».
Джон понимал, что его аргументы спорны, а порой и сомнительны, но они основывались на законности, а не на моральных суждениях. Он исходил не из благоразумия или догадок о том, какие формы может принимать «интенсивный допрос». Он просто оценивал соответствие этих форм существующим законам. Его записки касались восемнадцати методов, разделенных на три категории. Первая категория ограничивалась двумя приемами: запугиванием (криком) и обманом. Вторая включала в себя двенадцать: пытку неудобными позами, изоляцию, до четырех часов стояния на ногах, игру на индивидуальных фобиях, предъявление фальшивых документов, проведение допроса в нестандартных местах, ведение непрерывного допроса на протяжении двадцати четырех часов, изменение рациона питания, обнажение, насильственное обыскивание, пытку темнотой и пытку громкой музыкой. Третья категория предназначалась только для самых тяжелых случаев и включала четыре приема: физическое воздействие средней тяжести, угрозу жизни заключенного или жизни членов его семьи, пытку экстремальными погодными условиями и симуляцию утопления. Существовала еще и четвертая категория, которую, слава богу, его никогда не просили оценить. Эта категория включала в себя только один прием – чрезвычайную экстрадицию в место, губительное для жизни заключенного.
Подумывая об уходе из юриспруденции, Джон сказал себе: вне ее ему будет лучше. Прогулки по осеннему университетскому двору, радость при виде студентов, ожидающих его возле кабинета, внутриуниверситетская атмосфера, какой в Вашингтоне не сыщешь ни за какие деньги. Министерство юстиции было музеем, и его мраморные коридоры вели к своего рода интеллектуальной прогерии[31]: даже молодые люди здесь быстро становились стариками. Больше всех об уходе Джона горевал Аддингтон[32]. «Неужели вы действительно хотите учить испорченных богатеньких деток, оправдывающих готовый на убийства пролетарский сброд?» – говорил он.
Через несколько месяцев после ухода Джона многие из его выводов были отозваны и их действие приостановлено. Позднее Джон узнал, что Аддингтон протестовал против этого, указывая, что президент доверял мнению Джона. В таком случае, отвечали ему, президент нарушал закон. Через пять месяцев разразился скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб. Через семь месяцев записки Джона были рассекречены. Гонсалес на пресс-конференции пообещал предоставить средствам массовой информации доказательства того, что в процессе применения интенсивных допросов проявлялась должная осмотрительность и надлежащая юридическая проверка обеспечивалась на каждом их этапе. Он действительно считал, что именно это было предметом спора. Джон никогда не забудет ту энергию гремучей змеи, которая клокотала на совещаниях Военного совета. Все они отличались поистине маоистской убежденностью: Фейт[33], Хейнес[34], Аддингтон, Гонсалес, Флэнигэн[35] – люди, обретавшиеся в шаге от президента. Адвокаты адвоката. У нации случился сердечный приступ, и они держали в руках электроды дефибриллятора, совместными усилиями наскоро сочиняя юридическую стратегию для того, что до тех пор никакому законодательству не подлежало. Собирались они в кабинете Гонсалеса в Белом доме, иногда в министерстве обороны. Строгие, безо всякой обслуги и без записей встреч, на которых самой большой роскошью была диетическая кола. Во время таких совещаний Джон часто сравнивал себя с Гонсалесом. Он, Джон, был американцем в первом поколении, Гонсалес – сыном иммигрантов, бедных настолько, что у них не было даже телефона. И вот куда он взлетел: предначертывает политику страны в момент самого серьезного за последние полвека кризиса в сфере безопасности, является личным советником самого могущественного в мире человека. Вот такая она, Америка, и, чтобы защищать ее, Джон был готов на все, что не выходило за рамки закона.
А вот Фейт и Аддингтон – андроиды, которые смотрят на другие человеческие существа как на не более чем занятное сборище носителей разнообразных умственных сбоев. Ямочки на помятом кукольном лице Фейта были вместилищами яда. Он рассылал «записки» без регистрационных карточек, так что никто не мог точно знать, кому они были предназначены, или в качестве копии «другому получателю», до которого эта копия фактически никогда не доходила. Он произносил речи о священности Женевской конвенции только для того, чтобы подчеркнуть: нельзя позволить террористам осквернить ее непорочные принципы. Его юридическая аргументация так откровенно вводила в заблуждение, что внимавшие его речам о Женевской конвенции уходили в полной уверенности: статья 3 конвенции будет применяться ко всем, кого захватят Соединенные Штаты. К концу одного из монологов Фейта некий генерал из Объединенного комитета начальников штабов ошибочно уверовал, будто все восемнадцать методов интенсивного допроса санкционированы Уставом полевой службы. Ни один из них, разумеется, санкционирован не был. Речь шла, скорее, о создании новой разведывательной службы под условным названием «Агентство тотальной информации», эмблемой которой могло бы стать безумное масонское око, обозревающее мир с высоты. Око Фейта.
Что же до Аддингтона, глаза – как на русской иконе, борода – как у Линкольна, нрав – как у ручной гранаты. После атак Аддингтон стал носить в кармане конституцию, напечатанную на тонкой бумаге, которая так обтрепалась, будто ею пользовались как подставкой для стакана или носовым платком. Как только кто-нибудь выражал с ним несогласие, Аддингтон доставал ее и зачитывал избранные места. Особый талант Аддингтона состоял в умении облекать любые юридические или моральные аргументы в воинствующие выражения, между тем как речи на действительно военные темы он камуфлировал прозрачными эвфемизмами. Возможно, именно поэтому ему – единственному из всех – удалось выйти сухим из воды. Только его имя оказалось не упомянутым ни в одном соответствующем документе.
Они пытались устанавливать законы в сфере, где тикающая бомба замедленного действия представляет собой не бесконечно удаленную, как расстояние до Плутония, статистическую вероятность – каковой она должна была бы быть, – а устройство, готовое взорваться в любой момент. Теперь Джон это видел, но таков был лишь один из вариантов осмысления тех событий. Другой состоял в следующем: разведслужба – это способность распознавать применимость поступающей внешней информации. Лучшая часть этого знания заключалась в понимании того, что позволено забыть.
Пытке симуляцией утопления подвергли трех человек. Трех. И из-за этого он должен теперь отвечать на вопросы о военных преступлениях. Джон слышал, что его преемник сначала испробовал эту пытку на себе, чтобы решить, является ли ее применение переходом дозволенных границ. Ответ был: да. Но несмотря ни на что – ни на какие дебаты и разрушенные карьеры – ЦРУ по-прежнему разрешается использовать симуляцию утопления (Джон предпочитал этот более честный термин), что и было отражено в его записках с самого начала. Их основные положения вообще действовали до сих пор. Разумеется, никто из министерства юстиции не желал санкционировать применение этой пытки Центральным разведывательным управлением, но президент все же нашел своего человека. Он всегда его находил. Однако это было чрезвычайно мучительно, а Джон не любил мучиться. Хотел бы он видеть Фейта, или Гонсалеса, или Эшкрофта[36], или любого из них – одного, в европейском городе, отвечающим на вопросы о политике, которую они в свое время одобрили и которой теперь стыдились.
Джон посмотрел на свою пивную кружку, теперь представлявшую собой пустой стеклянный колодец. Он и не заметил, как выпил все пиво. Этак он может размышлять тут всю ночь, отдаваясь на волю темной волны памяти.
– Я ухожу, – сказал он Галлахеру, который продолжал свой сосредоточенный разговор с танцовщицей.
– Надеюсь, вы оставили время, чтобы посетить завтра Музей оккупации, – ответил тот, взглянув на Джона.
– Боюсь, не успею. Я утром улетаю. – Джон посмотрел на часы. Уже перевалило за полночь.
Галлахер откинулся на спинку стула.
– Жаль. В Таллине можно чудесно провести день.
– Спасибо за пиво, – сказал Джон, вставая. – Не беспокойтесь, я сам найду обратную дорогу.
Не поднимаясь, Галлахер протянул ему руку.
– Надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся. Хорошего вам полета.
У самой двери Джон обернулся, чтобы еще раз взглянуть на Галлахера. Тот уже говорил по мобильному, склонившись над столом; танцовщица привстала, собираясь уходить. Заметив, что Джон задержался в дверях, Галлахер не очень умело отдал честь. Трудно поверить, что этот парень служил в морской пехоте. Интересно, мелькнуло в голове у Джона, кому это он звонит?
Фильм о допросе Яники закончился минут через двадцать, а может, через два часа. В темноте невозможно ориентироваться во времени. При свете течение времени оставляет свои характерные отметины. В темноте оно напоминает езду по бескрайнему полю – нескончаемое однообразие, в котором таится много невидимого.
Джон не знал, чего от него хотели. Он сочувствовал тем, кого помог обречь на пытки, не более и не менее, чем до начала всей этой эпопеи. Его неправильно поняли. Они не разобрались в том, что именно он отстаивал. Тем, кто распоряжается этим самолетом, а теперь и его жизнью, от него не будет никакого проку, разве что они потешат свой садизм. В свою очередь, и ему нечем их вознаградить – только удовлетворением от созерцания его мучений. Пытка, как он писал в свое время, – это вопрос намерения. Теперь он знал, что это куда больше. Обмен темным знанием, выявление скрытых способностей, полное прекращение контакта с миром.
Вдруг Джон поймал себя на том, что неотрывно смотрит в потолок – там из смутно вырисовывающихся вентиляционных отверстий струился воздух. Снова зажегся свет. Он резко повернулся назад в чьем-то кресле салона второго класса и увидел переломанное тело Яники, по-прежнему валявшееся среди груд багажа, – к этому зрелищу он оказался не готов. Когда он встал, изо всех отверстий его одежды вырвалась блевотная вонь.
После того как палач провел Янику через первую категорию пыток и более зрелищные приемы второй и третьей категорий, в комнату вошло еще несколько мужчин. То, что происходило дальше, было ужаснее всего, что Джон видел в жизни. Он не пожелал на это смотреть и открыл глаза только после того, как смолкли звуки ее сопротивления. Фильм заканчивался тем, что мужчины проверяли прекращение жизненных функций ее организма.
Джон вернулся на свое место в бизнес-классе. На сиденье лежал его айфон, белый, как сливочное мороженое. Поток его притупившихся мыслей ответвлялся в немногие оставшиеся низины. Одной из них был Галлахер, единственный человек, знавший, что он поменял рейс. Визитка Галлахера все еще лежала у Джона в кармане. Он вынул ее и провел пальцем по тисненой посольской печати. Интересно, откуда Галлахер знал, что он не выбросит его визитку? Интересно, как на Янике в камере пыток могла быть та же одежда, в которой она сидела в самолете рядом с ним? Интересно, сколько времени он провел без сознания и тот ли это самолет, на который он сел в Таллине? Интересно, где в самолете прятались те, кто все это устроил? И еще интересно, как его айфон мог работать здесь? Тем не менее вот сила сигнала – две полоски. Он получил ответ на один из своих вопросов: Галлахер не предвидел, что он сохранит его визитку. Едва Джон успел набрать четыре цифры его номера, как включилось приложение распознавания: оно было установлено на его айфон.
Галлахер ответил после третьего гудка.
– Таллин – прекрасное место, чтобы провести здесь денек. Жаль, что вы меня не послушали.
Что мог сказать Джон? Они получили то, на что рассчитывали.
– Ничего не хотите спросить? Я вас не виню, советник. Но у вас большие проблемы. Обернитесь.
Джон обернулся. Человек в черной лыжной маске и футболке с надписью «Ты – отстой» ударил его по лицу каким-то чудовищно тяжелым металлическим предметом. Упав на колени, Джон разглядел этот предмет: тот самый компрессор, которым он пытался взломать дверь кабины пилотов. От боли в голове у него помутилось. Второго удара Джон не помнил, однако тот явно был нанесен, потому что, очнувшись, опять совершенно внезапно, он увидел себя привязанным к стулу в комнате, оббитой фанерой. Один его глаз ничего не видел. Во рту недоставало нескольких зубов, язык разбух от крови, как пиявка. Он посмотрел вниз, на свою рубашку: фартук мясника. В его ушах продолжали рокотать самолетные двигатели. Комната сотрясалась от турбулентности. Где-то рядом слышался плач. Напротив Джона, положив руки на стол, сидел Галлахер. Из-под его ладоней виднелась еще одна записка. Он не показал ее Джону, но тот смог ее прочесть. Галлахер сказал, что обещает ему вопросы, но не ответы. Он также сообщил, что они находятся на новой для всех вовлеченных территории.
– Вы готовы? – спросил Галлахер. – Мне нужно знать, что вы готовы.
Джон кивнул, странным образом завидуя собственному полному крови рту. Дверь у него за спиной открылась. Шаги. Чьи-то руки, словно беззубая волчья пасть, сомкнулись вокруг него. Началась шестая категория.
Дэн Симмонс Две минуты сорок пять секунд
На счету Дэна Симмонса научно-фантастические романы («Гиперион»), отмеченные премиями, романы в жанре фэнтези/хоррор («Утеха падали»), тоже получившие литературные награды, и рассказы, объединяющие элементы того и другого. Вот один из лучших его рассказов, замечательный своей ясностью и сжатостью. Симмонс предлагает задуматься о том, что двух минут сорока пяти секунд достаточно, чтобы исполнить популярную песенку… совершить поездку на «американской горке»… или просто увидеть свою стремительно надвигающуюся смерть.
Роджер Колвин закрыл глаза руками, стальная перекладина сиденья опустилась перед ним, и начался крутой подъем. Он слышал лязг тяжелой цепи и скрежет стальных колес по стальным рельсам: каретки поднимались на первый пик «американской горки». Кто-то позади него нервно смеялся. Испытывая ужас перед высотой, с сердцем, болезненно колотящимся о ребра, Колвин осторожно подглядывал в щель между растопыренными пальцами.
Перед ним вздымались металлические рельсы и деревянный каркас аттракциона. Колвин ехал в передней каретке. Опустив руки, он вцепился в ограничительную перекладину, чувствуя, как она стала влажной под его потными ладонями. Кто-то в каретке позади него продолжал хихикать. Он повернул голову, насколько это было возможно, но увидел только рельсы.
Они были уже очень высоко и продолжали подниматься. Аллея аттракционов и парковочные площадки уменьшались, человеческие фигуры становились неразличимы, людские толпы превращались в сплошные цветные ковры, блекнувшие и вливавшиеся в более крупную геометрическую мозаику улиц и линий электропередачи. Постепенно возникала панорама всего города, а потом и о́круга. А они с грохотом ползли все выше. Синева неба сгущалась. Вдали, сквозь голубое марево, Колвин мог видеть, как скругляется горизонт. Он понял, что они находятся высоко над берегом какого-то озера, заметив сквозь деревянные шпалы блики света на гребешках волн внизу, на расстоянии многих миль. Когда каретка быстро проносилась сквозь холодное дыхание облака, Колвин закрыл глаза, потом резко открыл их снова, услышав, как изменилась тональность лязга цепи. Угол подъема уменьшился: они достигли вершины. И начали переваливать через нее.
За вершиной ничего не было. Рельсы выгнулись вниз и исчезли в воздухе.
Колвин впился руками в перекладину; каретка задрала нос, потом резко нырнула. Он открыл рот, чтобы закричать. Началось падение.
– Эй, самое страшное позади! – Колвин открыл глаза и увидел Билла Монтгомери, протягивавшего ему стакан.
Звук реактивных двигателей «Гольфстрима» казался глухим рокотом на фоне мягкого шипения воздуха, струившегося из вентиляционных отверстий. Колвин взял стакан, отвел от себя струю прохладного воздуха и посмотрел в иллюминатор. Международный аэропорт Логан уже скрылся из вида, внизу был виден Нантаскет-Бич, скопление маленьких белых треугольных парусов на поверхности бухты и простирающийся за ней океан. Они продолжали набирать высоту.
– Черт возьми, мы рады, что ты решил на этот раз лететь с нами, Роджер, – сказал Монтгомери. – Приятно снова собраться вместе всей командой. Как в старые времена. – Он улыбнулся.
Трое других мужчин в салоне приветственно подняли стаканы.
Колвин теребил на коленях калькулятор и потягивал свою водку. Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза.
Боязнь высоты. Вечная боязнь высоты. Ему шесть лет, он в сарае, падает с чердака, полет кажется бесконечным, время растягивается, острые зубья вил летят ему навстречу. Приземление, у него перехватывает дыхание, щека и правый глаз ударяются о солому в каких-то семи-восьми сантиметрах от острия вил.
– Компания готова вступить в лучшие времена, – произнес Лари Миллер. – Хватит с нас двух с половиной лет нелестных отзывов в печати. Приготовься завтра увидеть запуск. Всё начинаем сначала.
– Ваше здоровье! – сказал Том Уискотт. Еще не было и двенадцати, а он уже прилично набрался.
Колвин открыл глаза и улыбнулся. В самолете летели четыре вице-президента корпорации, включая его самого. Уискотт по-прежнему был руководителем проекта. Прислонившись щекой к стеклу иллюминатора, Колвин смотрел на проплывавший внизу залив Кейп-Код. По его прикидкам, они находились на высоте от трех до четырех тысяч метров и продолжали подъем.
Колвин представил себе здание высотой более четырнадцати километров. С коврового пола вестибюля последнего этажа он шагает в лифт. Пол в лифте стеклянный. Шахта простирается под ним на четыре тысячи шестьсот этажей, и каждый очерчен по периметру галогенными светильниками. По мере того как кабина пролетает свои четырнадцать километров в черном воздухе, параллельные квадратики света все больше сближаются друг с другом, пока не сливаются в сплошное мерцающее марево.
Он поднимает голову как раз в тот момент, когда трос с треском лопается. Колвин падает, беспомощно хватаясь за стенки лифта, ставшие такими же скользкими, как прозрачный стеклянный пол. Огни проносятся мимо, и вот уже в нескольких милях внизу виден бетонный пол шахты – крохотный голубой квадратик, все больше увеличивающийся, стремительно приближаясь к кабине лифта. Колвин знает, что еще почти три минуты будет видеть, как этот квадрат растет, чтобы смять его. Колвин кричит, и брызги слюны плавают в воздухе у него перед глазами, падая с той же скоростью, что и он сам. Огни несутся мимо. Голубой квадрат растет.
Колвин сделал глоток, поставил стакан в круглое гнездо на широком подлокотнике и начал нажимать на кнопки калькулятора.
Предметы, падающие в поле гравитации, подчиняются строгим математическим законам, таким же строгим, как векторы силы и скорости выгорания в кумулятивных зарядах и твердых видах топлива, – все это Колвин рассчитывал уже двадцать лет. Но так же, как кислород влияет на интенсивность горения, так и воздух регулирует скорость падения тела. Конечная скорость настолько же зависит от атмосферного давления, площади поверхности и распределения массы, насколько и от силы тяжести.
Колвин прикрыл глаза, делая вид, что дремлет, и увидел то, что видел каждую ночь, притворяясь спящим. Расширяющееся, словно в замедленной съемке, белое слоистое облако распускается гигантским цветком на фоне темно-синего неба, кренится, видна красно-коричневая внутренность пламени горящей четырехокиси азота и – едва различимый под инверсионными следами двух баллистических ракет малой дальности – кувыркающийся расплывчатый квадрат носовой части фюзеляжа с кабиной пилотов. Даже на максимально увеличенных фотографиях детали не были бы так отчетливо видны: целая герметичная капсула, которая была кабиной экипажа, опаленная с правого бока, там, где ее задело пламя, извергавшееся из уже пролетевшей мимо ракеты, клонясь, несется вниз, волоча за собой провода, кабели и клочья фюзеляжа, как пуповину и послед. На предыдущих кадрах этих деталей не было, но Колвин увидел и пощупал их после удара о поверхность безжалостного синего моря. На разорванной коже один за другим нарастают слои крохотных ракушек. Колвин представил себе тьму и холод, ожидавшие в конце падения, и себя – корм для мелких рыбешек.
– Роджер, – окликнул его Стив Кахилл, – откуда у тебя эта боязнь полетов?
Колвин пожал плечами и допил свою водку.
– Не знаю.
Во Вьетнаме – не в Наме[37], или «в районе операции», а в месте, о котором Колвин хотел бы думать именно как о месте, а не об обстоятельствах, с ним связанных, – он летал. Уже будучи экспертом по кумулятивным снарядам и пороховым зарядам, он направлялся тогда в долину Бонгсон, близ побережья, чтобы проверить, почему партия стандартной пластиковой взрывчатки С-4 не детонировала у одного из подразделений ВСРВ[38], когда у их «Хьюи»[39] вышибло затяжную гайку, вертолет с оторвавшимся винтом рухнул в джунглях, продравшись сквозь почти тридцатиметровые густые заросли, и повис вверх дном на лианах в трех метрах над землей. Пилот оказался аккуратно проткнут суком, который пробил пол «Хьюи». Второй пилот головой протаранил лобовое стекло. Стрелка́ выбросило из вертолета, он сломал шею и спину и умер на следующий день. Колвин отделался растяжением лодыжки.
Глядя вниз, он видел, как они пролетают над Нантакетом. По его прикидкам, высота составляла примерно пять с половиной тысяч метров, но равномерный подъем продолжался. Расчетная высота их полета равнялась девяти тысячам восьмистам метрам. Это намного ниже четырнадцати километров, особенно при малом отклонении вертикального вектора силы тяги, но очень многое зависит от площади поверхности.
В 1950-е годы, когда Колвин был мальчишкой, он видел в старом «Нэшнл инкуайрер» фотографию женщины, которая прыгнула с Эмпайр-стейт-билдинг и приземлилась на крышу автомобиля. У нее были почти непринужденно скрещены щиколотки, один нейлоновый чулок порвался на большом пальце. Крыша автомобиля расплющилась и сложилась внутрь наподобие того, как перина из гусиного пуха принимает форму тела спящего на ней человека. Голова женщины словно бы глубоко утопала в мягкой подушке.
Колвин застучал по кнопкам калькулятора. Женщина, бросившаяся с Эмпайр-стейт, должна была лететь почти четырнадцать секунд, прежде чем удариться об асфальт. Человек, падающий в металлическом ящике с высоты четырнадцати тысяч метров, будет лететь две минуты сорок пять секунд, прежде чем ударится о воду.
О чем она думала? О чем они думали?
Большинство популярных песен и рок-композиций звучат около трех минут, подумал Колвин. Это довольно долго: не настолько долго, чтобы надоесть, но достаточно долго, чтобы успеть рассказать историю.
– Мы чертовски рады, что ты с нами, – повторил Билл Монтгомери.
– Черт тебя побери, – сердито прошептал тот же Билл Монтгомери Колвину, когда они вышли из зала для телеконференций компании двадцать семь месяцев назад, – ты с нами или против нас?
Телеконференция очень напоминала спиритический сеанс. Группы людей сидели в полутемных комнатах на расстоянии сотен и даже тысяч километров друг от друга и общались с голосами, исходившими из ниоткуда.
– Значит, это зависит от здешней погодной ситуации, – прозвучал голос из КЦК[40]. – Какой она должна быть?
– Мы видели ваш факс, – произнес голос из «Маршалла», – но так и не поняли, почему мы должны рассматривать возможность задержки старта, основываясь на столь малой аномалии. Вы же заверили нас, что эта штука так надежна, что ею можно хоть гвозди забивать.
Фил Макгир, главный инженер проектной группы Колвина, поерзал на своем стуле и заговорил слишком громко. Четырехканальная система для телеконференций имела динамики возле каждого стула, улавливавшие даже самые тихие звуки.
– Вы не понимаете? – почти прокричал Макгир. – Проблему создает сочетание низких температур и вероятной электрической активности в облачном слое. Во время последних пяти полетов произошло три случайных сбоя переключения в цепях, идущих от удлиненного кумулятивного заряда БРМД к антеннам системы обеспечения безопасности…
– Случайные сбои переключения? – повторил голос из КЦК. – Но ведь все в пределах параметров летного сертификата?
– Ну… да, – ответил Макгир. Он едва не плакал. – В пределах параметров, потому что мы все время переписываем эти чертовы параметры. Мы просто не знаем, откуда возникает нестационарный электрический поток, который предохранительное устройство кумулятивных зарядов С-12В на БРМД и межконтинентальных ракетах принимает за команду запуска, притом что функция запуска на самом деле активирована не была. Роджер считает, что, возможно, ЛКЗ[41] активирует цепи или сам состав С-12 генерирует случайный электростатический разряд, который система принимает за команду запуска… О, черт, Роджер, расскажи им сам.
– Мистер Колвин? – раздался голос из «Маршалла».
Колвин откашлялся.
– Мы наблюдаем это явление уже в течение некоторого времени. По предварительным данным, при температуре ниже минус двух и двух десятых градуса окись цинка образует осадок в оболочках С-12В, который и проводит сигнал… если имеется достаточный электростатический разряд… теоретически…
– Но твердой базы данных на этот счет еще нет? – спросил голос из «Маршалла».
– Нет, – ответил Колвин.
– И вы подписали документ, удостоверяющий опасное отклонение на основании последних трех запусков?
– Да, – сказал Колвин.
– Мы связались с инженерами по кумулятивным снарядам из «Бонет», – произнес голос из КЦК. – Что вы скажете, если мы обратимся за советом к ним?
Билл Монтгомери попросил пятиминутный перерыв, и вся команда собралась в холле.
– Черт побери, Роджер, ты с нами или против нас?
Колвин смотрел в сторону.
– Я серьезно, – рявкнул Монтгомери. – Подразделение, занимающееся ЛКЗ, принесло нашей компании двести пятнадцать миллионов долларов прибыли в этом году, и ты сам внес значительный вклад в этот успех, Роджер. А теперь ты, кажется, готов все это смыть в унитаз из-за каких-то чертовых телеметрических данных, которые ничего не значат по сравнению с той работой, которую мы проделали всей командой. Через несколько месяцев, Роджер, открывается вакансия вице-президента. Не упусти свой шанс, не уподобляйся Макгиру, не впадай в истерику.
– Вы готовы? – спросил голос из КЦК, когда пять минут истекли.
– Идем, – ответил вице-президент Билл Монтгомери.
– Идем, – ответил вице-президент Лари Миллер.
– Идем, – ответил вице-президент Стив Кахилл.
– Идем, – ответил руководитель проекта Том Уискотт.
– Идем, – ответил руководитель проекта Роджер Колвин.
– Прекрасно, – произнес голос из КЦК. – Я ознакомлю вас с рекомендацией. Жаль, джентльмены, что вы не будете присутствовать при завтрашнем старте.
Колвин повернул голову к Биллу Монтгомери, окликнувшему его со своего края салона:
– Эй, мне кажется, это Лонг-Айленд.
– Билл, – спросил Колвин, – сколько компания заработала в этом году на модернизации С-12В?
Взяв в руку стакан и вытянув ноги, благо просторный интерьер «Гольфстрима» позволял это сделать, Монтгомери ответил:
– Думаю, около четырехсот миллионов, Род. А что?
– А агентство когда-нибудь всерьез рассматривало возможность обратиться к кому-нибудь другому после… после…
– Чушь собачья, – отрезал Том Уискотт, – к кому еще они могут обратиться? Да они же у нас в кулаке. Несколько месяцев они и впрямь раздумывали, а потом приползли обратно на пузе. Ты – лучший специалист по защитным устройствам кумулятивных зарядов и твердому ракетному топливу в стране, Род.
Колвин кивнул, еще с минуту посчитал на калькуляторе и закрыл глаза.
Стальная перекладина защелкнулась поперек его коленей, и каретка, в которой он сидел, с лязгом поползла вверх все выше и выше. Воздух становился разреженным и холодным, скрежет колес по рельсам перешел в тонкий визг, когда каретки миновали отметку девять километров.
В случае падения давления в салоне с потолка спустятся кислородные маски. Пожалуйста, наденьте их так, чтобы они закрывали рот и нос, и дышите нормально.
Колвин смотрел вперед на ужасающий подъем «американских горок», чувствуя приближение вершины и пустоту за ней.
Маленький аппарат, состоящий из емкости, соединенной с маской, называется персональным спасательным воздушным пакетом – ПСВП. ПСВП четырех из пяти членов команды были подняты со дна океана. Все они оказались активированы. В каждом было использовано воздуха на две минуты сорок пять секунд из пятиминутного запаса.
Колвин видел, как приближается вершина первого пика «американских горок».
Резкий металлический скрежет, толчок – и каретки, перевалив через вершину, сорвались с рельсов. Люди позади Колвина истошно закричали. Колвин наклонился вперед и ухватился за перекладину каретки, отвесно летевшей через четырнадцать километров пустоты. Он открыл глаза. Короткого взгляда в иллюминатор «Гольфстрима» оказалось достаточно, чтобы понять, что тонкие полоски кумулятивных зарядов, которые он там разместил, хирургически чисто срезали левую консоль крыла. Судя по скорости падения, от правого крыла остался обломок, достаточный для того, чтобы обеспечить площадь поверхности, необходимую для конечной скорости, которая лишь чуть-чуть недотягивала до максимальной. Две минуты сорок пять секунд, плюс-минус четыре секунды. Колвин потянулся за калькулятором, но тот свободно плавал по салону, сталкиваясь с проносящимися мимо бутылками, стаканами, подушками и телами, которые оказались не пристегнуты ремнями безопасности. Крики были очень громкими.
Две минуты сорок пять секунд. Достаточно, чтобы подумать о многом. И возможно – всего лишь возможно, – что после двух с половиной лет, когда ни одна ночь не обходилась без сновидений, этого времени окажется достаточно, чтобы коротко вздремнуть безо всяких снов. Колвин закрыл глаза.
Коди Гудфеллоу Diablitos[42]
Что может быть хуже, чем попасться на таможне латиноамериканской страны, когда пытаешься вывезти контрабанду? Как насчет того, чтобы оказаться в «Боинге-727» на высоте девять тысяч метров, имея при себе в ручной клади дьявольски живучий украденный артефакт? В этом рассказе Райан Рейберн III оказывается лицом к лицу и с тем, и с другим. Коди Гудфеллоу – в некотором роде тайна. Действительно ли он учился писательскому мастерству в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса? Действительно ли живет в Бербанке? Действительно ли когда-то зарабатывал на жизнь в качестве «непримечательного композитора – автора музыки к порнографическим видео»? Может, что-то из перечисленного правда, может, все правда, а может, и ничего. Но две вещи можно сказать наверняка: он знает, как сделать так, чтобы кровь застыла у вас в жилах и вы возблагодарили Бога за то, что Райан Рейберн не оказался вашим соседом в самолете.
Невидимый и неукротимый, Райан Рейберн III не выказывал ни малейших признаков волнения, проходя досмотр службой безопасности и паспортный контроль в аэропорту Гуанакасте в Никое, – самый обыкновенный невозмутимый американский турист, – пока его не вызвали из очереди на посадку, не завели за ширму и не приказали открыть рюкзак.
Простодушно улыбаясь, он предъявил посадочный талон, таможенную декларацию и паспорт виноватого вида сотруднику таможни. Ничего страшного, вы всего лишь выполняете свою работу. Никто из пассажиров даже не смотрел в его сторону, двигаясь в очереди мимо. Должно быть, выборочная проверка, но он был белым и путешествовал один. Маловероятно, чтобы он собирался взорвать самолет, однако вероятность того, что он вез контрабанду, была, напротив, велика – он мог даже оказаться «мулом» для перевозки las drogas[43]…
Это не была какая-нибудь банановая республика, где пропадают туристы. Коста-Рика – почти цивилизация. Черт, даже лучше, поскольку у них не было армии, а вместо государственной полиции имелся только «патруль безопасности». Но la mordida[44] все равно оставалась здесь королевой. Райан оглянулся – нет ли поблизости какого-нибудь контролера или камеры, – беспечно улыбнулся и выудил из пояса для хранения денег пять двадцатидолларовых бумажек. Прежде чем начать аутопсию рюкзака Райана, сотрудник таможни натянул голубые резиновые перчатки детского размера.
Гуанакасте был немного затейливее большинства современных латиноамериканских аэропортов, тем не менее и в нем царила та же атмосфера футуристической тюрьмы из научно-фантастического фильма 1970-х. Развешанные повсюду предупреждающие знаки пугали пассажиров изображениями арестованных в наручниках и капюшонах, надвинутых на лицо, с вырывающимися изо рта облачками, внутри которых были написаны мысли, якобы терзающие правонарушителя, вроде: «И зачем только я попытался провезти контрабанду?!»
Плотно сжатые губы. Не пытайтесь вызвать у него улыбку или разговорить его. Не делайте за них их работу. Идиоты, которых они ловят, всегда выдают себя исходящими от них волнами противного ядовитого страха, способного убить канарейку. А Райан не делал ничего противозаконного. На контрольно-пропускном пункте понятия не имели, на что они смотрят, но даже если бы и догадались, это едва ли стоило бы того, чтобы задерживать рейс. Райан не провозил ни наркотиков, ни оружия. Он был просто очередным туристом, везущим домой обычные сувениры.
Сотрудник таможни выкладывал одежду, фотооборудование и туалетные принадлежности с деликатностью слуги, собирающего хозяину корзину для пикника. Он опустошил весь рюкзак, потом сунул руку внутрь, вывернул подкладку и расстегнул молнию фальшивого дна.
– Это просто сувенир, сэр. – Райан тяжело вобрал в себя воздух, словно дышал через мокрое полотенце. – Что-то не так? Я купил это в сувенирном магазине…
Таможенник не понимал его. Он просто стоял, уставившись на рюкзак Райана и положив руки на поцарапанный стол из нержавеющей стали. Потом кашлянул в кулак.
Райан огляделся, развернул деньги веером и сунул их таможеннику. Очередь пассажиров размеренно двигалась через металлодетектор к выходу на посадку.
– Мой самолет взлетает через десять минут, приятель.
Продолжая кашлять, таможенник бросил на стол документы Райана и отпустил его жестом, каким отгоняют комара. Тоненькие струйки брызнули из его кулака.
Райан поспешно затолкал вещи в рюкзак, сунул деньги в карман, взлетел по сломанному эскалатору, потом помчался по большей частью неосвещенному терминалу к своему выходу и только тут заметил, что его документы липкие от слюны и покрыты капельками крови.
Господи Иисусе, какой-то таможенник… Трясет тебя и заражает тебя туберкулезом.
Это было вовсе не забавно, но ему пришлось рассмеяться, чтобы не закричать. Они его застукали, поймали с поличным. Этот взгляд у таможенника, когда он открыл фальшивое дно, прямо перед тем как ему вроде бы стало нехорошо… Он сделался какого-то болезненного бледно-оливкового цвета, и его взгляд упал прямо на ту штуку в мешке для грязного белья. Этот грустный ублюдок знал, на что смотрит, но ничего не сказал и к деньгам не прикоснулся.
Если было на свете что-то, что могло заставить Райана перекреститься и прочесть молитву, так это та вещь у него в мешке. И не потому, что он верил в магию. Провезя контрабандой килограмм чистого колумбийского порошка, прежде чем его разбавят, можно получить чистый доход в тридцать кусков. За девятьсот граммов твердой древесины с ручной резьбой, которая лежала у него в рюкзаке, Райан мог получить вдвое больше, но, если бы его поймали, ему была бы обеспечена экстрадиция, а в Штатах самое меньшее – федеральная тюрьма, да и об этом он мог только молиться.
Райан Рейберн III никогда не ставил перед собой цели устроить свою жизнь именно так, как получилось. Он просто случайно забрасывал удочки и вытягивал что вытягивал. Деньги своего трастового фонда он истратил на получение диплома бакалавра в области истории искусств, а остаток родительской собственности растранжирил на бесцельные шатания по всей Южной Америке – вместо того чтобы найти работу. После трех лет злоключений и открытий, добытых ценой огромных усилий в самых темных уголках земли, он в конце концов усвоил урок, который родители пытались ему преподать еще там, в Пало-Альто: бедность отвратительна.
Вернувшись в Калифорнию, Райан преисполнился решимости конвертировать свою бесполезную степень в успешный род занятий. Он изучил конъюнктуру художественных галерей, начал искать подходы к частным коллекционерам и наткнулся на «оранжерею» чудаков – любителей артефактов доколумбовой субкультуры. Стал совершать туристические поездки от Мехико до Огненной Земли, слой за слоем вытесняя посредников, пока не составил собственный клиентский список, включавший с дюжину дотком-миллионеров[45]. Половина древностей, выставлявшихся в латиноамериканских музеях, представляла собой подделки, и археологи окружали свою работу секретностью, чтобы держать грабителей на расстоянии. Таможенным службам ООН и США удалось раскрыть несколько сетей, которые действовали вокруг Пало-Альто и Стэнфорда, но Райан не внедрялся в круги, члены которых выставляли свои сокровища напоказ. Его клиенты не светили свои трофеи, добытые из ограбленных захоронений, на благотворительных празднествах, и он не торговал ерундой, какую можно увидеть на страницах «Нэшнл джиогрэфик».
Зорокуа обитали в высоких альпийских долинах Кордильера-де-Таламанка, менее чем в трехстах пятидесяти километрах от Капитолия, но все же на расстоянии дня пешего пути от ближайшей проезжей дороги. До 1950 года они считались племенем каменного века, пока фотографу Смитсоновского института не удалось их сфотографировать.
Его снимки, запечатлевшие «ритуал расплаты», поведали заключавшуюся в этой эксцентричной церемонии трагическую историю предыдущих контактов зорокуа с внешним миром. Мужчина в грубом одеянии, изображавшем быка, в каком-то буйном танце скакал вокруг деревенских лачуг всю ночь до рассвета, после чего появилась процессия духов-хранителей в масках, прибывших, чтобы одолеть быка с помощью крови, которой они обрызгивали его, пока он совсем не ослабел и в конце концов не умер. Духи-хранители назывались diablitos – «дьяволятами» – и были похожи на гномов-бесенят, duendes – сказочных духов, защитников от угрозы испанской колонизации, ряды которых, должно быть, поредели из-за болезней, а выжившие нашли убежище в самых отдаленных влажных тропических лесах Таламанки.
Зорокуа были племенем, примитивным по всем стандартам, слишком долго и тяжело боровшимся за выживание, чтобы создать сколько-нибудь искусные культурные ценности. Приветствие, с которым они обращались к чужакам, представляло собой формализованную просьбу о еде. Но их ритуальные маски, запечатленные на снимках, стали откровением.
Все они были «раскрашены ртом» – то есть обрызганы краской изо рта через тростинку – в яркие, накаленные цвета, замысловатыми узорами, больше напоминавшими руны, чем абстрактные мотивы. Несмотря на враждебное отрицание представителями зорокуа внешнего мира, их маски в 1970-е годы породили настоящее безумие среди коллекционеров. К 1982 году последний из зорокуа умер от гриппа. Но соседние племена по-прежнему испытывали страх перед их масками.
Не имевшие аналогов нигде в регионе, эти маски были более причудливыми и изощренными, чем божки майя и ацтеков, ближе к полинезийским с их смесью человеческих, насекомьих, цветочных и звериных черт и насыщенными такой беспощадной злобой, что по сравнению с ними самые свирепые готические горгульи выглядели как игрушечные плюшевые мишки.
Просмотрев множество печатных источников, Райан сумел выяснить, что эти маски были злобным вариантом латиноамериканских сказочных гномов, называвшихся duendes. Название происходило от испанского слова duenos – владелец, господин, – потому что они являлись подлинными хозяевами любого места, которое делили с людьми. Но испанское название, которое дали им и самим зорокуа соседние племена, гораздо больше подходило этим ду́хам, коих никто никогда не видел, но все страшно боялись, – diablitos, то есть «дьяволята».
Во время своего стремительного набега на Колумбию и Перу Райан собрал невероятные погребальные амулеты племени Моче и успешно сбыл их по тайному каналу покупателю в Калифорнии. Потом он полетел в Панама-Сити и доехал на джипе до Кордильера-де-Таламанка, чтобы пешком подняться на Серро-ла-Муэрте и успокоиться. Он не ожидал найти какие-нибудь следы зорокуа в музеях примитивных культур и туристских ловушках безымянных горных деревушек, он их и не нашел. Только всякий мусор – подделки и имитации, вырезанные из пробкового дерева и вкривь и вкось раскрашенные деревенскими жителями-метисами, знавшими о зорокуа меньше, чем тупоголовые клиенты Райана.
Райан Рейберн III никогда не делал ничего, чтобы форсировать успех. На этом пути ждали только безумие и язва – об этом можно было спросить Райана II и Райана I. Он просто позволял удаче притягиваться к нему, и она притягивалась. Слепая старуха, сидевшая возле своей лачуги с бачком, набитым плававшими в воде банками теплой, как кровь, фанты, сделала непонятный жест и закашлялась в кулак, когда он спросил ее внучку о зорокуа. Закашлялась в кулак, а потом разжала свои пораженные артритом пальцы-когти, и с ее ладони вспорхнула красная бабочка.
Девочка притворилась немой. Допивая третью банку фанты, Райан бродил по селению. Все мужчины были на охоте или рубили деревья, и его никто не видел, кроме голого мальчонки, у которого яички еще не спустились в мошонку. Лачуги восьмиугольником теснились вокруг колодца, расположенного рядом с идолом из мыльного камня высотой до пояса, размытого и стершегося настолько, что вырезанные черты его лица превратились в смутные углубления на камне.
Райан едва сдержал крик радости и подбросил в воздух банку из-под фанты. Это была деревня зорокуа, или ее реконструкция, хотя едва ли. Многие здешние племена хоронили своих покойников под домами, а потом уходили от них далеко-далеко. Вид такой покинутой деревни можно было бы, наверное, описать как Чернобыль каменного века.
Потом появилась слепая старуха и продала ему за двести долларов маску. Так он собирался говорить каждому, кто спросит. К настоящему времени он мысленно повторил эту историю столько раз, что почти уже и сам в нее верил. Что же случилось на самом деле, было худшим из всего, что он сделал в жизни, и просто не было никакого смысла воскрешать это в памяти.
Маска была подлинной. На вид она весила килограммов сорок пять, но была вырезана из какой-то неизвестной фиолетово-черной мягкой древесины здешних джунглей, так что на самом деле была легче воды и раскрашена местными красителями: темным индиго, полученным из azul mata[46], переливающимся бледно-золотистым – из луковой шелухи, огненно-оранжевым – из плодов achiote[47], багрово-фиолетовым – добываемым из желез вымирающего моллюска, называемого здесь munice. Неожиданный всплеск более темной и тусклой красной краски на внутренней поверхности маски не выглядел случайным, скорее он напоминал варварскую подпись, что, вероятно, увеличивало стоимость маски.
У него уже был покупатель – вернее, два покупателя, яростно конкурировавших между собой. Как только его самолет коснется земли в международном аэропорту Лос-Анджелеса, он сбудет маску за пятьдесят тысяч, а может, и вдвое дороже, если продержит ее у себя достаточно долго, чтобы тайно распустить слух и разжечь конкурентную войну. Изнемогающий от нетерпения старший стюард, стоявший у выхода на посадку, придержал перед ним дверь и даже не взглянул на его документы. Выйдя из помещения и ступив на трап, Райан словно почувствовал на себе дыхание разъяренного животного. Джунгли сомкнулись вокруг взлетной полосы, как стены изумрудного огня. «Боинг-727» коста-риканской авиакомпании «Пура вида» ожидал последних опаздывающих пассажиров, спешивших по эскалатору и нырявших внутрь самолета.
Салон был заполнен чуть больше чем наполовину. Около пятидесяти пассажиров, на две трети – американцы. Большинство из них уже выключили индивидуальное освещение и пытались заснуть, свернувшись калачиком под тонкими нейлоновыми одеялами и положив головы на бумажные подушки.
Райан застонал, увидев свое место 11А, расположенное возле иллюминатора, прямо над крылом, рядом с длинноволосым белым мачо и полногрудой азиаткой, возившимися с неисправными вентиляционными отверстиями в потолке. Тревожно подняв голову и вставая, чтобы пропустить Райана на его место у иллюминатора, мужчина представился, назвавшись Дэном, и представил свою жену как Лори.
– Хотите почитать? – спросил он, протягивая книгу в бумажной обложке. – Это я сам написал.
– Не приставай к людям, милый, – пробормотала его жена.
Райан покачал головой и растянулся на пустых креслах по другую сторону прохода.
Стюардесса начала свою предполетную пантомиму, жестами показывая на кислородные маски и аварийные выходы под звучавшие из потрескивавшего репродуктора объяснения на испанском, когда последний пассажир, пробираясь по проходу, споткнулся и чуть не сел на рюкзак Райана.
Райан едва успел выхватить его из-под тени опускавшейся уже огромной задницы и начал было: «Смотри, куда идешь, идиот…», но увидел белую трость, зажатую в пухлой старческой женской руке.
Райан словно окаменел. Отшатнувшись, он прислонился спиной к иллюминатору и, если бы сидел возле аварийного выхода, не исключено, что рванул бы ручку и выпрыгнул на крыло.
Предупреждающе выставив вперед ладонь, он попытался протиснуться в проход. Слепая женщина наткнулась на стюарда, пытавшегося помочь ей сесть в кресло, потом рикошетом оттолкнулась от подлокотника кресла 11С, выбросила вперед ладонь, чтобы на что-нибудь опереться, и упала прямо ему в руки.
Приглядевшись, Райан увидел, что его новая соседка еще совсем девочка, быть может, лет тринадцати, с длинным лошадиным лицом, покрытым ужасными угрями. Глазные яблоки выступали из ее головы, как не вкрученные до конца лампочки. Зрачки закатились вверх, словно смотрели сквозь потолок, и были сонно полуприкрыты тяжелыми веками. Белая трость дернулась, ударив его по щиколотке.
Ему понадобилась секунда, чтобы отдышаться, и гораздо больше времени, чтобы собраться с мыслями. В самолете столько свободных мест, почему, черт возьми, ее посадили рядом с ним? Молодой американец, путешествующий в одиночку, сидящий рядом со слепой девочкой-иностранкой, напрашивался на неприятности.
– Разве в самолете мало других свободных мест?
Стюард вернулся в хвостовую часть, чтобы губами под фонограмму произнести заключительную часть инструкций по безопасности полета.
Возможно, не только слепая, но и глухая – а может, не говорящая по-испански – девочка опустилась в кресло 11D, крепко держа на сдвинутых коленях сумку ручной вязки с местным орнаментом.
Самолет по ошибке дернулся назад, потом как-то ошалело, неуверенно зарулил ко взлетной полосе. «Интересно, кто управляет этим самолетом? – подумал Райан. – Может, этой слепой девочке пойти помочь им?»
Турбины взревели, и тут Райан заметил, что девочка не пристегнута в кресле.
– Сеньорита, ремень должен быть застегнут…
Она слегка качнулась, но ничего не ответила. В руке она держала нитку светящихся в темноте пластмассовых четок с крохотным крестиком на конце, который часто целовала, поднося к потрескавшимся губам.
Стюардесса сидела впереди, пристегнувшись к своему откидному сиденью. Очевидно, позаботиться о девочке должен был он. «Из чувства долга и гуманности», – подумал он и протянул руки, чтобы застегнуть ремень.
– Позвольте мне вам помочь…
Она схватила его руки потными дрожащими ладонями. И закричала так, словно внезапно очнулась посреди глубокого здорового сна оттого, что ее кто-то щупал; пустые глаза уставились на него, будто она могла видеть его лицо, плавающее в ее вечной тьме.
Вырвав руки из ее крепкой хватки, Райан попытался успокоить девочку, не касаясь ее, но это оказалось бесполезно. Похоже, она его не слышала или не понимала, к тому же ее уже охватила предполетная паника, лишь усугубившаяся тем, что к ней притронулся незнакомый мужчина. Слегка смущенный, он огляделся в поисках помощи, но, судя по всему, никто ничего не заметил. Крики девочки потонули в нарастающем реве двигателей, а потом какое-то нетрезвое, с креном то в одну, то в другую сторону ускорение прижало всех к спинкам кресел.
Когда шасси было убрано и самолет оторвался от земли, девочка вернулась к своим беззвучным молитвам. Отвернувшись к стенке, Райан соорудил себе подушку из сложенного свитера. Снаружи, на крыле, перечеркнутый дождевыми струями, моргал, истекая кровью, красный аэронавигационный огонек. Маленький прибрежный город, постепенно поглощаемый клочьями тумана, напоминал воздушного змея, запутавшегося в кроне дерева. Только несколько затерянных огней – вероятно, горевших на кораблях – свидетельствовали о том, что город, из которого он только что вырвался, все еще там, внизу.
Райан был закаленным путешественником. Он мог спать где угодно и при любых обстоятельствах. Крепко сжав коленями рюкзак, стоявший на полу у его ног, он попытался выбросить все из головы. Это потребовало времени, поскольку каждый раз, когда он чувствовал, что сползает в дремоту, слепая девочка громко кашляла в кулак.
Мысли его вращались вокруг маски. Увидев ее, таможенник начал кашлять кровью, но отпустил его. Было ли это каким-то безумным совпадением? Зорокуа стерла с лица земли болезнь, неудивительно, что в их фольклоре появились некие волшебные ду́хи – для защиты или отмщения, – но черта с два они смогли принести им пользу… Все племя давно вымерло, а их чудна́я невеселая религия осталась лишь антропологической сноской к тексту, так очаровавшему миллионеров, которым нужны были кровожадные языческие божки для партнеров по покеру. Может быть, эти маски – своего рода переносчики вируса? Это бы кое-что объяснило, если бы Райан заболел, но, кроме обычных тропических инфекций и кожной сыпи, у него ничего не было, он чувствовал себя отлично. Райан не верил в проклятья, если не считать проклятья бедности.
Они летели уже на высоте девять тысяч метров, когда Райан решил, что не будет спать, а лучше напьется. Он долго тер глаза основанием ладоней. Может, ему попробовать извиниться перед девочкой, а еще лучше – пересесть на другое место? Он повернулся, чтобы прикинуть возможности, и оказался лицом к лицу с маской зорокуа.
Она была на девочке. Белки́ ее незрячих глаз поблескивали в прорезях под нависающим лбом ягуара. Каждый участок угловатого лица был раскрашен, изображая шерсть различных животных, как бы соединяя всю жизнь джунглей в одном мстительном лике. Но сейчас, на этой слепой девочке, маска ожила.
Стилизованные ветвистые рога, продолжавшие линию подбородка и выступавшие из висков, мерцали кобальтовой синевой, как огненные струи газовой горелки. Переплетенные клыки в оскаленном рту разошлись, как створки замка́, и фонтан черной зловонной крови вырвался из вывороченных губ, забрызгав спереди всю его рубашку.
Он вскочил, стукнувшись головой о дно багажной полки, и рухнул обратно в кресло. Кровь, которой он был залит, холодная и липкая, казалась живой из-за крохотных извивающихся и копошащихся существ, которые исчезали под его одеждой, прежде чем он успевал их стряхивать. Костлявые руки слепой девочки преградили ему путь. Она придвинулась ближе к нему, продолжая выкашливать на него сгустки зараженной крови, которой он и так был уже пропитан насквозь. Райан выкинул вперед руки, чтобы сорвать с нее маску.
Маска отошла от лица со звуком, похожим на звук ржавых гвоздей, выдираемых из гнилого дерева. Лицо отстало от черепа вместе с маской, и она впечатала его в стенку, больно вдавив ему в грудь холодную липкую скулу.
Наверное, он закричал, перед тем как проснуться. Его лицо прислонялось к холодному стеклу иллюминатора. По всему телу сползали капли пота. Голова была мутной, словно он принял пару таблеток амбиена[48], запив несколькими рюмками текилы.
Медленно, осторожно Райан повернулся и посмотрел на слепую девочку. Она сидела в своем кресле, выпрямив спину, прислонив затылок к не откинутому подголовнику, ее ровное дыхание напоминало бульканье воды в засоренной канализационной трубе.
Столик перед ней был опущен, на нем стоял полупустой пластиковый стаканчик, рядом лежали пакет из фольги с какими-то высыпавшимися из него сухофруктами и четки, светящиеся, как плутоний, в синеватом полумраке. Значит, пока он спал, разносили напитки.
Платье девочки из домотканого хлопка было богато расшито яркими бабочками и птицами. Когда он разглядывал ее, подавляя желание ущипнуть себя, она закашлялась удушающим кашлем, отхаркивая красную мокроту. Да пошло оно все к чертям собачьим, подумал Райан и схватил рюкзак. Осторожно убрав мусор с ее столика, он поднял его, защелкнув в спинке кресла 10 C, и расстегнул ремень безопасности.
В салоне было жарче, чем на проклятом Юкатане. Как обычно во время полетов, он слышал пульсацию во внутреннем ухе, но сейчас у него было еще и ощущение, будто он находится глубоко под водой, а не летит над верхним слоем атмосферы. Единственный свет исходил от оптоволоконных полос, тянувшихся вдоль прохода, да нескольких индивидуальных лампочек над креслами пассажиров, клевавших носами над ноутбуками или читавших электронные книги, воткнув в уши наушники своих айподов.
Поочередно двигая конечностями, максимально сосредоточившись, Райан встал с кресла, перекинул ногу через колени девочки и поставил ее в проход. План был хорош, и действовал Райан очень аккуратно, но его ступня опустилась на что-то скользкое, и он со сдавленным криком осел на разъехавшихся ногах.
Девочка ткнула коленями ему под зад. Он попытался обо что-нибудь опереться, но ничего подходящего не нашлось. Девочка кашлянула так натужно, что он сквозь рубашку почувствовал влажную силу ее выдоха. Стараясь заглушить панику, Райан перевалился через нее в проход, перетащил за собой рюкзак и перекинул его через голову пассажирки в кресле 10 C – толстой матроны с усами и двумя детьми, корчившимися у нее на коленях. Должно быть, он проспал часа два. Самолет проходил через зону турбулентности где-то над неосвещенными просторами центральной Мексики. Проход был свободен и чист, если не считать нескольких пустых стаканчиков, выписывавших по полу петли от самолетной качки. Стюардессы нигде видно не было.
Райан быстро пошел вдоль прохода, стараясь не задевать выставленные руки и ноги пассажиров. Последний ряд кресел, возле туалетов, оказался пуст, и он бросился к нему, как страдающий морской болезнью – к борту корабля.
Как раз в тот момент, когда он достиг последнего ряда, самолет провалился в очередную воздушную яму. Сердце у Райана бешено колотилось, мускулы непроизвольно сокращались от выбросов впустую растрачиваемого адреналина. Когда он швырнул рюкзак в кресло у окна, тот показался невесомым. Ни хрена себе он завелся! Нужно выпить. Может, стюардесса позволит ему купить бутылку чего-нибудь крепкого? Черт, может, она и сама с ним выпьет? После всего пережитого он это заслужил. Он толкнул бедром рюкзак. Тот был невесом, потому что пуст.
Райана словно током ударило. Рывком расстегнув молнию, он засунул руку в рюкзак и ошарашенно посмотрел на собственные пальцы, показавшиеся из дыры на дне. В рюкзаке остались только две пары свернутых комками носок да какие-то шорты, всё насквозь мокрое, приклеившееся к стенкам рюкзака какой-то вязкой черной массой. А сама дыра в двойном слое нейлона, чертово зияющее круглое отверстие, появилась не потому, что ткань была прорвана, – она словно бы то ли растворилась, то ли была… съедена.
– Мать вашу! – выругался Райан сквозь стиснутые зубы, глядя на свои вещи, разбросанные по всему проходу, словно разложенные на дворовой распродаже. Он заковылял назад, подбирая свою липкую одежду. Наконец его рука наткнулась на что-то твердое, и он со вздохом облегчения поднял предмет, но тот оказался всего-навсего его набором для бритья.
Райану казалось, что кто-то следит за ним, насмехаясь над неловким положением, в какое он угодил, но все спали, либо уткнувшись лицом в плечо соседа, либо откинув назад голову с открытым ртом.
Рев двигателей сделался тише, самолет накренился вперед, и стаканчики, валявшиеся в проходе, покатились к носовой части. «Неужели мы уже снижаемся?» – подумал Райан.
Наконец он добрался до нужного ряда. Дэн и Лори крепко спали. Ковер вокруг слепой девочки в кресле 11D был весь мокрый, кое-где жидкость образовала лужицы. Должно быть, она что-то перевернула, отрешенно предположил он, или обмочилась. Маски в проходе не было, значит, она, наверное, упала под его кресло, когда он бежал отсюда. Из-за качки она могла переместиться куда угодно в этом проклятом самолете. Ему не оставалось ничего другого, кроме как начать шарить повсюду.
Райан стал опускаться на колени возле слепой девочки, но в этот момент самолет снова клюнул носом, и он распластался в проходе. Выбросив вперед руку, чтобы защитить голову, и врезавшись глазом в подлокотник, он засмеялся над собственной неуклюжестью, но именно в этот момент в него что-то воткнулось.
Внезапная дикая боль сконцентрировалась в правой ноге, под коленом, пронизав нежную плоть между сухожилиями и мышцами. Когда он попытался выпрямить ногу, боль стала такой, какой он еще никогда не испытывал. Чем бы ни было то, что вонзилось в чувствительный механизм его колена, боль отозвалась во всем его организме, заполнила его целиком, стала миром вокруг него.
Воя от нестерпимой боли, Райан скорчился на полу, прижимая проткнутое колено к груди. Он кричал не переставая, и до него не сразу дошел тот странный факт, что никто не реагирует на его вопли.
Протянув руку к креслам 11В и 11С, он сдернул с них одеяла, и в проход выпала книга Дэна. Супруги столкнулись головами, и муж плюхнулся грудью на разложенный столик. Струйка темно-красной крови вытекла из его левой ноздри, а следом за ней высунулся кончик палочки для кофе. Его жена как будто рыгнула, и из ее открытого рта что-то выползло – красная тень, густо покрытая яркой артериальной кровью.
Из дрожащих губ Райана вырвался стон. Он покачнулся, и боль с новой силой пронзила его. Из его правой подколенной чашечки торчал нож. Подтянув штанину джинсов, он увидел его белую пластмассовую ручку.
На Райана накатила волна тошноты, но он продолжал смотреть, не веря своим глазам: его ногу проткнул пластмассовый нож! С другой стороны колена высовывался кончик лезвия, обточенный или обкусанный до остроты скальпеля.
Он повернулся к слепой девочке и коснулся ее, надеясь, что она завоет, как пожарная сирена, но она перевалилась через подлокотник своего кресла и стукнулась головой о лоб Райана. Рот у нее раскрылся, губы были усеяны красными хлопьями того же цвета, что и слякоть, в которой он сидел. Кожа девочки была холодной, как мрамор, руки и ноги вялыми и безжизненными, как у куклы, но ее тело вдруг сотряслось в посмертном приступе кашля.
Они появились из ее рта вместе с этим кашлем и начали переползать через губы, к мокрым коленям, злобно глядя на Райана поверх подлокотника.
Со своими гофрированными грудками и коническими экзоскелетными ножками, они походили на жуков или богомолов. Их тела позаимствовали формы вперемешку от насекомых, рептилий и амфибий, но их омерзительные лица были миниатюрными масками зорокуа (или прятались за этими масками).
Самое большое из этих существ не превышало в длину двадцати сантиметров, однако они смотрели на него сверху вниз с высоты своего «насеста» – они были его хозяевами.
Райан попятился к пилотской кабине. Но куда бы он ни взглянул, они повсюду ползли по мертвым телам, глядя на него из-за подголовников. Он сам прополз мимо матери с детьми – распухших и почерневших от асфиксии, – мимо ссутулившегося над своим ноутбуком бизнесмена с воткнувшимися в глазницы шариковыми ручками, мимо стюардессы с торчавшим из горла, как из второго рта, отбитым горлышком бутылки пива «Империал». Он отползал и отползал, пока не уткнулся в бронированный массив двери пилотской кабины.
Все в салоне были мертвы.
В наши дни кабины экипажа защищены, как банковские сейфы. Райан бросался на дверь, кричал, чтобы ему открыли, пока он еще жив, орал, что нечто убило всех, кто был в самолете, но сам он невиновен и не заслуживает смерти…
«Дамы и господа, мы благодарим вас за то, что вы выбрали компанию «Пура вида», и просим всех оставаться на своих местах, не включать свои электронные устройства и не доставать багаж до полной остановки самолета…»
Это был спокойный, почти сонный голос, умиротворяющий… и записанный на пленку. В Лос-Анджелес они должны были прилететь еще только через час.
Дверь оставалась герметически закрытой. Вероятно, экипаж по ту ее сторону был мертв или совершенно равнодушен к тому, что происходит в салоне. Райан стал искать телефон.
Тьма выпрыгнула из рядов кресел, заполонила проход и потекла к нему, как колония муравьев. Он замолотил в дверь, нечленораздельно вопя, но они приближались к нему не для того, чтобы убить.
Они хотели, чтобы он взял маску. Они принесли и положили ее перед ним на пол.
Они хотели, чтобы он надел ее.
Самолет содрогнулся, когда выпущенное шасси встретило напор ревущего ветра. Салон по-прежнему представлял собой неосвещенную пещеру, но предвещающее бурю янтарное свечение Тихуаны[49] уже вливалось внутрь через иллюминаторы, как поток, прорвавшийся из засоренного общественного туалета.
До Райана, скорчившегося на полу перед дверью, наконец медленно дошло, что он не умрет. В оцепенении он поднял маску, слишком поздно увидев ее новым взглядом. Она не была ни безделушкой, ни сокровищем, ни даже маской.
Она была дверью. Пролитая им кровь отворила ее. Чтобы они смогли покинуть это место, дверь должна была снова открыться. Все было просто, раз не имелось другого выбора, кроме как принять это как должное.
Райан надел маску. Твердая внутренняя поверхность ее ласкала лицо занозами, которые росли и проникали ему под кожу.
А они взбирались друг на друга, чтобы добраться до его губ. Узкий клыкастый рот мог пропускать только по одному, притом что им не было числа. Они торопливо ползли по его дрожащему телу и исчезали в воротах зубов, но он ощущал, как они, беспокойные, жаждущие неприятностей, скапливаются у него в животе, и чувствовал внутри себя целый новый мир, холодный, черный и бесконечный.
Прежде чем последний из них скрылся у него во рту, «Боинг-727» грубо стукнулся о землю колесами и поскакал по бетонной полосе, словно она была усеяна разбросанными булыжниками.
Когда же самолет, совершив последний пируэт, подкатил к стоянке и в салоне загорелся свет, ни один из пассажиров не пошевелился, чтобы включить мобильник или достать багаж с верхней полки. Райан заставил себя встать и снова постучал в дверь кабины пилотов, но, что бы ни находилось по ту ее сторону, оно предпочло там и остаться.
Райан откинул затвор на двери салона и повернул колесо. Два грузчика прижали любопытные лица к иллюминаторам снаружи и постучали по стеклу. Райан улыбнулся им, забыв, что он в маске, и распахнул дверь.
Он попытался им что-то объяснить, но они его не видели. Упав на колени, они харкали кровью. Он прошел мимо них, сбежал по трапу, преклонил колено и лизнул асфальт черным раздвоенным языком.
Как же хорошо было после всех скитаний вернуться домой…
Джон Варли Воздушный налет
Джон Варли родился в Техасе и, получив Национальную стипендию за заслуги, поступил в Мичиганский государственный университет – вероятно потому, что из всех доступных ему университетов этот находился дальше всего от Техаса. Есть авторы, работающие в жанре научной фантастики, которые генерируют блестящие идеи, есть такие, которых отличает прекрасный прозаический стиль. Варли – один из немногих счастливчиков, сочетающих в себе и то и другое. «Воздушный налет» был опубликован в 1977 году под псевдонимом Герб Боэм (являющимся сочетанием его среднего имени и девичьей фамилии матери), который он взял потому, что в том же номере «Азимова»[50] печатался еще один его рассказ. «Воздушный налет» был номинирован как на премию «Хьюго», так и на премию «Небьюла», потом, в 1983 году, автор расширил его до романа («Тысячелетие»), а в 1989-м по нему был снят фильм. Начав читать этот рассказ, вы не сможете от него оторваться. Поэтому добро пожаловать на борт рейса 128 компании «Сан-Белт эйрлайнз», вылетающего из Майами в Нью-Йорк. Впрочем, возможно, его пассажиры попадут в совершенно другой пункт назначения.
Я очнулся, разбуженный сигналом тревоги, неслышно вибрировавшим у меня в голове. Обычно он не смолкает, пока не сядешь, поэтому я сел. Повсюду в неосвещенной комнате по одному и по двое спали члены группы захвата. Я зевнул, почесал ребра и похлопал Джина по волосатому боку. Он повернулся. Хватит романтического забытья.
Протерев глаза, чтобы окончательно проснуться, я вытянул руку и поднял с пола протез, пристегнул его и закрепил, потом побежал вдоль коек к оперативному пункту.
В темноте светился информационный монитор: «“Сан-Белт эйрлайнз”, рейс 128, Майами – Нью-Йорк, 15 сентября 1979 года». Мы ждали этого в течение трех лет. Я должен был бы чувствовать себя счастливым, но кто может так себя чувствовать, будучи разбуженным посреди глубокого сна?
Лайза Бостон, что-то пробормотав, прошла мимо меня, направляясь в комнату предстартовой подготовки. Я пробормотал что-то в ответ и последовал за ней. Вокруг зеркал зажглись лампочки, и я на ощупь пробрался к одному из них. Позади нас топталось еще три человека. Я сел и подключился к системе. Наконец-то можно было откинуться назад и закрыть глаза.
Но ненадолго. Шевелись! Я выпрямился, как только бурда, которую я использовал в качестве крови, была замещена высокозаряженным топливом. Оглядевшись, увидел идиотские ухмылки. Вокруг стояли Лайза, Пинки и Дэйв. У дальней стены Кристабел уже медленно вращалась перед аэрографом, принимая окраску человека европеоидной расы. Мы с ней составляли отличную команду.
Открыв ящик стола, я принялся за предварительную работу над своим лицом. Каждый раз этой работы становилось все больше. Переливание – не переливание, но похож я был на смерть. Правого уха теперь не было совсем. Губы больше не смыкались, десны оставались постоянно обнаженными. Неделю тому назад у меня во сне отвалился один палец. Ну и что из того?
Пока я работал, один из экранов над зеркалом засветился. Улыбающаяся молодая женщина, блондинка, высокий лоб, округлое лицо. Крупный план. Бегущая внизу строка гласила: «Мэри Катрина Сондергард, родилась в Трентоне, Нью-Джерси, возраст в 1979 году – 25 лет». Детка, это твой счастливый день.
Компьютер убрал кожу и мышцы с ее лица, чтобы показать мне строение черепа, стал поворачивать его, демонстрируя поперечные сечения. Я изучал сходства со своим собственным черепом, отмечал различия. Неплохо, кое-что даже лучше, чем то, что мне попадалось раньше.
Я собрал челюсть, воспроизведя небольшую расщелину между верхними резцами. Вязкая масса для слепков заполнила мой рот, округлив щеки. Из дозатора выпали контактные линзы, я их вставил. Носовые вкладыши расширили мои ноздри. Уши неважны, их скроет парик. Я натянул на лицо заготовку маски из особой массы, имитирующей плоть, и подождал, пока она впитается. Потребовалась всего минута, чтобы вылепить лицо в совершенном соответствии. Я улыбнулся самому себе. Как чудесно иметь губы!
В узле выдачи что-то щелкнуло, и из прорези мне на колени выпали светлый парик и полный комплект одежды. Парик был только что от стилиста. Я надел его, потом натянул колготки.
– Мэнди? Ты получил профиль Сондергард?
Я не поднял головы: голос был мне знаком.
– Роджер?
– Мы засекли ее возле аэропорта. Сможем сделать так, чтобы ты проник внутрь еще до взлета, так что ты будешь джокером.
Я застонал и, подняв голову, скользнул взглядом по лицу на экране. Элфреда Балтимор-Луисвилл, начальник оперативной группы: безжизненное лицо, узкие щелочки вместо глаз. А чего ожидать, если все мускулы мертвы?
– Хорошо. – Берешь что дают.
Она отключилась, и следующие две минуты я потратил на одевание, одновременно наблюдая за мониторами. Я запоминал имена и лица членов экипажа плюс некоторые известные факты о них. Потом поспешно вышел и догнал остальных. Время, затраченное с момента первого сигнала тревоги, – двенадцать минут семь секунд. Надо было поторапливаться.
– Проклятый «Сан-Белт», – проворчала Кристабел, подтягивая бюстгальтер.
– По крайней мере, теперь они не носят высоких каблуков, – заметил Дэйв. – Годом раньше нам пришлось бы балансировать по проходу на почти восьмисантиметровых каблуках.
На всех нас были короткие розовые платья-рубашки в сине-белую диагональную полосу спереди, на плечах – подобранные под цветовую гамму сумки. Я суетился, пытаясь закрепить булавкой на голове смешную маленькую женскую шляпку.
Мы трусцой побежали в пункт оперативного управления и выстроились один за другим у шлюзных ворот портала. Теперь все зависело уже не от нас. Мы могли только ждать, когда ворота откроются.
Я стоял первым, в метре от тамбура, отвернувшись: при виде его у меня кружилась голова. Вместо этого я смотрел на карликов, сидевших на своих кронштейнах в желтом свете, лившемся с экранов. Никто из них не посмотрел на меня в ответ. Они нас очень не любят. Я их тоже не люблю. Они все сморщенные и изможденные. Для них наши толстые руки, зады и груди выглядят укором, напоминанием о том, что «похитители» едят в пять раз больше, чем они, чтобы сохранять презентабельный вид для маскарада. А между тем мы продолжаем гнить. И когда-нибудь я тоже буду сидеть на кронштейне. В один прекрасный день и в меня, выпустив внутренности наружу, вмонтируют кронштейн, и от моего тела не останется ничего, кроме вони. Да пошли они!
Пистолет я зарыл в сумочке под ворохом бумажных платков и тюбиков помады. Элфреда наблюдала за мной.
– Где она сейчас? – спросил я.
– В своем номере в мотеле. Она была там одна с десяти вечера до двенадцати часов дня вылета.
Вылет – в час пятнадцать. Времени у нее оставалось впритык, поэтому она должна будет торопиться. Это хорошо.
– Можешь подловить ее в ванной комнате? А лучше всего в самой ванне.
– Мы над этим работаем. – Элфреда кончиком пальца начертила на безжизненных губах подобие улыбки. Она знала, как я «люблю» действовать, и всегда говорила: бери что дают. Но спросить-то никогда не помешает. Люди беззащитнее всего, когда лежат, вытянувшись, по шею в воде.
– Вперед! – скомандовала Элфреда.
Я переступил порог, и все сразу пошло не так.
Я вошел не с той стороны, из двери ванной, очутился лицом к спальне, обернулся и сквозь дымку портала увидел Мэри Катрину Сондергард. Мне было не добраться до нее иначе, чем шагнув назад. Я даже не мог выстрелить, чтобы не задеть кого-нибудь на той стороне.
Сондергард стояла у зеркала – худшая позиция из всех. Мало кто может быстро узнать себя в другом, но у нее перед глазами сейчас рядом были и собственное, и мое отражения. Увидев меня, она вытаращила глаза. Я отступил в сторону, выйдя из поля ее зрения.
– Какого черта проис… Эй! Кто там, черт возьми?!
Я запомнил звучание ее голоса: его бывает труднее всего правильно воспроизвести.
Судя по всему, она была не столько напугана, сколько удивлена. Моя догадка оказалась верной. Обернувшись полотенцем, она вышла из ванной, пройдя сквозь портал так, словно его и не было, – впрочем, его там и не было, поскольку он работал только в одну сторону.
– Господи Иисусе! Что вы делаете в моей… – В такие моменты у человека не находится слов. Она понимала, что должна что-то сказать, но что? Простите, не вас ли я видела в зеркале?
Я надел на лицо одну из своих самых очаровательных «стюардесских» улыбок и протянул руку.
– Простите за вторжение. Я сейчас все объясню. Видите ли, я… – Я ударил ее в висок, она зашаталась и тяжело рухнула. Полотенце распахнулось и упало на пол. – …подрабатываю здесь себе на учебу.
Она начала было вставать, так что пришлось мне своим искусственным коленом нанести ей удар в подбородок. На этот раз она осталась лежать.
– Черт, настоящая кровь! – прошипел я, вытирая разбитые костяшки. Но времени не было. Я встал на колени рядом с ней, пощупал пульс. Очнется, но, боюсь, я расшатал ей несколько передних зубов. Я замешкался на несколько секунд. Бог ты мой, так выглядеть без макияжа, безо всех этих протезов! Ее вид рвал мне сердце.
Я подхватил ее под мышки и колени и отнес к порталу. Она была как мешок с вареными макаронами. Кто-то с той стороны просунул руки, схватил ее за ноги и дернул. До свидания, милая! Не хочешь ли совершить долгое путешествие?
Я сел на ее кровать, чтобы отдышаться. У нее в сумочке лежали ключи от машины и сигареты. Настоящий табак – на вес крови. Я прикурил шесть штук, считая, что имею право посвятить себе пять минут. Комната наполнилась сладким дымом. Таких сигарет уже больше не делают.
Взятый напрокат в «Херце» седан стоял на парковке мотеля. Я сел в него и помчался в аэропорт, глубоко вдыхая воздух, богатый углеводородами. Дорога была видна на сотни метров вперед. От такой перспективы у меня чуть не закружилась голова, но именно ради подобных моментов я и жил. Невозможно объяснить, каково это – очутиться в дотехнологичном мире. Солнце, огромный желтый шар, неистово светило сквозь дымку.
Другие стюардессы уже поднимались на борт. Некоторые из них знали Сондергард, поэтому я старался как можно меньше говорить, сославшись на похмелье. Они восприняли это с пониманием, посмеиваясь и делая шутливые замечания. Очевидно, это было вполне в ее стиле. Погрузившись в «Боинг-707», мы стали ждать прибытия баранов.
Пока все шло гладко. Четверо наших бойцов на другой стороне выглядели как однояйцевые близнецы тех женщин, с которыми сейчас работал я. Мне ничего не оставалось, кроме как исполнять обязанности стюардессы до самого взлета. Я надеялся, что больше накладок не будет. Одно дело инвертированный портал для входа джокера в комнату мотеля, другое – «Боинг-707», летящий на высоте шести тысяч метров над землей…
Самолет был практически полон, когда стюардесса, которую должна была изображать Пинки, закрыла передний входной люк. Мы вырулили на взлетную полосу – и вот уже оказались в воздухе. Я стал принимать заказы на напитки в салоне бизнес-класса.
Бараны были обычным для 1979 года сборищем. Все как один толстые, развязные и не отдающие себе отчета в том, что живут в раю, чувствуя себя в нем как рыба в воде. А что бы вы сказали, дамы и господа, о путешествии в будущее? Нет? Вообще-то я не удивлен. А что, если я вам сообщу, что этот самолет направляется в…
Как только мы достигли крейсерской высоты, моя рука ощутила телеметрический сигнал. Я сверился с индикатором под своими часами «Леди Булова» и посмотрел на дверь одного из туалетов. По самолету прошла волна вибрации. Черт, не так быстро!
Портал находился там. Я поспешно вышел и сделал знак Дайане Глисон, которую должен был изображать Дэйв, пройти в переднюю часть самолета.
– Ты только посмотри на это, – сказал я с отвращением.
Она собралась было войти в туалет, но остановилась, увидев там какое-то зеленое свечение. Я приставил ногу к ее заднице и толкнул. Отлично. Дэйв появится здесь, как только услышит ее голос. А ей только и останется, что кричать, когда она там осмотрится вокруг…
Дэйв прошел через портал, поправляя дурацкую шляпку на голове. Должно быть, Дайана сопротивлялась.
– Сделай вид, что тебе противно, – прошептал я.
– Какой бардак, – сказал Дэйв, выходя из туалета. Он очень хорошо копировал речь Дайаны, немного не хватало лишь акцента. Но скоро это станет неважно.
– Что там такое? – Это была одна из стюардесс туристского салона.
Мы расступились, чтобы она могла посмотреть, и Дэйв втолкнул ее внутрь. Из портала вместо нее очень быстро появилась Пинки.
– Мы немного опаздываем, – сказала она. – На той стороне потеряли пять минут.
– Пять?! – с негодованием взвизгнул Дэйв-Дайана.
Я почувствовал то же самое. Ведь нам предстояло обработать сто три пассажира!
– Да. Они потеряли управление после того, как ты втолкнул мою «двойницу». Именно столько времени потребовалось, чтобы перестроиться.
Это было вполне обычным делом. Время течет по-разному по ту и по эту стороны портала, хотя и тут, и там всегда поступательно – от прошлого к будущему. Как только мы приступили к операции захвата – это случилось в тот момент, когда я вошел в комнату Сондергард, – уже никак нельзя было вернуться назад ни с той, ни с этой стороны. Здесь, в 1979-м, мы имели девяносто четыре минуты, и ни минутой больше, чтобы все завершить. На той стороне никогда не держат портал открытым дольше трех часов.
– Сколько времени прошло с момента подачи тревоги до того, как ты вышел через портал?
– Двадцать восемь минут.
Это было плохо. Только на то, чтобы подогнать внешность марионеток-двойников, потребуется по меньшей мере два часа. При условии, что отставаний больше не будет, мы только-только могли уложиться в это время. Но отставания случаются всегда. Я поежился при мысли о том, что нам предстояло, и сказал:
– Тогда времени на игры больше нет. Пинки, иди в туристский салон и позови сюда обеих стюардесс. Скажи, чтобы приходили по одной, что у нас здесь возникла проблема. Ну, ты знаешь свою роль.
– Поняла тебя. Едва сдерживаю слезы. – Она поспешила в хвостовую часть.
И сразу же появилась первая стюардесса. Ее фирменная «сан-белтовская» улыбка была приклеена к лицу, но сейчас ей станет не до улыбок. О господи, вот и все!
Я взял ее за локоть и втянул за занавеску, отделявшую служебный отсек. Она тяжело дышала.
– Добро пожаловать в сумеречную зону, – произнес я и приставил пистолет к ее голове. Она начала оседать, я поймал ее. Пинки и Дэйв помогли мне протолкнуть ее через портал.
– Зараза! Эта чертова штука мигает.
Пинки была права. Зловещий знак. Но зеленое свечение стабилизировалось у нас на глазах, хотя кто знает, с каким отставанием на той стороне. Из-за занавески вынырнула Кристабел.
– Опаздываем на тридцать три, – сказала она.
Не было никакого смысла вслух говорить о том, о чем мы все подумали: дело плохо.
– Иди обратно в туристский салон, – скомандовал я. – Демонстрируй бодрость, улыбайся каждому, можешь даже чуточку переиграть, поняла?
– Заметано, – ответила Кристабел.
Остальных мы обработали быстро, без происшествий. Времени что-либо обсуждать уже не было. Через восемьдесят девять минут рейс 128 должен был разлететься по поверхности горы, независимо от того, успеем мы выполнить свою работу или нет.
Дэйв пошел в кабину пилотов следить, чтобы те не доставили нам неприятностей. Нам с Пинки достался первый класс, Кристабел и Лайзе – туристский. Мы использовали стандартную модель – «кофе, чай или молоко?» – полагаясь на собственную быстроту и их инертность.
Я склонился над двумя сиденьями в первом ряду слева.
– Как вам нравится полет? – Пух-пух. Два нажатия на курок, дуло приставлено прямо к голове, остальные бараны ничего не видят и не слышат.
– Привет. Я – Мэнди. Летите за мной. – Пух-пух.
Стоя на полпути к пищеблоку, за нами с любопытством наблюдали несколько человек. Но, чтобы начать действовать, людям нужно нечто более определенное. Один баран в заднем ряду встал, и я ему влепил. К тому времени в живых оставалось только восемь пассажиров. Я покончил с улыбками и быстро сделал четыре выстрела подряд. Пинки разделалась с остальными. Мы раздвинули занавеску – как оказалось, вовремя.
В конце туристского салона начинался шум, притом что шестьдесят процентов баранов уже были обработаны. Кристабел взглянула на меня, я кивнул.
– Эй, ребята, – заорала она. – Я хочу, чтобы вы все успокоились и послушали меня. А ну, вы, олухи, заткнитесь, пока я не прекратила весь этот бардак.
Шок от таких речей парализовал всех, и это подарило нам немного времени. Мы образовали стрелковую цепь поперек салона и, придерживаясь за спинки кресел, прицелились в сбитое с толку стадо из тридцати баранов. Одного вида оружия достаточно, чтобы внушить страх любому, кроме разве что какого-нибудь безрассудного храбреца. По сути дела, стандартный станнер[51] – это всего лишь пластмассовая коробочка с двумя аккумуляторными пластинами, разведенными на пятнадцать сантиметров. В нем недостаточно металла, чтобы под его угрозой совершить угон самолета. И для всех людей, начиная с каменного века и вплоть до 2190 года, он похож на оружие не больше, чем шариковая ручка. Поэтому отдел технического оборудования «оживляет» их, упаковывая в пластиковый корпус, придающий им вид настоящих бластеров, как у Бака Роджерса[52], с дюжиной всяких кнопок и огоньков, которые постоянно мигают, и стволом, похожим на кабанье рыло. Едва ли кто-нибудь из баранов когда-либо видел такое.
– Мы находимся в серьезной опасности, и времени почти не осталось. Вы все должны делать то, что я вам скажу, и тогда сможете спастись.
Нельзя давать им время на раздумья, нужно опираться на свой статус Голоса власти. Ситуация для них все равно не имеет смысла, как бы ее ни объяснять.
– Минуточку, я думаю, вы обязаны нам…
Бортовой адвокат выискался. Я мгновенно принял решение, нажал крючок пуска петарды на своем ружье и «убил» его. Ружье издало звук, похожий на звук летающей тарелки, страдающей геморроем, плюнуло искрами и маленькими струями пламени и послало зеленый лазерный палец к его лбу. Он упал.
Все это, разумеется, было имитацией, но произвело впечатление.
И в то же время это было чрезвычайно рискованно. Мне пришлось выбирать между паникой, которая возникла бы, если бы этот олух заставил их задуматься, и паникой, которую могла вызвать вспышка от выстрела. Но когда человек XX века начинает говорить о своих «правах» и о том, что ему кто-то что-то «должен», ситуация может вырваться из-под контроля. Это заразно.
Сработало. Началась стрельба, люди стали нырять за кресла, но никакого бунта не случилось. Мы могли справиться со всеми, однако, если мы хотели завершить захват, нам нужно было, чтобы некоторые из них оставались в сознании.
– Вставайте. А ну, вставайте, лодыри! – вопила Кристабел. – Он всего лишь оглушен. Но я действительно убью первого, кто меня ослушается. Поднимайтесь на ноги и делайте то, что я велю. Сначала дети! Быстрее, как можно быстрее – в носовую часть! Делайте то, что вам скажут там стюардессы. Ну, давайте, ребята, пошевеливайтесь!
Я впереди детей побежал обратно в салон бизнес-класса, развернулся перед открытой дверью туалета и встал на колени.
Дети были ошарашены. Их было пятеро, некоторые плакали – от детских слез я всегда теряюсь, – глядя по сторонам на мертвых людей в креслах бизнес-класса, они спотыкались и были близки к панике.
– Давайте, дети, идите сюда, – позвал я, изобразив свою особую улыбку. – Ваши родители будут с вами через минуту. Все будет хорошо, обещаю. Ну, давайте.
Я протолкнул троих. Четвертая заартачилась, никак не желая проходить через дверь. Она растопырила руки и ноги, упираясь, и я не мог ее пропихнуть. Я никогда не ударю ребенка, ни при каких обстоятельствах. Девочка вцепилась мне в лицо ногтями, с меня слетел парик, и она, ахнув, застыла, глядя на мою лысую голову. Я воспользовался ее растерянностью и наконец протолкнул и ее.
Номер пять сидел в проходе и завывал. Ему было, наверное, лет семь. Подбежав, я схватил его на руки, прижал к себе, поцеловал и швырнул через портал. Господи, мне надо отдохнуть, но меня ждут в туристском салоне.
– Ты, ты, ты и ты. Ладно, и ты тоже. Помогите им. – У Пинки глаз был наметан на тех, от кого никому не будет пользы, даже им самим.
Мы погнали их в переднюю часть самолета и выстроились там вдоль левого борта, откуда могли держать этих рабочих лошадок под наблюдением. Чтобы заставить их действовать, много времени не потребовалось. Мы велели им подтаскивать безвольные тела как можно быстрее. Я с Кристабел вернулся в туристский салон, все, кроме нас, остались в передней части самолета.
Теперь адреналин начал расщепляться в моем организме, и я почувствовал себя очень усталым. На этом этапе игры меня неизменно охватывает сочувствие к бедным бессмысленным баранам. Разумеется, мы делаем им как лучше, разумеется, они бы умерли, если бы мы не вытащили их из этого самолета. Но когда они увидят ту, другую сторону, им будет трудно в это поверить.
Первые из рабочих лошадок возвращались в туристский салон за второй партией баранов, ошеломленные тем, что только что увидели: в кабинку туалета, тесную, даже когда в ней никого не было, запихивали десятки людей. У какого-то студента был такой вид, словно его ударили в живот. Он остановился и посмотрел на меня умоляющим взглядом.
– Послушайте, я хочу помочь вам, только… объясните, что происходит? Это что, какой-то новый способ спасения? То есть мы что, терпим крушение?..
Я перевернул ружье прикладом вверх и огрел его по скуле, он задохнулся и упал на спину.
– Заткни свой поганый рот и пошевеливайся, иначе я тебя убью.
Пройдет не один час, прежде чем его челюсть начнет двигаться и он снова сможет задавать идиотские вопросы.
Мы очистили туристский салон и метнулись в салон бизнес-класса. К тому времени рабочие команды были уже измотаны до предела. Мышцы-то у них были как у лошадей, но они не могли бы взбежать и на один лестничный марш. Мы позволили пройти через портал некоторым из них, в том числе супружеской паре лет пятидесяти как минимум – Господи Иисусе! Пятьдесят! – заменили их четырьмя мужчинами и двумя женщинами, у которых вроде бы еще оставались силы, и заставили их работать, пока они не начали валиться с ног. Зато все были обработаны за двадцать пять минут.
Когда через портал появился блистер, мы уже начали снимать с себя одежду. Кристабел постучала в кабину пилотов, и оттуда вышел Дэйв, уже раздетый. Плохой знак.
– Пришлось их заткнуть, – сказал он. – Чертов капитан как раз собирался совершить свой торжественный марш через весь самолет. Я испробовал все.
Иногда приходится это делать. Самолет летел на автопилоте, как и должно быть на этом отрезке. Но если бы кто-то из нас сделал что-нибудь, что изменило бы назначенный ход событий в любую сторону, все оказалось бы впустую, и рейс 128 стал бы недоступен для нас на все времена. Я не знаю всей этой мути насчет теории времени, но знаю практическую сторону дела. Мы можем что-то предпринимать в прошлом только в то время и в тех местах, где это ничего не изменит. Мы должны заметать все свои следы. Конечно, могут быть отступления от правил: как-то одна из нас оставила там свое ружье, и оно упало вместе с обломками самолета. Его, скорее всего, никто не нашел, а если даже и нашел, там понятия не имели, что это такое, поэтому все сошло гладко.
Самолет, летевший рейсом 128, потерпел крушение из-за технической неисправности. Это был лучший для нас вариант: он означал, что у нас нет необходимости держать пилота в неведении до самой земли. Мы можем вырубить его и пустить дело на самотек, потому что он все равно ничего не смог бы сделать, чтобы спасти самолет. Катастрофа из-за ошибки пилота для группы захвата почти невозможная ситуация. Мы главным образом используем столкновения в воздушном пространстве, бомбы и механические неисправности. Мы не можем использовать случаи, когда в катастрофе выживает хоть один человек. Это не вписалось бы в ткань пространство – время, которая всегда остается неизменной (хотя может немного расширяться), и все мы просто растаяли бы, исчезли и снова оказались в комнате предстартовой подготовки.
У меня болела голова. Скорей бы подключиться к блистеру!
– Кто налетал больше всего часов на семьсот седьмом?
Оказалось, Пинки. Поэтому я послал ее в кабину экипажа вместе с Дэйвом, который умел копировать голос пилота, что было нужно для переговоров с диспетчерским пунктом на земле. В бортовом самописце тоже надо оставить запись, сделанную правдоподобным голосом. От блистера отходили длинные трубки, и все мы припали к ним. Каждый из нас курил сразу горсть сигарет, желая выкурить их до конца, но надеясь, что времени не хватит. Ворота портала исчезли сразу же, как только мы перебросили через них свою одежду и экипаж самолета.
Но долго нам волноваться не пришлось. В работе группы захвата есть и другие приятные моменты, но ничто не сравнится с тем, что испытываешь, подключаясь к блистеру. Трансфузия после пробуждения – это всего лишь свежая кровь, богатая кислородом и сахарами. То, что мы получали сейчас, было безумным варевом из концентрированного адреналина, супернасыщенного гемоглобина, метамфетамина, «белой молнии»[53], тринитротолуола и «сока радости» кикапу[54]. Это как фейерверк, взорвавшийся у тебя в сердце, как пинок, пославший тебя в космос.
– У меня волосы на груди растут[55], – торжественно сообщила Кристабел. Все захихикали.
– Кто-нибудь, передайте мне, пожалуйста, мои глазные яблоки.
– Тебе голубые или красные?
– У меня, кажется, только что отвалилась задница.
Все эти шуточки мы слышали уже сто раз, но все равно хохотали как сумасшедшие. Мы были сильными, сильными, и на один волшебный момент все заботы ушли прочь. Нам было весело. Я бы мог, кажется, разорвать металлический лист взмахом ресниц.
На этой смеси всегда начинаешь выпендриваться. Но поскольку залоговый контингент все не прибывал, не прибывал, черт возьми, не прибывал, мы начали волноваться. Эта птичка в воздухе столько не продержится.
А потом они показались, и мы тут же включились в работу. Вот прошел первый из этих двойников-марионеток, одетый в шмотки, снятые с пассажира, которого он должен был изображать.
– Прошло два часа тридцать пять минут, – объявила Кристабел.
– Господи Иисусе!
Отупляющая рутина: ты хватаешься за сбрую, затянутую вокруг плеч манекена, и тащишь его по проходу, сверившись с номером кресла, написанным у него на лбу. Краска исчезнет через три минуты. Ты сажаешь его, застегиваешь привязной ремень, снимаешь сбрую и несешь ее обратно, бросаешь через ворота портала, а сам хватаешь следующего. Приходится принимать на веру, что на той стороне сделали работу чисто: зубные слепки, отпечатки пальцев, точная подгонка по росту, весу, цвету волос. Большая часть всего этого не имеет значения, особенно на рейсе 128, который рухнет и сгорит. Там останутся только ошметки, да и те обгоревшие. Но надо учитывать все вероятности. Эти поисковики-спасатели очень тщательно исследуют все, что удается найти после катастрофы, поэтому пломбы, зубные протезы и отпечатки пальцев особенно важны.
Я ненавижу этих марионеток. Действительно ненавижу. Если это ребенок, то каждый раз, хватаясь за сбрую, я спрашиваю себя, не Алиса ли это: не моя ли ты девочка, ты, овощ, слизняк, липкий червь? Я присоединился к группе захвата сразу после того, как мозговые жучки[56] выели жизнь из головы моей девочки. Невыносимо думать, что она была последней в своем поколении, что оставшимся человеческим существам предстояло жить, ничего не имея в головах, мертвыми в медицинском смысле слова по всем стандартам, превалировавшим даже в 1979 году, что их мышцы будут приводить в действие компьютеры – чтобы держать эти существа в тонусе. Ты растешь, достигаешь половой зрелости, способна к размножению – одна из тысячи – стремишься забеременеть в первой же любовной лихорадке. А потом обнаруживаешь, что твои мама и папа умерли от хронической болезни, таящейся у тебя в генах, и никто из твоих детей не будет обладать иммунитетом против нее. Я знал о парапроказе: рос с гниющими и отпадающими пальцами ног. Но это было сильнее меня. Что тут поделаешь?
Только один из десяти манекенов имел индивидуализированное лицо. Чтобы изготовить лицо, способное выдержать опознание при вскрытии, нужно время и большое искусство. У остальных лица были изувечены. У нас их миллионы, подходящее тело найти нетрудно. Многие из них даже будут продолжать дышать, слишком отупевшие, чтобы прекратить это, пока не рухнут вместе с самолетом.
Самолет резко дернулся. Я взглянул на часы. До столкновения оставалось пять минут. Надо успеть. Я тащил своего последнего и слышал, как Дэйв отчаянно вызывает землю. Через ворота появилась бомба, и я передал ее в кабину. Пинки включила на ней датчик давления и выбежала из кабины, за ней Дэйв. Лайза была уже на той стороне. Я схватил обмякших марионеток в костюмах стюардесс и швырнул их на пол. Двигатель разлетелся, и его обломок прошил кабину. Началась разгерметизация. Бомба снесла часть фюзеляжа (наземная аварийная бригада увидит показатели и – мы надеялись – решит, что часть двигателя прошла через кабину и убила экипаж: больше ни слова, произнесенного кем-либо из его членов, на бортовом самописце не будет), и самолет начал медленно поворачиваться налево и вниз. Меня понесло к отверстию в борту, но я сумел ухватиться за кресло. Кристабел не так повезло. Взрывной волной ее отшвырнуло в самый конец салона.
Мы начали чуть-чуть подниматься, теряя скорость. Вдруг хвост самолета, там, где в проходе лежала Кристабел, задрался. Из ее виска сочилась кровь. Я оглянулся: все уже ушли, на полу валялись три девицы в розовой униформе. Самолет стал глохнуть, клевать носом, и пол ушел у меня из-под ног.
– Давай, Бел! – заорал я.
Ворота были всего в метре от меня, но я начал подтягиваться к тому месту, где плавала Кристабел. Самолет подпрыгнул, и она ударилась об пол. Как ни странно, это заставило ее очнуться. Она поплыла мне навстречу, и я схватил ее за руку, в этот момент пол поднялся, и мы снова шмякнулись об него. Пока самолет стремился вниз в своей последней агонии, мы не переставали ползти и добрались-таки до двери туалета. Ворот уже не было.
Что тут сказать? Мы падали вместе с самолетом. Конечно, трудно удержать ворота на месте в самолете, отвесно летящем вниз. Когда эта птичка входит в штопор и разваливается на части, математика становится устрашающей. Так мне говорили.
Я обнял Кристабел и прижал к груди ее кровоточившую голову. Она была в полубессознательном состоянии, но умудрилась улыбнуться и пожать плечами. Берешь что дают. Я рванул вместе с ней в кабинку туалета и бросился на пол, увлекая ее за собой. Прижался спиной к переборке, зажал Кристабел между ног лицом вперед. Как учили. Мы оба уперлись ногами в противоположную стенку. Крепко обняв ее, я уткнулся ей в плечо.
И вот оно! Зеленое свечение слева от меня. Я метнулся к нему, волоча за собой Кристабел, низко наклонился, когда два манекена пролетели надо мной через ворота вперед головами. Чьи-то руки с той стороны схватили нас и втянули внутрь. Я прополз по полу добрых четыре с половиной метра, цепляясь ногтями. Можно в крайнем случае оставить ногу на той стороне, но у меня-то не было лишней ноги.
Я сидел и смотрел, как Кристабел отправляют в медпункт. Когда носилки с ней проносили мимо, я похлопал ее по руке, но она была без сознания. Я и сам был не прочь лишиться чувств.
Какое-то время по возвращении невозможно поверить, что все это действительно случилось. Иногда оказывается, что ничего и не было. Ты возвращаешься и видишь, что все эти бараны из загона тихо и внезапно исчезли, потому что континуум не терпит изменений и парадоксов, которые ты в него вкладываешь. Люди, которых ты с таким трудом спас, как в неожиданной развязке кинофильма, оказываются разметанными по какому-нибудь чертову склону горы где-нибудь в Каролине, и все, что осталось, – это кучка растерзанных марионеток и измученная команда захвата. Но не в этот раз. Я видел баранов, топчущихся в загоне, обнаженных и еще более ошеломленных, чем прежде. И только теперь начинающих испытывать настоящий страх.
Когда я проходил мимо Элфреды, она коснулась меня рукой и кивнула, что на ее скудном языке жестов означало: хорошая работа. Я пожал плечами, даже не понимая толком, имеет ли это для меня какое-то значение, но избыток адреналина все еще бродил по моим венам, и я поймал себя на том, что улыбаюсь. Я кивнул ей в ответ.
Джин стоял возле загона. Я подошел к нему и обнял, чувствуя, как жизненные соки начинают бурлить во мне. Пошло оно все к черту, давай гульнем от души.
Какая-то женщина колотила в стерильную стеклянную стенку загона. Она кричала, бросая нам сердитые слова. Зачем? Что вы с нами сделали? Это была Мэри Сондергард. Она умоляла своего лысого одноногого двойника разъяснить ей, что произошло. Она понимала, что попала в беду. Боже, она была такая хорошенькая. Как я ее ненавидел!
Джин оттащил меня от загона. У меня болели руки, и я поломал все свои чертовы фальшивые ногти, даже не скребя по стеклу. Теперь она сидела на полу и всхлипывала. Из наружного динамика доносился голос офицера службы информации:
– …Центавр-3 – гостеприимная планета, с климатом, напоминающим земной. Я имею в виду вашу Землю, а не ту, какой она стала. Это вы еще увидите. Путешествие займет пять лет, таково время полета. После посадки вы получите по лошади, по плугу, по три топора и по двести килограммов посевного материала…
Я оперся на плечо Джина. Даже сейчас, в худшем своем положении, они были настолько лучше нас! Мне осталось, может быть, лет десять, и половину из них я проведу в немощи. Они – наша главная, наша самая яркая надежда. Все будет зависеть от них.
– …что никого из вас не отправят силой. Мы еще раз, и не последний, хотим подчеркнуть, что все вы умерли бы без нашего вмешательства. Однако есть вещи, которые вы должны знать. Вы не можете дышать нашим воздухом. Если вы останетесь на Земле, вы никогда не сможете покинуть это здание. Мы не такие, как вы. Мы – результат генетического отсева, процесса мутации. Мы выжили, но и наши враги эволюционировали вместе с нами. И они побеждают. А вы обладаете иммунитетом против болезней, которые поразили нас…
Я вздрогнул и отвернулся.
– …с другой стороны, если вы переселитесь, вы получите шанс на новую жизнь. Это будет нелегко, но вы американцы и должны гордиться своим наследием первопроходцев. Ваши предки выжили, и вы выживете. Это может оказаться полезным опытом, и я призываю вас…
Ну, конечно. Мы с Джином переглянулись. Слушайте-слушайте, друзья. Пять процентов из вас получат нервный срыв в течение нескольких ближайших дней и никуда не полетят. Приблизительно такое же количество совершат самоубийства, здесь или по дороге. Когда вы доберетесь до места, от шестидесяти до семидесяти процентов умрут в первые три года. Вы будете умирать в родах, вас будут пожирать звери, вы похороните двоих из каждых троих своих детей, будете медленно умирать от голода во время засух. А если вы выживете, то будете гнуть спину, бредя за плугом с рассвета до заката. Новая Земля – это Рай, друзья!
Господи, как бы я хотел полететь с ними.
Джо Хилл Вы свободны
Джо Хилл начал свою писательскую карьеру с рассказа «Лучше, чем дома» почти двадцать лет назад и в 2007 году опубликовал свой первый роман, «Коробка в форме сердца», ставший бестселлером. Он написал еще три очень благосклонно принятых романа, сборник новелл («Странная погода»), десятки рассказов (многие из них включены в сборник «Призраки двадцатого века») и удостоенную литературной награды серию комиксов «Замо́к и ключ». Джо – сын редактора этой книги, вашего покорного слуги, который гордится таким родством. Рассказ «Вы свободны», написанный специально для этого сборника, – один из самых страшных его рассказов. Будем молиться, чтобы описанные в нем события никогда не произошли.
Бизнес-класс. Грег Холдер
Холдер приканчивал свой третий скотч, не проявляя никаких эмоций по отношению к сидевшей рядом очень знаменитой женщине, когда все телеэкраны в салоне почернели и на них появилась заключенная в белый прямоугольник надпись: «Прослушайте сообщение».
Послышалось шипение местной трансляционной сети. У пилота был юный голос – голос робеющего подростка, выступающего перед собравшимися на похоронах.
– Друзья, это капитан Уотерс. Я получил сообщение от нашей наземной службы и, подумав, решил, что будет правильно поделиться им с вами. На авиабазе Андерсен ВВС США на острове Гуам произошел инцидент и…
Система оповещения отключилась, повисла долгая пауза.
– …мне сообщили, – внезапно продолжил Уотерс, – что стратегическое командование США потеряло связь с нашими силами, базирующимися там, и с администрацией местного губернатора. С кораблей, находящихся в море, сообщают, что… что видели вспышку. Какую-то вспышку.
Холдер непроизвольно вжался в спинку кресла, как бывает, когда самолет неожиданно проваливается в воздушную яму. Черт возьми, что это значит – видели вспышку? Вспышку чего? В этом мире столько всего может вспыхивать. Девушка может вспыхнуть от смущения. У азартного игрока деньги могут в один миг вспыхнуть синим пламенем. Молнии вспыхивают. Воспоминание может вспыхнуть в памяти. А как может вспыхнуть Гуам? Целый остров.
– Только не говорите, что это была ядерная бомба. Пожалуйста, – пробормотала знаменитость слева благовоспитанным, медоточивым голосом богатой женщины.
Капитан Уотерс продолжал:
– Простите, больше я ничего не знаю, а то, что знаю… – Его голос снова прервался.
– Ужасающе? – предположила знаменитость. – Удручающе? Тревожно? Сокрушительно?
– …вызывает беспокойство, – закончил Уотерс.
– Чудесно, – заметила знаменитая пассажирка с явным неудовольствием.
– Это все, что мне известно в данный момент, – продолжал Уотерс. – Как только будет новая информация, мы доведем ее до вашего сведения. Сейчас мы летим на высоте одиннадцать тысяч двести восемьдесят метров и преодолели уже около половины пути. В Бостон прибываем немного раньше расписания.
Раздался хрип, потом щелчок, и на мониторах продолжился показ фильмов. Более половины пассажиров бизнес-класса смотрели одну и ту же картину о супергерое по имени Капитан Америка, бросающем свой щит словно окантованную сталью тарелку-фрисби и крошащий в куски гротескных персонажей, которые выглядели так, будто только что выползли из-под кровати.
Чернокожая девочка лет девяти-десяти сидит через проход от Холдера. Она смотрит на мать и спрашивает серьезным голосом:
– А где конкретно находится Гуам? – То, как она произносит слово «конкретно», смешит Холдера – так не по-детски оно звучит.
Мать девочки отвечает:
– Не знаю, милая. Думаю, где-то возле Гавайев. – Она не смотрит на дочь, а водит взволнованным взглядом туда-сюда, словно читает невидимый текст с инструкциями. Как, скажите на милость, говорить с собственным ребенком об обмене ядерными ударами?
– Это ближе к Тайваню, – говорит Холдер, склоняясь через проход и обращаясь к девочке.
– Чуть южнее Кореи, – добавляет знаменитость.
– Интересно, сколько народу там живет? – произносит Холдер.
Знаменитость выгибает бровь.
– Вы хотите сказать, с этого момента? Исходя из сообщения, которое мы только что услышали, я бы сказала, что очень немного.
Салон эконом-класса
Арнольд Фидельман
Скрипач Фидельман полагает, что очень хорошенькая, но болезненная на вид девочка-подросток, сидящая рядом с ним, – кореянка. Каждый раз, когда она снимает наушники, чтобы поговорить со стюардессой или выслушать объявление, из них доносится нечто похожее на кей-поп[57]. Фидельман сам долгие годы состоял в любовных отношениях с корейцем, человеком на десять лет младше его, обожавшим комиксы и великолепно, хоть и холодновато, игравшим на скрипке. Он покончил с собой, шагнув под поезд компании «Ред лайн». Его звали Чи – как чи-жик, как чи-рок, как чи-бис. Дыхание Чи всегда было сладким, как миндальное молоко, а взгляд робким, и он стыдился быть счастливым. Фидельман всегда считал, что Чи счастлив, до того самого дня, когда тот, словно балетный танцор, прыгнул под 52-тонный состав.
Фидельману хочется успокоить девочку, и в то же время он боится непрошено вторгаться в ее личное пространство. Он мысленно бьется над тем, что ей сказать – если вообще что-то говорить, – и наконец деликатно подталкивает ее локтем. Когда она вынимает наушники, он произносит:
– Не хотите попить? У меня есть полбанки колы, я к банке губами не прикасался, на ней нет микробов, я пил из стаканчика.
Она улыбается ему испуганной улыбкой.
– Спасибо. У меня внутренности словно узлом стянуло. – Девочка берет у него банку и делает глоток.
– Если у вас проблемы с животом, шипучка поможет, – обещает он. – Я всегда говорю, что последний вкус, который мне захочется ощутить на смертном одре, перед тем как покинуть этот мир, – это вкус кока-колы. – Фидельман говорил это много раз, но сейчас, едва слова сорвались у него с губ, пожалел, что произнес их. В сложившихся обстоятельствах они кажутся в высшей степени неуместными.
– У меня там все родственники, – говорит она.
– На Гуаме?
– В Корее. – На ее лице опять появляется нервная улыбка. Пилот в своем сообщении ни словом не упомянул Корею, но каждый, кто смотрел Си-эн-эн в последние три недели, понимает, о чем речь.
– В которой из Корей? – интересуется крупный мужчина по другую сторону прохода. – В хорошей или плохой?
На крупном мужчине вызывающе красная водолазка, которая еще больше оттеняет дынную бледность его лица. Он такой толстый, что его тело вываливается за пределы кресла. Сидящая рядом с ним женщина – маленькая, черноволосая, напряженно-нервная, как суперпородистая борзая, – вжимается в подлокотник кресла, ближний к иллюминатору. На лацкане пиджака мужчины – эмалевый значок с американским флагом. Фидельман уже знает, что они никогда не станут друзьями.
Девочка бросает на крупного мужчину испуганный взгляд и разглаживает платье на коленях.
– В Южной Корее, – отвечает она, не желая поддерживать игру в хороший – плохой. – Мой брат только что женился в Чеджу. Я возвращаюсь оттуда на занятия.
– А где вы учитесь? – спрашивает Фидельман.
– В Эм-Ай-Ти[58].
– Удивительно, что вас туда приняли, – говорит крупный мужчина. – Им приходится набирать по квоте некоторое количество слабо подготовленных местных абитуриентов, так что для таких, как вы, у них мест не остается.
– Каких это «таких, как вы»? – переспрашивает Фидельман, медленно и нарочито многозначительно произнося каждое слово. – Таких. Как. Кто? – Почти пятьдесят лет жизни в качестве гея научили его, что нельзя никому спускать некоторые замечания.
Крупный мужчина не испытывает никакой неловкости.
– Таких, которые подготовлены. Которые этого заслуживают. Которые смыслят в арифметике. Математика – это не только умение посчитать сдачу, покупая дешевую сумку. Многие примерные иммигрантские общины страдают от существования квот. Особенно азиаты.
Фидельман разражается смехом – резким, напряженным скептическим смехом. Но студентка технологического института закрывает глаза и сидит молча, Фидельман открывает рот, чтобы дать отпор толстому сукину сыну, но, ничего не сказав, закрывает его снова. Устраивать сцену было бы жестоко по отношению к девушке.
– Это Гуам, не Сеул, – говорит он ей. – И мы еще не знаем, что там случилось. Это может быть все, что угодно. Например, взрыв на электростанции. Обычная авария или… какая-то производственная катастрофа.
Первое слово, которое приходит ему на ум, – холокост.
– Да бомба это, – возражает толстяк. – Ставлю сто долларов. Он разозлился, потому что мы только что промахнулись по нему в России.
Он – это верховный лидер КНДР. Ходят упорные слухи, будто кто-то стрелял в него во время государственного визита на российский берег озера Хасан, по которому проходит граница между двумя странами. По неподтвержденным сообщениям, он был ранен то ли в плечо, то ли в колено, то ли вообще не ранен, а убит то ли дипломат, стоявший рядом, то ли один из двойников верховного лидера. Если верить соцсетям, убийца – то ли радикальный антипутинский анархист, то ли агент ЦРУ, скрывавшийся под личиной корреспондента Ассошиэйтед Пресс, то ли какая-то звезда кей-попа. Госдеп и корейские медиа в редком порыве взаимного согласия утверждали, что никакого покушения, и даже попытки покушения, во время визита верховного лидера в Россию не было. Как и многие из тех, кто читал эту информацию, Фидельман сделал вывод, что верховный лидер на самом деле был на волосок от смерти.
Правдой было то, что за восемь дней до этого американская подводная лодка, патрулировавшая Японское море, сбила северокорейскую испытательную ракету в воздушном пространстве Северной Кореи. Представитель КНДР назвал это актом агрессии и пообещал нанести ответный удар в той или иной форме. Хотя нет. Он пообещал забить пеплом глотки всем американцам. Сам верховный лидер не произнес ни слова. Он вообще не появлялся на публике с момента неудавшегося покушения.
– Они же не настолько глупы, – говорит Фидельман толстяку через голову кореянки. – Вы только подумайте, чем это может кончиться.
Маленькая напряженная черноволосая женщина смотрит на сидящего рядом крупного мужчину с раболепной гордостью, и Фидельман вдруг понимает, почему она терпит его пузатое вторжение в ее личное пространство. Они вместе. И она любит его. Возможно, даже боготворит.
Толстяк безмятежно повторяет:
– Сто долларов.
Кабина пилотов.
Леонард Уотерс
Под ними Северная Дакота, но единственное, что видит Уотерс, – это холмистое пространство облаков, которое тянется до са́мого горизонта. Уотерс никогда не бывал в Северной Дакоте и, когда пытается представить ее себе, воображает ржавеющее допотопное фермерское оборудование, Билли Боба Торнтона[59] и тайные акты мужеложства в зерновых элеваторах. По рации диспетчер в Миннесоте дает указание какому-то «Боингу-737» спуститься на эшелон три-шесть-ноль и увеличить скорость до значения числа Маха[60] семь-восемь.
– Вы когда-нибудь бывали на Гуаме? – спрашивает его второй пилот с притворной бодростью.
Уотерс никогда прежде не летал с женщиной – вторым пилотом, и ему невыносимо мучительно смотреть на нее, так она душераздирающе красива. С таким лицом, как у нее, ей бы красоваться на обложках глянцевых журналов. До того как он впервые увидел ее в конференц-зале международного аэропорта Лос-Анджелеса за два часа до вылета, он не знал о ней ничего, кроме фамилии – Бронсон, и представлял себе кого-то вроде парня из «Жажды смерти»[61].
– Я был в Гонконге, – отвечает Уотерс, желая, чтобы она была не так хороша собой.
Уотерсу лет сорок пять, но выглядит он на девятнадцать – стройный мужчина с рыжими волосами, подстриженными почти под ежик, и веснушками, разбросанными по лицу, словно звезды на карте звездного неба. Он недавно женился и вскоре должен стать отцом: фотография жены в сарафане, с животом, похожим на спелую тыкву, приколота перед ним над приборной доской. Он не хочет увлечься кем-нибудь другим. Ему стыдно, даже когда он просто засматривается на красивую женщину. В то же время он не желает казаться холодным, официальным и неприветливым. Он гордится тем, что его авиакомпания нанимает все больше женщин-пилотов, одобряет это и поддерживает. Но все восхитительные женщины рождают грусть в его душе.
– В Сиднее был, на Тайване. А вот на Гуаме бывать не доводилось.
– Мы с друзьями когда-то занимались фридайвингом у берегов Фай-Фай-бич[62]. Я там однажды оказалась так близко к черноперой акуле, что могла погладить ее. Фридайвинг голышом – единственное, что может быть лучше полета.
Слово «голышом» пронзает его, как разряд электрошокера. Это первая реакция. Потом приходит мысль: конечно, она знает Гуам, она ведь служила в военно-морском флоте, там и летать научилась. Покосившись на нее, он с удивлением замечает слезы на ее ресницах.
Кейт Бронсон ловит его взгляд и смущенно улыбается, обнажая маленькую щелку между передними зубами. Он пытается представить себе ее с обритой головой и солдатским медальоном на шее. Это трудно. Однако при всей ее глянцево-обложечной внешности есть в ней что-то диковатое, что-то жесткое и бесшабашное.
– Не знаю, почему я всплакнула. Я не была там лет десять. И друзей у меня там нет.
Уотерс обдумывает разные слова утешения, но отвергает их все по очереди. К чему говорить, мол, может быть, все там не так плохо, как она думает, если на самом деле, похоже, все еще гораздо хуже.
Раздается легкий стук. Бронсон вскакивает, вытирает слезы тыльной стороной ладони, смотрит в глазок и отпирает дверь.
Это Форстенбош, старший стюард, полный флегматичный мужчина с волнистыми светлыми волосами, суетливыми манерами и маленькими глазками за толстыми очками в золотой оправе. Когда трезв, он спокоен, профессионален и педантичен, но когда пьян, становится виртуозным сквернословом.
– Кто-то сбросил бомбу на Гуам? – безо всякой преамбулы выпаливает он.
– Земля сообщает только то, что связь с ним потеряна, – отвечает Уотерс.
– И что конкретно это значит? – спрашивает Форстенбош. – У меня полон салон насмерть перепуганных людей, а мне им нечего сказать.
Бронсон наклоняет голову, ныряя обратно в кресло второго пилота. Уотерс делает вид, что не замечает ее. Он притворяется, будто не видит, как у нее дрожат руки.
– Это значит… – начинает Уотерс, но раздается сигнал тревоги, и включается связь с авиадиспетчером Миннеаполисского центра управления воздушным движением. Голос из Миннесоты звучит гладко, спокойно, невозмутимо, словно речь идет не более чем о прохождении через область повышенного давления. Их специально обучают такой манере.
– Говорит Миннеаполисский центр. Сообщение первоочередной важности для всех воздушных судов, работающих на этой частоте: мы получили распоряжение от стратегического командования США расчистить это воздушное пространство для операции, проводящейся из Элсуэрта. Мы начинаем перенаправлять все рейсы в ближайшие подходящие аэропорты. Повторяю, мы сажаем все пассажирские и прогулочные самолеты, находящиеся в зоне Миннеаполисского центра управления воздушным движением. Пожалуйста, оставайтесь на связи и будьте готовы незамедлительно реагировать на наши распоряжения.
– Элсуэрт? – удивляется Форстенбош. – Что у них там, в аэропорту Элсуэрта?
– Место дислокации двадцать восьмого стратегического бомбардировочного крыла командования ВВС, – отвечает Бронсон, отчаянно запустив пальцы в волосы.
Бизнес-класс.
Вероника д’Арси
Самолет резко накреняется, и Вероника д’Арси прямо под собой видит в иллюминатор мятое пуховое одеяло облаков. В окна противоположного борта салона врываются слепящие солнечные столбы. Сидящий рядом привлекательный нетрезвый мужчина – его свободно падающие на лоб черные пряди напоминают ей о Кэри Гранте, о Кларке Кенте – инстинктивно сжимает ладонями подлокотники. Интересно, думает она, он страдает аэрофобией или просто пьянчуга? Свой первый скотч он выпил, как только они достигли крейсерской высоты, три часа назад, то есть в самом начале одиннадцатого.
Экраны темнеют, и на них снова появляется предупреждение: «Прослушайте сообщение». Вероника закрывает глаза, сосредоточиваясь, как делает это обычно во время читки новой пьесы, когда другой актер впервые произносит свои реплики.
Капитан Уотерс (голос из динамика):
– Привет, друзья, это снова капитан Уотерс. К сожалению, должен сообщить, что Управление воздушным движением неожиданно перенаправило нас в Фарго, в международный аэропорт Гектор. Нас попросили очистить это воздушное пространство незамедлительно для… (нервное постукивание) …для военных маневров. Очевидно, что ситуация на Гуаме создала сегодня, гм-м, осложнения в небе для всех. Мы рассчитываем приземлиться в Фарго через сорок минут. Буду делать дополнительные сообщения по мере поступления новой информации. (Постукивание.) Приношу свои извинения, друзья. Не на такой день все мы рассчитывали.
Если бы это было кино, голос капитана не звучал бы как голос подростка, переживающего худший период отрочества. На эту роль взяли бы кого-нибудь угрюмого и уверенного в себе. Например, Хью Джекмана. Или какого-нибудь британца – если бы захотели придать персонажу умудренности и оксфордской образованности. Возможно, Дерека Джекоби.
Вероника время от времени играла с Дереком на протяжении почти сорока лет. Он поддерживал ее за кулисами в тот вечер, когда умерла ее мать, ласково говорил с ней, бормотал что-то ободряющее. А сорок минут спустя они оба, одетые римлянами, стояли перед залом, вмещавшим четыреста восемьдесят зрителей. И как же хорош был Дерек в тот вечер! Она тоже играла превосходно, и именно тогда поняла, что может преодолеть на сцене все. Сможет и здесь. Внутренне она уже начала успокаиваться, освобождаться от всех забот, от всех тревог. Она давно научилась чувствовать только то, что разрешала себе чувствовать.
– Я думала, что вы начали пить слишком рано, – говорит она своему соседу, – а оказалось, что это я начинаю слишком поздно. – Она поднимает маленький пластмассовый стаканчик с вином, который ей принесли к обеду, и прежде чем осушить его, произносит: «Чин-чин».
Он улыбается ей очаровательной непринужденной улыбкой.
– Я никогда не был в Фарго, хотя смотрел тот сериал по телевидению. – Он прищуривается. – А вы бывали в Фарго? Сдается мне, что бывали. Вы ведь играли судмедэксперта, а потом Юэн Макгрегор вас задушил.
– Нет, дорогой. Вы говорите о «Заказном убийстве», и это был Джеймс Макэвой.
– Точно. Я же помню, что видел однажды, как вы умираете. Часто вам приходилось умирать?
– О, все время. Я как-то снималась с Ричардом Харрисом, так у него целый день ушел на то, чтобы укокошить меня подсвечником. Пять переустановок декораций, сорок дублей. К концу дня у бедняги не осталось никаких сил.
У ее соседа округляются глаза, и она понимает, что он видел картину и помнит ее в ней. Ей тогда было двадцать два года, и пришлось сниматься обнаженной чуть ли не в каждой сцене – без преувеличения. Дочь Вероники однажды спросила: «Мама, а когда ты вообще поняла, что существует одежда?» И Вероника ей ответила: «Сразу после твоего рождения, милая».
Дочь Вероники достаточно красива, чтобы тоже сниматься в кино, но вместо этого она делает шляпы. Когда Вероника думает о ней, ее грудь сжимается от восторга. Она не заслужила такой здравомыслящей, благополучной, рассудительной дочери. Размышляя о себе – вспоминая о собственном эгоизме и нарциссизме, безразличии к материнству, одержимости карьерой, – Вероника не могла поверить, что жизнь подарила ей такую хорошую дочь.
– Меня зовут Грег, – представляется сосед. – Грег Холдер.
– Вероника д’Арси.
– Что привело вас в Лос-Анджелес? Роль? Или вы там живете?
– Ездила туда на апокалипсис. Я играю мудрую старую обитательницу пустыни. Предполагаю, что это будет пустыня. Единственное, что я пока видела, – это зеленая ширма. Надеюсь, что настоящий апокалипсис будет отсрочен достаточно надолго, чтобы фильм успел выйти. Как вы думаете, успеет?
Грег смотрит в иллюминатор на облачный пейзаж.
– Конечно. Это же Северная Корея, а не Китай. Чем они могут по нам ударить? Нас апокалипсис не ждет. А их – возможно.
– Сколько людей живет в Северной Корее? – Вопрос исходит от девочки в комично огромных очках, сидящей через проход от них. Она внимательно слушала их разговор и теперь очень по-взрослому склонилась к ним.
Ее мать натянуто улыбается Грегу с Вероникой и похлопывает дочку по руке.
– Не беспокой других пассажиров, дорогая.
– Она меня ничуть не беспокоит, – говорит Грег. – Я не знаю, детка. Но очень многие живут там на фермах, рассеянных по всей стране. Думаю, там есть только один большой город. Поэтому, что бы ни случилось, уверен, большинство населения не пострадает.
Девочка откидывается на спинку кресла и обдумывает услышанное, потом поворачивается к матери и что-то ей шепчет. Мать сидит, зажмурившись, качает головой и продолжает похлопывать дочку по руке. Вероника уверена, что женщина этого даже не замечает.
– У меня дочка примерно такого же возраста, – говорит Грег.
– А у меня – примерно вашего, – улыбается Вероника. – Она – мой самый любимый человек на свете.
– Да, и мой. Я имею в виду свою дочь, конечно, не вашу. Но не сомневаюсь, что ваша такая же чудесная.
– Вы направляетесь домой, к ней?
– Да. Жена позвонила и попросила меня сократить деловую поездку. У нее роман с мужчиной, с которым она познакомилась в «Фейсбуке», и она хочет, чтобы я приехал и побыл с дочкой, пока она съездит к нему в Торонто.
– О господи! Вы серьезно? Вы о чем-нибудь догадывались?
– Я замечал, что она слишком много времени проводит за компьютером, но, признаться честно, она, со своей стороны, считала, что я слишком много времени провожу за выпивкой. Наверное, я алкоголик. Думаю, теперь с этим что-то придется делать. Как-то завязывать. – И он допил свой скотч.
Вероника была разведена – дважды – и всегда остро ощущала, что в обоих случаях сама была главным виновником семейного краха. Когда она вспоминает, как плохо себя вела, как отвратительно обращалась с Робертом и Франсуа, ей становится стыдно, она начинает сердиться на себя и, конечно, рада выразить свое сочувствие и солидарность сидящему рядом обиженному мужчине, использовать любую – сколь бы мала она ни была – возможность искупить свою вину.
– Мне очень жаль. Какая ужасная бомба на вас свалилась.
– Что вы сказали? – спрашивает девочка, сидящая через проход, снова наклоняясь к ним. Кажется, что глубокие карие глаза за огромными линзами вообще не моргают. – Мы собираемся сбросить на них атомную бомбу?
В ее вопросе больше любопытства, чем страха, но здесь ее мать не выдерживает и делает резкий панический выдох.
Грег снова наклоняется к девочке, улыбка его одновременно и дружелюбная, и сухая, и Веронике вдруг хочется стать лет на двадцать моложе. Она составила бы недурную пару такому мужчине, как он.
– Я не знаю, какой выбор есть у военных, так что точно сказать не могу, но…
Он не успевает закончить фразу – салон содрогается от чудовищного, душераздирающего акустического удара.
Мимо, словно вспышка молнии, проносится самолет, за ним еще два, идущие тандемом. Один из них пролетает так близко от их левого крыла, что Вероника долю секунды видит в кабине мужчину в шлеме с чашеобразным дыхательным аппаратом на лице. Эти самолеты мало напоминают «Боинг-777», который несет их на восток… Они – гигантские железные соколы, передняя часть их фюзеляжа похожа на серый наконечник свинцовой пули. От этой пронесшейся мимо мощи наш самолет сильно затрясло. Пассажиры закричали, схватившись друг за друга. Карающий звук бомбардировщиков все ощутили нутром. А самих самолетов уже и след простыл, остались лишь длинные инверсионные следы, перечеркнувшие яркую синеву.
В салоне воцарилось потрясенное, шоковое молчание.
Вероника д’Арси смотрит на Грега Холдера и видит смятый в комок пластмассовый стаканчик, зажатый у него в кулаке. Он замечает это одновременно с ней, смеется и кладет бесформенный комок на подлокотник.
Потом снова поворачивается к девочке по ту сторону прохода и заканчивает фразу, словно ее ничто и не прерывало:
– …но я бы сказал, что по всем признакам ответ – да.
Салон эконом-класса.
Дженни Слейт
– Би-первые, – говорит ей любимый расслабленным, почти довольным голосом. – «Лансеры»[63]. Раньше они несли исключительно ядерную боевую нагрузку, но черный Иисус покончил с этим. Хотя у них на борту все еще достаточно боезарядов, чтобы зажарить всех собак в Пхеньяне. Что забавно, потому что, если вы хотите съесть собаку в Северной Корее, место в ресторане надо заказывать заранее.
– Они должны были восстать, – говорит Дженни. – Почему они не восстали, когда у них был шанс? Они что, хотят жить в трудовых лагерях? Хотят умирать от голода?
– Таково различие между западным типом мышления и восточным мировосприятием, – говорит Бобби. – Там индивидуализм рассматривается как отклонение от нормы. – И воркующим голосом добавляет: – В их менталитете есть что-то от модели поведения колонии муравьев.
– Прошу прощения, – говорит еврей в среднем ряду, сидящий рядом с восточной девушкой. Он не мог бы выглядеть евреем больше, даже если бы у него были борода, пейсы и талит на плечах. – Не могли бы вы говорить потише? Мою соседку это огорчает.
Бобби понижает голос, старается говорить тише, но даже при этом бас его гудит, что не раз приводило к неприятным последствиям.
– Ей не стоит огорчаться. Вот увидите, завтра утром Южная Корея сможет наконец перестать волноваться из-за психопатов по ту сторону демилитаризованной зоны. Семьи воссоединятся. Ну, некоторые семьи. Бомба не отличает военных от гражданского населения.
Бобби говорит с небрежной самоуверенностью человека, который двадцать лет поставлял новости для телерадиовещательной компании, владевшей чуть ли не семьюдесятью местными телевизионными станциями, и специализировался на подготовке материалов, свободных от требований тенденциозного медиамейнстрима. Он бывал в Ираке, в Афганистане. Ездил в Либерию в разгар эпидемии лихорадки Эбола, чтобы расследовать деятельность ИГИЛ по использованию вируса в качестве бактериологического оружия. Бобби ничего не боится. Ничто не может его шокировать.
Дженни была беременна, не замужем, изгнана из дома родителями и ночевала в кладовке на бензоколонке между сменами в тот день, когда Бобби угостил ее обедом в фастфуде и сказал, что ему безразлично, кто отец ее будущего ребенка, он будет любить его как своего собственного. У Дженни к тому времени уже был назначен аборт. Спокойно и тихо Бобби сказал ей: если она пойдет с ним, он обеспечит ей и ребенку хорошую, счастливую жизнь, но если она отправится в клинику, она убьет ребенка и потеряет собственную душу. Она пошла с ним, и все оказалось именно так, как он обещал, – все. Он действительно любил ее, обожал с первой встречи, он был ее чудом. Ей не нужны были хлеба и рыбы, чтобы поверить. Бобби было вполне достаточно. Дженни иногда представляла себе, что какой-нибудь либерал – кто-нибудь из этих «коудпинкеров»[64] или еще кто-нибудь – пытается убить его, и тогда она становится между Бобби и дулом пистолета и принимает пулю. Она хотела умереть за него. И ощутить последний его поцелуй с привкусом собственной крови.
– Были бы здесь телефоны, – вдруг сказала хорошенькая восточная девушка. – В некоторых самолетах они есть. Я бы хотела позвонить… кому-нибудь. Через сколько времени бомбардировщики туда долетят?
– Даже если бы была возможность позвонить из этого самолета, – сказал Бобби, – звонок сейчас вряд ли прошел бы. Первое, что сделали США, – это отключили все средства связи в регионе, причем они могли не ограничиться КНДР. Нельзя допустить, чтобы агенты, внедренные на юг – «кроты», годами легально жившие и работавшие в Южной Корее, – смогли координировать контрудар. А кроме того, сейчас туда звонит каждый, у кого есть родственники на Корейском полуострове. Это было бы все равно что попробовать дозвониться на Манхэттен одиннадцатого сентября, только теперь настала их очередь.
– Их очередь? – переспросил еврей. – Их очередь? Наверное, я пропустил сообщение, в котором говорилось, что за взрыв Всемирного торгового центра ответственна Северная Корея. Я-то считал, что это была «Аль-Каида».
– Северная Корея много лет продавала «Аль-Каиде» оружие и информацию, – сообщил ему Бобби. – Это все взаимосвязано. Северная Корея десятилетиями была экспортером номер один истерии под названием «Разрушить Америку».
Дженни подталкивает Бобби плечом и говорит:
– Или была раньше. Думаю, теперь первенство перешло к движению «Черные жизни важны». – На самом деле она лишь повторяла то, что Бобби говорил друзьям несколько дней назад. Ей это казалось удачным, потому что она знала, как он любит, когда ему пересказывают его собственные сентенции.
– Вау! – восклицает еврей. – Ничего более расистского в жизни не слышал. Если миллионы людей вот-вот умрут, так это потому, что миллионы таких, как вы, вверяют управление страной безграмотным, пышущим ненавистью болванам.
Девушка закрывает глаза и откидывается на спинку кресла.
– Как-как вы отозвались о моей жене? – переспрашивает Бобби, приподняв бровь.
– Бобби, – предостерегает его Дженни. – Все хорошо. Я не обращаю внимания.
– Я не спросил, обращаешь ли ты внимание. Я спросил этого джентльмена, о каких таких людях он тут распространялся.
У еврея щеки покрываются лихорадочными красными пятнами.
– О людях жестоких, самодовольных… и невежественных.
Он отворачивается, дрожа.
Бобби целует жену в висок и расстегивает ремень безопасности.
Кабина пилотов.
Марк Форстенбош
В течение десяти минут Форстенбош успокаивает пассажиров в салоне эконом-класса, а следующие пять – вытирает пиво с головы Арнольда Фидельмана и помогает ему сменить свитер. Потом предупреждает Фидельмана и Роберта Слейта, что, если еще раз до приземления увидит их покинувшими свои кресла, в аэропорту они оба будут арестованы. Слейт воспринимает это спокойно, застегивает ремень безопасности, кладет руки на колени и безмятежно смотрит вперед. Фидельман, судя по всему, собирается протестовать. Он беспомощно дрожит, сереет лицом и успокаивается только тогда, когда Форстенбош шепчет ему на ухо: как только, мол, самолет сядет, они вместе подадут рапорт и предъявят обвинение этому Слейту в словесном и физическом оскорблении. Фидельман смотрит на него с удивлением и благодарностью: один гей нашел другого в мире, полном Робертов Слейтов.
Старшего стюарда и самого мутит, поэтому он довольно долго остается в туалете, чтобы прийти в себя. В салоне эконом-класса стоит запах рвоты и страха. Дети безутешно плачут. Форстенбош видел двух молящихся женщин.
Он приглаживает волосы, моет руки, делает один за другим несколько глубоких вдохов.
Свою ролевую модель поведения Форстенбош всегда сравнивал с персонажем Энтони Хопкинса из «Остатка дня» – фильма, который он никогда не считал трагедией – скорее, панегириком жизни дисциплинированного служащего. Иногда Форстенбош жалеет, что не родился британцем. Он сразу узнал Веронику д’Арси в бизнес-салоне, но профессионализм предписывает ему не обнаруживать в какой бы то ни было явной форме узнавание знаменитостей.
Приведя себя в порядок, он выходит из туалета и направляется в кабину пилотов сообщить капитану Уотерсу, что им по приземлении потребуется представитель службы безопасности аэропорта. Он задерживается в салоне бизнес-класса, чтобы позаботиться о женщине, которая учащенно дышит. Когда Форстенбош берет ее за руку, ему вспоминается, как он в последний раз держал за руку свою бабушку: она лежала в гробу, и пальцы у нее были такими же холодными и безжизненными. Негодование обуревает его, когда он вспоминает о том, как близко к самолету просвистели бомбардировщики – эти идиотские сосиски. Отсутствие элементарного человеческого уважения раздражает его. Он учит женщину глубоко дышать, заверяет, что скоро они уже будут на земле.
Кабина пилотов наполнена солнечным светом и покоем. Он не удивлен. В работе пилота все строится так, чтобы сделать даже кризисную ситуацию – а у них сейчас именно кризисная ситуация, хоть и такая, какой они никогда не отрабатывали на пилотажных тренажерах, – рутинной процедурой, определяемой ведомостями технического контроля и последовательностью предписываемых действий.
Командир корабля поглядывает на девушку, которая прихватила в самолет коричневую коробку с обедом. Когда ее левый рукав приподнимается, Форстенбош замечает татуировку над запястьем: белый лев. Глядя на нее, он представляет себе ее прошлое: стоянка жилых автоприцепов, брат, подсевший на наркотики, разведенные родители, первое место работы в «Уолмарте», отчаянный побег в армию. Она ему безмерно нравится – как же иначе? Его собственное детство было таким же, только вместо армии он сбежал в Нью-Йорк, чтобы свободно жить геем. В прошлый раз, впуская его в кабину, она старалась скрыть слезы, и от этого у него сжалось сердце: ничто не причиняет ему бо́льших страданий, чем чужие страдания.
– Ну, что происходит? – интересуется Форстенбош.
– Приземление в десять, – отвечает Бронсон.
– Может быть, – уточняет Уотерс. – В воздухе перед нами очередь на посадку, с дюжину самолетов.
– Какие-нибудь сведения с другого конца земли? – желает знать Форстенбош.
Сначала ему никто не отвечает. Потом Уотерс произносит натянутым тревожным голосом:
– Геологическая служба США зарегистрировала на Гуаме сейсмическую активность силой в шесть и три десятых балла по шкале Рихтера.
– Это соответствует двумстам пятидесяти килотоннам, – добавляет Бронсон.
– Боеголовка, – не столько спрашивает, сколько констатирует Форстенбош.
– В Пхеньяне тоже что-то случилось, – говорит Бронсон. – За час до вспышки на Гуаме государственное телевидение переключилось на демонстрацию испытательной таблицы. Есть информация, что целая группа высокопоставленных лиц была убита, один за другим. Так что речь может идти либо о государственном перевороте, либо о том, что мы попытались свалить руководство выборочными убийствами, а им это не очень понравилось.
– Чем мы можем вам помочь, Форстенбош? – спрашивает Уотерс.
– В салоне произошла драка. Один пассажир вылил пиво на голову другому…
– Черт, этого только не хватало, – вырывается у капитана.
– …я их предупредил, но нам может понадобиться представитель полиции Фарго в момент приземления. Думаю, пострадавший собирается выдвинуть обвинения.
– Я сообщу в Фарго, но не обещаю. У меня такое ощущение, что там, в аэропорту, сейчас сумасшедший дом. У службы безопасности дел невпроворот.
– Еще у одной женщины из бизнес-класса паническая атака. Она старается не испугать свою дочку, но у нее трудности с дыханием. Я заставил ее надувать гигиенический пакет. Лучше, чтобы на земле ее встречала «Скорая» с кислородным баллоном.
– Хорошо. Еще что-нибудь?
– Назревает еще с десяток мини-кризисов, но моя команда держит их под контролем. И еще одно. Не хочет ли кто-нибудь из вас в нарушение всех правил стакан пива или вина?
Оба пилота поворачивают к нему головы. Бронсон усмехается.
– Форстенбош, я хочу от вас ребенка, – говорит она. – У нас получился бы очаровательный младенец.
– Я тоже, – подхватывает Уотерс.
– Это означает – да?
Уотерс и Бронсон переглядываются.
– Лучше не надо, – решает Бронсон, и Уотерс согласно кивает.
Потом капитан добавляет:
– Но, как только мы приземлимся, я хочу, чтобы вы нашли «Дос экис»[65] – самое холодное.
– Знаете, что я больше всего люблю в полетах? – говорит Бронсон. – То, что на этой высоте всегда солнечный день. Кажется невозможным, чтобы в такой солнечный день случилось нечто столь ужасное.
Они любуются облачным пейзажем, когда белый пушистый пол под ними пронзается в сотне точек. Сотня столбов белого дыма вздымается вверх вокруг них. Это похоже на волшебный фокус: словно в облаках прятались сжатые стержни, которые в один миг распрямились. Спустя мгновение они ощущают удар громоподобной звуковой волны и последующую турбулентность, самолет взбрыкивает, подскакивает вверх и начинает крениться. Дюжина красных индикаторов лихорадочно мигает на приборной доске, включается пронзительный сигнал тревоги. Форстенбош видит все это в ту самую секунду, когда его отрывает от пола. Он пари́т, как парашют в форме шелкового человека, надутого воздухом, ударяется головой о стенку и падает так тяжело и стремительно, будто в полу кабины вдруг открылся люк и он провалился в небесную бездну под ним.
Бизнес-класс.
Дженис Мамфорд
– Мама! – кричит Дженис. – Мама, посмотри! Что это?
То, что происходит в небе, не так страшно, как то, что творится в салоне. Кто-то пронзительно кричит, сверкающая серебряная игла звука прошивает насквозь голову Дженис. Взрослые стонут так, что это наводит девочку на мысль о привидениях.
Их самолет наклоняется влево, затем вдруг резко переваливается вправо. Он проплывает через лабиринт гигантских колонн, словно через аркаду какого-то немыслимо огромного собора. Дженис приходилось писать по буквам слово «аркада» на Инглвудской региональной олимпиаде.
Ее мать, Милли, не отвечает. Она размеренно втягивает воздух носом и выдыхает ртом в белый гигиенический пакет. Милли никогда прежде не летала, никогда не покидала пределов Калифорнии. Как и Дженис, но, в отличие от матери, девочка с нетерпением ждала и того и другого. Дженис всегда мечтала подняться в воздух на большом самолете, ей бы хотелось также когда-нибудь погрузиться под воду на субмарине, и еще она решила совершить прогулку на каяке со стеклянным дном.
Симфония отчаяния и ужаса постепенно переходит к мягкому диминуэндо (Дженис писала слово «диминуэндо» в первом туре финала штата и была та-а-ак близка к тому, чтобы пройти во второй и избежать унизительного поражения). Дженис наклоняется к приятному молодому мужчине, который весь полет пьет чай со льдом.
– Это были ракеты? – спрашивает она.
Женщина из кино отвечает со своим очаровательным британским акцентом. Дженис только иногда слышала британский акцент в кино, и он ей очень нравился.
– Эмбээры, – говорит кинозвезда. – Они летят на другой конец Земли.
Дженис замечает, что кинозвезда держит за руку гораздо более молодого мужчину, который уже допил весь чай со льдом. На лице кинозвезды – выражение почти ледяного спокойствия. У мужчины, сидящего рядом с ней, наоборот, такой вид, как будто он сейчас взорвется. Он так сжимает ладонь пожилой женщины, что костяшки пальцев у него побелели.
– Вы родственники? – спрашивает Дженис. Она не может себе представить, почему бы иначе они держались за руки.
– Нет, – отвечает симпатичный мужчина.
– Тогда почему вы держитесь за руки?
– Потому что нам страшно, – говорит кинозвезда, хотя она вовсе не выглядит испуганной, – а это успокаивает.
– А-а! – понимает Дженис и быстро берет мать за свободную руку. Мать благодарно смотрит на нее поверх пакета, который надувается и сдувается, словно бумажное легкое. Дженис снова поворачивается к симпатичному мужчине. – Хотите меня тоже взять за руку?
– Да, спасибо, – отвечает тот, и они берутся за руки через проход.
– А что значит «эмбээр»?
– Межконтинентальная баллистическая ракета, – говорит мужчина.
– Это одно из моих слов! Мне пришлось писать «межконтинентальный» на региональной олимпиаде.
– В самом деле? Не думаю, что я смог бы правильно написать «межконтинентальный» по памяти.
– Что вы, это легко, – говорит Дженис и произносит слово по буквам.
– Верю вам на слово. Вы – знаток.
– Я лечу в Бостон участвовать в конкурсе на знание орфографии. Это международный полуфинал, и если я пройду его успешно, то поеду в Вашингтон, и меня покажут по телевизору. Никогда не думала, что мне удастся побывать хоть в одном из этих мест. Но ведь и в Фарго я никогда не рассчитывала попасть. Мы все еще собираемся приземлиться в Фарго?
– Не представляю, что еще мы могли бы сделать, – говорит симпатичный мужчина.
– А сколько их было, этих эмбээров? – спрашивает Дженис, вытягивая шею, чтобы посмотреть на столбы дыма.
– Все, какие есть, – говорит кинозвезда.
– Надеюсь, мы не пропустим орфографический конкурс.
На сей раз ей отвечает мать. Голосом хриплым, как будто у нее болит горло или она плакала.
– Боюсь, милая, мы можем опоздать.
– О! – восклицает Дженис. – О нет! – Она испытывает нечто похожее на то, что испытала в прошлом году, когда играли в Тайного Санту и она единственная из всех не получила подарка, потому что ее Тайным Сантой был Мартин Коасси, а он заболел мононуклеозом.
– Ты бы обязательно победила, – говорит ей мать и закрывает глаза. – И не только в полуфинале.
– Но ведь состязание еще только завтра вечером, – говорит Дженис. – Может, мы утром сумеем сесть на другой самолет?
– Не уверен, что завтра утром что-нибудь будет летать, – говорит симпатичный мужчина извиняющимся тоном.
– Из-за того, что что-то происходит в Северной Корее?
– Нет, – отвечает ее приятель через проход. – Не из-за того, что произойдет там.
Милли открывает глаза и говорит:
– Ш-ш-ш. Вы ее напугаете.
Но Дженис не испугана, она просто не понимает. Мужчина, сидящий через проход, покачивает ее руку вперед-назад, вперед-назад.
– Какое слово из тех, что тебе доводилось писать, было самым трудным? – спрашивает он.
– Антропоцен, – не задумываясь, отвечает Дженис. – Это из-за него я погорела в прошлом году в полуфинале. Я думала, что там перед «цен» – «а». Оно означает «эпоха человеческих существ». Фраза была такой: «Эпоха антропоцена кажется очень короткой по сравнению с другими геологическими периодами».
Мужчина смотрит на нее несколько секунд, а потом разражается смехом.
– Именно так, детка!
Кинозвезда смотрит через иллюминатор на гигантские белые столбы.
– Такого неба – с такими облачными столбами – никто никогда не видел. Яркое, раскидистое – и заключенное в клетку из дымовых балок. Похоже, что они поддерживают небо. Какой дивный день! Вероятно, вам вскоре доведется увидеть, как я играю еще одну смерть, мистер Холдер. Не могу обещать, что исполню эту сцену со своим обычным художественным чутьем. – Она закрывает глаза. – Я скучаю по дочери. Не думаю, что доберусь до… – Она открывает глаза, смотрит на Дженис и замолкает.
– Я то же самое подумал о своей, – говорит мистер Холдер, потом поворачивает голову и смотрит мимо Дженис на ее мать.
– Вы знаете, как вам повезло? – Он переводит взгляд с Милли на Дженис и обратно.
Когда Дженис не видит, ее мать кивает – в знак понимания.
– А почему тебе повезло, мам? – спрашивает девочка.
Милли прижимает ее к себе и целует в висок.
– Потому что мы с тобой вместе, глупышка.
– А-а, – тянет Дженис. Ей трудно понять, в чем же здесь везение. Они ведь каждый день вместе.
В какой-то момент Дженис замечает, что симпатичный мужчина отпустил ее руку, а когда она снова сморит на него, он уже обнимает кинозвезду, а та обнимает его, и они целуются, очень нежно. Дженис потрясена, просто потрясена, потому что кинозвезда намного старше своего соседа. Они целуются точно так же, как в конце фильма, прямо перед титрами, целуются влюбленные, а зрители встают и уходят домой. Это так шокирует Дженис, что она начинает хохотать.
Салон эконом-класса.
Эй Ра Ли
На свадьбе брата в Чеджу на какой-то момент Эй Ра показалось, что она видит своего отца, которого нет в живых уже семь лет. Церемония и прием проводились в огромном частном парке, пересеченном глубокой, прохладной рукотворной речкой. Дети пригоршнями кидали в нее камешки и наблюдали, как вода вскипает от резвящихся в ней радужных карпов – сотен блестящих рыб всех цветов драгоценных металлов: золотисто-розовых, платиновых, отшлифованно-медных. Взгляд Эй Ра переместился с детей на декоративный каменный мостик, перекинутый через речку, и там стоял ее отец в своем дешевом костюме. Он опирался о парапет, улыбаясь ей, его крупное родное лицо было иссечено глубокими морщинами. Это виде́ние так встревожило ее, что она отвела взгляд, и на мгновение у нее перехватило дыхание, а когда посмотрела снова, отца уже не было. И к тому времени, когда Эй Ра заняла свое место на церемонии, она уже убедила себя, что на самом деле видела Чама, младшего брата отца, который просто постригся так же, как стригся ее отец. Ничего удивительного, что в таком эмоциональном состоянии она на миг приняла одного за другого… особенно учитывая тот факт, что по случаю свадьбы решила не надевать очки.
На земле студентка отделения эволюционной лингвистики в МТИ укладывает свои фантазии в те формы, которые могут быть доказаны, письменно зафиксированы, общепризнаны и изучены. Но сейчас она в воздухе и придерживается более широких взглядов. «Боинг-777», махина весом в триста с лишним тонн, несется по небу, поддерживаемая колоссальными незримыми силами. Ничто несет на своей спине всё. Вот так же с мертвыми и живыми, с прошлым и будущим. Настоящее – самолет, а под ним – история, которая его поддерживает. Отец Эй Ра был веселым человеком, сорок лет он руководил фабрикой, производившей предметы для розыгрышей, шутки были его бизнесом. Здесь, в воздухе, ей хочется верить, что он не позволил бы смерти встать между ним и таким счастливым днем.
– Мне сейчас чертовски страшно, – говорит Арнольд Фидельман.
Она кивает. Ей тоже страшно.
– И я так чертовски зол. Так чертовски зол.
Эй Ра перестает кивать. Она злости не испытывает и предпочитает не испытывать. В этот конкретный момент она меньше кого бы то ни было хочет злиться.
Фидельман продолжает:
– Ублюдок этот мистер Сделаем-Америку-Дьяволь-ски-Великой. Хотел бы я, чтобы можно было всего на один день оживить тех, кого уже нет, чтобы они смогли закидать его грязью и гнилой капустой. Как вы думаете, могло бы такое – все вот это безумие – случиться, если бы в Белом доме все еще сидел Обама? Послушайте, когда мы приземлимся – если приземлимся, – не могли бы вы выйти вместе со мной? Чтобы сделать заявление о том, что здесь произошло. Вы во всем этом лицо незаинтересованное. Полиция к вам прислушается. Они арестуют эту жирную гадину за то, что он вылил на меня пиво, и тогда он будет иметь удовольствие созерцать конец света из маленькой промозглой камеры, набитой паскудными буйными алкашами.
Она сидит с закрытыми глазами, пытаясь мысленно вернуться в тот свадебный парк. Она хочет стоять у искусственной речки, а потом повернуть голову и снова увидеть на мостике отца. На этот раз она не испугается. Она хочет встретиться с ним взглядом и улыбнуться ему в ответ.
Но ей не удается остаться в воображаемом свадебном парке. Голос Фидельмана становится все громче, по мере того как он все больше впадает в истерику. Крупный мужчина по ту сторону прохода ловит его последние слова.
– Когда будете делать свое заявление полиции, – говорит он, – надеюсь, вы не опустите ту часть, в которой обозвали мою жену самодовольной и невежественной.
– Бобби, – говорит жена крупного мужчины, глядя на него с обожанием, – не надо.
Эй Ра делает долгий медленный выдох и говорит:
– Никто никаких заявлений в Фарго делать не будет.
– А вот тут вы ошибаетесь, – дрожащим голосом возражает ей Фидельман. Колени у него тоже дрожат.
– Нет, – отвечает Эй Ра, – не ошибаюсь. Я в этом уверена.
– И почему же вы так в этом уверены? – интересуется жена Бобби. У нее блестящие птичьи глазки и быстрые птичьи движения.
– Потому что мы не приземлимся в Фарго. Через несколько минут после запуска ракет наш самолет перестал кружить над аэропортом. Разве вы не заметили? Мы покинули зону ожидания и теперь направляемся на север.
– Откуда вы знаете? – спрашивает маленькая женщина.
– Солнце теперь слева от самолета, стало быть, мы летим на север.
Бобби и его жена смотрят в иллюминатор. Жена хмыкает с интересом и уважением.
– А что находится к северу от Фарго? – спрашивает она. – И почему мы туда летим?
Бобби медленно поднимает руку ко рту, желая сделать вид, что обдумывает ситуацию, но Эй Ра истолковывает этот жест по Фрейду. Он уже знает, почему они не собираются приземляться в Фарго, но не собирается об этом говорить.
Эй Ра достаточно закрыть глаза, чтобы мысленно увидеть, где сейчас должны находиться ракеты, – за пределами земной атмосферы, они уже перевалили высшую точку своей смертоносной траектории и начали падать в колодец гравитации. Быть может, осталось меньше десяти минут до того, как они ударят в другой конец планеты. Эй Ра насчитала по меньшей мере тридцать ракет, в двадцать раз превышающих мощность, достаточную, чтобы стереть с лица земли народ, численность которого меньше, чем численность населения Новой Англии. И те три десятка, которые все они видели, разумеется, лишь часть задействованного арсенала. Такое нападение, конечно же, не может не вызвать пропорционального ответного удара, и, без сомнения, американские МБР уже пересеклись с сотнями ракет, летящих с противоположной стороны. Что-то пошло чудовищно не так, и это было неизбежно, когда фитиль на гирлянде геополитических петард уже подожжен.
Но Эй Ра закрывает глаза не для того, чтобы представить себе удар и контрудар. Вместо этого она возвращается в Чеджу. Бунт карпов в речке. Вечерние ароматы цветочного изобилия и свежескошенной травы. Отец опирается локтями о парапет и озорно улыбается ей.
– Этот тип… – говорит Фидельман, – …этот тип и его проклятая жена. Они называют людей «азиатами», говорят, будто вы – муравьи. Издеваются над людьми, выливая пиво им на голову. Этот тип и его чертова жена ставят безответственных и глупых людей вроде них самих во главе страны, и вот что мы теперь имеем. Ракеты уже в воздухе. – Голос у него срывается от напряжения, и Эй Ра понимает, что он близок к тому, чтобы разрыдаться.
Она еще раз открывает глаза.
– «Этот тип и его проклятая жена» летят в этом самолете вместе с нами. Мы все в одном самолете. – Она переводит взгляд на Бобби и его жену, которые внимательно ее слушают. – По какой бы причине каждый из нас сюда ни попал, теперь мы здесь все вместе. В воздухе. В беде. И изо всех сил стараемся ее избежать. – Она улыбается, и ей кажется, что это улыбается ее отец. – Когда вам в следующий раз захочется облить кого-нибудь пивом, отдайте банку мне. Лучше я ее выпью.
Бобби пялится на нее несколько секунд задумчиво, даже зачарованно, а потом начинает хохотать.
Жена смотрит на Бобби и спрашивает:
– Почему мы летим на север? Ты что, действительно думаешь, что по Фарго могут нанести удар? Ты действительно думаешь, что мы могли там погибнуть? Посреди Соединенных Штатов?
Муж не отвечает ей, поэтому она снова переводит взгляд на Эй Ра.
Эй Ра мысленно взвешивает, будет ли правда проявлением милосердия или бессердечия. Впрочем, ее молчание – уже ответ.
Женщина стискивает зубы, смотрит на мужа, потом говорит:
– Если нам предстоит умереть, я хочу, чтобы ты знал: я счастлива, что буду рядом с тобой, когда это случится. Ты был добр ко мне, Роберт Джереми Слейт.
Тот поворачивается к ней, целует, потом отстраняется и говорит:
– Ты шутишь? Это я не могу поверить, что такая сногсшибательная женщина могла выйти замуж за такого толстяка, как я. Гораздо правдоподобнее вытянуть лотерейный билет на миллион долларов.
Фидельман ошарашенно смотрит на них и отворачивается.
– Мать вашу, – произносит он, – только не надо теперь давить мне на жалость. – Он комкает пропитавшееся пивом полотенце и бросает его в Боба Слейта.
Полотенце попадает тому в висок. Крупный мужчина поворачивается к Фидельману, долго смотрит на него и… хохочет. Добродушно.
Эй Ра закрывает глаза, кладет голову на подголовник.
Отец наблюдает, как она приближается к мосту сквозь шелковый весенний вечер.
Когда она вступает на каменный свод, он протягивает ей руку и ведет в сад, где танцуют гости.
Кабина пилотов.
Кейт Бронсон
К тому времени, когда Кейт заканчивает бинтовать рану на голове Форстенбоша, тот, распластанный на полу, приходит в себя и начинает стонать. Она засовывает ему очки в нагрудный карман рубашки. Левая линза разбилась во время падения.
– Я никогда в жизни, за все двадцать лет работы в авиации, не терял равновесия, – говорит он. – Я же небесный Фред-мать-его-Астер. Нет. Я – Грейс-мать-ее-Келли. Я могу выполнять работу за всех остальных бортпроводников, двигаясь задом наперед и на каблуках.
– Никогда не видела ни одного фильма с Фредом Астером, – говорит Кейт. – Я всегда была поклонницей Слая Сталлоне.
– Фанаткой, – поправляет Форстенбош.
– До мозга костей, – соглашается Кейт и сжимает ему руку. – Нет-нет, не вставайте. Пока рано.
Кейт легко вскакивает на ноги и проскальзывает в кресло рядом с Уотерсом. Когда запустили ракеты, система индикации вспыхнула символами неопознанных самолетов, загорелось не меньше сотни красных булавочных головок, но теперь не было ничего, кроме тех, которые находились в непосредственной близости. Большинство других оказались позади них, продолжая кружить над Фарго. Пока Кейт возилась с Форстенбошем, капитан Уотерс сменил курс.
– Что происходит? – спрашивает Кейт. Его лицо тревожит ее. Оно восковое, почти бесцветное.
– События развиваются, – отвечает командир. – Президента перевезли в безопасное место. Кабельные каналы сообщают, что Россия запустила ракеты.
– Почему? – восклицает она, словно это имеет какое-то значение.
Он беспомощно пожимает плечами и сначала ничего не отвечает.
– Россия или Китай, или вместе, подняли в воздух истребители, чтобы развернуть наши бомбардировщики, прежде чем они долетят до Кореи. Подводная лодка, базирующаяся на юге Тихоокеанского бассейна, ответила ударом по российскому авианосцу. И пошло, и пошло…
– И? – спрашивает Кейт.
– Никакого Фарго.
– А куда? – Похоже, Кейт не в состоянии произнести больше одного слова зараз. У нее в груди возникает давящее ощущение, ей не хватает воздуха.
– Где-нибудь на севере должно найтись место, где мы сможем приземлиться, подальше от… от того, что надвигается там, позади нас. Должно же быть место, откуда не исходит никакой угрозы. Может быть, Нунавут[66]? В прошлом году один семьсот семьдесят седьмой сел в Икалуите[67]. Посадочная полоса там, на краю света, короткая, маленькая, но технически это возможно, и топлива нам должно хватить.
– Очень глупо было с моей стороны не прихватить зимнее пальто, – говорит Кейт.
– Должно быть, вы новичок на дальних рейсах, – отвечает он. – Никогда не знаешь, куда тебя занесет, так что всегда нужно иметь в чемодане купальный костюм и варежки.
Она действительно новичок на дальних рейсах – лишь полгода назад она прошла аттестацию, позволяющую ей летать на «Боинге-777», – но считает, что намек Уотерса не стоит принимать близко к сердцу. Кейт полагает, что больше ей вообще не придется летать на пассажирских самолетах. Как и Уотерсу. Некуда больше будет летать.
Кейт никогда больше не встретится с матерью, которая живет в Пенсилтаки[68], но это не большая потеря. Ее мать испечется вместе с отчимом Кейт, который когда-то, когда ей было четырнадцать лет, положил руку на застежку ее «вранглеров». Когда Кейт рассказала об этом матери, та ответила: сама, мол, виновата, одеваешься, как шлюха.
Никогда не увидит Кейт и своего единоутробного брата, и вот это ее огорчает. Лиам – очень милый, миролюбивый аутист. Кейт подарила ему на Рождество игрушечного дрона, и его самым любимым занятием на свете стало запускать его, чтобы делать фотографии с воздуха. Ей это увлечение очень понятно. Ее любимые мгновения во время взлета – когда дома́ внизу сжимаются до размеров макетов игрушечной железной дороги, а грузовики – до размеров божьих коровок, мерцающих и взблескивающих, безо всякого трения скользя по автострадам. С набором высоты озера становятся не больше ручного зеркальца в серебряной оправе. А с высоты одной мили весь город делается таким крохотным, что мог бы уместиться на ладони. Ее брат Лиам говорит, что хотел бы стать маленьким, как люди на фотографиях, которые снимает его дрон, потому что, если бы он стал таким маленьким, как они, Кейт могла бы положить его в карман и взять с собой.
Они пролетают над самой северной оконечностью Северной Дакоты, скользя так же, как она когда-то скользила сквозь теплые, как в ванне, воды у берега Фай-Фай-бич и прозрачные ярко-зеленые воды Тихого океана. Какое же это было дивное ощущение – словно в невесомости пари́ть в толще верхнего слоя воды, зная, что под тобой необъятный мир океана. Освободиться от гравитации, думает она, значит ощутить то, что, должно быть, ощущает чистый дух, – избавиться от плоти как таковой.
Их вызывает Миннеаполис.
– Дельта два-три-шесть, вы уклонились от курса. Вы скоро выйдете за пределы нашего воздушного пространства, куда вы направляетесь?
– Миннеаполис, – отвечает Уотерс, – наш курс ноль шесть ноль, просим разрешения перенаправить борт в аэропорт Янки-Фокстрот-Браво, Икалуит.
– Дельта два-три-шесть, почему вы не можете приземлиться в Фарго?
Уотерс долго сидит, склонившись к приборной доске. Капля пота падает на нее. Кейт видит, что его взгляд устремлен на фотографию жены.
– Миннеаполис, Фарго – в ряду первых мест нанесения удара, – говорит он наконец. – На севере у нас больше шансов спастись. У меня на борту двести сорок семь душ.
Треск в рации. Миннеаполис размышляет.
Невероятной яркости, почти ослепляющая вспышка в небе – словно импульсная лампа размером с солнце взорвалась где-то позади самолета. Кейт отворачивается от обзорной части фюзеляжа и закрывает глаза. Где-то в недрах самолета раздается глухое дребезжание, которое они скорее ощущают, чем слышат, – словно содрогается существо, заключенное в его оболочку. Когда Кейт снова открывает глаза, перед ними плавают размытые зеленые послесвечения. И это тоже похоже на подводное плавание у Фай-Фай: там ты окружен неоновыми водорослями и извивающимися флуоресцирующими медузами.
Кейт наклоняется вперед и вытягивает шею. Что-то просвечивает сквозь облачное одеяло, вероятно, в сотне миль позади самолета. И сами облака начинают деформироваться, пухнут, вздымаются.
Когда она снова ровно садится в кресле, опять откуда-то из глубины доносится приглушенный дребезжащий звук, и возникает новая вспышка. Внутренность кабины вмиг превращается в свое негативное изображение. На этот раз Кейт правой щекой ощущает жар, как будто кто-то включил и тут же выключил ультрафиолетовую лампу.
В рации раздается голос из Миннеаполиса:
– Дельта два-три-шесть, как слышите меня? Свяжитесь с Виннипегским центром один-два-семь-запятая-три.
Голос авиадиспетчера звучит с почти обычной индифферентностью.
Форстенбош садится.
– Я вижу вспышки, – говорит он.
– Мы тоже, – отвечает Кейт.
– О боже! – восклицает Уотерс. У него срывается голос. – Я должен попробовать связаться с женой. Почему я не позвонил ей раньше? Она на шестом месяце беременности и совершенно одна.
– Вы не можете, – говорит ему Кейт. – И не могли.
– Почему я не позвонил и не сказал ей? – повторяет Уотерс, словно не слыша ее.
– Она знает, – говорит Кейт. – Она уже все знает.
Было ли это разговором о любви или об апокалипсисе, Кейт не могла сказать.
Еще вспышка. И снова гулкий резонирующий многозначительный удар.
– Далее держите связь с виннипегским РПИ[69], – инструктирует голос из Миннесоты. – Связывайтесь с Аэронавигационной службой Канады. Дельта два-три-шесть, вы покидаете зону нашей ответственности.
– Вас понял, Миннеаполис, – отвечает Кейт, потому что Уотерс, зарывшись лицом в ладони, мучительно стонет и не может говорить. – Спасибо. Берегите себя, ребята. Это Дельта два-три-шесть. Мы покидаем вас.
Джо Хилл Эксетер, Нью-Хэмпшир 3 декабря 2017 годаПримечание автора
Приношу искреннюю благодарность пилоту гражданской авиации в отставке Брюсу Блэку, который подробно ознакомил меня с правилами работы пилотов в кабине. Все технические ошибки – мои и только мои.
Дэвид Дж. Шоу Птицы войны
Дэвид Шоу, наверное, больше всего известен своими произведениями в поджанре сплаттерпанк[70] (говорят, это он и придумал его название), но писал он также и чистую беллетристику, детективы и киносценарии, в том числе к таким фильмам, как «Ворон» и лучшие серии «Техасской резни бензопилой» (назову «Техасскую резню бензопилой: Начало»). «Птицы войны» – ошеломляющее, полное удивительных подробностей воссоздание бомбардировок Германии во время Второй мировой войны и мощное изображение тех сил, которые вырываются на свободу, когда люди начинают воевать. «Я думаю, тогда, в той войне, мы разбудили нечто, – говорит старик Йоргенсон. – Всю ту ненависть. Все те жизни…» Это может (или не может) объяснить то, что видели члены экипажа «Авантюристки», когда вокруг них летали пули и взрывался воздух.
– Птицы войны были реальны, – сказал старик, сидевший за столом напротив меня. – Я их видел. Они реальнее, чем, скажем, гремлины, но менее реальны, чем тяжесть пистолета, который держишь в руке.
Я проделал несколько сотен миль, чтобы послушать воспоминания этого человека о моем покойном отце, а он плел мне сказку про летающих монстров, наблюдая, казалось, из-под своих паучьих белых бровей, сколько этого бреда я способен проглотить. Мы никогда прежде не встречались, и все доверие, которое, как подразумевалось, установилось между нами, было просто данью вежливости, так сказать, стоянием по стойке «вольно», пока что-нибудь более фундаментальное не заменит его.
Меня бы больше заинтересовал рассказ о, фигурально выражаясь, тяжести пистолета.
– Хорошим человеком был твой отец, – сказал Йоргенсон, в прошлом старший воздушный стрелок. В бомбардировщике B-24D его позицией была турель Мартина[71]. Спасибо выполненной домашней работе: я знал места, которые занимал каждый член экипажа. Многие мои догадки основывались на найденной мною фотографии 1943 года – одной из немногих, где был изображен костяк команды, продержавшийся достаточно долго, чтобы успеть сфотографироваться вместе. Я добавил каждому из них фамилию, в моем списке у них не было полных имен, только прозвища. В те времена прозвища имели все, обычно это были уменьшительные формы их собственных имен: Бобби, Вилли, Фрэнки – как у детей во дворе. Да они, в сущности, и были детьми. Когда я сидел и пил кофе, приготовленный сестрой Йоргенсона Кейти, этой размытой черно-белой фотографии было уже шестьдесят пять лет, а большинству членов экипажа на фотографии тогда едва исполнилось девятнадцать. По меньшей мере двое из них солгали, называя свой возраст, чтобы их зачислили в авиацию. Йоргенсону теперь было не под, а, скорее, за восемьдесят. Он страдал артритом, отчего руки у него скрючились, как клешни. Он не признавался, что глуховат, хотя его слуховой аппарат был прекрасно виден – старый громоздкий аппарат с заушиной и плетеным проводком так называемого «телесного цвета», тянущимся к коробочке, спрятанной в нагрудном кармане. Глаза у него были голубые, с подернутыми желтоватой патиной склерами. Отполированные очки. Он был сутул, но не согнут временем и ждал, что я поверю его рассказам, потому что, в конце концов, для меня он был старейшиной, а что могут знать дети?
Бретт Йоргенсон, как большинство членов экипажей бомбардировщиков во время Второй мировой, закончив учебку, приземлился в Европе сержантом. Он шутил, что до высадки в Нормандии немецкие лагеря для военнопленных были переполнены тысячами сбитых сержантов. Он выдавал такие факты, чтобы раскусить меня: насколько серьезен мой интерес и понимаю ли я, о чем говорю, или я еще один «наземный летчик», готовый выбросить последнюю Великую войну из истории и памяти?
– Сержантами и лейтенантами, – сказал я, вытряхивая химическую пудру в свой едва теплый кофе.
Йоргенсон выпил свой – черный, естественно, – одним глотком. Если вы повторяете последнее из того, что сказал вам человек, он обычно проясняет сказанное.
Йоргенсон сначала откинулся от стола, потом снова придвинулся. Ему было трудно занять чем-то руки, поскольку они были деформированы до такой степени, что могли выполнять только простейшую хватательную функцию. Я почувствовал укол жалости к нему, и не в первый раз.
– Твой отец тоже был сержантом, из Чикаго. Он пытался тренироваться на АТ-6[72], но оказался не очень хорошим пилотом. – Йоргенсон издал сдавленный смешок и поискал салфетку. – Как-то раз ему поджарила задницу спаренная зенитная пулеметная установка: пуля прошила фюзеляж, разодрала его летный комбинезон и с шипением воткнулась пониже спины.
– Да, он мне рассказывал об этом. Аэродром Бернбург входил во внешнее оградительное кольцо вокруг Берлина, третье боевое задание, март сорок четвертого.
– А ты внимательно слушал, – похвалил Йоргенсон. – Ну, тогда, может, эта история и не покажется тебе такой уж чудно́й. Ты ж смотрел кино про войну. А бой когда-нибудь видел?
– Нет, сэр. – Я еще заканчивал школу, когда был введен выборочный призыв на военную службу, и я оказался в самом низу списка.
– Ну, воздушный бой – это особая мясорубка, ни на что не похожая. В основном он состоит из страшного шума и паники, и если тебе каким-то образом удалось уцелеть, ты потом пытаешься сообразить, почему все же остался жив. Твоя собственная машина распадается на части, бомбы летят на землю, десять огромных зенитных батарей всё разносят в щепки, вражеские истребители выпаливают тебе прямо в рыло двенадцатимиллиметровые артиллерийские снаряды, и ты видишь, как вокруг тебя, повсюду вокруг тебя, падают другие самолеты, а в них парни, которых ты знаешь, – дымный хвост, взрыв в воздухе, и ты хочешь увидеть, как они выбрасываются с парашютами, но времени нет. Ты когда-нибудь слушал тяжелый металл?
Он нарисовал такую живую и яркую картинку, что я моментально перенесся в нее и окунулся с головой.
– Что? А, да. Слушал.
– Мне хеви-метал никогда не нравился, – сказал Йоргенсон и сделал паузу, чтобы я мысленно представил себе его уютно сидящим и слушающим диск с самыми знаменитыми хитами «Блэк саббат». С привкусом треш-метала «Мадхани». Может, еще чуточку какой-нибудь норвежской смягченной спид-метал-группы.
– Знаешь почему? Он звучит как воздушный бой, вот почему.
В-24 «Либерейтор»[73] по прозвищу «Строптивый», согласно надписи на его фюзеляже, врезался в землю, изрыгнув пылающие обломки на обочину взлетной полосы, а членов его экипажа разметало. Двоих, в термостойких костюмах, расплющило взрывом. Еще один не успел даже попытаться выскочить. Пожарные команды метнулись от одного полупотушенного пожара к этому, новому, между тем как покалеченные тяжелые боевые машины петляли в воздухе, увертываясь от обломков, и старались приземлиться. «Либерейторы» – девятнадцать тонн каждый, это без груза – кружили на подлете к аэродрому и чуть ли не падали с неба. Диспетчер на башне считал возвращающиеся самолеты и суммировал потери.
Погода, типичная для Англии, представляла собой гнетущую туманную мглу под сплошными облаками. Пылающие самолеты прожигали больно слепящие глазки́ в мглистой пелене – горящие точки, от которых в небо штопором тянулись следы черного дыма.
Уитроу, только что прибывший на базу нижний стрелок, уроженец Оклахома-Сити, простодушный и пшенично-блондинистый, как и его имя[74], бросился к Гарри Марсу, лейтенанту, который был вторым пилотом «Авантюристки». Марс стоял, засунув руки в задние карманы, – поза, которую он обычно принимал, когда не знал, за что хвататься в первую очередь.
– Господи Иисусе! – сказал Уитроу. – Чем это его так садануло?
– Приземлился с искривленным колесом передней опоры – наверное, не видел ни одного фильма про авиакатастрофы, – ответил Марс. – Добро пожаловать в Шипдем[75], малыш.
Шипдем был одним из округов Норфолка, к северо-востоку от Лондона, сейчас здесь базировались 44-я бомбардировочная эскадрилья и союзнический береговой пункт сбора для выполнения военных задач в Европе. Это открыточное британское скопление пабов и коттеджей было испоганено ниссеновскими бараками[76], рассечено взлетно-посадочными полосами и опоясано зенитными батареями, а потом наводнено бравыми американскими летчиками, желавшими знать, что тут на самом деле происходит. Обычно они вели себя шумно и отъявленно бестактно – культурный шок в его крайнем проявлении.
Наблюдать, как подбитые В-24 возвращаются домой, было потрясением, почти возвышенным в своем экстравагантном ужасе. «Либерейторы» были толстопузыми птицами, которые переставали выглядеть неуклюжими только в полете. На воду они обычно приземлялись плашмя, что уменьшало вероятность выживания раз в десять по сравнению с «летающими крепостями»[77]. Капитан «Строптивого» орудовал проклятым штурвалом, с которым раньше имел дело только по учебнику, флюгируя[78] два еще работающих двигателя, хлопая закрылками и стараясь как можно дольше удержать нос над бетонной полосой. Заблокировавшееся правое колесо шасси вдруг неожиданно выстрелило, завалив самолет в грязь и срезав правое крыло между двумя гигантскими двигателями «Пратт энд Уитни». А потом что-то загорелось. В самолете не было бомбовой нагрузки, осталось мало боеприпасов и мало топлива, но что-то на борту все же взорвалось, как петарда в пивной бутылке, и разорвало эту тварь пополам прямо посередине.
Впрочем, практически всё внутри этих самолетов было легковоспламеняющимся, и вездесущая холодная серая грязь вместе с насыщенным влагой воздухом Соединенного Королевства не могли погасить огонь.
Плохие новости узнавали в столовой от Медсена, и вдвое больше от него же – в зале для брифингов. Уитроу проверил, есть ли на доске расписаний боевое задание для «Авантюристки». Их строчка была по-прежнему пуста. Медсен был молодцеватым британцем, опоясанным ремнем с портупеей, с офицерским стеком, который он использовал как указку, тыча в карту, когда обращался к полному составу нервничающих офицеров и сержантов в сдвоенном гофрированном ангаре.
– …в общей сложности сто девять и две десятых тонны пятисот- и тысячефунтовых бомб, сбрасываемых из носовой части с интервалом в одну десятую, а из хвостовой – в четверть секунды, были успешно сброшены с высоты от восемнадцати до двадцати тысяч футов. Помимо завода Мессершмитта в Регенсбурге… – Стек Медсена резко ткнулся в карту, что вызвало всеобщее оживление. – Да-да, – Медсен переждал шум, – были поражены и две другие цели в этом районе, а также успешно разрушены объекты в воздухе, на воде и линии электроснабжения. Пропеллерный завод и завод резиновых изделий. Конечно, некоторые узлы производства поддаются восстановлению, но только после серьезного ремонта и основательных испытаний.
Около девятисот зажженных сигарет образовали инверсионный слой дыма под куполом ангара. Уитроу узнал нескольких новичков, имен которых не запомнил – они только что прибыли из Каспера, штат Вайоминг. Это были ребята, с которыми он вместе записывался добровольцем. Но сейчас он был потрясен составом своего нового экипажа: «свежее мясо» на их тарелке. Он сидел рядом с сержантом Йоргенсоном, раскачивавшимся на своем складном стуле.
– Вечно этот англичанишка об одном и том же, – заметил Йоргенсон, – пропеллеры, резина…
Элвин Тьюкс, ковбой из Калифорнии, перегнулся через Йоргенсона и, указав пальцем на штурмана «Авантюристки», сказал:
– А лейтенант Макс женился на англичаночке, как только ступил на берег. Ба-бах – и готово!
Под пристальным взглядом лейтенанта Кита Стэкпоула, бомбардира и носового стрелка, Тьюкс тут же подобострастно съежился. В конце концов, он говорил об офицере.
– О, черт, – пробормотал он. – Простите, сэр.
Стэкпоул, один из самых взрослых среди них (ему было двадцать два года), выставил вперед раскрытую ладонь, как заграждение. Держи, мол, свою болтовню при себе. Пока они бомбили «ось»[79], аналогичный военный контингент английских леди совершал налеты на янки, тоскующих по дому в сильнодействующей атмосфере плотских лишений и неотвратимости смерти. Макс Джентри, их зеленоглазый штурман, претендовал на другое. Он влюбился. Разумеется, этим он навлек на себя лавину зубоскальства и сплетен, но Стэкпоул восхищался тем, с каким спокойным достоинством он сносил это, вполне овладев местным обычаем сохранять сдержанность в любой ситуации. Пока Джентри не нацепил на себя дежурную улыбку и не начал говорить в нос, Стэкпоул считал, что штурман «Авантюристки» остается на высоте.
Стэкпоул передал сигарету сержанту Джонсу, радисту, который разломил ее и протянул половину сержанту Смиту, своему лучшему другу, бортинженеру и бортовому стрелку. Смит и Джонс. Иногда приходится смеяться, чтобы не заплакать.
– К черту все эти подсчеты, – проворчал Джонс. – Сколько?
– Сорок, пятьдесят, что-то около того, – ответил Смит. Они прикурили от одной спички.
У Уитроу окаменело лицо.
– Из скольких?
– Сотен из двух, что-то вроде этого. – Поскольку мест больше не было, Джимми Бек встал у них за спиной. Хвостовой стрелок в очках военного образца переложил сигарету из одной руки в другую, чтобы позволить лейтенанту Марсу и их пилоту, лейтенанту Коггинсу, тоже втиснуться. Все статистические показатели, независимо от точности, были у них чем-то вроде.
У Уитроу перехватило дыхание.
– Из двух сотен?!.
– Из общего числа в сто семьдесят семь В-24, – бубнил Медсен с невысокого помоста впереди, – по меньшей мере сто двадцать семь, а возможно, сто тридцать три, достигли цели и сбросили бомбовый груз. Сорок два самолета были сбиты или потерпели крушение ан-рут[80]…
– Нрут? – повторил Тьюкс, новичок, еще не привыкший к склонности британцев говорить не по-английски.
– …из которых пятнадцать, по нашим оценкам, были потеряны над целью.
– Нам опять не дали задания, – сказал Стэкпоулу Коггинс.
– Плюс к этому, – продолжал Медсен, – восемь машин сели в нейтральной Турции и были интернированы. Сто четыре вернулись на базу, а еще двадцать три приземлились на других дружественных базах. Таким образом, общие потери составили пятьдесят самолетов. Потери в живой силе на данный момент – четыреста сорок человек убитыми и пропавшими без вести. Нам известно, что двадцать пропавших без вести экипажей удерживают в плену страны «оси».
Уитроу почувствовал, как у него свело желудок. Одно задание – и почти четыреста парней потеряно. Экипажи сорока пяти самолетов. Что-то вроде этого.
– Проклятые фрицы, – пробормотал Йоргенсон.
Медсен перешел к той части брифинга, которая должна была послужить слабым утешением:
– Был сбит пятьдесят один вражеский истребитель.
– Сила! – воскликнул Тьюкс. – Почти по одному истребителю на каждый наш бомбардировщик, набитый парнями.
Кое-кто все же зааплодировал.
Лейтенант Марс уже отвлекся от брифинга и начал подкалывать Бека.
– Эй, Джимми, знаешь, каковы шансы на выживание в бою у хвостового стрелка?
Это была старая шутка между юнцами. Минимум трое из них хором выкрикнули:
– Девять секунд!
– Благодарю, друзья, – ответил Бек, выпуская дым изо рта. – Мне стало намного легче. Потеплело внутри.
Коггинс молча наблюдал за реакцией своего экипажа. Крупные потери заставят их еще немного больше ненавидеть фюрера завтра, и, вероятно, эта ненависть поможет ему привести их назад живыми, а не поджаренными в развалившемся бомбардировщике, как те бедные сукины дети на борту «Строптивого», чей штурман теперь продавливал койку в госпитале с левой рукой «средней прожарки, с кровью» и ногой, сломанной в четырех местах.
Это была война. И это было важно. В 1941-м, за полгода до Перл-Харбора, Воздушный корпус армии США был переименован в Военно-воздушные силы США под командованием генерала Арнолда по прозвищу Счастливчик, и этим заполнившим ангар воинственным американцам было что защищать. Много чего. Но теперь их гордость каждый день оказывалась уязвленной. Воздушные воины были почти такими же законными и самостоятельными подразделениями, как Военно-морской флот и наездники-танкисты. После того как Штаты вступили в схватку, военное ведомство реорганизовало наземные и военно-воздушные силы, сделав их равноправными родами войск, однако в результате такой перетасовки еще не возникло нечто, именуемое Военно-воздушными силами США, – это случилось только после войны. Многие летчики-ветераны с понятным чувством собственного достоинства по-прежнему носили знаки отличия Воздушного корпуса, даже несмотря на то что все были теперь частью Союзных военно-воздушных сил.
Гордость мало что значит, когда вас вытряхивают из койки в час ночи. Половина парней в казарме почувствовали появление непрошеного гостя еще до того, как он включал свой фонарь. Это должен был быть Карлайл, командир части, это луч его фонарика высветил лысый, как бильярдный шар, череп Коггинса в холодной темноте.
– Коггинс, – прошептал Карлайл, – подъем!
– Я не сплю, – прохрипел Коггинс, переворачиваясь.
Карлайл сел на край его койки.
– Послушай, мне очень жаль будить тебя, но…
– Который час?
Теперь уже все, кроме Тьюкса, проснулись.
– Четверть второго. Послушай… есть задание. Ты можешь участвовать?
– Конечно, – ответил Коггинс так, словно не существовало ничего, в чем бы он не был уверен.
– Мы сегодня утром ведущие в Восьмой[81], и нам потребуется вся группа, чтобы совместно приложить максимум усилий.
– Что он говорит? – спросил Уитроу, растирая лицо, чтобы окончательно проснуться.
– Ш-ш-ш, – перебил его Бек. – Это сюрприз.
– Крупная операция, – продолжал Карлайл, теперь уже – ко всеобщему удовлетворению – громче. – Сначала массированный зенитный обстрел, потом истребители. Нефтеперерабатывающий завод. Я знаю, твой экипаж еще недостаточно готов к бою, но мы не можем дать тебе более опытного второго пилота, потому что…
– Мой экипаж готов к бою, сэр, – возразил Коггинс, и никто не стал ему перечить.
Итак, вот оно. То, что Коггинс впоследствии охарактеризовал как «бойню». Самолет, на котором Коггинс воевал в Северной Африке, он назвал «Авантюристкой». Его зеленая команда уже несколько дней спала в казарме, которую до нее занимал другой экипаж, теперь значившийся пропавшим без вести. Кто будет тут завтра – одному Богу известно. Технически они выполнили четыре из двадцати пяти положенных по норме вылетов, но их всегда отзывали раньше времени или снимали с выполнения задания каким-то иным образом. Они еще даже ни разу не перелетали через Канал. Их хваленая первая миссия закончилась полным конфузом, когда они потеряли компрессор наддува на высоте трех с половиной тысяч метров и вынуждены были вернуться назад, сбросив свой бомбогруз над Северной Атлантикой. Их правый бортовой стрелок, техасец по фамилии Маккардл, был временно откомандирован в активно действовавший, выполнявший свой двенадцатый вылет боевой экипаж «Девчонки из родного города», оставив пустой пулеметную щель, которую теперь заполнил Уитроу.
Нижний стрелок с «Дабл дайамонда»[82] сообщил Коггинсу: «Я видел, как «Барахольщик» поймал «восемь-восемь»[83] прямо в кабину, перевернулся с полной бомбовой нагрузкой и разрезал «Девчонку» пополам. Никаких парашютов я не заметил». Жив ли Маккардл или мертв? Никто не знал, но тревожились они недолго: чрезмерная обеспокоенность в бою помеха.
И вот они, обжегшись горячим кофе, скрипя суставами в проклятой британской сырости, с трудом втиснувшись в летные комбинезоны, с еще затуманенными сном глазами, превращаются в неваляшек-летунов: комбинезоны с подогревом, бронежилеты, наспинные парашюты у пилотов, нагрудные – у остальных, «Мэй Уэсты»[84], шлемы, летные очки, кислородные маски. Ото всех пахло мокрыми овечьими шкурами.
– Проклятый туман, – сказал Тьюкс, когда грузовик вез их к летному полю. – Слишком жидкий, чтобы есть, но слишком плотный, чтобы пить.
Видимость была нулевая.
– Придется рулить за джипом, чтобы найти взлетную полосу. Где наше место в построении? – спросил Стэкпоул.
– В «гробовом углу», – ответил Коггинс, постаравшись, чтобы это прозвучало небрежно.
– Потрясающе, – проворчал Бек, оператор БРЭО[85].
– Что? – переспросил Уитроу. Мокрые светлые волосы облепили его голову под пилоткой.
Вердикт огласил лейтенант Марс:
– Наружный край «коробочки», в хвосте.
– Чтобы зениткам было легче нас подстрелить, – пояснил Бек.
Йоргенсон похлопал Уитроу по раздутому рукаву.
– Это позиция для новичков. Необстрелянных.
– Предполагается, что мы будем тащиться в хвосте, пока не встроимся на место выбывших, – сказал Коггинс.
По крайней мере, они переросли стадию снятия с выполнения задания. Коггинс плоскогубцами вытащил проволоку из обода своей пилотки, чтобы она смялась, когда он наденет наушники.
Стэкпоул насвистывал «Как ты выглядишь сегодня»[86].
Внезапно перед ними замаячила «Авантюристка», заполнив собой их мир. Уныло-зеленая, любовница небес, сукина мать, их лоно, их судьба.
Сорок четвертая бомбардировочная эскадрилья, известная под названием «Летающие восьмые шары»[87], была первым авиаподразделением «Либерейторов» в Союзных военно-воздушных силах, хотя и не первым в Европе – эта честь принадлежала Девятой воздушной армии США, эскадрилье «Пирамидеров». «Восьмые шары» совершили свой первый вылет, сопровождая и поддерживая «Летающие крепости», в ноябре 1942 года, и когда все другие эскадрильи были переведены на ночные полеты, «Восьмым шарам» досталась незавидная доля единственной эскадрильи «Либерейторов», осуществлявшей дневные бомбардировки. Много разговоров было об одном «Либерейторе» под названием «Бумеранг», входившем в состав 93-й бомбардировочной эскадрильи, которая совершала налет на Лилль 9 октября. Он вернулся на базу, имея в обшивке тысячи дыр и годный лишь на металлолом, но его капитан и команда боролись за него, они залатали пробоины от пуль алюминием, и их самолет стал первым В-24 в эскадрилье, который выполнил пятьдесят боевых заданий. Его экипаж защищал честь своей машины, и она отплатила им добром, сохранив всем им жизни. Если называть вещи своими именами, откинув в сторону шутки, то налет на Лилль стал также переломным моментом для командования, которое вынуждено было безоговорочно признать, что В-24 – лучший бомбардировщик, чем гораздо более сексуальный на вид, «гламурный» В-17. «Либы» были быстрее, оснащены более современным вооружением, обладали большей дальностью полета и способностью нести больший бомбогруз.
В сущности, история «Восьмых шаров» и составила во время войны сагу о «Либерейторах»; начало войны в воздухе породило их, а ко Дню победы над Японией они уже морально устарели и практически не использовались. Многие «двадцатьчетверки» прибыли в Шипдем с новым вооружением, протектированными топливными баками[88], турбокомпрессорами и убираемыми подфюзеляжными шаровыми турелями «Сперри».
Вот к такой-то турели и направился в то утро Уитроу.
– Толстопузая сука, – сказал Марс, вторя словам штурмана по имени Кейт Шуйлер.
– А я люблю крупных женщин, – откликнулся Тьюкс. – Есть за что подержаться.
– Для такой крупной дамы она очень шустрая, – произнес Коггинс.
«Вероятно, он имел в виду свою жену, оставшуюся в Штатах, а может, свою боевую машину, – подумал Йоргенсон, как будто это имело какое-то значение. – Возможно, размах крыльев и у его старушки был больше, чем длина фюзеляжа».
Наземная команда закончила загрузку пятисотфунтовых снарядов в бомбовый отсек «Авантюристки», десять «Восьмерок» были уже под завязку набиты пятью тоннами боеприпасов в рассыпных патронных лентах. Люди Коггинса начали подниматься внутрь через люк в брюхе самолета. В нем им предстояло провести следующие двенадцать часов в почти невыносимой тесноте, отливая в мочеприемники, всасывая искусственный воздух и сражаясь, чтобы не умереть. И помогай бог тому, кого в разгар выполнения задания настигнет понос.
Марс вскарабкался в кресло второго пилота справа от Коггинса, заметив, что штурман, как обычно, зафиксировал спинку своего кресла в строго вертикальном положении. Естественно было предположить, что для бомбардировщиков идеально подходят мужчины маленького роста, но шутники где-то в Сан-Диего или Форт-Уорте любили устанавливать педали вне пределов досягаемости даже для человека обычного роста.
– Может, выдастся спокойный рейс, – сказал Марс, устраиваясь в кресле.
– А может – кошмарный, если истребители возьмут нашу группу под обстрел, – возразил Коггинс, не глядя на него, и надел наушники, примяв теперь уже лишенную проволочного каркаса пилотку.
Вместе с бортинженером они начали предполетную проверку приборов. Марс открыл защелку люка у себя над головой (ее всегда держали закрытой, чтобы крышка случайно не ударила его в лицо во время полета) и высунулся посмотреть, как двигаются элероны, закрылки и предкрылки. Самолет должен был завестись от аэродромного аккумулятора, поэтому зажигание он отключил. Инженер на земле вручную крутанул пропеллеры – по шесть оборотов лопастей каждый, по и против часовой стрелки, – начав с номера три. Процесс был нудным, рутинным и механическим, но любой недосмотр на этой стадии мог стать причиной взрыва – от закрытого радиатора внутреннего охлаждения до неправильного положения выключателя компрессора наддува. Бортинженер зафиксировал стояночные колодки и встал рядом с портативным огнетушителем в руках в ожидании запуска моторов, начиная с третьего, чтобы проверить работу гидравлического привода. При 1000 оборотах в минуту прибор показал нужные цифры: давление масла – 45–50 фунтов, вакуумный насос 4,5 дюйма, давление в аккумуляторе около 975 фунтов. Коггинс снизил мощность до одной трети, а Марс установил показатель топливной смеси на уровне «обедненная рабочая». После выруливания Марс запустил все четыре двигателя на холостом ходу, чтобы «поупражнять» винты.
Коггинс включил радио.
– Проверка внутренней связи.
– Господи Иисусе, ничего не видно дальше носа самолета. – Марс вернулся в машину, когда члены экипажа по внутренней связи подтверждали свою готовность к вылету. Как обычно, туман должен был рассеяться, только когда они поднимутся над ним.
Голос Стэкпоула:
– Бомбардир. Роджер[89]. – Он сидел внизу, подо всеми, рядом с Джонсом, радистом, который произнес:
– Радист. Чек[90].
– Роджер. Левая талия[91], – сказал Джонс.
– Роджер-доджер, старый коджер[92]. – Это был Тьюкс, сидевший напротив Смита у правого бортового пулемета.
– Верхнефюзеляжная турель. Йоргенсон на месте. – Если бы Коггинс или Марс обернулись, они могли бы увидеть ботинки Йоргенсона, упершиеся в основание турели.
– Уитроу. Шаровая турель. Все в порядке. – Бедный парень был зажат в своей собачьей конуре и спущен под фюзеляж без парашюта. Для парашюта там не было места. Чтобы надеть его, ему пришлось бы – с чьей-то помощью – вскарабкаться внутрь самолета, накинуть и закрепить стропы, и все это – теоретически – сделать, пока самолет будет камнем лететь к земле, охваченный огнем. Проще простого.
Лейтенант Джентри высунулся, как чертик из табакерки, из своего закутка и выставил большие пальцы вверх, давая добро.
– Держим хвост пистолетом, Джимми! – сказал Коггинс.
– Хвост готов, капитан, – откликнулся Бек из своего отсека, который Йоргенсон называл «задним местом».
В этот момент Коггинс как бы отжался от воображаемой тяжести штурвала. Марс удивленно приподнял брови. На лице Коггинса, как трещинка, появилась полуулыбка, и он сказал:
– Это чертово кресло слишком короткое.
Несмотря на громоздкое одеяние, тяжелое вооружение и ощущение невыспанности, стоило «Авантюристке» взмыть в небо, как у всего экипажа появилось чувство, будто они едут в лимузине. Наконец-то им довелось увидеть немного дневного света и синего неба. И даже такая малая толика вознаграждения была для них очень важна.
На высоте около тысячи метров все дружно закурили, потому что после трех тысяч метров им предстояло надеть кислородные маски. После чего они будут ощущать только запах собственного пота, пока самолет, опорожнив бомбовый отсек, не развернется и не покажет континенту свой хвост.
– На нас обрушились «Фокке-Вульфы», – рассказывал Йоргенсон. – Сто девяностые. Они были повсюду. После зенитного обстрела всегда появлялись истребители. А следующее, что я помню, это как Марс кричит по внутренней связи, что «Варгас долл» горит прямо рядом с нашим левым крылом. Я от своей турели не мог этого видеть. Зенитный снаряд взорвал кислородный баллон рядом со стариной Джонси и разнес на части его радио. У Уитроу закоротило систему обогрева в костюме, и он загорелся. Все вопили, палили все пулеметы. «Фокке-Вульфы» проносились так близко, что до них можно было доплюнуть. Тьюкс дернул страховочный шнур своего пистолета и, пытаясь прикончить одного из этих сукиных сынов, случайно отстрелил наш правый стабилизатор, после чего мы начали трястись, как старая шлюха. И именно в тот момент я в первый раз увидел ее.
– Птицу войны, – догадался я.
Кейти вовремя налила нам свежего кофе. Старшей сестре Йоргенсона тоже было за восемьдесят. Последняя миссис Йоргенсон умерла лет за десять до того.
– Поначалу я подумал, что это один из их пикирующих бомбардировщиков, – сказал Йоргенсон. – Они, когда ныряли, издавали такой же зловещий вой. Потом обратил внимание, что она хлопает крыльями, и подумал: это не самолет. Она была почти такого же размера, как истребитель. С крыльями, как у летучей мыши, и остроносой мордой. Глаза оловянные. – Он прокашлялся. – Ты теперь, должно быть, думаешь: этот старый дурак с катушек слетел, так ведь? – Его брови-перья осуждающе изогнулись.
– Нет, сэр. Мне никогда не удавалось разговорить отца насчет войны, но некоторые другие члены экипажа «Авантюристки» – а у меня годы ушли на то, чтобы их найти, – кое-что рассказали. Так что я и не такое еще слышал.
Судя по всему, Йоргенсон внутренне принял какое-то важное решение.
– Ладно, тогда пока Кейти возится на кухне или смотрит свое мыло, или как там еще она убивает свое свободное время…
Из глубины дома не последовало никаких протестов, поэтому Йоргенсон, довольный тем, что можно говорить конфиденциально, продолжил:
– Я подумал тогда то же самое, что, наверное, ты подумал сейчас: что это галлюцинация. Но я действительно видел, как это огромное невероятное существо летело прямо на меня, выпустив когти. Следующее, что я помню, это что весь плексиглас у меня над головой исчез, и я лежу на полу кабины с пробитой головой. До сих пор шрам сохранился. – Он отвел назад волосы, чтобы показать зигзагообразный белый рубец, тянувшийся от левой брови куда-то к макушке. Он напоминал след от ножевой раны. – Черт, я чуть не потерял глаз. К тому времени, когда мы вернулись на базу, я был в шоковом состоянии от потери крови. Почти не помню, как меня увезли. Позже мне сказали, что подфюзеляжную турель сорвало, когда мы шли на посадку, вместе с Уитроу, тем новым парнем.
– Всю турель оторвало от самолета?
– Ага… Просто артиллерийским снарядом или пулеметом это было бы трудно сделать. К тому же мы все почувствовали бы прямое попадание зенитного снаряда. Фрицы использовали стодвадцативосьмимиллиметровые снаряды, если бы такой попал в Уитроу, мы бы знали, потому что уже горело бы полсамолета. Мы несли больше трех тонн зажигательных средств, и крылья были под завязку залиты высокооктановым керосином.
– Вы думаете, что…
Он перебил меня:
– Я не думаю. Я подозреваю. Кое-что знаю. Так вот, я подозреваю, что случилось с беднягой Уитроу. А что я думаю, я тебе скажу: я думаю, что такая сокрушительная война не кончается только потому, что кто-то с кем-то обменялся рукопожатиями и подписал какие-то документы.
– Или с помощью ядерной бомбы превратил два города в пар с японским ароматом. – Я сам не ожидал, что это прозвучит так резко, но Йоргенсон невозмутимо продолжил, то ли проигнорировав мое замечание, то ли из вежливости.
– Ты только подумай: весь мир охвачен войной. Она продолжается годы. Приходит очередной день рождения, очередное Рождество, а война все еще тут, с нами. Потом мы все вдруг становимся жутко цивилизованными и соглашаемся притвориться, будто никакой войны нет. Иногда я думаю… иногда… – Он замолчал.
Чего он кипятится? Я – всего лишь случайный знакомый, зеленый юнец, отпрыск одного из старых товарищей по экипажу, Джимми Бека, который умер пять лет назад и который ни разу не прислал ему даже поздравительной открытки.
– Речь не о героях и славе, – сказал он, меняя направление атаки. – Когда ты там, в воздухе, когда все вокруг стреляют, когда парни истекают кровью и истошно орут, когда взрывы следуют один за другим, речь идет лишь о том, чтобы спасти свою шкуру. Просто о выживании. Если ты веришь в Бога, то непрерывно молишься про себя: «Господи, не дай мне умереть во время этого вылета». Если ты веришь в свой счастливый талисман, ты постоянно прикасаешься к нему. У Стэкпоула была тряпичная кукла, которая надевается на руку, – в солдатской форме, ему жена сшила, – и мы все считали этого солдатика членом своей команды, предназначенным охранять нас во время выполнения задания. У Джентри был медальон с изображением святого Христофора. Уитроу носил при себе кроличью лапку, хотя удачи она не принесла ни ему, ни кролику. А у твоего папы был такой ритуал. Прежде чем проверить свой пулемет, он вынимал из ленты первую пулю, писал на ней дату и клал пулю в нагрудный карман, возле сердца.
Пули для ствола пятидесятого калибра были длиной больше пятнадцати сантиметров и весом с банковскую упаковку четвертаков. Мой отец участвовал минимум в восьми успешных полетах над вражеской территорией. Интересно, что сталось с его коллекцией пуль?
– У всех у нас есть такие причуды, – сказал я, хотя отцовская причуда была мне в новинку. – Не нужно участвовать в боях, чтобы верить в подобные ритуалы и амулеты. Какой от них вред?
– Ты упускаешь главное. – Йоргенсон пренебрежительно махнул рукой.
Мне казалось, что я – персонаж какого-то большого полотна, висящего прямо у меня за спиной, часть панорамы, которую видит он, но которая скрыта от меня. Он смотрел на нее в этот самый момент.
– Это ощущение, ощущение боя, оно возвращается, – сказал он. – Каждый день. Сначала по чуть-чуть. Но с каждым днем все больше. Это не картинки-воспоминания, не нервная дрожь. Я не слабоумный, черт возьми. Это так же реально и четко, как пробор у тебя в волосах. А сейчас я скажу тебе то, во что безоговорочно верю. Если ты расскажешь об этом кому-нибудь еще, я заявлю, что ты врешь, но тебе я расскажу это из уважения к твоему отцу.
Он собирался передать мне нечто, какую-то тяжесть, бо́льшую, чем я ожидал, и единственное, что я мог сделать, это не перебивать его своими современными «мудростями».
– Думаю, тогда этой враждой, всей этой поднявшейся со дна ненавистью, жизнями, шедшими на прокорм войны, мы разбудили что-то. Что-то настолько сильное, что его уже нельзя было просто остановить: в один день оно было с нами, в другой уходило. Наверное, оно нажиралось и на время засыпало. Конечно, случались и другие войны, но они были не такими, как эта. У этой войны был ребенок. Она родила нечто ужасное. Оно просыпа́лось от недолгого сна, сознавало, что снова голодно, но не вырывало из воздуха нас всех там, куда приходило насыщаться.
– Птица войны. Но почему именно вы? И почему теперь, после стольких лет?
– Ты требуешь от меня логики? У меня ее нет. Единственное, что у меня есть, так это догадка, что некоторым из нас уже тогда было предназначено умереть, но этого не случилось. Но оно знает, кто мы и где, у него есть небольшой контрольный список вроде меню. Оно выжидало и дождалось. Мы теперь – легкая добыча: мы больше не наполнены спермой и жизненной энергией. Не можем убегать и отстреливаться. И Птица войны снова встала на крыло, подъедает остатки, но все это совершенно не важно, потому что кто, черт побери, поверит такому старому ворчливому хрычу, как я.
– Мистер Йоргенсон, мой отец умер от сердечного приступа. Тромбоз. С формальной точки зрения он умирал четыре раза, прежде чем умер по-настоящему. К тому времени, когда он действительно испустил дух, ему поставили четыре шунта, сделали ангиопластику сосудов, и у него в груди было два кардиостимулятора. Что касается смерти, то не было человека, который сопротивлялся ей упрямее, чем он. И умер он без страха и боли. Он принял смерть. Он не вел себя, как… – было ужасно неприятно, что мне приходилось подыскивать подходящее слово, – затравленный.
– Да, – сказал Йоргенсон. В его взгляде сквозь слезы, которые он мужественно сдерживал, читалось: «Ну да, понятно!» Мужчинам его поколения не пристало плакать, ни при каких обстоятельствах. – Но ты сказал, что он никогда не говорил с тобой о войне, так?
– Зато вы рассказали мне о Птице войны.
Он не разыгрывал меня, как какой-нибудь чокнутый интернет-затейник. Он был абсолютно серьезен, и признание стоило ему дорого: он эмоционально выворачивал себя наизнанку, вываливал потроха наружу и неуклюже выставлял их на всеобщее обозрение. Заслуживал ли я такого доверия или нет, но я провалился в эту причудливую брешь, которая побуждает людей делиться с чужим человеком интимными излияниями, которых они никогда бы не открыли самым близким и любимым. Я получил объяснение. И теперь было бы нечестно задним числом навязывать предварительные условия.
– Рассказал, не спорю, – согласился он, снова уходя в себя. – Это было глупостью с моей стороны. Прости, молодой человек. Мне жаль твоего отца и жаль, что я навалил на тебя это. Ты кажешься надежным парнем. Я был бы горд служить вместе с тобой. Но пожалуйста, не делай этой глупости, не позволяй никому запугивать тебя. Для меня это все уже позади. У меня уже нет выбора, время от времени я что-то слышу, – ирония заключается в том, что со слухом-то у меня как раз плохо. Физиологическое старение может нести и избавление. Спорим, ты не думал, что я знаю такие слова, как «физиологическое старение», а? Я их в словаре нашел.
Позднее тем же вечером Бретт Йоргенсон приставил к подбородку дуло своего допотопного «люгера» и разнес себе затылок девятимиллиметровой пулей.
Я оставил его одного и позволил ему это сделать. Принес свои извинения, попрощался и искренне пообещал поддерживать связь. Как я понял позднее, я его бросил.
Позже я сложил кусочки мозаики и сообразил, что он хранил этот пистолет больше полувека.
Бретт Йоргенсон, человек, с которым мне довелось поговорить лишь один раз, был сыном норвежских эмигрантов из Осло. Его среднее имя было – Эрик. После войны он, воспользовавшись Законом о правах военнослужащих[93], окончил факультет политологии Университета штата Миссури. Был женат два раза, имел троих детей. Некролог был коротким: оттрубил свой срок в брокерской фирме и вышел на достойную пенсию. Его простецкая манера речи была в значительной мере игрой. Никому особо не было дела до того, что он когда-то каждый день рисковал жизнью, чтобы уничтожить военную машину «оси». С 1939 года он ежедневно выкуривал по две пачки «Лаки», и никакой рак к нему даже не подступался.
Судя по всему, он несколько раз попытался написать предсмертную записку, но сжег все черновики в пепельнице размером с чашу для пунша, видимо, сочтя это сентиментальным вздором. Рядом с пепельницей, набитой окурками, стояла металлическая рамка с фотографией Терезы, его первой жены, его большой военной любви, девушки, ждавшей его с фронта. Он похоронил ее в 1981 году, после того как патологоанатом выковырял из ее внутренностей опухоль размером со сдувшийся волейбольный мяч. Вопреки расхожему клише, он снова влюбился, но похоронил и вторую жену, Миллисент, на том же кладбище в Нью-Джерси.
Его «люгер» не был военным трофеем. Йоргенсон сражался с Германией абстрактно, если можно так выразиться, он никогда не видел вблизи ни одного нациста, за исключением, быть может, единственного раза, когда, как он клятвенно утверждал, различил гримасничавшее за летными очками под кожаным летным шлемом лицо пилота, целившегося залпами своей двадцатимиллиметровой пушки прямо ему в башку на высоте трех тысяч метров, среди чужеземных облаков. Это был их шестой боевой вылет, кажется, на сортировочную станцию Бремена. А может, то был налет на Гамбург, на завод боеприпасов. Или на какой-нибудь другой завод – что-то вроде того.
Он никогда не думал, что доживет до старости. Хотя только об этом они и говорили тогда, сидя в Шипдеме и совершая боевые вылеты: жениться на той, которая ждала дома, поднять семью, урвать свой кусок красно-бело-синего[94] пирога. А главное – выжить, чтобы все это осуществить.
После Кеннеди он не доверял ни одному политику. Он помнил, какой гнев охватил весь мир из-за его убийства, помнил, где он сам был и что делал в тот момент, когда услышал эту новость. Теперь всем известно, что Кеннеди был, можно сказать, распутником и похабником. Грязные разоблачения, дурно пахнущие. Джон Ф. Кеннеди был героем войны, катись оно все к чертовой матери. Если все, что теперь говорят, правда, тогда за что же сражался в те давние дни Йоргенсон? Как-то раз он увидел карикатуру с подписью: «Мы столкнулись с врагом, которым оказались мы сами» и подумал: «Хотелось бы мне знать, когда состоялась эта встреча, потому что я ее пропустил». У его страны был тот же флаг, но Йоргенсон видел слишком много лицемеров – мужчин и женщин, – которые, стоя под этим флагом, откровенно лгали. Даже его политологическая степень, казалось, сыграла с ним злую шутку, позволив слишком многое разглядеть, и он перестал верить в такие понятия, как «сражаться за родину», в которой для него, похоже, не осталось достойного места.
В половине четвертого, сидя в одиночестве в гостиной, в каких-нибудь четырех метрах от того места, где мы с ним пили кофе, он зарядил пистолет. Ему был хорошо знаком звучащий в воздухе гул истребителей, наших и чужих. То, что он слышал в тот момент, не было ни полицейским вертолетом, ни колонной грузовиков, ползущих по местному шоссе. Чтобы убедиться в этом, он вынул из уха наушник слухового аппарата, и остался только пронзительный визг, какой не мог издавать ни один самолет, даже пикирующий бомбардировщик.
Конечно, это только мои домыслы, но я вижу эту картину ясно, как сквозь начищенный столовый хрусталь: старик отбрасывает слуховой аппарат, и жизнь вокруг него смолкает. Перестают тикать часы на каминной полке, стихает и отдаляется мир за окном, скрип половиц внутри дома перестает нарушать тишину ночи, и он остается один на один с воем Птицы войны. Он допивает свой бурбон, гасит сигарету – глаза его закрыты, никаких слез – и спускает курок, надеясь, что сестра поймет его и простит. Раздается громкий выстрел, и война изливается из его головы.
Просто самоликвидировался еще один старый хрыч.
А кроме того, я теперь тоже слышу звуки. Звуки, которые невозможно спутать ни с какими другими. Я вижу в ночном небе странные черные силуэты. Голодные, по-прежнему ненасытные, возвращающиеся за новой добычей.
Рэй Брэдбери Летающая машина
Рано начав писать успешные (и зачастую страшные) рассказы в жанре хоррор, такие как «Маленький убийца» и «Гонец», Рэй Брэдбери стал одним из колоссов научной фантастики XX века. Он написал классический роман «Что-то страшное грядет» и серию рассказов, действие которых происходит в Гринтауне, штат Иллинойс, – по аналогии с рассказами Шервуда Андерсона об Уайнсбурге, штат Огайо. Однако в рассказе, который напечатан ниже, Брэдбери переносит нас в Древний Китай и всего в полутора тысячах слов наглядно рисует теневую сторону авиации. «Вот человек, который соорудил некую машину, – сказал император, – и он спрашивает у нас, что он создал. Сам он этого не знает». Рассказ о летающей машине Амброза Бирса ироничен; Брэдбери же предлагает нам некую аллегорию, задавая обманчиво простой вопрос: понимаем ли мы смысл и значение того, что сами создаем? А за этим маячит еще один вопрос: может ли однажды изобретенное быть отменено и забыто?
Году в четырехсотом от Рождества Христова император Юань сидел на своем троне за Великой Китайской стеной, и земли его зеленели, орошаемые дождями, готовящиеся к жатве, и мир царил на них, и люди были не то чтобы слишком счастливы, но и не слишком несчастны.
Рано утром первого дня первой недели второго месяца нового года император Юань неспешно пил чай, обмахиваясь веером под теплым ветерком, когда по красно-синим плиткам садовой дорожки прибежал слуга с криками:
– О, император, император, чудо!
– Да, – сказал император, – воздух нынче утром сладок.
– Нет, нет, чудо! – быстро кланяясь, повторил слуга.
– И этот чай приятен на вкус, конечно же, это чудо.
– Нет, нет, ваше величество.
– Ну, тогда дай догадаюсь: солнце встало, и на нас снизошел новый день. Или море синее. Сейчас это самое прекрасное из всех чудес.
– Ваше величество, человек летает!
– Что? – Веер замер в руке императора.
– Я видел его в воздухе, человека, летящего на крыльях. Я услышал Голос, нисходящий с неба, и когда поднял голову, он был там – дракон, летящий в небесах, держа в зубах человека, дракон из бумаги и бамбука, раскрашенный в цвета солнца и травы.
– Сейчас очень рано, – сказал император, – ты, видно, еще не совсем очнулся ото сна.
– Да, сейчас рано, но я видел то, что видел! Пойдемте, и вы тоже это увидите.
– Присядь здесь, рядом со мной, – сказал император. – Выпей чаю. Если это правда, то действительно странно – увидеть, как человек летает. Не спеши, подумай, мне тоже нужно время, чтобы подготовиться к такому зрелищу.
Они выпили чаю.
– Прошу вас, – сказал наконец слуга, – пойдемте, а то он исчезнет.
Они углубились в сад, пересекли луг, поросший травой, проследовали по маленькому мостику, прошли через рощицу и поднялись на невысокий холм.
– Вот! – воскликнул слуга.
Император посмотрел в небо.
И там, в небе, так высоко, что голос его едва достигал земли, летел человек; он был обернут в ярко раскрашенную бумагу и по бокам его, образуя крылья, простирались бамбуковые рейки, на которые тоже была натянута бумага, а позади виднелся красивый желтый хвост, и человек пари́л в небе, словно птица в своей птичьей вселенной, словно новый дракон в стране древних драконов.
С высоты, овеваемой прохладными утренними ветрами, человек крикнул им:
– Я лечу, я лечу!
Слуга помахал ему рукой.
– Да, да!
Император Юань не шелохнулся. Он посмотрел на Великую Китайскую стену, начавшую проступать из тумана, окутывавшего дальние зеленые холмы, на эту великолепную каменную змею, которая, извиваясь, величественно ползла через всю землю. На эту чудесную стену, которая с незапамятных времен защищала их от вражеских орд и хранила для них мир несчетное количество лет. Он увидел город, приютившийся в излучине реки, и дорогу, и холм – все начинало просыпаться.
– Скажи мне, – обратился к слуге император, – кто-нибудь еще видел летающего человека?
– Нет, только я, ваше величество, – ответил слуга, улыбаясь небу и маша рукой.
Император еще с минуту смотрел на небо, а потом сказал:
– Позови его, пусть спустится ко мне.
– Эй, спускайся, спускайся, император хочет тебя видеть! – закричал слуга, приставив ко рту сложенные чашечкой ладони.
Пока летающий человек, планируя на утреннем ветерке, спускался на землю, император осмотрелся вокруг. Он увидел крестьянина, спозаранку вышедшего в поле и тоже глядевшего в небо, и запомнил, где тот стоял.
Летающий человек приземлился в солнечном ореоле, шурша бумагой и бамбуковыми рейками. Неуклюже из-за своей громоздкой оснастки, но горделиво он подошел к императору и поклонился старику.
– Что ты сделал? – требовательно спросил император.
– Я пролетел по небу, ваше величество, – ответил мужчина.
– Что ты сделал? – снова спросил император.
– Я же вам только что сказал! – воскликнул тот.
– Ты вовсе не ответил на мой вопрос. – Император протянул руку и коснулся красивой бумаги и птичьего хвоста летающей машины. От них веяло прохладой.
– Разве она не прекрасна, ваше величество?
– Да, слишком прекрасна.
– Она – единственная в мире! – улыбнулся мужчина. – И я – ее создатель.
– Единственная в мире?
– Клянусь вам!
– А кто еще знает о ней?
– Никто. Даже моя жена, которая считает, что я сошел с ума, перегревшись на солнце. Она думала, что я строю воздушного змея. А я встал среди ночи и пошел к дальним утесам. И когда подули утренние ветерки и забрезжил рассвет, я собрал все свое мужество, ваше величество, и прыгнул с утеса. И полетел! Но моя жена об этом ничего не знает.
– Оно для нее и лучше, – сказал император. – Пойдем.
Они прошли обратно до большого дома. Теперь солнце уже светило вовсю, и от травы шел освежающий аромат. Император, слуга и летчик задержались в огромном саду.
Император хлопнул в ладоши.
– Эй, стража!
Тут же прибежали стражники.
– Возьмите этого человека. – Стражники схватили его. – Позовите палача, – приказал император.
– В чем дело?! – закричал мужчина. – Что я сделал? – Он расплакался, его прекрасный бумажный аппарат зашелестел.
– Вот человек, который соорудил некую машину, – сказал император, – и он спрашивает у нас, что он создал. Сам он этого не знает. Ему был важен сам процесс творения, без понимания, зачем он это делает и на что окажется способно его изобретение.
Прибежал палач с острой серебряной секирой и встал на изготовку, держа ее в обнаженных руках с неимоверно вздутыми мускулами, – его лицо скрывала белая маска безмятежности.
– Одну минуту, – сказал император. Он повернулся к ближайшему столу, на котором стояло сооружение, сделанное им самим. Он снял с шеи цепочку с крохотным золотым ключиком, вставил ключик в такое же крохотное отверстие хрупкой конструкции и повернул его. Машина ожила.
Она представляла собой сад из металла и драгоценных камней. Приведенные в движение птицы запели в карликовых металлических деревьях, волки стали рыскать в миниатюрных рощах, малюсенькие люди выбегали на солнце и убегали в тень, обмахиваясь игрушечными веерами и, стоя у неправдоподобно маленьких, но действующих фонтанчиков, слушали пение крошечных изумрудных пташек.
– Разве это не красиво? – сказал император. – Если бы меня спросили, что я сделал, я бы мог четко ответить: я создал поющих птиц, шелестящие деревья, я заставил человечков гулять в этом саду, наслаждаясь листвой, тенью и пеньем птиц. Вот что сделал я.
– О, император! – упав на колени и рыдая, взмолился авиатор; слезы катились по его лицу. – Я ведь тоже сделал нечто подобное! Я нашел красоту. Я летел вместе с утренним ветром, глядя вниз, на спящие дома и сады, вдыхая запах моря, я даже видел его за холмами со своей высоты. Я пари́л, как птица. О, я не могу выразить словами, как красиво там, наверху, в небе, когда ветер обдувает тебя и несет, как перышко, гонимое взмахами веера. А как пахнет утреннее небо! И каким свободным чувствуешь себя там! Это так красиво, император, это тоже красота!
– Да, – печально согласился император, – знаю, должно быть, так и есть. Потому что я чувствовал, как мое сердце летит по воздуху вместе с тобой, и спрашивал себя: «Каково это? Какие ощущения испытываешь там, в вышине? Как выглядят дальние озера с такой высоты? А мои дома и слуги? Как муравьи? А далекие города, еще не проснувшиеся?»
– Тогда отпустите меня!
– Но бывают времена, – еще печальнее продолжил император, – когда необходимо отказаться от толики новой красоты, чтобы сберечь ту красоту, которая уже есть. Тебя-то самого я не боюсь, но я боюсь другого человека.
– Какого человека?
– Того, другого, который, глядя на тебя, построит такую же машину, как эта, из бамбука и цветной бумаги. Но у этого другого человека будет злобное лицо и злобное сердце, и от красоты ничего не останется. Вот этого человека я боюсь.
– Но почему? Почему?
– Кто поручится, что когда-нибудь такой человек, в таком же аппарате из бумаги и бамбука, не пролетит в небе над нами и не сбросит огромные камни на Великую Китайскую стену? – ответил император.
Никто не шелохнулся и не произнес ни слова.
– Отрубите ему голову, – сказал император.
Палач занес свою серебряную секиру.
– Сожгите воздушного змея и тело его изобретателя и захороните их прах вместе, – велел император.
Слуги выступили вперед, чтобы исполнить повеление.
Император обратился к своему приближенному слуге, который первым увидел летающего человека.
– Держи язык за зубами. Все это было сном – красивым и печальным. И тому крестьянину, который стоял на дальнем поле и тоже все видел, скажи, что в его интересах считать все это только видением. Если просочится хоть слово, и ты, и крестьянин умрете в тот же час.
– Вы так милосердны, император.
– Нет, я не милосерден, – сказал старик. Он видел, как за садовой оградой стражники жгли прекрасную бумажную машину с бамбуковыми рейками, пахнувшую утренним ветром, и как темный дым поднимался в небо. – Просто я ошеломлен и напуган.
Слуги тем временем начали копать ямку, чтобы захоронить прах.
– Что значит жизнь одного человека по сравнению с жизнями миллионов? Мне остается утешаться этой мыслью. – Император снова снял с шеи ключик и еще раз завел свой прекрасный миниатюрный сад.
Он стоял, глядя вдаль, на Великую стену, на мирный город, зеленеющие поля, реки и ручьи. Потом вздохнул. Спрятанный внутри филигранный механизм миниатюрного садика зажужжал и привел его в движение. Крохотные люди прогуливались среди деревьев, их крохотные лица белели над испещренными солнечными бликами полянами, словно сияющие лепестки, и где-то в кронах крохотных деревьев порхали тонкие звуки птичьих песен и яркие желто-синие блики, которые поднимались выше, выше, выше в свое маленькое небо.
– О, – сказал император, закрывая глаза, – вы посмотрите на этих птиц, вы только посмотрите на этих птиц!
Бев Винсент Зомби в самолете
Наш второй пилот Бев Винсент опубликовал более восьмидесяти рассказов и несколько документальных книг, но пока это его единственный рассказ, в котором фигурируют самолеты. Название его навеяно фильмом, в котором главную роль исполнял Сэмюэл Л. Джексон, но вы не найдете в этой истории ни одного эпитета, состоящего из тринадцати букв. Йиппи-кай-эй![95]
Парень в футболке с надписью «Phish»[96] сказал Майлзу, что может летать на чем угодно и что если он врет, то все они – мертвецы. Вот так просто. Другой, Барри, которому на вид было под тридцать, сообщил, что учился на пилота «еще там», где все это началось, но на подробности был скуп, и его заявление звучало как пустое хвастовство – что-то вроде болтовни, к которой прибегают в баре поздно вечером, чтобы произвести впечатление на женщин. Ну, конечно, если женщины в это время еще зависают в барах.
– Многие говорили, что война – плохая идея. Сначала я их поддерживал, – говорит Барри, пожав плечами. – Никогда не думал, что все так обернется. – Это было самым сдержанным высказыванием о случившемся, какое Майлзу доводилось слышать.
Майлз познакомился с этой маленькой группой уцелевших – всего девятнадцать человек, включая его самого, – в старом городе, в школьной аудитории, помещении с крепкими дверями и прочными замками, которое служило им временным убежищем. Как только Барри заявил, что может увезти их на самолете, Майлз предложил свой краткий план. Вот так он и стал их лидером.
– Мы отправимся в какое-нибудь удаленное место, – говорит он собравшимся вокруг него, видимо, привлеченным аурой уверенности, которую он вырабатывал в течение тридцати лет, работая в сфере продаж и входя в состав менеджеров среднего звена. – Место, где мы будем в безопасности, пока все это не кончится. – Никто не спрашивает, что они будут делать, если «это» никогда не кончится.
Самым разумным им представляется отправиться в аэропорт. Город переполнен, большая его часть горит, людей убивают на улицах. Те, кого захватчики не сожрали, через несколько секунд встают снова и присоединяются к ненасытной армии нежитей. Майлзу хотелось бы, чтобы его план не зависел от ничем не подтвержденных умений парня, который выглядит так, словно ни дня в жизни не работал.
Но если остальные желают признать в нем своего лидера, он встанет во главе, черт побери. Под его водительством они совершают налет на кафе, чтобы запастись едой, и на склад, чтобы раздобыть инструменты и оружие. Барри также утверждает, что может завести автобус, припаркованный возле грузового дока, даже если в нем нет ключа зажигания. Майлз не спрашивает, овладел ли он и этим трюком «еще там», но Барри держится уверенно. Может, в конце концов, надежда и есть.
Датчик уровня топлива показывает, что бензина в допотопном школьном автобусе меньше четверти бака. Последняя работающая заправочная станция в стране исчерпала свои запасы шесть дней назад, а обещанные автоцистерны с горючим так и не пришли. Вероятно, и не придут. Бензина хватит – едва-едва, – чтобы доехать до аэропорта, но если Барри не сумеет завести один из самолетов, им крышка. Семнадцать человек следуют за ним и Барри к автобусу, словно крысы за дудочкой крысолова.
Автобус – рухлядь, но двигается, если обращаться с ним осторожно. Каждый раз, когда Барри превышает скорость пятьдесят километров в час, зажигается индикатор неисправности двигателя, и ему приходится отпускать акселератор. Поломки они себе позволить не могут. За пределами Галифакса они не видели этой нечисти в больших количествах, но нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Эти дьяволы могут выскочить, где и когда угодно, а у группы Майлза в качестве оружия – только ножи и топоры. Так же, как бензин, патроны – товар ценный и редкий.
Тем не менее пятьдесят километров в час – удовлетворительная скорость. Если там есть самолет с достаточным количеством реактивного топлива, чтобы донести их туда, куда они решат лететь, он, скорее всего, дождется их, пока они будут тащиться по шоссе. Когда Майлз работал в продажах на местах – до того как его заставили перейти на офисную службу, – он терпеть не мог долгих переездов до международного аэропорта Стэнфилд, но сегодня был счастлив убраться как можно дальше от города.
На всем видимом пространстве дороги в обе стороны нет никакого движения. Они проезжают мимо заглохших на обочинах машин, но, когда пытаются притормозить, чтобы проверить, не нужна ли помощь их пассажирам, автобус начинает скрежетать, заикаться и грозит сам заглохнуть. Барри снова разгоняется до пятидесяти – единственной скорости, которая, судя по всему, удовлетворяет автобус. Майлзу кажется, что из-за руля одной из машин, мимо которых они проезжают, появляется голова, но он не уверен, к тому же это вполне может оказаться кто-то из них, а не настоящий человек.
Он выбрасывает из головы мелькнувшее видение. Это, в конце концов, могло быть игрой света, а если и нет, они все равно не могут спасти всех – он не уверен, что они даже сами могут спастись. Однако его мантра – никогда не сдавайся. Самыми удачными своими сделками он считал те, когда покупатель собирался приобрести товар у его конкурента, но Майлз побеждал его благодаря настойчивости и азарту.
Интересно, что случится, когда зомби поубивают почти всех? – думает он. Будут ли они слоняться по планете в тщетных поисках пропитания, пока не развалятся на куски и не начнут корчиться на земле, как детские игрушки, у которых сели батарейки? Семь миллиардов зомби в поисках горстки выживших человеческих особей?
И потом, факт остается фактом: даже если его группа и спасется, они не будут жить вечно. Рано или поздно все они умрут, а когда это случится, вирус – или что еще там – вернет их обратно, но уже в качестве тех самых существ. Все, что они могут, – это упреждать неизбежное и надеяться, что тем временем где-нибудь люди работают над решением вопроса. Человечество выживало на протяжении тысяч лет. И это бедствие не истребит нас, думает Майлз. Кто-нибудь найдет средство против этой чумы. Средство всегда находилось. Эта вера стимулирует его. Иначе он бы уже сжег себя, как другие, и покончил с этим.
Когда они доезжают до аэропорта, Майлз велит всем держаться крепче и приказывает Барри пробить бампером автобуса забор в той части, где он отделяет парковку автомобилей от взлетных полос. Автобус бросает в сторону, когда забор, словно кольчуга, обхватывает бампер и лобовое стекло, но они прорываются и выезжают на бетонированную площадку перед ангарами.
В терминале находилось несколько аэробусов и «Боингов», но Барри выбрал самолет местных линий, достаточно большой, чтобы вместить их всех, но в меру компактный, чтобы суметь приземлиться где они пожелают, даже на какой-нибудь дальней посадочной полосе, предназначенной для частных самолетов. Это «Эмбраэр» ERJ-145 с дальностью полета минимум четыре тысячи километров, по словам Барри. Может, немного больше, поскольку они полетят налегке, – этого достаточно, чтобы унести их отсюда подальше.
Но вот в чем загвоздка: куда лететь? Барри откидывает дверь самолета, и она опускается до земли, с внутренней стороны на ней – ступеньки. Он ныряет внутрь и через несколько минут появляется снова с пачкой навигационных карт. Майлз разворачивает их на автобусном сиденье, пока Барри и бывший таксист по имени Гилберт, замкнув провода напрямую, заводят бензовоз и подкатывают его к крылу «Эмбраэра».
Элфи, который в другой жизни был финансовым аналитиком, откидывается на спинку сиденья.
– Как насчет Аляски?
– Мы не можем лететь так далеко. Разве что до Лабрадора или севера Онтарио.
– Там слишком холодно, – говорит Терри, в прошлом инструктор по йоге, обхватывая себя руками. Майлз не удивлен. Она жалуется по любому поводу с тех самых пор, как примкнула к их группе.
– Снег их притормозит, – возражает парикмахер по имени Фил.
Даже если это правда, им нужно лететь в такое место, где они сами смогут выжить, где им, возможно, даже придется выращивать зерно. В то же время это должно быть место, которое имеет связь с остальным миром, чтобы узнать, когда ситуация начнет выправляться. Однако Майлз не делится ходом своих мыслей с остальными. Он не хочет, чтобы они догадались, что он так же не уверен в исходе, как и они.
– Смотрите! – кричит Эмили. Она – самая молодая в их группе, еще подросток, и с того момента, как они покинули город, не произнесла почти ни слова, все свое внимание сосредоточив на попытках связаться с кем-то – с кем-нибудь – по своему айфону, по которому беспрерывно молотила большими пальцами.
Майлз смотрит в направлении, куда она показывает вытянутой рукой. Несколько зомби появляются из здания терминала и, волоча ноги, направляются к ним через бетонную площадку, ведомые каким-то первобытным инстинктом.
Барри и Гилберт укладывают шланг на бензовоз – значит, они закончили заправку. Майлз сгребает карты в кучу и бросается из автобуса.
– Надо взлетать, – вопит он, – немедленно!
Двое мужчин поднимают головы и видят зомби, направляющихся в их сторону. Гилберт вскакивает за руль бензовоза и выводит его из-под крыла самолета.
– На борт! Живо! – орет Майлз, и все мчатся мимо него без дополнительных понуканий, с набитыми едой и разными принадлежностями черными мешками через плечо, в руках клацает какое ни на есть оружие.
Зомби, возможно, и медлительны, но неукротимы, и они уже проделали почти половину пути от терминала до автобуса. Еще несколько минут – и они их настигнут, отнимут и уничтожат последнюю надежду на спасение.
Майлз вбегает в самолет последним, он злится и похлопывает себя по левой руке, стараясь не обращать внимания на боль, которая ее простреливает. Двое мужчин – кажется, их зовут Мэтт и Чет – закрывают дверь люка, Барри тем временем уже направляется в пилотскую кабину. Гилберт вызывается выполнять функции второго пилота, хотя никогда прежде вообще не летал на самолете. Вот он, момент истины. Если Барри не сумеет завести эту штуковину и оторвать ее от земли, им, запертым здесь, как сардины в банке, – крышка.
Майлз откидывается на спинку своего кресла и старается восстановить дыхание. Когда он закрывает глаза и сосредоточивается, боль в груди отступает. У него осталось всего три таблетки в маленькой пластмассовой коробочке, лежащей в нагрудном кармане, и шанс пополнить их запас колеблется между ничтожным и нулевым, поэтому он не намерен тратить одну из таблеток сейчас. Это пройдет. Это пройдет. Еще одна мантра.
Он смотрит в иллюминатор. Зомби достигли автобуса и обнюхивают открытую дверь. А спустя минуту поворачиваются и направляются к самолету. Они знают, что мы здесь, внутри, думает Майлз и отодвигается от маленького овала, не желая попасть под их пронизывающий взгляд.
Остальные пассажиры приникли к своим окошкам и наблюдают за медленной, но неотвратимой процессией. Дверь самолета закрыта, так что пока они в безопасности. Но что, если эти твари вырвут зубами клок из колеса шасси прежде, чем они успеют начать рулежку? Или окажутся достаточно сообразительными, чтобы найти способ проникнуть внутрь – например, через багажное отделение?
Не успевает эта мысль возникнуть у него в голове, как из-под днища самолета слышится удар. Он напоминает звук открывающихся или закрывающихся створок грузового отсека.
– Нужно взлетать! – вопит Майлз, надеясь, что предполагаемый пилот его слышит. Он молится, чтобы Барри не сидел в кабине, пялясь на ошеломляющее множество показаний приборов, кнопок и рычагов и не зная, какой из них – ключ зажигания. Еще один удар, на сей раз такой сильный, что фюзеляж начинает качаться.
– Я их больше не вижу, – говорит Элфи. – Они под самолетом.
– Сколько их? – спрашивает Терри голосом чуть громче шепота.
– Восемь, может, десять, – отвечает Элфи. – И еще другие на подходе.
Майлз снова выглядывает в иллюминатор. Вторая группа, как минимум из сорока-пятидесяти зомби, пересекает бетонированную площадку.
– Чего он так долго возится? – бормочет Майлз, потом делает глубокий вдох, оценивает сдавленность в груди и решает, что движение ему не навредит. Кроме того, если они не взлетят сейчас же, сердечный приступ будет самой меньшей из его бед.
Он выскакивает из кресла и направляется в кабину пилотов. Через дверь он видит, как Барри щелкает переключателями, пока Гилберт читает инструкцию, приколотую к пюпитру с зажимом.
– Ты умеешь управлять этой штуковиной или нет? – требовательно вопрошает Майлз, страшась услышать ответ.
– Разумеется, – отвечает Барри.
Гилберт поднимает голову от контрольного листа и пожимает плечами.
Майлз ощущает новые удары под ногами.
– Сейчас или никогда. Подкрепление на подходе, только не для нас.
Барри кивает, отмахивается от Гилберта и решительно врубает несколько тумблеров.
– К черту инструкции, – говорит он. – Сам управлюсь.
Взревывает один мотор, потом другой, и маленький самолет содрогается. Майлз чувствует, как нарастает мощь, потенциальная энергия, которая оторвет их от земли и понесет… куда? В панике и замешательстве он до сих пор не выбрал пункт назначения. Остальные ждут решения от него.
– Просто вытащи нас отсюда, – говорит он Барри.
Барри жмет на рычаг, и самолет начинает катиться вперед.
– Надеюсь, ни одну из этих мразей не затянуло в двигатель, – бормочет он.
Удары под фюзеляжем не прекращаются. Они ничего не могут с этим поделать, так что Майлз решает не волноваться. Если одному из них удалось проникнуть в багажный отсек, эту проблему нужно будет решать уже в воздухе. У них, в конце концов, есть ножи и топоры. Большинство из членов группы оказались в ней именно потому, что знают, как отражать атаки этих тварей.
По мере того как самолет набирает скорость, удары постепенно становятся реже, потом стихают вообще. Майлз пытается рассмотреть, что делается позади самолета, но обзор из иллюминатора слишком ограничен. Единственное, что он видит, это вторую группу зомби, стоящую на бетонированной площадке и следящую за самолетом, словно кучка провожающих, желающих им счастливого пути.
Майлз облегченно вздыхает.
– Все пристегнулись? – спрашивает он. – Сейчас будем взлетать. – Он надеется, что это правда, что они не съедут со взлетной полосы и не врежутся в растущие за ней деревья. Если такое случится, то самым лучшим для этого самолета будет вспыхнуть синим пламенем, которое пожрет их всех. Это положит конец всем их бедам.
Все занимают места и пристегивают ремни безопасности. У Майлза мелькает мысль: не должны ли они позаботиться о правильном распределении тяжести? Но Барри ничего об этом не говорил, а пока он вроде знает что делает. Майлз берет навигационные карты. Он должен срочно принять решение.
Самолет дергается влево и замирает: значит, они достигли начала взлетной полосы. Рев моторов усиливается, и самолет рвется вперед, быстро ускоряясь. Мимо бортовых иллюминаторов пролетают деревья. Майлз откидывается назад, ожидая, когда нос самолета начнет задираться, и через несколько секунд именно это и происходит.
Сила тяжести прижимает его к спинке кресла. Маленький самолет отрывается от земли, поддерживаемый невидимым давлением воздуха под крыльями. Все мировые проблемы отпадают, оставаясь внизу. Если бы можно было остаться в воздухе навсегда, это было бы прекрасно.
Несколькими минутами позже самолет выравнивается. По привычке Майлз смотрит на табличку «Пристегнуть ремни», но, видимо, Барри не слишком заботится о правилах обслуживания пассажиров. Майлз расстегивает свой ремень и снова погружается в изучение карт. С таким же успехом он мог бы, закрыв глаза, ткнуть в какую-нибудь точку наугад. У него нет никакой информации, которая помогла бы ему принять решение. Существуют ли места, до которых эта чума еще не докатилась? Например, какой-нибудь остров вроде Исландии? Он, кстати, вполне в пределах досягаемости. Может, Барри удастся что-нибудь услышать по радио?
У Майлза есть только один шанс принять правильное решение. Но необходимость принять его прежде, чем они сожгут слишком много топлива, парализует его. Почему они ждут, что все решения буду принимать я? Единственное, чего мне хочется, – так это заснуть, я так устал, думает он.
Тяжесть снова наваливается ему на грудь – то же ощущение, что и во время взлета. Но ведь теперь он не испытывает воздействия ускорения: они летят на крейсерской высоте, достаточной, чтобы минимизировать трение воздуха и подняться до максимального уровня. Он пытается сделать вдох, но грудная клетка у него сжата, как в тисках. Вдруг дыхание вообще перехватывает – тяжесть в груди становится такой, что легкие не могут расправиться.
Все остальные, словно зомби, пялятся в иллюминаторы. Там не на что смотреть – только облака и время от времени мгновенный проблеск земли далеко внизу. Наверное, они гадают, что там, впереди, думает он. Что мы обнаружим, когда снова коснемся земли.
Майлзу это уже безразлично. Он знает, что́ у них впереди, и не в силах ничего с этим поделать. Простреливающая боль парализует его. Он не может ни достать из кармана пластмассовую коробочку, ни произнести хоть звук, чтобы привлечь внимание. Дыхание становится частым и судорожным. Давление в груди нарастает, как стена воды, навалившаяся на дамбу, уже готовую рухнуть.
Он надеется, что остальные будут готовы, когда он явится за ними. Интересно, чувствуют ли боль зомби, мелькает у него в голове. Все равно она не может быть сильнее, чем эта. Или может?
Питер Тремейн Убийство в воздухе
Ни один сборник рассказов, действие которых связано с самолетами, не может считаться полным хотя бы без одной тайны запертой комнаты (самолеты представляют собой идеальные запертые комнаты), но в данном случае их целых две. Добро пожаловать на борт «Джамбо джет»[97] компании «Глобал эйруэйз», где вот-вот найдут тело незадачливого путешественника. К счастью для экипажа рейса 162, один из пассажиров, Джерри Фейн, окажется криминалистом и займется своим делом. Питер Тремейн – псевдоним Питера Эллиса, который, вдобавок к тому, что является автором почти сотни романов и более ста рассказов, имеет степень магистра по кельтологии. Он родился в Ирландии, работал репортером, а в середине 1970-х стал профессиональным писателем. Этот рассказ – его жемчужина.
Старший стюард Джефф Райдер заметил встревоженное выражение лица стюардессы Сэлли Бич в момент, когда она входила в кухонный отсек бизнес-класса «Боинга-747», летевшего рейсом GA162 компании «Глобал эйруэйз», и удивился, поскольку никогда прежде не видел старшую стюардессу взволнованной.
– Что случилось, Сэл? – спросил он, бодро приветствуя ее в надежде вернуть обычную озорную улыбку на ее лицо. – Неужели среди пассажиров бизнес-класса нашелся волк, который так тебя напугал?
Она покачала головой, не меняя озабоченного выражения, и ответила:
– Мне кажется, один из пассажиров застрял в туалете.
Улыбка Джеффа Райдера стала еще шире, и он был уже готов отпустить какое-нибудь фривольное замечание, но Сэлли, словно угадав его намерение, поспешно произнесла:
– Нет, я серьезно. Боюсь, что-то случилось. Он там уже очень давно, и человек, с которым он вместе летит, просил меня проверить, все ли с ним в порядке. Я постучала, но он не отвечает.
Райдер подавил вздох. Пассажир, застрявший в туалете, – явление не частое, но и не невиданное. Однажды Джеффу пришлось вытаскивать из туалета техасца весом килограммов в сто двадцать, и он предпочитал не вспоминать о том случае.
– И кто этот незадачливый пассажир?
– В списке он значится как Генри Кинлок Грей.
Райдер тихо застонал.
– Если в этом самолете заело замок двери в туалете, то внутри туалета конечно же оказывается Кинлок Грей. Знаешь, кто это? Президент «Кинлок Грей и Броуди», крупной международной медиакомпании. У него репутация человека, живьем пожирающего даже своих директоров, что же до таких, как мы с тобой, мелкой рыбешки в море жизни… – Он выразительно закатил глаза. – О господи! Ладно, проверю.
Райдер направился к туалетам бизнес-класса, Сэлли побрела следом за ним. Больше там никого не оказалось, и он сразу увидел, какая из кабинок была занята. Подойдя к ней, он тихо позвал:
– Мистер Кинлок Грей? У вас все в порядке, сэр?
Немного подождав, он деликатно постучал.
Ответа по-прежнему не было.
Райдер взглянул на Сэлли.
– Известно, сколько приблизительно он уже там сидит?
– Его спутник сказал, что он пошел в туалет около получаса назад.
Райдер приподнял брови и снова повернулся к двери. Теперь его голос звучал на октаву выше:
– Сэр? Мистер Кинлок Грей? Сэр, мы беспокоимся, не случилось ли с вами чего-нибудь. Я намерен взломать дверь. Пожалуйста, если можете, встаньте подальше от нее.
Отступив назад, он поднял ногу и нанес сокрушительный удар в районе замка. Слабенький замок слетел с болтов, и дверь частично приоткрылась внутрь.
– Сэр?.. – Райдер надавил на нее. Она плохо поддавалась, что-то внутри мешало ей открыться. Приложив немалое усилие, Райдер все же отодвинул ее настолько, чтобы можно было просунуть голову в крохотное помещение, и тут же резко отпрянул. Лицо у него побелело. Уставившись на Сэлли, он несколько секунд не мог произнести ни слова, но наконец выдавил шепотом: – Думаю, его застрелили.
Занавески, отделяющие туалеты от салона, были задернуты. Послали за командиром экипажа Моссом Эвансом, одним из старших пилотов «Глобал эйруэйз», которому кратко сообщили, в чем проблема. Крепкого телосложения, с серебряной сединой в волосах, капитан, ничем не выдавая тревоги, проследовал из кабины экипажа через салон бизнес-класса, улыбаясь и приветливо кивая пассажирам. Он был весьма раздражен, потому что всего несколько минут назад самолет перевалил на вторую половину маршрута – прошел «точку невозврата». Лететь оставалось еще четыре часа, и ему не нравилась перспектива отклоняться от курса, садиться в каком-то другом аэропорту и откладывать продолжение рейса бог знает на сколько. У него была назначена важная встреча.
Райдер только что закончил объявление для пассажиров бизнес-класса: под малоубедительным предлогом якобы технической неисправности он сообщил им, что туалеты бизнес-класса, расположенные в носовой части, будут закрыты; для безопасности и удобства пассажиров им предлагалось пользоваться туалетами, расположенными в среднем отсеке. Типичный летный жаргон. Теперь Райдер вместе с Сэлли Бич ждали капитана. Эванс хорошо знал Райдера, с которым летал уже два года. Но сейчас обычное добродушие старшего стюарда исчезло без следа. Девушка тоже была чрезвычайно бледна и имела потрясенный вид.
Эванс сочувственно взглянул на нее, потом повернулся к двери с сорванным замком.
– Этот туалет?
– Да.
Эвансу пришлось навалиться на дверь всей своей тяжестью, чтобы просунуть голову внутрь маленькой кабинки.
Человек, полностью одетый, полулежал на крышке унитаза. Его руки болтались по бокам, ноги были вытянуты вперед, из-за чего и невозможно было полностью открыть дверь. Равновесие безжизненного тела было ненадежным. Ото рта к груди тянулось кровавое месиво. Со щек свисали ошметки плоти. Боковые стенки кабинки были забрызганы кровью. Эванс почувствовал тошноту, но сумел подавить ее.
Как и предупредил его Райдер, на первый взгляд казалось, что человеку выстрелили в рот. Эванс машинально взглянул вниз, не зная толком, что именно ожидал увидеть, пока не сообразил, что ищет оружие. К его вящему удивлению, оружия нигде не оказалось. Капитан еще раз оглядел все вокруг. В безвольно висевших руках его тоже не было. Как и на полу, куда оно должно было бы упасть. Эванс нахмурился и убрал голову из кабинки. Где-то в дальнем уголке его сознания шевелилась мысль: есть что-то неправильное в том, что он увидел, – но что именно, он сообразить не мог.
– В инструкции для экипажа на случай непредвиденных происшествий в воздухе ни о чем подобном не говорится, – пробормотал Райдер, надеясь немного разрядить ситуацию юмором.
– Вижу, вы перенаправили всех пассажиров бизнес-класса в другие туалеты, – заметил Эванс.
– Да. Я попросил всех пассажиров бизнес-класса пользоваться средними туалетами, а здесь мы держим занавески задернутыми. Полагаю, следующее, что следует сделать, это вытащить тело?
– Его коллеге уже сообщили? Ну, тому человеку, который летит вместе с ним?
– Ему сказали, что произошел несчастный случай. Без подробностей.
– Очень хорошо. Насколько я знаю, наш покойник был главой какой-то большой корпорации?
– Это Кинлок Грей. То есть это был Генри Кинлок Грей.
Эванс сложил губы дудочкой, изображая беззвучный свист.
– Значит, мы имеем дело с влиятельностью, подкрепленной большими деньгами, так?
– Ну, теперь они уже больше не станут.
– Вы проверяли список на предмет наличия среди пассажиров врача? Похоже, у нашего покойничка была чертова уйма времени и отличное место для самоубийства. И все же нужно, чтобы кто-то взглянул на него, прежде чем что-нибудь здесь двигать. Я выполню все необходимые формальности, требуемые компанией в экстренных медицинских случаях. Необходимо уведомить головной офис.
Райдер согласно кивнул.
– Я уже велел Сэлли проверить, нет ли среди пассажиров врача. По счастливому стечению обстоятельств в салоне бизнес-класса их оказалось двое. Они сидят рядом, места С-1 и С-2.
– Хорошо. Пусть Сэлли приведет сюда одного из них. Да, и где коллега мистера Грея?
– Сидит на своем месте – В-3. Его зовут Фрэнк Тилли. Насколько я понимаю, он – личный секретарь Грея.
– Боюсь, его придется привести сюда для официального опознания. Этого строго требуют правила компании, – добавил капитан, словно искал одобрения своим действиям.
Сэлли подошла к пассажирам, сидевшим на местах С-1 и С-2. Они были одного возраста, лет сорока пяти. Один, небрежно одетый, с копной огненно-рыжих волос, не имел ничего общего со стереотипным образом врача. У другого вид был более элегантный и аккуратный. Она остановилась и наклонилась к ним.
– Доктор Фейн? – Это имя она вспомнила первым.
Аккуратно одетый мужчина посмотрел на нее с вопросительной улыбкой.
– Джерри Фейн – это я. Чем могу быть полезен, мисс?
– Доктор, боюсь, с одним из наших пассажиров произошел несчастный случай, требующий присутствия медика. Капитан почтительно просит вас прийти посмотреть его, он заранее выражает вам благодарность.
Это прозвучало как хорошо отрепетированная формулировка. Это и была формулировка из «Руководства» компании. Сэлли не знала, как по-другому выразить просьбу, кроме как в такой бесстрастной манере.
Мужчина поморщился.
– Я действительно доктор, мисс, но доктор криминологии. Так что вряд ли смогу чем-то помочь. Думаю, вам нужен мой спутник Гектор Росс. Вот он настоящий врач.
Девушка виновато посмотрела на рыжеволосого мужчину в соседнем кресле и обрадовалась, увидев, что он уже встает: значит, ей не придется повторять ту же фразу еще раз.
– Не волнуйтесь, дорогая. Я посмотрю вашего пострадавшего, только у меня нет при себе медицинского чемоданчика. На самом деле я патологоанатом, возвращаюсь с конференции, понимаете? Я не врач общей практики.
– У нас на борту есть кое-какие медицинские инструменты, доктор, но не думаю, что они вам понадобятся.
Росс посмотрел на нее с озадаченным видом, но она уже развернулась и пошла вдоль прохода, ожидая, что он последует за ней.
Гектор Росс выбрался из туалетной кабинки и оказался лицом к лицу с капитаном Эвансом и Джеффом Райдером. Он взглянул на часы.
– Фиксирую факт смерти в тринадцать пятнадцать, капитан.
Эванс смущенно поежился и спросил:
– А причина?
Росс прикусил губу.
– Тело нужно бы вытащить и положить в каком-то месте, где я мог бы более тщательно его осмотреть. Но прежде, – он запнулся, – я бы хотел, чтобы на него взглянул мой коллега, доктор Фейн. Он – криминалист-психолог, и я чрезвычайно ценю его мнение.
Эванс внимательно посмотрел на врача, пытаясь понять истинный смысл его слов.
– Чем в данном случае может помочь криминалист-психолог, если только?.. – начал он.
– Капитан, тем не менее я был бы признателен, если бы доктору дали возможность взглянуть на него, – убедительно повторил Росс.
Через несколько минут Джерри Фейн выбрался из той же туалетной кабинки и посмотрел на своего спутника с некоторой многозначительностью.
– Занятно, – заметил он. Это слово он произнес медленно и задумчиво.
– Ну? – нетерпеливо спросил капитан Эванс. – И что это должно значить?
Фейн красноречиво пожал плечами.
– Это значит, что все совсем не так хорошо, капитан, – сказал он с легким сарказмом. – Думаю, придется извлечь тело оттуда, чтобы мой коллега смог установить причину смерти, тогда мы и определим, как именно умер этот человек.
Эванс фыркнул, стараясь скрыть раздражение.
– Меня на радиосвязи ждет президент нашей авиакомпании, доктор. Мне бы хотелось сообщить ему что-нибудь более позитивное. Думаю, вы это поймете, узнав, что они знакомы с мистером Греем. То ли состоят в одном гольф-клубе, то ли еще что-то.
В голосе Фейна послышалась ирония:
– Были знакомы. Прошедшее время. Что ж, можете сказать своему президенту: похоже на то, что его партнера по гольфу убили.
Эванс явно был шокирован.
– Но это невозможно! Это наверняка самоубийство.
Гектор Росс откашлялся и смущенно посмотрел на приятеля.
– Нужно ли заходить так далеко, дружище? – пробормотал он. – В конце концов…
Фейн остался невозмутим и перебил его спокойно, но решительно:
– Каким бы конкретно ни был способ нанесения смертельной раны, думаю, ты согласишься, что смерть была мгновенной. Передняя часть головы, ниже глаз и носа, снесена почти полностью. Ужасно. Выглядит так, словно ему выстрелили в рот.
Эванс отметил уверенность его тона. И, поразмыслив, понял, что его самого так озадачило. Настала его очередь проявлять сарказм.
– Если бы здесь кто-то выстрелил, даже из самого мелкого калибра, даже притом что тело приняло на себя часть убойной силы пули, ее бы все равно хватило, чтобы пробить обшивку самолета и вызвать разгерметизацию. Знаете, что может сделать пуля, если она пробьет фюзеляж самолета на высоте одиннадцать тысяч метров?
– Я не утверждал, что это был пистолет, – ответил Фейн все с той же мягкой улыбкой. – Я сказал: «Выглядит так, словно ему выстрелили в рот».
– Даже если его убила пуля, почему это не могло быть самоубийством? – вклинился старший стюард. – Он ведь был заперт в туалете – господи помилуй! – изнутри заперт!
Фейн снисходительно взглянул на него.
– Я специально отметил моментальность наступления смерти. Никогда еще мне не доводилось видеть труп, который после успешного самоубийства был бы в состоянии встать и спрятать оружие. Человек лежит там мертвый, с чудовищной раной, вызвавшей моментальную смерть… и никаких следов оружия. Занятно, не правда ли?
Эванс недоверчиво уставился на него.
– Это смешно… – Уверенности в его голосе не было. – Вы серьезно? Оружие должно быть где-то за дверью или еще где-нибудь.
Фейн не потрудился ответить.
– Но… – отчаянно продолжал Эванс, понимая, что Фейн высказал именно то, что и самого его озадачило. – Вы хотите сказать, что Грея убили, а потом затащили в туалет?
Фейн решительно покачал головой.
– Боюсь, все было сложнее. Судя по расположению брызг крови на стенах кабинки, он уже был в туалете, когда произошел выстрел, к тому же дверь была заперта изнутри, если верить вашему старшему стюарду.
Джефф Райдер беспокойно переступил с ноги на ногу.
– Да, дверь была заперта изнутри, – с обидой подтвердил он.
– Тогда как?.. – начал Эванс.
– Вот это мы и должны выяснить. Капитан, я ни в коей мере не хочу узурпировать власть, но, если позволите, у меня есть предложение…
Эванс не ответил. Он все еще размышлял над невероятностью того, что предположил Фейн.
– Капитан?
– Да, простите, что вы сказали?
– Если позволите, у меня есть предложение. Пока Гектор будет проводить предварительный осмотр тела, чтобы попытаться определить причину смерти, не разрешите ли вы мне задать несколько вопросов коллеге Грея? Тогда мы, возможно, получим ответы на некоторые «почему» и «как».
Эванс в задумчивости сжал губы.
– Не думаю, что я уполномочен принять такое решение. Я должен поговорить с президентом компании.
– Сделайте это как можно быстрее, капитан. Мы будем ждать здесь, – спокойно ответил Фейн. – А пока ждем, мы с доктором Россом вытащим тело из туалета.
Мосс Эванс вернулся почти сразу. К тому времени Росс и Фейн смогли вытащить тело Кинлока Грея из туалета и положить его на пол между переборкой и занавеской, отделявшей передний ряд кресел бизнес-класса.
Прочистив горло, Эванс неловко произнес:
– Доктор Фейн, мой президент дает вам разрешение действовать так, как вы считаете нужным в сложившихся обстоятельствах… то есть до момента посадки самолета. После этого вы должны будете передать дело местному полицейскому начальству. – Он пожал плечами и добавил, словно тут требовались какие-то объяснения: – Мой президент, судя по всему, наслышан о вашей репутации… криминолога. И он очень рад, что дело попало в руки доктора Росса и ваши.
Фейн серьезно кивнул.
– Вы собираетесь совершить вынужденную посадку? – спросил он.
– Президент компании приказал следовать прежним курсом, до пункта назначения, доктор. Поскольку человек мертв, нет смысла отклоняться от курса в поисках медицинской помощи.
– Хорошо. Тогда у нас есть три с лишним часа, чтобы во всем разобраться. Не будет ли ваш стюард так любезен найти уголок, где я мог бы побеседовать с коллегой Грея? Эта девушка говорит, что он его личный секретарь. Я хотел бы перекинуться с ним несколькими словами, не возбуждая тревоги у других пассажиров.
– Джефф, позаботьтесь об этом, – приказал старшему стюарду капитан Эванс и, взглянув на Фейна, спросил: – Кажется, считается, что чаще всего убийство совершает кто-то, знакомый с жертвой? Значит ли это, что секретарь – первый подозреваемый? Или все пассажиры будут подвергнуты проверке на наличие связей с Греем?
Фейн широко улыбнулся:
– Очень часто оказывается, что общие правила в подобных ситуациях не действуют.
Эванс пожал плечами:
– Если это поможет, я могу включить табло с просьбой к пассажирам пристегнуть ремни и не покидать своих мест. Могу сказать, что ожидается турбулентность. Это удержит некоторых любопытных от желания проникнуть сюда.
– Это было бы замечательно, капитан, – поддержал предложение Гектор Росс, подняв голову от трупа, который осматривал.
Через несколько минут после того, как Эванс ушел, в салоне кто-то начал спорить. Фейн тоже поднял голову и увидел, что стюардесса, Сэлли Бич, изо всех сил старается не пропустить к ним какого-то молодого человека.
Но тот был настроен очень решительно.
– Говорю же вам, я на него работал. – Он повысил голос в знак протеста. – Я имею право здесь находиться.
– Сэр, вы летите в туристском классе и не имеете права находиться в бизнес-салоне.
– Если с мистером Греем что-то случилось, я требую…
Фейн быстро вышел вперед. Молодой человек был высокого роста, правильно говорил, и, как отметил Фейн, его красивое лицо загорело скорее в солярии, чем под лучами солнца. Одет он был безупречно. На одном из его длинных тонких пальцев красовался золотой перстень-печатка. У Фейна было обыкновение обращать внимание на руки. Он считал, что многое можно сказать о человеке по его рукам и состоянию ногтей. Этот молодой человек, несомненно, уделял очень большое внимание уходу за ногтями.
– Это секретарь мистера Грея? – спросил Фейн у Сэлли.
Стюардесса покачала головой:
– Нет, доктор. Это пассажир из туристского салона. Он утверждает, что работал на мистера Грея.
– Ваше имя?.. – быстро спросил Фейн, не отрывая пронзительного взгляда от красивого лица молодого человека.
– Оскар Элджи, я был личным слугой мистера Грея. – Молодой человек говорил с интонациями, выдававшими в нем выпускника частной школы. – Проверьте у Фрэнка Тилли, он летит бизнес-классом. Он – личный секретарь мистера Грея и может подтвердить вам, кто я такой.
Фейн улыбнулся Сэлли Бич:
– Не окажете ли вы мне такую любезность, мисс Бич? И заодно скажите мистеру Тилли, что я хотел бы его видеть здесь, когда ему будет удобно. – Как только девушка поспешно вышла, он снова повернулся к вновь прибывшему. – Итак, мистер Элджи, откуда вы узнали, что здесь произошел… несчастный случай?
– Я слышал, как одна стюардесса в туристском салоне сказала другой: «Если мистер Грей пострадал…»
– Мистер Грей умер.
Оскар Элджи несколько секунд стоял, уставившись на Фейна.
– Сердечный приступ?
– Не совсем. Раз уж вы здесь, можете официально опознать своего бывшего работодателя? Нам это нужно для протокола, который составляет доктор Росс.
Он отступил в сторону и позволил молодому человеку подойти ближе к телу. Доктор Росс отодвинулся, чтобы дать молодому человеку возможность рассмотреть лицо. Элджи остановился над телом и несколько секунд молча смотрел на него. Потом пробормотал:
– Terra es, terram ibis. – Его лицо исказила гримаса боли. – Как это случилось? Почему у него на лице кровь? Что за несчастный случай здесь произошел?
– Именно это мы и пытаемся выяснить, – ответил ему Росс. – Насколько я понимаю, вы официально признаете, что этот человек – Генри Кинлок Грей?
Молодой человек коротко кивнул и отвернулся. Фейн отвел его в угол перед занавеской.
– Как долго вы на него работали, мистер Элджи?
– Два года.
– Что входило в ваши обязанности?
– Я был его личным слугой – шофером, дворецким, поваром, камердинером, мастером на все руки – всем. Его фактотумом[98].
– Он брал вас с собой в зарубежные поездки?
– Конечно.
– Но я вижу, что он был приверженцем социальной иерархии, не так ли? – улыбнулся Фейн.
Молодой человек покраснел.
– Я не понимаю…
– Вы летите туристским классом.
– Слуге не подобает путешествовать бизнес-классом.
– Именно так. Однако, судя по вашей реакции на его смерть, вы испытывали глубокую привязанность к своему работодателю?
Молодой человек вызывающе вздернул подбородок, его щеки снова залились румянцем.
– Мистер Грей был образцовым работодателем. И жестким бизнесменом, да. Но он был справедливым. Между нами никогда резкого слова не было сказано. На него было приятно работать. Великий человек.
– Понятно. И вы о нем заботились? О его домашних нуждах. Если я правильно помню, в газетах о нем писали, что он завидный холостяк.
Фейн заметил, что выражение лица молодого человека чуть изменилось.
– Если бы он был женат, он едва ли нуждался бы в моих услугах, не так ли? Я делал для него все. Даже чинил его стереосистему и холодильник. Нет, он не был женат.
– Да, конечно, – Фейн улыбнулся, еще раз бросив взгляд на руки Элджи. – Починка стереосистемы непростое занятие. Необычно для слуги уметь делать такое.
– Мое хобби – моделирование. Изготовление действующих моделей. – В голосе молодого человека послышались хвастливые нотки.
– Ясно. Скажите мне – потому что кому же это знать лучше, чем вам: у вашего работодателя были враги?
Элджи заметно вздрогнул.
– Такой бизнесмен, как Гарри Грей, со всех сторон окружен врагами. – Он поднял голову и увидел, что Сэлли Бич заводит в закрытую зону человека в очках. – Некоторые из его врагов работали у него и притворялись его доверенными друзьями, – добавил он с горечью. Потом замолчал и нахмурился: какая-то мысль пришла ему в голову. – Вы говорите, что его смерть была… подозрительной?
Фейн с одобрением заметил, что Сэлли жестом пригласила нового подопечного сесть и не стала прерывать его разговор с молодым человеком, к которому он снова обратился:
– Это нам предстоит выяснить. А теперь, мистер Элджи, может быть, вы вернетесь на свое место? Мы будем держать вас в курсе развития ситуации.
Молодой человек повернулся и вышел, не потрудившись поприветствовать вновь прибывшего, который, в свою очередь, опустил взгляд, чтобы избежать зрительного контакта с красивым молодым человеком. Между слугой и секретарем явно не было особой любви.
Предоставив Гектору Россу продолжать свое обследование с помощью бортового медицинского набора, Фейн направился туда, где усадили нового посетителя.
Сэлли Бич, сидевшая рядом со своим подопечным, нервно улыбнулась.
– Это мистер Фрэнсис Тилли. Он путешествовал вместе с мистером Греем.
Фрэнк Тилли был худым и весьма непривлекательным мужчиной лет тридцати пяти. Кожа у него была бледной, под скулами залегли синие тени, которые не способно стереть никакое бритье. Он носил толстые очки в роговой оправе, совершенно не подходившие к его внешности. Волосы у него были тонкие, редеющие, уголок рта нервно подергивался.
Фейн жестом попросил стюардессу встать возле двери, чтобы больше никто не смог войти в салон бизнес-класса, и повернулся к Тилли.
– Он мертв, да? – голос Тилли едва не срывался на фальцет. Он нервно хмыкнул. – Что ж, я подозревал, что когда-нибудь это случится. Такое случается даже с так называемыми сильными мира сего.
Фейн нахмурился, не одобряя интонации мужчины.
– Вы имеете в виду, что мистер Грей болел? – спросил он.
Тилли поднял руку, потом уронил ее, будто хотел высказать соображение, но передумал. Фейн машинально отметил трясущиеся руки, дрожащие толстые пальцы, пропитавшиеся никотином, и неровно срезанные ногти.
– У него была предрасположенность к астме, только и всего. И это было чисто нервное.
– Тогда почему?..
Тилли выглядел немного озадаченным.
– Наверное, я проявил легкомыслие.
– Вы не выглядите слишком опечаленным смертью коллеги.
Тилли пренебрежительно фыркнул:
– Коллеги? Грей был моим боссом. Он никогда не позволял никому, кто с ним работал, забывать, что он – босс, что он хозяин их судьбы в компании. Был ли человек швейцаром или вице-президентом, слово Гарри Кинлока Грея было для него законом. А уж если он кого-то невзлюбил, вы моментально оказывались за дверью, независимо от того, сколько лет проработали в компании. Он был типичным викторианцем, бизнесменом, который сделал себя сам. Деспотическим, злобным и язвительным. Таким не должно быть места в современном бизнесе.
Откинувшись назад, Фейн вслушивался в обиду, звучавшую в голосе собеседника.
– Значит, он был человеком, у которого могли быть враги?
Тилли улыбнулся: таким забавным показался ему этот вопрос.
– Он был человеком, у которого не было друзей.
– Как долго вы на него работали?
– Я проработал в компании десять лет, последние пять – его личным секретарем.
– Довольно большой срок, чтобы удержаться возле человека, который вам не нравился. Должно быть, вы умели вести себя правильно, чтобы не навлекать на себя его неприязнь и не давать ему повода вас уволить, если, как вы говорите, таков был обычный метод его обращения со служащими.
Тилли неуютно поежился от сарказма Фейна.
– Какое отношение это имеет к смерти мистера Грея? – вдруг огрызнулся он.
– Я просто пытаюсь воссоздать общую картину.
– Что случилось? – продолжал наступать Тилли. – Полагаю, сердечный приступ?
– А у него были проблемы с сердцем?
– Нет, насколько я знаю. Он страдал избыточным весом и жрал как свинья. Притом, какой накаленной всегда была атмосфера вокруг него, я бы не удивился, узнав, что это и послужило причиной его смерти.
– Эта поездка была особенно напряженной?
– Не больше других. Мы направлялись на встречу с исполнительными директорами наших американских филиалов.
– И мистер Грей, как вы заметили, вел себя в своей обычной манере?
Тилли захихикал. Это был неприятный смех.
– Он как обычно был воинственен, задирист и груб. Собирался уволить полдюжины человек, причем устроив из этого публичное представление, чтобы посильнее их унизить. Это всегда приводило его в состояние эйфории. А потом… – Тилли запнулся, взгляд его стал задумчивым. – Он просматривал документы, которые были у него в кейсе. Один из них, судя по всему, его очень взволновал, и через минуту-другую у него начался приступ…
– Приступ? Вы ведь, кажется, сказали, что у него не было проблем со здоровьем?
– На самом деле я сказал, что у него была предрасположенность к астме. И у него случались астматические приступы, вызванные стрессом.
– Да, вы это говорили. Значит, у него начался астматический приступ? Он что-нибудь принимал в таких случаях?
– Он носил с собой ингалятор. Он был тщеславен и думал, что никто из нас ничего не знает. Великий президент не желал признаться в своей физической слабости. Поэтому, когда у него начинался приступ, он куда-нибудь исчезал, чтобы воспользоваться ингалятором. Все было так очевидно. По иронии, его любимой цитатой из книги Екклесиаста было: «Vanitas vanitatum, omnis vanitas!»[99]
– Вы хотите сказать, что он отправился в туалет, чтобы воспользоваться ингалятором?
– Именно это я вам и говорю. Но когда прошло слишком много времени, я заволновался.
– Заволновались? – с иронической усмешкой переспросил Фейн. – Из того, что вы рассказали, можно предположить, что озабоченность состоянием здоровья босса не входила в вашу систему ценностей.
Губы Тилли сложились в презрительную усмешку.
– Личные чувства тоже в нее не входят. Я не Элджи, который всего себя вкладывает в работу. А мне платили, чтобы я выполнял свою работу, и я выполнял ее добросовестно и профессионально. От меня не требовалось любить Гарри Грея. Меня не касалось, что делал и чего не делал Гарри Грей, если это выходило за рамки обязанностей, за выполнение которых мне платили. Меня не касалось, кто был его обожателем, а кто смертельным врагом.
– Отлично. Значит, он отправился в туалет и долго не возвращался оттуда?
– Как я уже сказал, через какое-то время я позвал стюардессу, и она пошла проверить, в чем дело. Это было не более и не менее, чем моей секретарской обязанностью.
– Подождите минутку, мистер Тилли.
Фейн направился туда, где стояла Сэлли Бич, все еще бледная и немного нервная, и тихо сказал:
– Вы не могли бы сходить к месту мистера Грея и посмотреть, там ли его атташе-кейс? Если да, принесите его, пожалуйста.
Сэлли очень быстро вернулась с маленьким коричневым кожаным чемоданчиком.
Фейн взял его у нее и показал Фрэнку Тилли.
– Это кейс мистера Грея? – спросил он.
Мужчина нехотя кивнул.
– Не думаю, что вам следует это делать, – запротестовал он, когда Фейн расстегнул замки.
– Почему?
– Это конфиденциальная собственность компании.
– Думаю, расследование предполагаемого убийства позволяет не принимать во внимание подобное возражение.
Фрэнк Тилли был изумлен.
– Убийства?.. Но это значит, что… его убили? Никто и слова не говорил об убийстве.
Фейн был слишком занят просмотром бумаг и не ответил. Вынув из кейса один лист, он показал его Тилли.
– На это он смотрел перед тем, как начал задыхаться?
– Я не знаю. Вероятно. Лист был таким же – это единственное, что я могу сказать.
Лист представлял собой страницу, отпечатанную на принтере. На нем было всего две фразы: «Ты умрешь прежде, чем самолет приземлится. Memento, «homo», quia pulvis es et in pulverem revertis».
Фейн откинулся на спинку стула и с непринужденной улыбкой протянул бумагу секретарю.
– Вы знаток латыни, мистер Тилли. Как бы вы перевели эту фразу?
Тилли нахмурился:
– С чего вы взяли, что я знаток латыни?
– Несколько минут назад вы щегольнули латинской фразой. Я предположил, что вам известен ее смысл.
– Я не знаю латыни. Просто мистер Грей обожал латинские изречения, поэтому я старался запоминать те, которые он использовал чаще всего, чтобы не ударить лицом в грязь.
– Понятно. Значит, вы не знаете, что значит эта фраза?
Тилли посмотрел на напечатанную записку и покачал головой.
– Memento значит «помни», так?
– Вы когда-нибудь слышали выражение memento mori? Это упрощенная версия того, что здесь написано.
Тилли снова покачал головой:
– Помни о чем-то, наверное?
– Почему, как вы думаете, слово «homo» взято здесь в кавычки?
– Я не знаю, что это значит. Я не знаю латыни.
– То, что здесь написано, в целом переводится так: «Помни, человек, что ты пыль и в пыль вернешься». Это явно напечатано на компьютере, с использованием текстового процессора. Вы узнаете шрифт?
Тилли опять покачал головой:
– Это может быть любой из сотен стандартных компьютеров. Надеюсь, вы не думаете, что это я написал мистеру Грею записку, в которой угрожал ему смертью?
– Как она могла попасть в кейс мистера Грея? – спросил Фейн, игнорируя его комментарий.
– Полагаю, кто-то ее туда положил.
– Кто имел доступ к кейсу?
– Вы, кажется, все же обвиняете меня? Я ненавидел его. Но не настолько, чтобы совать в петлю собственную голову. Он был ублюдком, но при этом и курицей, которая несла золотые яйца. Мне не было смысла избавляться от него.
– Вот именно, – пробормотал Фейн задумчиво. Его взгляд упал на блокнот, лежавший в кейсе, и он пролистал его; Фрэнк Тилли следил за ним с беспокойством. Фейн нашел страницу, на которой стояли инициалы, дата и слова: «Уволить немедленно».
– Список полудюжины лиц, которых он собирался уволить? – заметил Фейн.
– Говорю же вам, он собирался позабавиться, публично выгнав некоторых представителей администрации, и назвал мне кое-какие фамилии.
– В списке указаны только инициалы, и начинается он с О.Т.Э. – Он взглянул на Тилли, приподняв бровь: – Это Оскар Элджи?
– Едва ли, – со снисходительной улыбкой ответил Тилли. – Это означает Отис Т. Эллиотт, генеральный директор нашего американского управления информации.
– Ясно. Давайте посмотрим, сможем ли мы идентифицировать остальных.
Он пробежался по другим инициалам, которые легко расшифровывал Тилли. Четыре следующих кандидата на увольнение тоже были управляющими филиалов компании Грея. Последнее имя было обозначено буквами «Фт».
– Эф-тэ подчеркнуто три раза, и добавлено: «Без выходного пособия!» Кто этот Эф-тэ?
– Вы прекрасно знаете, что Эф-Тэ – мои инициалы, – тихо произнес Тилли. Его лицо побелело и вдруг стало очень мрачным. – Клянусь, он ни слова не сказал мне о том, что собирается меня уволить, когда мы обсуждали кандидатуры из этого списка. Даже не упомянул.
– Ну а есть в компании кто-нибудь еще с такими же инициалами?
Тилли нахмурился, пытаясь вспомнить, но в конце концов покачал головой и пожал плечами:
– Нет. Это мог быть только я. Ублюдок! Он ничего не сказал мне о своих планах. Хотел устроить небольшое публичное унижение, наверное.
Появился Гектор Росс и жестом подозвал Фейна.
– Думаю, теперь я могу сказать, как это было сделано, – с удовлетворением объявил он.
Фейн подмигнул другу:
– Я тоже. Скажи, если я ошибаюсь. Грей отправился в туалет, чтобы воспользоваться ингалятором и облегчить приступ астмы. Он сунул ингалятор в рот, нажал, как обычно, и… – Он закончил, изобразив взрыв.
Росс был изумлен.
– Как?.. – Через плечо Фейна он посмотрел туда, где сидел все еще нервно вздрагивавший Фрэнк Тилли. – Он признался, что снарядил ингалятор?
Фейн отрицательно покачал головой:
– Нет. Но я прав?
– Это хорошая гипотеза, но она требует лабораторного подтверждения. Я обнаружил у него во рту крохотные частички алюминия и следы взрывчатки. Что-то, безусловно, взорвалось с большой мощностью, послав в нёбо малюсенький стальной снаряд с такой силой, что тот пробил мозг. Смерть наступила мгновенно, как ты и догадался в самом начале. Что бы ни послужило толчком, взрыв оказался очень сильным. Поэтому во рту и на щеках остались только крошечные фрагменты. При тщательном осмотре кабинки я и там нашел несколько фрагментов. Какая дьявольская жестокость!
– Это устроил кто-то, кто знал, что у нашего друга Грея есть слабость, и поставил на нее. Грей не пользовался ингалятором на людях, поэтому должен был найти укромное место. План прекрасно сработал, и преступление получилось почти невероятным, почти не поддающимся разгадке. Все выглядело так, будто жертва была застрелена сунутым в рот пистолетом в запертом изнутри туалете.
Гектор Росс снисходительно улыбнулся коллеге.
– Ты полагаешь, что уже нашел разгадку?
– О да. Помнишь песенку, которую мы пели в школе?
Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг! И умрет не дух, а плоть. «Прах еси и в прах вернешься», — Не о духе рек Господь[100].Гектор Росс кивнул:
– Давненько я не пел ее, дружище. Это что-то из Лонгфелло, да?
Фейн усмехнулся:
– Да, точно. Основано на нескольких строках «Книги Бытия»: «Terra es, terram ibis» – «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Позовите сюда капитана Эванса, пожалуйста, – попросил он старшего стюарда Джеффа Райдера, который ждал дальнейших распоряжений Росса. Когда Райдер ушел, Фейн снова посмотрел на своего друга: – Хвала латыни.
– Не совсем понимаю.
– Наш убийца слишком любил латинские шутки «для своих», понятные только ему и его боссу.
– Ты имеешь в виду его секретаря? – Росс бросил взгляд на Фрэнка Тилли.
– Тилли клянется, что не может перевести даже memento mori.
– Помни о смерти?
Фейн укоризненно посмотрел на друга:
– На самом деле это значит: «Помни, что смертен», или «Помни, что придется умереть», а мы обычно применяем это выражение к какому-нибудь предмету, который напоминает нам о нашей смертности.
Явившийся на зов капитан Эванс вопрошающе переводил взгляд с Росса на Фейна и обратно.
– Ну, какие новости?
– Капитан, чтобы избежать неприятных сцен на борту, я предлагаю вам заранее сообщить по радио, что на земле самолет будет встречать полиция, чтобы арестовать одного из пассажиров по обвинению в убийстве. До приземления не нужно сообщать никаких подробностей. Этот парень отсюда никуда не денется.
– Какой парень? – с мрачным видом поинтересовался Эванс.
– В списке он значится под именем Оскар Элджи. Летит в туристском салоне.
– Но как он смог?..
– Очень просто. Элджи был не только личным слугой Грея, но и, как можно понять по не слишком тонким намекам мистера Тилли, его любовником. Элджи сам подтвердил этой запиской, в которой написал латинскую фразу, подчеркнув в ней слово «homo», что значит мужчина. Но мы также знаем, что представители нашего поколения часто использовали его как сленговое обозначение гомосексуалиста.
– Откуда ты узнал, что Элджи способен понимать игру слов на латыни? – спросил Росс.
– В тот момент, когда молодой Элджи увидел труп Грея, он пробормотал эти самые слова: «Terra es, terram ibis» – «Ибо прах ты и в прах возвратишься».
– Ссора между любовниками? – спросил Росс. – Любовь, обернувшаяся ненавистью, и все такое, как выразился бы Билли Шекспир?
Фейн кивнул:
– Грей собирался дать Элджи отставку и как любовнику, и как работнику, у него в блокноте есть пометка: уволить Элджи немедленно и без выходного пособия. И Элджи решил положить конец карьере своего любовника, так сказать, в полете.
Смирно сидевший все это время Тилли с негодованием потряс головой.
– Да нет, в блокноте другое, – перебил он Фейна. – Мы же просматривали с вами список, и я сказал вам, что инициалы О.Т.Э. принадлежат Отису Эллиотту. Я отправил факс об этом увольнении еще до того, как мы сели в самолет.
Фейн спокойно улыбнулся:
– Вы забыли про «Эф-тэ».
– Но это мои…
– Вы ведь не разделяли страсть вашего босса к латинским изречениям, правда? Именно это «Эф-тэ» меня и смутило. Я готов был поспорить, что человек с репутацией Грея никогда бы не написал после заглавной «Ф» строчную «т», если бы имел в виду инициалы Ф. Т. Это были вовсе не ваши инициалы, мистер Тилли. Это «Фт» означало сокращение от латинского «фактотум». А кто был фактотумом Грея?
Воцарилась тишина.
– Думаю, мы выясним, что это убийство планировалось за неделю, а то и за две до его совершения. Когда я начал понимать, как технически было осуществлено убийство Грея, мне оставалось лишь найти человека, способного изготовить нужный механизм, а также имевшего мотив и возможность подменить ингалятор. Вытяните руки, мистер Тилли.
Секретарь нехотя выполнил просьбу.
– Неужели вы всерьез думаете, что эти руки способны собрать столь тонкий механизм? – сказал Фейн. – Нет, это Элджи, мастер на все руки и любитель строить модели, переделал один из ингаляторов Грея так, что при нажатии он должен был взорваться у него во рту, послав в мозг стальную иглу. Просто и эффективно. Элджи знал, что Грей не любит пользоваться ингалятором на людях. Остальное он предоставил случаю, и случай не подвел. Все выглядело так, словно данное преступление в принципе невозможно было совершить. И это бы, вероятно, сработало, если бы жертва и убийца не любили обмениваться только им понятными латинскими шутками.
Стивен Кинг Эксперт по турбулентности
Стивен Кинг – это я – написал по крайней мере два произведения об ужасах в воздухе. Повесть «Лангольеры», по которой на телевидении сняли мини-сериал, и рассказ «Летающий в ночи» – о вампире, который летает на частном самолете, вместо того чтобы превращаться в летучую мышь. По этому рассказу снят фильм. Рассказ, который напечатан ниже, – совсем новый.
1
Крэйг Диксон сидел в гостиной полулюкса отеля «Времена года», наслаждаясь дорогой едой, доставленной ему в номер, и смотрел фильм по платному телеканалу, когда зазвонил телефон. Его спокойное до того сердцебиение утратило свою степенность и ускорилось. Диксон был свободен – идеальное определение для холостяка-перекати-поля, – и только один человек знал, что он находится здесь, в роскошном отеле напротив парка Бостон-Коммон. Он хотел было не отвечать на звонок, но человек, которого он мысленно называл посредником, все равно позвонил бы опять и звонил бы до тех пор, пока он не ответит. А если он откажется отвечать, настанут последствия.
Это не ад, подумал он, условия слишком хорошие, но это чистилище. Без перспективы уйти в отставку еще бог весть как долго.
Диксон приглушил звук телевизора и снял трубку. Он не сказал: «Алло», он произнес следующее:
– Это нечестно. Я только два дня как вернулся из Сиэтла. У меня еще не закончился период реабилитации.
– Понимаю, мне очень жаль, но это полная неожиданность, а кроме вас сейчас никого нет.
Слово «жаль» его собеседник произнес, как «шаль».
У посредника был умиротворяющий, убаюкивающий голос диджея на радио, речь его портила лишь время от времени проскальзывавшая в ней шепелявость. Диксон никогда его не видел, но представлял себе высоким и стройным, с голубыми глазами и гладким лицом человека без возраста. Вероятно, на самом деле он был толстым, лысым и смуглым, но Диксон был уверен, что мысленно созданный им образ никогда не изменится, потому что он никогда не увидит посредника. За годы работы в фирме – если это была фирма – он познакомился со многими специалистами по турбулентности, и никто из них никогда не видел этого человека. И уж точно ни у одного из этих экспертов не было гладкого лица: даже двадцати-трид-цатилетние выглядели людьми средних лет. И дело не в том, что на этой работе порой приходилось трудиться без учета времени, хоть и не прилагая тяжелых физических усилий. Причина состояла в той особенности, которая делала их способными выполнять такую работу.
– Ну, диктуйте, – сказал Диксон.
– Объединенные авиалинии, рейс девятнадцать. Прямой из Бостона в Сарасоту. Отправление сегодня вечером, в двадцать десять. У вас как раз есть время, чтобы успеть.
– Неужели больше никого нет? – Диксон поймал себя на том, что почти скулит. – Послушайте, я устал. Устал. Этот полет из Сиэтла был таким пакостным.
– Вам зарезервировано ваше обычное место, – сказал посредник, произнеся последнее слово, как «мешто», и повесил трубку.
Диксон посмотрел на свою меч-рыбу, есть которую ему расхотелось. Потом – на Кейт Уинслет: фильм с ее участием продолжался, но досмотреть его ему уже не было суждено, по крайней мере в Бостоне. Он подумал – не впервые! – не упаковать ли вещи, не арендовать ли машину и не уехать ли на север, в Нью-Хэмпшир, и дальше – в Мэн, а потом через канадскую границу? Но они поймают его. А слухи о том, что бывает с экспертами, пытавшимися сбежать, включали электрический ток, экзентерацию и даже сварение в кипятке. Диксон не верил этим слухам, но все же…
Он начал собирать вещи. Их было немного. Эксперты по турбулентности путешествуют налегке.
2
Билет ждал его на стойке регистрации. Как обычно, место было в эконом-классе, над правым крылом в середине. Каким образом это кресло всегда оказывалось свободным, было еще одной тайной – наряду с самим посредником, местом, откуда он звонил, и организацией, на которую работал. Как и билет, кресло всегда его ждало.
Диксон положил сумку на верхнюю багажную полку и посмотрел на своих сегодняшних соседей: бизнесмен с покрасневшими глазами и запахом джина изо рта сидел возле прохода; женщина средних лет, похожая на библиотекаршу, – у окна. Бизнесмен что-то неразборчиво пробормотал, когда Диксон с извинениями пробирался мимо него к своему месту. Он читал книгу в бумажной обложке с очаровательным названием «Не позволяй своему боссу поиметь тебя». Пожилая библиотекарша смотрела в иллюминатор на механизмы обслуживания самолета, которые возили туда-сюда, как будто это было самое увлекательное зрелище, когда-либо ею виденное. На коленях у нее лежало вязанье. Диксону показалось, что это будущий свитер.
Женщина повернула голову, улыбнулась ему и протянула руку.
– Здравствуйте. Меня зовут Мэри Уорт. Как героиню комиксов.
Диксон не знал никакой героини комиксов по имени Мэри Уорт, но руку пожал.
– Крэйг Диксон. Рад знакомству.
Бизнесмен хмыкнул и перевернул страницу.
– Я так жду этого путешествия, – сказала Мэри Уорт. – У меня двенадцать лет не было отпуска. Мы с двумя подружками сняли квартиру на Сиеста-Ки[101].
– С подружками, – пробурчал бизнесмен. Похоже, ворчание было его «реакцией по умолчанию».
– Да! – сверкнула на него глазами Мэри Уорт. – Мы сняли ее на три недели. Вообще-то мы никогда не встречались, но они мои настоящие подруги. Мы все вдовы. Познакомились в чате в Интернете. Интернет – такая чудесная вещь. В моей молодости ничего подобного не существовало.
– Педофилы тоже считают, что это чудесная вещь, – заметил бизнесмен и перевернул еще одну страницу. Улыбка миз Уорт погасла, потом снова зажглась.
– Очень рада познакомиться с вами, мистер Диксон. Вы летите по делам или на отдых?
– По делам, – ответил он.
В динамиках раздался перезвон колокольчиков.
– Добрый вечер, дамы и господа, вас приветствует капитан Стюарт. Как видите, мы начинаем движение от терминала и будем выруливать к взлетной полосе номер три. Мы третьи в очереди на взлет. Расчетное время полета до международного аэропорта Сарасота-Брадентон – два часа сорок минут, после чего, еще до одиннадцати часов, вы окажетесь в краю пальм и песчаных пляжей. Небо чистое, и мы предвкушаем спокойный полет на всем его протяжении. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни, поднять сервировочные столики, которые вы, возможно, уже откинули…
– Как будто у нас было что на них поставить, – проворчал бизнесмен.
– …и убрать в безопасное место личные принадлежности, которыми вы, возможно, сейчас пользуетесь. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Мы знаем, что выбор у вас был большой.
– Иди в задницу, – буркнул бизнесмен.
– Читали бы вы лучше свою книгу, – сказал Диксон.
Бизнесмен испуганно глянул на него.
У Диксона от тревожного предчувствия уже началось сердцебиение, живот свело спазмом, в горле пересохло. Он говорил себе, что все будет хорошо, всегда ведь все кончается хорошо, но это не помогало. Он страшился бездны, которая скоро разверзнется под ним.
Рейс девятнадцать Объединенных авиалиний взлетел в двадцать тринадцать, с опозданием всего на три минуты.
3
Где-то над Мэрилендом стюардесса покатила по проходу тележку с напитками и закусками. Бизнесмен отложил книгу и с нетерпением ждал ее приближения. Когда она дошла до их ряда, он взял банку швепс-тоника, две маленькие бутылочки джина и пакет чипсов. Стюардесса попыталась списать деньги с его карточки «Мастеркард», но та не сработала, и он достал из бумажника «Американ экспресс», глядя на девушку так, будто это она была виновата в неудавшейся первой попытке. Интересно, подумал Диксон, в чем дело? В том, что на «Мастеркард» у него исчерпан лимит и он припрятал «Амэкс» на случай чрезвычайной ситуации? Так сказать, «в случае чрезвычайной ситуации разбейте стекло»? Не исключено: пострижен он был неровно, и одежда выглядела поношенной. Диксону это было совершенно безразлично, но надо же было о чем-то думать, кроме своего постоянного животного страха. Предчувствие. Они летели на крейсерской высоте десять с половиной тысяч метров, и до земли было ой как далеко.
Мэри Уорт попросила вина и аккуратно перелила его из бутылочки в пластиковый стаканчик.
– А вы ничего не хотите, мистер Диксон?
– Нет. В самолетах я не ем и не пью.
Мистер Бизнесмен опять хрюкнул. Он уже выпил первую порцию джина с тоником и приступал ко второй.
– Вы боитесь летать? – сочувственно спросила Мэри Уорт.
– Да. – Почему, собственно, и не признаться? – Боюсь.
– И совершенно напрасно, – заявил мистер Бизнесмен. Взбодрившись выпивкой, он стал разборчиво произносить слова, а не выхрюкивать их. – Это самый безопасный вид передвижения, когда-либо придуманный человеком. Катастроф с пассажирскими самолетами не было уже много лет. Во всяком случае, в нашей стране.
– А я ничего против не имею, – сказала Мэри Уорт. Она уже выпила половину своего вина, и щеки у нее раскраснелись, а глаза блестели. – Я не летала на самолете пять лет, с тех пор как умер мой муж, но, когда он был жив, мы с ним летали по три-четыре раза в год. Тут, на высоте, я чувствую себя ближе к Богу.
Словно по сигналу в салоне заплакал ребенок.
– Если в небесах так же тесно и шумно, – заметил мистер Бизнесмен, оглядывая салон эконом-класса их «Боинга-737», – то меня туда не тянет.
– Говорят, что самолет в пятьдесят раз безопаснее автомобиля, – сказала Мэри Уорт. – Может, даже больше. Раз в сто.
– Скажите в пятьсот, не ошибетесь. – Мистер Бизнесмен, перегнувшись через Диксона, протянул руку Мэри Уорт. Джин сотворил свое временное чудо, превратив угрюмого человека в дружелюбного. – Фрэнк Фримен, – представился он.
Мэри Уорт с улыбкой пожала протянутую руку. Крэйг Диксон сидел между ними, с прямой спиной, чувствуя себя несчастным, но, когда Фримен протянул руку и ему, тоже пожал ее.
– Ох! – произнес бизнесмен чуть ли не со смехом. – Да вы и вправду боитесь. Но знаете, как говорится, холодные руки – горячее сердце. – И он допил остатки джина.
У Диксона кредитная карта работала всегда. Он останавливался в первоклассных отелях, заказывал первоклассную еду. Иногда проводил ночь с симпатичной женщиной, платя ей сверх таксы за некоторые причуды, которые не были такими уж причудами, по крайней мере, если верить иным интернет-сайтам, которые Мэри Уорт едва ли посещала. У него были друзья среди других экспертов по турбулентности. Они составляли дружную команду, сплоченную не только родом занятий, но и страхами. Платили им более чем хорошо, и они имели массу дополнительных льгот… но в такие минуты, как сейчас, все это не имело никакого значения. В такие минуты, как сейчас, оставался только страх.
Все будет хорошо. Всегда все обходится.
Но в такие минуты, как сейчас, в ожидании предстоящего катаклизма, эта мысль не действовала. И именно это, разумеется, делало его ценным работником.
Десять с половиной тысяч метров. До земли далеко.
4
ТЯН – турбулентность ясного неба.
Диксону она была хорошо известна, но он никогда не оказывался к ней готов. Когда это случилось на сей раз, рейс девятнадцать находился где-то над Южной Каролиной. Какая-то женщина пробиралась к туалетам, расположенным в хвостовой части самолета. Молодой человек в джинсах, с модной щетиной на лице, наклонившись, разговаривал с девушкой, сидевшей через проход от него, и они чему-то весело смеялись. Мэри Уорт дремала, прислонившись головой к иллюминатору. Фрэнк Фримен уже наслаждался третьим стаканом джина и вторым пакетом чипсов.
Внезапно самолет накренился влево и совершил гигантский скачок вверх, содрогаясь и скрежеща. Женщину, направлявшуюся в туалет, швырнуло на последний левый ряд кресел. Молодого человека с модной щетиной бросило головой на ребро багажной полки, и он едва успел выставить руку, чтобы смягчить удар. Несколько человек, сидевших непристегнутыми, подняло над сиденьями, словно на сеансе левитации. Раздались крики.
Самолет, содрогаясь, камнем полетел вниз, потом снова стал подниматься, кренясь теперь в другую сторону. Фримена это застало в момент, когда он подносил ко рту свой джин, и вся жидкость выплеснулась на него.
– Черт! – воскликнул он.
Диксон, закрыв глаза, приготовился умереть. Он знал, что этого не случится, если он сделает свою работу, – именно для этого он здесь и находится, – но раз за разом повторялось одно и то же: он всегда ждал смерти.
Раздался звуковой сигнал.
– Говорит капитан. – Голос Стюарта, как выражаются некоторые спортивные комментаторы, был непробиваемо спокоен. – Друзья, похоже, мы попали в зону турбулентности. Мне пришлось…
Самолет снова сделал устрашающий скачок, шестьдесят тонн металла взлетели вверх, как обуглившийся листок бумаги в трубу дымохода, и тут же обвалился вниз с глухим стуком и скрипом. Салон опять огласился криками. Женщину, направлявшуюся в туалет, которая к тому времени кое-как привела себя в вертикальное положение, снова качнуло, она попыталась удержаться, но не сумела ни за что ухватиться и опять упала, на этот раз на правый ряд кресел. Мистер Щетина скрючился в проходе, держась раскинутыми в стороны руками за подлокотники кресел. Дверцы двух или трех багажных полок распахнулись, и ручная кладь попа́дала вниз.
– Черт! – снова ругнулся Фримен.
– …включить табло «Пристегните ремни», – продолжал капитан. – Приношу извинения, друзья, через несколько минут…
Самолет начал подниматься и опускаться неровными скачками, как камень, прыгающий по поверхности воды.
– …мы снова влетим в спокойную зону, а пока прошу оставаться на своих местах, – закончил Стюарт.
Самолет рухнул в яму, потом снова подскочил, как будто получил пинок снизу. Упавшую в проход ручную кладь подбросило и снова швырнуло на пол. Диксон сидел, зажмурившись. Сердце у него теперь колотилось так быстро, что, казалось, его удары сливаются в один. Во рту ощущался кислый привкус адреналина. Он почувствовал, как кто-то взял его за руку, и открыл глаза. Мэри Уорт неотрывно смотрела на него. Ее лицо было пергаментно-бледным, глаза расширены.
– Мы умрем, мистер Диксон?
Да, подумал он. На сей раз мы умрем. Но вслух произнес:
– Нет, с нами все будет в полном по…
Самолет как будто врезался в кирпичную стену, отчего всех бросило вперед, ремни безопасности врезались в животы. Потом машина стала крениться вправо: тридцать градусов, сорок, пятьдесят… В тот момент, когда Диксон уже не сомневался, что самолет сейчас перевернется, он вдруг сам собой выпрямился. Диксон услышал вопли. Ребенок завывал. Какой-то мужчина кричал: «Все хорошо, Джули, все нормально, все в порядке!»
Диксон снова закрыл глаза и отдался во власть страха. Это было ужасно, но ничего другого он сделать не мог.
Мысленным взором он увидел, как самолет переворачивается, на сей раз до конца. Как огромный реактивный лайнер вываливается из загадочного термодинамического нечто, которое до того держало его в воздухе. Как нос самолета стремительно задирается, потом подъем замедляется, словно повторяя рисунок движения вагонетки на «американских горках» перед первым спуском. Как самолет срывается в свое последнее пике – теперь пассажиры, которые не были пристегнуты, распластаны по потолку, а желтые кислородные маски исполняют свою последнюю тарантеллу в воздухе. Как младенец, продолжая завывать, летит вперед, исчезая в салоне бизнес-класса. Как самолет врезается носом в землю, салон бизнес-класса превращается в смятый стальной букет, прорастающий в эконом-класс побегами проводов, расцветающий лепестками пластмассовых обломков и оторванных конечностей, как вспыхивает пламя и Диксон делает свой последний вдох, сжигающий его легкие, словно бумажные пакеты.
Все это пронеслось перед его мысленным взором за какие-то секунды – может быть, тридцать, но не более сорока – и казалось таким реальным, будто происходило на самом деле. Затем, после очередного скачка, самолет обрел равновесие, и Диксон открыл глаза. Мэри Уорт смотрела на него глазами, полными слез.
– Я думала, что мы погибнем, – сказала она. – Я знала, что мы погибнем. Я видела это.
Я тоже, подумал Диксон.
– Чушь! – Хотя голос Фримена звучал бодро, его лицо было ужасно бледным. – Эти самолеты построены так, что могут пролетать даже сквозь смерч. Они…
Бульканье в горле остановило его просветительскую лекцию. Фримен выхватил из кармана на спинке переднего сиденья санитарный пакет, открыл его и прижал ко рту. Последовал звук, напомнивший Диксону рычание небольшой, но продуктивной кофемашины. Рычание прервалось, потом возобновилось.
Послышался звуковой сигнал.
– Приношу извинения, друзья, – произнес капитан Стюарт. Его голос был все так же непробиваемо спокоен. – Такое иногда случается, небольшой погодный катаклизм, который мы называем «турбулентностью ясного неба». Хорошая новость состоит в том, что я доложил о ней, и другие самолеты будут перенаправлены в обход этой возмущенной зоны. А самая хорошая новость – это то, что мы приземляемся через сорок минут, и я обещаю вам спокойный полет на оставшемся отрезке пути.
Мэри Уорт неуверенно засмеялась:
– Он это уже обещал.
Фрэнк Фримен, с ловкостью человека, делающего это не впервые, завернул край санитарного пакета.
– Не думайте, это вовсе не от страха, обычное укачивание. Я не могу даже ездить в машине на заднем сиденье – меня тошнит.
– Обратно в Бостон поеду на поезде, – сказала Мэри Уорт. – Такого мне больше не нужно, премного благодарна.
Диксон наблюдал, как стюардессы, прежде всего убедившись, что с непристегнутыми пассажирами все в порядке, стали подбирать выпавшие в проход вещи. Салон гудел голосами и нервным смехом. Диксон наблюдал и слушал, сердце его снова билось в нормальном ритме. Он чувствовал усталость. Он всегда уставал после того, как спасал самолет, полный пассажиров.
Завершающий этап полета прошел спокойно, как и обещал капитан.
5
Мэри Уорт поспешила за своим багажом, который должны были выгрузить на транспортер номер два в нижнем зале. Диксон со своей единственной небольшой сумкой зашел выпить в «Дьюарс клабхауз». Он пригласил мистера Бизнесмена присоединиться к нему, но тот покачал головой.
– Я выблевал завтрашнее похмелье где-то над Южной Каролиной – Джорджией и думаю, что надо остановиться, пока я в норме. Удачи вам с вашими делами в Сарасоте, мистер Диксон.
Диксон, сделавший свое дело где-то там же, над Южной Каролиной – Джорджией, кивнул и поблагодарил его. Когда он допивал виски с содовой, пришло сообщение, всего два слова: «Хорошая работа».
Он спустился вниз на эскалаторе. У его подножия стоял человек в темном костюме и шоферской фуражке, с табличкой в руках, на которой было написано: «Диксон».
– Это я, – сказал Диксон. – Где мне забронировали номер?
– В отеле «Ритц-Карлтон», – ответил шофер. – Очень хороший отель.
Разумеется, хороший, и наверняка там его ждет чудесный номер люкс, возможно, с видом на бухту. В гараже отеля, конечно же, стоит арендованная машина – на случай, если ему захочется съездить на ближний пляж или посетить какую-нибудь местную достопримечательность. В номере он найдет конверт со списком женских услуг, воспользоваться которыми ему сегодня вечером едва ли захочется. Единственное, чего ему сейчас хотелось, – это выспаться.
Когда они с шофером вышли из здания аэропорта, он увидел Мэри Уорт, топтавшуюся на тротуаре в одиночестве и явно расстроенную. По обе стороны от нее стояли чемоданы (разумеется, одинаковые, с рисунком в клетку). В руке она держала телефон.
– Миз Уорт? – окликнул ее Диксон.
Она подняла голову и улыбнулась:
– Здравствуйте, мистер Диксон. Мы выжили, да?
– Да, выжили. Вы кого-то ждете? Одну из своих подруг?
– Миссис Йеджер… Клодетт… она должна была меня здесь встретить, но у нее не завелась машина. Я как раз собиралась звонить в «Убер».
Он вспомнил, что́ она сказала, когда турбулентность, длившаяся всего сорок секунд, показавшихся четырьмя часами, наконец закончилась: «Я знала, что мы погибнем. Я видела это».
– Нет нужды, мы можем отвезти вас на Сиеста-Ки. – Он указал на длинный лимузин, ожидавший у тротуара чуть дальше, и, обратившись к шоферу, спросил: – Можем?
– Разумеется, сэр.
Она посмотрела на него нерешительно.
– Вы уверены? Уже очень поздно.
– Доставьте мне такое удовольствие, – ответил он. – Поехали.
6
– О, какая прелесть, – сказала Мэри Уорт, усаживаясь на кожаное сиденье и вытягивая ноги. – Чем бы вы ни занимались, мистер Диксон, дела у вас, судя по всему, идут хорошо.
– Называйте меня Крэйг. Вы – Мэри, я – Крэйг. Давайте обращаться друг к другу по имени. Я хочу с вами поговорить. – Он нажал кнопку, и стекло, отделяющее салон от водителя, поползло вверх.
Мэри Уорт прореагировала на это весьма нервно и, повернувшись к Диксону, спросила:
– Вы ведь не собираетесь, как говорится, ко мне подкатывать?
Он улыбнулся:
– Нет. Вам с моей стороны ничто не угрожает. Вы сказали, что обратно собираетесь ехать на поезде. Вы это серьезно?
– Абсолютно. Помните, я вам сказала, что в самолете чувствую себя ближе к Богу?
– Да.
– Так вот, когда нас месило, как тесто, на высоте десяти или одиннадцати километров над землей, я не чувствовала себя близко к Богу. Отнюдь. Я чувствовала себя близко только к смерти.
– Вы еще когда-нибудь полетите на самолете?
Она не спеша обдумала вопрос, глядя на пальмы, автосалоны и заведения быстрого питания, скользившие мимо, пока они катили на юг по Тамайами-Трейл, потом ответила:
– Наверное, полечу. Если кто-то, например, окажется на смертном одре и мне нужно будет срочно добраться до места. Только вот не знаю, кто это мог бы быть, потому что родственников у меня почти не осталось. Детей у нас с мужем не было, родители мои умерли, есть только несколько двоюродных сестер, с которыми мы обмениваемся электронными письмами, и то редко, не говоря уж о встречах.
Все лучше и лучше, подумал Диксон.
– Но вы будете бояться.
– Да. – Она посмотрела на него широко открытыми от удивления глазами. – Я в самом деле думала, что мы погибнем. Либо там, в небе, если самолет разнесет на куски. Либо на земле, если он упадет. И что от нас останутся лишь обугленные ошметки.
– Позвольте мне кое-что вам поведать в порядке чистой гипотезы, – сказал Диксон. – Не смейтесь, отнеситесь к этому серьезно.
– Хорошо…
– Предположим, существует организация, которая занимается спасением самолетов.
– Конечно существует, – улыбнулась Мэри Уорт. – Кажется, она называется ФУГА[102].
– Предположим, что эта организация способна предвидеть, какой самолет во время полета попадет в неожиданную свирепую болтанку.
Мэри Уорт беззвучно зааплодировала, улыбка ее стала еще шире.
– И, разумеется, работают в ней ясновидящие! Люди, которые…
– Люди, которые видят будущее, – закончил за нее Диксон. А что, разве это не возможно? Или хотя бы не вероятно? Откуда иначе посредник мог получать информацию? – Но предположим, что их способность предвидеть будущее ограничена только одним этим явлением.
– А почему, собственно? Почему они не могут предсказывать итоги выборов… счет футбольных матчей… результаты дерби в Кентукки?
– Этого я не знаю, – ответил Диксон, подумав: а вдруг могут? Может, они умеют предсказывать все, эти гипотетические ясновидцы, сидящие в каком-то гипотетическом помещении? Не исключено, что могут. Но ему это безразлично. – Теперь давайте пойдем немного дальше. Допустим, что мистер Фримен был не прав и турбулентность, с которой мы столкнулись сегодня, представляет собой гораздо более опасное явление, чем кто бы то ни было – в том числе и соответствующие службы авиакомпаний – готов признать. Допустим, что такую турбулентность можно пережить только в том случае, если на борту каждого из таких рейсов находится хоть один пассажир, боящийся летать и наделенный определенными способностями. – Он помолчал. – И допустим, что на сегодняшнем рейсе таким перепуганным и особо одаренным пассажиром был я.
Мэри Уорт весело рассмеялась, но, увидев, что он не поддержал ее, запнулась.
– А как насчет самолетов, которые пролетают сквозь смерч, Крэйг? Помнится, мистер Фримен упомянул о таких самолетах как раз перед тем, как вынужден был воспользоваться санитарным пакетом. Ведь те самолеты остаются невредимыми, попав даже в еще худшую ситуацию, чем мы сегодня.
– Но люди, ими управляющие, знают, что их ждет, – ответил Диксон. – Они морально подготовлены к ситуации. Это касается многих пассажирских рейсов. Пилот еще до взлета предупреждает: «Ребята, простите, но нас сегодня немного поболтает, так что держите свои ремни безопасности пристегнутыми».
– Понимаю… – сказала она. – Морально подготовленные пассажиры могут удержать самолет… кажется, это называется силой коллективной телепатии. Значит, только неожиданная турбулентность требует присутствия на борту кого-то, кто к ней подготовлен? Перепуганного… гм-м… не знаю, как назвать такого человека.
– Эксперт по турбулентности, – тихо ответил Диксон. – Вот как их называют. Так называюсь и я.
– Вы шутите.
– Нет. Не сомневаюсь, вы сейчас думаете, что вас угораздило связаться с человеком, страдающим серьезными психическими отклонениями, и очень хотите поскорее выйти из машины. Но на самом деле это и есть моя работа. И мне за нее хорошо платят…
– Кто?
– Не знаю. Просто мне звонит человек. Мы с другими экспертами по турбулентности – нас несколько десятков – называем его посредником. Иногда между его звонками проходят недели. Однажды прошло два месяца. А на этот раз – всего два дня. Я летел из Сиэтла в Бостон, и над Скалистыми горами… – Он прикрыл рот рукой, не желая вспоминать, но все равно вспомнил. – Скажем просто: нам пришлось худо. Кончилось несколькими переломами рук.
Машина сделала поворот. Диксон выглянул из окна и увидел знак: «СИЕСТА-КИ, 3 КМ».
– Если это правда, – сказала она, – то зачем, помилуй господи, вы это делаете?
– Хорошо платят. Условия отличные. Я люблю путешествовать… во всяком случае, любил: через пять-десять лет все места начинают выглядеть одинаково. Но главное… – Диксон наклонился и взял ее руку в свои ладони. Он думал, что она выдернет руку, но она не выдернула. Она смотрела на него завороженно. – Это спасает человеческие жизни. Сегодня на борту было сто пятьдесят человек. Только в авиакомпаниях их не называют людьми, их называют душами, и это очень правильное определение. Сегодня я спас сто пятьдесят душ. А с тех пор как занялся этим делом – тысячи. – Он покачал головой. – Нет, десятки тысяч.
– Но вы же каждый раз испытываете ужас. Я ведь видела это сегодня, Крэйг. Вы чувствовали смертельный страх. Как и я. В отличие от мистера Фримена, которого вырвало только потому, что его укачивает.
– Мистер Фримен никогда не смог бы делать такую работу, – сказал Диксон. – Ее нельзя выполнить, если ты каждый раз, когда начинается турбулентность, не будешь уверен, что на этот раз умрешь. Ты веришь в это, даже зная, что именно благодаря тебе это не случится.
– Пять минут, мистер Диксон, – тихо сообщил шофер по внутренней связи.
– Должна признать, что это был захватывающий рассказ, – проговорила Мэри Уорт. – Могу я поинтересоваться, как вы получили такую уникальную работу?
– Меня завербовали, – ответил Диксон. – Как я сейчас вербую вас.
Она улыбнулась, но смеяться на сей раз не стала.
– Хорошо, я вам подыграю. Допустим, вам удалось меня завербовать. Что вы от этого будете иметь? Бонус?
– Да, – сказал Диксон. Сокращение срока его дальнейшей службы на два года – вот в чем состоял его бонус. Он окажется на два года ближе к отставке. Насчет альтруистических мотивов – спасения людей, спасения душ – он говорил правду. Но правдой было и то, что он сказал об утомленности путешествиями. И это касалось спасения душ тоже, если оно достигалось ценой неисчислимых моментов ужаса, пережитых высоко над землей.
Следовало ли ему предупредить ее, что, дав согласие, она отрежет себе путь к отступлению? Что это своего рода сделка с дьяволом? Конечно. Но он не предупредил.
Они свернули на закругляющуюся подъездную аллею, ведущую к прибрежному кондоминиуму. Две дамы – без сомнения, подруги Мэри Уорт – поджидали ее у дома.
– Не дадите мне ваш телефон? – спросил Диксон.
– Зачем? Чтобы позвонить мне? Или чтобы передать номер вашему боссу? Посреднику?
– На всякий случай, – ответил Диксон. – Какой бы приятной ни была наша встреча, Мэри, вполне вероятно, что мы больше никогда не увидимся.
Она помолчала, раздумывая. Ожидавшие ее подруги уже приплясывали от нетерпения. Мэри открыла сумочку, достала визитку и протянула Диксону.
– Это мой мобильный. Меня можно также найти в Бостонской публичной библиотеке.
Диксон рассмеялся:
– Я знал, что вы – библиотекарь.
– Все знают. Это немного скучно, но, как говорится, на кусок хлеба хватает. – Она открыла дверцу автомобиля.
Увидев Мэри, подружки завизжали и кинулись к ней, как фанатки – к своему кумиру.
– Существуют более возбуждающие занятия, – бросил ей вслед Диксон.
Она обернулась и серьезно посмотрела на него.
– Есть большая разница между сиюминутным возбуждением и смертельным страхом, Крэйг. Думаю, нам обоим это хорошо известно.
С этим он поспорить не мог, поэтому вышел из машины и помог шоферу перенести чемоданы, пока Мэри Уорт обнималась с двумя своими подругами-вдовами, с которыми познакомилась по Интернету.
7
Мэри вернулась в Бостон и уже почти забыла о Крэйге Диксоне, когда однажды вечером у нее зазвонил телефон. В трубке послышался слегка шепелявый мужской голос. Они немного поговорили.
А на следующий день Мэри Уорт уже поднималась по трапу в самолет, вылетавший прямым рейсом 694 из Бостона в Даллас. Ее место было в салоне эконом-класса, прямо над правым крылом. Среднее кресло. От еды и напитков она отказалась.
Турбулентность внезапно настигла их над Оклахомой.
Джеймс Л. Дикки Падение[103]
Прежде чем вы, со стоном, качая головой, скажете: «Я не читаю поэзию», вспомните, что Джеймс Дикки был не только поэтом; он написал классический роман выживания «Избавление» и менее известный «Белое море» – о стрелке́ бомбардировщика В-29, вынужденном спрыгнуть с парашютом на вражескую территорию. Дикки написал его на основе собственного опыта: в качестве боевого летчика он воевал и во Вторую мировую войну, и в Корее. «Падение» написано с той же повествовательной энергией, таким же великолепно сдержанным языком, как «Избавление». Прочитав, его невозможно забыть. Интересное замечание: Дикки признался, что основная метафора поэмы неправдоподобна (женщина, падающая с такой высоты, по его словам, подверглась бы моментальной заморозке), но такие случаи имели место: например, в 1972 году стюардесса Весна Вулович выпала на высоте десяти тысяч метров из DC-9[104], вероятно взорвавшегося в воздухе, и… выжила. Цитата, приведенная в начале поэмы, взята из статьи, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» 29 октября 1962 года, в которой рассказывалось об инциденте, случившемся на двухмоторном самолете «Конвэр-440» авиакомпании «Аллегейни эйрлайнз» на подлете к международному аэропорту Брэдли в Виндзор-Локс, штат Коннектикут. Месяцем раньше в подобных катастрофах погибли две другие стюардессы.
Двадцатидевятилетняя стюардесса выпала сегодня… из самолета через внезапно открывшуюся дверь аварийного выхода… Тело… было найдено… через три часа после инцидента.
«Нью-Йорк таймс» Свет погасили страны, – дремлют, крутясь с боку на бок, Обращаются в трансконтинентальное нечто. Движутся, свет поглощая Из огромного камня Луны, что повис на крыле самолетном. Бортинженеру сонно, он молит о чашке кофе, — а внутрь, между тем, проникает Нездешний, космический ветра вой. В кухонном отсеке, где громоздятся подносы, Шарит она, в поисках пледа, в форме своей изящной, Чтобы заткнуть щелку над дверью, неплотно прикрытой. И, будто бы настежь ее распахнула, — Крик молчаливый в легких оледеневших, — она вылетает наружу. Кругом пустота, исчез самолет, – и лишь держит ее за горло Неумолчный крик пустоты. Падать. Жить. Готовиться стать чем-то, Чего никогда еще раньше не бывало и не живало. Крик, – воздуха не хватает, — Но есть на губах помада, а на ножках – чулок паутинки. Подогнана тщательно форма, Держится шляпка… но руки и ноги разбросаны странно, будто бы вне пространства. В разреженном воздухе лежа, дышит она – и всем своим телом стремится Сдержать дыханье. Но тут, – а до смерти внизу еще тысячи футов, – внезапно, Как собственной волей, она свой полет замедляет. Ей становится вдруг любопытно. Маневрирует всем телом, – озираясь, чтоб рассмотреть получше. Парит высоко-высоко, В самой срединности бытия, заключенного в бренное тело. Летит, рассекая воздух со свистом, Облаченная в темный свой танец. Тело теряет вес, с гигантских высот устремляясь С легкостью странной, чудесной, – с легкостью сновиденья Или лунного света, который питает тучные пашни Родины чьей-то в одном из центральных штатов. Она ощущает тепло, что разлито В полете ее безбрежном. Дышит все легче и легче тем, что за воздух считает. Окрестный пейзаж Становится человечней, – слева и справа плывут облака, уверенно, строго. Рядком пролетая, она их хватает. К себе прижимает. Лежит и болтает ногами, — Глаза распахнуты ветром, рот жадно вдыхает, вбирая, Полей кукурузных тепло. Лежит она на спине, — Как на гигантских подушках, – вот хоть сейчас повернись К кому-то, кто рядом в постели подарит улыбку. Она понимает: сейчас рассеется тьма. Можно Падать стремительно, птицей бескрылой, — или кружиться безумной гимнасткой В тепле полей, чьи посевы встают под луною летней. Есть у нее еще время Пожить в неземном покое. Поглядеть на земные огни, — далекие, не коснуться! — И на шоссе непременное, – вот его поздняя тачка (бесценная для владельца) Фарами щупает чутко, до городка добираясь. По правую руку ее — Крыло ее правое? – водная ясная гладь поймала луну и скошенным боком играет, Плеща серебром. Господи, зло и добро слились воедино в бесчисленных позах страсти, Танца и сна. Но вот она с тучей столкнулась, – мокрая! Где же плащик? А впрочем, – плевать. Сквозь прорехи в туче мерцают Огни городишек бессчетных. Она опускается к ним, — как струи дождя, Сквозь который стремится вперед одинокий автобус. Свет из автобусных окон ей – путеводная стрелка: Дальше – вперед и прямо! Как искушенный ныряльщик, «Солдатиком» прыгает вниз. Юбка изящно взлетает, — Прямо в лицо тканью, пропитанной страхом. Голы исступленно ноги. Вытянув руки, стремится нащупать опору, — прочное что-то: схватить, удержаться, Дрожь тела унять! А поодаль мелькают перья, — Вытянув шеи, птицы снуют и дивятся. Взглянуть в их глаза золотые, И – откровеньем! – взгляд старой совы, что курятники озирает, Стараясь увидеть цыпленка. Эх, курочки вдруг захотелось! Зренье ее обострилось и ястребу стало подобным. Ярче, крупнее стали огни автомобилей, Товарняков и мостов, что изогнуты аркой, И диска луны, по извивам речным плывущей. Среднего Запада тьма озарилась небесным светом. Кролик в кустах белеет. Цыплята жалобно квохчут, Жмутся друг к дружке. И у нее – там, в небе — Есть еще время пожить, в смутно-упорной надежде, Что долгим будет полет. Паденье. Стремленье, Что самой силой своей способно достичь контроля И изменить самой гравитации суть, обернувшись, — Как повернулась бы вдруг луна стороною обратной, — Новою Силой. Есть еще время жить, дышать, чем дышать невозможно. Целая ночь впереди, – есть время оправить юбку, Что, будто мыши летучей плотные крылья, ее направляет полет. Ее оперенье – из ткани, как у воздушных дайверов с телеэкрана, — Улыбки, блеск глаз под очками да палочка эстафеты. Да ведь и Он, не забудьте, прыгнул без парашюта, — И дружелюбным Дайвером был подхвачен! Но, как ни ищи глазами, – нет белозубой улыбки. Она кричит. Она псалмы распевает, – и напрягает втуне людские жалкие крылья Предплечий окаменевших, и ветер, ласковым зверем, На ухо ей мурлычет страшное что-то. Нет сил удержаться В частичках огромного мира. Смотри, – и сама увидишь, Как быстро теряет земля совершенство форм рукотворных, Теряет – и вновь обретает: все то же, – дома и люди, Ферм огоньки мерцают, Сияет фонарь под крышей амбарной. Ах, если бы в воду она упала, — Выжила б, точно ныряльщик, что с легкостью путь пролагает Сквозь плотную толщу стихии, – черное серебро, Надежное, плотное, то, что лишает дыханья, но замедляет движенье, — Спасительную стихию! Падая в воду, возможно Движенью придать контроль, – ноги вместе, подняты руки, И ты, не сгибая пальцев, иголкой вонзишься в воду, — и вынырнешь благополучно. А там и награда, – бутылка колы. О, где ж они, эти воды, Где эти воды жизни? Да вот же, рядом совсем, — где луна сияет, Плененная кругом объятий пруда берегов. «Ну, что же, начнем сначала: лечу сквозь канзасскую ночь я, – горят глаза исступленно, Пиджачные крылья (от Дона Лопера) плещут, — и чем не сова на охоте? Лети же, сова, туда, где мерцают воды! Нельзя ведь так просто упасть, — Вот взять и запросто рухнуть с задушенным криком? Должен же быть выход?» Так проскочила последнюю облачную преграду, — Мокрая, черт, вся завивка насмарку! — последнюю тучку небрежно, Как шерсти клочок, со щеки отряхнула… и взору ее предстала Новая тьма, и новых огней скопленья, и грязных дорог хаос. Ночь стала теплее, – как заново мир открылся, Непререкаемый мир родного кому-то края, Сияющий камень меж вод, что ее ожидают. Не важно, как и когда! Сильная женщина сможет Тело собрать в кулак и, крыльями пол свой полет направляя, До вод, одержимых луною, добраться, – до вод, что, сияют глазами Канзасской засушливой плоти. До вод, что, в плену у земли пребывая, Ждали ее годами! Ветром полны рукава, Хлопают ветром полы? Конечно. Но что нам сказать О том, кто хрупкое тело ее забросил в небо ночное, — Выискивать след воды, точно жаждущий кролик? Воды, что, как жизнь, лежит где-то там, в канзасских просторах? Она стремится к озерной сияющей наготе. Юбка промокла насквозь. Жарко лицу и ладоням, — Парит от лежащих под нею полей и пастбищ. Там, где-то внизу, Фермерские девчонки, под одеялами нежась, чувствуют смутно, Как скрытые в них богини рвутся на волю и Поднимаются, опираясь о столбики их кроватей. И девушки привстают, грезя о тех знаках, Что посылают женщинам самолеты, Когда пролетают над ними ближе к рассвету, — Над тихими костерками, что горят на полях канзасских. Им бы проснуться, на крыши забраться! Звездами стать бы им, Чтобы увидеть ее! Ну, а к ней все ближе земля и все ближе вода, — Но мимо она пролетает, и берег Уж скрылся за рукавом. В воздухе покрутившись, лицо обращает к востоку, — Там скоро солнце встанет над кукурузным полем. Вода! Что же делать, что делать? Лети же к воде! Упади В водную гладь, испей, вынырни и восстань! Но нет для нее воды, — Сверху всю влагу жадно всосали тучи, Снизу – растенья. Вокруг – лишь Смерть да сухая пустошь. И снова ее полет обратился в паденье, И снова рот разрывается в крике, – том яростном крике немом, С которым упала она из неплотно закрытой двери Выхода самолетного, почти не поняв, что случилось. Она вспоминает форму, скрытую в центре У облачка, что колыхало краями изящно-ажурными. Вспоминает: есть время для смерти таинственной, необъяснимой. Так пусть же летит шляпка на край кукурузного поля в горячем воздухе летнем! Пусть времени ей достанет стянуть уцелевшую туфлю Пальцами ножки второй, необутой, и отстегнуть чулки Твердой рукою, попутно спокойно отметив: До чего же смертельно легко, – прямо в воздухе раздеваться! Гибель все ближе, – а тело все так же послушно Любому движенью, – кроме того одного, что взмыть бы позволило выше И жить, а не падать. А там, внизу, – девять ферм: Восемь сгрудились по краю, а в центре – одна, большая. Поля за фермами – в том же порядке. Назначено место паденья, Его уже не минуешь! Но все же срывает она С себя и пиджак, с серебром его крылышек жалких, И хвост свой летучей мыши – изящную юбку. Искрит синтетика блузки, Липнет к телу белье, – летит она в нем, сияя, как призрак святой девы. Срывает с себя поясок для чулок, и идиотский лифчик, и трусики тоже, — И чувствует, что быстрее кровь побежала по телу свободному, и замечает внезапно, Что поясок от чулок еще держит в руке, – играет им, рвет его ветер. Летит в небеса, взмывая, одежда, – и лишь одинокая туфля С носом опасно-острым, Глупой подобная птахе, все кружится у лица, — не враз отмахнешься. А теперь земля уже СКОРО. По-настоящему скоро! О, никогда, ни от каких еще гор, вершин или пиков американских, Чьим воздухом дышит страна, рожденным в холодных пространствах, На канзасскую щедрую землю, где тучные всходы в полях, Склоняясь под тяжестью зерен, Сами, как фермеры, время считают до жатвы, Дар столь великий не доставался, – вздох ее неземной последний, Взмах последний юной руки над прекрасным девичьим телом, Не поврежденным паденьем, безмерно желанным Любому мужчине, что спит и грезит во сне, – и парнишкам, Не так и давно познавшим, как кровь приливает к паху, И фермерам вдовым, что, на заре проснувшись, под одеялом Сонной рукой проверяют крепость тоски одинокой, Желаньем воздевшей плоть их. Все чувствуют: что-то случилось, А рядом она промелькнула, – ладони и стройные ноги, Точеные нежные груди и тайна меж юных бедер, Ветром вырваны шпильки, и роскошь волос летит за нею свободно. Летит она вольно, открыто, лишь в самый последний миг Старается, чтобы упасть красиво – на спину, навзничь. Ну, вот оно. Случилось. ВОТ И ВСЕ. И всякий, кто теперь ее узреет, окутанную ласкою земли, Что приняла невольно форму тела, — Ведь так силен удар был от паденья, что трещины в земле пошли на мили От места, где лежит она, надежно впечатанная смертью в плоть земную, — Нахмурится, поникнет, глянет в небо… и промолчит, подумав лишь о том, Что этого не выразить словами. Запомнит – в нем самом разбилось что-то, И станет чувствовать себя живей и ближе к смерти, Бесцельно выходя бродить по полю, — Где жесткая незыблемость земли ее оборвала полет девичий, Последнее ей ложе указав. Не шевельнешься, позы не изменишь, — И нет воздушных дайверов веселых, Чтобы ее с улыбкой подхватить и свадебный шатер над ней раскинуть Из шелка парашютного. Ей не носиться больше под дождем с визжащими подружками. Не стать ей Женою, что погибшую заменит. Не стать норвежских девушек богиней иль Вичиты усталых проституток. И все же, все же… нет, еще не сдался над нею воздух. Казалось, уж слетел последний вздох, – но нет: еще чуть-чуть осталось жизни. Лежит она на поле этом навзничь, вдыхая от земли идущий дух, — Дух жизни неизбывной, что ее пытается из плена смерти вырвать, — И краем угасающего зренья пытается еще увидеть что-то. Лежит и верит: на короткий миг, в который сделалась она богиней, Ей все же удалось проделать это: упасть в гладь вод и вынырнуть спокойно, С улыбкою модели из рекламы сверхмодного купальника. Но нет, — Как солнечную ванну принимая, лежит она в луны лучах последних, Почти что поглощенная землею. А рядом, где проходят поезда, Огромная стоит воды цистерна. Она ее могла бы разглядеть, Когда поднять бы голову могла из своего печального укрытья. По Канзасу летит одежек стайка, цепляется за ветки и кусты, За изгородь живую у гольф-клуба. — У лунки прямо туфелька упала! А пояс для чулок — тот приземлился, Каким-то чудом, будто по заказу, на те чулки, каким был предназначен. Повисла блузка на громоотводе, – а девушка лежит, лежит на поле Со сломанной спиной. Как будто бы на облако упала, – да так и не смогла его пробить! Выходят из домов мужчины сонно, – одни, без женщин, — и идут, шатаясь, Склоняясь, словно к водам припадая далеким жизни. В слабом лунном свете Идут они к своей крестьянской жизни, – к плодам обильным фермерских трудов, Политым тяжким потом. А ее уже влечет неведомым путем, – откуда, куда-то? Неизвестно. Последняя попытка сделать вдох. Не получилось. Так. Вдохнуть слабее… Еще разок, еще… еще… О БОЖЕ.Послесловие
Важное послание из кабины пилотов
Хотя полеты на самолетах могут внушать страх, я облетел всю планету и не припомню никаких опасных происшествий. Работая над этой антологией, я провел в воздухе более двадцати четырех часов, и полеты всегда проходили спокойно и гладко (если не считать того, что, начитавшись собранных здесь рассказов, я не мог перестать думать о том, что могло бы случиться). Аварийная посадка в густом тумане – самое страшное, что со мной приключилось за всю историю моих полетов.
Первый раз я летел на самолете в марте 1978 года, во время весенних каникул, когда с группой одноклассников направлялся на экскурсию в Грецию. Наш «Боинг-747» авиакомпании «Алиталия» приземлился в римском аэропорту имени Леонардо да Винчи на следующий день после того, как члены леворадикальной организации «Красные бригады» похитили бывшего премьер-министра Альдо Моро. В аэропорту объявили режим повышенной боевой готовности, и он был наводнен солдатами с пистолетами-пулеметами «узи». Атмосфера была напряженной. Когда один из моих одноклассников прошел через металлоискатель с висевшим на груди фотоаппаратом, чуть не случился международный конфликт.
В другой раз, возвращаясь в Соединенные Штаты из деловой поездки в Японию, мы с моим коллегой узнали, что полицейские, избившие Родни Кинга, оправданы и отпущены на свободу. Это спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, где нам предстояла пересадка, поэтому, услышав неподтвержденные сообщения о том, что люди стреляют по самолетам, которые там приземляются, мы решили изменить маршрут и лететь через Сан-Франциско.
В июле 2017 года, перед бангорской премьерой «Темной Башни», мы с Ричардом Чизмаром сидели в ресторане (по случайному совпадению как раз через дорогу от международного аэропорта Бангор), когда к нам подошел Стивен Кинг.
– У меня только что возникла идея, – сказал он. – Антология рассказов о самых разных несчастьях, какие только могут случиться во время полета. Я напишу предисловие и буду предварять каждый рассказ. – Обращаясь к Ричу, он добавил: – Ты издашь ее. – Он сразу предложил несколько наименований, потом сказал: – Кто-то должен помочь мне найти другие рассказы, – и, повернувшись ко мне, добавил: – Это будет твоей задачей.
Вот так родилась эта антология. Я сразу же подумал о «Кошмаре на высоте 6000 метров» и принялся за поиски других страшных историй, связанных с полетами.
Есть много романов и фильмов, в которых изображаются леденящие кровь сцены в самолетах. Золотой эталон, пожалуй, являет собой написанный Артуром Хейли в 1968 году «Аэропорт». Свою писательскую карьеру Хейли начал со сценария для телевидения под названием «Полет прямиком в опасность» – название, точно соответствующее замыслу нашей антологии. Еще подростком я прочел повесть «Взлетная полоса 08», в которую автор позднее переработал этот сценарий, и уверен, что видел телефильм «Ужас в небесах». По роману «Аэропорт», конечно же, тоже был снят фильм, который в 1970-е годы породил несколько продолжений, но в наши дни, наверное, лучше известна уморительная пародия на него – «Аэроплан». А кто не помнит «Самолет президента», или «Ночной рейс», или «Змеиный полет»? Нет конца всевозможным ужасам, которые могут случиться, когда вы замурованы в металлической капсуле на высоте девяти, десяти, одиннадцати километров.
Как выяснилось, поджанр страшных рассказов о самолетах гораздо менее обширен, чем я думал. Чтобы найти достойных кандидатов, пришлось потрудиться. Поиск в «Гугле» выдал результаты, где доминировали страшные рассказы о реальных происшествиях в воздухе – вроде того, которое упоминает Стив в своем предисловии. Я также исследовал предложения «коллективного разума», запостив вопрос в «Фейсбуке», и был вознагражден рекомендациями текстов, которых сам никогда бы не нашел. Так что – огромная благодарность «коллективному разуму»!
Параллельно с поиском текстов для антологии я работал над эссе для Фонда поэзии[105] и вспомнил, что одна из любимых поэм Стива – он часто упоминал о ней в своих интервью – основана на реальной истории, случившейся в 1962 году, – о стюардессе, которую вынесло из самолета током воздуха через случайно открывшуюся дверь аварийного выхода. Я спросил Стива, как он считает, нужно ли включить поэму в антологию. Оказалось, он уже и сам об этом подумал. Так мы решили завершить книгу подлинной трагедией, превращенной в поэтическую метафору.
Работая над антологией, я также прочел сборник новелл Джо Хилла «Странная погода». Рассказ «На высоте» начинается с того, что некий неуравновешенный молодой человек, пытаясь произвести впечатление на женщину, собирается совершить затяжной прыжок с парашютом. Но в последний момент у него сдают нервы, и он пытается отступить, однако все кончается тем, что ему приходится прыгать, потому что у самолета глохнет мотор. Мы обрадовались, когда Джо сказал, что у него есть другая, глубоко будоражащая идея для рассказа, который идеально ложится в нашу антологию. А Оуэн Кинг обратил наше внимание на рассказ Тома Бисселла.
Охватывает ли этот сборник все ситуации, которые могут случиться во время полета? Конечно нет. Когда я писал эти заметки, пришло тревожное сообщение о пассажире, больном корью, который прошел через контроль в международном аэропорту Чикаго О’Хара. Так что, даже если ваш полет протекал нормально до самой посадки в пункте назначения, кто знает, чем могут наградить вас другие пассажиры – ваши попутчики? Вероятностей неисчислимое множество. Есть над чем поразмыслить, пока вы пакуете чемоданы для следующего путешествия.
Хотя эта антология состоит в основном из рассказов, ранее уже опубликованных, подозреваю, что большинство читателей до настоящего момента были знакомы лишь с несколькими из них. До участия в этом проекте я лично прочел только четыре. Так что для меня это было путешествием, полным открытий, и нам очень нравится состав, который удалось собрать. Когда содержание сборника было уже более-менее определено, я впервые за много лет перечитал «Лангольеров» и нашел неожиданные параллели между этой повестью – а в сущности романом, ведь объемом он один равен всей антологии – и некоторыми рассказами, которые мы отобрали. Конечно, такова вселенная Стивена Кинга, где персонаж по имени Дженкинс размышляет о том, что «невозможно попасть в Техасское книгохранилище 22 ноября 1963 года и предотвратить убийство Кеннеди»[106], так что подобные вещи не должны удивлять, но они удивляют.
Представьте себе, что вы – тот самый Дженкинс, который первым описал их бедствие как «тайну запертой комнаты». В центре повествования одного из выбранных мною для антологии рассказов – также загадка запертой комнаты, имевшая место в туалетной кабинке самолета. Далее Дженкинс говорит, что загадочное происшествие, случившееся в реальной жизни, – неподходящая метафора для их ситуации. «Жаль, что среди нас нет Ларри Нивена или Джона Варли»[107], – сетует он. Постойте… А кто же числится в нашем оглавлении, как не сам мистер Варли?
А потом они спорят о том, как вернуться назад через пространственно-временной туннель. Их решение предположительно могло бы «направить самолет обратно в Джонстаун», как говорит Дженкинс. А откуда появляется багаж в рассказе, открывающем нашу антологию? Да-да, из Джонстауна.
Создается впечатление, что такие совпадения неспроста. Обожаю подобную симметрию.
А теперь важное сообщение от двух пилотов из кабины экипажа. Мы хотим поблагодарить пассажиров этого рейса. Мы знаем, что у вас был большой выбор перевозчиков, и ценим то, что вы согласились присоединиться на борту к нам. Надеемся, полет был не слишком бурный, но вы знали, на что шли, когда садились в этот самолет. Быть может, один из пассажиров помог смягчить суровость некоторых испытаний. Такое, знаете ли, случается.
Благодарим также турфирмы, организовавшие это путешествие для своих клиентов и позаботившиеся о том, чтобы они добрались до конечного и желаемого пункта назначения. Многим пассажирам в этих рассказах повезло куда меньше.
Хотим сказать спасибо нашему экипажу под командованием Чака Веррилла за то, что он помог обеспечить благополучный полет для всех причастных, и наземной команде издательства «Семитри данс пабликейшнс», которая оказывала поддержку самолету в воздухе и отвечала за то, чтобы все в нем находилось в рабочем состоянии, – особенно руководителя команды Рича Чизмара.
А теперь, пожалуйста, обратите внимание на наше табло, верните спинки ваших кресел в вертикальное положение, поднимите откидные столики и закрепите их в спинке переднего кресла, соберите вещи, которые вы, возможно, доставали во время полета, и выключите электронные устройства, которыми вы, вероятно, пользовались, потому что мы начинаем посадку. Она может оказаться жесткой, так что приготовьтесь – это первый полет для вашего второго пилота. Оставайтесь на ваших местах до полной остановки самолета, пока не погаснет табло «Пристегните ремни». Будьте осторожны, открывая верхние багажные полки, поскольку ваши вещи наверняка (черт!) переместились во время полета и тяжелые сумки только и ждут момента, чтобы ударить вас по голове.
Да, и если вы когда-нибудь увидите кого-нибудь, кто будет читать эту книгу в аэропорту или – что еще лучше – на борту самолета, пожалуйста, сфотографируйте этого человека и пришлите нам снимок. Это будет классно!
Бев Винсент Вудлендс, Техас 8 марта 2018 годаОб авторах
Амброз Бирс (1842–1914), наверное, больше всего известен как автор «Словаря Сатаны» и часто включаемого в антологии рассказа «Случай на мосту через Совиный ручей». Он работал учеником наборщика, а после начала Гражданской войны записался в армию северян, получив там опыт, отразившийся в его последующих произведениях. В течение четверти века он писал для разных газет на обоих побережьях. В поисках нового военного опыта отправился в Мексику освещать революцию под водительством Панчо Вильи и исчез там. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Том Бисселл родился в 1974 году в Эсканабе, штат Мичиган. Он является автором девяти книг, включая признанные бестселлерами «Нью-Йорк таймс» романы «Горе-творец» (в соавторстве с Грегом Сестеро) и «Апостол». Его произведения были отмечены Римской премией и стипендией Гуггенхайма. Живет с семьей в Лос-Анджелесе.
Рэй Брэдбери (1920–2012) был автором почти четырех десятков книг, в том числе таких ставших классическими произведений как «451° по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Человек в картинках», «Что-то страшное грядет», а также сотен рассказов. Он писал для театра, кино и телевидения, в том числе является автором сценария для экранизации «Моби Дика» Джоном Хьюстоном и завоевавшей премию «Эмми» телепьесы «Канун всех святых», а также адаптировал для телевизионного «Театра Рэя Брэдбери» шестьдесят пять своих рассказов. В 2000 году был награжден медалью фонда Национальной книжной премии за выдающийся вклад в американскую литературу; в 2007-м стал лауреатом особого упоминания Пулитцеровской премии, а также удостоен множества других наград.
Джон Варли родился в 1947 году в Остине и вырос на побережье Мексиканского залива. Его билетом на свободу от нефтехимической вони и адской влажности стала Национальная стипендия за заслуги Мичиганского государственного университета, куда он отправился с намерением стать ученым. Но естественные науки показались ему скучными. Английская литература тоже, а вскоре и сама учеба как таковая. Он перестал ходить на все занятия, кроме одного – того, где показывали классические фильмы. Вместе с другом он отправился в путь, который привел их в Сан-Франциско как раз к «Лету любви»[108], о котором ни один из них не имел понятия. В первый же день он уже пел и скандировал с Алленом Гинсбергом в лагере хиппи и решил стать одним из них. Он жил в Тусоне, где познакомился с Линдой Ронстадт[109], когда та еще не стала знаменитой. Попал в пробку на севере штата Нью-Йорк, которая оказалась Вудстокским фестивалем. Он не мог выбраться оттуда три дня. От призыва в армию уклонился. В 1973 году решил сделаться писателем-фантастом и стал одним из первых авторов, которого назвали «новым Хайнлайном». Это польстило ему, но и озаботило, поскольку Старый Хайнлайн был высоким образцом для подражания – и притом живым. Его книга[110] была переведена на 16 языков, на которых Джон не читал, в том числе на эсперанто. Потом настал десятилетний перерыв в карьере Варли, когда он работал в Голливуде. Там он зарабатывал хорошие деньги, и однажды даже имел кабинет, выходивший окнами прямо на ворота студии «Метро-Голдвин-Майер». Он был знаком с Мэлом Гибсоном, Полом Ньюманом, Сигурни Уивер, Чарлтоном Хестоном и многими другими звездами. Все они были гораздо ниже, чем он себе представлял – кроме Уивер. (Рост самого Джона Варли – 6 футов 6 дюймов[111] без его ковбойских сапог.) Какое-то время Варли жил в Портленде, Орегон, с Ли Эмметт, которая стала его первым редактором. Она была хорошим редактором и фонтанировала полезными предложениями. У них была общая девятнадцатилетняя собака по имени Сирокко – лучший шелти во всем Орегоне. Несколько лет они прожили в доме на колесах, припаркованном в пятидесяти ярдах от пляжа Центрального побережья Калифорнии. Четыре года провели в Голливуде, в пригороде Тай-Таун. В последнее время живут в Ванкувере, штат Вашингтон.
Бев Винсент (р. 1961) – автор нескольких книг, самая последняя из которых «Товарищ по Темной Башне», и более восьмидесяти рассказов, которые были напечатаны в том числе в журнале «Тайны Альфреда Хичкока», в журнале «Тайны Эллери Куина» и в двух антологиях «Общества американских писателей-детективщиков». Его произведения переведены на несколько языков и номинировались на премию Брэма Стокера, премию «Эдгар» и премию Международной ассоциации авторов триллеров. В 2010 году он стал лауреатом премии Ала Бланшара. Более подробная информация на bevvincent.com или в «Твиттере»: @BevVincent.
Коди Гудфеллоу (р. 1970) написал семь романов и еще три в соавторстве с Джоном Скиппом, автором бестселлеров «Нью-Йорк таймс»; два из четырех его сборников рассказов – «Безмолвное оружие для тихой войны» и «All-Monster Action» удостоены книжной премии «Страна чудес». Он написал сценарий и был сопродюсером фильма в жанре «лавкрафтовских ужасов» «Домашний папа». Как верховный жрец Эзотерического ордена Дракона он председательствует на ежегодных завтраках почитателей Ктулху. Недавно снялся в роли фермера Эмиша в рекламе сети гостиниц «Дейз инн» и часто исполняет эпизодические роли в различных сериалах, в том числе таких как «Водолей», «Американская история ужасов: Роанок», «Блеск», «Ты – воплощение порока», «Кирби Бакетс», «Афроамериканская история», и в видеороликах групп «Антракс» и «Бек». Является также сооснователем «Перилес пресс» – непостоянно действующего маленького издательства, специализирующегося на комиксах ужасов. В настоящее время живет в Портленде, Орегон.
Джеймс Л. Дикки (1923–1997) был американским поэтом и прозаиком, известным прежде всего благодаря своему роману «Избавление», по которому в 1972 году был снят художественный фильм. Сам Дикки выступил в нем в эпизодической роли шерифа. Во время Второй мировой войны служил оператором радара в ночной истребительной эскадрилье ВВС США, а также позднее участвовал в Корейской войне. Получив диплом бакалавра по английскому языку и философии в Университете Вандербильта, окончил магистратуру в том же университете. Преподавал в Университете Райса и Университете Флориды и несколько лет проработал в рекламном агентстве копирайтером. Он начал публиковать стихи в 1960 году, получил стипендию Гуггенхайма и Национальную книжную премию в номинации «Поэзия», был избран в состав консультантов по поэзии Библиотеки конгресса. Проработав бо́льшую часть 1960-х внештатным лектором, в 1968 году получил должность профессора английского языка и писателя, преподающего литературу, в Университете Южной Каролины. В 1966 году он стал восемнадцатым американским поэтом-лауреатом и в 1977 году был приглашен президентом Джимми Картером прочесть стихи на его инаугурации. В июле 1969 года, в день посадки корабля «Аполлон-11» на Луну, он читал свои стихи по телевидению.
Артур Конан Дойл (1859–1930) был врачом и создателем знаменитого персонажа Шерлока Холмса, детектива-консультанта, героя десятков его рассказов и четырех повестей. Дойл также писал исторические романы, в которых действует профессор Челленджер. Он писал о Бурской войне и других событиях, связанных с Африканским континентом, но интересовался спиритуализмом, что породило конфликт между ним и поклонниками Гарри Гудини и Джозефа Маккейба[112]. Его автобиография «Воспоминания и приключения» была опубликована за шесть лет до его смерти.
Стивен Кинг (р. 1947) первый писательский гонорар получил в 1967 году от журнала научной фантастики «Startling Mystery Stories». Осенью 1971 года он начал преподавать английский в старших классах Хэмпденской академии (частной старшей школы города Хэмпдена, штат Мэн). Занимаясь писательством по вечерам и в выходные дни, продолжал сочинять рассказы и работать над романом. Весной 1973 года издательство «Даблдей» приняло к публикации его роман «Кэрри», что позволило ему оставить преподавание и сосредоточиться на писании. С тех пор он опубликовал более пятидесяти книг и стал одним из самых успешных авторов в мире. В 2003 году Кинг был награжден медалью Национального фонда книг «За выдающийся вклад в американскую литературу», в 2014 году – Национальной медалью США в области искусств, а в 2018-м – премией по литературе Американского ПЕН-клуба.
Э. Майкл Льюис (р. 1972) – большой энтузиаст литературы об авиации и призраках – учился писательскому мастерству в Такоме, в Университете Пьюджет-Саунд. Его рассказы публиковались в «Антологии антологий ужасов» («Мегазантус пресс»), «Экзотической готике-4» («Пи-Эс паблишинг») и в «Свирепых зверях» («Грей мэттер пресс»). Имеет аккаунт в «Фейсбуке» и «Твиттере». Родился и всю жизнь живет на тихоокеанском Северо-Западе, имеет двух сыновей и состоит в услужении у двух котов, которые тоже являются братьями.
Ричард Матесон (1926–2013) – автор многих классических романов и рассказов. Он писал в самых разных жанрах, включая боевики, фэнтези, ужасы, мистику, детективы, научную фантастику и вестерны. Кроме книг он написал много сценариев для телевидения (в том числе «Сумеречная зона», «Ночная галерея», «Звездный путь») и кино. Многие романы и рассказы Матесона были экранизированы, в том числе «Невероятно уменьшающийся человек», «Я – легенда», «Где-то во времени» и «Куда приводят мечты». Среди его многочисленных наград Всемирная премия фэнтези и премия Брэма Стокера по совокупности трудов, премия Хьюго, премия Эдгара По, премия Шпоры (присуждается за лучшее произведение об Американском Западе), неоднократно – премия Гильдии писателей. В 2010 году он был введен в Зал славы научной фантастики и фэнтези.
Дэн Симмонс родился в 1948 году в Пеории, Иллинойс, его детство и юность прошли в различных больших и маленьких городах Среднего Запада, в том числе в Браймфилде, Иллинойс, который стал прообразом его вымышленного Элм-Хэвена – места действия таких романов как «Лето ночи» (1991) и «Зимние призраки» (2002). Степень бакалавра по английскому языку и литературе Дэн получил в Уобаш-колледже в 1971 году, на последнем курсе, в 1970 году, завоевав национальную премию общества «Фи Бета Каппа» за достижения в беллетристике, журналистике и искусстве. Степень магистра в области педагогики он получил в Университете Вашингтона в Сент-Луисе в 1971 году. Следующие восемнадцать лет преподавал в системе начального образования: два года в Миссури, два года в Буффало, штат Нью-Йорк – из них один год в качестве специально обученного методиста, другой в качестве учителя в шестом классе – и четырнадцать лет в Колорадо.
Э. Ч. Табб (1919–2010) – писатель, родившийся и живший в Лондоне, его произведения переведены более чем на дюжину языков. За шестидесятилетнюю карьеру у него вышло более ста двадцати романов и двухсот научно-фантастических рассказов. Его творчество включает исторические приключения, детективы, вестерны, но более всего он известен как автор многочисленных научно-фантастических романов, из которых «Чужой прах» (1955) и «Рожденный космосом» (1956) признаны классикой жанра. Табб стал знаменит своей длинной серией романов «Сага о Дюмаресте», повествующей об Эрле Дюмаресте и его поисках легендарной потерянной планеты, где он был рожден, – Земли. В цикл вошло 33 книги, последняя из которых – «Дитя Земли» – появилась в 2009 году. Не меньшей известностью пользовались его переделанный в телесценарий «Космос: 1999» и роман «Кэп Кеннеди» (под псевдонимом Грегори Керн). Некоторые его рассказы были объединены в сборник «Лучшие научно-фантастические рассказы Э. Ч. Табба». Табб продолжал писать до самой смерти, последовавшей в октябре 2010 года, его последняя работа «Пламя Сатаны» была опубликована в 2013 году.
Питер Тремейн (р. 1943) в настоящее время живет в Лондоне. Прежде чем начать писать детективы, завоевал репутацию автора мистических триллеров. Как бывший ученый-кельтолог он всемирно известен длинной серией своих рассказов «Тайны сестры Фидельмы». Действие их происходит главным образом в Ирландии VII века. Последний, 29-й рассказ этой серии вышел в июле 2018 года. Переведенные на многие языки, эти рассказы завоевали такую популярность, что в 2001 году в США было создано «Международное общество сестры Фидельмы», и с 2006 года в Кашеле, графство Типперэри, «родном городе» персонажа, устраиваются международные встречи ее поклонников. Открывая такую встречу в 2014 году, ирландский министр охраны окружающей среды Алан Келли назвал эту серию рассказов Тремейна «национальным достоянием». Детективных рассказов, не относящихся к циклу о сестре Фидельме, Питер написал не много, но «Убийство в воздухе» свидетельствует о том, что его талант не ограничен описанием событий VII века.
Джо Хилл (р. 1972) – автор бестселлеров «Нью-Йорк таймс», написавший «Пожарного», «NOS4A2» и – совсем недавно – «Странную погоду». Поскольку он половину своего времени живет в Соединенном Королевстве, а половину – в Соединенных Штатах, то проводит большую часть жизни в воздухе, размышляя о тех жутких вещах, которые могут приключиться с человеком на высоте шести тысяч метров.
Дэвид Дж. Шоу (р. 1955). Его рассказы в течение четырех десятилетий неизменно отбирались для антологии «Лучшее за год» и вошли в тридцать ее томов. Он завоевал Всемирную премию фэнтези, редчайшую премию (Dimension Award) журнала «Сумеречная зона», а также премию Международной гильдии ужаса за «Растрепанные волосы» (собрание текстов из колонки под названием «Raving & Drooling»[113], которую он вел в журнале «Фангория»). В перечень его романов входят «The Kill Riff», «The Shaft», «Rock Breaks Scissors Cut», «Bullets of Rain», «Gun Work», «Hunt Among the Killers of Men», «Internecine», «Upgunned» и «The Big Crush». Его рассказы составили сборники «Seeing Red», «Lost Angels», «Black Leather Required», «Crypt Orchids», «Eye», «Zombi Jam», «Havoc Swims Jaded», «DJSturbia» и «DJStories». Он много пишет для кино («Ворон», «Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо», «Окровавленные холмы») и телевидения («Байки из склепа», «Причуды науки», «Голод», «Мастера ужасов»). Среди его документальных произведений – «Искусство Дрю Струзана[114]», «За гранью возможного». Продолжение последнего, книга «За гранью возможного в 50», в 2015 году получила премию Rondo Hatton Classic Horror как лучшая книга года. Его можно видеть выступающим в качестве эксперта в документальных фильмах и на DVD, комментирующим разные события и явления («Создание из Черной лагуны», «Злой дух», «Побег из Шоушенка», «Крик и снова крик», «Зверские желания», «Наследие “Психо”»). Он также является редактором трехтомной серии «Утраченный Блох» и книги «Элвисленд» Джона Фарриса. Сопродюсер приложений к таким DVD, как «Бешеные псы», «Из ада», «Я, робот», «Грязная дюжина» и «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Он обладатель самой первой премии Дж. Ф. Гонсалеса за прижизненный вклад в литературу. И это благодаря ему слово «сплаттерпанк» с 2002 года входит в Оксфордский словарь английского языка. Живет и работает в своем любимом Лос-Анджелесе. Непременно посмотрите статьи о нем в «Гугле».
Introduction and story notes © 2018, Stephen King.
«Cargo» by E. Michael Lewis first appeared in Shades of Darkness, Barbara and Christopher Roden (eds.), Ash-Tree Press © 2008. Reprinted by permission of the author.
«The Horror of the Heights» by Arthur Conan Doyle first appeared in The Strand Magazine © 1913.
«Nightmare at 20,000 Feet» by Richard Matheson first appeared in Alone by Night, Michael & Don Congdon (eds.) Ballantine Books © 1961. Reprinted by permission of the author’s estate and Don Congdon Associates, Inc.
«The Flying Machine» by Ambrose Bierce first appeared in Fantastic Fables, Putnam © 1899.
«Lucifer!» by E. C. Tubb first appeared in Vision of Tomorrow #3 © 1969. Reprinted by permission of Cosmos Literary Agency and the Author’s Estate.
«The Fifth Category» by Thomas Carlisle Bissell first appeared in The Normal School © 2014. Reprinted by permission of the author.
«Two Minutes Forty-Five Seconds» by Dan Simmons first appeared in Omni Magazine © 1988. Reprinted by permission of the author.
«Diablitos» by Cody Goodfellow first appeared in A Breath from the Sky: Unusual Stories of Possession, Scott R Jones (ed.), Martian Migraine Press © 2017. Reprinted by permission of the author.
«Air Raid» by John Varley first appeared in Asimov’s Science Fiction © 1977. Reprinted by permission of the author.
«You Are Released» © 2018, Joe Hill
«Warbirds» by David J. Schow first appeared in A Dark and Deadly Valley, Mike Heffernan (ed.), Silverthought Press © 2007. Reprinted by permission of the author.
«The Flying Machine» by Ray Bradbury first appeared in The Golden Apples of the Sun, Doubleday & Company © 1953. Reprinted by permission of author’s estate and Don Congdon Associates, Inc.
«Zombies on a Plane» by Bev Vincent first appeared in Dead Set, 23 House Publishing © 2010. Reprinted by permission of the author.
«Murder in the Air» by Peter Tremayne first appeared in The Mammoth Book of Locked Room Mysteries and Impossible Crimes, Mike Ashley (ed.), Robinson © 2000. Reprinted by permission of the author.
«The Turbulence Expert» © 2018, Stephen King.
“Falling” © 1981 by James L. Dickey. Published in Falling, May Day Sermon, and Other Poems, Wesleyan University Press. This Poem originally appeared in The New Yorker. Reprinted by permission of the author’s estate and Raines & Raines.
Afterword © 2018, Bev Vincent.
Примечания
1
Аэропорт является основной воздушной гаванью для нескольких чартерных операторов и летных школ, а также корпоративных и частных воздушных судов. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Американский дальний военно-транспортный самолет. Эксплуатировался ВВС США в 1965–2006 гг.
(обратно)3
Вертолет вспомогательного назначения.
(обратно)4
Мазь из различных маслянистых веществ и растений, обладающих успокаивающими свойствами, например, ментола, эвкалипта, камфоры.
(обратно)5
Международный аэропорт Манилы.
(обратно)6
Bitchseat – худшее место в средстве передвижения, обычно зажатое между двумя «законными» местами; пассажир, сидящий на нем, не только сам испытывает неудобства, но и доставляет их соседям (англ.).
(обратно)7
Болтанка в чистом небе – жаргонизм в речи пилотов, означает турбулентность ясного неба (ТЯН), в отличие от других видов атмосферной турбулентности не сопровождающуюся значительной облачностью, поэтому ее трудно предвидеть заранее.
(обратно)8
Город в Центральноафриканской Республике.
(обратно)9
Авиабаза США на Аляске.
(обратно)10
Паек из набора готовых к употреблению продуктов.
(обратно)11
Так у автора. Документально зафиксировано, что упомянутый полет совершил другой брат, Уилбур.
(обратно)12
Ежемесячный иллюстрированный журнал беллетристики. Издавался в Великобритании с 1891 по 1950 г. В журнале печатались такие авторы, как Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Герберт Уэллс и другие классики детективного, приключенческого и фантастического жанров.
(обратно)13
Возвышенность в графстве Уилшир, где находится Стоунхендж, одно из самых больших и известных в мире доисторических каменных сооружений.
(обратно)14
Вихрь, водоворот (фр.).
(обратно)15
– 17,78 °C.
(обратно)16
1 акр = 4046,86 кв. м.
(обратно)17
Родман Эдвард (Род) Серлинг (1924–1975) – американский сценарист, драматург, телепродюсер и рассказчик, известный своими телевизионными драмами 1950-х годов и научно-фантастическим сериалом «Сумеречная зона». Серлинг работал только со сценаристами, которых уважал, в том числе с Ричардом Матесоном. Рассказ «Кошмар на высоте 6000 метров» лег в основу одной из серий «Сумеречной зоны».
(обратно)18
«Дуглас» DC-7 – американский винтовой авиалайнер для линий средней и большой протяженности.
(обратно)19
Цитата из стихотворения Роберта Браунинга, называемого «Год у весны» или, чаще, «Песенка Пиппы» и являющегося отрывком из пьесы «Пиппа проходит». Перевод Н. Гумилева.
(обратно)20
Ежегодный конгресс Европейского общества научной фантастики.
(обратно)21
Песня «Come fly with me» (музыка Джимми Ван Хэйсена, стихи Сэмми Кана) была написана в 1957 г. для Фрэнка Синатры и стала заглавной песней его альбома, выпущенного в 1958 г.
(обратно)22
Кресло, соответствующее форме тела человека.
(обратно)23
«Меморандум о пытках» (2002) – свод юридических обоснований, которые позволяли администрации президента Джорджа Буша-младшего разрешать применение жестких методик допроса, в том числе так называемую «пытку водой» и принудительное лишение сна. В июне 2004 г. часть документа просочилась в прессу.
(обратно)24
Креационизм – отрицающая эволюцию мировоззренческая концепция, согласно которой все основные формы органического мира рассматриваются как непосредственно созданные Творцом.
(обратно)25
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г.
(обратно)26
Бисквит с кремом, американское пирожное, исключительно популярное в США. Расхожая шутка, которая неоднократно обыгрывалась в фильмах и книгах и даже стала своеобразным мемом, заключается в том, что твинки целиком сделаны из химии, поэтому могут храниться сколько угодно долго.
(обратно)27
Министр юстиции, генеральный прокурор США с 2004 по 2007 г.
(обратно)28
Широкомасштабная операция против партизан во время Вьетнамской войны в период с 1967 по 1972 г. Ее целями были выявление и нейтрализация ключевых фигур партизанского движения на территории Южного Вьетнама посредством убийств, похищений и систематического применения пыток. Программа была разработана ЦРУ и проводилась полицией и спецслужбами Южного Вьетнама.
(обратно)29
Мероприятие, на котором любой желающий может выступить на сцене перед зрителями.
(обратно)30
В германо-скандинавской мифологии богиня любви и войны.
(обратно)31
Патологическое состояние, характеризующееся преждевременным старением организма.
(обратно)32
Советник по юридическим вопросам (2001–2005) и глава администрации (2005–2009) вице-президента Дика Чейни.
(обратно)33
Заместитель министра обороны США в 2001–2005 гг.
(обратно)34
Главный юрисконсульт министерства обороны США при Джордже Буше-младшем.
(обратно)35
Заместитель генерального прокурора Альберто Гонсалеса при Джордже Буше-младшем.
(обратно)36
Эшкрофт Джон Дэвид (р. 1942) – американский политик. С 2001 по 2005 г. генеральный прокурор США.
(обратно)37
Английское сокращение от Вьетнам (Vietnam).
(обратно)38
ВСРВ (Вооруженные силы Республики Вьетнам) – вооруженные силы государства Республика Вьетнам (также известного как Южный Вьетнам), созданные в 1955 г. и прекратившие свое существование в 1975 г.
(обратно)39
Белл UH-1 «Ирокез», американский многоцелевой вертолет фирмы «Белл хеликоптер текстрон», также известный как «Хьюи», один из самых массовых в истории вертолетостроения.
(обратно)40
Космический центр Кеннеди.
(обратно)41
Линейный кумулятивный заряд.
(обратно)42
Дьяволята, бесенята (исп.).
(обратно)43
Наркотики (исп.).
(обратно)44
Здесь: взятка (исп.).
(обратно)45
Доткомы – компании, работающие в сети Интернет.
(обратно)46
Якобиния, или юстиция, – растение из семьи акантовых, родиной этих растений считается Латинская Америка.
(обратно)47
Дерево бикса орельяна, произрастает в тропической Америке, мякоть его плодов издавна используют для изготовления оранжево-красного красителя.
(обратно)48
Снотворное средство.
(обратно)49
Город на северо-западе Мексики.
(обратно)50
Имеется в виду американский журнал «Научная фантастика Азимова».
(обратно)51
Электрошоковое оружие, поражающим элементом которого является «электрическая пуля», представляющая собой миниатюрный электрошокер, выстреливаемый в цель при помощи огнестрельного или пневматического оружия и прикрепляющийся к цели при помощи игл с рогами, после чего электрический разряд от пули передается на цель.
(обратно)52
Классический герой научной фантастики, капитан звездолета в XXV веке, который, проснувшись после пятивекового сна, освобождает Америку от нашествия монгольских завоевателей, а затем и Вселенную – от космических злодеев.
(обратно)53
Одно из «уличных» названий ЛСД.
(обратно)54
Кика́пу – индейский народ Северной Америки, в настоящее время кикапу проживают в Канзасе, Оклахоме, Техасе и Мексике.
(обратно)55
Отсылка к скабрезному анекдоту.
(обратно)56
Паукообразные существа из романа Роберта Хайнлайна «Звездный десант», обладающие способностью проникать в мозг своей добычи и высасывать из него всю память и все знания.
(обратно)57
Музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, кей-поп превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире.
(обратно)58
Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology) – университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США. Одно из самых престижных технических учебных заведений США и мира.
(обратно)59
Билли Боб Торнтон (р. 1955) – американский актер, сценарист, режиссер и певец, удостоенный премии «Оскар» за сценарий к фильму «Отточенное лезвие» (1996).
(обратно)60
Число Маха полета летательного аппарата – отношение скорости полета летательного аппарата к скорости звука в данной точке атмосферы. Названо по имени австрийского ученого Эрнста Маха.
(обратно)61
«Жажда смерти» (1974) – американский кинофильм режиссера Майкла Уиннера, снятый по одноименному роману Брайана Гарфилда.
(обратно)62
Пляж в Тумоне, крупном туристическом центре на острове Гуам.
(обратно)63
В-1 «Лансер» – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик.
(обратно)64
Международная неправительственная организация «Женщины за мир», выступающая за мир и социальную справедливость, за прекращение войн, развязанных США, и международного милитаризма, за перенаправление ресурсов на здравоохранение, образование и пр.
(обратно)65
Марка мексиканского пива.
(обратно)66
Наименее населенная территория Канады. Юго-запад ее занимает часть материковой Канады, остальное – большинство островов Канадского Арктического архипелага.
(обратно)67
Столица Нунавута.
(обратно)68
Шуточное название, применяемое к Аппалачскому региону, особенно его центральной части, которая тянется от Пенсильвании до Кентукки.
(обратно)69
РПИ – район полетной информации (англ. FIR – Flight Information Region).
(обратно)70
Сплаттерпанк – вид литературы ужасов, где подчеркнуто гротескная фантазия соседствует с натуралистическими сценами кровавого насилия.
(обратно)71
Фирма Глена Мартина разрабатывала и поставляла бомбардировщики американской армии с 1920 г.
(обратно)72
Американский легкий учебный самолет. Использовался для обучения летчиков-истребителей в армии США во время Второй мировой войны.
(обратно)73
В-24 «Либерейтор» – американский тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны.
(обратно)74
Первая часть фамилии в переводе с английского означает «пшеница».
(обратно)75
Авиабаза Шипдем была первой американской базой для тяжелых бомбардировщиков В-24 в Норфолке во время Второй мировой войны.
(обратно)76
Сборно-разборные сводчатые постройки из рифленого металла, использовавшиеся как ангары для самолетов и склады.
(обратно)77
Так называли «Боинг» В-17 – первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик.
(обратно)78
Флюгирование винта – поворот во время полета самолета лопастей воздушного винта в такое положение, при котором вклад винта в лобовое сопротивление самолета становится минимальным.
(обратно)79
Страны «оси» – военный союз Германии, Италии, Японии и других государств, которому во время Второй мировой войны противостояла антигитлеровская коалиция.
(обратно)80
En route (англ. заимствование из фр.) – по пути, в пути.
(обратно)81
Восьмая воздушная армия США, дислоцированная в Англии во время Второй мировой войны.
(обратно)82
Название сорта пива.
(обратно)83
Германское 88-миллиметровое зенитное орудие.
(обратно)84
Спасательный надувной жилет «Мэй Уэст» был назван в честь голливудской звезды тридцатых годов, славившейся своими пышными формами.
(обратно)85
Бортовое радиоэлектронное оборудование.
(обратно)86
«The Way You Look Tonight», песня из кинофильма «Время свинга».
(обратно)87
Название пришло из игры в пул, когда все шары должны быть загнаны в лузу в определенном порядке, за исключением черного шара, который идет под номером восемь. Если какой-либо другой шар коснется восьмерки, игрок подвергается штрафу. Если восьмерка находится перед шаром, который должен быть загнан в лузу, игрок находится в крайне уязвимой позиции.
(обратно)88
Бак, предотвращающий утечку топлива при его повреждении.
(обратно)89
Слово «Roger» в 1927 г. было выбрано для фонетического обозначения буквы «R», которая также является первой буквой в слове «received» (принял, получил).
(обратно)90
На радиожаргоне – «проверка».
(обратно)91
Left waist – левый край средней части фюзеляжа (англ.).
(обратно)92
Шутливая фраза в радиопереговорах американских летчиков Второй мировой. Восходит к истории о пилоте, возвращавшемся после блестяще выполненного задания в приподнятом настроении и на полученные с земли инструкции вместо принятого «Роджер» (вас понял) произнесшем: «Роджер-доджер» (на сленге – любимец женщин). Получив от начальства нагоняй за неуставной ответ, пилот ответил: «Roger Dodger, you old codger!», что можно перевести как: «Вас понял, старый чудак».
(обратно)93
Закон, принятый в 1944 г., согласно которому лицам, служившим в вооруженных силах во время Второй мировой войны, выделялись стипендии для получения образования и предоставлялись другие льготы.
(обратно)94
Имеются в виду цвета американского флага.
(обратно)95
Воинственный клич бравого полисмена Джона Макклейна (Брюс Уиллис) из «Крепкого орешка», позаимствованный из припева песни, которую исполнял актер и певец Рой Роджерс.
(обратно)96
Американская рок-группа, примечательная смешением жанров.
(обратно)97
«Боинг-747», дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет часто называют «Джамбо джет» – по имени знаменитого слона-гиганта Джамбо.
(обратно)98
От лат. fac totum (делай всё) – доверенное лицо, исполняющее различные поручения.
(обратно)99
Суета сует, все – суета! (лат.)
(обратно)100
Генри У. Лонгфелло. Псалом жизни. Перевод И. Бунина.
(обратно)101
Остров в Мексиканском заливе у побережья Флориды.
(обратно)102
Федеральное управление гражданской авиации США.
(обратно)103
© Перевод Н. Эристави, 2018.
(обратно)104
«Дуглас» DC-9 – двухдвигательный реактивный ближнемагистральный самолет.
(обратно)105
Фонд поэзии базируется в Чикаго. Имеет библиотеку, состоящую из 30 000 томов только поэтических книг, и издает журнал. Существует на пожертвования.
(обратно)106
Перевод В. Вебера.
(обратно)107
Перевод В. Вебера.
(обратно)108
Это лето 1967 г., когда в квартале Сан-Франциско под названием Хейт-Эшбери собралось около ста тысяч хиппи, знакомых и незнакомых, чтобы праздновать любовь и свободу, создав уникальный феномен культурного бунта.
(обратно)109
Линда Ронстадт – американская певица и автор-исполнитель, одна из зачинательниц кантри-рока, обладательница одиннадцати премий «Грэмми».
(обратно)110
Вероятно, имеется в виду книга «Как стать фантастом».
(обратно)111
198,1 см.
(обратно)112
Джозеф Мартин Маккейб (1867–1955) – английский писатель, ученый-философ, бывший католический священник, разочаровавшийся в вере. Обличал спиритизм как явление, не имеющее научного основания.
(обратно)113
Название известной песни группы «Пинк Флойд», которое можно перевести как «В бреду и пуская слюни».
(обратно)114
Дрю Струзан – известный американский художник, автор постеров более чем к 150 картинам, включая «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Рэмбо», «Назад в будущее».
(обратно)
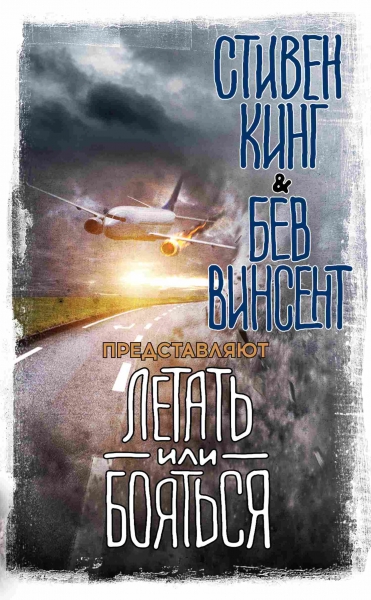


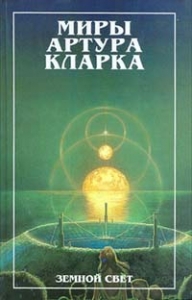
Комментарии к книге «Летать или бояться», Эдвин Чарльз Табб
Всего 0 комментариев