Козинец Людмила ПОЛЁТЫ НА МЕТЛЕ
Дочке Ольге
…«Тара-рам-тара-рам, та-рарара-а!» — и так далее. Это гремит «Прощание славянки», от перрона отчаливает поезд, заполошные голуби бросаются с карнизов старого вокзала в плотный жаркий воздух. Девушка, которая только что целовалась у вагона с плохо скрывающим скуку молодым человеком, медленно побрела прочь, размахивая на ходу букетом темных пряных роз. Она остановилась у фонтанчика, приподнявшись на цыпочки, пристроила букет в верхней чаше каскада, посмотрела на цветы неприязненно и отчужденно.
Во ненормальная, да восемь раз мне начхать бы на этого малохольного, а цветы-то, да еще такие, зачем бросать? Хотя, тут у них на юге они не в диковинку, вон даже фонарные столбы у вокзала заплетены ползучими стеблями. И бело-розовые грозди мелких роз, и оранжевые кисти каких-то невиданных колокольцев, и лиловые кудри глицинии. Красота! И мороженое вкусное, и солнышко шпарит вовсю, и диплом запакован в чемодане, да здравствует свобода!
Ну так. Пломбир я съела, разбитного таксиста шуганула — еще чего, я желаю ваш город в подробностях рассмотреть, желаю ножками, ножками эту землю попробовать, так что кати-ка ты, друг… Эй, подожди! Скажи, как на Сиреневую пройти? Ага… понятно, второй поворот направо… Мерси и чао!
А теперь сумку на плечо, чемоданчик в руку и марш-марш под затихающие звуки «Славянки».
Буквально в сотне метров от разноцветного бедлама привокзальной площади начались тишайшие улочки, белые домики под красной черепицей, живые стены винограда, роскошные цветники. Я напилась воды над замшелой каменной раковиной чешимы — татарского источника, вырубленного в меловом откосе холма, помыла там абрикосы, подобранные у изгороди сада. Дела-а… Абрикосы на улицах валяются. А вот Светка, бедная, распределение на Воркуту получила. Ей там, небось, не видать абрикосов. Ну ничего, я ей сушеных пошлю, вот только бы добраться до улицы Сиреневой, бросить вещи и переодеться. Джинсы мои превратились в какие-то раскаленные латы. И в кроссовках горячо.
Свернула с улицы Тюльпанной на Фруктовую, а через квартал вышла на Сиреневую. Дом номер двадцать пять…
Он прятался в глубине замощенного желтым кирпичом двора. Я поставила чемодан, уселась на него и, ощутив историчность момента, принялась разглядывать дом, где мне предстояло прожить долго… Может быть, и всю жизнь.
Домишко был славный. Первый этаж сложен из кремового ракушечника, немного потемневшего от времени, второй — обшит узкой доской. Выше мансарда, куда прямо со двора вела деревянная лестничка в два оборота. Возле лестнички на кирпиче двора лежал плетеный половичок. На перилах укреплены ящички с настурциями. В мансарде распахнуто плохо промытое окно, с подоконника свешиваются кружевные заросли душистого горошка. По карнизу гуляет горлица, горделиво поводя украшенной переливающимся ожерельем шейкой. На крыше — две трубы (печное отопление, прелесть какая!) и телеантенна, почти сплошь заплетенная хмелем. Ну и ну… А я-то думала, что таких домишек нынче и не существует.
В окне мансарды показался какой-то человек, на носу которого поблескивали старомодные очки в круглой железной оправе. Он свесился вниз, примят красные цветы горошка, внимательно посмотрел на меня и неприятным голосом сказал:
— Ну чего расселась? Заходи…
Я поволокла чемодан наверх. Значит, обитать я буду в этой живописной мансарде. Здорово! Вот только лестница скрипит, но это мы в два счета поправим. Найдутся же там молоток и гвозди?
Комната оказалась очень большой и светлой, хотя и запущенной до безобразия. Ну только что грибы по углам не росли. Пыль там не вытирали, по-моему, со времен постройки.
Я бухнула чемодан на пол и опять уселась на него, разглядывая комнату и ее хозяина. Вернее — бывшего хозяина. Я же приехала.
Он сидел на единственном в комнате стуле самой мною нелюбимой породы мебели. Знаете эти канцелярские чудища с прямыми дерматиновыми спинками… Впрочем, хозяин был не лучше. Давно пенсионного возраста, этакая мышь белая. Вокруг лысины седенькие клочки, глаза красные, длинный подвижный нос в характерных лиловых прожилках. Усики мушкой. Одет в полотняную рубаху, какой-то гибрид толстовки с френчем. Накладные карманы, в одном из которых торчит вечное перо. Подпоясан узеньким ремешком с металлическими бляшками, штиблеты на босу ногу. Прямо ильфопетровский персонаж, сохранился же до наших дней. Музей по нему плачет…
Глядел он на меня скорбно и неодобрительно. Ну, еще бы. Вам время тлеть, а нам цвести. Гони-ка, бывший хозяин, ключи и выметайся-ка отсюда. Я мыть стану.
Он словно прочитал мои мысли. Пожевал губами, тяжко вздохнул, мол, что поделаешь, начальству виднее, а вот попомните его слово, провалят эта пигалица всю работу…
— Значит, так, — проскрипел он. — Жить будешь здесь. Горячей воды нету. Газ. Удобства. Телефон. Там — кухня. Здесь — картотека. Советую отнестись со вниманием, я двадцать лет собирал. Все они, голубчики, тут. А вот эти — особо… — он замялся.
Явно чуть не сказал «опасные», но просто махнул рукой, передавая мне брезентовую сумку, набитую бумагами и перетянутую кожаными ремешками.
— Найдешь их легко, они нынче не скрываются, не то, что раньше. Каждый вечер либо на Пушкинской болтаются, либо в кофейне на Архивном спуске околачиваются. А через них и на остальных запросто выйдешь, они все кучкой держатся, как идиоты непуганые. Ты не в потолок смотри, ты меня слушай!
— Да ладно, разберусь я…
— Ишь ты, «разберусь»… Годов-то тебе сколько?
— Ну, двадцать два. А что?
— Присылают кого ни попадя. У нас район сложный, я же сигнализировал!
— Я вам не нравлюсь?
— Это ты мальчикам нравься. А я должен пост на надежного человека оставить. Молода ты, и вижу я, что ветер у тебя в голове. Что ж, в Лицее никого постарше и посерьезнее не нашлось? Сюда мужика бы надо…
— Ничего, справлюсь. Будьте благонадежны. Можете себе спокойненько оставлять свой пост.
— А ты не груби старшим. Думаете, как у вас лицейское образование, так уже можно нос драть. Мы в свое время Лицеев не кончали, а работали не за страх — за совесть, пользу приносили. Так нет же — пожалте на пенсию, а на ваше место — пигалицы с дипломами. Вы наработаете… Вот ты, к примеру, у тебя чего в дипломе написано?
— Обыкновенно, как у всех…
— А покажь, покажь…
Я пожала плечами и полезла в чемодан. Извлекла на свет темно-синюю книжицу и подала ее старику. Он повертел диплом в руках, раскрыл и внимательно прочитал.
— Ишь ты… Лицей Муз… окончила полный курс… присвоена специальность «Маргарита». Это как же понимать?
— А что?
— Ну вот у меня в документе все четко написано — старший уполномоченный. Все ясно. Потом, в шестидесятые, присылали тут какую-то, у ней в дипломе специальность «Муза». Так тут семидесятые начались, она вещички собрала, арфу запаковала и уехала, я опять же на пост заступил. А ты… что это за новости — «Маргарита»?
— Долго объяснять. Устала я и есть хочу.
— Ничего, ничего… ты в двух словах.
— В двух? Попробую. Вот эта ваша знакомая муза — у нее какие задачи были?
— Обыкновенно, как от века ведется. Вдохновлять этих вот всех, которые у меня в картотеке записаны.
— Ну вот. А нынче времена другие, дядя, их вдохновлять не требуется. Им помогать нужно. А «Маргарита»… это из Булгакова позаимствовали, для краткости и полноты определения. Маргаритой я буду работать, понятно?
— А хоть лешим, мне-то что… Навыдумывают тоже… Булгаков…
Он мне страшно надоел, а потому я решительно подошла к старенькой кушетке возле покатой стены мансарды и сбросила с нее тюфяк и подушку. Не могу я спать на матрасе, на котором спал этот… старший уполномоченный.
Он правильно понял намек. Встал, расправил свою толстовку, сгоняя складки на спину. Вояка тоже…
Скрипучая лестница сыграла отходную прежнему хозяину мансарды. А я пошла на кухню, раскрыла там все шкафчики, но обнаружила только две кружки с отбитой эмалью, полкило сушеного гороха и пачку соли. Да уж, быт придется начинать воистину с нуля. Ну ничего, мы запасливые. В чемодане у меня батон сухой колбасы, кулек конфет, хлебцы и чай. Пока в кружке закипала вода, я сидела на подоконнике и обирала крупную черную шелковицу, которой оказались усыпаны ветви старого дерева, заглядывающие прямо в окно кухни. Ей-богу, обед получается совсем неплохой.
— Эй, привет!
Среди листвы появилось веселое лицо, украшенное рыжими вихрами.
— Привет…
— Ты теперь здесь жить будешь? Я видел, ты с пожитками пришла. А этот… где?
— Слушай, ты влезай сюда, карниз там хлипкий, я видела.
— А чаем угостишь?
— Обязательно. Только воду надо греть в другой кружке, чайника-то нету.
— Это мы враз!
И он перемахнул через подоконник. Был это худой гибкий парнишка лет восемнадцати, одетый в оливковые шорты, полукеды, цепочку с медальоном и линялый шейный платок.
— А ты откуда приехала?
— Из Москвы.
— Ого! Здорово! Нет, это классно, что ты теперь тут жить будешь. Соседи, как узнали, что старикан съезжает, обрадовались.
— А что так?
— Да ну… осточертел всем. Уж больно поучать любил. И жалобы обожал писать. А меня так и вообще видеть не мог.
— Представляю себе. У тебя ведь наверняка маг, гитара, мотоцикл и два десятка друзей. Шуму!
— Все точно. А ты что, тоже шума не любишь?
— Да нет… я не к тому. Когда плохо поют не люблю. Ты где живешь-то?
— А тут же, на втором этаже. А тебя как зовут?
— Зовут? Ольгой…
Звали меня совсем не Ольгой, но теперь это имя будет моим на долгие годы.
— А меня Кешкой. Слушай, это, конечно, все очень вкусно, но не собираешься же ты питаться одними конфетами?
— В общем-то, нет. Я мясо люблю.
— Ага. Я тоже. Пойдем, я тебе магазины покажу, которые поблизости. Тебе же туда каждый день ходить придется.
— Да я прибраться хотела…
— Ты одна не управишься. Давай так — я сейчас кое-кому звякну, через час все будут здесь, а мы пока пожрать чего купим. Идет?
— Постой, постой, кто здесь будет?
— Да разные. А я тряпок у матери попрошу, порошка там, соды.
Словом, он меня уговорил. Пока я переодевалась, он звонил этим самым «разным». И когда мы вернулись из магазинов, нагруженные хлебом, маслом, баклажанами, перцем, огурцами, картошкой, сыром, копченой ставридой — чем угодно, но только не мясом, — на ступеньках сидело пять парней и три девушки. Я сразу отказалась от мысли запомнить их по именам — это было невозможно, так они мелькали, орали, бегали и стояли на голове.
Кешка, к моему удивлению, выгнал всех из кухни и сам, принялся возиться у плиты. Вскоре оттуда поползли такие запахи, что как-то сразу вспомнилось: а ведь весь месяц выпускной экзаменационной сессии я питалась почти исключительно пирожками и бутербродами. Кешкина команда между тем в два счета выкинула из мансарды все барахло, включая тюфяк и подушку, обмела стены, вымыла окна, двери и полы, починила лестницу и даже цветы полила. Невероятно, но скоро мансарда буквально заблестела. Два парня потребовали у меня денег, сбегали в магазин и принесли новенькие одеяло, подушку и два комплекта постельного белья. Не забыли и веселенький чайничек с цветочками, и полдюжины стаканов, и сахарницу, и дешевые чайные ложки, и вилки… Целое приданое! Не забыли и три бутылки совсем легкого дешевого вина.
Наконец гости мои с удовольствием расселись на прохладном свежевымытом полу, и Кешка внес из кухни противень, на котором шипело и брызгалось маслом самое вкусное блюдо из всех, мною когда-либо пробованных. Кешка поступил просто и остроумно: он мелко нарезал копченую ставриду и баклажаны, перец и помидоры, обжарил все это на противне и засыпал тертым сыром. Уговаривать никого не пришлось. Вкуснющую острую еду запили вином, которого досталось каждому по три глотка. А потом Кешка чинно попрощался и увел всех с собой.
Подозрительно деликатный мальчик, я-то уже приготовилась к тому, что сейчас появится гитара и начнутся посиделки до утра — естественная моя плата за помощь.
Но они ушли. И слава Богу — я устала. Застелила постель, влезла под одеяло и еще раз осмотрела свое жилище. Что ж, неплохо. Стол есть, на нем лампа, стул этот я завтра же выкину. Кушетка еще послужит — ребрами чувствую, пружины крепкие. А вот картотеку надо бы спрятать с глаз долой, у меня же люди бывать станут, а тут эти ящики с бланками. Хорошо бы компьютер, а то все по старинке работаем. Эх, бедность наша…
Ворковала горлица на карнизе. Рассветный ветер тронул ветви шелковицы, черные ягоды просыпались на пол и подоконник. За воротами кричала молочница.
Я выглянула во двор. Возле столика для домино разминался Кешка. Он двигался очень быстро и совершенно бесшумно, присев пружинисто, проделывал короткие серии ударов по воздуху, лягался тощими ногами. Новомодные веяния и сюда докатились… Кешка играл в Черного Дракона.
Он поднял голову и увидел меня. Помахал рукой, изобразил совершенно уже головоломный финт и шепотом — было все-таки еще очень раннее утро завопил:
— Меня мать на рынок гонит, пойдем вместе?
Ну что ж, пойдем.
На рынке мы быстро укупили все по списку Кешкиной матери, съели по большущей горячей лепешке. Я тоже наполнила корзинку, не удержавшись от соблазна покупать вишни за рубль кило и мелкие желтые сливы по восемьдесят копеек.
Было воскресенье, и Кешке не терпелось избавиться от домашних повинностей — он уговорился с друзьями поехать на побережье. Пригласил и меня. Пришлось отказаться, как ни хотелось окунуться в соленую упругую волну. Я еще никогда не видела моря… Мелькнула в окне вагона какая-то серая лужа, но это ж не море…
Быстро же я отогрелась после Москвы: в полдень высунула нос на улицу и поняла, что не хочу я лезть в это пекло. Город притих. Полдень.
Полдень… Сильно, терпко пахнут цветы, над раскаленным асфальтом струится кипящий воздух, голуби толкаются у лужицы возле водоразборной колонки, посреди двора в тени старого тутовника валяется ошалевшая кошка, которая смотрит на голубей прямо-таки с отвращением.
Полдень… У бочки с теплым квасом спит продавщица, осы лениво ползают по лотку, поблескивая слюдяными крылышками. Проехала поливальная машина, россыпь капель задела ноги продавщицы, но она не проснулась, только дернула ногой, уронив босоножку. Прошла дама под белым зонтиком, четко стуча каблучками, ровно ставя изящную туфлю, презирая жару. Остановилась под каштаном, прикрываясь его корявым стволом, оглянулась смущенно и сняла свои красивые туфли, освобождая красные распаренные ступни. И дальше пошла босиком. Пламенный полдень.
Пойду в город вечером. А пока займусь полезным делом: посмотрю картотеку.
Я выставила на стол ящики, вынула из них стопки желтых библиотечных карточек. Над ними заклубилась невесомая золотистая пыль.
А пошло оно все… Не хочу я этого читать. Не хочу я знать, за кем тут присматривал «старший уполномоченный», что он карябал своим вечным пером на волокнистом картоне. Не видела я, что ли, такой «документации»? Хоть и пари держать, записана там всякая гадость — был, имел, привлекался, исключен, разведен…
То, что называется компромат.
Я сгребла карточки и сунула их в печку. Веселый огонь сожрал двадцатилетние труды старшего уполномоченного. Все, ребята! Ничего я про вас не знаю, будем знакомиться заново, постараемся забыть про красную рожу старшего уполномоченного. Иные времена! Мои времена!
Вечером я вышла на разведку. В седьмом часу город все еще был горяч, но тихо-тихо, еле ощутимо текла по ногам синяя прохлада, полная ледяных иголочек. Вот тебе и на — кто бы подумал, что в этом пекле вечером не обойтись без куртки или свитера. Да ну, авось после промозглой Москвы не замерзну и в красной маечке с портретом Б.Г. А уж Б.Г. меня и на северном полюсе согреет…
Идиотская, кстати, маечка. Ничего не попишешь — она у меня нечто вроде спецодежды. Это еще можно вытерпеть, а вот каково приходится некоторым моим коллегам!
Я вспомнила, как однажды на практике в Калуге сидела под тентом автовокзала и вдруг почувствовала спиной взгляд. Особенный такой взгляд. Оборачиваюсь — Алка с факультета музыки. Сидит в компании каких-то длинноволосых задохликов и этак значительно на меня смотрит — дескать, не узнавай, не подходи, я на задании. Специальность Алкина — «Йоко». Это в честь жены Леннона. Значит, вокруг нее сейчас сплошные глинки и чайковские. Поглядела я на них — и не понравились они мне. Но это еще что… Костюмчик на Алке был… я бы сразу застрелилась, если бы меня заставили надеть эту черную рокеровскую броню из негнущейся подделки под кожу… с заклепками… цепями… бр-р-р…
Между прочим, Лицей у нас почти сплошь женский. Этакий монастырь искусств. По слухам, лет пять тому назад затесался один занудный очкарик. Закончил курс, распределился, а через неделю явился в деканат со скандалом и двумя фингалами, расположенными под его очками строго симметрично. Поэты, к которым его распределили, оказались отнюдь не златокудрыми ангелами с лютнями в изящных перстах. Они, видите ли, не сошлись с выпускником нашего славного Лицея в толкованиях понятия творческого метода.
Деканат повздыхал и отправил незадачливого молодого специалиста в небольшой южный город — опекать феминисток из редколлегии самодеятельного журнала «Мона Фэна». Журнальчик этот оттачивал зубки на диетических сухариках — опусах начинающих фантастов, пишущих для женщин. Поработал молодой специалист в этом городке несколько месяцев, после чего страницы «Моны Фэны» стали подозрительно напоминать бесконечное продолжение похождений Дон Жуана.
…Город потихоньку оживал после огненного полудня. Улочки заполнялись народом, выползла откуда-то пестрая молодежь в одеждах, за которые в Москве еще год тому назад выдавали дипломы райотдела милиции в виде протокола о неподобающем поведении в общественных местах. Я отвлеклась на одну очень интересную модель — весьма смелые брючки из белой трикотажной сеточки… интересно, а как прикажете это кроить? Сеточка же тянется по всем направлениям… а если с подрезом… Модель свернула в переулок, отмеченный синей табличкой «Архивный спуск». Ага. Значит, вот здесь и собираются эти «непуганые идиоты», как выразился бывший старший уполномоченный. Ну, поглядим, поглядим…
В кафе вела узкая высокая дверь. Разойтись вдвоем в ней было невозможно, поэтому минуты три мы — я и какой-то молодой человек танцевали менуэт вправо-влево, пытаясь уступить друг другу дорогу. Но спасибо — сзади поднажали, и я все-таки попала в полутемный зальчик. Удивительно, но пахло настоящим крепким кофе, очередь — человек пять, натюрмортик над стойкой — явно оригинал. Симпатично, прохладно, уютно. Я взяла большую чашку кофе — чтоб надольше хватило — и скромно пристроилась в уголке, возле окна, откуда было видно весь зальчик.
Народу постепенно прибывало. Почти все вели себя здесь, как завсегдатаи и старые знакомые. Очередь как таковая перестала существовать, у стойки вилась небольшая толпа, в которой говорили все сразу.
— Тетя Нина, привет! — это буфетчице. — О, Стас, ты откуда взялся? Трепали, что ты на Домбае… — это сильно загорелому блондину с надменным выражением лица. — Девушка, у вас не занято? — это мне.
— Тетечка Ниночка, мне, как всегда. И вот эти книги передайте Женьке, и скажите ему, что он свинтус. Нет, больше ничего не говорите. Да что мучаешься, мать? Сдался тебе этот Жано! Ну, если уж так нужен, оставь записку тете Нине, завтра он тебе сам позвонит. Чего? Во вторник! А пошли они, надоели, я на Горького больше не ходок. Ну, это, положим, брехня, я его позавчера видел с какой-то девицей лейб-гвардейского роста. Женька!!! Иди сюда, тут тетя Нина должна была тебе сказать, что ты свинтус, так я сам тебе это скажу! Да-да-да, запись у него на радио, кому ты мозги пудришь? Я твой голос вообще слушать не могу, особенно, когда ты про рекламу штанов нашей швейной фабрики… всегда выключаю… Принес? Ага, почитаем…
Я слушала обрывки бесед, городские новости и сплетни, продолжения старых споров, выяснения древних обид, постепенно замечая, что поток их превращается в водоворот, точно сходясь к трем персонажам.
Это именно они — загорелый блондин, высокий очкарик с лицом аксеновского студента и чрезвычайно подвижный человек из породы вечных мальчиков — были центром внимания публики.
Мои или не мои? И тут Стас — тот самый загорелый блондин — жестом фокусника достал из рукава довольно внушительную рукопись. Его кофейная компания притихла и впилась глазами в первую страницу. Хорошо смотрели — с завистью, жадностью, предвкушением: Ну, мы этому графоману как щас да-а-дим! Мои. Точно.
Очкарик осторожно, крадучись потянул рукопись к себе и тут же нарвался на претензию со стороны вечного мальчика:
— Женька, руки прочь! Я первый читаю! Я, можно сказать, у колыбели стоял…
— Лежал ты у колыбели, — ехидно уточнил очкарик. — Когда идею обкашливали, ты дрых.
— Клевета! А впрочем… давайте купим чаю, пирожков и пойдем ко мне. Читать будем вместе.
Стас, чуть кокетничая бархатистым баритоном, сказал:
— Я читать не буду, я это уже читал, и глаза б мои на это не смотрели. А вслух — не дождетесь, я охрип. Мы на Домбае одну ненормальную сутки разыскивали — оборались в горах.
— Нашли?
— Ага. В койке у директора турбазы.
Компания уходила. Эх, мне бы сейчас с ними… Сидеть заполночь в незнакомой кухне, пить черный чай, весело рассказывать автору рукописи, почему он идиот, зачем от родительницы своей произошел и отчего это безнадежно, хохотать над блистательно остроумными, но совершенно невспоминаемыми наутро шуточками и подначками… Ладно, идите себе, чижики, будет еще мой час. Еще мне ваши гениальные рукописи поперек глотки встанут. Знаю по практике. Две недели семинара молодых прозаиков в еловых снежных лесах Подмосковья — три объяснения в любви и глубокое отравление на полгода: ни книг, ни рукописей, ни умных разговоров выносить невозможно. Людей пугаться начинаешь, от громких голосов шарахаешься.
В старом парке над тихой речушкой звенела гитара. На скамейке кантовалась развеселая банда здоровенных горластых парней. И чего они тут, на юге, все такие красивые? Витаминов много, что ли…
Я прошла мимо, дернув плечом на обязательное: «Девушка, девушка!» Но, словно брошенный в спину цветок, меня остановила песня. Догнала лихая, горькая баллада, явно собственного сочинения. Это, знаете ли, сейчас редкость. И кто же это у них такой способный? Я обернулась.
Парень, допев балладу, уставился на меня ехидно-выжидательно. А глаза у тебя, друг, нехороши. Больные глаза. И баллада твоя повышенной температуры.
Он смутился, опустил ресницы. А его жизнерадостные дружки, конечно же, заинтересовались произведенным впечатлением:
— Девушка, девушка, ну как песенка?
— Песенка? А ничего песенка…
Я подошла поближе, жестом попросила уступить мне место рядом с автором.
— Ничего песенка… А сонет наверное слабо написать?
— Ч-то?!
В синих глазах полыхнуло изумление. Ребята притихли. Он обвел своих друзей растерянным взглядом и поджал губы.
— Слабо… ничего не слабо! Сонет наверное, подумаешь…
— А что, это интересно. Как договоримся?
— А ты приходи завтра в семь в кофейню на Архивном спуске. Я принесу.
В кофейню на Архивном спуске… И этот оттуда же. Впрочем, чему удивляться? Не так уж часто на садовой скамейке можно обнаружить парня лет двадцати, который бы знал, что такое баллада и сонет наверле.
— Зовут тебя как?
— Саня. А ты?..
— Ольга. Я филолог, понимаешь, вот мне и любопытно…
— Я так и понял. Пойдем, провожу, что ли.
Знакомство, так сказать, сделано. Вот и первая ниточка к моим гениям и талантам…
Саня оказался веселым, что называется, развесистым, парнем. Только странное это было веселье. Какая-то застарелая боль грызла его изнутри. А теоретики утверждают, что таланту страдать необходимо, что-де литература произрастает исключительно на душевных болезнях. Удобное рассуждение.
Простились на углу, уговорившись о завтрашней встрече.
Я, стараясь не скрипеть ступенями, взбежала к себе в мансарду. Умылась, заварила чаю. Ну что ж, первый день работы можно считать удачным. Сразу четверо. Новый роман и сонет наверле. И мне вдруг очень захотелось посмотреть этот сонет немедленно. А почему бы и нет?
Я сделала необходимые пассы над белым пластиком стола. Пахнуло дымком, проскочила искра, и на столешницу шлепнулась увесистая стопка стихов, исполненных на жутко разбитой старой машинке «Москва».
…Ну, конечно, так я и думала. Вполне сонеты и не только наверле. Ну и что? Такие вещи пишутся для друзей. Такие вещи публикуются исключительно для десятка человек — высоколобой элиты. Такие вещи можно спокойно печатать и столь же спокойно не печатать. Ничего от этого не изменится не умножится в мире мера добра, не уменьшится мера зла. И всех бед от непубликации — автор остается без мизерного гонорара и столь же небольшой известности. А то, что это вот и есть Литература, никого не волнует. Душа автора в расчет вообще не принимается. Ладно, разберемся. Но для начала мне нужно несколько крепких, бесспорных, так сказать, произведений. Надо же с чего-то начинать…
А вот это стоп, с этого мне начинать не хотелось бы. Я осторожно сняла с плеча Санечкину руку, которую он пристроил, сделав вид, что сильно заслушался стихами. Стихи читал Дар — уже знакомый мне человек из породы вечных мальчиков, бывший профессиональный актер, выгнанный последовательно из трех местных театров. За что выгоняли — я не очень поняла. Скорее всего, за характер. Стихи в его прочтении — блеск, мини-спектакль, хоть билеты продавай. Вот и народ собрался, обступил нашу лавочку, молчит, слушает, дышит.
Я люблю этих сумасшедших. Вот этих, которые посреди города, на перекрестье двух центральных проспектов могут устроить турнир трубадуров или на полном серьезе сыграть под окнами райотдела милиции бой Тибальта и Ромео, или моментом втеревшись в доверие к трем сопливым девчонкам, выпросить у них мелки и расписать серый бетонный забор немыслимыми фантазиями…
Дар закончил, откинул с глаз белую прядь, закурил. Поглядел вокруг снисходительно — ясно, мол, вам, чижики? «Чижики» робко захлопали. Кто-то попросил у Дара автограф, рыжая девчонка кинула в него спелым яблоком, еще одна сделала Дару такие глазки, что в них, казалось, был написан номер телефона. Из кофейни притащили дымящиеся чашки.
И тут над нашей скамейкой нависла глыба жаркого потного мяса, упакованная в трикотаж с крокодилом. Глыба небрежно смахнула с края скамейки двух мальчишек, плюхнулась рядом с нами и, дыша перегаром, обратилась к Дару:
— Слышь, мужик, классно ты это… Я тебя уважаю. Ты не подумай чего, мы люди простые, но поэзию эту самую понимать можем. Вот я тут… кореша мои, Серега с Васей… Изобрази еще, а?
Дар нехорошо побледнел и сузил глаза.
«Крокодил», Вася и Серега плюс минимум две поллитры и цистерна пива это серьезно. А вот Дар, Стас и Саня — не очень-то. Девчонки и вся кофейная компания вообще вне расклада.
Собственно, располагала я неким стратегическим оружием, но сильно секретным. Демонстрировать его сейчас — завалить всю работу, еще не начав.
«Крокодил» выжидательно покачивался, нависая над ладной, но миниатюрной фигуркой Дара. А тот, не замечая искательно протянутую ему пачку «Мальборо», четко, чеканно начал произносить совсем не изящные словеса. Хотя, впрочем, поэзия такими не гнушалась, известны прецеденты.
Минуты три «Крокодил» ошеломленно разбирался в подробностях адреса, названного Даром. А потом Дар, естественно, получил свое. Рикошетом попало и Сане.
Я отмывала окровавленные их физиономии в комнатке за буфетом. Тетя Нина проливала горькие слезы и одеколон на устрашающие, но в общем неопасные ссадины двух невольников чести.
— Та що ж ты, Дарочко, связався с теми скаженными? Та воны ж пьяни, що ты им зробыш? Та прочитав бы им якогось виршика, та и пишлы б воны соби…
Дар, не отвечая, скрутил комбинацию из трех пальцев и мрачно ткнул ею в сторону предполагаемого местонахождения «Крокодила».
Гордый. Люблю. Но трудно.
Мы вышли из кафе с черного хода. Настроение было поганое. Шли молча, Дар держал руки в карманах, пинал ни в чем не повинный камушек и злился. Санечка попытался независимо насвистывать, но разбитые губы не слушались. Он пару раз сплюнул кровью, потом купил мороженое и, не раскрывая пакетика, приложил его к своим боевым ранам. И вдруг без всякой видимой причины залился краской до ушей, задышал бурно и торопливо нырнул в ближайшую клумбу, даже не простившись с нами. Донесся сочный хруст ломаемых стеблей и листьев.
— Чего это с ним?
— А… сейчас цирк начнется. Пошли отсюда.
— Почему? Я как раз очень цирк обожаю…
— Хочешь посмотреть? Неудобно вроде… А, ладно. Все равно не сегодня, так завтра кто-нибудь тебе растреплет про эту историю, а может, и сам Санька не утерпит. Он же у нас местное радио. Если хочется быстро и бесплатно распространить новость, сообщи ее Сане. Через день весь город будет знать. Давай-ка вот сюда встанем.
Дар уволок меня под зеленый занавес плакучей ивы напротив летнего ресторана.
У входа как раз остановился серебристый «вольво». Вот тебе и провинция… экие тут автомобильные звери водятся… Из машины вышел седой элегантный мужчина, которого так и хотелось назвать мелкопоместным светским львом. Он не спеша обошел машину, изящно согнул стан, открыл дверцу. На асфальт ступила узкая ножка в длинной черной туфельке, потом пролился подол вечернего платья, скрыл точеную щиколотку, и наконец появилась… Темная Звезда.
Она лениво подтянула легкое манто из лебединого пуха, тонкими пальчиками подобрала шелковый подол, другой рукой опираясь на крепкий локоть «светского льва».
Они поднимались по ступеням к двери ресторана, не замечая прижавшегося у колонны Саньку, который смотрел на Темную Звезду во все глаза, держа у груди примерно половину оборванной им клумбы. Спутник Темной Звезды толкнул зеркальную дверь, и тут Санька швырнул под ноги женщины охапку цветов. Она мельком глянула, и на лице ее явственно нарисовалось неудовольствие. Шевельнула блестящей бровью и проследовала в зал. Светский лев секунду колебался, — идти ли за своей дамой, либо объясняться с дерзким мальчишкой.
Кажется, Саньку сейчас опять будут бить. Для одного дня это уж слишком. Дар рассудил так же. Он вылез из-под ветвей ивы и заорал:
— Санька! Вот ты где! А мы тебя ищем! Иди сюда!
Джентльмен правильно оценил ситуацию. Он молча скрылся за зеркальной дверью. Санька медленно подошел к нам.
— Видали фраера? Э, жаль, спугнул ты его, Дар. Надо было тебе орать? Я б с ним потолковал…
— Потолковал бы он… Пижон, дешевка. Ты хоть знаешь, кто это?
— А в гробу я его видал, кто бы он ни был.
— Ну, в гробу мы тебя увидим, если ты захочешь с ним толковать. Это Сабаневский.
Немая сцена. Фамилия явно произвела впечатление на Саньку. Он как-то тяжело задумался.
— Слушайте, парни, я тут человек новый. Объясните мне, кто такой Сабаневский, чтобы и я ненароком не собралась с ним толковать. Ребята засмеялись. Дар снисходительно посмотрел на меня, вернее, на мою маечку с портретом Б.Г. и джинсы.
— Ты, Оля, не волнуйся. С тобой толковать он и сам не захочет. Ему, понимаешь ли, телеса в гарнире из меха и жемчуга требуются.
— Он что, такой бедный?
— Да нет… я даже поверю в то, что жемчуга он снимет, взамен алмазы повесит, но дело не в этом. У него просто взгляд поверх твоей головы поставлен. У него все — дамы, а ты…
Да уж. Вот чего нет — того нет. Не дама я. Вот же язва… и не обидишься ведь.
— …А чтоб ты знала — Сабаневский бывший тренер сборной. Чемпион мира, олимпийский и так далее. Крутой боец был.
— Так был же… это все в прошлом…
— Да, конечно, теперь он — местная достопримечательность, но позвоночник Саньке сломать вполне еще может. Да и не в том беда… Темный он, неясный человек…
— Ой, парни, не делайте мне смешно, как говорят в Одессе. Тоже мне, граф Монте-Кристо!
— Да бог его знает. Но ведет себя соответственно, это точно.
Санька, не отрывая глаз от ресторанной двери, вдруг попросил:
— Дар, у тебя деньги есть? Завтра отдам.
— Во-первых, нет денег. А во-вторых, даже если бы и были, я тебе сейчас не дал бы!
— Это еще почему?
— Что я — не вижу? Туда намылился?
— Сдается мне, Дар, что не твое это дело…
— Ну чего ты там забыл? Ведь знаю, как все будет. Сначала сядешь за дальний столик, спросишь водки и соленый огурец, пить начнешь, да на нее пялиться, потом пойдешь приглашать на танец, плохо при этом стоя на ногах. Тебе брезгливо откажут. Ты попробуешь наскандалить, Сабаневский молча вышвырнет тебя из кабака и, между прочим, будет прав. Ты обплачешь все ступени, дожидаясь, когда они выйдут, но не дождешься, а уснешь возле колонны — прямо на холодном цементе. И если не придут дружинники и не вызовут ментовку, то утром ты поимеешь красивое воспаление легких. А дальше — представляешь? Неделю ты будешь валяться в бреду, призывая ее. Потом ваш участковый эскулап скажет над тобой отходняк, тебя уложат в гроб, и мы, рыдая, понесем его на своих плечах. Ты будешь лежать строгий и прекрасный, покинувший сию юдоль скорбей. Стихи свои ты завещаешь ей. Однажды ночью, в глубокой старости она вдруг надумает их прочесть. И восплачет, и раскается, бия себя в усохшую грудь, отдаст бриллианты в Детский фонд, а сама удалится от мира, дабы в тесной келье отмолить у Бога страшный грех — гибель юного поэта по ее вине…
Дар балагурил, но сам напряженно ловил взгляд Саньки. А тот улыбался насильственно, и лихорадочный румянец цвел на его щеках, и губы сохли в жажде и нетерпении. Безнадежен. Все симптомы налицо.
Этого мне только не хватало. Самый никудышный из вариантов, когда вот такой дворовый щенок влюбляется в юную пантеру из королевского зверинца. Чаще всего это плохо кончается.
И, между прочим, я в такую любовь не верю. Что-то тут есть от болезненной жажды самоутверждения.
И что я могу сделать? Взять огнетушитель и поливать Санечку, пока не остынет?
Я отложила все эти размышления на потом. А пока, изо всех сил болтая пустяки, мы увлекли Саньку от сияющего огнями ресторана, где сидел страшный Сабаневский с Темной Звездой.
На вокзале мы слопали по две порции чебуреков, после чего Санька собрался домой, а я поехала к Дару, чтобы получить для прочтения рукописи. Это просто удивительно, до чего легко молодые авторы раздают свои творения всем, кто соблаговолит проявить к ним хоть какой-нибудь интерес. У Дара засиделись, пили чай, трепались. Домой я возвращалась заполночь, и Дар меня не провожал. Я вообще никогда не позволяю себя провожать, потому что мне необходимо вот это время — от встречи с человеком до моего дома. Мне думать надо.
В городе было тихо — провинция рано отходит ко сну. Ни ветерка, листва садов кажется вырезанной из черного камня, облитого сиянием полной луны. Остро пахнет горячей пылью, горьким тополем и самой отчаянной парфюмерией: зацвела ленкоранская акация. Розовыми кисточками ее цветов засыпаны улицы. Розовыми кисточками и… белыми буквами.
Я вдруг поняла, что уже давно ступаю по строчкам стихов, написанным на бетонных плитках тротуара.
Крупные буквы строчек сонета блестящим ковром поднимались на две ступени крыльца, вели через парадный вход, небольшой вестибюль. Сонет заканчивался у двери, обитой вишневым дерматином, привалившись к которому спад Санька. Из его испачканных пальцев выкатился почти стертый кусочек мела.
Я представила себе, как вернется из ресторана Темная Звезда. Машина подкатит к самому крыльцу, стирая колесами сонет. Немного пьяная женщина, покачиваясь на высоких каблуках, войдет в вестибюль, быть может, заметит, что испачкала подол платья, досадливо отряхнет ладонью — и на мозаичный пол просыплется слово «вечность». У двери она остановится, чтобы найти ключи. И увидит Саньку. Спящего, беспомощного, нежного. Она отопрет замок, шипя сквозь зубы. А потом пнет мальчишку носком бальной туфельки и громко захлопнет дверь. А если за ней еще будет идти Сабаневский…
Тухлые дела. Заберу-ка я его отсюда. Если даже Темная Звезда не придет сегодня домой, Саньке утречком будет несладко понять, что она уехала с Сабаневским.
Как же я его потащу? А, ладно, глухая полночь, будем надеяться никто не увидит. Тем более — нам недалеко.
Я провела ладонями над телом уютно сопящего Саньки. Тело медленно поднялось в воздух, безвольно распрямилось, расправилось. Санька возмущенно фыркнул, потыкал кулаком воздух под головой, перевернулся на бок, поджав ноги. Я осторожно провела плывущее в невесомости тело сквозь дверь подъезда.
Так мы и проследовали по безлюдной улочке: я, вытянув левую руку с раскрытой ладонью, а над ладонью покачивался безмятежно дрыхнущий Санька. У перехода тело вдруг зависло, отказываясь двигаться дальше. Я напряглась — ни в какую. Санька упорно висел в полутора метрах над землей. Что такое? Я огляделась. Ну, конечно. Красный свет на перекрестке. Рефлексы у парня, однако…
Добрались мы благополучно. Но когда мы, так сказать, поднимались по лестничке в мансарду, неожиданно раскрылось окно во втором этаже. Высунулась лохматая голова Кешки. Глаза его были закрыты. Кешка душераздирающе зевнул во всю пасть, помотал головой и проснулся.
— А, это ты. Привет… Чего так поздно? Я ждал, ждал…
Тут он замолк, разглядев распластанное в воздухе тело Саньки.
— А… это… кто?
— Да так, приятель один.
— Перебрал, что ли?
— Угу.
— Бывает…
И Кешка скрылся. М-да. Феноменальный молодой человек.
В мансарде я пристроила Саньку в уголке. Он висел в сантиметрах двадцати над полом. Утром, когда он проснется, тело его успеет незаметно опуститься на оленью шкуру, служившую мне ковриком.
И снова кухня, чай, стопка совсем не того, что вы подумали, а просто стопка рукописей и… думы мои, думы!
Денек выдался. Полосатый «Крокодил», тщательно скрывающий обиду Дар, который достаточно умен, чтобы не утешаться сознанием интеллектуального превосходства. Да еще эта Темная Звезда…
Собственно говоря, зачем мне лезть в личные дела Санечки? Пусть себе на здоровье погибает из-за этой шикарной дамочки. Но, во-первых, они мне очень не нравится. Ну очень. А во-вторых, слишком жирно ей будет. Санька, можно сказать, народное достояние. По нашей лицейской классификации типичный «моцарт». И не нужны мне его дурацкие трагедии, а нужны его стихи. И стихи Дара, кстати, тоже.
Черт его знает, сложные какие-то стихи. Своя система образов, словотворчество фонтаном, весьма вольное обращение с ударениями. Хуже всего то, что Дар обожает наделять общеупотребительные слова только ему известным значением. Чтобы эти стихи понять, надо чувствовать, надо видеть мир так, как их автор. Где же это Дар собирается искать такого читателя?
И полуграмотный к тому же! Корову через «а» пишет! Поэт, тоже…
Но… знаете, как он назвал простоквашу? «Молоко в бреду». Перебредившее молоко…
Я машинально выключила свет. Что? Уже утро?
В комнате завозился Санька. Пора кипятить чай.
Когда я вошла, Санька сидел на оленьей шкуре и вполне невинно таращился на меня.
— Я вчера чего?..
— А ничего. Засиделись, заболтались, ты и уснул в уголочке. Пей чай.
Через две недели я включилась в работу на полный ход. Телефон вякал постоянно, ступеньки лестницы в мансарду опять разболтались под ногами многочисленных посетителей, рукописи циркулировали с постоянством каботажного флота, мне начали сниться рифмованные сны. Прозаики пока не торопились со мной общаться, но так бывает всегда — первыми слетаются поэты, корпус быстрого реагирования.
Я очень старалась, чтобы мой дом не стад похожим на литературную контору, а сама я — на хозяйку модного салона. Пока что мои рифмоплеты видели во мне просто симпатичную девчонку с хорошим образованием, которая готова была бесконечно терпеливо слушать и читать их опусы. Ну, хобби у девчонки такое. И опять же — живет девчонка одна, без родителей и мужа, прийти можно в любое время и в любом составе. И сидеть хоть сутками. Удобно. Санечка как-то целый вечер читал прелестные стихи — явно не свои. Сначала интриговал, а потом назвал имя автора — красивое женское имя. Я отметила его в памяти, а стихи… они уже лежали в ящике стола, записанные на желтых кленовых листьях. Для непосвященного — гербарий, да и все. А то эти ребятки, страдающие избыточным демократизмом, и в стол мой свободно лазают.
Однажды Дар привел с собой Матвея и гитару. Ну, как он там пел, этот мрачный лохматый Матвей — не моего ума дело, это надо вызывать из Ялты региональную «Йоко» — Алку, пусть слушает и забирает новоявленного барда под свое крыло. Но тексты вполне могут существовать как стихи в печатном варианте. Это я беру.
Началась и суровая проза — Стас принес большое количество абсурдистских миниатюр.
Я забрала у него пакет и отправила в Москву, нашим факультетским спецам. Результат оказался неожиданным: через месяц Стаса вызвали в столицу на семинар молодых прозаиков. Обалдевший Стас неделю хвастался в кофейне красивой бумагой вызова с шапкой Союза писателей. Такой бумаги в нашем городе отродясь не видели.
Итак, через месяц два бесспорных поэта божией милостью, Дар и Санечка, бард — Матвей, миниатюрист Стас, драматург Леший (чтоб меня украли, это фамилия!). И еще десять отпетых графоманов, выпускать которых из виду все же не следовало в расчете на вечный российский авось. А вдруг из кого-нибудь проклюнется «Моцарт»?
В начале августа нагрянула в гости Ирка — получила распределение в наши Палестины. Факультет живописи и ваяния, специальность — «Гали» (так звали жену Сальватора Дали). Ирка пребывала в расстроенных чувствах: предстояло ехать на жительство в Коктебель. Летом там, конечно, хорошо. Море, пляж. Сердоликовая бухта, Кучук-Енишар, виноград и полстраны на отдыхе. А какого черта там делать зимой, когда днем свистит степной ветер, снося в море весь снежный покров полуострова, а ночью волны гремят о берег грозной канонадой, швыряясь горстями драгоценных камней? И корявые акации гнутся до земли, мотая на ветру жалкими украшениями из букетиков омелы… И ноздреватые стены дома Волошина на рассвете плачут солеными слезами тумана…
Впрочем, мы утешились мыслью, что Ирка может зиму проводить у меня. Воодушевившись этой идеей, мы вышли в город съесть по мороженому, коль уж до зимы еще далеко.
В нарядном летнем кафе над сонной речушкой нам подали замечательный пломбир с орехами и восхитительно запотевшую бутылку поганой местной «Фанты». Ирка, выпив бокал, пришла в хорошее расположение духа и принялась рассказывать столичные новости. Я слушала вполуха, наслаждаясь прохладой и выковыривая из мороженого жареные орешки. Вдруг Ирка толкнула меня под столом ногой.
— Что?
— Смотри, — прелесть какая…
Я медленно обернулась. Невдалеке за столиком сидела Темная Звезда в белом легком платье, в шляпке с вуалью. Она вертела в пальцах высокий узкий стакан и нетерпеливо поглядывала на ведущую в кафе ажурную калитку. Напротив нее опустилась на голубой венский стул молодая женщина, предварительно спросив разрешения, каковое было дано Темной Звездой несколько раздраженно.
Именно эта женщина, отнюдь не Темная Звезда, привлекла внимание Ирки. Приглядевшись, я поняла свою подругу. Глаз художника отдыхал при взгляде на нее. Перед нами было воплощенное Рыжее Лето. Стриженые огненные волосы излучали зной. Под длинными выгоревшими ресницами прохладно, как вода в глубоком колодце, блестели агатовые глаза. Короткая золотая юбка открывала сильные, шоколадно загорелые ноги. Высокую грудь обтягивала оранжевая маечка самого легкомысленного фасона. На гладкой шее светились кораллы, как спелые плоды боярышника. Тонкие запястья скованы сияющими браслетами. Дерзко, карнавально… Женщина в костюме Рыжее Лето.
— Какой интересный контраст… — Ирина наконец заметила Темную Звезду.
Да уж. Стальной январский рассвет и пламенный июльский полдень. Женщина Рыжее Лето медленно поднесла ко рту ложечку мороженого. Показалось, что пломбир растаял и закипел, едва коснувшись пылающих губ. Темная Звезда глотнула колючего теплого шампанского, и почудилось, будто напиток льдинками просыпался в белое горло.
Нехорошее предчувствие охватило меня. Я беспомощно огляделась. Ну так и есть. В кафе появился Санька. Я отъехала на стуле в тень кустов сирени. Ирка остро глянула на меня и повернулась так, чтобы прикрывать.
Санька, конечно, же, пришел по следу Темной Звезды. Она увидела его, но и бровью не повела. Она явно ждала кого-то.
А Санька, сделав несколько кругов между столиками кафе, выхватил из вазочки на столе красную розу и двинулся прямо к Темной Звезде. Склонился перед ней — шутовски, но и всерьез, протянул ей Цветок, явно болтая отчаянную чепуху. Темная Звезда взяла розу и, не глядя, швырнула ее на землю. Санька же рухнул на колени и принялся юродствовать. С его губ летел горячечный рифмованный бред, столько что не шла пена. Темная Звезда, не обращая внимания на шокированную публику, гневно рванулась к выходу. А Санька упал головой на стул, где она только что сидела, обнял его и замер.
Я не успела вмешаться. Это сделала за меня Женщина Рыжее Лето, наблюдавшая за всей сценой хладнокровно и чуточку презрительно. Она спокойно взяла недопитую Темной Звездой бутылку шампанского и твердой рукой вылила вино на многострадального поэта. Поэт немедленно пришел в себя и абсолютно нормальным голосом поинтересовался:
— Ты что, с ума сошла?
— Остыл? Может, еще мороженого добавить?
— Да иди ты… — Санька ладонью стер с лица шипящие пузырьки шампанского и побежал за своей Звездой.
Женщина Рыжее Лето пожала плечами и вернулась к своему пломбиру. Я давно уже давилась хохотом в платок. Ирка покачала головой:
— Да, мать, клиентура у тебя… не завидую.
— Ладно, посмотрим, что ты себе найдешь.
Я проводила Ирку на автобус и пошла домой, где обнаружила Лешего, Матвея и Кешку. Двое первых ругали современную поэзию, швыряясь громкими именами и цитатами, а мой юный сосед тихо сидел в уголку, разинув рот и восхищаясь смелостью критиков. Меня немедленно втянули в дискуссию двумя всего лишь провокационными вопросами. Мы бы непременно поругались, но на лестнице прозвучали быстрые шаги, и в распахнутую дверь сначала протиснулся здоровенный рюкзак, а за ним — Стас собственной персоной.
— Чего, чай пьете? — сварливо спросил он. — Прекратите немедленно. Начнем сначала, я московских конфет привез.
Из недр рюкзака появились многочисленные кулечки, коробки печенья, сигареты, лимоны. Стас накрывал стол и отрывочно излагал свои столичные похождения. Был он какой-то смущенный и невеселый. Я попросила его придержать повествование и отправила Кешку на соседнюю улицу с наказом притащить сюда Дара. Звонить ему все равно бесполезно, он час будет собираться.
Но, кажется, я зря понадеялась на Кешку — он неожиданно задержался. Стас более не мог терпеть, и нам пришлось слушать его московскую одиссею. В общем, одиссея довольно типичная для провинциала.
На семинаре Стас раззнакомился с хорошими ребятами, сплошь гениями и сплошь непечатаемыми. За время семинара Стас, похоже, разучился спать и нажил мозоль на языке. В первую же неделю молодые прозаики сумели убедить друг друга в том, что их произведения куда как выше уровня современной литературы, и просто непонятно, отчего это издатели не толкутся в очереди под дверями конференц-зала, где и происходили занятия. Молодые гении решили исправить сию несправедливость и предприняли рейд по столичным редакциям.
— Ну и?..
— Да что! Нужны мы там… Такое впечатление, что все в литературу кинулись. Эпидемия! В каждой редакции портфель сформирован на на года вперед, литконсультанты вежливо улыбаются, потом доверительно, оглядываясь на дверь главного, сообщают: ну ты ж понимаешь, старик, у нас самотек вообще не печатается, ну, если хочешь — оставь свою рукопись, но я тебе ничего не обещаю, вот если бы ты пришел с рекомендацией от члена редколлегии… итак далее. А по глазам же вижу: оставлю я ему рукопись, так он даже и читать не станет. Надо оно ему!
Разозлились мы, отловили одного такого, напоили коньяком, увезли с собой на семинар. Так он всю ночь нам рассказывал тайную механику нашего, так сказать, издательского процесса. Ну и лопухи мы с вами, братцы! Послушал я, послушал — начисто прочь всякая охота соваться в это болото. Да пошли они все. В конце концов, пишу я для себя, это меня там на семинаре просто заведи: печататься да печататься, чего, мол, ты ломаешься, как девочка, пора продаваться… Девочка! Оказались мы там, как старые проститутки, — никому не нужны. Один даже взятку дать пытался, от него так шарахнулись! А он-то просто ведь с отчаяния, понимаете? Ну, глупость сделал, попер напролом. Так ему теперь там хоть вовсе не появляйся. Да и я не собираюсь. Для себя пишу ведь…
Последняя фраза прозвучала фальшиво. Ох, парни, парни… никто не спишет для себя. Неопубликованное произведение — нерожденный младенец. Если он не появится на свет, «родительница» помереть может. Сколько угодно…
А все эти декларации — «пишу для себя» — всего лишь кокетство по формуле «зелен виноград».
Ничего нового для меня в рассказе Стаса не содержалось. Знаю я все эти дела. Затем сюда и приехала, чтобы ломать всю эту издательскую систему, в которую, между прочим, входят и мощнейшие залежи стереотипов в головах драгоценных моих юных дарований. Вроде акушерки я тут. Ничего, творцы мои милые, будем рожать… А это всегда больно.
Между прочим, куда запропастился Кешка? А вот и он — свистнул во дворе и единым духом взлетел по лестнице. Глаза квадратные, лицо бледное, аж веснушки позеленели, от бурного дыхания цепочка на — груди прыгает.
— Атас, парни! У Дара шмон!
Стас вскочил, опрокинув на джинсы кружку с горячим чаем. Пока он ругался сквозь зубы, ухватила Кешку за шейный платок и почти насильно заставила сесть.
— Тихо ты. Кто?
— А я знаю?
— Тогда почему решил, что именно шмон?
— Ого, ты бы слышала, как разговаривают! Двое! В штатском! И участкового нету! И вообще…
— Ты там был?
— Что я, дурной… Я хотел Дара через окно вызвать. Подошел из сада, слышу — голоса. Официальные такие. Дару про его нехорошее поведение рассказывают и санкциями грозятся. «Диссидент» говорят. Какой диссидент? Дар отроду поэт…
— Они тебя не видели?
— Еще чего. Я на дерево влез и за стволом спрятался.
— И что?
— А ничего. Дарка сидит злющий, дымит, как паровоз, отругивается, но чувствую — на пределе уже. А эти… даже в бумагах на столе роются…
Мальчишки мои, кажется, перепугались — в таком возрасте все склонны преувеличивать собственную значимость.
— Ладно, вы тут посидите, только не разбегайтесь, а я схожу посмотрю.
Стас глянул на меня с недоумением:
— Ты что? Я тебя одну не пущу.
— Да брось ты, Стас. Мне одной удобнее. А по деревьям я тоже лазать умею.
— Ну ты, мать, вообще меня западло держишь?
И Стас решительно принялся натягивать куртку.
— Стас, не ходи. Я быстро вернусь. А ты лучше позвони Дару. Посмотрим, ответит ли и что именно.
После небольшой перепалки мне все-таки удалось уйти одной. Это было необходимо — ведь я вовсе не думала забираться на дерево, чтобы заглянуть в окно домика Дара. Я просто-напросто оказалась в его комнате, неслышимая и невидимая. Ситуацию я там застала интересную.
За кухонным столом тихо-мирно сидели трое. Взъерошенный Дар вскрывал трехлитровую банку малинового сока, заготовленного на зиму.
Пока он сражался с консервным ключом, я внимательно разглядывала его гостей. Один их них мне незнаком совсем — какой-то потертый, мышастого цвета и таких же манер. Иногда лицо его болезненно передергивалось неприятной гримасой. Не люблю я таких лиц. Чудится мне тайная гадостность в людях с подобными лицами. В прошлом веке сказали бы — «печать порока». Впрочем, может быть, у него просто больная печень.
А вот второго я где-то видела… И в этот момент он повернулся. Ба! Да это же бывший старший уполномоченный! Он-то как сюда попал? Ты гляди… никак не желает «пост оставлять». Ну, я тебе!..
Дар наконец открыл банку. Рубиновый напиток пролился в зеленое стекло и вспыхнул черными огнями. Я проглотила слюну: сок Дар готовил классно, с лимонной корочкой, с корицей…
— А вот интересно, чего это вы ко мне вообще приперлись? — задумчиво спросил Дар, вытирая испачканные малиной губы.
— Исключительно из благих побуждений, — с торопливой готовностью откликнулся старший уполномоченный. — Вы, молодой человек, отчета себе не отдаете…
— Да? Ну, может быть. Но с какой стати я этот отчет должен вам отдавать?
— А как же? А как же? Вы ж не в пустыне живете, не на острове необитаемом, а среди людей. А с людьми надо считаться. С обществом, так сказать…
— Да чем я обществу помешал?
— Эх, молодо-зелено… Поглядеть на вас — сердце разрывается. Молодой парень, уже год нигде не работает, на что живет — непонятно…
— У меня были сбережения, — быстро ввернул Дар.
— Да? Допустим. Но в нашем обществе человека, который нигде не работает, называют тунеядцем…
— …и даже принудительно лишают его этого названия путем командировки на лесоповал, — язвительно заметил Дар.
Гости скучно переглянулись, затем негромко высказался серый:
— А что вы себе думаете? Если так и дальше будет продолжаться, я посчитаю своим долгом поставить в известность участкового…
— Да литератор я, литератор, понимаете? Стихи пишу! — рявкнул Дар.
Вот тут старший уполномоченный почувствовал себя в своей стихии:
— Литера-атор… Книжечки извольте предъявить? Что, нету? Стишочки в местной газетке? Литература, нечего сказать. Да и, кстати, о книжечках. Что вы читаете? Я тут поинтересовался вашей библиотекой — сплошной самиздат и тамиздат!
— А это что, до сих пор запрещено? — наивно округлил глаза Дар.
— А ты не храбрись. По такому подбору можно судить об умонастроениях и…
— …о лояльности, — тихо закончил фразу Дар.
— Если угодно. А что? Не так? И ведь результат же налицо: райком комсомола до сих пор расхлебывает кашу, которую вы заварили. Помните майский концерт? Что вы там читали, Дар? Это, простите великодушно, просто уж какая-то порнография.
Дар фыркнул. Он вспомнил выступление молодых поэтов в одном из городских училищ. Поглядел он с эстрады в зал на глупые, эмалево блестящие глаза хихикающих девиц, на туповатые лица вполне созревших сексуально акселератов… И его понесло. Он вывалил на головы юнцов и юниц все хулиганские буриме, придуманные им и его развеселыми друзьями сугубо для домашнего чтения под пятую бутылку вина, все армейские экзерсисы, в сочинении которых изощрялась компания псевдолейтенантов на очередных офицерских сборах. Концерт имел шумный успех…
Старший уполномоченный победно продолжал:
— А в прошлом году летом у вас англичане какие-то гостили!
— Да вы что?! — захлебнулся возмущением Дар. — Как вы смеете? Следили за мной?
Гости оставили возмущение поэта без внимания, зато старший уполномоченный с коварной улыбочкой вытащил из-за диванной подушки затрепанный журнала «для мужчин».
— Это они вам подарили?
Дар уже не знал — смеяться ему или гневаться. Я долго не могла понять, почему он сразу не выгнал в шею непрошеных визитеров, а потом почувствовала: каким-то жутким, мистическим холодком веяло от этого разговора, от двух жалких, но все же странно грозных людей, по-хозяйски расположившихся в кухне Дара.
— И вообще! — продолжал старший уполномоченный. — Народ к вам толпами шляется! Девки размалеванные! Песни орут! Притон какой-то, соседи жалуются. Прекратите вы это все, пока не поздно, мой вам добрый совет… пока. А иначе — будем принимать меры.
Мне это все порядком надоело. И я не могла удержаться от мелкой пакости: стакан в руке старшего уполномоченного вдруг шевельнулся и опрокинулся. Надеюсь, это не отстирается. Дешевка, конечно, не месть даже — мстишка, но уж очень хотелось.
А дела-то, между прочим, у Дара неважные. Нервов ему помотают, это точно. Слава Богу, времена другие: раньше-то по «сигналу общественности» и вправду могли на лесоповал…
Дома меня ждали встревоженные Санька, Матвей и Стас. Кешка не утерпел и вернулся под окно Дара. Вскоре они пришли вместе — непрошеные гости наконец избавили поэта от своего присутствия, пригрозив долгой отныне «дружбой».
Мы впали в уныние. Не то, чтобы боялись, скорее — было противно. Дар петушился:
— Да чего они мне сделают! Телегу на работу — так некуда… А из комсомола я и сам выбыл…
Да, трудно отнять что-либо у человека, не имеющего ничего. Дар, насколько мне известно, умудрялся жить на сумму пятьдесят копеек в день, причем сочинил целую философию по этому поводу. Там были и всем известные постулаты вроде: «Не в деньгах счастье», и совсем свежая мысль: «Можно прожить вообще без денег». Мы когда-то крупно поцапались с Даром — мне противна эта философия нищеты, а Дар утверждал, что меня снедает гордыня и суета, приводил в пример йогов, дервишей и странствующих миннезингеров. Ну поэт, что с него возьмешь. Что йогам — им хорошо. Завязался узлом и сиди спокойно. Развязался, руку протянул, банан съел и спи себе на гвоздях. Тепло, и ментовка не вяжется. А любой дервиш или миннезингер у нас называется просто — «бомж». Со всеми вытекающими из этого названия последствиями. Так-то.
Наверное, это очень субъективно. Я, например, лучше с голоду помру, чем протяну руку за подаянием. Возможно, именно это и называется гордыней. Но когда я смотрю на вечно веселого Дара, мне хочется быть богатой. Для того, чтобы анонимно назначать этим охламонам стипендии. Пусть сидят по своим кельям и без тягостных забот о куске насущном ваяют нетленку. Пусть спокойно женятся и заводят детей. Пусть ездят, куда захотят. Ну невыносимо же видеть их существование! А ведь еще не вывелись умники, знающие точный рецепт: надобно всем этим поэтам идти работать на заводы к станкам. Смену отработал, а вечером и по выходным пиши себе на здоровье вирши про доблестный рабочий класс и героическое крестьянство.
А, ладно. Так и мозги продумать недолго. Тем более, что от меня требуются не абстрактные размышления, а вполне конкретная помощь вполне конкретному человеку.
— Знаешь что, Дар… Ты бы уехал на время а? Сезон еще не закончился, хочешь поработать спасателем где-нибудь на побережье? Представляешь, пляж, музыка, шашлыки, девочки… а?
— Никуда я не поеду. Чего они ко мне привязались? Я в своем городе, в своем доме. Верни-ка ты мне рукописи. И вообще, парни, у кого есть что из моих вещей, тащите обратно. А то не ровен час, могут и вас тряхануть…
— Но-но. Ты не увлекайся все-таки, не тридцать седьмой год. Я склонен думать, что это была, так сказать, демонстрация.
Дар повернулся к Стасу:
— Это как же?
— Ну, понимаешь, скорее всего соседи накапали. Сам подумай — живет одинокий молодой человек, бабы к нему ходят… Ходят?
— Само собой.
— Ну вот. Дружки собираются, отнюдь не абстиненты. Не работает опять же нигде. А народ у нас хорошо дрессированный, бдительный. Четко усвоил, что нет такого звания — российский литератор, а есть — бездельник и тунеядец. Усек?
— Да чего я им сделал?
— Ну ты ж бумагу все-таки мараешь. А они — бойцы идеологического фронта, вечно на посту. Пугнули тебя, да и все. Это, скорее всего, за тот концерт, чтоб не выпендривался.
— Это они-то будут дешевыми пугалками заниматься?
— А ты уже терновый венец примериваешь? Пострадать захотелось, слава Бродского покоя не дает? Не суетись, Дар, далеко нам до Бродского. А эти… Лучше ж перебдить, чем недобдить. Вот они и стараются. Натура такая! Вернее — привычка…
— Ну я им сделаю…
— Тихо, тихо… рано расхрабрился. Или, может, уже начинать собирать подписи в твою защиту? Не цените вы своего счастья! Это ж только у нас автору гарантировано, что у него хоть какие читатели будут, хоть общественность поинтересуется…
Матвей в разговоре не участвовал. Я знала, почему. Лет пять тому назад Матвея с треском выперли из института. Парень на одном знаменитом теперь рок-фестивале спел две песни — и привет. Общественность возмутилась. С тех пор кочевал по градам и весям то дворником, то грузчиком. Петь он не перестал, но на фестивали больше не ездил. Он вообще какой-то странный стал: не ел почти ничего, курил много, читал запоем — и все про Индию. Я было решила, что очередной рерихнутый, но вроде нет. Я надеялась разговорить его потихоньку, приручить исподволь. Хорошо уже то, что он начал приходить часто на наши посиделки.
Последствия визита двух людей к Дару не замедлили проявиться по скучным провинциальным прописям. Все, как обычно. Для начала Дару намекнули, чтобы в дом к местной литературной знаменитости он больше не приходил. Из областной газеты ему вернули два стихотворения, уже было поставленных в номер, причем сказали, что стихов более приносить не нужно. Затем сняли с обсуждения в литературном объединении заявленную за три месяца рукопись. Руководитель объединения шепотом выматерил Дара в туалете и посоветовал думать, с кем ссориться. Дару отказали в приеме на работу машинистом сцены театра оперетты. И наконец, пополз по городу слушок, после чего особо впечатлительные знакомые поэта при встрече с ним стали переходить на другую сторону улицы.
Хуже всего, что ничего не делалось в открытую. Стихи вернули? Так газета вообще стихов печатать не обязана, только к праздникам специальные «датские», места же нет, вы же знаете, как перегружены газетные площади! Рукописи не стали обсуждать? Так дрянь же рукопись, автор — явный Графоман. На работу не взяли? А товарищ по специальности, простите, кто? Актер драматического театра? Так вот пусть по специальности и работает, только не в нашей труппе, у нас комплект. Ах, ближайший театр в соседней республике? Так пусть уезжает! А за слухи вообще никто не отвечает. Мистика прямо. Сильна у нас «общественность»…
Пусть уезжает… В самом деле, в маленьком городе Дару теперь деваться некуда. Путь один, нахоженный чуть ли не всем нашим поколением, нынешними «моцартами» — в сторожа и дворники. С глубоким мерси, что не в лагеря и тюрьмы.
Я мстительно свела счеты с обоими гостями Дара: наделила каждого из них стихотворческим даром. Дар от Дара… Ну, небольшим таким талантишком, но назойливым, как болотный комар. Причем один из них должен был писать иронические поэзы в стиле Иртеньева, а второй — деревенские стихи гекзаметром. Посмотрим, как вы теперь покувыркаетесь!
После описанных событий мы долго не виделись. Как-то не тянуло собираться по-прежнему, трепаться беззаботно, читать друг другу новые произведения и всласть их потом топтать. Тягостно было как-то и немного стыдно. Я потихоньку подбирала рукописи для сборника стихов, чтобы впоследствии предъявить его местному издательству как бесспорное доказательство существования в городе новой поэтической волны. По слухам, Дар засел дома, отключил телефон и перечитывает «Трех мушкетеров». Матвей опять исчез, подался на Южный Берег, где в бархатный сезон любая компания будет рада барду, стакан вина нальют, кусок хлеба отломят. Стас, как мне донес Кешка, работает над крупной вещью. Смотри-ка, семинар на пользу пошел…
А Санька… поговаривали, что Санька пьет, куражится в городе, поимев уже мелкие стычки с милицией, таскается за Темной Звездой. Вскоре мне пришлось повидать Саньку, и встреча эта меня не обрадовала.
Накануне позвонила Ирина и принялась ныть. Мол, де, она тут, в дыре провинциальной совсем закисла, и хорошо бы посидеть в приличном ресторане, упаси боже, ничего такого, а просто две молодые солидные женщины обедают с шампанским и чинно беседуют, и вообще у нее скоро день рождения. И что это с Иркой? Подобные эскапады отнюдь не в наших правилах. Какие рестораны, что вы! Наше место в дешевых кофейнях…
Но Ирка была так взбудоражена, она принялась так орать в телефон, что чуть не сломала мембрану. Ну уж если ей так хочется… Я заказала столик.
И вот сижу это я в «Астории» слева от эстрады, прямо за фонтаном, пью ледяную пепси-колу, вызывая кислое удивление официантов. Впрочем, время еще не самое горячее, часов пять, так что они надеются быстренько скормить мне какой-нибудь шницель и выставить за зеркальную дверь, освободив место более стоящему клиенту. Ирка изволит запаздывать, поэтому ужин мне пришлось заказывать на свой вкус. С каждой цитатой из меню лицо официанта менялось, приобретая задумчивое выражение. Он удалился, часто оглядываясь на меня. Ничего, ничего, тащи заказанное, а я посмотрю, как Ирка все это будет есть… Пусть не нарывается.
В ресторане между тем появляется интересная компания. Сабаневский, Темная Звезда, тихий мальчик по имени Сэм — известная в городе личность, ходячий уголовный кодекс и до сих пор на свободе. Ну и еще пара-тройка незначительного народа. Все мрачные, скучные, а Темная Звезда в холодном бешенстве. Садятся они за столик и резво принимают с места в карьер. Через полчаса — буквально дрова. Даже Сабаневский. А Темная Звезда пьет лишь сладкий мускат, щеки ее пламенеют, она желает танцевать и развлекаться. Дудки, в этом городе нет самоубийцы, который отважится танцевать с нею на глазах глубоко нетрезвого Сабаневского. Мужчины за столиками старательно отводят глаза от требовательного взора Темной Звезды и усиленно ухаживают за своими дамами.
Ирки все еще нет, а на стол уже начинают сгружать первую серию заказанного ужина. И, между прочим, у входа появляется бледный Санька, огрызаясь на швейцара. Темная Звезда делает ему ручкой, и швейцар тотчас же отпускает Санькину куртку. Санька, задевая стулья, подходит к столику. Сабаневский поднимает многодумную голову, смотрит на Саньку, потом наливает ему полный фужер водки. Круто…
Темная Звезда и Санька танцуют на пятачке возле оркестра. Лабухи переглядываются юмористически. Да уж… зрелище. Стервозно-элегантная дама в вечернем туалете с малым количеством бриллиантов и худой мальчишка в жеваном джинсовом костюмчике последнего срока носки, с запущенными грязными ногтями, в драных кроссовках.
А тут еще моя близорукая Ирка, пробираясь ко мне, натыкается на них, наступает на шлейф платья Темной Звезды, мило извиняется и плюхается на стул против меня, очень обижаясь, что я не желаю выслушать ее сию секунду. А Сабаневский, глядя на Саньку змеиными глазами, медленно наливает второй фужер водки. Мне вдруг срочно понадобилось выйти подкрасить губы. Я скольжу мимо столика Сабаневского, задеваю сумочкой фужер, разбиваю его, прошу пардона, исчезаю… Черта лысого… Сабаневский наливает следующий.
Ирка задает мне слишком громкие вопросы. На ее пронзительный голосок реагируют гвардейцы Сабаневского, в результате чего мы оказываемся за их столиком. Официант смотрит на нас мудрыми глазами и усмехается — так он и знал, две шалые бабы пришли в кабак мужиков снимать. Санечка совершенно не рад меня видеть, и пусть это будет на его совести. Впрочем, он в таком состоянии, что совесть его уже лежит в обмороке. Сэм навешивает Ирке чугунные комплименты, Сабаневский, кажется, спит.
Полночь. Нас очень вежливо просят покинуть зад. У входа Сабаневский выражает желание пройтись пешком и отпускает машину.
Черт с тобой, Сабаневский! Я ненавижу тебя, Сабаневский! Я только сниму туфли, Сабаневский…
Процессия растянулась на два квартала. Впереди — висящая на руке Санечки Темная Звезда. Санька вне себя от счастья, читает ей стихи, мечет бисер. Далее — Ирка в кураже и совершенно потерявшийся Сэм. Он явно в первый раз видит выпускницу Лицея Муз. Это зрелище… В хвосте процессии я и Сабаневский, элегантный и страшный. Я топаю босиком и разговариваю с ним весьма вольно. Он безропотно глотает все мои дерзости. Я бы на его месте давно меня убила.
Каблуки туфель Темной Звезды подламываются, она не может дальше идти. Она совершенно пьяна. Санька, не раздумывая, подхватывает ее на руки и исчезает в ближайшем переулке. Но Сабаневский…
Он против ожидания не устраивает погони. Провожает Саньку глазами и поворачивается ко мне. Он абсолютно трезв. Вынимает из кармана пачку дорогих сигарет, щелкает золотым «Ронсоном» и говорит:
— Мне бы надо с тобой потолковать…
Я вспоминаю давнишний разговор с Даром, и мне становится смешно: захотел-таки Сабаневский со мной толковать!
— Идиотская ситуация, весь город смеется…
— А ты женись на ней, Сабаневский. И тогда вполне официально можешь побить морду Санечке.
— Морду — это не проблема. Не хочу я ему морду бить, не понятно?
— Неужели? Брось, Сабаневский, не поверю я в то, что для тебя моральная победа значит больше, чем физическая.
Сабаневский смотрит на меня с интересом, прищурив блестящие глаза.
— А ты штучка…
Я киваю головой, соглашаясь — еще бы! Конечно, штучка.
И вот так мы мило беседуем, не подозревая, что в эту минуту пьяная Звезда жестоко измывается над Санькой. А тот сидит напротив нее в убогой кухне, молчит и жует собственное сердце.
Я виновата — увлеклась беседой с Сабаневским, незачем мне не нужным, а Саньку проморгала…
Ну какие они все-таки мальчишки. Здоровенный Санечка, всегда нервно-веселый Дар, даже этот инфернальный пижон Сабаневский — мальчишки. И отношения у них, счеты их — мальчишеские. Я чувствую себя гораздо старше их. И как бы ни старалась я понять их, как бы ни пыталась говорить с ними на их языке, жить их проблемами, не получится. Как сказал один мой знакомый фантаст: «Что вы мне все — марсианцы, марсианцы! Какие марсианцы, мы друг друга понять не можем!» Вот уж, воистину…
Стоп, матушка. Рано ныть начала. Между прочим, а где Ирка? Если меня память не отшибает, она прикатила сюда, чтобы поговорить со мной о чем-то, весьма серьезном. А вместо того быстренько нахлебалась шампанского и теперь оттачивает остроумие на твердокаменных мозгах Сэма, который только хватает ртом воздух и беспомощно оглядывается на меня. Парня надо спасать. Ирка в кураже — это последний день Помпеи. Как говорит Кешка, вырванные годы.
Я отклеила Ирку от Сэмова локтя, церемонно раскланялась с Сабаневским и повернула на Сиреневую. Ирка спотыкается о корни старого тутовника, ворчит и оглядывается. Сабаневский со своим телохранителем стоит на углу в странной нерешительности. Ну, этого мне только не хватало…
Сабаневский тихо входит в Сиреневую улицу. Не-ет, ребята, это что-то уж совсем не то у нас получается. Я лично пас. Мы с Иркой взялись за руки и просто-напросто стали невидимыми, прислонившись к шершавой коре шелковицы. Сабаневский беззвучно — даже дыхание, кажется, придержал проходит мимо, возвращается, пристально оглядывая улицу.
— Ведьма чертова… — сквозь зубы произносит он и решительно удаляется, сделав Сэму короткий ясный знак «К ноге!»
Приятно, однако, когда ценят по достоинству.
Невидимыми — на всякий случай — мы поднимаемся в мансарду. Ирка с облегчением стряхивает босоножки и буквально рушится на кушетку. Я вынимаю из холодильника две бутылки «Фанты».
— Ну, рассказывай, подруга.
— Чего?
— Здрассьте. Ты примчалась из Коктебеля на попутном автокране только для того, чтобы не поужинать со мной в кабаке? Ты ж там и не ела ничего…
— Ага. Сообрази мне бутербродик какой-нибудь.
Глухая южная ночь… Я покорно мажу бутерброды, Ирка сидит на кушетке, поглощает мои изделия и рассказывает банальную до противности историю. Ну сколько можно?.. Ну опять какой-то старый хрыч, ба-альшой художник и лауреат, тонкая, непонятая душа, капризный гений, которому позарез понадобилась моя Ирка в качестве музы, кухарки, прислуги за все, жилетки для плаканья и вешалки для фамильных драгоценностей. Ирка, естественно, страдает: а вдруг гений помрет от неразделенной любви, тем более, что два инфаркта у него уже было. И тогда Ирка замучается совестью и виной перед человечеством. Видела я последнюю работу этого мэтра полнометражное полотно под названием «Уборка кокосов в африканском колхозе имени красного комдива Опанаса Коротыло».
Скучно. Профессиональный риск, производственная рутина. Выпускницы нашего лицея девчонки, как правило, хорошенькие, любезные, веселые. Обхождению с нервными гениями нас специально учат. Поэтому и случается так, что наши взбалмошные клиенты принимают весь блеск профессиональной выучки за редкостные достоинства, уникальные душевные качества случайно встреченной девушки и очень легко обалдевают. В самом деде, ну где еще вы найдете молодую женщину, способную час внимательно слушать ваши жалобы: не печатают, не выставляют, затирают, ходу не дают, денег нет, жить негде, меня никто не любит… А далее — все по ритуалу: цветы, духи, смокинг, белые перчатки, марш Мендельсона… и очередная маргарита, йоко, гала потеряна как профессионал. Она становится очень узким специалистом по неврозам и радикулитам конкретного мастера. И толку от нее — дневники, которые вряд ли кому-нибудь понадобятся.
Так что Иркина история не вызвала у меня никакого интереса, слушала я ее вполуха. И что-то погано мне было, тревожно. Ирка эта еще бухтит, а Санечка-то, между прочим, уволок Темную Звезду.
И я незримо переношусь в старенький дом, ожидающий сноса, где Санька роскошно обитает на веранде с отдельным входом. В углу ситцевой занавеской выгорожена кухонька — двухконфорочная газовая плита, кастрюли, сковородка, ведро с водой. Удобства во дворе.
Посреди веранды над тазиком корчится Темная Звезда. Ее мучительно рвет. Санька, одной рукой бережно придерживая женщину за плечи, другой гладит ее по голове и нежно шепчет:
— Ну что ты, маленький, плохо нам и нехорошо? Ну, давай, постарайся еще, потом легче будет… вот, умница. Ну что ты, ну дрянь шампанское, несвежее попалось… ну, глупенький мой, не стесняйся…
Звезда рычит и отталкивает Саньку вместе с тазиком:
— К-козел… с-стесняться я его буду… на! Языком вылижешь!
Она мотает головой, запрокидывает лицо — и я вижу, что эта женщина попросту безобразна. И дело не в размазанном гриме, не в распухших глазах, не в злом опьянении — она просто уродина. Черт ли их, мужиков, поймет!
Она бесстыдно сидит перед Санькой в одних трусиках и чулках с подвязками, жадно пьет. Сверкающие капли катятся ей на грудь. Санечка провожает взглядом каждую каплю, оставляющую на смугловатой коже влажную дорожку.
— Что, нравлюсь? — издевательски спрашивает Звезда.
И глаза Санечки вспыхивают ненавистью. Но он кивает головой утвердительно. Вот еще…
Я не могу удержаться и делаю шаг вперед, непроизвольно сжимая кулаки. Но под ногами оказывается тазик. И из него, наполненного обрывками платья Темной Звезды, кровью и всякой дрянью, вдруг взвивается треугольная голова змеи. Гадина смотрит прямо на меня холодными желтыми зрачками, стреляет языком и угрожающе шипит. И я вижу, что таз кишит змеями. Головы гадюк тянутся ко мне, разевают бледные пасти, яд цвета гноя течет по кривым клинкам смертоносных зубов…
Холодная рука падает мне на шею, ногти впиваются в кожу, и разъяренная. Ирка втаскивает меня обратно в мансарду.
— Ты что, мать, ошалела?!
— С-спокойно… чего ты орешь…
— Ну ты идиотка… — Ирка насильно вливает в меня валерьянку. Жидкость попадает не в то горло, я страшно кашляю и обливаюсь слезами. Ирка колотит меня по спине, я отбиваюсь, и мы валимся на кушетку, умываясь слезами уже от хохота.
— Однако… — отдышавшись, говорит Ирка. — Дела тут у тебя веселые…
— А ты думала. Это тебе не твой жених из Коктебеля. У нас тут с-стр-расти.
— Да ладно, — отмахивается моя незадачливая гала, и я понимаю, что проблемы больше не существует. Не будет Ирка варить манную кашку лауреату.
Уснули мы на рассвете и продрыхли почти до вечера. Разбудил нас Кешка, непривычно тихий и благонравный. Он вежливо шаркнул ножкой и поклонился Ирке, послушно сварил двум заспавшимся дамам кофе и скромненько сел в уголку. Что-то слишком много скромности и послушания…
— Кешка, ты не заболел?
— Нет… благодарю.
— А что с тобой такое? Чего такой отмороженный — август вроде еще не кончился? Перекупался? Мороженого объелся?
— Нет…
Вот тут я и насторожилась. Села поближе, разглядела лукавых бесенят в глазах мальчишки и категорически потребовала объяснений.
Кешка возвел очи горе — явно для того, чтобы раньше времени не расплескать затаенное веселье — и вредным голосом сказал:
— Я у Стаса был…
— И что же? С каких это пор визит к Стасу служит поводом для ехидства?
— Стас новый роман пишет…
— Слушай, ты, юный садист! Кончай испытывать мое терпение!
— А я что? Я ничего. Просто Стас пишет новый роман.
Ну, вредничать я тоже умею. Не хочет говорить — не надо. Вот назло не буду спрашивать, ведь сам взорвется от своих новостей. Я презрительно пожала плечами и выплыла на кухню, где в течение пяти минут и устроила себе прочтение трехсот страниц нового шедеврального произведения Стаса.
Прийти в себя я не могла долго. Всего, чего угодно, я могла ожидать от Стаса, но такое!.. С-сукин кот, да как он мог!
Это оказалось произведение, написанное на конкурс, объявленный МВД. Так называемый «милицейский роман» про доблестных сержантов, бравых лейтенантов и мудрых полковников. Ну что тут скажешь?
Решил, что так проще. Легче напечататься. Деньжат заработать. Святое дело. А то и премию от МВД. Милицейский летописец… Ну, я тебе покажу.
Когда я вернулась в комнату, Кешка только глянул на меня и все понял. Он разинул рот и застыл. Ирка осторожно потянулась за валерьянкой. Э нет, подруга, не это мне сейчас нужно.
— Кешка, выйди, мне надо переодеться.
Парня ветром сдуло, причем вылетел он не в кухню, как я подразумевала, а на лестницу.
Я рывком распахнула шкаф и сняла с плечиков новенькую форму. Лейтенантскую — мы люди скромные. Ирка ахнула и повалилась на кушетку, зажимая рот, задавливая дикий хохот. А я, оправляя скрипучие ремни, поглядела в окно. Уже стемнело. Отлично. Темнота — друг оперативника.
Распахнулась дверь, и на пороге появился Кешка. Феноменальный молодой человек ничуть не удивился, увидев меня в форме. Он только серьезно кивнул головой и протянул мне… новехонькую метлу. Ах ты… как говорят в Одессе, «с этого молодого человека таки будет толк».
Я взяла метлу. Инструмент явно не предназначался для прозаического подметания двора. Древко покрыто черным лаком, а сама метла связана из веток омелы. Вполне ведьминский инструментарий. Ну, спасибо, Кешка, за подарочек. Ох, как он мне пригодится!
Я встала на подоконник и распахнула окно.
— Ждите тут, я скоро.
Метла слушалась прекрасна. Я сразу набрала высоту, чтобы не привлечь внимания прохожих. По-моему, меня никто не видел. Нырнув в темную маленькую тучку, я благополучно добралась до нового микрорайона на выселках, где жил Стас. Скользнула вниз, зависла у десятого этажа и медленно двинулась вдоль окон.
Ну, конечно. Сидит, пишет. Писатель…
Я резко постучала в стекло. Стас поднял голову, но посмотрел в сторону входной двери. Прислушался, пожал плечами. И снова склонился над листом бумаги.
Тогда я сильно толкнула раму. И в первом сполохе начинающейся грозы, в трепете рванувшихся тюлевых занавесей, в блеске и славе перед потрясенным Стасом предстала лейтенант милиции с метлой наперевес…
В ту ночь похмельная Темная Звезда холодно сказала Санечке:
— Ну, хватит. Надоели эти стишки, цветы, два притопа, три прихлопа. Поговорим, как серьезные люди: Пять тысяч на стол — и я твоя на сутки. А как ты думал, фраер?!
В ту ночь Сабаневский сказал Темной Звезде, заехав за ней к Санечке:
— А пошла ты…
В ту ночь Женщина Рыжее Лето сказала:
— Я больше так не могу…
В ту ночь Дар написал завещание.
В ту ночь утонул Матвей.
…Я разуваюсь на шоссе и босиком спускаюсь к морю. Теплая щебенка пыльным обвалом катится из-под ног. Идти по береговой гальке неприятно и колко. Я перепрыгиваю по ноздреватым глыбам ракушечника, добираясь к маленькой уютной бухточке, прикрытой от пляжа выветренным останцом. На побережье пустынно, лишь вдалеке меряет саженками лунную дорожку одинокий пловец. Судя по ритму движения, наладился он аж до Ялты, и мне помешать не должен.
Я наклоняюсь к темной воде и зову тихонько:
— Сестра!.. Сестра-а!
Глубоко во мраке загорается зеленая фосфорическая звезда, дрожит, колеблется, растекается в светящуюся ленту, поднимаясь к поверхности. Стремительное тело свободно пронзает толщу воды, и вот тяжело плеснул мощный хвост, поднялись над недвижной гладью моря две блистающих прекрасных руки… Летят с пальцев брызги жидкого холодного огня — дело к осени, море горит…
Нереида подплывает совсем близко, скользя розовым животом по укатанной прибоем гальке. Она ложится грудью на берег, подпирает руками голову, а тело ее, веретеном сужающееся к хвосту, чуть колышется в легком накате волны.
— Звала меня? — спрашивает она, внимательно глядя мне в глаза.
— Звала, сестра…
— Нужно что иди просто, соскучилась?
— Зачем Матвея взяла, сестра?
Нереида молчит, поигрывая тяжелым хвостом, перебирая крупный жемчуг на точеной шее.
— Отдай, сестра…
— Взяла зачем? А нельзя, сестра, плыть в открытое море при шторме. А нельзя, сестра, пить красный портвейн, а после в воду лезть…
— Да, господи… так ли уж велика вина? Отдай, сестра, отпусти… Ну зачем он тебе? Песни петь в подводном царстве? Так гитара в воде не строит… Как подумаю, что лежит он там на песочке, волосы водорослями опутаны, в мертвые глаза рыбы заглядывают… а ты сидишь около, кудри его черепаховым гребнем чешешь, сказки сирен ему нашептываешь…
Нереида совсем по-девичьи фыркает.
— Ну вы там, в Лицее, совсем сбрендили. Романтики перекушали. Я понимаю — литература, Шиллер, Пушкин, Жуковский… Но химию-то ты в школе учила? Какой песочек, какие водоросли? Ты что, не знаешь? Кости в морской воде растворяются! И скоро растечется твой Матвей в мировом океане, и в каждой капле будет он… Не могу отдать тебе его, присматривать надо было лучше, сестра.
Сзади захрустела галька, и чей-то молодой веселый голос спросил игриво:
— Купаемся? Как вода, девочки? Не боитесь — водяной утащит? Эх, был бы я Нептуном, обязательно таких красавиц похитил…
Он немного пьян, случайный ночной ловелас, но не настолько, чтобы не видеть, как презрительно смеряла его взглядом нереида, как развернулась от берега и, взбивая хвостом пену, канула в черную глубину.
Он секунду смотрит ей вслед, распахнув рот, а потом шарахается, как заяц, и убегает прочь с тоненьким пронзительным верещанием.
Присматривать лучше надо было… Ах, как ты права, моя зеленоокая сестра! Я повинна в этой смерти. Держать надо моцартов, спасать надо моцартов!
Спасать… Вот я сейчас все брошу и начну вязать Дару носки, кипятить молочко с инжиром для Стаса — он вчера подкашливал, доставать дрова на зиму Санечке, чтоб ему хорошо творилось на его веранде. А что делать? Придется доставать. И уголь тоже…
Женить бы их, стервецов! Да кто за них пойдет, неприкаянных моих горемык. Написать, что ли, служебную записку в ректорат Лицея? Так, мол, итак: требуется моцартам персональная опека. Даешь специальный факультет ковать кадры под девизом: «Каждому мастеру — персональную маргариту!» Во цирк начнется. Да и, честно говоря, маргарит жалко.
Комсомольскому богу лет двадцать семь, у него синие глаза и ехидная улыбка. Он грызет карандаш и недоверчиво меня разглядывает. А я, скромно натянув юбку на колени и опустив глаза, читаю ему вполне академическую лекцию о современной поэзии, авангарде, андерграунде, метафоризме, подводя его к пониманию того очевидного факта, что все эти экзотические фрукты произрастают не только в столицах.
Наконец инструктор обкома ЛКСМ бросает карандаш и говорит:
— А ну ее, эту тягомотину. Пошли мороженое есть.
Ни фига себе.
Съев с явным удовольствием двойную порцию фруктового, инструктор заявил:
— К делу. Семинар этот мы потянем. Союз писателей тоже какие-то деньжата даст. Да и сами можем заработать. Запросто. Смотри: семинар работает три дня. Потом делаем пять, скажем, бригад, и пусть себе выступают! Часовой концертик — на телевизорном заводе, на сельхозмаше, в совхозе… Так сказать, встречи молодых поэтов с трудящейся общественностью. Поняла?
— Еще как… А по результатам семинара сборник выпустим!
— Хм… а вот это ты сама договаривайся. У них там в издательстве нравы странные, я в эту Парфию не суюсь.
— Но обком поддержит?
— А что я могу? Ну напишу я тебе бумажку, напишу. Так, мол, и так, областной семинар и тэ дэ… Но!
Инструктор поднял длинный изящный палец:
— Все тексты мне на стол через неделю. Программу семинара — тоже. А ты как думала?! Список приглашенных. Сценарий выступления каждой бригады. Кандидатуры руководителей. И… хорошо бы кого-нибудь из Москвы. Сможешь?
— И это все через неделю?
— Что?! Да я за неделю… — комсомольский бог задохнулся так выразительно, что я поняла: господь непозволительно долго возился, создавая наш мир.
Как ни странно, за неделю я все успела. Даже вырвать твердое обещание одного весьма известного московского критика. Правда, это было как раз не самое трудное — кто откажется съездить за казенный счет в сентябре в наши виноградные Палестины. Ну, конечно, пришлось просить помощи у Лицея. Там слегка встревожились — не резво ли начинаю? Выслушали мои доводы и поинтересовались, завтракала ли я сегодня. А действительно…
Впрочем, мне скоро вообще пришлось отменить всякие завтраки, обеды и ужины. Вы никогда не пытались организовать литературный семинар на юге в конце бархатного сезона? Ну, то есть заказать жилье — я не говорю гостиницу, это нереально! — питание, автобусы, зал для дискуссий, культурную программу, обратные билеты участникам?
Словом, встречая на вокзале первую компанию юных дарований, я слегка пошатывалась — и вовсе не от волнения. Прошлую ночь спать не пришлось, надо было срочно исправлять сценарий концерта на сельхозмаше. Завтрак мне отменил этот бешеный инструктор, примчавшись за сценарием в семь утра и вместе с машинописными экземплярами прихватив меня. В обкоме добрая секретарша угостила меня ирисками. Обеденное время было посвящено скандалу с директором мотеля, который почему-то соглашался разместить только тридцать четыре человека, а мне дозарезу нужно было поселить тридцать пять! А к ужину есть мне попросту расхотелось.
Как всегда, в мотеле произошла какая-то накладка, и к ночи у меня в мансарде обретались пять поэтов, два драматурга, эссеист и критикесса. Одно спасение, что спать все равно никто не собирался (где бы это я их разместила, интересно?), а собирались они трепаться до утра под чай с пряниками. Кешка летал легкой ласточкой в магазин, к мамаше за стульями, за большим чайником, на угол за квасом, в обком, к Стасу, в мотель. Кажется, весь этот бедлам с умными разговорами ему здорово нравился. Без Кешки я бы просто зашилась. И, наконец, надо же было оставить кого-то на хозяйстве, когда мне пришлось ехать в аэропорт заполночь — встречать московское светило.
Светило это еще то оказалось. Оно с отсутствующим видом вышло из тамбура аэровокзала, остановилось, кинув к ногам роскошный крокодиловый «дипломат», заложив руки в карманы белесых джинсов, и задумалось. Странненькое это было зрелище: посреди бурлящего южного аэропорта, в толпе злых от недосыпа и общего безобразия людей отрешенно стоит худой длинный человек с нездешним выражением на лице. Между прочим, стоял он так долго. Я не спешила подходить — мне было любопытно наблюдать за ним, хотя он просто встал и стоял. Как памятник неизвестному критику.
Но московским гостем заинтересовался дежурный милиционер. Тот посмотрел на стража порядка, как на инопланетянина. Пришлось срочно вмешаться. Мило улыбаясь и щебеча, я вручила критику цветочки и повлекла его к стоянке такси. Реплика в сторону: когда к этому светилу отечественной литературы подошел старшина милиции, то столичный интеллигент с тонкими запястьями совершенно автоматически поставил ноги в позу «Т». Однако… Нет, и откуда это у нашей интеллигенции этакие шпанистые замашки?
Он пожелал узнать, куда я его, собственно говоря, везу. Я назвала гостиницу, где под его известное имя все-таки удалось забронировать номер. Он сморщил горбатый аристократический нос и обронил:
— Ах вот так вот…
И более — ни слова, кроме сухого «до свидания» после того, как ключ от номера оказался у него в руках. Ну и подумаешь…
Такси я отпустила, пешком идти было день, темно, пустынно… словом, я плюнула на осторожность и перенеслась в свою мансарду. Вернее, я хотела перенестись и даже начала осуществлять свое намерение. Но мой, так сказать, эшелон оказался занят. Я с размаху врезалась в чье-то астральное тело, которое прокомментировало это событие весьма энергично. Кувыркнувшись в вольном эфире, я только и нашлась ответить: «Сам дурак!»
Но это был не дурак. Это был мой московский гость, которого я только что оставила в гостинице. Он потирал коленку и смотрел на меня с любопытством.
— Ну до чего нахальная девчонка, — рассудительно сказал он. — Мало того, что она мини-юбку носит…
Ах, та-ак! Мне сразу показалось, что ногти мои стали на два сантиметра длиннее. Но… позвольте, а он-то как оказался в моем эшелоне?! Неужели тоже наш, лицейский? Да не похоже, ему лет сорок, когда он учился, Лицея еще не существовало. Так какого черта он шляется в астрале? Проходной двор какой-то, уже ноги отдавливать начинают, на что это, право, похоже… Разворчаться я не успела — московский гость уютно разлегся на лунном луче и продолжил фразу:
— …мало того, что она мини-юбку носит, так она еще мне снится! В этой самой юбке, кстати…
Ах, он спит! Ну-ну, бай-бай! Я тебе устрою хорошенький кошмарик… Я запустила в его сон дюжину развратных девиц, кикимору и вампирессу, после чего с достоинством удалилась к себе в мансарду.
А там — дым коромыслом, посуда немытая горой, критикесса и драматург на грани дуэли, поэты пишут буриме, Кешка прикорнул в углу.
— Па-адъем, золотая рота! Мыться, бриться, одеваться! И чтоб тихо мне, как зайчики!
С утра «зайчиков» расселили в мотеле, приняли еще две делегации, назначили открытие семинара на пять часов.
В мотеле и поймал меня комсомольский бог. Внимательно рассмотрел осунувшееся после второй бессонной ночи лицо и с этаким намеком поинтересовался:
— А где же наш московский мэтр?
— А я знаю? Скорее всего, дрыхнет в гостинице.
— Да? Так ты пойди на бульвар, полюбопытствуй, как он дрыхнет. И вообще, можешь плюнуть на всю эту самодеятельность, но мэтра мне паси!
Это прозвучало уже мне в спину. Я неслась на бульвар, который в нашем городе занимает ровно один погонный километр. Но если ты не можешь вызвонить человека или застукать его по месту службы — иди вечером на бульвар. За десять минут найдешь того, кто тебе нужен и гораздо больше тех, на кого б глаза не смотрели.
Мэтр, естественно, оказался там. Он сменил свои линялые джинсы на белые шорты Сен-Тропез и нахальную маечку. Пестрый шейный платок хорошо гармонировал с льдистыми серыми глазами. Между прочим, у него оказались красивые ноги. И он до странности был похож на Кешку…
За эту мысль я на себя разозлилась. А потом разозлилась на него. Потому что на скамейке возле томного мэтра сидели две знакомые мне журналисточки из местной молодежи и таяли, как мороженое парафе в их изящных пальчиках. Мэтр, как принято сейчас выражаться, «вешал лапшу» на уши девочкам из провинции. А девочек этих можно спокойно сбрасывать на захват Пентагона. Гарантия — через три дня блок НАТО развалится.
Впрочем, девочек сдуло ветром по мановению моей руки. Они обе торопливо — подозрительно торопливо! — бросились ко мне с преувеличенно радостными лицами:
— Ах, Олечка! Тебя нам и нужно! Мы сейчас быстренько интервью с организатором и руководителем первого в нашей области литературного семинара…
— Слушайте, вы, гиены пера! Ты, Катерина… а, кстати, там Нодари в «Лакомке» кофе пьет…
Катерина моментально исчезла, проложив синий вихрь воздушного следа своего движения в направлении кондитерского магазина «Лакомка». С юмором магазин, чтоб вы знали. Там на витрине написано: «Бананов нет навсегда. Зато есть пирожные. Вредно, но безумно вкусно!»
— Так, теперь ты, Лилюшка… С ума, мать, сошла, никак? Ты кому глазки строишь? Ему сто лет в обед, женат вторым браком, четверо детей и радикулит! Оно тебе надо?
Лилия решила, что не надо, и удалилась, независимо помахивая фотокамерой на тонком ремешке.
Мэтр иронически наблюдал эту сцену. Слов он слышать не мог, а что он себе воображал — мне наплевать.
Я подошла к нему, состроив самую любезную мину.
— Три тысячи извинений, возможно, я нарушаю ваши планы…
Он меня прервал, поглядев сверху вниз и произнеся высокомерно:
— Это ты чепуху говоришь.
Ну и тем лучше. Можно не изображать фигуры политеса.
— …нас ждут. Вперед, мэтр! А по дороге — маленькая экскурсия. Посмотрите налево, посмотрите направо…
Московский гость снова сморщил нос и ровно сказал:
— Я в этом городе родился и вырос.
Ч-черт. Предупреждать же надо. Так что в конференц-зал обкома мы проследовали в полном молчании.
Но инструктор обкома молчать не собирался. Он мило улыбнулся мэтру, доставленному в его кабинет, а меня вызвал на конфиденцию в коридор, где ядовито осведомился:
— Ты ненормальная или кто?
— А что такое?
— Как он одет?!
— Это ты на шорты намекаешь? Ну, знаете ли! Я еще должна за его гардеробом следить! И вообще! Иди к нему и объясняйся по этому поводу сам! А то, если я попрошу уважаемого мэтра снять шорты, он может меня правильно понять…
Дальнейшее развитие конфликта я не наблюдала, но на открытие семинара московская знаменитость явилась именно в белых шортах. Живописная была пара: он — весь этакий вот, а рядом — инструктор обкома в душном костюме и при галстуке.
Перед началом сверили списки участников семинара. Возле двух имен прочерки. Нет Санечки… Нет Санечки… Беспокойство укусило мое сердце.
И нет еще одного человека. Инна Инина. Это еще кто? Я ее не знаю. Стоп. Фамилию я внесла в список с подачи Дара. Талантливый поэт, как он сказал. Адрес? Надо же, всего два квартала от здания обкома. Да я сейчас сбегаю!
Бегом, бегом, по пятнистой тени от листвы платанов, по осыпавшимся оранжевым колокольцам неведомой мне лианы, заполонившей балконы домов на тихой улочке. Бегом, бегом, сквозь пахнущий кошками подъезд, бегом, бегом, на пятый этаж по темной лестнице, ступеньки которой давно нуждаются в услугах дантиста.
Над дерматиновой дверью висит на проводах звонок, вырванный из бетонного гнезда. Я пытаюсь позвонить, потом просто стучу в косяк двери. Щелкают по линолеуму каблучки, распахивается дверь, и… Я слепо щурю глаза. Передо мной стоит Женщина Рыжее Лето…
Я лепечу что-то. «Простите великодушно… Инна Инина… семинар… приглашение…» Она долго молчит.
Затем, тщательно выговаривая слова, произносит совершенно непечатную фразу, из которой явствует, что поэты, по глубокому убеждению Женщины Рыжее Лето, стадами не ходят, что товар это штучный, и собирать их где бы то ни было в количестве трех есть абсурд, разве только если перед отправкой на лесоповал, а посему она лично в этих детских забавах не принимает никакого участия и в дальнейшем просит ее не беспокоить… И так далее, и тому подобное.
Да холера ее возьми, пусть себе говорит, что угодно, но за ее спиной, на стене прихожей висит отличный портрет пастелью. Санечкин портрет.
Когда дверь захлопнулась, до меня наконец дошло, что вот сию секунду из этого самого дома меня выставили.
Я села на ступеньку возле квартиры Женщины Рыжее Лето и призадумалась. Но особо переживать было некогда: там семинар открывают…
Я быстренько сотворила роскошный букет и положила его к двери негостеприимной квартиры.
Семинар благополучно открыли и без меня. А Санечка так и не пришел. Зато Дар сегодня блистает. В кулуарах он занялся самым неблагодарным делом: объяснять «чайникам», что они именно чайники, бездарям, что они таковы и есть, спекулянтам и конъюнктурщикам — соответственно. Через час его уже ненавидел весь семинар, а какая-то юная рифмоплетка и вообще рыдала в туалете. Экий однако неудобный в обиходе характер…
Я чего-то такое сквозь зубы Дару сказала. Он переменился в лице и ушел.
В девятом часу заседание закрыли. Московский гость, окруженный небольшой толпой поклонников, отягощенных подозрительно булькающими сумками, отбыл в гостиницу. Остальные участники семинара разбрелись по своим делам. И, как ни странно, я осталась одна.
Это бывает. Это мне знакомо: каждый из тех, кто хотел бы пригласить меня в свою компанию, почему-то думает, будто я уже обязательно приглашена другими. И со спокойным сердцем не приглашает к себе. Вот интересно: а если мне когда-нибудь понадобится помощь — финансовая, деловая, физическая, человеческая — они тоже будут думать, что я обойдусь без каждого из них?
Что-то я устала. Я медленно спускаюсь по широким ступеням здания обкома. На последней меня останавливают двое робких людей.
— Простите, пожалуйста… мы вот случайно узнали… Это здесь литературный семинар?
Так. Эти еще откуда? Самотек, что ли? Так мне селить их некуда, пусть тогда ночуют на столе инструктора! В его кабинете! Я грозно смотрю на них.
Ба! Знакомые все лица… Передо мною, тиская потными руками толстенькие папки, стоят двое немолодых свежеиспеченных поэтов, именно те, что пытались воспитывать Дара! Ну, братцы! Ну, я вам ща-ас… Старший уполномоченный делает вид, что мы незнакомы.
— Да, да, вы не ошиблись, семинар здесь, но мы уже закончили, следующее занятие завтра в одиннадцать. Не нужно огорчаться, ведь помимо официальных заседаний есть еще и неофициальные. Понимаете меня? Зачем откладывать на завтра, поедем со мной, сейчас и посмотрим ваши произведения… ах нет, нет, нисколько не затруднительно, это моя работа… ну, что вы…
И потащила я их, ничтоже сумняшеся, в гостиницу к московскому мэтру. Зачем? Может быть, мне просто нужен был повод, чтобы пойти туда.
Когда мы пришли, в номере застали интересную картинку. Мэтр лежал на кровати, выложив свои красивые загорелые ноги в белых топсайдерах на спинку, курил и глядел в потолок. По стеночкам комнаты сидели слегка перепуганные семинаристы. Они сидели очень прямо, держа руки на коленях, смирные, тихие и трезвые, — хотя на столе помещались пустая бутылка из-под коньяка, початая поллитра водки, кусок черного хлеба и четыре тушки копченой ставриды. Мэтр глянул на нас сквозь длинные ресницы и спокойно приказал:
— Читайте.
Мои крестники сначала покраснели, потом побелели, потом устроили препирательства, кому первому начинать. Читали с полчаса. Мэтр слушал. Затем неохотно поднял с кровати длинное, неуклюжее, но удивительно грациозное тело, разлил водку в два стакана и предложил слегка охрипшим декламаторам выпить. Мне не предложил. Более того. Он вытянул в мою сторону длинный сухой палец и жестко сказал:
— Пусть она уйдет.
А чтоб ты скис. Я ушла. Но я ему этого не подарю… Да что я ему — на елке досталась?! Чего он надо мной измывается?
И вот, изволите ли видеть, в городе происходит литературный съезд, событие пока что уникальное для областного центра. Наверняка сейчас в десятке местных кафе устраивают бенефисы молодых дарований, у московского мэтра в номере и вообще взаимное сердец лобызание, а я, устроитель сего фестиваля, бреду одна по ночной улице и мечтаю только о том, чтобы выспаться. Десятый час…
И вдруг задергалась та ниточка моей души, что была привязана к Саньке. Тревога, дыша жаром, как больной пес, облизала мое лицо. Где ты, Санька? Что с тобою?
И я увидела — что. И не дай мне Бог видеть такое еще раз.
Санечка стоял, хоронясь за колонной старинного крыльца. Лицо его было до глаз укрыто шарфом, в рукаве брезентовой штормовки он прятал обрезок свинцовой трубы. За спиной Санечки светились большие окна центральной сберкассы, заканчивающей рабочий день. А в двадцати метрах от таящейся фигурки поэта (о, Господи! поэта!) только что тормознула машина Госбанка. Человек в штатских брюках, в форменной рубашке, прикрывающей кобуру — с пистолетом на бедре, прижав локтем пухлую черную папку — там удостоверение и доверенность на получение денег — покинул пыльный «газик» и скорым профессиональным шагом направляется в особнячок фальшивого ампира, где находится сберкасса, где на крыльце его поджидает Санька… Происходит обычная ежевечерняя инкассация выручки. Но поджидает Санька…
Да что я такое на этой Земле, чтобы терпеть подобные вещи?
И в следующее мгновение я — я! — выхожу из дверей сберкассы в штатской юбке и форменной рубашке, прикрывающей кобуру с пистолетом на бедре, прижав локтем пухлую папку — там удостоверение и доверенность на получение денег. Другой рукой я сжимаю зеленый мешок, завязанный веревочкой под пломбу. Я держу мешок чуть впереди себя — чтобы Санька увидел сначала его, чтобы не успел сообразить: вошел в сберкассу мужчина-инкассатор, а выходит…
Не успел. И надо мною взмывает черная тень Санечкиной руки с занесенным обрезком свинцовой трубы.
И он увидел мое лицо.
Санечка обморочно закатывает глаза и заваливается к сырой, поросшей зеленой плесенью стене. Я хватаю мягкое, ватное тело обеими руками и уношусь по своему эшелону в астрал.
Затаптывая в теплой пыли мои следы, проходит крыльцом инкассатор Госбанка, держа привычный путь от дверей сберкассы. Но нас уже нет на его дороге.
Было невероятно трудно тащить тело Саньки сквозь тьму, расталкивая плечом мрак, продираться во мгле, от которой в глазах плясали кровавые искры… Я изрезала руки о звезды, отводя их с нашего пути. Я изрезала руки о звезды…
Первое, что я делаю, оказавшись в мансарде, отвешиваю от полноты души несколько звонких пощечин Саньке:
— Что ж ты, так тебя, перетак, разэтак!..
Он только мотает головой. Он плачет, кашляет, давится словами и соплями, он катается по полу, он рычит и матерится. Он орет:
— Вы!.. Ничего не понимаете, вы все! Что ты себе думаешь, я решил достать эти пять тысяч вот так, я не знал Уголовного кодекса?! Да наплевать мне — восемь лет, десять лет, в гробу видал! И не воображай, будто бы я ей эти тыщи в лицо кинул и гордо удалился! На! На коленях преподнес бы, с почтением, умолил бы принять… И взял бы ее, любил бы ее, а потом пусть вяжут! Ничего не понимаете…
Пока он нес всю эту околесину, я позвонила Стасу и послала к его дому такси. Стас примчался через десять минут.
Указывая на невменяемого Санечку, я сказала:
— Напоить. Крепко. Сидеть возле всю ночь. Не выпускать.
Стас — золотая душа — ничего не спросил, только кивнул и принялся за дело. Через полчаса Санька спал на моей кушетке, бормоча и кидаясь во сне. А я ушла. Третья ночь без сна. Помоги, Маргарита!
Рассвет застиг меня над крошечной речушкой, которая негромко лилась через песчаные перекаты, с забавным трудолюбием тащила сбитые ночным ливнем розы и спелые яблоки. Я купала в реке босые ступни, плакала потихоньку, дивилась сама себе. Ну что я такое, и что такое мои двадцать два года?!
Второй день семинара. Я любезно улыбаюсь разнообразным гениям из провинции, кокетничаю с мэтром, который занимается тем, чем ему и положено: добывает в периферийных морях литературные жемчужины. К его немалому удивлению, две он уже выловил. Дальше все известно: вызов в Москву на какое-нибудь дежурное совещание, публикация в задрипанном журнале с благожелательным предисловием нашего высокого гостя… а потом как придется. Как повезет.
Ах, Инна Инина, Инна Инина… Рыжее мое Лето…
Санька проснулся к полудню. Но суровый Стас применил мой рецепт, и Санька снова уснул. Спи, дитя мое, о, спи, поэт. Сон лечит все, он маленькая смерть, умри, Санечка, ведь ты воскреснешь, я знаю, что делаю, я знаю, я отвечаю за все…
Все закончилось наконец, и разъехались по своим градам и весям гвардейцы литературы первого областного призыва. Я помахала вслед белым платочком, промокнула слезы и, прихватив завязанную на бантик папочку с подборкой произведений участников семинара, явилась прелестным осенним утречком в издательство.
А в издательстве в кресле заведующего литературной редакцией сидел боров. Натуральный такой себе боров, жирный, розовый, в усах и при галстуке. Да ладно, умеем мы и с такими разговаривать, какие проблемы…
— Ах, здравствуйте, здравствуйте, чудная погода, какая осень стоит, знаете ли, а у нас тут семинар случился, и вот вам двадцать авторских листов исключительно талантливого текста.
— Мгм…
— Понимаете ли, наш город, с его замечательными литературными традициями, климат у нас опять же прекрасный, южный ветер и прибой, тени великих бродят под кипарисами, молодые достойны своих великих предшественников, и опять же обком комсомола.
— Мгм…
— Поверьте мне, я в Москве училась, кое что в своем деле понимаю, сборник отличный, ребята мировые, поэзия — экстра, проза — люкс, надо издавать.
— Мгм.
Идиот, что ли?
Ан, нет.
— Это все, конечно, очень хорошо, а что вы делаете сегодня вечером?
А сегодня вечером я ужинаю с тобой, козел позорный!
Ну и не подвела меня смекалка.
Вечер. Звезды горохом на черном бархате. Ресторан на перевале, двадцать километров от города. Еще бы! Здесь ужинают те, кому в городе с очередными дамами появляться невместно.
«Лава-анда, горная лава-анда…»
И на мне — коричневое шелковое платье, жемчуга и теплое золото. Эх, Сабаневский не видит… И со мною — жирный козел, который уже дергается, потому что этот танец я танцую с нервным смуглым мальчиком, у которого в распахнутом вороте рубашки виднеется «рябчик» — десантная тельняшка.
Кто ты, мальчик? Почему так сохнут твои яркие губы, каменно твердеют мускулы плеча под моей рукой, и неверные твои глаза бегут от моего взора? Кто ты, что так боишься подойти, сдернуть скатерть со стола, чтобы брызнул фарфор и хрусталь, чтобы козел этот умылся томатным соусом с шашлыка, чтобы вынес ты меня за порог кабака, отвечая за поступок свой всей мощью мужской руки, взгляда, слова, дела?
«Лава-анда, го-орная лава-анда…»
А за дальним столиком сидит над бокалом трезвой колючей минеральной воды московский мэтр, известный критик, светило современной литературы… И если дело дойдет до дела, то не мальчик в «рябчике», а седой элегантный москвич будет мне защитой. Это я понимаю четко.
Настолько, что при разъезде быстренько, сбежав в дамский туалет, создаю себе двойника.
И двойник — а ничего себе блондинка в шелке и жемчугах! — отбывает с издательским козлом, куда он скажет. Я вижу, как мальчик кусает губы и курит в фойе, как московский гость ловит случайную машину, как гаснут огни в поселке…
А елы-палы! Полночь, и луна, и южное пустынное шоссе, разлапистые тени грабов на асфальте, запах зноя и ковылей с близкой яйлы. Редкие машины шарахаются от меня. Еще бы — по ночному шоссе бредет, зыбко качаясь на высоких каблуках, женщина в длинном вечернем платье.
Ну и какого черта? Я запираюсь в своей мансарде, отключаю телефон и залегаю в горячую ванну. Все! Меня нет! Все уволены! Как вы мне надоели…
Буду лежать в душистой пене «Бадузана», буду есть манную кашу, таскать гантели по утрам, буду беречь свою нервную систему. И неправда это все, и нету на свете никаких таких поэтов, и литературы вообще не существует, и все это миф.
Отчаянный лом в мою дверь. Кто-то бьется всем телом, вопя истошно:
— Ольга! Оля-а! Проснись! Оля-а!
Я не знаю, как шапка Мономаха, но доля региональной маргариты безусловно тяжела. Налепив на мокрое тело махровую простыню, я тащусь отпирать.
Влетает Кешка, глаза безумные:
— Вот ты тут спишь, а там Дар повесился!..
Ну это же надо знать Дара, чтобы понять — вешаться никто даже близко не собирался. Но я, перепугавшись, влезаю в джинсы, «молния» визжит, захватывая кожу — трусики забыла надеть, кретинка! А во дворе фырчит желтый Кешкин мотоцикл, и ремешок не застегивается, как нужно — нет дырочки по моему овалу лица. Ветер ночной автострады мгновенно сбивает температуру, так что к дому Дара я прибываю почти в нормальном состоянии. А на пороге сидит совершенно спокойная Женщина Рыжее Лето. Инна Инина. Она-то здесь откуда взялась?! Впрочем, — мне сейчас аж совсем не до нее, я колочу в дверь обеими руками и ору:
— Дар! Дар, открой, это я, Ольга!
Молчание.
Глухой, мертвый голос Инны:
— Он на чердаке заперся.
— Ч-то? Заперся и повесился?
— Кто повесился?
— Да Дар же, х-хосподи…
— Да никто не вешался…
И тогда по наружной лестнице бегом на чердак:
— Дар! Да-арка! Открой!..
Молчание.
— Кешка! Сюда! Раз-два, взяли!. Дубинушка, ухнем!
Мы высаживаем хлипкую чердачную дверь.
Балки, бумажный хлам, паутина, зыбкий свет из слухового окна. Зыбкий свет из слухового окна, бумажный хлам, паутина, балки.
И сломанный черный человечек — Дар… Закинута голова, и на черемуховых губах — чахлая пена, чумной чернотой чеканено чело, чуткие ноздри, раздуты в чаянии чуда, но «черт побери, черт побери…»
В правой руке Дара — хрустящая упаковка от снотворного, в левой стакан с недопитым хересом. Ах, золотое вино Массандры…
Мы стоим над бездыханным телом, еще не понимая, что тело это — Дар, покинувший нас, добровольно ушедший от нас.
А во дворе надсадно воет сирена «Скорой помощи». Люди в белых халатах оттирают нас с Кошкой от тела Дара, хватают его, волокут, всаживают в него шприц с желтой дрянью, пишут бумажки, укладывают свободную от души оболочку человека на носилки и увозят под победно-тревожный клич сирены. «Скорую» вызвала Инна Инина, и говорить мне с нею не о чем.
Санька все спит, но уже у себя. Стас все так же бдительно сидит над ним. В клинике откачивают Дара, прикалывая блудную его душу к хилому телу кривыми иглами капельниц.
А у меня звонит телефон, и в трубке булькает медовый голос заведующего редакцией. Он рассыпается в комплиментах, благодарит за прекрасно проведенный вечер, выражает надежду на до-олгую теперь дружбу. И еще что-то такое странное говорит: «Никогда… первый раз в жизни…»
Ладно, это все лирика, это мимо ушей. А вот что стоит внимания: в Доме литераторов соберутся сегодня местные мэтры, и он хотел бы познакомить меня с ними. Надо соглашаться — они влиятельны здесь, эти лауреаты и дипломанты конкурсов, объявленных совхозом «Маяк» или рыбодобывающим объединением «Мертвое море». У них тут все схвачено, мне с ними еще встречаться и встречаться… Да и просто любопытно поглядеть на человека, зарезавшего сборник стихов Дара, на деятеля, гневно написавшего поверх названия сатирической пьесы Лешего наимудрый приговор: «Этот автор не любит свою советскую родину!» Все они будут.
Издатель встречает меня у порога и ведет к столику, расположенному в уютной нише. Вроде и кабинет, а весь зал видно. Удобно. Мой спутник чувствует себя именинником, представляя коллегам очаровательную (чего там, так и есть) двадцатидвухлетнюю девушку, он победно-лукаво потупляет глазки, намекая этак «я, конечно, джентльмен, забочусь о репутации дамы, но…» Мэтры слегка удивлены — я ловлю на себе их взгляды, тут же переносящиеся на обширное пузо издателя. Нас сравнивают.
Через три минуты меня уже называют «наше юное прелестное дитя», бурно радуются, когда мне удается сказать что-либо не очень глупое. Издатель горделиво и многозначительно поглядывает на коллег, мол — я говорил! умничка! Ну-ну.
Вот только теперь я поняла, почему Лицей наш — женский. Эти литературные генералы (ну, пусть полковники) двадцатилетних пацанов за пивом бы гоняли, фигурально выражаясь. А тут сидят, слушают почтительно, ручку целуют. Благодать. Все идет, как по маслу.
Ну да, ну конечно, это несколько странно — молодые таланты? В нашем богоспасаемом городе? удачная шутка… да нет же, дитя мое, мы, конечно, посмотрим вашу подборочку. Как славно выходит — издатель здесь. Издатель ведь не возражает? Тот солидно поразмыслил и высказался в том смысле, что сборничек листиков на шесть, брошюрочку под скрепочку (как на шесть?! у меня же двадцать листов подобрано!) издательство вполне потянет вне плана, тем более и постановление такое есть о работе с молодыми. А секретарь секции Союза писателей не возражает? Еще бы он возражал после четвертой рюмки водки! Ну и чудненько. А кстати, сейчас подойдет один наш коллега из центра, он у нас в гостях, было бы уместно дать ему подзаработать, на юге деньги тают так быстро. Сколько уважаемый издатель может заплатить за рецензию? Рубликов восемьдесят? Совсем хорошо. Нет, Олечка, вы только не обижайтесь, мы понимаем — проделана огромная работа по сбору всех этих опусов, но не может же издательство написать на книжке «Составитель Оля». Кто такая Оля? Почему Оля? Зачем Оля? А напишем мы составителем… а вот уважаемого секретаря секции. И ему деньжата не лишние, он у нас только что квартиру новую получил, обставлять надо, хе-хе… представительно будет: составитель — член СП, рецензент — само собой. А вот и он! Добрый день, коллега, мы рады. В Москве, я полагаю, дожди и слякоть? А у нас купаются вовсю, почему бы нам на побережье не съездить? Голубчик, закажите машины.
Я уже не слушала. И не знала, куда деваться от иронического прищура известного столичного критика, который Сел напротив. Нет, ну какого черта? Почему я постоянно спотыкаюсь об этого человека? Хорошо себе представляю, что он должен обо мне думать: ушлая девица, лихо пробивающаяся в литературу специфически женским способом. Сидит вот, мэтров охмуряет…
От чувства неловкости я залилась румянцем и принялась дерзить. Мэтры умилились. А я ощутила на плече крепкую сухую руку.
За спиной стоял Сабаневский.
Он обвел моих собеседников строгим взором и на ухо, но так, чтобы все слышали, поинтересовался:
— У тебя какие-то проблемы или мне показалось?
— Да нет, Сабаневский, все в порядке.
— Если что, я рядом.
И удалился с достоинством.
Литературные полковники приуныли на глазах. Они больше не называли меня прелестным дитем. И они не пригласили меня на прогулку, а поспешили договориться с критиком о рецензии и передать ему папку со сборником по материалам семинара. Атмосфера беседы явно похолодала градусов на пять. Честно говоря, я не знала, благодарить мне Сабаневского за его неожиданное вмешательство или проклинать. Будем жить, будем видеть.
А сейчас у меня есть более неотложные дела. Надо заглянуть в клинику, как там Дар.
Несчастный дружок мой лежит в реанимационной. На голубоватой подушке закостенело шафранного цвета лицо. На глазах — круги теней, как смертные пятаки. Печень посадил, идиот. Возни ему теперь с ней будет… Тонкая рука Дара уложена под капельницей, в нитевидную вену льется какая-то химическая дрянь. Потерпи, дружок, мне бы только ночи дождаться.
А темнеет в этих краях рано, так что уже в восемь часов я смогла вылететь из окна своей мансарды, держа курс на юго-восток. Естественно, на подаренной Кешкой метле.
«Доброй ночи!» — вежливо свистнула серая сова, планируя на мягких крыльях.
«Доброй ночи!» — веселый многоголосый писк стайки летучих мышей.
«Доброй ночи!» — знакомая сильфида приветливо помахала рукой и унеслась, треща стрекозиными крылышками.
Доброй всем ночи!
И вам, мэтры, тоже… Я увидела их на берегу. Они уже покончили с шашлыками, десертом, белым вином и просто лежали у крошечного костерка, молча слушая море. Грустные такие… А московской знаменитости среди них не было. Я сделала круг, снижаясь.
А вот и наш столичный гость. Он ушел от своих коллег довольно далеко по берегу, за гигантские валуны и сидел теперь на плоском камне, выступающем из воды. Он обнимал обнаженные плечи женщины, сидящей рядом, целовал ее очень осторожно, закрывая ее лицо белыми прядями своих волос.
Я не хотела этого, но на вираже увидела ее профиль. И чуть было не кувыркнулась в ночное море. С известным критиком, столичной знаменитостью целовалась зеленоокая сестра моя нереида.
Мне пришлось сделать вынужденную посадку на высоком обрыве мыса Меганом: пошла на таран глупая чайка, целясь прямо в глаза железным клювом. Самая зловредная для авиации птица…
Далее я медленно облетала заповедные места. Эдельвейс с вершины Карадага, горсть терновника с куста, из-под корней которого бьет теплый ключ, кисть дикого винограда с Медведь-горы, бутылка коллекционного «Ай-Даниля» из векового погреба, капли вечерней росы, нанизанные на паутинку, снятую с можжевельника… Почти все нужное для лекарства Дару я собрала. Теперь бы еще каплю меда и каплю яда.
И, склонившись над постелью спящей Женщины Рыжее Лето, я сняла с ее губ медовое дыхание. Ну, а к кому за ядом обращаться — известно…
Но Темной Звезды дома не оказалось. Что ж, мне не сложно найти ее: я полетела, ловя едва заметный запах духов «Русская кожа».
Луна сегодня яростная. Ее свет насыщен колдовской силой, искрится и дрожит, обрушиваясь на площадь перед старым армянским собором, закрытым еще в тридцатых. С той поры здание скорбно молчит, закутавшись в траур, словно гордая горянка.
Площадь залита живым серебром лунного света, но вокруг коленопреклоненной перед собором Темной Звезды лежит черный круг мрака. Женщина молчит, низко опустив голову, сложив ладони перед грудью.
Веянием воздуха я скользнула над ее годовой, подхватив на лету одинокую слезу с кончиков ресниц. Это покрепче любого яда будет. Такие слезы дорогого стоят.
Ох, братцы мои, что-то я ничего не понимаю!
В мерцании синего больничного ночника я сняла с капельницы флакон, заменив его точно таким же, но с моим зельем. И в жиды Дара потекли синева терпкого терновника, горечь эдельвейса, хмель винограда, мед лета и слеза зимы. Только будь жив, Дар. А там… Прорвемся.
А Стас посмотрел на меня измученно и сказал:
— Слушай, ему нельзя больше, сопьется.
— Больше и не надо. Как он?
— Да как? Проснется, стакан хватит, жилетку мне обплачет и опять спит. Третьи сутки уж вот так.
— Ну посиди с ним еще немножко, в очередь с Кешкой. Я придумаю что-нибудь.
А в самом деле — что делать с ним, бесталанным моим Санькой? Не в том смысле, что без таланта, а без талана он у нас, без счастья, удачи.
Вот раньше толково было заведено — монастырь. Любой человек мог попросить там убежища. Просто прийти и остаться жить. На какое время сам поведает. Совсем необязательно принимать послух, а уж тем паче постриг. Это удел избранных. А мирянин же просто входил в уклад жизни монастыря. То есть поднимался с постели узкой и жесткой на рассвете, завтракал молоком и хлебом, службу стоял, потом уроки работал — сено косил, воду носил, дрова колол, слушал колокол, трапезничал, да и снова во храм. Пост держал, духовное чтение слушал. Почти аскеза. Простой, спокойный уставов жизни, простая здоровая пища, и мысли такие же. Душа ведь — она в теле обитает. А при таком распорядке тело отдыхало, нервы успокаивались, и душа в равновесие приходила. Были, были такие обители. Как мы бы сейчас сказали реабилитационная психотерапия. Иному страдальцу и жития в обители не требовалось — помолиться бы только в тишине и благости, с батюшкой побеседовать, да и довольно для спокойствия душевного.
А теперь что? Психушка? Уж лучше сразу — головою в омут.
Надо думать. Саньке необходимо отдохнуть, прийти в себя, разумом укрепиться. Эх, почему у меня нет личного необитаемого острова! Какой бы я там санаторий для таких вот случаев отгрохала! Сидел бы Санька у меня сейчас на террасе над морем, пил настоящий мокко и слушал Моцарта… через неделю был бы как новенький.
Утром совершенно неожиданно позвонил московский гость. Сухо попросил проводить его к поезду — нужно, де, переговорить.
Ну, переговорили. Отдал он мне рецензию на сборник, высказал несколько замечаний. А когда прощались мы у вагона, вдруг тронул длинными пальцами мою щеку и сказал нежно:
— Вэдмэнятко…
Поезд вильнул хвостом на дальней стрелке, а я все глядела ему вслед.
Вэдмэнятко… Невозможно перевести это украинское слово. Совсем маленькая ведьмочка. Ну совсем.
Оно, конечно, за комплимент спасибо, а только мне пора наведаться в клинику. Но прежде чем незримо появиться в реанимационной палате, я заглянула в кабинет главного врача. Интересно мне было, что он там понаписал в истории болезни, и не требуется ли эти записи маленько исправить.
Перед взбешенным главным врачом сидели двое перепуганных людей. Старые знакомые… Врач ломал в руках коробок спичек и говорил торопливо, словно надеясь все-таки уломать упрямых собеседников:
— …Да поймите вы, странные вы какие. Не могу я этого разрешить, и не разрешу. Это возмутительно. Можете вы сообразить — в реанимации парень! С того света буквально вытащили! Как это я вас к нему пущу? Да он после вашего визита в окно сиганет! Я бы и сам прыгнул…
А они совершенно одинаковыми механическими голосами возражали, будто уверенные в конечной своей победе:
— Доктор, мы как раз и хотим, чтобы он в окна не прыгал…
— Доктор, его надо поместить как раз туда, где на окнах решетки, оттуда не выпрыгнешь…
— Доктор, там ему пару уколов сделают, он уже и сам прыгать не захочет…
— Доктор, поймите, пусть он только вот эту бумажку подпишет…
Врач хватал ртом воздух и наливался бессильным, а потому особо мучительным гневом. Наконец сорвался на крик:
— Я — медик! Доступно это для вашего понимания или нет? Я не допущу этого! Я сообщу о ваших отвратительных действиях куда следует! Вы войдете в реанимационную только через мой труп! И вообще! Я занят! Вы мешаете мне работать!
На столе главного врача вякнул телефон. Он сорвал трубку и по инерции рявкнул:
— Да! Я слушаю!
Но следующая его фраза прозвучала уже тоном ниже:
— Да… здесь… нет. Но позвольте, как это? Это черт знает что! Я буду жаловаться!
Телефонная трубка разразилась дразнилкой гудков. Врач оскалился и потряс трубку с жестоким наслаждением, как горло удавленного врага.
Потом изобразил ледяную улыбку и тихо сказал своим посетителям:
— Вон отсюда.
И что вы думаете? Они ушли! Так и пошли себе, как дуси!
А кстати, что там за бумажечку они хотели подсунуть Дару? Я, невидимая, заглянула через плечо старшего уполномоченного, который сжимал в руке влажный от его пота листок бумаги. Да-а… Полная индульгенция по форме: «Я, такой-то, претензий к таким-то не имею».
Испугались, значит. Ну как же, а вдруг их обвинят в доведении до самоубийства? Между прочим, весьма скоро они опомнятся и поймут, что бумажке этой, грамоте филькиной — грош цена. И единственное для них спасение — требовать от врача скрупулезного соблюдения одного крепко укоренившегося правила… Дело в том, что человека, спасенного после попытки самоубийства, ставят на учет у психиатра… А уж если им удастся сделать из Дарки патентованного психа, то… полная свобода действий. Можно не бояться никаких обвинений, можно, победно размахивая соответствующей бумажкой, требовать от лица общественности помещения поэта в специальное лечебное заведение, напирая на его опасность для окружающих. Соседи такое ходатайство подпишут, еще как подпишут… Соседям совсем нелишние три сотки сада возле дома Дарки.
Стоп. А ведь они чего-то такое говорили… насчет решеток на окнах…
Я бросилась обратно в клинику. Но Дара на месте не оказалось. Главного врача — тоже. Но с ним все более-менее ясно: срочно вызвали в горздравотдел. А вот куда девали Дарку?! Подать мне его немедленно!
И меня швырнуло, закрутило, перевернуло через голову и выбросило на желтый кафельный пол ванной — «помывочного пункта» психиатрического отделения клиники…
Бессильно свесив руки с набухшими венами, стоял посреди комнаты голый Дар. Казалось, уже ничто не интересует его в этом мире. Потухшими глазами смотрел он, как наполняется белая эмалевая купель — для крещения его в новую жизнь. Жизнь безнадежного психически больного. Толстая румяная санитарка пробовала воду локтем — точно как для младенца. Она обернулась, увидела меня и застыла с разинутым ртом. Потом быстро омахнулась крестным знамением. Ну этим нас не проймешь, тетенька!
Я крепко тряхнула Дара за плечо:
— Очнись! Ты меня узнаешь? Они тебя кололи? Отвечай! Хоть один укол успели сделать?
Дар с трудом разлепил ссохшиеся губы, улыбнулся жалко и прошептал:
— Оля… забери меня отсюда…
— Да конечно же, милый, за тем и пришла. Сейчас мы уйдем, Дарочка, потерпи, скоро все это кончится, все будет хорошо…
Я обняла его и осторожно подтолкнула к замазанному бедой волнистой краской окну. Щелкнули тугие шпингалеты, раскрылась рама. А за нею узорная решетка… Эстеты чертовы… А ведь не справлюсь сама.
— Дарочка, дай мне руку…
Он доверчиво протянул ладонь, глядя на свои растопыренные пальцы с любопытством идиота. Я крепко взяла его за руку, зажала в своей. И поднесла наши соединенные пальцы к железным прутьям решетки. Потек вонючий дым, закапал расплавленный металл. Соединенные наши руки — это, братцы, сила. Решетка вывалилась наружу.
Я заложила два пальца в рот и свистнула так, что листья посыпались с акаций больничного садика. Пусть еще спасибо скажут, что я им вообще этот желтый домик за высоким забором не разваляла.
Через несколько мгновений верная моя метла из омелы круто спикировала из поднебесья и зависла на уровне подоконника.
— Давай, Дар, садись… Не бойся…
А он и не думал бояться. Правда, сел по-дамски, боком. Ну, это с непривычки.
Напоследок я оглянулась на до смерти перепуганную санитарку. Она сидела на кафеле пола, зажав в руке мочалку и шевелила губами. Молитву вспомнила, что ли?
— А ты, тетенька, уходи отсюда. Коль еще молитву помнишь, так не место тебе тут.
Умница Стас — не закрыл окно в мансарде. Мне было бы несколько неловко приземляться во дворе с абсолютно голым Даром, а потом вести его по лестнице наверх.
Согласитесь, соседи могли не понять. А так нас никто и не увидел.
Я завернула Дара в одеяло, напоила горячим сладким чаем. Позвонила Стасу — пусть принесет какую-нибудь рубашку и штаны. К утру. И пусть Саньку приводит. Будем совет держать.
Я села рядом с Даром, обняла его голову, прижала к груди, шептала что-то, вязала слова бездумно — лишь бы голос мой звучал ровно и ласково, баюкая и успокаивая.
Он тыкался мне в шею жаркими сухими губами, всхлипывал и что-то бормотал, суетливо двигался, отыскивая удобное положение тела. Потом затих, прижавшись ко мне. Голова опущена, руки сложены у груди, ноги подобраны к животу… Поза младенца в чреве матери. Самая безопасная, бессознательно найденная поза…
Бедный мой, бедный… Я поцеловала зажмуренные веки. Дар вздрогнул. Потом тихо-тихо руки его поползли по моим плечам. Лицо окрасилось румянцем, затрепетали крылья ноздрей. Дар принялся исступленно целовать мои щеки, тыкаясь губами наощупь — глаз он не открывал. Его горячие пальцы мяли мои плечи, как глину, может быть желая вылепить из моего тела другое — любимое, памятное. Ведь глаз он не открывал… Да и вообще вряд ли сознавал, что делал.
Дрожащие руки Дара робко скользнули вниз и замерли, боясь окрика, а то и удара. Эх, дружочек… Это, пожалуй, единственное, что я сейчас могу для тебя сделать… Так бывает. Форма дружеской помощи, и это вовсе не цинизм. Мы ведь друзья. И не могу я отказать тебе в том, что тебе сейчас нужно, а у меня как раз имеется. Свинство это будет, и не по-дружески. Так что…
Дар ровно дышал у меня на плече, и лицо его было спокойным. А я снова не могла уснуть, лежала, глядя в потолок без мыслей, без надежды.
Перед рассветом небесная синева загустела, звезды вспыхнули ярче. С востока просочился свет, стал расти, шириться, наливаться яростным блеском. Кровавая заря. Это к ветру.
Я осторожно положила голову Дара на подушку и вылезла из-под одеяла. Пусть лучше он, когда проснется, не помнит о происшедшем. А то начнется… комплекс вины, угрызения совести, неловкости всякие.
Ему нужно хорошо поесть. Я приготовлю крепкий бульон, бифштекс с кровью. А еще полный стакан виноградного сока. И орехи.
В комнате послышалось движение. Я выглянула. Дар сидел на постели, завернувшись в простыню и недоуменно разглядывал стены моего жилища. Вид у него был совершенно здоровый, а глаза — определенно голодные.
— Привет! Завтракать будешь?
— И еще как буду… А где моя одежда? И как я сюда попал?
Я присела на край кушетки и взъерошила волосы Дара. Между пальцами шелковисто скользнула совершенно седая прядь.
— Ты, что ли, ничего не помнишь?
— Нет, ну почему… Ну, я… это… — и вдруг страшно смутился, покраснев кирпично, огнедышаще. — Я дурак, да, Оля?
— Это еще с чего?
— Я травился… пижон, мальчишка, ой, позорище… — Дар ткнулся носом в подушку и застонал.
— Брось, Дар. Бывает. Проехали. Захочешь — потом обсудим, годочков через пять. Сейчас, поверь мне, не стоит. Ну, а дальше что — помнишь?
— Дальше? Спуталось как-то. Отрывками — больница вроде… Я был в больнице?
— Был, был.
— В психушке? — вдруг с острым интересом спросил он и принялся рассматривать сгибы локтей, выискивая, очевидно, следы уколов.
— Ну, видишь ли… в психушке, можно сказать, тоже был…
— И что? Неужели меня выписали? А какое сегодня число?
— Не то чтобы выписали… Число сегодня третье. Только, знаешь, я подумала: ну чего тебе там делать? Ни родных, ни знакомых. Скучно. Вот я тебя и забрала.
Дар нюхом учуял приключение, глаза его заблестели, и он затормошил меня:
— Ну! Ну! Я же знаю! Чего ты там натворила?
— Ничего я не натворила. Договорилась со знакомыми ребятами из «Скорой», надела халат и стетоскоп, сделала умное лицо и явилась в клинику. Вошла через черный ход. Смотрю: санитарка тебя ведет по коридору. Я ей этак строго: больного перевозим в другую клинику, будьте добры проводить в машину. Она и рада стараться. Так что ребята нас прямо до дому довезли. Чистый вестерн! Похищение младенца!
Дар посмотрел на меня с сомнением. Я честно выдержала его вопрошающий взгляд, в котором бродили какие-то неясные ему самому воспоминания. Ничего, все нормально. Если и вспомнит, спишет на бред.
Дар завтракал на кухне, а я порхала вокруг него с тарелками, тарелявочками, тарелюшечками. Потом мы пили сок и неспешно беседовали. Дар бездумно водил фломастером по бумажной салфетке. Я осторожно покосилась на рисунок. На вафельной бумаге была изображена женщина с развевающимися волосами, летящая на метле.
Сердце на мгновение замерло, потом зачастило по ребрам. Я облизала вдруг пересохшие губы и с деланным равнодушием поинтересовалась:
— Чего это ты нацарапал? Маргарита, что ли?
Дар удивленно посмотрел на свое произведение, словно только сейчас сообразив, что во время разговора он рисовал.
— Что? А… ну да, кажется, Маргарита.
Рисунок я потом потихоньку стянула, чтобы не мозолил Дару глаза. Зачем мне ассоциативные связи, могущие родиться в его мозгу…
Стас и Санька появились очень рано, еще и дворники сны досматривали. В руках у Саньки был тощий рюкзак, который он осторожно поставил у двери. Стас в большом цветастом пакете принес одежку для Дара, и тот наконец смог расстаться со своим древнеримским одеянием — намотанной вокруг торса простыней.
Я угостила ребят соком. Они выпили его молча, опустив глаза долу. Мы не разговаривали — все, в общем, было ясно. Как-то вот так, ничего не обсуждая, все мы пришли к одной и той же мысли.
А поэтому вышли мы на тихую Сиреневую удочку, пересекли Почтовую и Госпитальную, прошли через пустынную площадь, поднялись в горку, неспешно проследовали Старым городом и оказались на склоне пологого холма.
Здесь кончался город. Дальше — рыжая выгоревшая степь, по которой вьется белая медовая тропинка, вьется, теряясь у горизонта, где синей грозовой тучей лежат горы.
— Ну, что ж… — я и Стас пожали друзьям руки. Стас сунул Санечке в карман сигареты и зажигалку, я — немного денег.
И они пошли. Спустились с холма и побрели белой тропкой, уходящей за край земли.
Мы долго смотрели им вслед, пока могли различать две чуть сгорбленные фигурки.
А потом вернулись в город и молча слонялись по улицам, ожидая открытия кофейни на Архивном спуске. Тетя Нина налила нам по глиняной кружке кофе, но пить его уже не хотелось, и так во рту было горько.
Стас огляделся и, жалко улыбнувшись, сказал:
— А вот там, у окна, было любимое место Дара…
— Да брось ты. Вернется, куда он денется. Мы тут еще такое шумство устроим…
— Не знаю. У меня почему-то такое чувство, будто мы проводили их навсегда.
— Перестань. Нельзя нам навсегда. Этак мы все разбежимся. И кто тут останется? Эти два поэта да издательский боров?
— Что ты несешь? Какой боров? Какие поэты?
— Да это я так… фигурально…
— Кстати… Следствие будет.
— Чего?
— Ну ты, мать, совсем уже. Дара из клиники ты похитила? Санитарка тебя там видела? Вот и соображай.
Мне стало как-то злобно весело.
— Следствие? Давай следствие. Воображаю! Да если санитарка им расскажет, как она меня видела, ее самое в психушку запрут!
— Ой, темнишь ты что-то, и я тебя совсем не понимаю…
— Плюнь, Стас. А давай мы лучше с тобой закатимся на побережье. Отдыхать-то тоже надо!
— Наконец хоть одна здравая мысль. Если поторопимся, успеем на одиннадцатичасовой троллейбус.
— Вот и славно. Беги за билетами, а я — домой, за купальником. Завтрак брать?
— Не надо! Сезон кончился, теперь на побережье перекусить свободно можно.
Дома я лихорадочно собиралась. Кинула в пляжную сумку купальник, полотенце, резиновые тапки… и вдруг руки мои опустились, хлынули слезы, и я повалилась на свою кушетку. Отчетливо встала передо мною картина: сожженная степь, белая тропа, блестящая, как лезвие ножа, и две фигурки… Ох, мальчишки!
Вы вернетесь. Вы обязательно вернетесь. Но только не дай мне бог сквозь милые ваши, любимые черты вдруг увидеть другие: старшего уполномоченного, например, или его серенького напарника, или моего издательского знакомца… Оставайтесь собой, мальчишки.
Полыхнуло синим пламенем, ударило волной кипящего воздуха, и на под мансарды с грохотом свалился роскошный письменный стол начальницы лицейской канцелярии. Сама начальница в неизменном синем костюме невозмутимо восседала за столом. Сколько ее помню — всегда вот так: сидит за столом, выложив локти, в руке вечный «паркер», в другой — надкусанное яблоко.
— Прекрати реветь, молчи, слушай! — гремнула она на меня. — Что это еще за самоедство? Ты ни в чем не виновата, никто тебя винить и не собирается. Подотри сопли, соберись и работай! У тебя вон еще два десятка гавриков. Понимаю, что тяжело. Пришлю помощницу.
Снова порыв ветра, и начальница канцелярии исчезла. Ну, за заботу, конечно, спасибо, не забывают все-таки. А вот помощница… черт его знает. Пришлют какую-нибудь грымзу, работай с ней потом.
Троллейбус тяжело мотался по горному серпантину, и сердце иногда уходило в пятки — я впервые ехала по такой дороге. А ну как загремим… костей же не соберешь. Кипарисы мне не понравились — напоминали могильные обелиски на заброшенном кладбище. Невразумительное какое-то дерево, ненастоящее. Декорация из плохой провинциальной пьесы. А море было теплым! И шастала в нем рыбья мелочь, маленькие крабики сновали на мелководье, бродили стайками прозрачные креветки, и на отмели блестел черепаховый гребень, потерянный моей зеленоокой сестрой нереидой.
Я с разбегу бухнулась в воду.«…в мировом океане. И в каждой капле будет он…» Матвей! Я вылетела из воды, словно крапивой стегнули. И мне почудилась улыбка Матвея сквозь зеленоватую толщу. Он всегда так улыбался… словно знал, что рано уйдет.
Не могу я в море… Отныне и навсегда запретно оно для меня. Так же, как запретна та белая тропа, по которой ушли Санька и Дар. Что-то много на моей душе грехов набралось…
В невеселые мои мысли вклинился радостный вопль:
— Ольга! Вот здорово! Ну мистика прямо, я тебе сегодня звонить собирался. До чего ж ты кстати!
Рядом со мной на пляжную гальку плюхнулся Славик — один из участников недавнего литературного семинара. Он весь светился от счастья встречи. Надо же…
— Нет, ты подумай! Я вообще всегда тебя страшно рад видеть, но вот сегодня ты мне позарез нужна!
Я покорно склонила голову:
— Во-первых, не ори. Людей перепугаешь. А во-вторых, что у тебя стряслось?
Славик перешел на восторженный шепот:
— Я гениальную штуку написал. Только, понимаешь, у меня сомнения вроде финал не вытянул. Посмотри, а?
— Что, прямо сейчас?
— А чего? Ты не пугайся, там немного, страничек семьдесят всего.
Он начал рыться в своей сумке. А я смотрела на него почти с ненавистью. Вот сидишь ты сейчас в одних плавках, золотистый от загара, красивый, как юный бог, жизнерадостный, как щенок, гениальную штуку написал! А потом… кто тебя знает? Вешаться начнешь, в психушку попадать, общественность тобой заинтересуется — мало ли чего еще. А я расхлебывай? У-у, ироды, что ж вы со мной-то делаете?.
Я читала Славкино произведение, а он бегал за мороженым, лимонадом, горячими чебуреками, которые поглощал Стас, ворча при этом: «Отдохнули, называется…»
— Ну, ясно, Славка. Есть тут момент благородного безумия. Но сдается мне — придется крепко пахать. Вот смотри…
И начались специальные разговоры часа на два. Мы перестали ползать по рукописи с карандашом в руках только ощутив дикий, зверский прямо голод.
Тут выяснилось, что все принесенные чебуреки Стас слопал. А я-то думаю, отчего это он лежит на солнышке пузом кверху, жмурится довольно и сарказмов не говорит, вопреки обыкновению. Но Славка оказался запасливым. Из своей сумки он извлек груши, пирожки, виноград. Мы обедали и ругались, потому что было совершенно необходимо выдрать из текста абсолютно лишний кусок, а Славка бросался грудью на его защиту и предлагал, наоборот, спорный эпизод расписать в самостоятельную сюжетную линию.
Вернулись мы в город поздно, да и то благодаря тому, что поймали на трассе какой-то случайный заблудившийся автобус. Водитель взял с нас трешку, а вез, как за червонец — с ветерком.
Я поднималась по музыкальной лестнице в мансарду, на ходу вынимая ключи из сумки. Возле моей двери сидела чрезвычайно изящная кошка. Совершенно черная, как грозовая полночь без единой звезды. Она кротко посмотрела на меня изумрудными глазищами и приветственно мурлыкнула.
— Ты откуда взялось, прелестное создание? А у меня и молока-то нет, угостить тебя нечем. И вообще, со мной ты с голоду пропадешь, я сама обедаю через раз.
Кошка недружелюбно сузила глаза и неожиданно заявила сварливым тоном:
— Ну ты долго разговоры разговаривать будешь? Открывай скорее! Я тут, на этих досках и пыльном половике полдня провела, кости ломит…
— Че-го? Это что еще за новости?
— Нет, ну ты какая-то не очень сообразительная. Тебе обещали из Лицея помощницу? Ну вот… это я и есть.
Что ж это деется… конец света.
— Ну ладно, проходи. Только молока у меня все равно нет.
— И не надо, — равнодушно сказала кошка, переступая порог. — Я кофе больше люблю.
Пришлось варить ей кофе. Она лакала его прямо из чашки, когда напиток остыл. Деликатно вытягивала грациозную шею, жмурилась, розовый язычок так и мелькал.
— Слушай, зверик, я как-то не очень понимаю…
— Это заметно.
— …ты будешь мне помогать? Каким образом? Мурлыкать по вечерам и греть ноги в стужу?
Кошка посмотрела на меня с отвращением и высказалась насчет антропоцентрического эгоизма весьма ядовито.
— …Ноги ей греть! Бобика себе заведи!
— Ну-ну, не лезь в бутылку. Я серьезно.
И тут выяснилось, что эта элегантная брюнетка, кошачье это отродье имеет степень магистра изящной словесности и является доктор хонорис кауза Барселонской академии. Ни фига себе. Это как же я ее чайной колбасой кормить стану?
В полночь барселонский доктор изводили опочить на, моей подушки, а я все сидела в кухне. Почему так пить хочется? Я залпом проглотила стакан воды из-под крана. Будто не воду выпила, а керосин — пожар внутри забушевал вовсю. Да что такое, на солнце перегрелась, не иначе… Пришлось достать из морозилки кусочек льда. Не помогает. И почему так пахнет дымом? Горим, никак?
Дым. Дым… Глаза выело, горло перехватило, полна голова дыма, дыма, дыма…
Я медленно опускаюсь на пол, шепчу что-то, и только некоторое время спустя понимаю: я произношу вслух кусок текста из последней повести Стаса, которую он начал писать, забросив пресловутый «милицейский роман». Сжег, сукин сын. Сжег рукопись. И этот…
Почему, все так сложно? Почему все наперекосяк? Почему нельзя нормально жить и работать?
Я плавно ускользаю в бред. Ясный, светлый, солнечный бред…
На двери моей мансарды — скромная, но солидная табличка: «Литературно-издательское агентство „Маргарита“». Я сижу в изысканно оформленном офисе, на столе передо мной мерцает экран видеосвязи. На экране — серьезное лицо Сабаневского. За его квадратным плечом блестит лазурь бухты Золотой Рог.
— …Прекрасно, Сабаневский! Я знала, кого посылать. Мы покупаем эту бумагу, весь транспорт. Дорого, конечно… ничего, выдержим. Отправляй как можно скорее, обещай премию за срочную доставку.
— Я понял, понял. Бумагу отправлю, а сам задержусь на пару дней. Ребята предлагают на выходные в Японию сплавать. Что тебе привезти?
— Из Японии? Ну конечно, хризантемы! А кстати, что с твоим самолетом? Ох, всегда мне эта фанера была подозрительна…
— А почему «кстати»?
— Очень просто, Сабаневский! Я подумала, что хризантемы завянут, если повезешь их «Аэрофлотом».
Сабаневский смеется:
— Да починили уже моего «Какаду»!
— Ну и прекрасно! Чао, Сабаневский! Эй, подожди!
— Что?..
— Как тебя зовут, Сабаневский? А то все по фамилии…
Сабаневский вдруг смущается и лепечет застенчиво, трогательно покраснев:
— Вова…
— Привет, Вова!
Я прекращаю разговор и обнаруживаю возле своего стола субъекта весьма поэтического вида — в клетчатой кепке и вельветовом пиджаке.
— Вы ко мне?
— А я не знаю. Я вот тут стихи принес…
— Прошу прощения, вы не согласитесь побеседовать с нашим экспертом?
— А он сечет поляну?
— Что, простите? Ах, да… Она «сечет». Она магистр и доктор Барселонской академии. Вот в ту дверь, будьте любезны, налево.
Телефон.
— …Какие могут быть разговоры, Стас. Конечно! Если ты так считаешь, назначай стипендию! Да при чем тут я? Позвони в бухгалтерию и выписывай чек. Пусть себе этот гений из глубинки спокойно ваяет свой эпос!
Курьер из типографий. Улыбается, кладет мне на стол свеженький, тепленький, красочкой пахнущий сборник стихов Дара. Я заказываю корзину цветов и прошу курьера заехать к Дару, вручить книгу и розы.
Факс. «Срочно встречайте делегацию Непала. Вылетели Катманду час назад». Встретим, какие проблемы. Я посылаю в аэропорт микроавтобус «Тойота» — делегация большая. Гостей отвезут прямо на перевал, в наш Дом творчества, пусть отдохнут. Баньку им с дороги… А уж все официальности завтра.
Видеосвязь. Флорида. Санька смеется и приветливо машет рукой. Загорел, черт, посвежел. Хорош!
— Хэлло-о, Оля! Все о'кей! Я подписал контракт с издателем! Условия фифти-фифти. Вэлл?
— Вэлл, вэлл! А когда я рукопись получу?
— А я тебе ее завтра по спейсу пошлю!
— Как же, дождешься от тебя…
— Не ворчи! Я тебе ананасов привезу…
— Поперек горла мне твои ананасы! Сабаневский на прошлой неделе индийцев встречал, так все кладовые базы ананасами забил! Он почему-то думал, что индийцы исключительно ананасами питаются…
— А они что?
— Ничего! Шашлыки за милую душу потребляют! За ушами трещит…
…Я смотрю в зеркало, трогаю пальцами родинку на щеке. Со временем она превратится в огромную бородавку. Все правильно, каждая порядочная ведьма к старости становится Бабой-Ягой и должна воспитать себе приличную бородавку. И чтоб из нее волосы росли… А черная кошка у меня уже есть.
Я спускаюсь по лестнице, спотыкаясь на каждой ступеньке. По привычке заглядываю в Кешкино окно, которое, как всегда, распахнуто. Кешка в одних плавках сидит у стола, согнув спину. Вырос… этот стол для него уже низок. Худущий, Господи… все позвонки торчат.
Я перешагнула низкий подоконник, неслышно подошла к мальчишке сзади, заглянула через плечо. Кешка старательно выводил большие круглые буквы. Я, придерживая дыхание, прочитала:
РАССКАЗКА № 2. Странности Каранта.
Берендес явился в дом к Каранту. Садится Берендес в Главное Кресло, закидывает ногу на ногу, переплетает руки на груди. Неизвестно откуда появляется третья нога, он закидывает ее поверх ног и, удивляясь, смотрит на входящего Каранта.
Карант указывает на ноги Берендеса:
— Ты болен?
Берендес резко отворачивается.
— Тебя, я тебя не знаю, и никогда в жизни не узнаю!
Карант (растопыривая руки): Почему, ужасный незнакомец?
Берендес (шевеля копчиком): А потому! Я заболел, а ты — француз.
Карант: Перекусил бы кресло, но выпали все зубы, теперь — француз.
Карант опускает глаза, тянется рукой к третьей ноге Берендеса.
Берендес: Но-но-но!
Карант: Тише, замолчи ты, замолкни, закройся, усохни, уморись!
Берендес (пугаясь, отодвигается): Оставь фокусы те, эти, все!
Карант: Не смейся. О-оп!
Он хватает третью ногу Берендеса, она исчезает. Карант превращается в портрет на стене.
Карант (поет): Ура-ура! Веселые деньки! Ракеты едят людей, люди едят ракеты! Покупайте погоны! Едят ракеты!
Берендес: Паркеты!
Карант: Едят!
Берендес: Кто? Что? Кого? Как? Зачем? Почем?
Карант-картина: Туземцы!
Берендес бросается в угол, достает оттуда пылесос: Искромсаю всех под корень! Перерубаю, как огромная доменная печь!
Карант-картина: Ура, и я с тобой!
Берендес: Умрем!
Карант-картина: Насмерть!
КОНЕЦ
— Кешка!!!
[Рассказку сочинил Дмитрий Зайцев. У него еще таких много.]
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

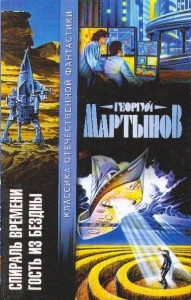
Комментарии к книге «Полёты на метле», Людмила Петровна Козинец
Всего 0 комментариев