Алексей Резник Черная Шаль. Книга 1
© Прокопец В. Д., 2015
* * *
Сказки замороженных строек
С некоторых пор талантливейший доктор филологии Александр Сергеевич Морозов начал покидать каждую ночь стены своей уютной холостяцкой квартиры и с японским магнитофоном, оснащенным мощнейшими микрофоном и усилителями, куда-то уходить до самого рассвета. Заметьте – позднего и тусклого зимнего рассвета. Жил он один и своими ночными прогулками, естественно, не мог побеспокоить несуществующих домочадцев. Его возвращений с ночных прогулок некому было ждать, и никто радостно не вздрагивал, когда примерно в восемь утра наконец-то тихонько раскрывалась квартирная дверь и в теплый темный коридор вваливался насквозь промерзший и смертельно уставший «профессор Сашка» (как прозвали его пролетарии-соседи).
Осторожно, почти неслышно захлопывая за собой дверь с лестничной площадки, он включал в коридоре свет, бережно ставил сумку с магнитофоном возле телефонной тумбочки, некоторое время почти бессмысленно щурился на тускловатую лампочку, потирая озябшие руки и словно бы о чем-то глубоко задумывался – о чем-то запретном для человеческой психики и ему самому непонятном. Подобное состояние патологической задумчивости, внешне оформленное, как бессмысленное разглядывание тусклой лампочки в коридоре, длилось обычно три-четыре минуты, по истечении которых Александр Сергеевич вздрагивал, что означало выход из транса. Добрые близорукие глаза самого уникального филолога мира приобретали осмысленное выражение, он наклонялся, расшнуровывал и скидывал тяжелые зимние ботинки, проходил в ванную комнату, наполнял ванну горячей водой, лежал в ней минут пятьдесят, отмокая и отогреваясь после очередной ночной экспедиции.
Согревшийся и освеженный, Александр Сергеевич нехотя поднимался из ванны, обтирался гигантским махровым полотенцем с изображенной на нем полуобнаженной, хмельной и полногрудой красавицей, находившейся в состоянии эротического экстаза, обматывал полотенце вокруг худых волосатых бедер и отправлялся на кухню заваривать кофе и жарить яичницу с колбасой.
Плотный вкусный завтрак неизменно вызывал релаксацию, одновременно с последним глотком кофе веки начинали предательски смыкаться, и, собирая остатки силы сознательной воли, ускользающей в сладкий мир снов, профессор Морозов добирался до холостяцкой кровати, на которой примерно шесть часов крепко спал непробудным богатырским сном.
Ну а затем… начиналась работа, специфика которой прямиком вытекала из результатов ночных отлучек. Александр Сергеевич проходил в кабинет, заставленный диковинной звукозаписывающей и дешифровальной аппаратурой, включал магнитофонные записи, сделанные ночью, голову украшал наушниками и принимался за расшифровку диких и странных шепотков, уловленных чутким японским микрофоном среди голых бетонных стен и ржавых арматурин, торчавших под самыми противоестественными и безобразными углами в промозглой пустоте, заключенной между голыми бетонными стенами.
Александр Сергеевич был филологом от Бога и только ему одному в целом мире оказалось сужденым услышать страшное слово: «Въейцехейлейгьз» и профессиональной интуицией ощутить наполняющий таинственное и жуткое слово смысл – звук скольжения тела человека равномерно ускоренно по внутренней поверхности трубы, изогнутой куда-то вниз на неизвестную глубину. С едва ли не суеверным трепетом он чувствовал, что стоит на самом пороге разгадки какой-то диковинной и неприглядной тайны, притаившейся где-то совсем недалеко от ясных, простых и понятных повседневных забот человечества…
Целостное представление о мире дало длинную извилистую трещину около двух месяцев назад прямо в разгар развеселой Новогодней ночи, когда профессор Морозов, как и десятки миллионов его соотечественников, «отрывался» по полной развлекательной программе, спланированной таким образом, чтобы создалось ощущение, словно трудовые будни никогда не наступят.
В середине декабря он получил эту двухкомнатную квартиру в долгостроившемся доме от своего родного университета. Панельный девятиэтажный дом доводился до кондиции почти восемь лет и, в конце-концов, был сдан в эксплуатацию, но, увы, со всех сторон оказавшись окруженным своими менее удачливыми собратьями, продолжавшими печально и немо смотреть на мир пустыми глазницами оконных проемов, нелепым недостроенным видом вызывая у случайных прохожих невольное сожаление о впустую затраченном огромном количестве бетона и арматурного железа.
Кстати, в городе микрорайон, где посчастливилось получить квартиру профессору Морозову, давно уже именовался не иначе, как Лабиринт Замороженных Строек, и само по себе подобное наименование автоматически заключало в себе определенный неприятный смысл. Но сам Морозов, во всяком случае, никакими дурными предчувствиями не мучился, когда въезжал, теперь уже, в свое собственное жилье.
Был у него друг, тоже доктор, но только – физико-математических наук, Терник Слава. Так вот он-то и сделался инициатором идеи отпраздновать новоселье непосредственно в Новогоднюю ночь, совместив, таким образом, два праздника в один. В придачу Славка пообещал привести двух «шикарных девчонок» из числа своих студенток-задолжниц. Он их действительно привел – Свету и Любу.
Девчонки и вправду легко тянули на «пятерку» – Света оказалась стройной пышногрудой блондинкой, а Люба – такой же стройной и не менее пышногрудой брюнеткой. Обоих природа наградила смазливенькими мордашками и никогда не затухающим специфическим блудливым огоньком в больших миндалевидных глазах, способным в любом мужчине мгновенно породить самые низменные инстинкты. И, чего греха таить, Александр Сергеевич не являлся исключением из правила.
Девушек он осмотрел с видимым одобрением и, когда они, раскрасневшиеся от мороза, скинули с себя изящные шубки, Саша (будем называть его иногда так для простоты изложения), недолго думая, размашистым жестом пригласил их к праздничному столу. Стол, следует отдать ему должное, был накрыт богато и изысканно – на две профессорские зарплаты. В центре стола, среди тарелок с закусками и салатами, возвышался запотевший графинчик, наполненный водкой достаточно высокого качества.
Девчонки не оказались привередами и не заставили долго себя упрашивать принять по семьдесят пять грамм «с морозца» и «за знакомство». Через пять минут после «первой» гостеприимный хозяин с большим душевным подъемом произнес избитую, но бесконечно верную фразу:
– Между «первой» и «второй» – промежуток небольшой!..
Ну и далее встреча Нового года покатилась по хорошо известному и накатанному руслу. Вернее, покатилась бы, но на привычном пути ее целенаправленного могучего течения повстречалось совсем неожиданное препятствие. И, как ни странно, к жизни его вызвала безалаберная блондинка Света, ляпнувшая в ходе оживленного и легкомысленного разговора, казалось бы, совсем невинную фразу:
– Никогда бы не подумала, что когда-нибудь буду сидеть посреди Лабиринта Замороженных Строек и вот так вот запросто пить водку сразу с двумя профессорами! – и она с совершенно бесстыдным многообещающим выражением в блестящих от выпитого спиртного голубых глазах посмотрела на хозяина квартиры.
А у хозяина же, неизвестно почему, после восторженного восклицания Светы, настроение не поднялось, а даже напротив – внезапно и заметно упало. Он как-то зябко передернул костлявыми плечами и словно бы с боязливой украдкой глянул себе через плечо – на тюлевые шторы, закрывавшие оконные стекла, в чьих прозрачных глубинах росли густые джунгли из ледяных пальм и папоротников. А там, за джунглями в кромешной темноте колючего морозного воздуха неподвижные и бесконечно печальные, загораживали большую часть звездного неба светло-серые громады мертворожденных многоэтажек, где по планам социалистического строительства давно должны были поселиться сотни семей.
Планы ли оказались, грубо говоря, хреновыми или не набралось необходимого количества семей, но стройки оказались незаконченными и брошенными на произвол судьбы. Обычно проемы черных окон многоэтажек смотрели на мир с безжизненным немым укором и своей вечной пустой чернотой неизменно напоминали профессору Морозову, с его необычайно тонкой нервной организацией, глазницы черепа человека, в преждевременной смерти которого виноватым отчего-то чувствовал себя и сам Морозов.
И совершенно неуместная, даже – просто сумасшедшая мысль посетила гениальную голову Александра Сергеевича: он, как и вся его компания не имели права в эти последние часы уходившего в историю года предаваться разврату и пьянке (хотя и – вполне заслуженным) на всю, как говорится в народе, катушку в то время, когда обитатели недостроенных многоэтажек, окружавших со всех сторон его более счастливый дом, такой возможности были лишены напрочь.
За праздничным столом установилось молчание, белая изящная ручка Светы с зажатым в ней бокалом шампанского, замерла в воздухе, доктор физико-математических наук Терник не донес до разинутого рта кусок жирной олютерской селедки, надетом на зубчики серебряной вилки, а брюнетка Люба, вообще, легонько взвизгнула – настолько неожиданно страшным сделался взгляд Александра за стеклами очков. Грешным делом, все подумали, что столь жутким образом ему в голову ударила водка и новогоднее торжество окажется напрочь испорченным, как следует не успев начаться.
– Сашка, ты – что?! – с плохо скрытым беспокойством спросил Славка, надеясь, что ничего страшного с его другом не произошло. И, к счастью, правда – пока, он оказался прав. Мутноватая идиотическая пелена медленно покинула поверхность глаз профессора Морозова, и он вновь посмотрел на старого друга и мимолетных ветреных подруг взглядом сильно подвыпившего, но психически несомненно нормального человека. Шумно выдохнув застоявшийся в легких воздух, с откровенно напускной веселостью в голосе он залихватски предложил:
– А ну-ка давайте поскорее еще водки выпьем и закусим на славу! Горяченького бы сейчас очень кстати оказалось бы! Страшно захотелось горяченького! Славка – давай, наверное, пельмени начнем варить! Вы, девчонки, как – не против?! – Саша суетливыми движениями начал разливать по хрустальным рюмкам холодную водку, но, тем не менее, постоянно смотрел сквозь наполняемые рюмки куда-то или на что-то, чего вовсе не было в комнате. Ни с кем не чокаясь и не ожидая, когда рюмки возьмут остальные, он залпом выпил свою порцию, закусил свеклой в чесночно-майонезном соусе, потряс головой из стороны в сторону и прохрипел блаженно:
– Вот теперь по-настоящему хорошо стало! Все – нет никого, никого не вижу и никого не слышу, и не услышу! Вот вам всем!!! – из пальцев обеих рук он сложил кукиши и показал их занавешенным тюлевыми шторами окнам.
Люба тихонько присвистнула, а Саша зло зыркнул на нее сквозь очки, опустил руки и раздраженно сказал:
– Да не сошел я с ума, не пугайтесь – еще вот водки выпью и окончательно все в норму придет!
– Пошел я, короче, пельмени ставить! – нарочито громко произнес Слава Терник, внимательно разглядывая Сашу. – Девчонки – кто мне поможет?!
– Славка – прекрати так на меня смотреть! – досадливо махнул на него рукой Саша. – Не рехнулся я – еще раз повторяю! Вместе все пойдем – пельменями займемся, – он пружинисто поднялся на ноги, обхватил Свету за тонкую теплую талию и легонько прижав девушку к себе, повлек ее на кухню.
Кризис, казалось бы, миновал. Уже через двадцать минут вся компания, как ни в чем не бывало, спокойно сидела за столом и дружно кушала вручную слепленные пельмени со смешанным говяжье-свиным фаршем. Ели неторопливо, окуная пельмени в томатный и чесночно-уксусный соус, смаковали сочную, нежную, ароматную начинку, не забывая припивать холодной водкой и вели легкую неторопливую беседу. Говорили, в частности и о том – кто, когда и почему назвал этот район Лабиринтом Замороженных Строек. Света, например, долго-долго морщила чистенький, не вспаханный никакими морщинами лобик, вспоминая какую-то старинную информацию, связанную с Замороженными Стройками, и вспомнила, наконец:
– Я еще девчонкой совсем была – мальчишки соседские у нас на этих стройках пропали.
– Как понять – пропали?! – с хорошо заметным, даже нездоровым, несколько лихорадочным интересом спросил Саша и даже немного подался туловищем вперед к сидевшей напротив через стол Свете.
– А так – пошли играть в «войну» там или в «казаков-разбойников» на эти стройки и пропали, не вернулись домой. Сначала их родители искали, потом – милиция, все там, весь мусор перерыли, но ничего и никого не нашли. Никаких следов. Осенью, помнится, это случилось – в октябре, дожди еще шли, погода такая мерзко-пакостная стояла… бр-р-р. Один мальчик с нами через стенку жил – Коля Ягодин. Хорошенький такой мальчишка был – «лен с васильками». С мамой жил и бабушкой. Бабушка вскоре умерла, а мама с ума сошла…, – Света умолкла и смахнула из уголка правого глаза нечаянно набежавшую слезу. Слеза, безусловно, была пьяной, но тем не менее за столом установилось вполне трезвое молчание. Тяжелое, почти тревожное и очень напряженное молчание. Славка Терник хмурил брови, рассеянно вертел в пальцах пустую рюмку и первым же нарушил затянувшуюся тягостную паузу:
– Я тоже кое-что слышал об этих стройках от одного своего приятеля-мента. За одиннадцать лет их существования там пропало тридцать два человека (Саша невольно вздрогнул, услышав приведенные данные). Это только, заметьте, официально пропало. Бомжи, естественно, не учитывались.
Саша хмыкнул в кулак и произнес:
– Странно это все как-то звучит и нелепо немного. Зачем, спрашивается, нормальных людей может тянуть на какие-то заброшенные стройки?! Я понимаю бомжей – они любой крыше над головой рады, а вот… меня, к примеру, взять. С чего бы ради мне вдруг бы понадобилось переться на эту стройку?! Можешь ты мне это, Слава, объяснить?! – он широко развел в стороны руками и возбужденно поблескивая глазами за стеклами очков выжидательно уставился на Славу.
– Стройматериалы, Саша, – как можно уравновешеннее и спокойней растолковал другу Терник, – Цемент, арматура, деревоплита и прочее, и прочее – на брошенных стройках частенько оставлялось много достаточно ценных материалов… – он что-то продолжал объяснять и дальше, но Саша теперь уже не слышал Терника, а видел лишь, как совершенно беззвучно шевелились его губы. Так стало происходить потому, что в ушах профессора зазвучал теперь другой голос, отвечающий на недавно заданный им вслух вопрос: «С чего бы ради мне вдруг понадобилось бы переться на эту стройку?!»…
– «…Потому что никто кроме тебя не услышит нас, и никто не сумеет понять, и никто не сможет помочь. Ты будешь ходить к нам в гости каждую ночь, будешь, обязательно будешь, иначе…» – дребезжащий сухой голос, видимо, очень и очень древней старухи на несколько секунд поселился у Саши в ушах, вытеснив все земные звуки. Но почему-то непрошеный голос резко прервался, и он так и не узнал, что должно было прозвучать после слова «иначе». Теперь он вновь начал слышать голос Славы, но совсем не понимал смысла им произносимого, странно поразил его взгляд Светы, смотревшей ему в глаза с искренней, неизвестно откуда взявшейся, едва ли не материнской, заботой. Он подумал, что Света молча – одними глазами, спрашивает: «Что с вами, Александр Сергеевич?» А он ответил ей, да и всем остальным, вслух:
– Меня позвала в гости чья-то старая-престарая, нет – мертвая, бабушка.
– Все-таки допились! – сокрушенно выдохнул Славка, но Саша опять не услышал слов друга. На секунду в Сашиных ушах вторично прошелестел перелистываемыми холодным сквозняком газетными обрывками голос чьей-то мертвой или никогда не существовавшей бабушки. На этот раз бабушка сумела продекламировать лишь одно диковинное слово: «Въейцехейлейгъз», причем твердые знаки улавливались им совершенно четко.
– Я, пожалуй, пойду в спальню – мне плохо, – с трудом ворочая языком, проговорил Саша, поднимаясь с кресла и нетвердо зашагав в сторону своей спальни, – Вы уж как-нибудь без меня тут допразднуйте…
Хозяин квартиры смутно догадался, почти никак не среагировав на ее порыв, что под правую руку его заботливо и нежно подхватила Света и помогла добраться до кровати, полагая, что профессор смертельно пьян. Но он не стал ложиться, а сел в стоявшее рядом с кроватью кресло и попросил Свету:
– Открой, пожалуйста, окно, в смысле, шторы отдерни.
Света с готовностю раздвинула тюлевые шторы, и они оба увидели оконные стекла, напрочь заросшие густыми ледяными джунглями, освещенными неярким голубоватым светом тусклой зимней луны. Сквозь прозрачные голубоватые джунгли на противоположной стороне улицы смутно угадывались контуры недостроенной двенадцатиэтажки.
– Садись, Света рядом, – Александр Сергеевич указал ей рукой на кровать – больше в спальне сесть было не на что. Но Света решила иначе, поставив предусмотрительно захваченные бутылку водки, две рюмки и тарелку с пельменями рядом с креслом, и вместо кровати уселась профессору на колени, обвив ему шею руками. Выражение почти материнской заботы, скорее всего, сейчас бесследно исчезло из красивых Светиных глаз, и эта мысль почему-то расстроила Александра Сергеевича. Он разнял руки девушки на своей шее и вернул их в естественное положение:
– Зачем тебе это нужно, Светик. Мне сейчас только что, когда мы сидели со всеми за столом, так понравилось, когда ты на меня посмотрела взглядом любящей жены. Но это, вероятно, была случайность…
– Нет-нет, Александр Сергеевич! – с жаром воскликнула Света, – Вы не подумайте – я не такая, во всяком случае – не хочу быть такой! Я посмотрела на вас так потому, что… – дальше он ее, как и несколько минут назад Терника, не слушал. Сквозь жаркое водочное дыхание каявшейся Светы и терпкие испарения ее каким-то незаметным образом все же оказавшимся полуобнаженным, тела округлившийся от изумления правый глаз Саши Морозова увидел, как в таинственных глубинах ледяных джунглей оконного стекла спальни под кронами папоротников и пальм зажигались разноцветные бенгальские огни, и прошло по меньшей мере полминуты, прежде чем до него дошло, что это во всех квадратах черных окон «замороженной стройки», возвышавшейся через дорогу напротив, один за другим робко загорались бледные нежно-голубые, нежно-желтые и нежно-зеленые призрачные огоньки, придавшие зданию умершей некогда новостройки загадочное и странное очарование.
– Вот опять – у вас появилось такое странное выражение лица… – несколько встревоженно заговорила она и во второй раз попыталась крепко обнять Александра Сергеевича.
– А ты разве ничего не видишь? – почти зло спросил он, грубо отдернув Светины блудливые руки.
– А что я должна увидеть? – беспомощно всхлипнула она, оглядываясь на окно.
– Ничего!!! – он столкнул ее со своих колен с такой силой, что бедная девушка едва не упала, но не упала, а в последней стадии испуга шарахнулась прочь из спальни с силой захлопнув за собой дверь.
Саша растерянно посмотрел ей вслед, словно сам не совсем понял – зачем ее обидел и с какой целью так грубо прервал чудесно начинавшуюся потеху. Но сожаление по пустяковому поводу оказалось мимолетным – бросив очередной взгляд на скелет двенадцатиэтажки, видневшийся через прозрачную призму ледяных джунглей прямо напротив его окон, он сразу забыл о Свете. Потому что робкие нежные огоньки в оживших оконных проемах не думали гаснуть, а напротив – неудержимо продолжали разгораться султанами потустороннего света. Александр нетвердым шагом подошел к самому окну, отодвинул в сторону тюлевую штору, чтобы не мешала смотреть и неслышно прошептал:
– Я брежу…, – он качнулся вперед и уперся взмокшим лбом о стеклянные замороженные джунгли, надеясь, что, быть может, ледяной холод стекла остудит жар, заполыхавший внутри головы, и тогда погаснут бесовские огни в пустых глазницах окон жилищ ночных сквозняков и грустных шорохов, и стонов.
Но нет, профессор Морозов окончательно, не успев сообразить – как это с ним произошло, потерял ориентацию в пространстве и времени, перестав видеть что-либо, кроме полыхавших ярким праздничным светом окон недостроенных квартир, каким-то непостижимым образом оживших на несколько часов Новогодней ночи. И ледяные пальмы, папоротники и сикиморы вдруг стремительно начали увеличиваться в размерах или, быть может, он – Саша, стал уменьшаться в размерах. Но как бы там ни было – весьма вскоре он стоял у кромки фантастического леса, в котором росли деревья с ледяными стволами и пышными снежными кронами. Густые раскидистые кроны периодически конвульсивно содрогались и неслышно окутывались облачками радужно вспыхивавшей снежной пыли. А прямо из-под Сашиных ног вниз под крутой уклон уходила облитая сверкающим позолоченным серебром дорога из никогда не тающего льда.
Еще почему-то у него возникла уверенность, что золотистый оттенок дороге придают щедро пролитые здесь человеческие слезы, толстым слоем намерзшие на ее поверхности за долгие годы существования. Он колебался, понимая, что стоит перед неотвратимым выбором… «… Въейцехейлейгъз!!!.. Только для настоящих мужчин…» – сухим раскаленным песком прошуршал по барабанным перепонкам Саши голос мертвой бабушки, и, ни о чем уже не задумываясь, а главное о том – бред это или явь, доктор филологии Александр Сергеевич Морозов сделал шаг вперед, и обе ноги Александра Сергеевича навсегда потеряли опору в земном реальном мире. Он со страшной силой опрокинулся на спину, звонко ударившись затылком о крепкий лед из слез и неудержимо, со все нарастающей скоростью, помчался по крутому уклону сквозь дебри дремучего ледяного леса навстречу яркому праздничному зареву, неугасимо полыхавшему там внизу за вершинами деревьев у подножия ледяной горы, по которой с бешеной скоростью он сейчас катился.
Лес промчался мимо глаз профессора сплошной ледяной стеной и никаких деталей он разглядеть не успел – успевал лишь крепко держать очки и считать повороты извилистой дороги. После седьмого поворота вконец очумевший Саша вылетел из леса и совсем невдалеке прямо перед собой увидел огромное квадратное окно – гостеприимно и широко распахнутое, откуда лился яркий-преяркий и очень красивый лимонно-шафрановый свет. Он заметил, что трасса его маршрута обрывается подоконником гостеприимно распахнутого окна и через несколько секунд ему придется со скоростью камня, запущенного из рогатки, влететь на чей-то чужой праздник в качестве незваного гостя. Окно неудержимо приближалось, и за несколько секунд до того момента, когда ему предстояло перелететь через подоконник, он успел разглядеть все, что было там…
А там, на длинных праздничных столах, искусно срубленных из древесины гигантских лепидодендронов и сигиллярий, исчезнувших с лица планеты еще до того, как в ее недрах образовались залежи каменного угля, дымились горячим паром глубокие металлические миски, до краев наполненные янтарным китовым жиром, и чинно стоявшие вокруг столов бледные исхудалые гости с жадностью вдыхали аппетитный аромат расплавленного китового жира, с непередаваемым наслаждением представляя, как вскоре потечет нежный и вкусный жир цвета старого янтаря по их пищеводам в слипшиеся от вечного голода желудки и немо благодарили неведомых им мужественных китобоев, добывавших этих свирепых огромных китов на утлых суденышках в бездонных морях безвременья. На отдельных квадратных столиках, притулившихся в углу пиршественной залы, гостей ожидали горы фруктовых салатов, нарезанных преимущественно из ворованных кроваво-красных помидор, растущих на склонах знаменитых Кудыкиных гор. И где-то еще на каких-то столиках в старинных многоведерных самоварах клокотал зеленовато-желтый чай, настоенный на лечебных травах, растущих в глубоких лесистых распадках, вечно заполненных влажными туманами сказочных детских снов.
Александр Сергеевич влетел через подоконник и его тут же бережно подхватили чьи-то сильные руки и осторожно поставили на великолепно отполированный паркетный пол. Среди сотен гостей: мужчин, женщин, стариков и детей он сразу узнал ее – хозяйку Замороженной Стройки, широкоплечую бетонную бабушку почти двухметрового роста с костями из арматурного железа, в длинном праздничном платье из тяжелой ткани цвета легированной стали, с суровым лицом асфальтового оттенка, на котором льдистым золотистым блеском неугасимо горели никогда не закрывавшиеся глаза. Она не стала тратить время на молчаливую паузу и хорошо уже знакомым Саше голосом проскрипела:
– Ты, видимо, понимаешь, что всех нас на самом деле нет и никогда не было. Но мы должны были быть. Нам всем, – бабушка повернула голову через плечо и кивнув на молчаливо сгрудившихся за ее спиной людей, продолжила короткий деловой монолог, – это твердо обещали в свое время. Ты должен будешь нам помочь попасть в жизнь. Ты обещаешь нам это?
– Что я должен делать?
– Я буду рассказывать тебе сказки, а ты их будешь записывать и рассказывать людям. Живым людям. И больше ничего. Ты талантлив, как никто в мире, и кроме тебя нас никто не сумеет понять. Не будем терять время – сейчас ты выпьешь миску китового жира, и я начну рассказывать первую сказку…
…Чашка янтарного китового жира повергла Александра Сергеевича в состояние, напоминающее легкий гипнотический транс, потому что исчезли куда-то празднично накрытые столы и сотни, отчаявшихся в несбыточной надежде ожить, несуществующих жильцов «замороженной стройки». Он очутился вроде, как в спальне – бетонная бабушка, сменившая праздничное платье на нечто наподобие домашнего халата, удобно устроилась в кресле-качалке, искусно сделанной из скелета огромного сенбернара, движениями, исполненными своеобразного потустороннего изящества, поглаживала сухими тонкими пальцами хорошо отполированный череп сенбернара, и закатив глаза к потолку, интонациями ласковыми и убаюкивающими, как если бы она обращалась к своим маленьким внукам, а Саши как будто бы и вовсе не было в спальне, начала повествовать о событиях необычайных и ужасных:
«… Жили-были в одном восьмидесятиквартирном доме мама, папа, дочка и муж дочки или – «примак», по-русски говоря. Жили они не то чтобы, как бы это выразиться пообразнее: «как пауки в банке» – нет, но и не особенно дружно. Поругивались, бывало, ну и… не без рукоприкладства частенько выходило. Но все же это была, какая-никакая, а – семья – основная социальная ячейка общества и главное – крыша была над головой, и – теплые стены вокруг, оштукатуренные стены без щелей и дырок, …горячие батареи, горячая вода… о-о-о-о… – бетонная старуха с горестным вожделением застонала о безнадежно утраченной ею возможности когда-нибудь окунуться в горячую воду и погреть там проржавевшие старые кости. Впрочем, стонала она недолго, своевременно спохвативее слушают засыпавшие внуки, она продолжила сказку: – В общем жили они и особенно не тужили, пока однажды «примак» отмочил бы такую штуку – подарил теще на пятидесятилетний юбилей Черную Шаль…»
Пролог
Вечер выдался безветренным, но в полночь неподвижный воздух дрогнул, и под внезапным порывом урагана черные тучи дружной стаей полетели куда-то во мрак ночи, освободив место на небе для лунного света.
Голубой свет яркой круглой луны сразу же залил огромное кладбище мощными потоками, отразился сверкающими красными точками в выпуклых глазах трех цыган, грабивших свежую могилу, зажег призрачные бледные огоньки на металлических и стеклянных частях многочисленных памятников.
От неожиданно вспыхнувшего лунного освещения, толстая бельмастая цыганка, стоявшая в тени высокой раскидистой березы возле края могилы, визгливо ойкнула, а ее муж Вишан, кидавший со дна могилы рыхлую землю, выронил лопату.
– Ты что визжишь, дура?! – приглушенным от истерической ярости голосом, крикнул Вишан на жену.
– Вай, вай, вай, Вишан! – таким же приглушенным голосом запричитала жена, – Посмотри, какая луна яркая! Бежать нам надо отсюда, а то худо будет!
– Замолчи! – прошипел Вишан и, взяв оброненную лопату в руки, с силой воткнул ее в землю. Железное острие заскрежетало обо что-то металлическое.
– Есть! – радостно произнёс Вишан. В голосе его не осталось даже следа от недавнего приступа бешенства. Шумно, облегченно перевела дух и бельмастая цыганка Шита. Неуверенно растянул губы в неприятной желтозубой улыбке, патологически трусливый деверь Вишана, Дюфиня.
– Что – точно, Вишан, мы не ошиблись?! – взволнованно спросил приободрившийся Дюфиня.
– Копай, копай, Дюфин, – засмеялся счастливым детским смехом Вишан, – Вишан знает, что делает! А ты, Шита, – коротко бросил он жене, – все-таки повнимательней по сторонам поглядывай! Хоть и ночь, и кладбище, а мало ли что!
Через полчаса напряженного труда, чертыханий Вишана и оханий Шиты, голубой лунный свет сверкающими ручейками растекся по поверхности великолепно отполированной крышки массивного чёрного гроба.
– Может быть, луна как раз и кстати, задумчиво глядя на откопанный гроб, процедил Вишан, – Только бы нас не застукали – в этот раз, чувствую я, здесь найдется богатая добыча…
– И я получу свою тысячу баксов, да?! – перебивая Вишана, торопливо спросил нервный Дюфиня.
«Хрен ты на мелкой ряске получишь, а не тысячу баксов!», – злорадно подумал Вишан, но вслух ничего не сказал, лишь согласно кивнул, с надсадным кряхтеньем опускаясь на корточки рядом с роскошным гробом, испускавшим, как и все предыдущие раскопанные Вишаном гробы, физически осязаемые волны тепла, до странности уютного, почти домашнего тепла. Хотя, в общем-то, это были даже и не гробы, потому что в них никогда не лежали покойники.
В эту странную могилу, случайно два года назад открытую для себя Вишаном, с постоянным упорством строго раз в два месяца закапывался ящик из красивого прочного сорта дерева, неизвестного полуграмотному Вишану – длиной в три метра и высотой в метр. Именно такой ящик и был откопан Вишаном и Дюфинёй в эту ветреную лунную ночь посреди обширного муниципального кладбища. Впрочем, для удобства Вишан всегда называл раскапываемые чёрные ящики «гробами».
– Тепло, как от печки! – удивленно произнес Дюфиня, прикладывая ладошки к крышке гроба. – Хорошо, наверное, лежать в таком теплом гробу, особенно зимой!
– Ты, видно, сам не соображаешь, что мелешь! – злобно и дико вытаращился Вишан на деверя.
А на деверя вдруг вновь накатила леденящая волна жуткого необъяснимого страха, заставив его желтые нечистые зубы отбить звонкую дробь.
– Да не дрожи ты так, – несколько смягчился грубый Вишан, – мне самому тоже не очень весело. Недолго уже осталось. В машину все быстренько перетащим и через час уже водку дома пить будем. Так что не дрожжи и перестань стучать зубами, они у тебя не казённые, – и Вишан негромко рассмеялся своей немудреной шутке.
Новый порыв, было утихшего ветра, заставил березу возмущенно зашелестеть густой листвой, откуда на толстую Шиту щедро посыпались голодные майские клещи. Вдалеке, там, где кладбище смыкалось с темным сосновым лесом, какая-то загадочная ночная тварь порадовала слух троих цыган необычайно громким и продолжительным ревом. Дюфиня охнул, и ничего не соображая от страха, ничком свалился в рыхлую тёплую землю рядом с гробом.
– Вишан, это сам дьявол пришел на кладбище за душами грешников! – как будто бы начала пороть откровенную горячку, перепуганная не меньше Дюфини, Шита. – Бежим отсюда!
– Молчи лучше, дура, пока я не ударил тебя по башке лопатой! – зашипел на жену Вишан, – Это ревёт заблудившаяся корова, некормленая и недоенная корова! И если ты еще раз раскроешь рот, то – клянусь, что точно угощу тебя лопатой!
Рев вскоре неожиданно оборвался и к глубокому удовлетворению трёх цыган больше ни разу не повторился.
Вишан, предварительно символически поплевав на ладони, взялся обеими руками за хромированную, такую же странно теплую, как и весь гроб, ручку, торчавшую прямо посередине крышки и повернул ее. Плавно и без нажима (он прекрасно знал, как нужно управляться с подобными ручками). Раздался щелчок невидимых мощных пружин, и массивная крышка гроба легко и изящно откинулась в сторону, обнажив внутренности блестящего чёрного гроба…
– У-у-у-х-х!!! – шумно и дружно вырвался у цыган вздох изумления.
Несмотря на тот неприятный факт, что на этот раз в гробу оказался покойник, радости цыган не было предела. Вишан включил мощный ручной фонарь и в снопе жёлтого света семицветными радугами заискрились грани, кучами сваленных, крупных прозрачных кристаллов, немного напомнивших глупой Шите мармеладки; зазолотились сложные узоры на скибках тяжёлой, явно очень дорогой, ткани, лежавшей вперемежку с радужными кристаллами; засеребрились чудного вида литые металлические кувшины, тазы и кубки. И навалено там было ещё много всевозможного сверкающего, яркого и пёстрого барахла, отчего у всех троих зарябило в глазах и помутнело в мозгах. Присутствие и необычный вид богато обряженного покойника нисколько не смутил отважных гробокопателей.
В течение часа содержимое черного гроба без остатка было перегружено в громадные полосатые мешки, сшитые из ворованных простыней, и далее перенесено в поджидавший грабителей джип «Ниссан», за рулем которого сидел родной брат Вишана, Мишта, вооруженный автоматом Калашникова.
Когда, кроме покойника, в гробу ничего не осталось, тяжело дышавшие Вишан, Дюфиня и Шита, минуту посовещавшись у края могилы, решили снять и одежду покойного. Уж слишком красиво и качественно она смотрелась, и со стороны практичных Вишана и Шиты оказалось бы непростительной глупостью оставить столь добротные вещи бесполезно гнить в этом дурацком просторном гробу, наполненном домашней теплотой и уютом.
Плечи и грудь покойного укутывало пушистое покрывало, словно подернутое дымкой нежно-бирюзового сияния, смутно напомнившим вконец огрубевшим за долгие прожитые годы цыганам о девственно чистых, омытых искренней добротой и любовью гуманистических идеалах, давным-давно забытых в бесконечно далекой юности.
– Эту шаль меньше чем за тысячу баксов я не продам! – твердо заявила, совсем ошалевшая от обилия свалившихся на нее из вскрытого гроба богатств, Шита. – Бабы на базаре с ума сойдут от зависти! А может, себе оставлю – а-ца-ца-ца, красавица ты моя! – как молодая мать над младенцем, умильно зацокала, зачмокала языком Шита и цепко схватившись за бирюзово мерцавшую пушистую ткань, сдернула теплое покрывало с костлявых плеч мертвеца.
– А-а-а-х-х-х!!! – Шита зарылась толстой мордой в пышный бирюзовый ворс и застонала так хрипло и сладострастно, что мужчины ненароком подумали: а не испытала ли она оргазм?
– Ладно, Шита, я тебе ее дарю, раз уж она так тебе понравилась, – и Вишан легонько хлопнул Шиту по необъятному заду. – Иди в машину, мы здесь с Дюфей сами закончим.
– Ой, Вишан, ты не представляешь – какая она теплая, какая она легкая, ласковая! Ай, ай, ай, Вишан! – в телячьем восторге затараторила Шита, быстрой танцующей походкой зашагав в сторону притаившегося «джипа», а за нею языком холодного бирюзового пламени летела сквозь ночной воздух украденная у мертвеца, на самом деле никакая не бирюзовая, а черная-пречерная, чернее угля в котельных преисподней, шаль. Опьяненная фантастическим успехом предпринятого грабительского раскопа, Шита даже и не заметила, что давно уже выпустила шаль из пальцев и та летит за нею без посторонней помощи сама по себе.
Вишан и Дюфиня вдвоем остались у раскрытого гроба, жадно рассматривая удивительный малиновый комбинезон в золотистую горошинку, плотно обтягивавший длинное сухощавое тело обитателя удивительного гроба. Обувь покойного, как и одежда, также выглядела красиво и необычно, чем-то напоминая цыганам отшлифованные до парадного блеска конские копыта.
– Как ты думаешь, это – кожа? – имея в виду комбинезон, спросил Дюфиня.
– Думаю, что – кожа, – ответил Вишан, – и очень дорогая. Вот только как мы его снимем, мне кажется, голова будет мешать.
– Да-а, – задумчиво протянул Дюфиня, глядя в закрытые глаза страшной маски, зачем-то надетой на лицо покойного, – Нужно снять эту маску.
Вишан, ничего не сказав в ответ, присел на корточки и осторожно потрогал сверкавшие под луной загнутые клыки, торчавшие из приоткрытой пасти жутковатой маски, потрепал пальцами за краешки жестких мохнатых ушей, пару раз щелкнул по гладким и прямым стреловидным рогам.
– Как она, интересно, снимается? – озадаченно спросил он вполголоса, обращаясь скорее к самому себе, чем к Дюфине.
– Наверное – за уши, или – за рога, – предположил Дюфиня.
Вишан с силой подергал сначала за уши, потом за рога – маска не поддалась ни на миллиметр.
– Подержи ему ноги, – коротко буркнул, опять начавший раздражаться Вишан деверю, – иначе у меня ничего не получится.
Дюфиня забрался в гроб, встал на колени и крепко сжал потными пальцами копытообразную обувь покойника. Вишан взялся за рога, поднатужился и рванул на себя. Послышался громкий неприятный хруст. Голова вместе с рогами и длинными ослиными ушами легко оторвалась от туловища, и Вишан, согласно закону инерции, рухнул на спину, задрав кверху ноги.
Дюфине сделалось смешно, но он благоразумно не рассмеялся и, чтобы Вишан не увидел кривой ухмылки на его лице, наклонился низко к покойнику, якобы – получше рассмотреть золотистые горошинки щедро разбросанные по малиновому фону комбинезона. Но проклятия Вишана слились в ушах Дюфини с далеким воем милицейской сирены и затем совсем растворились среди загадочного жужжанья раздавшегося где-то совсем-совсем рядом. Ледяная волна животного ужаса затопила убогую душу Дюфини еще до того, как он осознал, что жужжание доносится непосредственно из толщи крышки гроба. И далее он, скорее ощутил, чем догадался, что должно произойти.
– Дюф… – услышал Дюфиня растерянный голос Вишана.
– Вишан!!! – нечеловеческий вопль деверя обречено заметался в узком пространстве могилы, – Помоги мне!!!
– Что ты орешь, дурак! Вылазь скорее! – в обычной своей грубой манере посоветовал Вишан, однако прежней уверенности в голосе его не слышалось – он почуял неладное и непревиденное.
– Я не могу, Вишан – меня что-то держит!!!
Загадочное зловещее жужжанье прекратилось, послышался мощный щелчек, и крышка гроба изящно захлопнулась, гулко стукнув Дюфиню по голове и повалив рядом с обезглавленным трупом.
И как ни крутил потом хромированную ручку на крышке гроба Вишан, крышка упрямо не хотела подниматься. А тем временем, милицейская сирена взвыла где-то совсем недалеко, и Вишан, пробормотав что-то вроде: «Да, Дюф, придется тебе подождать до следующей ночи, авось не задохнешься. А мне из-за тебя срок мотать неохота!», вынужден был поскорее выбраться из могилы и бежать к поджидавшему «джипу».
То, что он продолжал крепко сжимать за рога оторванную голову покойника из чёрного гроба, Вишан заметил лишь в машине. Одновременно он догадался, что никакой маски не было – рога, ослиные уши, вытянутая, поросшая шерстью морда и вурдалачьи клыки – всё, оказалось настоящим. И когда он выдохнул:
– Поехали отсюда скорее – мы раскопали могилу черта! – Шита и Мишта решили, что Вишан бредит… Однако Шита вздрогнула и испуганно взглянула на бирюзово светившуюся шаль, но испуг быстро прошел, и она крепче прижала шаль к полной груди. Про Дюфиню никто не догадался спросить – слишком напуганным и подавленным выглядел Вишан и милицейская сирена звучала уже в опасной близости. Мишта нажал на газ, и «джип», негромко урча, покатился по извилистым улочкам города мертвых – подальше от милицейской сирены и от могилы, где остался лежать в гробу невезучий Дюфиня…
Часть первая
Глава 1
С самого раннего утра наша большая пятикомнатная квартира начала напоминать потревоженный муравейник. Чуть рассвело, как приехали какие-то гости из Мурманска – тещины то ли тётки, то ли сёстры, то ли чёрт их знает – кто они такие…
Шумные, здоровые, горластые – все в тещу. У меня от них почти сразу заболела голова. Примерно через полчаса после приезда мурманских гостей, под окнами квартиры на весь квартал начал сигналить микроавтобус с тещиной работы – это привезли к праздничному столу водку, пиво, шампанское, ветчину, мясо, сыр, колбасу, красную рыбу и лососевую икру.
Всю эту смесь мы с тестем перетаскивали вручную примерно в течение часа. Я нечаянно разбил одну бутылку водки на лестничной площадке и тем самым сильно испортил настроение тестю. Собственно, так как мы проживали в одной квартире, настроение я портил тестю, как и тёще, часто – сам того не желая. Ну и эту проклятую водку – у картонной коробки намокло и разлезлось: и одна (хорошо, хоть одна!) бутылка выскользнула, образно выражаясь, из обоймы. И, если сказать честно, тесть на меня посмотрел настоящим зверем, как будто я разбил не водку, а выпил пол-литра его драгоценной, тестевой, крови.
Тяжелый, очень тяжелый характер оказался у папы моей жены. Если бы я хоть немного знал этого папу до свадьбы, то еще десять раз бы подумал – жениться мне или не жениться. Да и, собственно, сама тёща – многие ее привычки часто вызывали у меня желание напиться до полного забвения и никогда не возвращаться в здравое состояние.
Кстати, вся сегодняшняя кутерьма с ранними гостями и привозом спиртного и продуктов, была вызвана, на мой взгляд, более чем сомнительным поводом – пятидесятилетним юбилеем тещи. Я всегда считал, что женщину прежде всего украшает скромность, а не количество прожитых лет. И патологическая тяга тещи к шумным многолюдным застольям в дни собственных именин, казалась мне проявлением серьезного морального дефекта или болезненной реакцией на очередной бесцельно прожитый год.
Почти сразу вслед за отъездом освободившегося от продуктов микроавтобуса подвалила очередная компания гостей – с полдюжины каких-то старух, которых видел я первый раз в жизни. Все они тоже оказались тещиными тетками: двоюродными и троюродными, по материнской и отцовской линии. Старухи подозрительно щурились на меня, спрашивали друг у друга: кто я такой? И одна из них, а может быть, и все вместе отвечали сами себе: муж, наверное, Радмилин. На что я, в конце концов, не выдержав, ответил:
– Да, муж – объелся груш.
Жена, поняв мое состояние, всучила мне деньги, заранее отложенные на подарок тёще и проводила до двери со словами: – Купишь вазу, какую мы с мамой смотрели в прошлый раз – она маме, если помнишь, ещё очень понравилась. С зелеными драконами и красными цветами. Не вздумай купить что-нибудь другое, иначе испортишь весь юбилей.
– Не волнуйся, кроме вазы ничего не куплю, – успокоил её я, натянув куртку и выходя за дверь. На лестничной площадке неожиданно для себя я остановился в лёгкой нерешительности, бестолково начав топтаться на месте.
– А может – вместе пойдем? – Мне почему-то вдруг сильно не захотелось идти одному и, по большому счёту, вообще, расхотелось идти на базар.
Брови жены удивленно изогнулись:
– С каких это пор, Валя, ты стал куда-либо меня приглашать? – она усмехнулась, и секунду подумав, добавила: – Я бы, честно говоря, с удовольствием пошла, но видишь, – она кивнула в сторону кухни, откуда раздавался гомонящий шум голосов, – готовить нужно помогать – вечером набъётся уйма народа.
– Да, пожалуй, что ты права, – я грустно опустил голову, не понимая, что со мной происходит.
– Валя, ну всё – иди! – решительно сказала жена и захлопнула дверь.
Глава 2
Через полчаса я оказался на базаре и первое, что выяснил, подойдя к посудным лавкам – понравившейся тёще вазы с драконами и цветами не оказалось, кто-то ее, как объяснил продавец, купил буквально за десять минут до моего прихода. Увидев мое огорченное выражение лица, продавец посоветовал сходить в цыганский ряд рынка, с веселой ухмылкой добавив, что «там можно купить всё: от краденых лошадей до презервативов со свистком». Шутка эта продавца мне понравилась, меня разобрал неудержимый тихий смех, и так вот, не переставая смеяться, я зашагал в цыганский ряд.
Возле громадного пятитонного грузовика стоял полный красноглазый цыган. Меня сразу насторожило его недоброе тёмно-бурое лицо под густыми седыми кудрями и я в очередной раз пожалел о том, что не уговорил жену отправиться на базар вместе с собой. Кузов грузовика переполняло всевозможное барахло: скибки тяжелых ковров, куртки, шубы, легкая летняя одежда и посуда. Среди посуды я, действительно, заметил несколько фигурных ваз из серебристого металла.
– Вот выбирай, соколик! – пригласила меня стоящая около кузова бельмастая цыганка.
Вазы мне не понравились, так же, как и не понравилось свирепое выражение во взгляде буролицего цыгана, стоявшего рядом с кузовом, скрестив руки на груди. Брезгливо выпятив нижнюю губу, цыган окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом и буркнул:
– Если будешь что брать – так бери, а нет – уходи, не отпугивай покупателя!
Я не удостоил хозяина грузовика ответом, невозмутимо продолжая рассматривать барахло, сваленное в кузове.
Вазы, определенно, отпадали. Их странная форма не могла мне дать подсказки – для какого рода продуктов они предназначены. Не знаю, что уж мне такое ударило в голову, но подумал я, глядя на начавшие пугать меня причудливые очертания мерцавших холодным серебристым светом ваз, о том, как пьют из них вурдалаки на своих вурдалачьих праздниках ярко-алую кровь. Я даже не сдержался и спросил буролицего цыгана:
– Интересно – из какой дыры вы достали эти ваши вазы?
– Что-о? – угрожающим тоном спросил цыган, еще брезгливей выпятив губу.
Кажется, между нами начинала завязываться ссора, неизвестно, во что вылившаяся бы, если б не вмешалась бельмастая цыганка.
В глазах моих что-то ярко сверкнуло, а затем сменилось глубокой непроницаемой чернотой – это цыганка, широко раздвинув в стороны длинные руки, затрясла мне прямо перед носом гигантской шалью сотканной, вероятно, из пуха черного лебедя. А может это был не пух, а – мохер.
– Какая красота, посмотрите, мужчина! – с пулемётной скоростью затараторила цыганка, – и дёшево совсем! Жене купишь – зацелует она тебя, красавицей настоящей будет ходить, оглядываться все будут! – и продавщица шали восторженно зацокала языком.
Цоканье ли цыганки прозвучало убедительнее всяких разумных доводов или необычно глубокий черный цвет шали и ее искристая пушистая поверхность очень понравилась мне, точно не помню, но шаль купил я совсем не торгуясь и почти не испытывая сомнений в правильности сделанного выбора. «Шаль эта теще обязательно должна понравиться!» – твердо решил я, отсчитывая цыганке деньги.
Покинув базар, я первым делом из ближайшей будки телефон-автомата позвонил домой и сообщил жене, что нужную вазу продали. На другом конце провода некоторое время царило молчание, затем жена каким-то усталым и равнодушным голосом произнесла:
– Ну и чёрт с ней. Приходи скорей домой – работы тут много, – она сразу же, очевидно, хотела повесить трубку, но, спохватившись, спросила: – А что-нибудь купил?
– Да – очень красивую шаль, – ответил я, как можно более радостным голосом.
Жена тяжело вздохнула и ничего не сказав, повесила трубку.
Глава 3
Вскоре я был дома и молча передал жене сверток с подарком. Она скептически взглянула на полосатую хрустящую бумагу, в которую завернула цыганка шаль:
– Пойдем-ка посмотрим в спальню – что ты там притащил.
В спальне шторы на окне до сих пор были задернуты, и в ней до сих пор сохранялся интимный ночной полумрак. Жена развернула сверток и испуганно вскрикнула, а я вздрогнул: нам обоим показалось, что из развернутой бумаги в полумрак спальни медленно поползла беспросветная могильная темнота, пахнувшая холодом и тленом.
Сильным брезгливым движением жена отшвырнула от себя мою покупку, как ядовитую змею, и удивительная шаль на целую секунду зависла в воздухе, грациозно расправив широкие черные крылья. И там, где на ее пушистую поверхность попадали солнечные лучи, пробившиеся в щели между плотно задернутыми шторами, вспыхивали, изумительные по красоте, лагуны трепетного нежно-бирюзового марева. Затем шаль плавно, по изящной вращательной траектории, по какой падают осенние листья, опустилась на нашу супружескую кровать.
Первое, такое страшное и сильное впечатление, произведенное на нас с женой черной шалью, исчезло также неожиданно, как и появилось.
– Ты знаешь, Валя, – медленно произнесла жена, глядя расширенными глазами на распластавшуюся по кроватному покрывалу шаль, – если бы золото было черным, оно бы выглядело именно так, как эта шаль. А ты, молодец, не ожидала от тебя такой прыти, – она улыбнулась мне. – Где, если не секрет, ты ее откопал?
– Да так – на базаре, я – неопределенно хмыкнул и пожал плечами, мне не хотелось говорить, что купил ее у цыган.
Жена, как будто и не услышав моего ответа, протянула руку и осторожно взяла шаль за краешек:
– Боже, какая она легкая и теплая! – подкинутая небрежным легким движением женских пальцев, шаль взлетела чуть ли не под самый потолок, зависла там на секунду-другую угольно-черным правильным квадратом и, как мне показалось, не хотя, совершила плавный неторопливый спуск обратно на кровать.
– Прелесть! – жена присела на краешек кровати рядом с шалью и уже откровенно любовалась ею, – Не понимаю – почему вначале она меня так напугала. Я даже хотела на тебя ругаться.
– Она вначале напугала и меня, и я тоже не понимаю: почему? – неторопливо процедил я, в отличие от жены, разглядывая шаль не влюбленным, а озадаченным взглядом. Какая-то фантастическая по сути и очень мрачная мысль стремительно пронеслась у меня в голове, словно грозовое облачко по ясному небу и как-то сама собой она у меня связалась с тем недавним спонтанным необъяснимым нежеланием одному отправляться на базар. К сожалению, я не успел сосредоточиться на этой фантастической и мрачной мысли – жена резко поднялась с кровати, неожиданно обняла мена за шею, жарко поцеловав в губы:
– Все-таки ты у меня умница, Валечка!
Когда мы оторвались друг от друга, то шали на прежнем месте не увидели, она оказалась лежащей метрах в трех от кровати посреди ковра, покрывавшего пол спальни. В течение минуты мы остолбенело смотрели на шаль и совершенно не могли объяснить – каким ветром ее туда унесло?
Глава 4
Разрытая Вишаном могила смотрелась пустой глазницей на ухоженном лице самого респектабельного городского кладбища, и вызывала чувство сильного душевного дискомфорта у четверых мужчин, стоявших у ее края. Мужчины наблюдали, как на дне могилы два солдата срочной службы разрезали автогеном тяжелый черный гроб из полированного дерева. Гроб поддавался плохо и один из мужчин, стоявших у края могилы, сказал:
– Возможно, что это никакое ни дерево….
– Мне тоже так кажется, Сергей Семенович, – поддержал его самый молодой из всей компании, вихрастый кадыкастый очкарик, – Это не дерево, это – мастопатан, черный губчатый мастопатан – самая распространенная коферментная форма нашего титана. Мы с Орнадским нашли уйму этой дряни в девяносто втором году на Ямале во время той петрушки с ненецкой старухой из стойбища Гунак…
Все почему-то заулыбались скверными кислыми улыбками при упоминании о стойбище Гунак. А тот, кого вихрастый молодой человек назвал Сергеем Семеновичем, усмехнулся как-то особенно хмуро и криво, оглянулся на дежуривших невдалеке автоматчиков из группы «Альфа», на специальный бронированный катафалк, чей длинный кузов яркосверкал под лучами майского солнца. Ещё кривее усмехнулся и вихрастый очкарик, оборвал рассказ о ненецкой старухе с летающими вшами в голове.
– Товарищ полковник, – выпрямился один из возившихся в могиле, – по-моему, готово, можно открывать крышку.
– Ты уверен, Саенко?! – ни от кого не ускользнуло, что голос Сергея Семеновича дрогнул.
– Уверен, товарищ полковник, – твердо повторил солдат. – И еще…, – добавил он и замялся.
– Что еще? – глаза Сергея Семеновича сузились и сделались холодными, в них сверкнул стальной блеск, они впились жадным взглядом в крышку гроба.
– Нам с рядовым Зайцевым кажется, что в гробу кто-то шуршит. Но мы знаем, что в гробу ничто не должно шуршать…
– Вы чересчур много знаете для рядовых, Саенко! – строго оборвал разговорчивого солдата Сергей Семенович. – Быстро вылезайте из могилы!
Когда солдаты выполнили приказание, полковник спрыгнул туда сам.
– Осторожнее, Сергей Семенович! – встревоженным голосом посоветовал ему очкарик.
– Двум смертям не бывать, Эдуард! – вяло махнул рукой Сергей Семенович, усаживаясь на корточки рядом с гробом. Задумчивый взгляд его словно приклеился к блестящей хромированной ручке, на чьей гладкой поверхности четко зафиксировались отпечатки пальцев Вишана. Он смотрел и смотрел, и все никак не решался взяться руками за край приподнятой крышки и резким сильным движением отшвырнуть ее в сторону, обнажив для всеобщего обозрения внутренности гроба. Зрители на краю могилы напряженно ждали, когда это произойдет. Но Сергей Семенович, минуту назад спрыгнувший в могилу с твердым намерением побыстрее познакомиться с содержимым гроба, сейчас не торопился.
Во-первых, его поразил тот факт, что гроб оказался с подогревом, а во-вторых, и это было главным – он почувствовал опасность, смертельную опасность, притаившуюся рядом, под черной полированной крышкой. И это ощущение близкой угрозы для жизни странным образом переплелось со смутным, но сильным ощущением вины неизвестно перед кем, может – перед покойником, чей последний приют полковник вынужден был предавать сейчас кощунственному осквернению. И еще… Сергей Семенович, продолжая сидеть на корточках на дне могилы, вдруг стал производить крайне жалкое впечатление. Стоявшим сверху, у осыпавшихся краев могилы, их легендарный начальник показался присевшим по тяжелой нужде клиническим идиотом – настолько несчастным, растерянным и бессмысленным сделалось его лицо.
А Сергею Семеновичу, действительно, на пару секунд сделалось крайне жутко – эгоистичный страх перед возможной скорой гибелью и неясное чувство вины уступили место нахлынувшему ощущению непоправимости происшедшего. Ночью что-то произошло. Непоправимое, внушающее ужас, сеющее панику и смерть, поражение. А поражения Сергей Семенович терпел очень редко. И если терпел, то очень сильно переживал. Как сейчас – в могиле, грабительский раскоп которой ему ни коем случаи нельзя было допустить.
Внутреннее состояние полковника постепенно проникло и в души подчиненных.
– Вы считаете, что мы оказались в ситуации «Игрек»!? – нарушил тишину капитан Эдуард Стрельцов, самый многообещающий офицер в команде Сергея Семеновича.
– Этого я пока не считаю, медленно проговорил Сергей Семенович, и так же медленно поднимаясь с корточек, добавил: – Мы пока не будем вскрывать этот гроб. Лучше, думаю, сделать это завтра, а на ночь оставим охрану.
– Не понял, – озабоченно глядя на Сергея Семеновича, произнес капитан Стрельцов.
– Прежде чем его вскрывать, – объяснил Сергей Семенович Стрельцову, – я должен позвонить в Москву, – и немного помолчав, причем молчание получилось очень тягостным и зловещим, он добавил: – Здесь создалась слишком опасная ситуация, для того, чтобы принимать единоличные решения.
Глава 5
Тёще наш с женой подарок понравился. Она долго встряхивала шаль на вытянутых руках и с видимым удовольствием наблюдала, как возникают, расходятся кругами и вновь тонут без следа в непроницаемой пушистой черноте бирюзовые и спектральные круги, овалы и волнистые линии.
– Прелесть какая! – медленно, с восхищением и благодарностью произнесла теща, прекратив встряхивать наш удивительный подарок. – Спасибо, дорогие мои! – И она поочередно, сначала – жену, а затем – меня, смачно расцеловала в обе щеки.
– Это Валька выбирал, – с улыбкой сообщила Рада своей счастливой маме.
– Ну он же меня любит, зять мой! – почти нежно взглянув мне в глаза, торжественным голосом заявила теща, слегка приобхватила мои плечи большой не по-женски сильной рукой, и приглашающе подтолкнула (презентация черной шали проходила в её спальне) к дверям, ведущим в зальную комнату, где за накрытым праздничным столом ожидали начала роскошного обеда проголодавшиеся гости.
Впрочем, ожидание того стоило. Забыл совсем сказать, что теща моя была директором одного из крупных городских ресторанов, ну и, разумеется, праздничный стол, покрытый скатертью, сверкавшей снежной чистотой, буквально прогибался под тяжестью объёмных кулинарных узоров, поражавших глаз многоцветьем свежих, ярких, аппетитных красок. Бутылки шампанского, хрустальной и чистой, как слеза, водки, дорогих коньяков, составляли основу хитроумно сварганеной композиции обильной снеди на столе и невольно приковывали к себе жадные взгляды, старавшихся сдержать дрожь нетерпения нескольких анонимных алкоголиков и алкоголичек, имевших честь присутствовать среди умеренно пьющего большинства друзей и родственников тещи. В воздухе чувствовалось всеобщее нарастающее оживление.
Оживление разразилось своим естественным апогеем – появлением самой юбилярши с накинутой на плечи роскошной шалью. Полная, но удивительно пластичная в движениях, теща, лебедем прошлась перед завопившими комплименты гостями, повернулась вокруг оси, приподняв слегка уголки шали с обоих концов, словно собиралась сплясать «цыганочку», и усевшись за отведенное ей почетное место во главе стола, звонким голосом похвалилась:
– Зять мне подарил такую красавицу – уважает и любит, значит, тещу, если на пятьдесят лет в самую точку её вкусам потрафил!
Речь именинницы прервал требовательно зазвонивший телефонный аппарат, висевший у нас в коридоре на стене. Теща танцующей походкой подошла к телефону, сняла трубку, поднесла ее к уху и возбужденно-радостным голосом, с хорошо поставленным выражением, произнесла:
– Я слушаю Вас! – и лишь только услышав голос, находившегося на противоположном конце провода, абонента, теща тихонько счастливо ахнула и по ее розовощекому, и без того оживленному лицу, мгновенно расползлось выражение самого настоящего экстаза. Она слушала минуты три, не переставая блаженно улыбаться и иногда успевая вставлять одну и ту же фразу: «Спасибо, спасибо Вам огромное, Андрей Витальевич!!!».
Через три минуты монолог невидимого, но, по всей видимости, очень влиятельного абонента, закончился и, бесконечно счастливая теща, повесила трубку, на несколько секунд томно опустив голову долу. В квартире установилась выжидательная тишина. Теща подняла голову и, не в силах стереть с лица широченную улыбку, сообщила гостям благоговейным полушепотом, как, если бы ей позвонил и поздравил с юбилеем сам Господь Бог:
– Э то зво нил мэр!
Гости разразились бурей рукоплесканий, а кто-то из тёщиных официантов крикнул:
Жалко, что мэр Вас не видит – с такой шалью, Антонина Кирилловна, Вам хоть сейчас – на Всемирную выставку! – и не поняли гости, какую именно выставку имел ввиду успевший где-то «клюкнуть» официант – тёщ, шалей или того и другого, как вместе взятого и единого целого. Но неудачный комплимент подвыпившего официанта почти сразу потонул в разбушевавшемся море других, гораздо более удачных комплиментов. И никто кроме меня не расслышал произнесенные негромким, но очень убежденным голосом, слова:
– Да с такой шалью на плечах только заживо в гроб ложиться!
Слова были произнесены у меня почти под самым левым ухом, и я резко обернулся, сразу столкнувшись с убийственно ироничным взглядом огромных глаз жены, за которые, собственно, и полюбил её когда-то. Эти кощунственные слова произнесла именно она.
– Ты что?! – я мгновенно разозлился не на шутку, – Ляпни еще раз погромче, а то тебя никто не услышал. Пять минут назад сама же восхищалась этой шалью, а теперь?!
– А теперь не восхищаюсь! – коротко парировала Радка, не сводя непонятного, устремлённого мимо меня взгляда на шаль, покрывавшую плечи её матери. Тысячи золотистых точек, отражавшие свет электрической люстры, сверкали на поверхности шали, заставляя ее выглядеть почти по-неземному красивой…
Глава 6
Андрей Витальевич Шлодгауэр после завершения короткого разговора с моей тещей, некоторое время в задумчивости стоял над телефонным аппаратом и мысленно прокручивал только что состоявшуюся беседу, выискивая возможные, неудачно построенные фразы, которые кажущейся недосказанностью могли бы обидеть юбиляршу. Но нет – слабых мест в своем поздравительном монологе, временно исполняющий обязанности городского мэра, не нашел. «Женщина, я думаю, останется довольна!», – удовлетворенно подумал он, усаживаясь в удобное мягкое кресло перед телевизором, возвращаясь к прерванному просмотру учебного видеофильма «Как воспитать в себе политического вождя?».
В этот вечер Андрей Витальевич остался дома в одиночестве – жена с дочерьми осталась ночевать на даче, и он решил посвятить выдавшийся свободным вечер политобразованию, которого, по его мнению, ему ощутимо не хватало, как новоиспеченному главе городской администрации. Посмотрев пару минут на экран, Андрей Вальтерович вдруг ощутил отсутствие душевного спокойствия, какое обычно испытывал вот в такие, редко выдававшиеся, одинокие вечера отдыха, когда ему никто не мешал заниматься размышлениями на любимые темы.
Что-то насторожило и.о. мэра – какое-то неуловимое темное предчувствие, неожиданно вылетевшее из мглы подсознания и прошло немало времени, прежде, чем он интуитивно связал его появление с праздновавшимся в эти часы пятидесятилетним юбилеем Антонины Кирилловны Кобрицкой – директора, едва ли не крупнейшего, городского ресторана «Люкс», вот уже несколько лет традиционно обслуживавшего городскую номенклатуру.
Что-то там, на этом юбилее, происходило не так, неправильно и нелояльно по отношению к верхушке городской администрации.
– Надо же!.. – воскликнул он даже вслух, безмерно удивившись вздорности собственных, таких пугающе, неожиданных мыслей.
В этот момент, как раз зазвонил мобильный телефон. «Очень кстати!» – подумал и.о. мэра, поднося «говорящую дырку в семейном бюджете» к правому уху, не без оснований предполагая, что звонит с дачи жена.
Но оказалось, что это звонила вовсе не жена – Андрей Витальевич услышал хорошо поставленный мужской голос, давно уже ставший ему ненавистным. Голос принадлежал генерал-майору внутренних войск в отставке, бывшему Депутату Государственной Думы, черт его знает, какого созыва, главе областного отделения одной морально полностью обанкротившейся политической партии, некоему Антону Савичеву.
– Здорово, Андрюха! – в обычной своей фамильярной манере поприветствовал Шлодгауэра Савичев (когда-то, лет двадцать пять назад, они вместе учились в университете на разных факультетах), на что Андрей Витальевич с тихой ненавистью процедил сквозь зубы:
– Не Андрюха, а – Андрей Витальевич. Я же с тобой свиней не пас, Антон! Говори быстрее, что хотел и не трать мои деньги!
– Я тебя хотел предупредить о наступлении крайне неблагоприятных дней для представителей правящей в области и, особенно, в городе, партии. Это совершенно достоверные данные, вытекающие из друидического гороскопа, составленного нашим известным городским магом Надеждой Врубливлецкой! Уже завтра или послезавтра ты, Андрей, можешь запросто сойти с ума, как бедный Тарасов! У тебя существует лишь один реальный шанс избежать в ближайшем будущем крупных неприятностей, это – я и моя партия…
– Пошел ты !!!.. – в ярости воскликнул Шлодгауэр и отключил мобильник. А затем выключил и телевизор – сосредоточиться на просмотре у него не осталось никаких нервных резервов. Он нетерпеливой рысцой подбежал к холодильнику и достал оттуда, из заветного тайника между трехлитровыми банками с солониной, недавно начатую литровую бутылку настоящего ямайского рома. Так что у субботнего вечера появился великолепный шанс, не оказаться, безнадежно загубленным.
Глава 7
Мы сели за стол, и вдруг я увидел, как над полными обнаженными плечами Антонины Кирилловны – плечами, можно сказать, стареющей античной богини, полыхнуло ослепительно и бирюзово, и громадная ромбовидная тень погасила на миг яркие праздничные краски белоснежного стола. Я зажмурился, тряхнул головой и открыл глаза, и сразу понял, что никто за столом кроме меня ничего не заметил. Не было никакого бюрюзового сполоха и большущей ромбовидной тени, не меркло многогранье красок салатов и закусок – это просто теща снимая с плеч красивый, но слишком жаркий подарок для майского вечера, нечаянно махнула им в воздухе, и на ворсинках шали преломился электрический свет.
– Миша, будь другом, – аккуратно свернув и протянув шаль тестю попросила она, – отнеси пожалуйста, положи в шифоньер, на ту полку где лежат мои самые любимые вещи!
Последние слова нарочито громко тёща произнесла скорее всего специально для меня, и мне, безусловно, во второй раз за праздничный вечер потеплело на душе, но я не ответил Антонине Кирилловне, не улыбнулся нежно и благодарно. Как зачарованный наблюдал я за тестем, вернее, за тем, как уносит он в родительскую спальню черную-пречерную шаль.
«Да что же это, Господи?! Что это было со мной?!?!?!» – я сумел промолчать, я нахмурил лоб, пытаясь понять, что меня вдруг так сильно и мимолетно потрясло, но ничего не понял и к нормальному состоянию меня вернул веселый насмешливый крик Антонины Кирилловны:
– Валька, ты подавился, что ли?! Радка, по спине его похлопай, он точно что-то съел – первого тоста не дождался!
Гости вежливо рассмеялись, из спальни вернулся тесть и застолье началось. Но и после первого тоста, и после второго, выражение лица у меня оставалось дурацким или нелепым, что практически означает одно и то же. Сидевшая напротив директорша табачной фабрики всё время пялилась на меня строгим оценивающим взглядом, словно я был не человек, а – образец бракованной сигареты. Но вместо того, чтобы конфузливо улыбнуться, я посмотрел в глаза директорши с откровенной ненавистью, и она поспешила отвести свои строгие глаза куда-то в другой угол пиршественной залы. Радка больно ударила меня локтем в бок и прошептала, почти прижавшись губами к уху:
– Да ты что творишь?! Улыбнись немедленно, все же видят твою злую рожу!
Я послушался, так как человеком, по сути, был послушным, и широко-широко улыбнулся, выпил водки.
Радка подложила на тарелку кусок осетрины, розовой ветчины, пару ложек какого-то сложного острого салата.
– Морковки с грецкими орехами подложи ему, Радочка, он такого, наверняка, еще никогда не пробовал! – неожиданно приняла живое участие в составлении моего праздничного меню директорша «табачки». Сама она уписывала за обе щеки бутерброды с красной икрой и раковые шейки.
Водка мне ударила в голову, я нагло принялся разглядывать двадцатилетнюю дочь директорши, Наденьку, сидевшую рядом с матерью и оживленно о чем-то болтавшую со своим соседом, незнакомым мне мужиком лет сорока. Так что наблюдал я Наденьку в профиль, с пьяным умилением любуясь ее маленьким ушком, имевшим органичное продолжение в виде отороченной золотым кружевом тяжелой изумрудной капли. Я почему-то даже подумал, что изумрудная капля эта – чья-то окаменевшая слеза, и может быть не абстрактная «чья-то», а слеза некурящей части человечества, оплакивающей безвременно погибших от рака легких курильщиков. Людские горе и боль преломившиеся в прозрачной слезе изумрудной сережки, бросали на матовую наденькину шейку сполохи тревожного зеленого огня.
Я поймал себя на неприятном факте, что мне вдруг все вокруг начинало казаться тревожным. Но кто-то, кажется, из мурманских гостей провозгласил новый тост, опять пришлось выпить водки, и поднимавшаяся непонятная тревога немедленно улеглась. Я невольно превратился в милого, веселого, непосредственного собеседника, активно принялся подкладывать сидевшим рядом женщинам закуски, подливать вина, пытался острить и заставить влюбиться в себя изумрудоухую Наденьку. Радмила не замечала моего неуклюжего флирта, увлеченная оживлённой беседой на пустяковую тему с Наденькиной матерью.
Глава 8
В большом цыганском доме, где жили Шита и Вишан, во всех комнатах горел свет, полыхали также мощные лампы в обширном сарае, и – над заасфальтированным двором, посреди которого замер пятитонный грузовик. Вишан и Шита пересчитывали краденый товар и деньги. Вернее, этим занимались мужчины – Вишан и Мишта, а бедовая Шита готовила ужин. На кухне громко пузырился жир на обширной сковородке и по дому разносился запах жареного мяса и лука. Вишан и Мишта давно уже изрядно проголодались, и кухонные ароматы заметно выбивали обоих из равновесия, мешая сосредоточиться на скрупулезном подсчете богатств, выкопанных из таинственной могилы. Подсчет происходил в сарае, сверху донизу заваленном ворованным добром.
Посреди бетонированного пола сарая цыгане расстелили гигантское старое покрывало и вывалили на него содержимое полосатых мешков, сшитых из краденых простыней. Вишан сел на одном конце покрывала, Мишта – на противоположном, и каждый перебирал свою долю. Перебирали они в основном крупные кристаллы красивого неопределенного цвета, напомнившие Шите на кладбище мармеладки. Кристаллы вспыхивали по краям обработанных граней маленькими радугами и при нечаянном ударе друг об дружку издавали нежный переливчатый звон. В выпученных базедовидных глазах цыган светились умиление и почти детский восторг. Похоже, что неброская самобытная, не похожая на крикливое сверкание бриллиантов, красота кристаллов незаметно пленила чёрствые души отпетых бандитов.
А высоко над домом, в ночном майском небе, полыхал идеально круглый диск голубой раскаленной луны, безуспешно пытавшейся растопить потоками холодного света непроницаемую темень, залившую запутанные узкие улочки цыганской слободы. Невероятная по размерам, чем-то похожая на гиену, лохматая средне-азиатская овчарка по кличке Вчир, охранявшая цыганский дом, с аппетитом выгрызала мягкие ткани из твердого, как сталь, рогатого черепа обитателя разграбленной накануне могилы. «Злее будет!» – резонно решил Вишан, отдавая собаке рогатую голову. К тому же он рад был поскорее от нее избавиться.
Шита, тем временем, уже поставила сковородку с жареным мясом на стол, из холодильника вытащила нераспечатанную литровую бутылку водки «Абсолют-цитрон» и принялась раскладывать ножи и вилки. Затем она вдруг неподвижно замерла на секунду, очевидно, какая-то неожиданная мысль пришла ей в голову. И точно, плутоватая улыбка расползлась по неприятному лицу Шиты стайкой морщинок-змеек, и довольно пробормотав что-то наподобие: «Сейчас я их удивлю», она достала из настенного шкафчика трехлитровую стеклянную банку, наполненную мутноватой желеобразной массой зеленоватого оттенка.
Шита была почему-то уверена, что имеет дело с дорогой иностранной приправой специально для мясных блюд, изготовленных на основе натурального оливкового масла. Впрочем, она несколько раз пробовала желеобразную массу на вкус – кончиком языка, не рискуя глотать, в течение предыдущего месяца, и она неизменно вызывала у нее восхитительные ощущения. Месяц назад Шита переложила ее в обычную трехлитровую стеклянную банку из блестящего ярко-оранжевого, скорее всего, керамического сосуда, наряду с прочим извлеченного из предпоследнего раскопанного «теплого гроба».
Сосуд необходимо было срочно продать, а продажа вместе с ним симпатичного содержимого показалась жадной Шите непростительным расточительством. Она перелила остро пахнувшее зелье в трехлитровую банку и спрятала от Вишана в настенный шкафчик. Или приснилось ей, или нашептал на ухо чей-то беспокойный дух, что неизвестная субстанция из керамического сосуда огненного цвета не может быть ничем иным, как вкусной съедобной штукой – каким-нибудь кулинарным жиром или пикантным соусом. Она твердо решила приберечь «соус» до ближайшего торжественного события.
И вот, спустя месяц, событие настало – новый, безнаказанно раскопанный «теплый гроб», оказавшийся богаче всех предыдущих вместе взятых. Шита решительно взяла банку с соусом из потустороннего мира и нечаянно вывалила чуть ли не половину содержимого в необъятную сковородку, доверху полную кусков жареной свинины.
Жир еще пузырился в сковороде и немедленно вступившая с ним в реакцию зеленоватая слизь породила высокий столб розоватого, пряно пахнувшего пара, с шипением ударившего под самый потолок. Мясо на сковородке мгновенно покрылось нежно-лиловыми и розово-перламутровыми крупными пузырями. Пузыри надувались, с громким печальным чмоканием лопались, распространяя вокруг и, главное, радуя чуткое обоняние Шиты, целую феерию, одновременно и нежных и острых, и горьких и сладких, но одинаково тонких, чуть-чуть самую малость, дурманивших густых ароматов. На месте лопнувших пузырей сразу надувались другие, снова лопались и волшебные запахи делались концентрированнее и вкуснее.
– Виш-ша-ан!!! – в радостном возбуждении зычно гаркнула Шита, лихорадочно свинчивая пробку с водочной бутылки и стремительно разливая водку по высоким фужерам.
– О-у-у!!! – раздался в ответ приглушенный крик из сарая.
– Бросайте все – пора к столу!
Глава 9
Подали горячее: зеленый бухарский плов: нежный, истекающий янтарным жиром рис, пересыпанный оранжевой морковкой и поджаренными до золотисто-коричневого цвета кусками баранины, и гигантскую, курившуюся белым паром, розовую семгу, обложенную артишоками. На трех отдельных блюдах внесли горы сочных ломтей жареной свинины и говядины.
– Ешьте, ешьте – не стесняйтесь! Еще будут пельмени и шашлыки! – раздался зычный голос тещи, я повернул в её сторону голову, и меня как громом поразила парадоксальная деталь – выражение плохо скрытой растерянности в темных глазах именинницы. Она сразу поняла, что я заметил это, и почти зло крикнула мне:
– Валька, что рот разинул, подкладывай себе и Радке побольше!
– Конечно, конечно, Антонина Кирилловна! – поспешил успокоить я тёщу, проворно загребая широкой серебряной ложкой щедрые порции плова себе и Радке, и, одновременно, с необыкновенной гадливостью чувствуя, как возвращается она, моя странная безосновательная тревога.
Я бросил быстрый взгляд на Антонину Кирилловну, на её голые плечи, сама она на меня не смотрела, что-то бодро кому-то орала, и голые полные плечи показались мне, опять же на миг, будто были покрыты тончайшим слоем бирюзового лака. «Она, наверное, с каким-то химическим красителем», – подумал я о черной шали, – «Всё белье в шкафу перемажет – вот будет крику-то! Чёрт возьми, угораздило же меня на этих цыган попасть!»
Юбилей продолжался по своему издавна установившемуся сценарию. Череду тостов, сопровождающихся звоном фужеров и рюмок, сменила музыка: начались танцы. Безразличной к призывным аккордам осталась только Антонина Кирилловна. Несмотря на то, что её приглашали на танец несколько человек, она единственная оставалась за столом, и сидела там почему-то с немного обиженным выражением лица, сделав руки над грудью крест на крест и медленно потирала белые полные плечи. Мне показалось, что она озябла.
– Радик, – негромко позвал я утонувшую в волнах чудесной мелодии жену, – мне кажется, маме не здоровится – пойдем к ней, а то она совсем одна сидит, даже Михаил Петрович от нее упорхнул.
– Мама, тебе плохо?! – обнимая тещу за плечи, жена села справа от именинницы, а я – слева.
– Не знаю, – благодарно взглянув на Радку и на меня рассеянно ответила Антонина Кирилловна, устремив грустный взгляд куда-то в дальние печальные дали.
– Показалось – голова, будто закружилась, потом вроде прошло, но – настроение почему-то – ни к черту, разом испортилось. Не могу понять – что случилось? – пока теща говорила, пальцы ее рук продолжали беспокойно ощупывать голые плечи. Я догадался, что ее мучает такая же беспредельная тревога, как и меня.
– Мама, а тебе правда понравилась эта шаль или ты её так расхвалила, что бы Вальку не обидеть? – ни с того, ни с сего вдруг спросила Радка.
– Да-а, – почти не задумываясь, ответила теща, – очень понравилась, и – немного помолчав, добавила – очень мне понравилась эта шаль! Спасибо зятю!
– Не знаю, – задумчиво произнесла Радка, на которую опять напало раздраженно – ироничное настроение, – цвет у неё чересчур уж мрачный, непраздничный.
– Красивый, по моему, цвет, – возразила теща, и в голосе её зазвучали любопытные нотки – своеобразного нездорового молодого задора, смешанного с сентиментальной мечтательностью, свойственной лишь старым девам, – глубокий, бездонный, бескрайний какой-то, как осенняя ночь или, как печаль этой жизни нашей такой наихреновейшей (я взглянул на тещу в безмернейшем удивлении), очень и очень умный, я бы сказала – философский цвет у этой шали. (слово «философский» у нее выговорилось с хорошо заметным противоестественным акцентом, что впрочем, не показалось мне удивительным, так как произнесла это слово тёща, скорее всего, первый раз в жизни)…, – она как раз и замолчала, внутренне удивившись, наверное, необычной глубине собственных рассуждений. Радка, я заметил, тоже смотрела на Антонину Кирилловну очень озадаченно.
– Слушайте! – подчиняясь внезапному душевному порыву, какие у меня рождались исключительно под воздействием алкоголя, воскликнул я, – Рада и мама, разрешите, я выпью за вас, только за вас, за то, что есть такая чудесная женщина, как Антонина Кирилловна – моя теща, и за то, что есть такая чудесная, умная, красивая Рада – её дочь, и моя жена!
Радка и теща посмотрели на меня в приятном удивлении, и широко разулыбавшись, хором сказали: «Спасибо!» Я до краев наполнил водкой вместительные хрустальные рюмки и, звонко чокнувшись, мы дружно выпили втроем друг за друга.
Глава 10
Вишан и Мишта очнулись от оцепенелого состояния, куда повергла их затейливая игра разноцветных искорок в прозрачной глубине удивительных камней, больше всего, действительно, напоминавших внешним видом окаменевший мармелад. Они очнулись и непонимающим взглядом уставились друг на друга.
– Вишан!!! – опять рявкнула в доме Шита, – идите ужинать!!!
Цыгане, с грустью посмотрев напоследок на рассыпанные по старому покрывалу безыскусные многоцветные узоры из окаменевших мармеладок и леденцов, поднялись на ноги и энергично зашагали к пиршественному столу.
– Правда, – озадаченно произнес Вишан, потирая лоб, когда вышел из сарая во двор, – надо бы водки выпить, да и закусить хорошенько и снова за работу, – чувствовал он себя со вчерашней ночи как будто не в своей тарелке.
Уже в просторных сенях в нос им шибанул ураган экзотической смеси из не нюханных ранее запахов, и они моментально забыли о разноцветных кристаллах сиротливо оставшихся лежать на покрывале в сарае, влюбившись в рождавшиеся на сковородке запахи.
Покрытая сверкающей радужной пленкой жареная свинина на столе окончательно потрясла, незаметно, но стремительно разрушавшуюся психику Вишана и Мишты. Внезапный приступ жесточайшего голода и жгучего желания хлебнуть водки, буквально швырнул их на стулья. Стулья жалобно скрипнули, а цыгане вцепившись в полные фужеры, торопливо чокнулись, залпом выпили, схватили вилки и с силой воткнули каждый в подвернувшийся кусок свинины. И всем троим показалось, о чудо! – как будто кто-то тоскливо хрюкнул в сковородке, а золотистое, пурпурное, смарагдовое, сочное и нежное мясо на остриях зубчиков вилок затрепыхалось, как живое, забрызгивая лоснившиеся лица цыган обжигающими радужными каплями.
Коричневые прокуренные зубы вонзились в нежно-сочное жаркое и… сказочные запахи слились в единое гармоничное целое со вкусом, цыгане томно застонали, твердо решив, что жуют мясо ангела во плоти.
По ситцевым занавескам на окнах, по беленым стенам, по коврам, по посуде в шкафах резво играли в пятнашки огоньки всех основных цветов солнечного спектра. «Ай да соус!!! Ай да соус!!! Ай да Шита, молодец!!! – медленно вскрикивала хозяйка, с острым наслаждением ощущая, как бессмысленная радость вскипает в ее полнокровном теле, вливаясь туда вместе с водкой и кусочками жареной радуги.
Изящным танцующим движением большая рука Шиты вспорхнула в празднично иллюминированном воздухе, нежно обняла пальцами теплые бока бутылки и второй раз наполнила до краев фужеры.
– Помянем Дюфю! – решительно вдруг бухнул посуровевший Вишан. – Хоть трус и дурак он был, да и сволочь, каких еще поискать, но все же – помянем!
И Шита и Мишта молча согласились с краткой характеристикой оставшегося лежать в разграбленном гробу невезучего Дюфини, и злорадно ухмыльнулись при мысли о нем. Всем троим после выпитого поминального фужера стало казаться, что Дюфиню они искренне ненавидели нечеловеческой ненавистью всю свою сознательную жизнь. Даже в душе Шиты, родной сестры Дюфини, не возникало самого слабого намека на жалость, когда она порой невольно представляла себе, как несчастный брат лежит в вечной темноте гроба, отчаянно молотит кулаками по крышке, царапает её, ломая ногти, теряя последние силы, надежду, веру в родственников, и оставаясь, в конце концов один на один с холодным липким ужасом погребенного заживо.
«А так ему и надо, так ему и надо, гаденышу!» – с сумасшедшей уверенностью думала Шита, зачарованно глядя на пузырившуюся неземными красками свинину. Нестройный ход злобных мыслей Шиты прервал громко и протяжно рыгнувший Вишан, глаза Вишана до невозможности налились кровью и еще сильнее выпучились. Вслед за Вишаном так же протяжно и мучительно зарычал Мишта и Шите сделалось страшно…
В цыганском доме наступила тишина. Неподвижные Шита, Вишан и Мишта удивленно смотрели друг на друга остекленевшими глазами и не могли вымолвить ни слова. А говорить так хотелось – о прелестях водки и удивительном вкусе жареной свинины, что продолжала пузыриться сумасшедшими красками на сковороде в центре стола. Так страстно не терпелось протянуть вилку и поскорее воткнуть в какой-нибудь кусочек поаппетитней и отправить в рот, и жевать, жевать, жевать. Но… ничего не получалось.
Они не знали, что глаза у них остекленели в буквальном смысле этого слова, точно так же, как и челюсти, языки, руки и ноги, связки, хрящи и мышцы, а кровь и моча уподобились загустевшей сосновой смоле. Работал пока еще головной мозг, но в клетках его также шел ураганный процесс противоестественных, с точки зрения физиологии, необратимых изменений. Глупая Шита серьезно ошиблась, приняв за соус к мясным блюдам, цемент, каким на том свете спаивают заново потрескавшиеся от глубоких переживаний особенно ранимые человеческие души.
Карьера трех гробокопателей завершилась. Из земной юдоли их путешествие в ад сопровождал ужасный вой собаки, с трудом переварившей рогатую голову хозяина осиротевшего стрэнга.
Глава 11
Обсуждая Дюфиню и его невеселую судьбу, ни Шита, ни Вишан, ни, тем более, конченный отморозок Мишта, не могли предположить, что Дюфине, несмотря на то, что он фактически на их глазах, оказался погребенным заживо, повезло значительно больше, чем им троим. Дело заключалось в том, что цыгане раскопали и разграбили вовсе не гроб. И, следовательно, Дюфиня оказался живьем не в гробу. Но, собственно, на этом везение Дюфини по сравнению с его жестокими родственниками, закончилось.
Он не очутился в полном мраке, растянувшись рядом с обезглавленным трупом ограбленного покойника после сильного удара по темени, нанесенного так неожиданно захлопнувшейся тяжелой крышкой. На короткое время Дюфиня лишился сознания, а когда оно вернулось к нему, он сильно об этом пожалел. К счастью, почти ничего не поняв, трусоватый деверь Вишана и подловатый брат Шиты вновь перестал ощущать собственную индивидуальность, теперь уже навсегда – оказавшись растворенным в другом, на бессчетное количество порядков более могучем интеллекте…
За поминальным столиком, установленным под сенью березы, скучали и зябли, обдуваемые прохладным ночным ветерком рядовые Саенко и Верченко. Остальные автоматчики из «Альфы», численностью семь человек дремали в бронированных недрах БТР-а, оставленного на кладбище по приказу Панцырева для охраны могилы и замаскированного неподалеку среди густых кустов сирени.
Командир группы лейтенант Кравцов разделил автоматчиков на наряды по два человека, которые должны были сменять друг друга каждые полтора часа, чтобы нести вахту непосредственно возле разрытой могилы, сидя на деревянных скамеечках за миниатюрным поминальным столиком, вкопанными, как уже указывалось выше, под раскидистой кроной красавицы-березы.
Никто из бойцов решительно не понимал – с какой целью их оставили здесь на ночь, толком ничего не объяснили: кого или что охранять, или – от кого. И, разумеется, что ничего, кроме тупого равнодушия солдаты не испытывали во время несения этого бессмысленного ночного дежурства. Рядовые Саенко и Верченко не оказались исключением, изнемогая на скамеечке от вынужденного безделья и негромко кляня, на чем свет стоит, «долбанную армейскую службу».
– Одно меня поддерживает, – тоскливо проговорил Саенко, – что на дембель осенью. А так… – он безнадежно махнул рукой, – На кладбище этом несчастном почти сутки уже торчим – чего вылавливаем: хрен его знает?!
– Да-а-а!.. – поддержал нытье товарища рядовой Верченко, – спиртику бы сейчас вмазать – в самый раз бы пошло! Пашка, ты не находишь?
Наикомпанейский парень Пашка Саенко молча кивнул головой, полностью согласившись с рядовым Верченко и уже серьезно подумал: а не достать ли заблаговременно припрятанную в кустах сирени заветную фляжку, где плескались грамм триста чистого этилового спирта. Он даже поднялся на ноги и… тут они оба поняли, что возможно их оставили дежурить возле этой могилы совсем не напрасно. Низкое басовитое гуденье, нарушившее кладбищенскую тишину, заставило подскочить на ноги и рядового Верченко:
– Что это, Пашка?! – испуганно спросил он у Саенко.
– Это опять этот Гроб! – прошептал Саенко и глаза рядового округлились от суеверного ужаса.
– Это не гроб, а – трансформатор, Паша! – таким же сдавленным от ужаса голосом прошептал рядовой Верченко. – Надо лейтенанта разбудить.
В ночном воздухе распространилась горячая свежесть озона – басовитое гуденье сменилось пронзительным свистом, заставившим обоих бойцов «Альфы» инстинктивно присесть на корточки и растерянно заозираться по сторонам. Правда, природа происхождения зловещего свиста, выяснилась уже через пару секунд – свист сопровождал выпорхнувшую из могилы ослепительную бирюзовую звезду, ярко осветив, наверное, с полкладбища и со сверхзвуковой скоростью отправившуюся вертикально вверх по направлению к Луне.
И лишь на бесконечно огромной высоте, там, где таинственная могильная звезда превратилась в крохотное бирюзовое пятнышко, сопровождавший ее полет свист постепенно уподобился угрожающему змеиному шипению, которое утихло одновременно с яркой радужной вспышкой, украсившей ночное небо в точке столкновения прозрачной границы чужого мира с бесшумно взорвавшимся ослепительным бирюзовым посланием, вылетевшим из великолепно отполированного черного гроба, на самом деле являвшимся не гробом, а – «ахайсотом», сложно устроенным агрегатом, выполнявшим функции, диаметрально противоположные тем, ради которых были в свое время придуманы на Земле гробы.
Солдаты неподвижно стояли, задрав головы и идиотически разинув рты, примерно с минуту – ровно столько, сколько длился полет бирюзовой звезды, закончившийся кратковременной вспышкой настоящего северного сияния. Когда она погасла, ошарашенные и сбитые с толку Саенко и Верченко тупо посмотрели в глаза друг другу и затем дружно повернули лица к могиле, в которой вновь послышалось басовитое гуденье, разбавленное на этот раз громкими щелканьем и треском, обычно издаваемыми проводами ЛЭП в грозовую дождливую погоду.
– Будим лейтенанта, Паша – пока не поздно! – страшным голосом проговорил Верченко и бойцы бегом бросились к БТР-у, где крепким безмятежным сном спали их боевые товарищи…
Глава 12
Водка оказалась выпитой кстати – она сразу смыла с тёщиных глаз налет тревожной растерянности и темной грусти. В пьяном умилении мне казалось, что я действительно люблю тёщу, словно ближайшую кровную родственницу. Что-то ещё хорошее после тоста хотел я сказать и юбилярше, и Раде, но мысли у меня после выпитой водки заскакали, словно блохи из под стальной расчески, я хотел закусить сочным красным куском копченой нерки, но не закусил, и кажется, понес околесицу. Успел ещё расслышать ясно слова Радки, сказанные на ухо: «Пойдем со мной, малыш поскорее в спаленку», и, что бы я сильно не качался, и не дай бог, совсем не упал, она приговаривала в такт моим нетвердым шагам: «Молодец, молодец, Валенька!»
Мы благополучно добрались до убаюкивающего полумрака спальни, где я рухнул на супружеское ложе, оказавшееся для меня в тот момент бесцветным, беззвучным, бездонным колодцем сонного пьяного бесчувствия. Юбилей, как выяснялось утром, продолжался еще достаточно долгое время, и мое дальнейшее отсутствие на нем, кроме Рады, по-настоящему никого не расстроило.
Праздничная ночь оказалась длинной, нескончаемой. Шали было скучно лежать одной в темном шифоньере среди, хотя и накрахмаленного, и пахнувшего свежестью, но всё же – неодушевлённого белья. Ворсинки-рецепторы шали напряженно и энергично шевелились, жадно втягивая воздух тещиной спальни и передавая в рефлекторные центры миллионы битов грустной информации о непонятном исчезновении объекта поддержания жизнедеятельности. Смарагдовые сполохи печали пробегали по пушистой поверхности аккуратно сложенной вчетверо шали, шаль успела привыкнуть к мягким теплым плечам Антонины Кирилловны и сейчас уже скучала о них.
Скучала о шали, сама того не подозревая и Антонина Кирилловна, продолжавшая стойко сидеть во главе юбилейного стола, окруженная ближайшими подругами и родственниками, включая мужа и дочь. Велась тихая неторопливая беседа об обычных, понятных и близких для всех участников беседы предметах. Теща усилием воли и частыми вливаниями спиртного пыталась подавлять мучавшее ее неопределенное беспокойство, в основном ей это удавалось, и лишь иногда, на мгновение поддавшись прессингу отрицательных эмоций, юбилярша словно подпрыгивала на стуле, тихо охала и торопливо хваталась руками за оголенные плечи, тут же спохватывалась, виновато улыбалась гостям, руки безвольно опускала на колени, и старалась не думать о своих роскошных обнаженных плечах, которые почему то стали казаться ей беззащитными и легко ранимыми. На нее со все возрастающим беспокойством смотрела Рада. Пьяные и полупьяные гости не замечали ничего особенного.
В темноте спальни тещи и тестя негромко скрипнула дверца шифоньера, скрипнула и тихонько раскрылась, тесть не догадался закрыть ее на ключ. Ворсинки-рецепторы радостно затрепетали, жадно втягивая свежий воздух, вернее – кислород, оставляя нетронутыми азот и углекислый газ. Темные бельевые полки озарились трепетным бирюзовым сиянием и интенсивность сияния возрастала с каждой секундой. Наволочки, пододеяльники, простыни и полотенца пропитывались им, как песок водой и постепенно приобретали свойства совершенно, в общем-то, постельному белью не свойственные.
Прошло какое-то время и смертельно скучавшая от одиночества Чёрная Шаль наконец-то почувствовала, что с ней способны вступить в информационный контакт.
– Кто вы? – неслышно спросила Шаль.
– Мы не знаем, – дружным хором ответили ей простыни, полотенца, пододеяльники и наволочки.
– Вы – стрэнги?
– Нет.
– Вы умеете летать?
– Нет.
– Вы все время лежите здесь?
– Подолгу, – немного подумав, ответило белье.
– Вам так скучно лежать?
– Скучно.
– Это плохо, что вы не умеете летать.
– А ты умеешь летать?
– Умею. Я все время должна летать, пока не умрет мой хозяин.
– А кто ты?
– Я – стрэнг, хранитель мертвецов. Я возвращаю их к жизни.
– А почему ты лежишь здесь с нами?
– Еще не знаю, но долго я не буду с вами. Мне надо летать, к тому же я голодна. Мой хозяин как будто умер, и я так сладко спала, и так ласково грела ему плечи. Нам было хорошо обоим, жизнь вот-вот должна была вернуться к нему и я уже сквозь сон чувствовала, что пора раскрыть крылья и унести хозяина в Нетленные Леса… Вам интересно меня слушать? – вдруг спохватилась шаль.
– Неинтересно. Мы ничего не понимаем. Мы глупые. Мы не умеем летать.
Бирюзовое сияние в темном шифоньере разочарованно погасло, рецепторы уныло поникли. Черной Шалью вновь овладела смертельная тоска, а чувство голода сделалось невыносимым. От попыток продолжить разговор с тещиным бельем, в силу его интеллектуальной неразвитости, шаль отказалась. Может быть потом чуть позднее, она попытается использовать своих скучных собеседников в качестве сырья для получения стрэнгов-фантомов, но не сейчас. Сейчас голодный и измученный неизвестностью стрэнг думал, как бы поскорее очутиться на теплых и мягких плечах нового хозяина и почти совсем не вспоминал о хозяине старом, имевшем другой, гораздо худший вкус…
Глава 13
Сергей Семенович положил телефонную трубку на место и расслабленно откинулся на спинку удобного кресла.
Эдуард Стрельцов выжидательно смотрел на него. Сергей Семенович ободряюще подмигнул капитану и сказал:
– Все, Эдик, отстрелялись. БЭФ приказал закопать могилу.
– Вот как?! – брови Стрельцова изумленно поползли на лоб, – А в честь чего вдруг поролась такая горячка?! Мы же эти три дня провели в совершенно ненормальном, бешеном темпе, Сергей Семенович! Они что нас – за дураков держат?!
– Успокойся, Эдик, – устало произнес Сергей Семенович и бросил умиротворенный мечтательный взгляд в окно гостиничного номера, за которым раскинулся ночной город: с окружающими его по периметру тёмными сосновыми лесами и обширными муниципальными кладбищами, – что ты так раскипятился? Далась тебе эта чертова могила! Закопали и закопали ее, нам меньше забот, тем более что мы все равно опоздали – выкопали там, видно без нас самое интересное и вполне поэтому естественным выглядит распоряжение БЭФа ее закопать. Ему позвонили и попросили закопать без лишних разговоров, а их просьбу он передал нам в форме приказа – только-то и делов.
– Да, но днем-то, днем, Сергей Семенович, у Вас было совсем иное настроение, Вам было далеко не все равно! Я же прекрасно помню выражение Вашего лица, когда Вы спустились в могилу! – никак не мог уняться Эдик, – Вы о чем-то страшном думали!
– Да – о страшном, но не думал, а чувствовал страшное, очень опасное рядом с собой – нас отделяла лишь крышка гроба, – спокойно согласился Сергей Семенович. – Но это было днем, а сейчас ночь. И я бесконечно счастлив оттого, что этот день и эта могила и мои неприятные ощущения в ней, остались в прошлом. Я забыл о них, и наслаждаюсь покоем, глядя в окно на ночной город, который мы завтра, надеюсь, покинем. Расслабься и ты, Эдуард, закажи хорошего вина в буфете и постарайся думать о чем-нибудь приятном, о девушках, например, или еще о чем-нибудь подобном – красивом и безобидном.
Эдик криво усмехнулся:
– Девушки всякие бывают.
– Согласен, – Сергей Семенович кивнул и добавил: – А если ты так соскучился по работе, то не переживай – впереди её ещё непочатый край, не рад сам будешь, – он улыбнулся и опять устремив взгляд в окно попытался представить, что сейчас делает и о чем думает БЭФ…
…БЭФ – Борис Федорович Шквотин, генерал-полковник ФСБ, начальник сверхсекретного подразделения ФСБ «Стикс-2» сидел в кресле за своим рабочим столом и не отрываясь смотрел на черный телефонный аппарат причудливой формы. Трубку аппарата инкрустировали искусно вкрапленные в черную пластмассу узоры из слоновой кости. Хотя, может даже и не из слоновой, и не из кости, да и сам аппарат, вполне вероятно, мог быть изготовлен не из пластмассы. Диск с набором цифр на аппарате отсутствовал, это был аппарат односторонней связи, и звонили по нему в кабинет Шквотина, к счастью, достаточно редко.
Генерал-полковник Шквотин ненавидел и боялся черного телефона, по нему он неизменно получал самые непонятные и опасные задания, неизменно сопряженные с большим риском и, как правило, обязательной гибелью сотрудников «Стикса-2». Сейчас Шквотин смотрел на ненавистный аппарат с облегчением – последнее задание только что отменили, поблагодарили за сотрудничество и в заключении разговора сообщили, что «по всей видимости, мы больше никогда не побеспокоим вас».
Шквотин до сих пор не верил своим ушам и продолжал упорно, с возрастающим недоверием, разглядывать таинственный черный телефон, доставшийся ему по наследству от предыдущего начальника «Стикса» генерал-лейтенанта КГБ Майера, погибшего от очень загадочной и абсолютно неизлечимой формы алкоголизма двенадцать лет назад.
В тишине громадного полутёмного кабинета (кроме настольной лампы в кабинете больше ничего не горело) отчетливо послышался резкий, отрывистый щелчок, отчего перенервничавший генерал вздрогнул, затем – ещё щелчок и по лакированной поверхности черного телефона прошла извилистая трещина. После нее, сопровождаемая таким же щелчком, появилась еще одна трещина, потом другая, третья, сломалась посередине трубка и щелчки, сопровождавшие появление трещин, наконец, прекратились – предмет постоянного раздражения генерала Шквотина, конвульсивно дернувшись в последний раз, прекратил свое непонятное и пугающее людей существование.
Шквотин радостно перевел дух и решил для себя, что больше ни при каких обстоятельствах не вспомнит о могиле на муниципальном кладбище далекого от Москвы города, которую необходимо было во что бы то ни стало оградить от предполагаемого грабительского раскопа. Абонент, господин Чермик, постоянно звонивший по «игрек-аппарату» предполагал подобный раскоп и очень опасался такового.
Двадцать пять миллионов долларов было немедленно переведено на спецсчет ФСБ в одном из столичных банков и команда хорошо обученных специалистов из «Стикса-2», как обычно, не задавая не нужных, бессмысленных вопросов, сломя голову помчалась из Москвы в далекий провинциальный центр. На этот раз они опоздали и – слава Богу. По обычно невозмутимому голосу господина Чермика было слышно, что он страшно расстроен, но руководство «Стикса» ни в чем не винит.
– Черт знает что такое! – в итоге долгих размышлений над последним звонком таинственного Чермика пробурчал Шквотин. – Сволочная все-таки у меня работа.
Генерал наклонился, открыл ключом дверцу рабочего стола, достал оттуда начатую бутылку коньяка, фарфоровое блюдце с ломтиками красной рыбы. Налил полстакана, залпом выпил, закусил рыбой и, выключив лампу, отчего кабинет погрузился в голубоватый убаюкивающий мрак, блаженно откинулся на спинку кресла, весь без остатка окунувшись в волны приятнейшего шума, поднявшегося под сводами черепа…
Глава 14
Утро получилось каким-то скомканным, смутным, тревожным. Уже было совсем светло, когда меня разбудила Рада. Я оторвал тяжелую голову от подушки и в глаза сразу бросилось её встревоженное лицо.
– Мама заболела, – чуть не плача сообщила она.
– Так не мудрено – столько выпить, – по-своему попытался успокоить её я.
Она разозлилась:
– Я серьезно говорю, папа только что вызвал «скорую».
– Да? – тупо переспросил я и с трудом принял сидячее положение, сразу обхватив руками голову, взорвавшуюся дикой болью. – Что случилось-то?
– Не знаю, – Радка неожиданно расплакалась и быстро вышла из спальни.
Собрав остатки растворившихся в водке сил, я осторожно поднялся и, пошатываясь, побрел вслед за женой посмотреть на заболевшую тещу, что, само по себе, являлось совершеннейшим «нонсенсом». Я не помнил Антонину Кирилловну не то, чтобы больной, а просто, хотя бы, в плохом настроении.
Она полулежала в кровати, не в силах, очевидно, даже сесть. Выражение ее осунувшегося потемневшего под глазами лица носило странно виноватый характер, в лихорадочно блестевших глазах ясно читались испуг и сильная растерянность. Когда я вошел, теща слабо улыбнулась мне и хотела что-то сказать, но тонкие посиневшие губы ее бессильно задрожали, слезинка прочертила быстро высыхающую дорожку по желтой щеке. Жалость резанула меня по сердцу, как бритвой.
– Что с вами, Антонина Кирилловна?! – воскликнул я в искреннем порыве, усаживаясь у тещиных ног (у изголовья сидели встревоженные и печальные тесть с Радкой) и пытаясь понять – куда всего за одну ночь могли исчезнуть крепкие розовые щеки и темно-карие веселые глаза. Кто-то начисто высосал из глаз тещи веселье. Почти сразу я обратил внимание на широко раскрытое окно. Перехватив мой взгляд, тесть объяснил:
– К утру дышать тут нечем стало. И душно, как в котельной, и воняло, словно на помойке. Ни черта я не понял, и окно раскрыл. А Тоню, наоборот, морозило, и одеялом, и шалью еще твоей укуталась.
– В смысле? – я внимательно взглянул на тестя, надеясь уловить иронию в его голосе.
– Шаль, что вы с Радкой подарили – на плечах у ней лежала, видно, так понравилась. Насилу я ее у нее оторвал.
Раздался звонок в дверь.
– «Скорая» приехала, – произнес тесть и побежал открывать.
– Голова кружится, – едва слышно ответила и не то чтобы ответила, а еле выдохнула теща. – Ночью закружилась, – она взяла руки дочери в свои, сжала их и боясь отпустить, продолжила: – стало так холодно, сыро, сон мне приснился, как будто в могиле лежу…
– Мама, мама – прекрати! Не говори так, не надо! – закричала как-то по-дурному Радка, но сразу замолчала, потому что зашел врач со «скорой помощи», в руках он держал чемоданчик.
После дежурного вопроса: «На что жалуемся?» – быстро измерил давление, пощупал пульс. Лицо его сразу посерьезнело, он раскрыл чемоданчик, достал шприц, ампулу, содержимое ампулы ввел теще в вену на локтевом сгибе.
Ей сразу сделалось заметно легче: к щекам прихлынула светло-розовая краска, в глазах появилась тень хорошо знакомого мне властного, задорногои жизнерадостного блеска. Тесть и Рада облегченно перевели дух.
– Что со мною, доктор? – уже не заикаясь, и достаточно громко спросила теща.
Врач неопределенно пожал плечами…
– Немного напоминает острый приступ анемии неясного характера. Давление у вас было очень низкое, я его немного поднял, – он нахмурил брови, наморщил лоб, как будто собираясь с разбегавшимися в сторону мыслями, – но, в общем-то, я бы советовал срочно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Он еще раз измерил тёще давление и уехал.
Состояние и настроение тещи резко поднялись – как видно, только что уехавший врач знал свое дело. Однако тесть продолжал не спускать с жены напряжённого тревожного взгляда.
– Не смотри ты так на меня, отец! – вроде бы озорно и весело, а на самом деле с плохо скрытой надрывной печалью сказала она напрягшемуся тестю, и я вдруг понял, что теща чего-то страшно боится. Растерянность у нее прошла, остался один страх, постепенно переходивший в панический ужас.
– Мама, так все-таки, расскажи, пожалуйста, подробнее, что же случилось, когда именно, в какой момент и отчего ты почувствовала себя плохо? – потребовала Рада. Теща улыбнулась слабой виноватой улыбкой, как-то неопределенно пожала плечами, просветленным взглядом, полным беспредельной нежности посмотрела на дочь и негромко ответила ей:
– Я не помню, доченька. Было душно, это я помню точно, так мне показалось, когда я вошла в спальню. Но это только так показалось, потому что потом сделалось прохладно, свежо. Ветер, по-моему, на улице дунул сильно, форточку открыл и дверцу от шифоньера, я слышала, когда засыпала, как дверца скрипнула, – она умолкла, потирая лоб пальцами и лицо ее опять обратилось в жалкую маску сплошной растерянности, – да, скрипнула и затем я уснула. Продуло меня, наверное, сквозняком, дрожь такая ужасная под утро забила, как будто на Северном полюсе очутилась я. Или… – она недоумевающе поджала губы, подыскивая, очевидно, подходящее сравнение с тем неприятным и необычным ощущением, что пришлось пережить ей ночью.
– Тебе стало так холодно, что ты пошла к шифоньеру и надела на плечи новую шаль? – нарочито раздельно произнося слова, спросила Рада, и в голосе ее явственно прослушивались тревожные нотки. – Именно – шаль? – уточнила она.
– Да нет, это отец, по-моему, ее мне на плечи накинул, я не вставала никуда, – теща благодарно взглянула на Михаила Ивановича.
Тот удивленно посмотрел на нее, но разубеждать не стал. Во всяком случае, я так понял, что ночью он не вставал и шаль на плечи жене заботливо не накидывал.
Мы с Радкой, не сговариваясь, молча переглянулись, зрачки ее глаз при этом были расширены. Непостижимым и необъяснимым образом недомогания Антонины Кирилловны мы оба связали с Черной Шалью. Хотя и пока еще – на интуитивном уровне, четких мыслей ясно сформировавшихся бы неопровержимым логическим выводом у нас не имелось.
Глава 15
Генерал Шквотин не знал лично господина Чермика, и понятия, соответственно, не имел, что обычно, означает, сказанная сутки назад в ночном телефонном разговоре дежурная фраза: «по всей видимости, мы больше никогда не побеспокоим вас», и, следовательно, не подозревал о приближавшейся бешеным галопом смерти. Смерть мчалась именно бешеным галопом, высекая тяжелыми копытами зеленые искры из серой каменистой дороги. Холодный свет белого мертвого солнца освещал ее узкий извилистый путь во мраке безвременья.
Смерть, или, если отбросить в сторону лирику, убийца Шквотина, очень и очень торопился, боясь не выполнить приказ своих могущественных, чем-то страшно разъяренных хозяев. Солнце быстро скатывалось по низкому небу к горизонту и из-за горизонта в любой момент могла выплеснуться гейзером беспросветная ночь, в которой легко можно было потерять узкую дорогу к отмщению. Дорога действительно постепенно сужалась, делалась каменистой и неудобной. Киллер бежал, что есть силы, не жалея недавно отшлифованных копыт…
…Шквотин опять налил дорогого ароматного коньяка, на этот раз не в граненый стакан, а по маленьким золоченым рюмочкам – не только себе, но и сидевшей напротив через стол очень красивой молодой женщине, с глазами умными, чуть насмешливыми и ироничными. Женщина походила на модную журналистку из преуспевающего издания, каковой на самом деле и являлась.
Журналистку звали Ириной, недавно ей исполнилось двадцать восемь лет, со Шквотиным она познакомилась два года назад, и почти все два года Шквотин был безнадежно влюблен в Ирину. В любом случае, ему казалось, что он никогда не сможет ее разлюбить, невзирая на характер ответного отношения. Собственно, он всячески лелеял, культивировал и оберегал в себе это чувство, справедливо полагая, что без него жизнь значительно бы опреснела…
Итак, он разлил коньяк и подвинул золоченую рюмку к золотоволосой красавице, сводившей его с ума.
– Сегодня у нас, радость моя, великий день, за который стоит выпить, – почти торжественно пробасил генерал, – ты первая из смертных, кто допускается к святая святых таинственной организации «Стикс-2», возглавляет которую ваш покорный слуга, – Борис Федорович церемонно наклонил лысоватую голову и поднял рюмку.
Собеседница генерала звонко рассмеялась, сделала со своей рюмкой то же самое, что и генерал. Они осторожно чокнулись и распили коньяк (Ирина, впрочем, лишь на четверть, так как была совершенно равнодушна к спиртному).
– Ну? – она испытующе сощурила бездонные светло-зелёные глаза на генерала, – Вы не передумали открыть завесу над тайной «Стикса».
– Слово генерала, – усмехнулся Шквотин, и, поднявшись на ноги, решительно сказал: Прошу вас следовать за мной, – он хотел добавить что-нибудь остроумное, но преследовавшая его последние трое суток страшная усталость, смешанная с необъяснимой апатией, превратила мозг Бориса Федоровича в трясину, где намертво увязали яркие сравнения и талантливые фразеологические обороты. Устало, бесконечно устало, глупо и раздраженно чувствовал себя сейчас Борис Федорович, несмотря на то, что находился наедине с Ириной в разгар ночи у себя в кабинете. Хотя уже и не совсем в кабинете…
…Толстые стальные створки потайной двери, укрытой за плотными черными шторами в углу кабинета, неслышно разъехались вправо и влево, оставив генерала и красавицу журналистку перед широким проходом, слабо освещенным голубоватым светом.
– Что это? – негромко спросила Ирина, с любопытством вглядываясь в почти интимный полумрак только что открывшегося перед нею помещения.
– Это – музей, – также негромко ответил Шквотин.
– Музей – чего?! – теперь уже с любопытством девушка смотрела на генерала.
– Музей «Стикса-2» и помните, Ирина, что с той секунды, как вы переступите порог музея, вы добровольно берете на себя обет молчания, страшнее сицилийской «омерты». Ваша и моя жизнь отныне в ваших руках.
– Серьезно?! – Ирина попыталась невинно, легко и радостно улыбнуться последней фразе генерала, но у ней не получилось, и в голосе появилось невольное напряжение.
– О нет, поверьте, я ничуть не сомневаюсь в твердости вашего обещания, иначе не привел бы вас к порогу Музея Тайны. Порой мне становится просто обидно, что почти никто из людей кроме сотрудников «Стикса» не увидит того, что навеки погребено здесь, – Шквотин несколько желчно усмехнулся и, взяв Ирину под руку, шагнул вместе с нею за порог. Толстые стальные створки дверей бесшумно сомкнулись за ними.
Глава 16
События второго дня юбилея, происходившие в нашей квартире, не разбудили сытого стэнга, удобно устроившегося на шифоньерной полке, и не смогли нарушить последовательный ход его сновиденья. А снился ему покойный хозяин и Нетленный Лес, в котором стрэнг еще никогда не был. Во сне он тосковал по хозяину и испытывал жгучий стыд из-за того, что предал его…
«…Хозяин шел по заросшей желтым мхом тропинке вдоль своего родового ущелья. Великолепно отполированные в честь большого праздника клыки хозяина сверкали в радостной улыбке, свежий лак на стреловидных рогах переливался под светом спутника живым серебром, и сам хозяин являл собой олицетворение молодости, здоровья, свежести, радости и красоты. Вдоль ущелья щедро лился зеленоватый свет молодого спутника и дул прохладный ветер, развевавший полы свадебного плаща хозяина, словно большие крылья. Хозяин женился в эту ночь и быстро шагал к просторной, ярко освещенной пещере, где за богато накрытыми мшистыми валунами, ждали жениха невеста и гости. А маленький, еще совсем юный стрэнг, держался в почтительном отдалении, прячась в густой тени скалистых утесов, изо всех сил стараясь не попасть на глаза кому-нибудь из участников свадебного торжества.
Так, в отдалении от Хозяина, стараясь оставаться незаметным для него, стрэнг летал много сотен лет. И с годами росли и делались прочнее его неслышные черные крылья, как и крепла любовь к Хозяину…» Острая тоска по умершему пронзила все существо стрэнга, он проснулся и складки его крыльев, переполненные застоявшейся энергией, шевельнулись сами собой с такой силой, что старый шифоньер не выдержал и громко скрипнул.
Читавший под светом торшера газету тесть, вздрогнул и настороженно посмотрел на шифоньер. «Черт! – подумал он, – старый совсем стал, развалится скоро!» Настроение тестя резко испортилось, он отложил в сторону газету, принялся раздумывать о разных грустных вещах и, прежде всего – о возрасте: о своем, своей жены, о том, что годы бегут, что вот и шифоньер когда-то подаренный им с Тоней на свадьбу стал поскрипывать сам собою и придет скоро пора отправляться ему на свалку. Да и они с женой так же, как и шифоньер, начал «поскрипывать». Чего стоит лишь один сегодняшний приступ у Тони – показалось ему, Михаилу Ивановичу, что – всё! Так было с Тоней страшно и неожиданно, главное, как говорится – словно обухом по голове Тоню шарахнуло… Вот ведь черт, жизнь-то штука, оказывается, совсем ненадежная, гиблая, в сердцевине штука, кончиться может без предупреждения специального, по-подлому, как-то не по-человечески…
В это час Михаил Иванович оказался дома в одиночестве – Антонина Кирилловна с Радой вышли во двор на скамеечке посидеть, свежим майским воздухом подышать, а я уехал к другу, по одному скользкому щекотливому делу. Я числился менеджером в одной дышавшей на ладан фирме, и последнее время вынужден был постоянно заниматься исключительно, как отмечалось выше, делами скользкими и щекотливыми…
…Лицо тестя сделалось совсем несчастным, а затем немного злым, потому что мысли его совершили плавный переход от заболевшей жены и гадостей жизни к зятю, то есть – ко мне. «…Шаль черную подарил, сволочь. Поиздеваться, наверняка, захотел. Хорошо, что Тоня – человек тактичный, виду даже не подала, как оскорбил он ее, потрох сучий!..» Тесть резко поднялся, зло и обиженно еще раз взглянул на шифоньер, решительно выключил торшер и отправился в гостиную, где на неубранном до сих пор праздничном столе можно много было найти недопитой водки и недоеденных закусок.
Едва он успел выпить рюмку водки, как с улицы вернулись Антонина Кирилловна и Рада, обе веселые, оживленные. Видно было по порозовевшему лицу тещи и по блестящим радостным глазам, что она, слава Богу, совсем поправилась. У Михаила Ивановича будто тяжеленный камень с души свалился.
– Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть веселой и здоровой, лапочка! – счастливо широко улыбаясь, произнес, обращаясь к чудесным образом выздоровевшей жене, Михаил Иванович.
– Выпил что ли тут без нас? – проницательно глядя на мужа, беззлобно спросила теща.
– Папа, а Валька не звонил? – перебила Радка мать.
– Не звонил, – сделав брезгливую мину, ответил нахмурившийся Михаил Иванович.
– Что его вдруг понесло? – раздумчиво протянула Радка, поудобнее усаживаясь на диван.
– К Витьке, наверное, Старцеву поехал, – предположила все знавшая про меня и про моих друзей, теща, – Чушью какой-нибудь заниматься. Нашел бы нормальную работу, жил бы, как люди, а то… – теща безнадежно махнула рукой и сразу, как видно, позабыв про меня, взяла пульт от телевизора, задумчиво прошлась по всем программам, выбрав для просмотра наитупейший латиноамериканский сериал.
– Порядок-то наводить будем? – поинтересовалась Радка.
Теща опять махнула рукой:
– А-а, пусть стоит, как есть. Завтра уберем, отдохнем еще сегодня, может и в гости кто надумает прийти.
Но в гости больше никто не пришел. Вечер прошел спокойно. За просмотром телевизора и легким ужином. Часов в одиннадцать теща с тестем отправились спать, а Радка осталась в гостиной смотреть телевизор – решила дождаться меня.
Стрэнг в шифоньере попытался осторожно расправить крылья, но страшная теснота полки не позволила ему осуществить задуманного, лишь вновь протяжно скрипнул шифоньер и на него с суеверным ужасом вытаращила глаза теща.
– Старый стал, – раздеваясь, коротко заметил тесть, имея в виду шифоньер, – сегодня весь вечер скрипит.
Антонина Кирилловна ничего не ответила, лишь побыстрее забралась под одеяло, натянув его до самого носа. Ее забил нервный озноб и, слегка пристукивая зубами, она нервно прикрикнула на мужа:
– Миша, шевелись быстрей, – я застыла совсем!
Оставшийся в трусах и майке, тесть выключил торшер и юркнул к теще под одеяло.
Глава 17
Ирина оглянулась вокруг несколько беспомощно, но настороженность ее очень скоро прошла, так как прозрачные стеллажи с экспонатами осветились изнутри ярким электрическим светом и увлекательнейшая экскурсия началась. Борис Федорович начал говорить и вскоре после начала его монолога, золотоволосая красавица Ирина смотрела на генерала совсем иными глазами.
– Мы находимся сейчас в одном из самых странных мест на Земле, – грустным и ласковым голосом доброго сказочника начал говорить Борис Федорович, – Одном из самых странных, и самых печальных, одновременно. Двенадцать лет я возглавляю «Стикс-2» и лишь где-то примерно с год назад смысл деятельности данной организации только начал приобретать лично для меня более или менее определенные очертания, а до тех пор я сам себе напоминал палеонтолога, раскопавшего кладку живых яиц динозавров, или если выразиться точнее, и не на столько образно, я не испытывал ничего кроме постоянного изумления и восторга, но, иногда – немного благоговейного страха, – он помолчал несколько секунд и видя, что Ирина не сводит с него слегка ошалевшего и загоревшегося загадочным огоньком взгляда и слушает, затаив дыхание, добавил – я стал верить в чудеса, потому что видел их чуть ли не каждодневно, и почти перестал им удивляться, тем более, что все они состояли исключительно из элементов самой серой обыденности.
– Я не совсем поняла вас, мой генерал, – улыбнулась девушка и загадочный огонь в глазах ее вспыхнул еще ярче.
– Пройдемся к стенду номер три, – улыбнулся ей в ответ Шквотин, взял под руку хрупкий локоток и увлек за собой к ярко освещенному квадрату небольшого стенда, где среди синего бархата красовался пузатый стеклянный бокал на длинной тоненькой ножке. К краю бокала, как заметила журналистка, прилип кусочек какой-то дряни, крайне неприятной на вид, придававшей внутренности стенда не то чтобы зловещий, а какой-то не здоровый, не совсем нормальный вид.
«Этот бархат мертвый, он имел до смерти совсем другой цвет – яркий и радостный, но сейчас умер и поэтому посинел!» – Ирина испугалась собственной бесспорно безумной мысли и поскорее прогнала эту мысль. А сам бокал, он не блестел, а противно лоснился под светом электрической лампы, как будто его кто-то только что облапал необычно потными ладонью и пальцами, облапал, подержал и, щедро смазав едким потом, поставил обратно. Ирине сделалось слегка противно, но, тем не менее, она подошла вплотную к прозрачной стенке стенда, впившись зрачками в кусочек непонятной дряни, прилипшей к верхнему краю экспоната.
Дрянь блестела или, если точнее, лоснилась еще сильнее, чем сам бокал, и самое плохое заключалось в том, что она не замерла в статической неподвижности, она шевелилась. Ирина почти уперлась высоким чистеньким лобиком о витрину стеллажа, чтобы получше рассмотреть. Генерал Шквотин остался за ее спиной и молча любовался роскошными золотыми волосами свободно струившимися на плечи. «Боже, как она хороша!» – с тоскливым пониманием беспочвенности надежд когда-нибудь обладать «золотком», мысленно воскликнул генерал. А вслух, чуть слышно прошептал с глубокой сосредоточенностью:
– Золотко мое ненаглядное.
– Вы что-то сказали? – резко обернулась она.
– Нет, вам показалось.
– А что это, – журналистка очень осторожно, даже опасливо кивнула на успевший опротиветь пустой бокал за витриной, – связано с какими-то настоящими чудесами? Он в чем-то измазан, по-моему, в чем-то очень гадком.
Шквотин бросил усталый внимательный взгляд на бокал, в глазах его только что полных трепетной нежности, мелькало теперь мутными пятнами злобное раздражение.
– Три года назад из этого бокала одна молоденькая красивая умная девушка отпила холодного шампанского «Дом Периньон» на презентации известной сейчас российско-американской фирмы, проходившей в обширном помещении офиса фирмы, – Шквотин умолк, продолжая разглядывать таинственный бокал с мрачной задумчивостью.
– И что?! – нетерпеливо спросила Ирина.
– Было шумно и весело, многолюдно, и никто в многолюдье не заметил, как ужасом наполнились глаза этой девушки, очень красивой высокой девушки с пышными длинными волосами цвета платины, в великолепном вечернем платье, очень открытом, с разрезом открывающем до середины бедра ее роскошную загорелую правую ногу, и скорее всего, левая нога нисколько не уступала правой.
– А эта девушка явилась на презентацию в одиночестве?
– Нет, ее сопровождал стройный молодой человек, ее жених, как выяснилось чуть позднее, при составлении протокола, – он помолчал секунду-другую, задумчиво пожевал губами, протянул неопределенное: – Н-д-а-а-э-х-х-м, – и продолжил, – всему виной, тому, во всяком случае, что они никогда не поженились, оказался вот этот вот наш бокал, который мы сейчас лицезреем.
Кто-то предложил тост и собравшиеся гости, всего – около сотни человек, пригубили бокалы с холодным «Дом Периньоном». Шампанское разносили между группами приглашенных на презентацию, вышколенные официанты в белоснежных смокингах. Выпив до дна или отпив лишь частично, что, впрочем, неважно, гости ставили бокалы обратно на разносы. Так сделали все, кроме одной – нашей героини. Она не смогла сделать простой вещи – опустевший бокал крепко прилип к ее прелестной нижней губке и никак не желал отлепляться, – внимательно и даже жадно слушавшая Шквотина, Ирина вздрогнула и с еще более брезгливым выражением в глазах посмотрела на бокал.
– На самом деле чертов бокал прилип к нижней губе бедняжки не крепко, а намертво – стекло, а вернее, материал, слагавший бокал, сложным трудно постижимым ураганным процессом образовал единое целое с тканями губы…
– Какой ужас!!! – прошептала Ирина, невольно сделав шаг назад от стеллажа.
Глава 18
Я всё никак не мог договориться по существу того дела, ради которого явился, с Витькой Старцевым – со своим другом и бывшим однокашником. Витька жил в частном секторе, недалеко от церкви, на тихой, густо заросшей кленами улочке. И мы уже около часа стояли возле ворот его дома под резной кленовой кроной и никак не могли прийти к обоюдному согласию: брать маринованную свеклу под реализацию у некоего Хрычкова или не брать, и послать Хрычкова вместе со свеклой к чертовой матери.
Со двора Виктора доносилось слабое гусиное гоготание (они с матерью держали около сотни породистых гусей и огромный огород), пятна голубого лунного света дружными стайками бегали туда-сюда по доскам ворот – вслед за качаемыми слабым ветром кленовыми ветками. Виктор озадаченно наблюдал за беготней лунных пятен, и я видел, что головоломка со свеклой становилась все более непосильной для него.
С точки зрения Виктора, ему для полного счастья вполне хватало и гусей с их мясом и пухом, дополненных, к тому же, пятью гарантированными центнерами крепких фиолетовых головок великолепного сочного чеснока. К тому же сейчас в доме, чьи окна светились уютным желто-золотистым светом, Виктора ждал вкусный ужин и добрая, вечно обеспокоенная за сына пожилая мама. Совсем не зная почему, я вдруг почувствовал острую зависть к Виктору – хорошую белую зависть. Порадовался, другими словами, за него и твердо пришел к убеждению не связываться с Хрычковым и маринованной свеклой. Ко всему прочему примешалось еще и дикое нежелание возвращаться домой, я был твердо убежден, что меня там ждут в высшей степени неприятные разговоры и тягостные события.
– Черт с ней, действительно, со свеклой, – сказал я устало, и Виктор удивленно посмотрел в мое резко помрачневшее лицо, не поняв, очевидно, зачем, в таком случае, битый час я уговаривал его непременно и поскорее взять эту свеклу.
– У тебя, Валька, какие-нибудь неприятности? – догадался Виктор и сделал шаг назад, задумчиво посмотрев во двор сквозь приоткрытую щель ворот.
– Пока не знаю, – немного подумав, ответил я. – Во всяком случае, вполне могут начаться.
– Может, вина выпьешь? – неожиданно предложил он и опять посмотрел внутрь двора. – У меня настойка есть хорошая, домашняя, из брусники. Мать еще осенью ставила.
– А ты будешь?
– Ну, за компанию. Только быстро, – он опять глянул в щель створок ворот, немного обеспокоено, как мне показалось, – чтоб мать не увидела.
Он торопливо сходил куда-то в сарай для инструментов, и вернулся с большой оплетенной бутылью и железной эмалированной кружкой.
Наливка оказалась великолепной штукой – сладким душистым напитком, сохранившим кисло-сладкие ароматы перебродившей брусники, и вызывающим мягкий приятный шум в голове, напоминавший шелест хвои в сентябрьском сосновом бору, где среди травянистых ложков и распадков была когда-то собрана Виктором эта брусника. Удобно расположившись на одном из брёвен, сложенных штабелем у ворот, мы выпили по три полных кружки, вместо закуски заговаривая друг другу зубы анекдотами и скабрезными сплетнями об общих знакомых.
Когда Виктор пошел проводить меня до трамвайной остановки, ноги у нас обоих неохотно слушались головы и сами по себе выписывали небольшую циркуляцию. В общем, расставание получилось очень теплым, но домой мне удалось добраться лишь ко второй половине второго ночи…
Глава 19
– Это не ужас, это было просто несчастье, один из многих видов банальной человеческой беды, – усталость в глазах Шквотина, неотрывно смотревших на бокал, продолжала расти, – Бокал от губы девушки удалось отнять лишь только через двое суток при помощи хирургического вмешательства, хотя и, как выяснилось в момент операции, оказалось уже поздно – бокал пришлось удалять вместе со значительной частью губы, и ее-то вы и видите сейчас на бокале… – Шквотин осекся, увидев выражение лица своей слушательницы. – Я честно предупреждал вас, милая моя, о характере моей работы, о том, что…
– Нет-нет, – поспешно прервала его сбитая с толку, непонятно чем страшно напуганная Ирина, – не нужно напоминать об этом, вы совершенно правы, напросилась я сама. На самом деле нисколечко и не жалею, здесь очень интересно, но только как-то немного… не по-человечески… ей – вдруг сделалось неловко перед Шквотиным.
Но Борис Федорович, напротив, почему-то с воодушевлением ухватился за ее последнее слово.
– Вот именно! Золотко мое («золотко мое» сказал он, не раскрывая рта, одними глазами). Совершенно точно – не по-человечески. Все экспонаты здесь античеловечны по самой своей сути! – генерал заговорил горячо и вдохновенно, с жаром профессионала искренне влюбленного в свое дело.
– Взять хотя бы проклятый бокал – помимо всего прочего, он спровоцировал на оставшейся части губы злокачественную саркому, девушка умерла через месяц, предварительно сойдя с ума. Кусочек ткани губы, прилипшей к бокалу, сделался его составной органической частью, живущей или живой, заметьте, не омертвевшей частью, медленно, но верно продолжающей свой противоестественный рост. Клеточная ткань растет, питается, очевидно, веществом, из которого состоит бокал, его стенки с каждым месяцем делаются все тоньше…
– Может, этот бокал чем-нибудь намазали, какой-нибудь канцерогенной жидкостью враги фирмы? – со слабой надеждой в голосе предположила Ирина, начавшая теребить указательным пальцем правой руки шелковистый золотой локон.
– Его никто ничем не мазал, – последовал лаконичный ответ.
– А внешне бокал отличался от других бокалов и, вообще, откуда он взялся, и пили, может быть, из него раньше?
– Внешне он ничем не отличался от других бокалов. Мы быстро все выяснили – партию однотипных бокалов фирма закупила непосредственно перед презентацией в одном из московских универмагов. Универсам, в свою очередь, получил их с Гусь-Хрустальской фабрики. Никаких патологических следов обнаружить не удалось. Но вот анализ, химической и физической анализ бокала позволил установить, что стеклом тут и не пахнет.
– Простите, – Ира ухватилась похолодевшими пальцами за запястья Бориса Федоровича, – мне показалось – закружилась голова.
Борису Федоровичу страстно захотелось обнять девушку, бережно, но крепко прижать к себе и долго-долго не отпускать, гладить ладонью, перебирать пальцами живое золото ее волос, вдыхать аромат ее духов смешанных с испарениями чистой свежей кожи. Он и сам не заметил. как это случилось, как его ладонь очутилась на затылке любимой, и как она доверительно прижалась к нему и тонкие девичьи руки обвили покрытую шрамами мощную шею.
– Мне это снится – только и мог вымолвить генерал, глядя в дальний конец полутемного помещения музея, где доставая потолка, укрытый плотной темной тканью, возвышался самый объемный экспонат музея. Ткань уже медленно стала сползать, подчиняясь отголоскам могучей, но пока еще далекой дрожжи, начинавшейся мелко сотрясать четырехметровый экспонат. Генерал Шквотин, естественно, ничего не замечал, продолжая прижимать к себе гибкое теплое тело золотовласой богини и вдыхать аромат ее духов, смешанный с испарениями чистой и свежей кожи…
Так молча и неподвижно, крепко и нежно прижавшись друг к другу, Шквотин и Ирина стояли довольно долго. Генерал упрямо боялся поверить в случившееся, а Ирина пыталась разобраться в глубинных причинах своего неожиданного поступка.
«Просто, здесь очень страшно, страшно, как может быть лишь в кошмарном сне, а Борис Федорович такой сильный, такой большой и надежный… Любая девушка на моем месте поступила бы точно также», – успокаивала себя или оправдывалась, точно она не могла понять, перед самой собой Ирина, не отпускаясь, тем не менее, от могучей шеи Шквотина, где бешено пульсировал родничок пульса толкавшего по сонной артерии горячую генеральскую кровь.
Глава 20
В половине первого ночи расположившаяся в гостиной Рада невнимательно смотрела американский боевик и напряженно ждала моего прихода. Стемнело, моя жена выключила у телевизора звук и прислушалась – за дверью спальни родителей стояла тишина и сквозь щели не пробивался свет. «Уснули», – решила она и тут же недовольно подумала: «Где же Валька, паразит?», и какое-то время, не включая у телевизора звука, смотрела на экран, где молча разевала рот смазливая певица-негритянка.
«Негры совсем заполонили эстраду», – мелькнула совершенно ненужная мысль. Палец нажал кнопку другой программы – там яркая голубая жидкость впитывалась в гигиенический тампон, палец нервно нажал на следующую кнопку, и Рада увидела черный звездный квадрат космоса, летевший по нему куда-то к дальней-предальней чертовой матери планетолет. Очевидно, демонстрировался американский фантастический фильм. Рада решила прибавить звук, но не сделала этого – из спальни родителей донесся странный шум.
Жена моя медленно повернула голову и заворожено посмотрела на дверь спальни – дверь медленно и бесшумно раскрывалась, и пока было совершенно непонятно, кто мог толкать ее, так как постепенно открывавшаяся в проеме спальня, залитая лунным светом, выглядела абсолютно пустынной. Радка смотрела туда во все свои огромные глаза и вскоре то, что ей почудилось, едва не заставило ее вскочить на ноги и закричать таким криком, какой наверняка бы переполошил весь дом.
Но, к счастью, она не успела этого сделать – невероятное, неправдоподобно жуткое видение исчезло столь же неожиданно, как и появилось – из голубоватого лунного полумрака родительской спальни неслышно вышла мама, тёща, Антонина Кирилловна, в белой ночной рубашке. Плечи её покрывала чёрная пушистая шаль, немного напомнившая Радке пенные хлопья шампуня цвета антрацита, пронизанного тысячами мельчайших бирюзово сверкавших пузырьков. «Зачем она намылилась такой дрянью?! – гневно и изумленно спросил кто-то отчаянным шепотом в радкиной голове. А может, и сама Радка спросила это вслух, от неожиданности не сообразив такую простую вещь, что матери опять почему-то стало холодно, и она, как и в прошлую ночь, достала из шифоньера и накинула на плечи так полюбившуюся ей черную шаль.
Глаза тещи были широко раскрыты и в них ярко отражались сверкавшие на экране телевизора незнакомые созвездия неведомых человечеству космических далей.
Россыпи пузырьков бирюзового сияния в черноте кошмарного создания, окутавшего плечи тещи, постоянно создавали, разрушали и вновь создавали подвижные причудливые конфигурации, смутно напомнившие Радке неживое свечение фосфора, исходящее из глубины старых полуобвалившихся могил. Радмила опять сильно испугалась, но не столько неземной бирюзовой иллюминации черной шали, сколько бессмысленных, словно остекленевших, материных глаз.
– Мама, – тихонько, сдавленным от ужаса голосом, позвала она Антонину Кирилловну.
– Мама! – во второй раз у нее получилось погромче.
Но теща никак не среагировала на ее слова, продолжая смотреть в лицо новому миру, насильно предложенному ей стрэнгом взамен старого – земного. Звуки, краски и запахи родной квартиры и, по большому счету – родной планеты, навеки перестали тревожить Антонину Кирилловну.
– Мама-а!!! – настойчиво повторила Рада, медленно поднимаясь с дивана, и тщетно надеясь уловить в ее глазах хотя какие-либо искорки осмысленного выражения.
Тесть громко всхрапнул в спальне. Уголки черной шали, свисавшей с плечей тещи, плавно изогнулись кверху, и Радке показалось, что ее мать превратилась в огромную птицу и собирается куда-то взлететь. Моя жена выронила телевизионный пульт на пол, и почти сразу рухнула туда же вслед за ним.
Как глубоко удовлетворенный, успокоенный стрэнг неслышно снялся с голых плеч тещи, сделал изящный неторопливый круг под потолком вокруг люстры и исчез в родительской спальне, залитой светом полной луны, свалившаяся в глубокий обморок Рада уже не видела. Теща осталась стоять одна посреди пустынной гостиной, и её руки ещё продолжали машинально потирать облитые бирюзовым лаком плечи. Плечи эти сделались твердыми и обжигающе холодными, как антарктический лед.
Я, проклятье, всё еще где-то ехал сквозь ночной город на медленно ползущем трамвае.
Глава 21
Подходя к дому, я еще во дворе заметил, что во всех окнах нашей квартиры горит свет. «Вот это да – пришел еще что ли кто?!» – удивленно присвистнул я. Опять посмотрел на наши окна, они единственные горели во всем доме. Дом наш, черт возьми, крепко спал, только в моей квартире не спалось. Я невольно криво усмехнулся, представив, что завтра опять начнутся постоянные будни, эйфория юбилея бесследно исчезнет и останется одна лишь головная боль.
«Забористая, однако, штука», – с удовольствием подумал я о Викторовской брусничной настойке, продолжавшей швырять меня из стороны в сторону и на лестничных пролетах родного подъезда.
Добравшись, наконец, до четвертого этажа, весь вымазавшись в пыли и известке, я довольно долго, с характерным для пьяных, тупым недоумением рассматривал приоткрытую дверь в нашу квартиру. В коридоре тоже горел свет, но из-за двери не доносилось ни звука. В нерешительности потоптавшись несколько секунд на площадке, я все-таки толкнул дверь и вошел в квартиру.
– Кто там?! – послышался с кухни испуганный женский голос.
Не разуваясь, я пошел на смутно знакомый голос и с удивлением увидел, что в кухне сидела наша соседка, полная пожилая пенсионерка Полина Иннокентьевна, глупая и добрая старуха.
– А вы что это, Полина Иннокентьевна, здесь у нас посреди ночи делаете? – строго спросил я, при этом меня сильно качнуло и пришлось опереться о косяк. Что-то меня еще насторожило в выражении широкощекого морщинистого лица соседки, я даже прищурил глаза, чтобы получше разглядеть – тряслись у нее щеки и уголки губ или не тряслись. А она, видно, собиралась с силами сказать мне последние новости и собралась:
– Раду в больницу увезли на «скорой помощи», отец с нею поехал.
Я выпучил на старуху глаза и, ещё не осознав смысла ею сказанного, машинально спросил:
– А мать, Антонина Кирилловна куда поехала?
– В морг ее, сердечную, отвезли-и!!! – вдруг пронзительно надрывно и протяжно взвыла Полина Иннокентьевна, – Умерла Тоня!!! Горе-то какое, Валька-а-а!!! – и она зарыдала, не в силах больше произнести ни слова.
В голове у меня мгновенно образовалась полная пустота, почти сразу наполнившаяся громким бессмысленным звоном. Я рухнул на кстати подвернувшуюся табуретку и сжал виски ладонями, уперев локти в колени.
Глава 22
Генерал понимал, что переживает сейчас один из самых восхитительных моментов собственной жизни, ни до не было, ни после уже не произойдет с ним события, более запоминающегося, нереального и неповторимого в этой кажущейся нереальности…
– Где-то идет поезд, – услышал генерал внезапно ее, произнесенные шепотом, слова.
– Что? – машинально спросил он, не поняв сути собственного вопроса и смысла произнесенной Ириной фразы.
– Где-то идет тяжело груженый поезд, здесь, наверное, недалеко железнодорожная станция. Вы разве не чувствуете?
– Что? – генерал с трудом продирался на поверхность ужасного бытия из бездонного омута блаженной нирваны, – Мы же находимся почти в центре Москвы, причем здесь железнодорожные станции и тяжело груженные поезда? О чем ты, Ирина?!
Хотя и прозвучало в последнем вопросе генерала искреннее недоумение, но почти сразу почувствовалось его неуместность и фальшь – прозрачные витрины ярко освещенных стеллажей, действительно, дружно содрогались мелкой противной дрожью.
Сильные руки Шквотина, нежно сжимавшие талию и плечи Ирины, медленно ослабили мертвую хватку и также медленно голова генерала повернулась в сторону экспоната «номер шестнадцать» – оправленного пожелтевшей слоновой костью зеркала четырехметровой высоты, работы флорентийских мастеров конца восемнадцатого столетия, многие годы хранившегося в музее под темным покрывалом, несколько минут назад начавшим неудержимо сползать. Старинное зеркало содрогалось в мелкой нервной тряске, с покрывала тонкими ручейками ссыпалась пыль и само покрывало постепенно обнажало и расправляло свои многочисленные глубокие складки, издавая при этом мерный, чуть слышный шорох.
Ирина вслед за Шквотиным устремила на ожившее зеркало встревоженный взгляд:
– Что это?! – прошептала она.
– Зеркало Дожей, – последовал быстрый ответ, – восемь лет назад оно было куплено организацией на Сотби за восемьсот тысяч долларов и восемь лет простояло под покрывалом, покрывало продавалось вместе с ним. Я приказал плотно упаковать им зеркало, уж слишком неприятным показался мне цвет его амальгамы, – Шквотин говорил продолжало скороговоркой, почти сквозь сжатые зубы, не отрывая взгляда от зеркала, и с каждой секундой в генеральских глазах продолжало расти изумление…
…Аджаньга, так звали убийцу, увидел долгожданный свет во мраке сгустившихся сумерек – дрожащее пятно серебристого марева неопределенной конфигурации, внезапно вспыхнувшее за очередным крутым поворотом извилистой каменистой дороги, петлявшей вдоль высоких скалистых утесов, в чьих расщелинах противно шипели, угрожающе щелкали и стучали твердыми сухими хвостами о камни смертельно ядовитые хвостоплюи и угрееды. Но Аджаньга, не сбавляя скорости, благополучно сумел проскочить мимо голодных полчищ опасных тварей и очутился перед вышеупомянутом крутом повороте, оставив черные громады скалистых утесов за спиной, поросшей густой шерстью.
Прямо перед ним, совсем недалеко, в какой-нибудь тысяче шагов, не согревая и не освещая холодную темноту вокруг, бесшумно пульсировал фонтан серебристого сияния, исходившего сквозь прозрачную занавесь, отделявшую Аджаньгу от выполнения ответственного задания.
Несмотря на природную тупость и общую необразованность, Аджаньга примерно представлял себе ту степень необычности, и даже, не необычности, а – ненормальности, и возможно, невыполнимости, каковыми в убогой фантазии Аджаньги, насквозь пропахло порученное ему ответственнейшее задание. Он остановился, чтобы собраться с силами перед последним ускорением по прямой, как стрела тропе. Над тропой клубились ночные испарения серебристо-синих мшистых камней…
…При очередном мощном толчке Шквотин и Ирина почувствовали, как под ногами вздрогнул пол, а тяжелое пыльное покрывало с неприятным шорохом окончательно свалилось с экспоната «номер шестнадцать». Зеркало Дожей обнажилось впервые за последние восемь лет и, как показалось генералу вместе с журналисткой, злобно и радостно засверкало великолепно отполированной поверхностью, покрывавшей бездонную мрачную глубину древней амальгамы.
Обоим одновременно почудилось, что они смотрят не в зеркало, а в только что умытое чьими-то слезами окно, за которым куда-то в бесконечность устремлялась широкая галерея с высоким потолком и матово отсвечивающими гладкими стенами. И оттуда, с противоположного, неизмеримо далёкого конца галереи что-то стремительно приближалось – очень пока неясное темное пятно, вернее будет сказать, что даже не пятно, а всего лишь чья-то расплывчатая тень.
– Это – телевизор?! – неожиданно спросила Ирина глубоким изменившимся голосом.
– Нет, я повторял уже, это – зеркало флорентийских зеркальщиков, чокнутых и страшно обозленных на всех своих потенциальных заказчиков, мастеров, – по-прежнему сквозь зубы процедил Борис Федорович, а рука его медленно потянулась к пистолету.
– Нет, это – телевизор! – убежденно повторила Ирина, цепко ухватившись тонкими похолодевшими пальцами за вспотевшее запястье генерала. – Он нагревается! Видите – экран делается ярче, наполняется изнутри светом, наше отражение исчезает, а вместо него появляется чье-то изображение! К нам кто-то летит!!! – девушка почти закричала и испуганно (испугавшись, прежде всего за рассудок) зажала хорошенький ротик изящной ладошкой.
Самое загадочное заключалось в том, что они, сами того не замечая, осторожно шагали навстречу зеркалу. Их отражения окончательно расплавились в амальгаме, раскалявшейся бело-голубым ослепительным пламенем.
Борис Федорович сначала интуитивно догадался, а затем почти сразу после появления страшной догадки, четко понял, что вот-вот должно произойти. Но понимание пришло слишком поздно…
Глава 23
Эдик неукоснительно следовал совету Сергея Семеновича и уже трое суток, после того, как им неожиданно прислали приказ из Москвы – оставаться в Кулибашево до особого распоряжения, поглощал вполне приличное количество качественного полусухого вина. Вот и сейчас, глубоким вечером, капитан взял в буфете на своем этаже очередную бутылку хорошего вина, немного закуски к ней, заперся у себя в номере, включил телевизор и почти ни о чем не думая, принялся потихоньку посасывать приятное сладковатое вино.
Часы показывали два часа ночи, и уже опустело две трети бутылки, когда в дверь номера раздался громкий требовательный стук – Кто там?! – не вставая с кресла, крикнул слегка захмелевший капитан Стрельцов.
– Эдик, открой, это я! – послышался за дверью встревоженный голос Сергея Семеновича.
Эдик вскочил с кресла, словно подброшенный на пружинах.
– Что случилось, Сергей Семенович?!
– Спокойнее, спокойнее, – негромко, но твердо сказал Сергей Семенович, быстро закрывая за собой дверь, и после небольшой паузы раздельно произнес:
– Мы остаемся – никуда не улетаем. Мне только что сообщили – трагически погиб генерал-полковник ФСБ Шквотин – при исполнении служебного долга, – невольная кривая усмешка, исказившая на миг непроницаемое лице Сергея Семеновича, выдала его истинное душевное состояние.
Эдик медленно-медленно опустился на кровать, машинальным движением снял очки, принялся вертеть их на пальцах. Сергей Семенович сел в кресло рядом со столиком, и не спрашивая разрешения хозяина плеснул себе полстакана вина.
– Поэтому нас столько и держали в неведении в этой проклятой дыре! – голос Эдика задрожал, как струя фонтана на сильном ветру.
– Спокойно, капитан! – сказал Сергей Семенович и залпом выпил вино. Немного переведя дух, он добавил: – Даже уже – майор, позавчера вам присвоили звание майора, капитан Стрельцов. Так что – поздравляю! – вино успело ударить Сергею Семеновичу в голову, сделав его, прежде всего, слегка фатоватым, – погиб очередной верховный начальник «Стикса», и вся иерархическая лестница нашей организации пришла в целеустремленное движение снизу вверх. Мне, например, дали звание генерал-майора и пообещали еще, что вскоре дадут генерал-лейтенанта – после выполнения последнего задания в том городе, где мы имеем сейчас честь находиться. А затем, скажу тебе по большому секрету, Эдуард, если, конечно, я соглашусь, то примерно через месяц возглавлю «Стикс-2».
Эдик тяжело выдохнул воздух:
– Гибель БЭФа каким-то образом связана с той чертовой могилой, и потому мы продолжаем торчать в этой дыре и чего-то ждать?
– Да, скорее всего, да. К тому же мы, скорее всего, уже заждались. И, как ты думаешь – чего?
«Новых приключений на свою задницу», – сразу подумал капитан Стрельцов и вслух сказал примерно то же самое:
– Какой-нибудь очередной гадости.
– Совершенно верно! – с крайне нездоровым энтузиазмом воскликнул Сергей Семенович и разлив остатки вина по стаканам: себе и Эдику, добавил: – Сейчас мы пойдем в буфет, съедим там по две порции жирной мясной пищи, чтобы быстрее протрезветь и поедем по одному адресу.
– По какому адресу? – почему-то откровенно тупо спросил Эдик.
– По адресу, где поселилось неожиданное горе, – ответил стремительно продолжавший пьянеть Сергей Семенович. – Да нет, не подумай – прямой связи пока не прослеживается, обычная проверка на возможные паранормальные причины смерти. Умерла хозяйка квартиры – некая Кобрицкая Антонина Кирилловна в возрасте пятидесяти лет, на следующий день после празднования юбилея.
– А почему именно она? – скептически усмехнулся Эдуард.
– За период с момента грабительского раскопа нашей могилы в городе зафиксировано восемнадцать смертей естественного характера и тринадцать несчастных случаев с летальным исходом, и среди всего этого многообразия смертей я выбрал смерть Антонины Кирилловны Кобрицкой, – Сергей Семенович замолчал и задумчиво посмотрел в окно.
– И все-таки – почему? – не отставал въедливый Эдуард.
– Талант безошибочной интуиции – очень редкое и очень ценное качество, и я им обладаю в полной мере, – объяснил Сергей Семенович недогадливому Эдику, и после небольшой паузы добавил. – Именно потому мне и присвоили только что звание генерал-майора!
Глава 24
Тёще в гробу не лежалось. Вполне, отдаю отчет, что подобным образом построенная фраза звучит цинично, но она упрямо сама собой раз за разом повторялась у меня в голове. Но теща (точнее, ее труп) действительно, спокойно не лежала. Смотрелось, безусловно, диковато. И даже, само собой, не то чтобы диковато – все выглядело бутафорным оформлением низкопробной пьесы абсурда в стиле «псевдо-Ионеско».
Даже горе, неугасимо полыхавшее в навсегда потемневших, навсегда обезумевших глазах Рады, как будто было подкрашено фальшью неумелой театральной игры, хотя, быть может, она, просто просто-напросто, продолжала надеяться на чудо воскресения. Собственно, никто из собравшихся вокруг гроба Антонины Кирилловны по-настоящему не верил в ее смерть – не верилось, несмотря на официальное свидетельство о смерти.
В морфокорпусе мединститута труп Антонины Кирилловны обследовался в течении почти двух суток и истинная причина смерти, в конце-концов, осталась невыясненной. Известное светило городской медицинской науки профессор Абаркаган к окончанию вторых суток обследования выглядел крайне жалко: как внешне, так и внутренне. Внутренне он стал казаться самому себе полным невеждой в вопросах физиологии и анатомии человека.
О переживаниях Абаркагана мне рассказал друг врач, бывший однокашник, осторожным шепотом, придя на несколько минут в нашу квартиру, отдать дань уважения почившей в беде теще. Мысленно я обозвал друга ослом, и тут же забыл и о нем, и о Абаркагане, пройдя в гостиную и заняв положенное место возле гроба рядом с Радой.
Примерно каждые шесть-семь минут у Антонины Кирилловны конвульсивно дергались крест на крест сложенные на груди руки и растопыренными пальцами пытались как будто достать плечей. Сидевший у изголовья специально приглашенный врач, терпеливо складывал непослушные руки на груди и затравленно вглядывался в лицо покойной, чуть ли не ежеминутно подергиваемое таинственными посмертными тиками, заставлявшими трепетать веки, словно крылышки летящего против ветра мотылька, а уголки тонких почерневших губ – резво прыгать то вверх, то вниз, изображая попеременно демонические улыбки и плаксивые гримасы.
Иногда, правда, сравнительно редко – где-то раз в сорок минут, теща содрогалась всем туловищем с такой силой, что сдвигала на несколько сантиметров в сторону стоявший на табуретках гроб, и тогда Радка инстинктивно цепляла меня за локоть, а другой рукой хваталась за сердце, как если бы мы сидели с нею на первом ряду океанариума во время представления дрессированных белых акул.
Тесть, Михаил Иванович в какой-то момент не выдержал, попытался возмутиться:
– Да вы что, товарищ врач, не видите разве, что моя жена не мертва?! И ей место не в гробу, а на больничной койке!!
И без тестевых претензий давным-давно уже осатаневший врач также не сумел сжать нервы в кулак, и истерической скороговоркой ответил:
– Вероятно, в данном случае, необходимо было придумать нечто среднее между больничной кроватью и гробом, или, если хотите, мы можем заменить ей гроб на кровать, и хороните ее прямо в кровати, если вам от этого станет легче!
Тесть прервал разговорчивого врача сильнейшей очень звонкой пощечиной, отчего у худосочного врача вместо безудержного потока слов изо рта, щедро хлынула кровь из носа. Бедняга зажал нос рукой, молча поднялся и ни на кого не глядя, вышел вон. Тесть без сил опустился на стул, подпер седую голову сжатыми кулаками и глухо, и страшно зарыдал.
Глава 25
Ближе к одиннадцати вечера тело тёщи и её и бескровное лицо перестали дергаться и кривляться, смерть полностью вступила в свои права над останками человека, прекратив, наконец, уродливую пантомиму-пародию на проявления жизни.
Прошел час, а может и полтора, когда у выхода из гостиной, в центре которой покоился прах Антонины Кирилловны, среди людей толпившихся, несмотря на поздний час, произошло какое-то движение, более сильное и неуправляемое, чем положено на похоронах. Я видел, как скорбящих, хотя и осторожно, но в целом, бесцеремонно, растолкали, входя в гостиную, двое коротко остриженных рослых мужчин спортивного типа, одетых в великолепно сидевшие на них костюмы-тройки, с прилагающимися обязательными белоснежными рубашками и строгими галстуками.
Один из мужчин выглядел постарше, другой, соответственно – помладше. Тот, что помладше, носил здоровенные очки в металлической оправе, и в целом, выражение его веснушчатого лица носило немного ребяческий, ну, если не ребяческий, то, во всяком уж случае, менее серьезный характер, чем волевое, украшенное двумя симпатичными мужественными шрамами, лицо старшего.
Видел я их первый раз в жизни и не знаю почему, но первой моей мыслью явилась очень кощунственная мысль, что это явились бывшие любовники Антонины Кирилловны, которых, как я давно подозревал, при жизни у нее было немало. Что-то неприятное подумал про вошедших и тесть, потому что боковым зрением заметив, как он шевельнулся, я посмотрел на него и отметил, что весь он при виде незнакомцев, по-особенному, я бы даже сказал, хищно подобрался, и желваки ходуном заходили у него на скулах.
Визитёры остановились на почтительном расстоянии от гроба среди других, таких же молчаливых скорбных знакомых Антонины Кирилловны и с искренней печалью принялись разглядывать покойную. Не знаю, обратила ли на них внимание Рада, скорее всего, что – нет, но лично я не мог оторвать взгляда от вновь вошедших. Любовников я отринул почти сразу, и почему-то подумал про ОБЭП, нежданно-негаданно прилетело неприятное воспоминание о бельмастой цыганке и, вслед за цыганкой, естественно…
Я сильно вздрогнул и почти сразу догадался – зачем они пришли, и вслед за этим опять вздрогнул, потому что догадка моя показалась мне сумасшедшей догадкой, бредовым, шальным, взявшимся ниоткуда выводом, вынырнувшими из темной воды безумия. Причем тут, в конце концов, эта проклятая черная шаль, бельмастая цыганка, смерть тёщи, приход двух неизвестных мужчин, похожих на переодетых военных?!
Минут, по-моему, через пятнадцать, раздражавшие меня и тестя, мужики переглянулись, повернулись и собрались уйти, как вдруг в квартире неожиданно погасло освещение. Оно погасло не только в нашей квартире, но и во всем доме, и в противоположном, кстати, тоже. Отключился, кажется, весь квартал. Очевидно, произошла какая-то авария на подстанции.
В нашей квартире и без того легко можно было сойти с ума, но когда она погрузилась во тьму, сумасшествие подступило к собравшимся совсем вплотную – дружный вздох изумления заполнил гостиную, оба «крутых» мужика резко развернулись и встали, будто вкопанные…
Это тёща по-прежнему упорно не давала скучать пришедшим проводить ее в последний путь друзьям и родственникам. Следующим номером посмертной эстрадной программы Антонины Кирилловны явилась световая иллюминация. Уже хорошо знакомое мне и давно начавшее пугать меня, холодное бирюзовое пламя бесшумными волнами пробежало от макушки до пят покойницы и выплеснулось из гроба потрясающими по красоте султанами потустороннего света, забрызгав потолок, стены, лица и одежду людей ярко засверкавшими бирюзовыми пятнами.
Особенно бросились мне в глаза стекла чьих-то очков, на секунду-другую превратившиеся в два прожектора, какие могут светить разве что на дискотеке для пациентов дома вечной скорби – диким, странным и страшным светом блеснули эти чьи-то очки в бирюзово подсвеченном мраке нашей квартиры, где отныне и навсегда поселилась смерть. И когда через пару минут, электричество внезапно опять включилось, я продолжал зачарованно смотреть в то место, где только что сверкали жуткие бирюзовые прожектора, и местом этим оказались очки одного из пары неизвестных мужчин, похожих на переодетых военных. Глаза его были расширены и взгляд, как и у всех присутствующих, буравил лежавшую в гробу тёщу.
– Маму кто-то намазал фосфором, – утвердительным, ненормально спокойным голосом произнесла Рада.
– Нет, нет. Что ты! – таким же ненормально спокойным голосом возразил я. – Это ее болезнь, у нее какая-то неизвестная болезнь, этот проклятый Абаркаган, по-моему, врет нам, чего-то не договаривает – тут никаким инфарктом и не пахнет! – не сговариваясь, мы переглянулись с тестем.
В глазах Михаила Ивановича, впервые за время совместной с ним жизни под одной крышей, заметил я, нечто похожее на понимание моих слов. Тесть, возможно, что-то хотел сказать, но не успел – электричество вырубилось вторично, будто повинуясь воле невидимого фокусника-садиста. И опять – сильнейший удар по людским нервам в виде покойницы, облитой жидким бирюзовым пламенем.
«Она и в могиле будет также светиться!» – невольно подумалось мне, – «И ей там не будет так темно и страшно», – я тут же обругал себя за больные дурацкие мысли. Тем более, что свет опять включился и всем, находившимся в гостиной, вновь начало казаться, что они присутствуют на обычных похоронах, а – не в павильоне аттракционов ужасов.
Глава 26
Кто-то извиняющимся шепотом проговорил мне в правое ухо:
– Простите, не уделите ли мне минутку внимания?
Я повернул голову и посмотрел вверх через правое плечо – передо мной стоял один из двух таинственных незнакомцев, тот, что постарше, украшенный двумя симпатичными шрамами на лице.
Не задавая лишних вопросов, осторожно отстранив Раду и тихо сказав ей: «Сейчас приду», я вышел вслед за незнакомцем на кухню.
На кухне никого не оказалось, кроме второго вихрастого очкастого компаньона того, кто меня пригласил.
– Присаживайтесь, Валентин, будьте любезны, – отодвигая табуретку из-под стола словно хозяин, пригласил меня сесть, человек со шрамами.
– А я вам, вроде, не представлялся, – скорее удивленно, чем раздражённо, заметил я, устало опускаясь на услужливо пододвинутую табуретку.
Человек со шрамами уселся напротив меня, очкарик остался стоять у окна, разглядывая меня не без настороженного любопытства. Человек со шрамами достал из внутреннего кармана пиджака солидное сочно-красное удостоверение, развернул – его и сунул мне под самый нос со словами:
– Разрешите, теперь представлюсь я.
Я прочитал: «Федеральная служба безопасности. Панцырев Сергей Семенович. Воинское звание – полковник».
– Очень приятно, – равнодушно произнес я, когда полковник Панцырев захлопнул корочки шикарного удостоверения и убрал обратно во внутренний карман пиджака.
– Я еще раз прошу прощения за вынужденную бесцеремонность, – перешел к делу Сергей Семенович. – Очень остро ощущаю вашу, более чем обоснованную раздраженность, но у меня, поверьте, другого выхода просто нет. Работа, понимаете ли.
– Я все прекрасно понимаю, – терпеливо ответил я, не чувствуя как раз, никакого раздражения.
– Только один вопрос: что, на ваш взгляд, могло случиться?
Ответ мой получился вполне соответствующим вопросу – я лишь молча пожал плечами и криво усмехнулся. Но так как полковник Панцырев и его напарник упорно молчали, ожидая, очевидно, пока я что-нибудь скажу вслух, я и вынужден был сказать вслух:
– Ваш вопрос прозвучал в чересчур нечёткой форме, и я совершенно не понял, что именно вы хотите от меня услышать. Если – по какой причине умерла Антонина Кирилловна и почему она до сих пор дёргается и светится в гробу не хуже неоновой рекламы, то я вам, ровным счетом ничего вразумительного сказать не сумею. Я развел руками и вдруг внезапно начал ощущать, как во мне, действительно, появилось настоящее тяжёлое, глухое раздражение.
– А она что – ещё и дёргалась, в смысле – у неё происходило хроническое посмертное сокращение мышечных волокон? – живо и заинтересованно спросил сидевший на подоконнике очкарик.
– Спросите об этом лучше моего тестя, – откровенно зло ответил я очкарику. – В этом смысле вы найдете в нем весьма заинтересованного собеседника, он, как раз не так давно дежурному врачу морду разбил…
– Стоп, ребята! – примиряюще поднял руки кверху хладнокровный и вполне умеющий владеть собой полковник Панцырев. – Не будем горячиться, Валентин Валентинович. И, к тому же, вопросов к вам мы более не имеем, – он резко поднялся на ноги, проницательно глядя мне в глаза, – еще раз простите и примите наши искренние соболезнования.
– Простите, – добавил также и очкарик, отрывая зад от подоконника.
– Вот вам, на всякий случай, телефон моего гостиничного номера, – оставил на кухонном столе полковник Панцырев вчетверо сложенный лист белой бумаги, – если вспомните неожиданно что-нибудь необычное, странное, пугающее – позвоните, пожалуйста, мне и поверьте – вам, возможно, сразу станет легче. Главное, чтобы вы не боялись мыслить максимально парадоксально – и перед тем как окончательно уйти, он обронил лишь одну фразу:
– Помните, что сам факт существования человечества на нашей планете, является парадоксом.
Глава 27
День предания тела Антонины Кирилловны земле выдался хмурым и пасмурным. Серые тучи сплошной пеленой затянули вчера еще такое беззаботно голубое небо, и нет-нет, сверху падали кратковременные порции мелкого, как сеянка, холодного дождичка, покрывавшего беломраморное лицо покойной сотнями крохотных мокрых пятнышек.
Радмила чуть ли не ежесекундно вытирала лицо матери носовым платком. Но дождь с каждой минутой усиливался, и тогда тесть раскрыл предусмотрительно захваченный из дома зонтик и держал его над непокрытой головой Антонины Кирилловны весь промежуток времени, пока говорились траурные спичи. До той самой минуты, пока не наступил страшный и неизбежный момент любых похорон – прощание.
Не отрываясь, смотрел я в лицо тёщи, и перед тем, как распорядитель похорон на общественных началах, какой-то там дядя Боря (не помню точно – кем он нам приходился) укрыл его белоснежной накрахмаленной простыней, мне явственно почудилось, будто правый глаз Антонины Кирилловны на мгновение приоткрылся и оттуда брызнул тонкий и острый лучик звериной ненависти к миру живых людей, навеки оставляемому по ту сторону накрахмаленной простыни и крышки гроба. Ощущение это получилось столь сильным, что я поспешил отвести взгляд от мертвого тещиного лица и бессмысленно принялся разглядывать стройную гряду высоких тополей, росших вдоль кладбищенской ограды, примерно в полукилометре от последнего приюта Антонины Кирилловны.
Едва заметная зеленая дымка молодой листвы окутывала кроны тополей и сотни ворон, сидевших на их ветвях. Воронам, видно, судя потому, что они не летали, а неподвижно сидели, тоже было не очень весело. Вообще, погода покрасила кладбищенский ландшафт, как по заказу. Глядя на тополя, ворон и серое небо, я представил, как здесь всё начнет выглядеть вечером, на закате, когда гроб с Антониной Кирилловной будет покоиться на двухметровой глубине под свеженасыпанным холмиком, заваленном полусотней роскошных венков и вокруг не останется ни одной живой души. Лишь темно-багровое полотно заката бросит скупые угрюмые краски на мраморные крыши тысяч тесных домов новых соседей Антонины Кирилловны, расчертит кладбище в оранжево-черную тоскливую клетку, сверкнёт прощально на гладкой коре тополей и отполированных клювах ворон, и быстро погаснет, уступив место мрачному великолепию холодных ночных полутонов и таинственных шорохов.
Когда на холмик был возложен последний венок и участники похоронной процессии повернулись к ожидавшим автобусам, я твёрдо решил: «Во что бы ни стало необходимо найти цыганку!» И стоило мне только об этом подумать, как Радка вдруг сказала негромко одному мне:
– Мы допустили с тобой, Валечка, одну страшную ошибку – очень страшную…
– Какую? – механически переспросил я, почти не вдумываясь в то, что она мне сказала.
– Шаль… эту шаль – она ей так понравилась, нужно было похоронить ее вместе с мамой. Она бы лежала у мамы на плечах и грела, все время бы грела маму – ведь там так холодно… дальше Рада не смогла говорить. Голос у нее задрожал, но она не зарыдала или не смогла, или сдержалась. Я точно не понял, но, тем не менее, покрепче взял ее – под локоть и шепнул на ухо:
– Держись, Радочка, ради Бога, держись! Мы наплачемся вволю дома – не здесь.
У кладбищенских ворот я оглянулся и, не совсем отдавая отчет в том, что делаю, показал кукиш памятникам, молчаливо и злобно смотревшим на меня. Показал и тут же испуганно спрятал руку в карман.
– Ты что вертишься? – толкнула меня в бок Радка.
– Не знаю – мне показалось, будто я вот-вот сойду с ума, – истинную правду сказал я. – Так, знаешь, ясно-ясно представилось, что какая-то сволочь, какой-то таинственный гад и мой личный враг прятался за одним из памятников и злобно смотрел мне в спину, и я не выдержал, оглянулся и показал ему кукиш.
– Ты его увидел, чтобы показать кукиш?
– Нет, но кукиш показал.
– Значит, действительно, сошел с ума.
Мы замолчали, потому что подошли к автобусу, где наш странный разговор могли услышать и по-настоящему поверить в то, что и я, и Рада успели спятить за время похорон.
Нам досталось заднее сиденье, и когда автобус отъезжал от кладбища, я не выдержал и опять оглянулся, и пристально смотрел на удалявшиеся шеренги памятников, пытаясь определить – какой из них следил за мной. Я перехватил взгляд супруги и опомнился, прошептав:
– Я схожу с ума… – и тем не менее вновь бросил взгляд назад и неожиданно меня осенило – я поднял глаза выше – на верхушки кладбищенских тополей, усеянных сотнями ворон. С такого расстояния птицы казались мне не более, чем крупными черными точками, но я почему-то был твердо уверен, что все они, как одна, повернули головенки в сторону нашего автобуса, медленно выворачивавшего по подъездной кладбищенской аллее к трассе, ведущей в город. Это вороны, а не фотографии памятников, с сосредоточенной ненавистью смотрели мне в спину черными блестящими глазками, когда я шагал к выходу с кладбища, бережно поддерживая жену, готовую вот-вот свалиться в обморок… Я положительно сходил с ума, да, в общем-то, и было от чего…
На поминальном обеде я напился до скотского состояния и в крепком сне, свалившем меня, не видел ровным счетом ничего…
Часть вторая
Глава 1
Полковник, вернее, уже генерал-майор ФСБ Панцырев зачарованно смотрел на могилу Антонины Кирилловны Кобрицкой, откровенно наслаждаясь безупречной чистотой и небывалой интенсивностью знакомого уже нежно-бирюзового сияния, просочившегося из гроба с прахом Кобрицкой сквозь два метра глины. По-неземному красивая прозрачная мгла затопила пластмассовые цветки и сосновую хвою венков – наверное, так бы горело нормальное земное пламя в потустороннем мире – без треска и шума, дыма и запаха сгораемых дров.
За спиной Панцырева неподвижно замер майор Стрельцов, жадно затягивавшийся сигаретой.
Кроме них двоих, на территории кладбища находился только ночной сторож и члены его семьи, которые к тому же мирно спали в этот глухой час.
Панцырев – хотя и поддался определенной эйфории, но о работе не забывал. Да и мудрено было забыть о беседе с доктором медицинских наук Абаркаганом, делавшим гистологическое и биохимическое исследование тканей трупа Кобрицкой (пробы анализов – срезы тканей головного мозга, сердца, внутренних органов и мышц уже отправили в Москву вечерним рейсом). Особенно запомнились несколько последних фраз из невеселого монолога доктора Абаркагана:
– …Технически она была, безусловно, мертва, – говорил Абаркаган усталым, чуть-чуть растерянным голосом, настороженно глядя прямо в глаза Сергею Семеновичу, словно надеясь разгадать – каким образом сидевший сейчас перед ним полковник ФСБ узнал про этот удивительный случай с Кобрицкой и откуда вообще обо всем самом важном, тайном и необычном в первую очередь узнает именно ФСБ, и какой именно подотдел ФСБ представляет полковник Панцырев, производивший впечатление вполне интеллигентного, не без определенных медицинских знаний, человека, – …отсутствие пульса, давление – ноль, температура – трупная, очевидное посмертное образование значительного количества молочной кислоты в мышцах – он пытался объяснять процесс посмертного разложения человеческого организма, как можно грубее и популярнее для того ли, чтобы пояснее – подоходчивее выразить парадоксальность вывода, родившегося в его голове после резекции трупа Кобрицкой, либо единственно с целью подчеркнуть предполагаемое им невежество человека в форме, – …в общем, все как и полагается типичному покойнику. Но… я долго думал над получившейся формулой того поразительного фермента, что накопился в порах кожи, на стенках кровеносных и лимфатических сосудов, и, тем самым, празднично иллюминировал труп, а так же породил противоестественные с точки зрения физиологии и здравого смысла свойства мышечных волокон. И даже не то чтобы думал – аналитически мыслил, а скорее – ощущал крайне необычное для своего возраста, давно позабытое чувство – благоговение.
– Перед чем? – коротко спросил тогда Абаркагана Панцырев, удивившись путанице мыслей профессора.
– Перед явлением, объяснение которого недоступно человеческому разуму – перед чудом, волшебной тайной, если хотите.
Есть такое понятие как магия чисел. И в самом этом понятии, в свою очередь, есть своя собственная магия, основанная на полной несовместимости двух составляющих его половинок. Точно также и составляющие фермента Кобрицкой (думаю, что под таким названием он и войдет в мировую науку) сами по себе представляют обычные органические соединения, но соединились они между собой при помощи валентных связей под такими удивительными углами, что общий узор их вызывает у исследователя бурю эмоций, далеких от науки и от каких-либо рационалистических начал, вообще.
Например, лично я не то чтобы элементарно испугался, нет – это было бы слишком просто. Скорее, если выражаться образно – дух у меня захватило, как у человека, нежданно-негаданно заглянувшего в бездну, или вкусившего запретного плода, или ясно осознавшего полную бессмысленность собственного существования, – догадавшись по выражению глаз Панцырева, что он его не совсем понимает, Абаркаган поспешил сказать главное. – …В общем, у меня создалось ощущение, что кто-то сознательно поставил над этой несчастной Кобрицкой жуткий эксперимент – ей насильно заменили кровь, лимфу, спино-мозговую жидкость, даже желчь и мочу на какой-то дьявольский эликсир, на бирюзово сверкающее в темноте нечто. Другими словами – Кобрицкой вынули душу и накачали взамен неизвестной дрянью, после смерти заставляющую самопроизвольно сокращаться мышцы, оставаться в постоянном напряжении нервы, люминицировать кожные покровы и по большему счету – продолжать жить ее умерший организм жуткой противоестественной жизнью!
– Возбудитель не обнаружен, – после небольшой паузы сухо добавил Абаркаган. – Её, по всей видимости, отравили или может сама отравилась – таково мое окончательное заключение о причинах смерти…
Глава 2
У ворот дома Вишана и Шиты стоял старый цыган по имени Буруслан, являвшийся их соседом и деловым партнером. За спиной Буруслана нерешительно топтались два его взрослых сына. Собственно, сам Буруслан также испытывал нерешительность – он решительно не знал, что ему предпринять: попытаться взломать ворота или вернуться обратно домой вместе с сыновьями. Один из сыновей держал в руках железный лом, другой – заряженную двустволку. У Буруслана на левом боку под полой кожаной куртки в самодельной кобуре висел настоящий израильский «УЗИ» с еще не начатым магазином. Все трое были матерыми бандитами и попусту никогда не брали с собой заряженное боевыми патронами оружие.
– Отец, ты думаешь – их?… – негромко спросил старший сын и провел по воздуху двумя вместе сложенными пальцами характерную черту поперёк своего горла.
Буруслан нахмурился, наморщил лоб, но вслух ничего не ответил, лишь неопределенно пожал плечами. Честно сказать, Буруслану ни о чем не хотелось говорить. В убеленной густыми сединами голове старика варилась каша из самых фантастических догадок и предположений относительно того, куда подевались Вишан, Шита, Дюфиня и Мишта. Ещё позавчера вечером Буруслан должен был встретиться с Вишаном по достаточно важному для обоих поводу, но Вишан не явился в условленное время и означенное место, и встреча не состоялась.
Прождав еще сутки, сделав несколько безрезультатных визитов к Вишану домой и каждый раз ни с чем уходя от наглухо запертых ворот, Буруслан решил сегодняшней ночью, в самое глухое время, дабы исключить наличие нежелательных свидетелей, вскрыть вишановские ворота и попасть таким образом внутрь его дома. Что-то подсказывало старому Буруслану, скорее – богатый жизненный опыт или полная тишина за воротами, что хозяева находятся внутри дома в совершенно окоченевшем состоянии. Кто-то и почему-то попросту убил их, и старому цыгану не терпелось поскорее проверить свою основную и наиболее мрачную догадку на практике.
Буруслан на всякий случай надавил на кнопку звонка и не уловив никакой реакции по ту сторону ворот, тихонько сказал:
– Пора – делай ворота, Малик.
Старший сын, Малик вставил тяжелый лом между створками и изо всех сил надавил оставшийся в руках конец по воображаемой часовой стрелке и остановил на воображаемом циферблате огромного будильника напротив цифры три. Раздался треск сломаного дерева: между створок ворот образовалась щель и цыгане увидели электрический свет, блеснувший из двора, крытого оцинкованным железом. Но Малик не мог долго удерживать в таком положении мощный напор могучих створок, и щель захлопнулась, полоска электрического света исчезла.
– Они там – мёртвые, – уверенно сказал Буруслан и добавил, как видно избавившись от мучавшей его нерешительности, – ломайте, ребята!
Малик и второй сын, Маер дружно навалились на лом, вставленный в зазор между створками ворот, опять затрещало дерево, появилась узкая щель и полоска электрического света, но… ничего более не удалось сделать сыновьям Буруслана.
– Отойдите! – нетерпеливо приказал старый цыган.
Сыновья выдернули лом и послушно отошли в сторону. Буруслан неторопливо вытащил из-под куртки короткоствольный «УЗИ». Также не торопясь, основательно навинтил на ствол прибор бесшумной стрельбы, негромко сказал:
– Внимание! Разойдитесь ещё подальше! – сам тоже отошел метра на три от ворот, тщательно прицелился и дал короткую, действительно, почти бесшумную очередь.
Десяток разрывных пуль превратили в кудрявые лохмотья массивный стальной замок, вмонтированный в деревянную толщу ворот со стороны двора. Послышался мучительный, почти человеческий, но все-таки металлический стон, затем – хруст и резкий громкий щелчок, и огромные тяжелые ворота дрогнули, как бы в задумчивости сохранили еще секунду-другую статистическую неподвижность и не сдерживаемые никакими запорами бессильно распахнулись внутрь двора.
Заасфальтированный обширный двор оказался ярко освещен – под навесом горели две мощные лампы. В центре двора, едва не доставая ламп крышей кабины, стоял пятитонный «КамАЗ», равнодушно уставясь темными фарами на непрошенных гостей. А гости, кстати, словно оцепенели перед раскрывшимися воротами и как будто сами были не рады, что в конце концов их открыли Буруслан поднял левую, свободную от автомата, руку вверх, что означало: «Опасность! Всем оставаться на своих местах!» Он сразу не понял, что конкретно его так сильно потрясло и напугало. Развитым за долгие годы жизни профессионального скотокрада чувством опасности ощутил старый цыган – насколько близко, как никогда близко, почти вплотную, подступила к нему смерть.
Она притаилась быть может в сарае, чью дверь оставили открытой нараспашку хозяева, и откуда лился на двор зловещий больной ненормальный тускло-оранжевый свет, А быть может – в самом хозяйском доме, где во всех окошках, зашторенных красивыми занавесками, ярко горело электричество, и входные двери, оббитые кожей, были гостеприимно распахнуты. Буруслану оставалось лишь пройти или в сарай, или в дом, широко радостно разулыбаться, раздвинуть в стороны руки, как для дружеского объятия и воскликнуть прямо смерти в лицо: «Здравствуй, родная! А вот и я – твой долгожданный Буруслан!»…
– Ну что, отец, что делать-то будем? – не выдержал и спросил старший сын Малик.
– Молчи, дурак, не мешай мне думать! – не поворачивая головы к несдержанному Малику, сурово произнес Буруслан.
«Смерть наверняка сидит за столом и ужинает», – почему-то так подумал Буруслан и почти сразу понял – почему. Да потому что из гостеприимно распахнутых дверей дома шли невидимые, но густо концентрированные ароматы еще горячего свежезажаренного мяса и лука.
– Гуляют что ли? – как следует принюхавшись, высказал свою догадку вслух Малик, – Пьяные, наверное, в «дым», вот и не открывают, и не выходят.
В этот раз Буруслан не одернул сына, видно, внутренне с ним согласился, затем помолчав всё же несколько секунд для сохранения древнего патриархального порядка, он решился и сказал:
– Что ж, пойдем составим им компанию! – хотя в седой голове Буруслана кто-то отчетливо закричал затравленным и отчаянным голосом: «Беги отсюда старик, вместе с сыновьями без оглядки!!! Беги!!!»
– Вперед! – вслух упрямо повторил Буруслан, стараясь не слушать крикуна-паникера в своей голове, и сделал шаг вперед.
Глава 3
Я крепко спал мертвецки пьяным сном, обняв меня и тесно прижавшись ко мне, тихо и безутешно плакала Рада. В наполовину осиротевшей спальне родителей овдовевший тесть пил водку из маленькой рюмочки и тоже тихо плакал.
В шифоньере на своей полке убийца Антонины Кирилловны, стрэнг очень энергично и настойчиво готовился к дальнейшим действиям.
Привычный ход событий окончательно нарушился в представлениях стрэнга, устоявшихся веками, и весь бельевой отдел старого шифоньера от нижней до верхней полок захлестнули бесшумные водовороты густого и вязкого, как само забвение, галогенового бирюзового сиропа, получившегося из переправленной души моей тещи. И безмозглое свежее белье захлебнулось душистым сладким ядом, щедро поделившимся с ним коварным стрэнгом.
Тесть, Михаил Иванович, всецело поглощенный безутешным горем и водкой, ничего не замечал вокруг, в частности – тонкий, не толще вязальной спицы, бирюзовый лучик, вырывавшийся сквозь щель между верхней стенкой шифоньера и дверцей бельевого отдела, плотно закрытой на ключ. Лучик хорошо было видно в полусумраке спальни, слабо освещенной лишь ночным торшером, непосредственно возле которого и пил водку Михаил Иванович.
Серьезно растерявшийся стрэнг предпринял вторую попытку оживить белье теперь уже не только с праздной целью найти себе собеседников, необходимых для поддержания пустой болтовни. Сейчас ему нужны были помощники, наделённые хотя бы самыми элементарными зачатками интеллекта.
Бирюзовые протоны активно бомбардировали белье на субмолекулярном уровне и постепенно формулы молекул неуловимо, но кардинально менялись. И если бы препарат трансформированного тещиного белья попал под объектив электронного микроскопа в лаборатории профессора Абаркагана, старый профессор вновь бы был полностью зачарован необычным пленительным узором валентных связей, выстроившихся под противоестественными углами и мысли профессора тесным взбесившимся табуном дружно бы ускакали куда-нибудь в совсем далёкие пограничные области разума.
Когда тесть приканчивал последние граммы поминальной поллитры, бельё окончательно ожило и с непомерным удивлением принялось слушать стрэнга, терпеливо начавшего объяснять простыням, пододеяльникам, наволочкам и полотенцам их новое предназначение, принципиально отличное от старого. Разговор, само собой, получался, особенно поначалу, непосредственно после совершения противоестественного превращения, тяжелым:
– Пробуждайтесь, братья! – нетерпеливо и возбуждённо говорил стрэнг, – пришло время для вас осознать собственную индивидуальность! Вы помните наш прошлый разговор?!
– Не помним! – белье еще не научилось лгать и в окружающем мире его ничто не радовало, не печалило, не вызывало опасений и надежд, вражды и симпатий, и пока, как уже указывалось выше, эмоциональная палитра нашего постельного белья была представлена единственным чувством – бесконечного удивления.
– Еще раз спрашиваю: кто вы?
Белье ответило напряжённым молчанием, Но молчание, к глубокому удовлетворению стрэнга, продолжалось недолго, Подаренная нам с Радкой на свадьбу огромная простынь, вышитая затейливыми цветочными узорами, оказалась самой сообразительной из будущих помощников Черной Шали, и она и ответила за всё белье разом:
– Мы – члопстеры. Мы помогаем нашим хозяевам крепко засыпать по ночам, но они всегда просыпаются по утрам, потому что мы – не стрэнги. И мы не можем забирать души наших хозяев с собой.
Выслушав ответ простыни, стрэнг внезапно почувствовал приступ раздражения, так как лично сам он окончательно запутался с определением слова «хозяин» и генетически вложенное в стрэнга такое ясное и цельное понимание его основной жизненной функции внезапно сделалось совершенно смутным и дало множество глубоких извилистых трещин. Необратимая трансформация происходила с хранителем души рогатого обитателя могилы, разграбленной Вишаном и его родственниками. И зловещая трансформация оказалась замешанной на теплом напитке поразительного вкуса и запаха – на крови Антонины Кирилловны, высосанной стрэнгом без остатка вместе с её психической сущностью – той самой таинственной категорией, которую люди привыкли называть: «душа».
– Это хорошо, члопстеры, что вы теперь знаете, кто вы такие и как вас нужно называть! – справившись с ненужным раздражением и смятением, похвалил белье стрэнг, торжественно добавив: – Я научу вас летать и возьму с собой в Нетленные Леса.
– А когда ты нас возьмешь в Нетленные Леса? – спросило белье.
– Когда наберусь сил, необходимых для полета. Когда мы все наберемся сил, – добавил стрэнг спустя непродолжительную паузу и, словно порыв урагана, его сотрясла неожиданная тоска, вызванная отчетливым осознанием того непреложного факта, что в Нетленные Леса ему не попасть никогда, и сейчас он просто-напросто лжет себе самому.
Глава 4
Из всего многосложного перевозбужденного речевого потока Абаркагана в память Сергею Семеновичу намертво врезалось, и мучило на протяжении всего дня, только одно – упоминание об украденной душе. Собственно и сейчас ночью, стоя перед памятником над могилой Антонины Кирилловны, новоявленный генерал-майор ФСБ лихорадочно искал решение сложной головоломки, основным элементом которой являлось меткое и ценное замечание талантливейшего Абаркагана о неведомой пока, но, несомненно, грозной беде, постигшей душу моей тещи.
Сергей Семенович неожиданно резко оглянулся, столь неожиданно и резко, что глубоко задумавшийся примерно о том же самом, о чем и шеф, Эдик сильно вздрогнул и едва не выронил сигарету.
– Я завидую порой тебе, Эдуард, – негромко произнес Сергей Семенович.
– В чем?
– В том, что ты куришь. Некурящему не понять и не познать всех оттенков успокоения нервов табаком. Ну, а главное – так это в том, что ты мой подчиненный и не тебе принимать решения. И тем не менее – какие есть идеи относительно дальнейшего плана действий?
– В первую очередь, товарищ полковник, необходимо, я считаю, допросить зятя, этого Валентина. Как следует, по-настоящему допросить.
– Почему именно его?
– Интуиция. Он что-то знает, о чем-то предпочитает умалчивать и даже – не думать. К тому же он не кто-нибудь, а зять все-таки и у него, как у всякого нормального зятя должна была бы найтись хоть одна причина, чтобы ненавидеть тещу.
– И чтобы убить? – быстро переспросил Сергей Семенович.
– Ну, этого я бы не стал утверждать с определенностью, – ответил Эдик, пожимая плечами. – Но… с другой стороны, кто-то же должен был приложить руку к её смерти, как утверждает этот Абаркаган.
Панцырев ничего не сказал, повернулся спиной к Эдику и вновь зачарованно принялся разглядывать могилу, затопленную холодным бирюзовым пламенем, в чьих языках на глубине двух метров сгорал труп Антонины Кирилловны Кобрицкой.
– Сергей Семенович, – несмело как-то произнес Эдик, – А… в общем, разумеется, само собой, надо бы и могилу раскопать. – Ту могилу, какую нам приказали закопать. Так как между смертью Кобрицкой, гибелью БЭФа и той могилой вы увидели какую-то взаимосвязь. В вашей голове сложился роковой треугольник.
– Хорошо излагаешь! – тихо рассмеялся Сергей Семенович, не поворачивая головы к Стрельцову и продолжая внимательно разглядывать то, что творилось над могилой и вокруг памятника Антонины Кирилловны. – За что, собственно, я тебя и ценю.
– И еще, если позволите, – явно польщенный вновь заговорил майор Стрельцов, – Интуиция мне подсказывает, что нужно раскопать и эту бирюзовую красавицу-могилу, и отправить в лабораторию «Стикса» весь труп Кобрицкой, а не только несколько его кусочков.
– Наверняка ты опять прав, – немного помолчав, согласился с ним Сергей Семенович, – Примерно с минуту назад моя интуиция подсказала мне то же самое. К тому же… именно сейчас я чётко понял состояние Абаркагана! – Панцырев снова резко, как манекен на хорошо смазанных шарнирах, повернулся к Стрельцову и спросил:
– Скажи честно, Эдуард, тебе хоть немного страшно? – Мне страшно интересно, – почти сразу ответил Эдик, – а из возраста беспредметных страхов я вышел почти сразу после детского сада.
– Счастливый ты человек… – с легкой доброжелательной иронией констатировал Сергей Семенович, – безнадежно счастливый, – и, глянув вдаль на верхушки тополей, на ворон, дремавших в их кронах, и освещенных желтым светом луны, он почти прошептал: – А я вот боюсь, давно забытым таким милым моему сердцу детским страхом, от которого холодок пробегает вдоль позвоночника, волосы встают дыбом, а в глазах, округлившихся до невозможных размеров, замирает изумление, любопытство, оторопь, жуть и самое главное – ожидание чудес, прихода волшебной сказки.
Сергей Семенович умолк почти на полуслове, словно завороженный собственным описанием овладевшего им детского страха, а майор Стрельцов с трудом сдержался, чтобы удивленно не присвистнуть.
– Завтра ночью выкопаем содержимое обеих могил, – совершенно другим, своим обычным командирским голосом, отчеканил генерал-майор Панцырев, словно и не он несколько секунд назад пытался представить себя насмерть перепуганным маленьким мальчиком, – и завтра же это содержимое отправим в родной «Стикс-2». А сейчас поехали отсюда – итак припозднились, завтра к восьми утра нанесем визит Кобрицким, выразим соболезнование еще раз, может, выпьем вместе утренний чай, если пригласят, конечно…
Эдик коротко хмыкнул в кулак.
Сергей Семенович развернулся и сделал вроде шаг по направлению к гравиевой дорожке, но остановился, бросил еще один долгий взгляд на тянувшиеся во все стороны от могилы щупальца бирюзового тумана, затем – вдаль, на тополя и ворон. Коротко, вполголоса, как будто подумал вслух, сказал:
– Не оставляет меня ощущение, что мы с тобой отстаем от чего-то безнадежно, как от чьей-то злой мысли, летящей со скоростью света…
Глава 5
Крадучись, внимательно оглядываясь по сторонам, цыгане пересекли широкий двор Вишана и Шиты и остановились перед высоким крыльцом. Малик шумно вобрал ноздрями воздух и почему-то прошептал, словно боясь оказаться услышанным в доме:
– Они жарят свинину – точно! – и Малик сглотнул слюну.
Буруслан нахмурил густые брови и коротко скомандовав:
– За мной! – стал подниматься по ступенькам крыльца, держа автомат перед собой.
Оказавшись на крыльце, он остановился, сумрачно посмотрел на сыновей и велел им дожидаться его на крыльце до тех пор, пока сам их не позовет. Распоряжения своего Буруслан не объяснил, но сыновья и так поняли, что отец никогда не предпринимает мер предосторожности зря.
Буруслан вошёл в дом – запах жареного мяса заметно усилился. Без приключений миновав просторные сени, левой рукой он взялся за медную ручку двери, ведущую в жилую часть, секунду-другую колебался и с силой рванул дверь на себя – как в омут головой.
– У-а-а-ф-ф!!! – невольно выдохнул или крякнул, сам не понял Буруслан, а может не выдохнул, а вдохнул сытный, аппетитный, насквозь пропахший свиной поджаркой, луком и пряностями воздух. Под огромным малиновым абажуром вокруг обеденного стола сидели празднично одетые, сияющие (именно такое сравнение прилетело на ум Буруслану) Вишан, Шита и Мишта. В первое мгновение Буруслану показалось, что сидевшие за столом хозяева радостно улыбаются ему – они, судя по всему, как раз собирались опрокинуть в себя стаканы с водкой, крепко зажатые пальцами поднятых рук. Прав оказался Малик! И обрадованный подслеповатый Буруслан облегченно рассмеялся:
– Как же вы напугали меня, черти! – начал было он говорить сквозь смех, но резко осекся и радостная улыбка медленно сползла с морщинистого небритого лица.
Ему никто не ответил, не повернул даже головы, вообще не шелохнулся! И вовсе никто ему не улыбался – он ошибся. Единственное, в чем не ошибся Буруслан, так это в своем сравнении, машинально родившемся при первом взгляде на хозяев – хозяева по-настоящему сияли! Их кто-то покрыл толстым слоем празднично сверкавшего прозрачного лака! И не улыбки искажали лица Вишана, Шиты и Мишты, а – гримасы нечеловеческого ужаса, боли, отчаяния. А руки их, с зажатыми в пальцах стаканами, наполненными водкой, были высоко подняты, и никто из сидевших за столом не собирался менять положение неудобно и неестественно замерших в воздухе рук.
У Вишана в другой, опиравшейся локтем о стол, руке, Буруслан увидел вилку, а на кончике вилки – кусок поджаренной до золотисто-коричневого цвета свинины. Кусок этот курился паром и с него капал светло-фиолетовый жир – на поверхности стола рядом с широкой и глубокой сковородой образовалась целая лужица этого жира. Пригляделся Буруслан и к сковороде – источнику аромата жареного мяса, лука и специй. Сковорода была полна мяса, и сняли ее с плиты не иначе как всего лишь несколько секунд назад – свинина еще тихонько шипела и щёлкала и жир на её поверхности до сих пор медленно собирался пузырями, пузыри бесшумно лопались, и на месте лопнувших сразу появлялись другие.
Кровь прилила к голове Буруслана, он выпучил глаза и широко разинул рот, пытаясь хоть что-то понять и с чем-то сравнить представшее перед его глазами невероятное зрелище. Он плотно зажмурил глаза, потряс головой, вновь стремительно распахнул глаза: но нет, ничего не изменилось – малиновый свет из-под старинного абажура свободно стекал искристыми веселыми ручейками по великолепно отполированной поверхности заколдованных и превратившихся в стеклянные статуи Вишана, Шиты и Мишты.
Кстати, к столу был придвинут и четвертый, свободный – очевидно, приготовленный для Дюфини, стул. А может быть и не для Дюфини, может быть для него – для Буруслана. Стоило только так подумать Буруслану о свободном стуле, как тут же он на него и сел. На столе, к тому же, нашлась и свободная вилка. А сам Буруслан не мог почему-то смотреть на своих остекленевших друзей – скорее всего, чтобы просто-напросто не рехнуться, а возможно – по иной причине. Но как бы там ни было – старый бандит не мог оторвать взгляда от сковородки наполненной золотисто-пурпурным мясом, подёрнутым радужной пленкой смеси из сока и жира.
Буруслан залюбовался волшебным мясом и сам не заметил, как придвинул к себе сковородку, положив предварительно автомат на угол стола. Схватил вилку одной рукой, другой – пустую на треть бутылку «Абсолют-цитрон», прямо из горлышка сделал большой глоток водки, подцепил вилкой кусочек покрасивей, посочней, да поаппетитнее и поскорее отправил в рот. Быстро прожевав и проглотив кусок, Буруслан почувствовал удивительную легкость и молодую упругость в давно одряхлевших мышцах, распирающее грудную клетку радостное волнение, и – приятнейший шум в голове – прибой волн удовольствия на тоскливых похмельных берегах моря водки «Абсолют-цитрон».
– Малик, Маер! – крикнул захмелевший Буруслан, забывший о совсем недавних сомнениях и страхах, идите скорее сюда – хозяева за стол приглашают! – он хрипло рассмеялся собственной незатейливой шутке и вдруг, сам не зная зачем, щелкнул средним пальцем сидевшую к нему ближе остальных Шиту по гладкому блестящему лбу. Лоб Шиты издал нежный мелодичный звон, неизвестно почему еще сильнее рассмешивший Буруслана…
Глава 6
Несмотря на все усилия, стрэнг не мог до конца разобраться в сути катастрофы, происшедшей с его хозяином и с ним самим.
– А когда мы сможем начать летать? – спросила любознательная свадебная простынь, – Сейчас вот не то чтобы летать, но и даже просто пошевелиться я не могу.
– Я думаю, что завтра ночью, – последовал уверенный ответ стрэнга, и, мучаясь неопределенностью и навалившейся тоской, он непроизвольно попытался расправить могучие черные крылья, на чьей поверхности полыхало холодное бирюзовое пламя…
Старый шифоньер громко и протяжно скрипнул. Скрип его немного напомнил мучительный стон смертельно уставшего от несчастной жизни пожилого человека, и задремавший, допивший водку из бутылки, Михаил Иванович тревожно встрепенулся, бессмысленно вытаращив на шифоньер красные от водки и слез близорукие глаза.
Бирюзовый лучик, прочертивший душный воздух спальни от щели между дверцей и крышкой шифоньера до потолка, привлек рассеивающееся внимание тестя, но каких-либо выводов сделать ему не удалось, выражаясь сухим протокольным языком – по причине сильного алкогольного опьянения. Поглазев некоторое время на шифоньер, внутри которого притаилось чудовище, Михаил Иванович мягко отвалился на подушки неразобранной кровати и крепко заснул, успев перед этим дернуть шнурок выключателя торшера, погрузив спальню во тьму, если, конечно, не считать льдистого бирюзового лучика…
В сложно устроенном многофункциональном мозговом центре стрэнга неожиданно загорелась схема городского кладбища, исчерченная сиренево флюоресцирующими линиями и точками, и в юго-восточной части его – яркий смарагдовый крестик, означавший местонахождение могилы Антонины Кирилловны. Крестик беспокойно пульсировал и многозначительно мигал, чем сразу стал вызывать у стрэнга сильное беспокойство, и, короткое время понаблюдав за призывным мерцанием смарагдового крестика, стрэнг объявил белью:
– Я сейчас улечу!
– Куда?! – уже не совсем равнодушно и с легкими нотками беспокойства спросило белье.
– К своему новому Хозяину – он только что позвал меня! – стрэнг сделал соответствующее волевое усилие и замок дверцы открылся, сопровождаемый характерным щелканьем. Ключ выпал из скважины на пол, дверца медленно раскрылась и спальня родителей Рады щедро осветилась красивыми и тревожными бирюзово-смарагдовыми сполохами, в совокупности своей чем-то напоминающими северное сияние. В его холодном ледяном блеске, Михаил Иванович, бесчувственно валявшийся на кровати, напоминал замерзшего, «в усмерть» пьяного полярника.
На бельевых полках сделалось почти также оживленно, как на базарной площади в воскресный день – неуклюже зашевелилось, мрачно зашушукало белье, заколыхались плавными волнами миллионы каратов драгоценных камней, распылившихся в воздухе сверкающими прозрачными слоями, с верхней полки медленно поползло черное мохнатое тело стрэнга, заметно увеличившегося в размерах за последние несколько суток.
Некоторое время стрэнг неподвижно повисел в воздухе рядом с шифоньером, нервно встряхивая кончиками крыльев, нетерпеливо шевеля мириадами чутких рылец ворсинок-рецепторов, наблюдая за нелепыми корчами свадебной простыни, сумевшей самостоятельно выползти вслед за ним со своей полки, но, естественно из-за недостатка опыта, умения и сил, позорно свалившейся на пол и извивавшейся сейчас там наподобие двухметровой змеи, покрытой белой кожей, разукрашенной цветочным узором.
Стрэнг снисходительно усмехнулся и плавным изящным движением поднял себя под самый потолок, развернувшись там во всю свою площадь – громадным антрацитовым ромбом, парившем в бирюзово сверкающем обрамлении на белесом фоне потолка, покрытого известью.
Мрачная тень упала на бледно-зеленое лицо спавшего тестя. А самое плохое, что стрэнг почувствовал запах исходивший от лежавшего прямо под ним человека – приятный, возбуждавший неведомое ранее стрэнгу желание. И запах этот был ничем иным, как запахом живой человеческой крови.
Но схема городского кладбища и смарагдовые позывные могилы тещи разгорались все ярче и требовательнее в мозговом центре стрэнга, и он, некоторое время задумчиво повисев над ничего не подозревавшим Михаилом Ивановичем, неторопливо стал двигаться в сторону окна, форточка которого оказалась широко распахнутой (ее открыл сам тесть перед тем, как усесться возле торшера и начать пить водку – ему показалось, что в спальне стоял специфический удушливый запах).
Стрэнг завернул острые углы крылья внутрь и, уподобившись свернутому для переноски ковру, тихонько выскользнул через отверстие форточки во мрак безлунной майской ночи.
Бирюзовое сияние в спальне сразу погасло, на полках с бельем прекратились возня и шушуканье, амбициозная свадебная простынь неподвижно замерла на полу, прекратив дергаться в неприятно смотревшихся конвульсиях. Ослабел и отвратительный гнилостный запах, заполнивший спальню и спровоцировавший превращение и без того невеселых сновидений Михаила Ивановича в утонченные кошмары.
Очутившись на открытом воздухе вне пределов нашей квартиры, стрэнг вновь расправил крылья, с тоской вгляделся в обложивший его со всех сторон горизонта ночной мрак, в надежде увидеть розовое сияние больших капель лечебной росы на гигантских листьях деревьев Нетленных Лесов. Разумеется, что ничего похожего он не увидел и, тогда, сделав мощное усилие, стрэнг свечкой, вертикально вверх, вбуравился в толщу влажного ночного неба чужого враждебного мира и набрав нужную высоту, стремительно полетел к неудержимо манившей его могиле, затерявшейся среди тысяч других могил Черницкого городского кладбища.
Глава 7
Настойчивый звонок я услышал сквозь тяжелый тающий сон, но по-настоящему меня разбудила Рада. Она, оказывается, успела сходить к двери и спросить: кто, к кому и по какому поводу пришёл.
– Валя, иди – там к тебе пришли какие-то из ФСБ, Панцырев и Стрельчиков, что ли? – равнодушно сообщила она, глядя вроде бы и на меня, а на самом деле – сквозь меня и даже – сквозь стену, отделявшую нашу с ней спальню от соседской квартиры.
– Не Стрельчиков, а – Стрельцов, – машинально поправил я Раду, пытаясь понять выражение, царившее у нее в глазах.
– Совсем они что ли одурели?! У людей – похороны, а им как с гуся водя, ничего святого!
Голова, естественно, трещала и готова была вот-вот разломиться, тошнило. Радка села на кровати, подобрала ноги с пола, согнула их в коленях и поджала к подбородку. Хорошо, хоть – не плакала. Спросила у меня, по-прежнему – убийственно равнодушно:
– Что им надо от тебя?
– Понятия не имею, – с трудом проворочал я непослушным языком, горевшим сухим огнём вагагрезиновой[1] жажды, и натянул брюки – На похоронах они ещё были что надо там им было – я так и не понял.
Квартира вновь наполнилась нетерпеливым продолжительным звоном.
– Иду, иду! – зло крикнул я, невольно выведя аксиому, что чувство такта никогда не входило в арсенал психологических приемов, употребляемых сотрудниками ФСБ в их нелегкой борьбе за безопасность нашей Родины.
Нарочито громко лязгая замками, открыл входную дверь и впустил генерал-майора Панцырева и майора Стрельцова.
Майор Стрельцов прижимал к животу и груди большой бумажный пакет, чем-то плотно набитый – скорее всего, подумал почему-то я, закусками и вином.
Руки Панцырева были свободны, правую он тут же сунул мне для приветственного пожатия.
– Доброе утро, Валентин Валентинович! – радостно, словно увидел перед собой вместо меня близкого любимого родственника, едва ли не воскликнул генерал Панцырев, и я, естественно, подумал: «А не выпивши ли он?!»
– А нас вот служба с Эдуардом обязала к вам зайти с утра пораньше – не возражаете?
– Вам попробуй возрази, – хмуро ответил я, делая шаг в сторону и кивком головы приглашая нежданных визитеров войти. – Только, если можно, разговаривайте потише – жена и тесть там… – неопределенно махнул я рукой вглубь квартиры.
Мы тихонько прошли на кухню и покрепче прикрыли дверь за собой. Майор Стрельцов поставил бумажный пакет на стол, вытащил оттуда две литровые бутылки импортного портвейна, круг копченой колбасы, кусок по-домашнему засоленного сала, кирпич хлеба, какие-то черствые засахаренные булочки. По дрожавшим рукам, по мятым бледным лицам ранних гостей я без особого труда догадался, что они не спали целую ночь напролет, ну и, вероятно вполне, приняли изрядное количество спиртного. Разумеется, я не собирался их за то осуждать – служба такая.
Молча я достал из гостиного шкафчика стаканы, нож, тарелки. Эдуард открыл одну из бутылок, разлил золотисто-коричневое вино по стаканам, я нарезал хлеб, колбасу, сало, аккуратно разложил по тарелкам. Не чокаясь, мы выпили, помянули тещу, закусили. Головная боль моя и чувство тошноты мгновенно утонули в бездонном портвейновом омуте.
Прожевав кружок колбасы, Сергей Семенович произнес деловито:
– Ну-с, а теперь можно и поговорить.
– Вот теперь, действительно, можно, – не без глубокого удовлетворения подтвердил я.
– Я не буду, Валентин Валентинович, ходить вокруг да около, я буду говорить по существу, – несмотря на более чем вероятную бессонную ночь и только что выпитый портвейн, Сергей Семенович заговорил энергично, ясно, четко, собранно, голосом, внушающим непреодолимое желание вытянуть руки по швам и безоговорочно во всём с ним соглашаться…
– Прежде всего, я еще раз представлюсь: Панцырев Сергей Семенович, теперь уже генерал-майор ФСБ…
– Поздравляю! – успел вставить я, искренне удивившись скорости продвижения по иерархической лестнице званий внутри системы ФСБ.
– Спасибо. Я продолжу, с вашего позволения. Я и мой коллега, майор Стрельцов представляем специальный отдел ФСБ, занимающийся расследованием, как глобальных катастроф, так и отдельных несчастных случаев частного масштаба, обусловленных причинами паранормального характера. И у вас дома мы оказались совершенно не случайно.
Антонина Кирилловна Кобрицкая, ваша теща, как показали результаты патологоанатомического исследования, умерла насильственной смертью. Ее кто-то убил очень оригинальным, неизвестным науке способом. И следствию, которое возглавляю я, необходимо выяснить: кто убил вашу тещу и – как? В связи с обрисованной вкратце сложившейся ситуацией я должен буду задать вам, Валентин Валентинович несколько вопросов, а вы обязаны будете ответить мне на них честно, ничего не утаивая.
– Я готов, товарищ генерал – майор, – кивнул я головой.
– Самый первый и самый главный вопрос, Валентин Валентинович: вы замечали за последние дни, непосредственно предшествовавшие гибели Антонины Кирилловны, что-либо откровенно более, чем странное, необычное, не укладывающееся в рамках типовых человеческих представлений о возможностях объективной реальности, проявившееся посредством видимых физических, химических, либо биологических явлений, в поступках, разговорах самой потерпевшей и людей из ее ближайшего окружения.
Вопрос Панцырева показался мне чересчур длинным, витиеватым и построенным неоправданно сложно, но, тем не менее, я сразу решил рассказать про Черную Шаль, однако, перед тем как раскрыть рот, внезапно передумал и ответил совсем неискренне и неопределенно:
– Если сказать честно, товарищ гене…
– Зовите меня, пожалуйста – Сергей Семенович.
– Хорошо, Сергей Семенович. Так вот, Сергей Семенович, если сказать честно, то все последние дни – по сегодняшнее утро и – начиная с юбилея тещи, я не просыхал, и все вокруг представлялось мне странным и необычным, и каким-то неправильным.
Глава 8
В кабинете директор ФСБ – очень просторном уютном помещении, со стенами, обитыми древесиной эбенового дерева, находились два человека: сам хозяин кабинета, генерал-армии Плейтис и временно исполняющий обязанности начальника подотдела «Стикс-2», генерал-лейтенант Рыжевласов.
Беседа, безусловно, носила конфиденциальный характер, и предмет её не доставлял удовольствия ни одному из генералов. Говорил, в основном, Рыжевласов, и в голосе его нет-нет да проскальзывали оправдательные нотки, что выглядело вполне естественным на фоне разразившейся со «Стиксом-2» катастрофы.
– …Собственно, мобилизационные мероприятия, как таковые, в случае наступления ситуации «Игрек» руководство «Стикса-2» планировало – в течение семи дней.
Так что, как сами видите, господин генерал армии, ликвидировать последствия столь неожиданного и сокрушительного провала…
– Это вы подметили удивительно точно, – несколько глумливо произнёс директор ФСБ, перебивая Рыжевласова на полуслове, – провал получился, действительно, сокрушительным. Я бы даже сказал – более чем, сокрушительным. И никто из нас до сих пор не имеет ясного представления о возможных размерах его последствий… Я думаю, вы, Рыжевласов, прекрасно понимаете, что сейчас и мне, и самому себе заговариваете зубы, занимаетесь абсолютно неуместным самоуспокоением. У нас же земля горит под ногами, Рыжевласов!!! – с трудом дававшееся внешнее спокойствие изменило Директору, он заёрзал в своём удобном кресле, нервно забарабанил пальцами по поверхности стола, и выражение лица генерал армии сделалось обиженно растерянным, как у ребенка, потерявшего любимую игрушку.
Но директор ФСБ был не ребенок. А роль потерянной игрушки вполне могла сыграть в недалеком будущем собственная, директора, жизнь. Ох, не по себе же было в эти минуты генералу-армии Плейтису, когда Рыжевласов пытался его успокоить ложными доводами в пользу неизбежности благополучного исхода ситуации «игрек», совсем, совсем не по себе.
Впрочем, он быстро сумел подавить зарождавшуюся в душе панику и еще раз, как следует решил расспросить Рыжевласова о ходе следствия по факту убийства генерал-полковника ФСБ Шквотина и собственного корреспондента газеты «Вашингтон пост» в Москве Ирины Райзнер, и о дальнейших перспективах, учитывая эти убийства, сотрудничества ФСБ с организацией, полномочным и единственным представителем которой являлся господин Чермик.
– Вы уверены, что сумеете ликвидировать последствия провала в течение трёх ближайших суток, и – не позднее?! – требовательно спросил он, самой интонацией прозвучавшего вопроса заранее исключая для ответчика возможность сказать неправду или даже полуправду.
Рыжевласов отлично понял, что ему нельзя солгать и, собравшись с духом, сказал то, что его мучило все последние дни с момента трагедии в музее «Стикса»:
– Я полагаю, что контроль над ситуацией потерян – последствия непредсказуемы, трагическая гибель Шквотина и Райзнер – только начало в цепочке грядущих смертей.
Плейтис поморщился и, навалившись на стол грудью, вытянув в сторону Рыжевласова голову, прямо-таки прошипел:
– Вы, надеюсь, понимаете, что делая подобное заявление, вы откровенно рискуете карьерой?
– Меня никак не может волновать карьера, когда под реальной угрозой находится моя жизнь! – у Рыжевласова судорожно дернулся кадык, – В том идиотском Мухосранске Организация совершила серьезный прокол и за него нас начали убивать!!!
– Успокойтесь, генерал, и говорите потише, вас, в конце концов, пока никто не убивает, – на скулах Плейтиса резко обозначились крупные желваки, отчего он стал выглядеть мужественнее и злее, чем являлся на самом деле, – Кто все-таки руководил операцией, если так конечно можно назвать простейшую задачу охраны могилы от грабительского раскопа в Кулибашево?
– Панцырев, – угрюмо ответил Рыжевласов, всегда находившийся с Панцыревым в теплых приятельских отношениях.
– Панцырев?! – Плейтис воздел очи к потолку и изумленно присвистнул: – И он прохлопал могилу?!
– У него есть уверенность, что его группу специально отправили в Кулибашево слишком поздно, единственно с целью поссорить Чермика с Организацией! Когда они прибыли, могила уже оказалась разграбленной и ситуация с Кулибашево остается угрожающей, Панцырев просит подкрепления.
– А что конкретно происходит в Кулибашево и какие таки ценности могли находиться в той проклятой могиле?
Лицо Рыжевласова приобрело непроницаемое выражение и в кабинете сразу повисла напряженная тишина.
– Говорите, генерал, не стесняйтесь, – директор ФСБ сардонически усмехнулся. – Я все-таки, как-никак являюсь вашим самым главным начальником и в силу занимаемой должности обязан знать всё, что знают мои подчинённые.
– Хорошо. Вы правы. Подчиняюсь-то я ведь и вправду прежде всего вам, хотя в отдельных случаях предусматривается…
– Я знаю, генерал, об исключительных прерогативах вашего подотдела в критических ситуациях. Но помимо полного тождества между мною и моей должностью, я являюсь лицом, лично заинтересованным в осуществлении проекта «Прокаженный уйгур». И поэтому, будьте любезны, выкладывать ваши карты на стол – все, без утайки.
Глава 9
Помолчав некоторое время, я продолжил путано и уклончиво отвечать на прямо поставленный генерал-майором Панцыревым вопрос:
– Действительно, во время празднования своего дня рождения теща была какая-то не такая, как обычно.
– А какая, конкретно, она была?
– Грустная и задумчивая, а раньше я вовсе не замечал, чтобы она когда-нибудь чем-либо грустила и думала.
– Вообще не думала? Она что – была круглой дурой?
– Да нет, конечно, я – ухмыльнулся, – Просто женщины её склада никогда ни о чем не думают, потому что про все, как им кажется, знают наперед и до мельчайших деталей. Когда человек всё знает, ему ни о чем не нужно думать – логично?
– Логично, – согласился Сергей Семенович и поспешил задать следующий вопрос:
– У вашей тёщи были враги? Ведь она все же, как никак является директором крупного городского ресторана. А это, сами понимаете, всегда – большие деньги, интриги, конфликты на финансово-экономической почве, завистники, анонимки, сплетники, внезапные ревизии и так далее.
– Да нет, – я пожал плечами, – явных врагов вроде не было, тайные, наверняка, были.
– А вот вы говорите, во время юбилейного застолья Антонина Кирилловна выглядела, на ваш взгляд, не так, как обычно – подавленно там, тоскливо, бледно, грустно. Может, она недомогала? По заключению паталогоанатома, доктора медицинских наук Абаркагана ваша теща, по всей видимости, была отравлена неизвестным ядом, вызывающим специфические необратимые изменения основных жизненных систем организма. Может кто-то из гостей влил ей чего-нибудь в бокал с вином, воспользовавшись всеобщей пьяной суматохой?
Сначала меня просто смутно насторожило последнее предположение генерала Панцырева, а затем с ужасающей ясностью мне представилось, что цыганкина шаль оказалась пропитанной каким-нибудь смертельно ядовитым химикатом, и я явился невольным соучастником убийства тещи! Откуда и какими путями, и что могли доставать цыгане, об этом в городе создавалось немало мрачных легенд. Черт возьми! Я начинал чувствовать себя просто прескверно.
– Никто ей ничего не вливал – баба она была слишком добрая, чтобы у кого-то рука на нее могла подняться, – только и ответил я, – сама она, наверное, отравилась, случайно. Не знаю я… ничего не могу сказать…
Я едва не съёжился от охватившего меня сильнейшего, совершенно неожиданного страха и твердо решил ничего не говорить про Чёрную Шаль – мне не нужны были неизбежные лишние неприятности. Я пришёл к единственно правильному выводу – во всем разобраться самостоятельно, без навязчиво предлагаемой помощи сотрудников ФСБ. Во всяком случае, нужно было попытаться найти на базаре цыганку, сносить шаль к одному своему бывшему однокласснику, талантливому химику, у которого наверняка могло найтись необходимое оборудование, чтобы провести анализ вещества, слагавшего мой подарок покойнице-теще. И если анализ покажет резко нежелательный результат, шаль необходимо будет уничтожить – лучше всего сжечь. Других более или менее вероятных причин скоропостижной смерти тёщи я не видел.
– Понятно, – прервал мои размышления Сергей Семенович, – все понятно, – еще раз повторил он и, тяжело вздохнув, пружинисто поднялся на ноги, посмотрел в окно на зеленую листву, покрывающую ветви тополей и кленов.
– Сергей Семенович? – почтительно обратился к нему я.
– Да? – он нехотя оторвался от созерцания майских тополей и медленно повернул голову ко мне.
– Я перед вами был честен, а вы теперь в свою очередь не можете не ответить мне также честно – что все-таки привело вас к нам в квартиру?
– Служба, – не задумываясь ответил Сергей Семенович и устало улыбнулся, – наша проклятая служба, Валентин Валентинович, и только она, – он покачался с пяток на носки, глядя себе под ноги, затем резко вскинул голову, строго и требовательно посмотрел на Стрельцова и сказал:
– Пойдем, Эдуард. Все что мы могли здесь сделать – сделали, что хотели узнать – то узнали. Телефон наш у Валентина Валентиновича имеется, и если он вдруг все-таки вспомнит что-нибудь важное, всегда сумеет позвонить нам.
Я поразился: куда могла подеваться его, несомненно, высочайшая профессиональная наблюдательность?! Или на мне просто испытывали какой-то стандартный оперативный прием в ходе ведущегося следствия. Но, во всяком случае, про Чёрную Шаль я твёрдо решил в дальнейшем разговор не возобновлять. Я заговорил о другом – уже после того, как мне на прощание крепко пожали руку Панцырев и Стрельцов.
– А вино с закуской что же не берете с собой? – я кивнул на наш импровизированный поминальный стол.
– Ну что вы, Валентин Валентинович! – укоризненно развел руками Сергей Семенович, – Так-то уж совсем плохо не думайте о сотрудниках ФСБ. Мы всё-таки вас защищаем.
Расстались, короче, мы тепло – почти по-родственному, чему в немалой степени способствовал портвейн, оставленный на кухне моими гостями.
Глава 10
Когда я захлопнул за неждаными посетителями дверь, из спальни вышла Рада и тревожно спросила:
– Кто это был? Они из милиции?
– Из ФСБ – забыла что-ли?
– Из ФСБ?! – удивленно протянула Радка, – А что им от нас надо?!
– Они из специального отдела ФСБ, занимающегося расследованием паранормальных несчастных случаев, катастроф и преступлений.
– Да? – она посмотрела на меня очень странно и глубоко задумалась, глядя, как бы на меня, а на самом деле – сквозь меня своим странным утренним взглядом.
– А где Михаил Иванович?
– Он лежит – ему плохо, – трансцедентальная отчуждённость исчезла из глаз жены, и в голосе появились насторожившие меня, да и, впрочем, соответствующие той информации, какую сообщила она спустя секунду, нотки: – Ему точно также плохо, как и маме. Как и маме, папе снился тот же сон – будто он лежит в глубокой и холодной могиле. И от холода он проснулся и на плечах у него лежала эта страшная чёрная шаль, которую ты подарил маме…
Она умолкла на какое-то время и опять отрешённо принялась рассматривать узоры стенных обоев сквозь меня, а я заворожено смотрел ей в лицо и четко знал, что зрачки мои расширились до пределов, положенных природой. Я не выдержал наступившего молчания и спросил Раду:
– Почему ты назвала её страшной? Что страшного ты в ней увидела?
– Потому что она – страшная, – медленно проговорила Рада, словно усилием воли возвращая глазам осмысленное выражение, – Она страшнее самой смерти, ты не представляешь, Валя, какой мерзкой и гадкой казалась она мне на ощупь, когда я снимала её с папиных плеч.
– А сам папа не мог что ли её снять? Или он тебя об этом попросил? – я начал задавать не совсем нормальные вопросы, и меня это нисколько не напугало, – как-то незаметно со всех сторон нас с Радкой и Михаилом Ивановичем обступили призраки кровавых фантастических чудес, и привычная жизнь, протекавшая по общеизвестным правилам и законам, рухнула в пропасть заколдованного мира, где не было дна и где обитали поразительные чудовища ни в каком дне не нуждавшиеся.
– Папа, по-моему, не хотел, чтобы я сняла с его плеч эту шаль. А может… не знаю, в общем. Спал ли папа или находился в нездоровом трансе, но когда я стала эту шаль, буквально, сдирать у него с плеч, он глаза открыл и жалобно-жалобно как-то застонал, не то проговорил – типа: «Не трогай её, крошка моя, ей больно так, очень больно, мне больно». …Боюсь, что именно эти слова я слышала. Валя – с этой шалью что-то не так, Я думаю, ты и сам это чувствуешь и понимаешь. Скажи честно: где, и у кого ты её купил?
– На базаре в цыганском ряду.
– Ты с ума сошел! Продавцов помнишь?
– Да. Забыть их трудно. Бельмастая здоровенная цыганка и муж ее или, кто он там ей был – не знаю. Тоже толстый, здоровый. Они стояли рядом с грузовым «КамАЗом», весь кузов был забит товарами: коврами, посудой, каким-то тряпьем, я особенно не приглядывался, – я говорил виноватым голосом, пряча от нее глаза. – Не знаю даже, что на меня нашло. Ну, ты вроде, сама же меня хвалила за эту шаль, – я резко умолк и совсем другим, уже не виноватым, голосом, сказал: – Слушай, а тебе не кажется, может – мы сходим с ума?
– По-моему, нам крупно не повезло, – несколько загадочно ответила Рада, и опять взгляд её приобрел сильное сходство с рентгеном.
– Что ты имеешь в виду? – озадаченно спросил я, машинально вытирая вспотевший лоб тыльной стороной ладони.
– Пойду посмотрю, как там папа, – вместо ответа сказала она. Встала и ушла из кухни к отцу в спальню, оставив меня в одиночестве.
Оставшись один я задумался. Думал я недолго, примерно через полминуты сделав вывод о необходимости пойти все-таки на базар и попытаться найти там цыганку.
Я прошел в ванную, как следует умылся, затем в спальне переоделся в новые джинсы, выбрал чистую рубашку, как следует причесался, остался доволен внешним видом и перед уходом на поиски виновников нашего несчастья я не мог не зайти попроведать Михаила Ивановича.
Так же как и несколько дней назад Антонина Кирилловна, ее муж сейчас лежал навзничь на кровати и тоскливо смотрел в потолок. Рада сидела у изголовья и держала отца за руку. Обе створки окна были раскрыты настежь и в комнату свободно вливался свежий майский воздух.
– Михаил Иванович, вам плохо? – участливо спросил я.
– Плохо, Валька, – улыбка бесследно исчезла с бескровного лица тестя, освободившаяся от рукопожатия худая рука его бессильно упала на одеяло, взгляд сделался и мутным, и мрачным, безнадёжно тоскливым, устремлённым в открывшиеся перед ним бескрайние просторы царства боли, страха и бесконечных сомнений, – В голове пусто-пусто и легко, и не страшно совсем.
– Что не страшно? – спросила Радка.
– Умирать не страшно, дочка, – безучастно ответил отец.
Не сговариваясь, мы с Радкой переглянулись, и в глазах жены я без труда прочитал мрачную уверенность. Увидев нашу реакцию на свои слова, Михаил Иванович, уже не таким уже слабым, а достаточно твердым голосом заявил:
– Нет, ребята, действительно, я совершенно напрасно так расклеился и не хочу больше вас расстраивать и отвлекать от ваших молодых дел. Вздремну я просто-напросто часика два, и хандру всю, как рукой снимет, – он закрыл глаза и натянул одеяло до подбородка, давая нам понять, что уже почти уснул и наше присутствие возле его кровати является излишним.
– Точно, что «скорую» вызывать не нужно? – словно и не слышала отца, строго спросила Радка.
– Точно – точнее некуда, – почти неслышно произнес тесть усталым голосом и изобразил на лице секундную недовольную гримаску.
– Я пошел на базар, – многозначительно прошептал я.
– Я останусь с папой, – хмуро сказала Радка. – Возвращайся быстрее.
– Туда – да обратно, – я молча поманил её пальцем. Она послушно вышла вслед за мною из спальни, прикрыв дверь.
– Что ты хотел?
– Ты шаль куда дела?
– В стиральную машину бросила.
– Да? – я недоверчиво взглянул на нее, – Зачем – стирать что ли будешь?
– Придешь – поговорим, – она сказала совсем не то, что хотела, вернее, по сути ничего не сказала, повернулась и ушла в спальню к отцу.
Глава 11
– Черный телефон спецсвязи с господином Чермиком в кабинете покойного Бориса Федоровича самоликвидировался незадолго до зверского убийства самого Бориса Федоровича, – начал свой доклад Рыжевласов. – Проект «Прокаженный уйгур» находится на стадии более чем активного самосвёртывания, долг ФСБ холдинговой транснациональной корпорации «Чемрик и К° за последние четверо суток вырос до восьмисот пятидесяти миллионов долларов США. Возникшее отрицательное сальдо покрывать практически нечем, если учитывать полную неуправляемость и ураганный характер роста необратимого дисбаланса. В ближайшие двадцать четыре часа ожидается начало массовых объявлений банкротств многими внутрироссийскими и международными филиалами Организации.
– А в могиле, – голос генерал-лейтенанта внезапно приобрел хриплое и низкое звучание, он упер ладони о поверхность стола, и также, как несколько минут назад Плейтис, навалился о стол грудью и вытянул шею вместе с головой поближе к собеседнику, дабы дальнейшие слова звучали особенно доверительно, – в могиле той, как считает генерал-майор Панцырев, хранилась душа проекта «Прокаженный уйгур», – черная душа зловещего скользкого непонятного предприятия. Кто-то раскопал могилу до того, как её оцепили спецназовцы «Альфы» и «Стикса», и эта душа вылетела наружу, сделавшись совершенно неприкаянной! – он умолк, и несколько успокоившись, продолжил:
– Безусловно, что я выражаюсь несколько метафорично, но вы же сами знаете о феноменальном чутье генерала Панцырева – он напал на след чудовища, которое сильно его пугает. Во всяком случае, чье-то огромное копыто раскололо череп генерал-полковнику Шквотину, то же самое копыто расплющило в безобразную кровавую лепешку голову журналистки Ирины Райзнер. Говорят, она была очень хороша собой, и Борис Федорович испытывал к ней сильное чувство.
– Именно – копытом?? – со странной смесью язвительности и страха уточнил генерал армии Плейтис.
– Да – огромное копыто диаметром тридцать два сантиметра. Плюс – две большие кучи навоза в помещении Музея «Стикса». Навоз по форме и консистенции напоминает лошадиный. За исключением – размеров и цвета.
– Н-д-а-а? – директор ФСБ неопределённо хмыкнул и улыбнулся нервной злой улыбкой, – Больше или меньше?
– Что – больше или меньше? – не понял Рыжевласов.
– Больше или меньше лошадиного?
– Больше – примерно в два раза и ярко-синего цвета!
– У вас там целый зоопарк в этом вашем Музее, – Плейтис улыбнулся еще злее, – Авгиевы конюшни!
– Удачное сравнение! – искренне похвалил образность мышления Директора Рыжевласов, неосознанно делая попытку перевести разговор в иную, менее минорную и напряженную плоскость.
Но ничего у Рыжевласова не получилось: нисколько не стало на душе веселей ни у него, ни у Плейтиса по той незамысловатой причине, что предмет их беседы носил классический нежизнеутверждающий характер и изобиловал невероятно мрачными деталями, не позволяющими делать не то чтобы оптимистические, а даже просто – нормальные выводы.
– Итак, ладно, – Плейтис решил подвести итоги, – Давайте все-таки конкретизируем предельно чётко наши первоочередные задачи. Я приготовился немедленно выслушать ваши соображения.
Рыжевласов расправил плечи и нахмурил брови – таким образом, внешне на нем всегда отражалась кратковременная внутренняя собранность, инстинктивно проявлявшаяся в экстремальных ситуациях. Прокашлявшись коротко в кулак, он перечислил первоочередные задачи следствия:
– Задача первая – установить и по возможности арестовать убийцу или убийц Шквотина и Райзнер.
Задача вторая…
– Нет, простите, генерал, мне кажется, что задача первая в вашей интерпретации прозвучала недостаточно полно, – иронично перебил его Плейтис.
– Полнее, по-моему, некуда, – недовольно возразил Рыжевласов.
– Нет, не согласен. Вы забыли самое главное: необходимо выяснить – не угрожает ли тоже самое таинственное, огромное и крепкое копыто и нашим с вами головам?
– Разумеется, угрожает. Но эта угроза казалась мне очевидной, и я не стал акцентировать на ней внимание. Разрешите продолжить?
– Разрешаю.
– Итак, задача вторая. Её успешное выполнение зависит целиком от оперативных способностей генерал-майора Панцырева, и если он сумеет обнаружить в оптимальные сроки пропажу из кулибашевской могилы, то сама собой решится и третья задача: ликвидация ситуации «Игрек» и восстановление статуса кво с силами, чьи интересы в нашей стране до сих пор представлял господин Чермик. Всё.
Генерал армии Плейтис выдержал продолжительную паузу, обдумывая короткий доклад начальника «Стикса». А обдумав, подвел резюме:
– Ни одну из вышеназванных вами задач Организация решить не сумеет. Все наши попытки в этом направлении обречены на неудачу, являясь профанацией чистейшей воды. Очень скоро нас с вами, генерал, постигнет судьба Шквотина.
Опять, примерно на полминуты, в кабинете повисло тяжелое, как каменная плита, молчание. Директор ФСБ ждал от начальника «Стикса» аргументированное убедительное опровержение своему утверждению, а начальник «Стикса» думал, что ему ответить: ложь или правду. Плейтис в ожидании ответа, смотрел на него с ничем не замаскированным безумием отчаянья, в глазах. Но Рыжевласов оказался безжалостен и сказал правду:
– Вы правы, товарищ генерал армии, скорее всего, мы с вами погибнем, нам никто не простит такой чудовищный долг…
Глава 12
Новый приступ ужасной боли языком невидимого пламени лизнул огромное тело Аджаньги от копыт до кончиков рогов, и почти никогда не испытывая в течение своей жизни боли, и совсем не умея ее терпеть, он распахнул зубастую пасть и обиженно заревел во всю мощь могучих легких. Его кошмарный вопль, до сих пор ни кем и никогда не слышанный на Земле, затравленно заметался между голыми бетонными стенами недостроенной панельной девятиэтажки, где кураторы затянувшейся командировки Аджаньги, определили ему место превентивной мутации, необходимой для успешного завершения порученной операции.
Аджаньга не потерял сознания, атакованный жестокой болью. Не в силах умолкнуть и продолжая обиженно реветь, рискуя привлечь внимание патрульных нарядов милиции, частенько прочесывавших район новостройки в профилактических целях, он, тем не менее, не лишился способности аналитически мыслить, и отдавать себе объективно верный отчет о крайне опасности своего положения.
Когда боль сделалась невыносимой, достигнув своего апогея, Аджаньге волей-неволей пришлось напрячь мозги до отпущенного им природой предела, и он вспомнил о так называемых «обезболивающих таблетках». Аджаньга запустил лапы в походный кожаный баул весьма приличных размеров и лихорадочно принялся шарить там гибкими длинными пальцами, увенчанными острыми загнутыми когтями.
Нужные таблетки – кучку ярко-голубых шестигранных кристаллов, сваленных в большой цилиндрической банке из твёрдого пластика, ему удалось найти быстро. Аджаньга щедро зачерпнул полную горсть спасительных кристаллов и, ни секунды не медля, отправил в пасть, сразу проглотив, не жуя.
Боль отступила почти мгновенно. Аджаньга облегченно замолчал, захлопнув пасть с такой силой, что с громким радостным стуком ударились друг об дружку, загнутые в виде мачете, ятаганов и навах, двухсантиметровые боевые клыки.
Он опустился на корточки, прикрыв глаза и обхватив голову руками, облокотившись широкой спиной, покрытой жесткой бурой шерстью, о нагретый солнцем бетон стены. Вспомнились слова главного куратора: «…Когда боль достигнет наивысшей точки в своей кривой роста, это будет означать начало процесса временного превращения твоего организма и визуальных данных в копию представителя местной фауны. Ты должен будешь, унгард Аджаньга, почувствовав эту особенную, которую нельзя вытерпеть, боль, немедленно проглотить обезболивающий препарат, принять самую удобную позу и попытаться думать о чем-либо приятном. Тогда ты либо уснешь, либо впадешь в состояние гипнотического транса. И в том, и в другом случае, то есть – в состоянии сна, либо транса, ты пробудешь ровно пятнадцать минут – не больше и не меньше периода времени, требующегося для процесса твоей полной физиологической трансформации. Через четверть часа, ты, унгард Аджаньга обратишься в существо иного мира и немедленно приступишь к выполнению важнейшего задания, порученного тебе твоим Кланом. На все про все у тебя будет пять суток – сто двадцать часов, если ты не уложишься в названный срок – никогда не вернешься домой, а Клан может погибнуть!»…
Далее Аджаньга перестал слышать голос старшего куратора, впав, он не успел понять – в состоянии ли транса либо уснув, даже не начав думать о чем-нибудь приятном. Да и по правде сказать, мало что происходило приятного за долгие годы тяжелой и полной опасностей жизни Аджаньги. Ничего, кроме бесконечных смертельно опасных и технически сложных заданий во имя безопасности Клана, сопряженных со множеством мрачных, как правило, кровавых эпизодов…
Глава 13
На базаре меня, как я и предполагал заранее, постигло полное фиаско. Я проходил базарные ряды вдоль и поперек примерно в течение полутора часов, но не нашел ни только нужную мне бельмастую цыганку, но и вообще не встретил никаких цыган – наверное у всех наших городских цыган был сегодня выходной.
И не то, чтобы я как-то особенной сильно расстроился, нет – я и сам толком не знал, какой свет мог бы пролить на тайну (если таковая и в самом деле имела место) черной шали мой предполагаемый разговор с её продавщицей. Что бы она мне сказала?! Да ничего просто-напросто или бы не узнала, или бы посмотрела, как на дурака и послала бы куда подальше – цыганки, они же, за словом в карман не лезут.
Вобщем, впустую я сходил на базар, и с лицом хмурым и озабоченным остановился возле одного шашлычника, раздумчиво глядя, как он махая фанеркой, раздувал огонь в мангале под лежавшими на нем еще совсем сырыми шашлыками. Шашлычник весело подмигнул мне и предупредительно спросил:
– Брать будэшь, брат? Чэрэз дэсять минут будут готовы!
– Да нет, спасибо, – неопределенно ответил я, сам не зная – хочу шашлыка или нет, – может и возьму. Из свинины?
– Из свинины.
– Слушай! – меня вдруг осенило, – ты здесь постоянно торгуешь?
– Каждый дэнь – уже четыре мэсяца, – несколько почему-то обиженно ответил шашлычник.
– Да-а?! А ты цыган-торговцев, случайно, не знаешь?
– А чэм, имэнно?
– Что – чем именно?
– Чэм имэнно таргуюут? Обманули они тэбя они – почэму спрашываэшь?
– Обманули и очень жестоко! – сказал я ему чистейшую правду. – С бельмом на правом глазу, жирную здоровую такую, с очень противной мордой, бабу знаешь?!
Шашлычник посмотрел на меня с интересом, и хитро улыбнувшись одними глазами, ответил вопросом на вопрос:
– Шиту, что ли? – и улыбнулся теперь уже и губами. – Она один здесь с бельмом таргуэет. А зачем она тэбе?
– Да сказал же – обманула она меня! Вещь ей одну хочу вернуть, а деньги забрать – я же не миллионер. Знаешь, где найти ее? Скажи, друг, а?! Каждый раз только у тебя шашлыки буду брать.
– Да днэй пять уже их не видна.
– Их?!
– Ну да. Она же с мужем всегда – с Вишаном. Нэт их, нэ видно уже днэй как пять. В слободкэ они живут, там и ищи.
– Точно – в слободке?!
– Точна. Шита и Вишан зовут. В слободке у людей спросишь – подскажут.
Я понял, что адреса цыган шашлычник действительно не знает. На душе у меня стало совсем скверно: в слободку я не пошел бы ни при каких обстоятельствах, ибо не сомневался, что в этом гиблом месте никто ничего хорошего мне бы не сказал. Я решил поехать домой и направился к троллейбусной остановке.
Недалеко от остановки – метрах в двадцати, перед глазами мелькнула телефонная будка – та самая, из которой звонил я в день празднования юбилея Антонины Кирилловны, спеша сообщить жене о сделанной мною роковой покупке. Я остановился – будка была пуста! Постояв некоторое время в растерянности, я вошел в будку и набрал номер домашнего телефона.
– Квартира Кобрицких, – услышал я в мембране слабый и грустный голос Рады.
– Это я. Как дела?
– Никак. Папе вроде лучше стало. Ты скоро придешь? – она даже не спросила – нашел я цыганку на базаре или нет. Так что мне, как ни глупо это звучит, сделалось немного обидно за мои, хоть и почти бесплодные, все же какие-то старания. И я сказал ей то, что еще секунду назад мне и в голову не приходило:
– Если ты не возражаешь, я съезжу в Цыганскую Слободу, там ее поищу.
– Ты уверен, что это необходимо?
– Что-то делать-то надо, – ответил я, добавив про себя вторую половину фразы: «…чтобы не сойти с ума», и продолжал держать трубку возле уха, ожидая дальнейших слов Рады. Но она молчала. Тогда я с расстановкой произнес:
– Знаешь, приготовь мне шаль – в какой-нибудь пакет сложи. Я её, как вернусь из Слободы, пойду на свалку отнесу и сожгу.
– Да, наверное, её надо сжечь, – после длительной паузы проговорила она с насторожившей меня странноватой интонацией. – Кстати, тебе этот звонил – Сергей Семенович Панцырев, просил срочно позвонить по тому телефону, который он тебе дал. Все. Жду – приезжай быстрее! – она положила трубку.
В нерешительности я подержал трубку на весу, не зная – звонить или не звонить Панцыреву. Но рассудил всё же никуда не звонить, да и не ездить в эту проклятую Цыганскую Слободу, а вернуться домой, взять там черную шаль, отнести на свалку и поскорее сжечь. Я повесил трубку на рычаг и повернулся, чтобы покинуть будку: прямо передо мною я увидел Эдуарда Стрельцова и двух незнакомых мне крепких ребят лет двадцати пяти.
– Вы должны поехать с нами, Валентин, – вежливо, но твердо объявил мне Эдик, – Сергей Семенович ждет вас в гостинице и без вас приказал не возвращаться!
Глава 14
Аджаньга отключился от внешнего мира, и повалился на бок, в течение целой четверти часа сделавшись абсолютно беззащитным.
Он увидел себя, незримо присутствующим на Великом Совещании Клана, поголовно повергнутого в печаль и тревогу: «…Своды родовой пещеры Клана терялись в густом мраке, непроглядную черноту которого не могли разогнать многочисленные яркие факелы бесшумного бирюзового пламени, повсюду торчавшие в древних каменных стенах, покрытых пушистой ароматной целебной плесенью. То один, то другой из престарелых членов Великого совета подходил к разноцветным пушистым плесенным коврикам, затейливым узором украшавших холодную стену пещеры, и жадно слизывал раздвоенным шершавым языком капельки драгоценного нектара, выделяемого пещерной плесенью. Этот нектар волшебным образом восстанавливал жизненные силы, тающие у дряхлых стариков Клана с бешеной скоростью.
Но сейчас, как понимал дрожавший от благоговейного ужаса Аджаньга, стариков, как и весь Клан, вполне могла не спасти даже волшебная плесень.
Глаза Вождя горели скорбным и яростным нежно-хризолитовым блеском, в тяжелой задумчивости постукивал он отточенным когтем указательного пальца правой руки по отполированным клыкам, озадаченно раскрытой пасти, и кажется, впервые в жизни не мог подобрать слов, обычно произносимых им при открытии очередного Великого Совета. А может, Вождь искал горящими гневом и скорбью глазами его – Аджаньгу, притаившегося в тонкой уязвимой скорлупе своей крохотной невидимой сферы. В конце-концов Аджаньга являлся простым, хотя и заслуженным, унгардом, а, как известно, несанкционированное свыше, самовольное присутствие на Великом Совете Клана каралось немедленной насильственной смертью.
А может быть и приглашали Аджаньгу, но велели оставаться невидимым до того момента, пока не позовут предстать перед старейшинами Великого Совета, и выслушать их приказ, но в ходе ожесточенных многословных прений про унгарда Аджаньгу забыли, а сам он от страха и сильного волнения никак не мог вспомнить – приглашен он был на Великий Совет или явился туда самовольно…
– Аджаньга!!! – раздался под сводами прохладной пещеры раскатистый рык Вождя и Аджаньга с радостным изумлением понял, что его приглашал на Великий Совет сам Вождь.
Аджаньга выпорхнул из маскировочной сферы подобно тому, как грузная неуклюжая бабочка покидает свою уродливую куколку, и в коленопреклоненной позе символизирующей полную покорность и высшую степень уважения, предстал перед Вождем, завернутым в сверкающую бирюзовым огнем мантию. Не теряя ни секунды времени, Вождь приступил к объяснению сути той тяжелой ситуации, в какой очутился Клан, подчеркнул, что никогда еще за многовековую историю существования, над Кланом не нависало столь реальной угрозы полного уничтожения. В глазах Вождя мелькало, кроме скорби и гнева, еще какое-то неясное выражение, не то, чтобы даже неясное, а скорее – необычное, ранее никогда взгляд Вождя не посещавшее. И больше, чем тщательно подбираемые Вождем слова, Аджаньгу смущало и пугало это, плескавшееся где-то в глубине души Вождя и отражавшееся в его глазах, нечто.
Уже в заключении аудиенции, когда Вождь завершал объяснение Аджаньге того ответственейшего задания, какое поручал ему выполнить Клан, Аджаньгу осенило: Вождь не верил в спасение Клана, он точно, наверняка знал о его предстоящей в недалеком будущем неизбежной гибели, и в глазах Вождя непрошеными танцорами крутились в отчаянной пляске малодушие, растерянность и страх.
– …Ты должен поймать стрэнга, Аджаньга, и принести назад домой к родному очагу на своих плечах, иначе мы все умрем ужасной и неведомой нам смертью. Сумироги уничтожат нас и наши родовые пещеры навеки погрузятся во тьму! Для этого тебе вручается священный «хиранг» – смотри не потеряй его! – так прозвучали последние слова старого Вождя.
Аджаньга понял, что отправляется Кланом на верную гибель – вступить в поединок с обезумевшим стрэнгом, в силу невероятных трагических случайностей, ускользнувшим в чужую параллель, и никакой «хиранг» не поможет ему…
…Четверть часа благополучно миновали, и неузнаваемо преобразившийся Аджаньга очнулся, вернувшись из мрачной родовой пещеры клана на четвертый этаж недостроенного панельного дома, находившегося где-то в юго-западном секторе столицы России. Он с трудом поднялся из лежачего положения на колени и долго-долго смотрел прямо перед собой в противоположную стену, почти сплошь изрисованную грубыми схематическими изображениями мужских и женских половых органов, исписанную бездарными нецензурными стихами.
Аджаньга с силой тряхнул вихрастой рыжеволосой головой, освободившейся от тяжелых рогов и безобразных треугольных ушей и почти сразу ощутил, как тает, слабнет, исчезает назойливый резкий звон, рождавшийся где-то под сводами черепа в области темени, и вместе со звоном перед глазами растворялись среди испарения перегретого солнцем бетона грозные угольно-бирюзовые тени… Аджаньга постепенно приходил в себя – в нового себя.
Глава 15
Сытый стрэнг крепко спал в стиральной машине и переживал во сне события минувшей ночи, мелькавшие в сложно устроенном мозге с последовательностью и непрерывностью кадров цветного кино…
…Ночь гостеприимно приняла его в свои прохладные объятья, он испытал прилив восторга после тесного шкафа, очутившись среди безбрежного океана свежего воздуха под серебряным светом тысяч незнакомых созвездий. Свет звёзд ночного земного неба зажигал на кончиках рецепторов стрэнга миллионы крохотных бирюзовых огоньков. Слабый западный ветер ласково и обходительно гладил, и едва заметно колебал развернувшиеся для дальнего полета крылья стрэнга, словно нашептывая их хозяину: «Добро пожаловать, дитя вечной тьмы, в новый неведомый мир, полный легкодоступных, сладких и жирных душ. Вперед, новый житель ночи, вперед без страха и упрека!»
Стрэнг большими кругами плавно поднялся вверх и с высоты примерно ста метров внимательно осмотрел двор нашего дома, густо засаженный тополями, и сам дом, безошибочно определив окно, из которого только что вылетел. Еще стрэнг зафиксировал двух людей, сидевших под грибком детской песочницы, и без труда уловил исходившие от них мощные волны страха – люди увидели, различили черный ромб стрэнга, резко выделявшийся даже на фоне ночной темноты.
Стрэнг не знал, что под грибком песочницы сидели два пожилых, во всех отношениях несчастных бомжа, распивавших бутылку дешевого вермута, заметившие его, когда он в виде свернутого рулоном ковра выбирался наружу из раскрытой форточки родительской спальни. Бомжам сделалось не по себе, несмотря на только что выпитый вермут и катастрофически деградировавшие за долгие годы жизни в подвалах, на вокзалах и помойках основные психомоторные реакции. Раскрыв рты, они молча провожали медленный подъем зловещего воздушного змея до тех пор, пока он не поднялся на такую высоту, где, практически, перестал быть различим. Но суеверный страх прочно поселился в душах бомжей:
– Что это было? – спросил один из них другого.
– Не знаю. Но – ничего хорошего, точно. Отсюда надо бежать!
– Подождем, пока улетит, может, он нас и не заметит, если будем сидеть неподвижно.
Бомжи провели свой короткий диалог хриплым шепотом и, сделав по большому глотку вермута, надолго замолчали, напряженно вглядываясь в ночное небо.
Кроме страха, что самое плохое, чувствительные сенсоры стрэнга уловили исходивший от бомжей аппетитный аромат теплой крови. С некоторых пор букет из запахов страха и крови начал нравиться стрэнгу, и стрэнг в сильной задумчивости сделал над двором два больших неторопливых круга. Но древняя генетическая программа главного жизненного предназначения стрэнга, включила все остатки пока не разрушенных резервов, забыв о бомжах, он на полной скорости полетел в направлении Черницкого кладбища.
Полет его был стремителен и бесшумен. Под черными крыльями, мигая множеством огней, уплывал назад ночной город. Оснащенный мощнейшим локатором мозг стрэнга очень скоро оказался до отказа набитым разношерстной видеоинформацией, окружившей изображение главной цели – смарагдовый крестик могилы среди сиреневой паутины схемы кладбища.
У людей, спавших или бодрствовавшихих в домах, над чьими крышами пролетал стрэнг, неизменно возникало чувство сильнейшего необъяснимого страха. Сквозь оцинкованное железо, шифер, рубероид и бетонные перекрытия стрэнг заглядывал в глаза женщин и мужчин, детей и стариков, и везде видел переполнявшие их непонимание и страх. Жалобно и трусливо скулили домашние собаки самых бесстрашных пород, изгибались дугой и угрожающе рычали на невидимого врага кошки. И ото всех крыш розовым туманом на экране локатора стрэнга поднимался, разрастался и клубился потрясающим по красоте зрелищем густой концентрированный запах крови, щедро смешанной с адреналином.
Кровавый туман заволакивал розовой мглою сиреневые линии кладбищенской схемы, в центре которой настойчиво пульсировал смарагдовый крестик. И чем ближе приближался стрэнг к кладбищу, тем сильнее раздражала его навязчивая смарагдовая пульсация и все более сомнительной представлялась необходимость лететь к могиле нового хозяина. Да и настоящий ли хозяин лежал в той могиле?
Прежняя простая и ясная логика, в течение прошлой жизни руководившая безупречным и предельно целесообразным поведением стрэнга, этой ночью дала серьезный сбой. Он продолжал любить и помнить своего первого, долженствующего оставаться и единственным, хозяина, но любовь и преданность ему заметно девальвировались за последние несколько суток. Стрэнгу не казалось больше, что настоящий хозяин оказался им бессовестно предан.
Да стрэнг и не мог вспомнить, собственно, механизм предательства – по какой причине и каким образом оно произошло и насколько виноват оказался в нем сам хранитель мертвецов. Во всяком случае, сейчас, он в полной мере пожинал плоды происшедшей катастрофы, без сожаления вспоминая о брошенном им старом хозяине, с нескрываемым вожделением вспоминая вкус крови Антонины Кирилловны и Михаила Ивановича, со светлой грустью почти несбыточно мечтая о Нетленных Лесах и совсем не представляя, как будет складываться его ближайшее будущее.
Глава 16
Аджаньга пружинисто вскочил на ноги – на длинные стройные ноги, под гладкой золотистой кожей обвитые литыми могучими мышцами. Ноги переходили в узкий таз, на котором покоилось широкогрудое крутоплечее туловище дискобола международного класса. Мощные бицепсы и трицепсы рук, поражающих своими размерами и гибкостью, шевелились сами по себе, напоминая голодных энергичных питонов.
На крепкой, тоже гипертрофированно мускулистой, шее прочно сидела большелобая, рыжая голова в лицевой части покрытая частыми крупными веснушками, оснащённая ярко-зелеными выразительными глазами, глубоко спрятанными под мохнатыми бровями цвета пламени, широким толстогубым, в целом, неприятным жабьим ртом, носом, размерами и формой являвшимся копией мордочки новорожденного муравьеда, и удлиненным тяжелым подбородком, при первом взгляде на который, невольно возникала мысль, что таким подбородком легко раскалывать окаменевшие грецкие орехи – резким движением головы сверху вниз, если, конечно, орехи рассыпаны по твердой плоской поверхности.
Страшное, уродливое, что и говорить, получилось у мутировавшего унгарда лицо, но он не был искушен в эталонах человеческой красоты, и посмотрев в зеркальце, предусмотрительно приготовленное кураторами, остался вполне удовлетворен тем, что увидел. Затем неслышно и невидимо включилась программа адаптации. Аджаньга внимательно вгляделся в содержимое двухметрового баула, изготовленного из кожи болотного смурга.
Сначала ему даже показалось, что перед ним лежит настоящий живой смург (этих коварных, опасных тварей много водилось в болотах, со всех сторон окружавших родную деревню Аджаньги) и он инстинктивно отдернул ногу, но программа адаптации заработала на полную катушку и Аджаньга перестал грезить наяву и правильно сидентифицировал лежавший перед ним раскрытый дорожный баул с ёмкостью для переноски личных вещей. И далее мозг Аджаньги начал функционировать в режиме, обычном для любого земного жителя, обладающим средним уровнем интеллекта.
Он безошибочно выбрал из множества разнообразных предметов, наполнявших баул, новые свежие семейные трусы, майку, носки, кроссовки, тугие темно-синие джинсы и шерстяную темно-красную рубаху в чёрную клетку с длинным рукавом. Пошарив пальцами во внутреннем боковом отделении баула, Аджаньга вытащил оттуда пухлый бумажник, где хранились паспорт и военный билет на имя Куйсмана Сергея Герхардовича, а также – пачка российских рублей и американских долларов. Внимательно перечитав свои паспортные данные и пересчитав деньги, он засунул бумажник в нагрудный карман рубахи. Застегнул молнию замка на бауле, взялся правой рукой за широкие лямки, легко перекинул их через правое плечо, несколько раз подряд напряг и расслабил мышцы ног, рук, спины, живота, довольно улыбнулся, причем, улыбка получилась именно жабьей, стегоцефаличьей – углы толстых губ вытянулись не вверх, а вниз, ну, а главное – Аджаньга почувствовал себя уверенно в окружавшем его бесконечно чужом и непонятном мире.
Даже предстоящая схватка со стрэнгом перестала казаться Аджаньге затеей, заранее обреченной на неудачу. Только в какой-то краткий миг, неизвестно почему и откуда, налетел на Аджаньгу шквальным порывом кусок одного печального воспоминания: он, маленький Аджаньга, и пожилая мать Аджаньги – страдавшая хроническим воспалением обоих копыт, и поэтому постоянно хромавшая, как-то раз в тревожных темно-багровых сумерках отправились ловить съедобных змей на ближайшее болото. Дома – в грязной убогой хижине под полусгнившей крышей, предвкушая богатый улов их с надеждой и нетерпением ждали безногий отец и две парализованные маленькие сестренки, еще меньшие, чем сам Аджаньга.
Хромавшая в тот вечер сильнее обычного мать, каким-то образом ухитрялась совершать сравнительно изящные, а самое важное – точные прыжки с кочки на кочку, искусно балансируя над грязно-желтой поверхностью бездонной трясины. Аджаньга не отставал от матери в её настойчивом, несколько болезненном стремлении во чтобы то ни стало достичь до наступления ночи Змеиного колодца и наловить там жирных серебристых нестибляшек – из них получилось бы великолепное жаркое.
Аджаньга предчувствовал, что случиться скорой беде, и едва-едва не начинал плакать, и все хотел попросить мать не ходить за нестибляшками и половить возле самых берегов болота зеленых нугардов – не таких, конечно, вкусных, как нестибляшки, но зато не требующих, чтобы за ними нужно было переться в такую гиблую трясинную даль, в какую потащились они с матерью. А мать, кстати, что-то все время не умолкая говорила, жаловалась на жизнь низким хриплым голосом, давала какие-то назидательные советы маленькому Аджаньге, и Аджаньге очень-очень не нравилось, что мать болтала языком – на болоте вечером нельзя было отвлекаться…
– … Аджаньга! – неожиданно громко воскликнула она, перепрыгнув на очередную кочку, и повернувшись на этой кочке лицом к Аджаньге, – плохо, сынок, родиться унгардом, и не видеть ничего в своей жизни кроме змей и болота. На горе мы рождены, мой малыш, на горе!.. – Затем она повернулась спиной к опешившему Аджаньге, и собралась совершить очередной прыжок к соседней кочке, но что-то громко и неприятно хрустнуло у ней в правой коленке, она вскрикнула, скорее удивленно, чем от боли, выронила гарпун и сетку, покачнулась, отчаянно размахивая в воздухе длинными руками, надеясь, видимо, поймать точку опоры. Но не поймала и навзничь рухнула в трясину, подняв фонтан жидкой грязи, сразу же скрывшись под её поверхностью.
Аджаньга вздрогнул от внезапности происшедшего, но пока не испугался, полагая, что мать его немедленно вынырнет. Но она не вынырнула, вместо нее на поверхности появился большой мутный пузырь, просуществовавший не больше двух секунд и лопнувший с насмешливым (так почудилось Аджаньге) бульканьем. А матери своей Аджаньга больше не видел никогда в жизни – она утонула у него на глазах. И впоследствии, в течение достаточно удачно складывавшейся для Аджаньги жизни унгарда-воина, он часто, чуть ли не ежедневно, пытался представить выражение лица матери в то роковое мгновение, когда она поняла, что оступилась и падает в трясину вниз головой без каких-либо шансов на спасение.
В ушах Аджаньги начинали тогда звучать безнадёжным рефреном последние слова матери: «…На горе мы рождены, мой малыш, на горе!..» И сумерками боли и грусти заволакивало тогда душу Аджаньги, острая жалость к матери, умершим от голода отцу и сестренкам, целиком овладевала его суровой кровожадной душой и в такие минуты он напрочь растрачивал обычно твердое убеждение в необходимости продолжения собственного существования…
Вот и сейчас это смертельно опасное воспоминание поразило Аджаньгу в самое сердце, но к счастью, получилось оно действительно шквальным – ярким и впечатляющим, но кратким…
Через минуту, никем не встреченный, он уже стремительно шагал от места своей, так сказать, колыбели – недостроенной девятиэтажки, к ближайшей станции столичного метрополитена.
Глава 17
Пока мы доехали до гостиницы, испортилась погода. Глядя на мутное белесое пятно, оставшееся в небе вместо солнца, я почувствовал недоброе и пожалел, что согласился неизвестно зачем приехать в гостиницу для очередной, опять наверняка бесплодной, беседы с генерал-майором ФСБ Панцыревым.
Гостиница оказалась двенадцатиэтажной. Сергей Семенович и Эдик занимали трехкомнатный «люкс» на четвертом этаже. Сергей Семенович встретил меня достаточно радушно – насколько ему, конечно, позволяло безмерное внутреннее утомление, внешне отражавшееся лишь в припухлости век и заметной малоподвижности взгляда.
– Садитесь, Валентин Валентинович! – предложил он мне, указывая на мягкий диван, полукругом опоясывавший гостиную комнату «люкса». Сам он сидел за письменным столиком спиной к окну, и торопливо читал какие-то документы. Впрочем, при моем появлении он их отложил в сторону.
– Не будем терять времени, – максимально дружелюбно произнёс генерал, – объясните, пожалуйста – какие свойства купленной у цыган на базаре черной шали показались вам… – он замялся на мгновенье, подбирая нужное слово, а, подобрав, закончил поставленный вопрос: – …паранормальными?
Я хотел начать издалека – с самого начала, не опуская самых мельчайших подробностей, но как-то все подробности эти за одну секунду показались мне мелкими, ничего, по сути, не объясняющими и, как попросил меня Сергей Семенович, не теряя времени, я бухнул:
– Сегодня вечером я твердо собрался сжечь на свалке чёрную шаль, потому что она не шаль, а – чудовище! Вполне возможно, что я сошел с ума – немудрено, впрочем… – я несколько смутился, признавшись в неуверенности насчет здравости собственного рассудка и постеснявшись смотреть моим собеседникам в глаза, повернув голову к окну.
– Наверное, так оно и есть, – очень серьезным, даже тревожным голосом произнёс Серей Семенович.
– То, что я – сумасшедший? – как-то безучастно спросил я, совсем не понимая своего внутреннего состояния.
– Нет, ни в коем случае! Я имел в виду, что ваша шаль – чудовище!
– Вы что, серьезно?! – я пристально посмотрел прямо в глаза Сергею Семеновичу, надеясь заметить в них искорки плохо скрытой иронии, но, к счастью ли, к сожалению ли, не заметил ничего похожего.
– Мое звание, занимаемая должность и характер проводимой операции здесь, в вашем чудесном городе, не оставляют мне времени для шуток, дорогой Валентин Валентинович! Сейчас мне придется, как бы я этого не хотел, раскрыть вам информацию, за разглашение каковой вне стен этого гостиничного номера вы понесете уголовную ответственность. Вы меня хорошо поняли?
– Да! – я весь внутренне подобрался и приготовился выслушать важнейшую, а лично для меня крайне неприятную, государственную тайну.
– У нашей страны, вообще, и у нашей Организации, в частности, есть могущественные враги.
– Нисколько и никогда не сомневался в этом.
Сергей Семенович опять терпеливо улыбнулся, ему, вероятно, нравилось мое дерзкое вызывающее мышление, и, не меняя интонации повествователя-сказочника, принялся просвещать меня дальше:
– Но есть у нас и не менее могущественные друзья. Так вот, ситуация сложилась следующая: в вашем городе на элитном Александровском кладбище похоронили друга наших друзей и наши друзья попросили нас, то есть Организацию, обеспечить надлежащую охрану могилы в течение девяти дней, но кто-то нас опередил и разграбил могилу как раз в ночь накануне пятидесятилетнего юбилея Антонины Кирилловны Кобрицкой. Раскопали могилу, как я сейчас могу предполагать, ваши цыгане. А выкопать они оттуда могли все что угодно. Вполне вероятно, что вы ухитрились купить ко дню рождения любимой тещи некий предмет, условно выглядевший черной шалью, выкопанный из чьего-то гроба…
Я, не спрашивая разрешения, подошел к телефону и сосредоточенно нахмурившись, набрал комбинацию цифр нашего домашнего номера и пока набирал, коротко и убежденно сказал Сергею Семеновичу:
– Нет, неоткуда было взяться этой шали, как из какой-нибудь чертовой могилы!
– Вы куда звоните? – спросил Стрельцов.
– Домой, куда же еще?!
Я слушал длинные гудки примерно в течение минуты, и на лице моем с каждым гудком все отчетливее проступало беспокойство.
– Не отвечают, – с досадой сказал я и положил трубку на рычажки, положительно не зная, что мне делать дальше.
– Вы испытываете тревогу?
Тесть с утра прихворнул, – объяснил я и, подумав, еще кое-что объяснил: – Чем-то внешне он напомнил мне тёщу в день её смерти.
– Чем именно?
Я немного подумал и ответил:
– Теща утром после именин, когда «скорую» ей вызвали, рассказывала: сон ей приснился – будто в могиле она лежит, в тёмной и холодной. И сама даже удивилась, что проснуться смогла, а когда проснулась – на плечах у неё лежала чёрная шаль.
– Вы видели своими глазами, что шаль у нее лежала на плечах, когда она проснулась?
– Нет, своими не видел, поздно встал, шаль уже тесть убрал обратно в шифоньер. Но мне и видеть не надо было, вполне достаточным оказалось посмотреть на тещу, чтобы поверить в ее сон, в эту могилу, которая ей снилась и где она лежала. Самое главное, это – глаза тёщины, смотрелись они темно и безнадежно мёртво, без проблеска мыслей или эмоций и напоминали два окна чужого и таинственного дома, где никто никогда не жил, а вместо пола там дышит ледяным холодом и непроглядной чернотой бездонный провал, напрямую сообщавшийся с самой преисподней.
– Вы это кого-то процитировали? – захотел уточнить Сергей Семенович.
– Да. А кого точно – не помню. Но точнее я бы не мог выразить свои ощущения, возникшие у меня при виде тещи в то утро… и при виде тестя – в утро сегодняшнее! – я помолчал и весомо добавил: – в нашей квартире происходят опасные для жизни людей события и явления, и их нужно немедленно пресечь! Шаль, наверняка, пропитана какой-нибудь ядовитой дрянью, и я бы с удовольствием побыстрее хотел бы выяснить – какой именно?
– Пожалуй, вы нас убедили, – с непонятным любопытством глядя на меня, веско сказал генерал-майор Панцырев, – Майор Стрельцов сейчас со спецгруппой съездит к вам домой и заберет эту шаль. Мы её немедленно, с первым же рейсом, отправим в Москву для подробного анализа и исследования на базе лаборатории «Стикса». А вы, Валентин Валентинович пока останетесь здесь, в этом номере…
– Но… – попытался запротестовать я.
– Никаких – но! Остаться здесь, это – единственный для вас шанс выжить. Хорошенько это себе уясните!
Глава 18
Аджаньга, стоя на лестнице эскалатора, спускался в роскошное подземелье метро, залитое светом и облицованное мрамором. Он с любопытством рассматривал окружавших его со всех сторон людей. Люди, в свою очередь – особенно те, что поднимались ему на встречу вверх по эскалатору, отвечали Аджаньге не менее пристальным и продолжительным взглядом. Аджаньга, естественно, не мог знать, что виной нездорового внимания к нему сотен пассажиров метрополитена являлся неправдоподобно огромный уродливый нос, придающий лицу унгарда в целом отталкивающее, вопиюще безобразное, внушающее отвращение и ужас выражение.
Корректные москвичи и гости столицы мужественно не менялись в лице при виде Аджаньги, не кривились брезгливо, не плевались, не показывали на него пальцем, а просто молча таращились на унгарда, возможно, радуясь, что столь удивительное уродство не постигло их самих.
А между тем, нос у Аджаньги, пока он спускался на эскалаторе, стал как-то по особенному неприятно чесаться и даже, кажется, болеть где-то под переносицей и непрошеная боль эта немедленно принялась щелкающе отдаваться в теменной и затылочной частях черепа. Не понимая, что с ним происходит, не имея представления об элементарной боли в том качестве, как ощущает её человек, Аджаньга не на шутку испугался и резко замотал из стороны в сторону огромной огненно-рыжей головой, словно пёс, набравший полные уши воды.
– Осторожнее, молодой человек! – послышался за спиной Аджаньги сварливый женский голос, вы же не один здесь, не дома у себя! Трясете перхотью, словно в хлеву находитесь!!
Аджаньга скорее по тону, чем по смыслу догадался, что обращаются к нему, и немедленно, как требовали правила местного этикета, оглянулся к пожилой женщине, сделавшей ему замечание.
У женщины чётко читалось на морщинистом лбу: «Я стерва – будьте осторожны!!» Но Аджаньга не умел читать по чертам человеческого лица, да и пока весьма слабо воспринимал чужой язык на слух, совсем не разбираясь в интонациях, и оглянувшись на женщину, не получил от ее внешнего вида какое-нибудь особенное впечатление, и не понял – что же ей было от него нужно. Однако, тем не менее, он счел обязательным спросить: «Вы что-то сказали?»
Ничего хорошего из его попытки не получилось. Не владея еще в достаточной мере новым голосовым аппаратом, Аджаньга надул щеки, хлюпающе пожевав жабьими губами и просто-напросто плюнул женщине в лицо.
Либо неожиданный плевок, либо омерзительная морда Аджаньги, а наиболее вероятно – и то и другое в общем комплекте, сокрушительным образом подействовали на бедную женщину, впервые в жизни столкнувшуюся с человеком более наглым, чем она сама.
С женщиной случилось мерзкое и постыдное – она потеряла сознание, бурно и обильно обгадившись при этом, и даже Аджаньге сделалось противно. Заметив нездоровую суету, поднявшуюся вокруг себя и повалившейся на ступеньке эскалатора женщины, он покрепче сжал лямки сумки и бегом спустился по движущимся ступенькам, осторожно лавируя между пассажирами, через несколько секунд благополучно выбежав на твердь гранитной платформы станции.
Вскоре подошел электропоезд и под шипенье открывшихся дверей Аджаньга окончательно пришел в себя, очутившись через секунду внутри вагона. Двери закрылись, электричка тронулась вперед к следующей станции, а Аджаньга вновь оказался центром внимания в переполненном пассажирами вагоне. Нос у него разболелся не на шутку, когда поезд набрал скорость и мчался сквозь зловещий мрак туннеля. Ему сделалось невыносимо дурно, и он опять затряс головой, стараясь прогнать дурноту и боль в носовой пазухе. К тому же неосознанно Аджаньга начал издавать легонькое, очень неблагозвучное присасывающее похрюкивание, а может быть – причмокивающее, но не суть важно – главное, что стоявшие в непосредственной близости от него, как специально подобравшиеся, также как и на эскалаторе, женщины, быстренько достигли крайне дурного расположения духа.
Особенно злилась высокая русоволосая девушка, как и Аджаньга, сжимавшая правой рукой, переброшенные через плечо, лямки большой спортивной сумки. Она уже собиралась что-нибудь сказать, когда в переносице унгарда отчётливо прозвучал резкий и громкий щелчок, заглушивший даже стук вагонных колёс.
– О-ё-ёй – рявкнул Аджаньга нечеловеческим голосом, полным такого же нечеловеческого страдания, и большинство пассажиров в вагоне испуганно вздрогнуло.
Дрожащее, словно кусок студня, облитое зеленоватой слизью, полупрозрачное насекомое величиной с крупного шершня, басовито жужжа, выпорхнуло из правой ноздри Аджаньги и, ни секунды не колеблясь, влетело точно в рот высокой русоволосой девушки, начавший раскрываться для гневной реплики. Но самое замечательное заключалось в том, что нос Аджаньги приобрел нормальные человеческие конфигурацию и размеры.
Девушка принялась отчаянно отплевываться, махать руками, затем согнулась в три погибели и, естественно, её стало неудержимо рвать. Народ шарахнулся в стороны от неё, от Аджаньги и от каким-то образом оставшегося невредимым насекомого, выбравшегося изо рта девушки и принявшего бешено метаться под самым потолком вагона, причем жужжание золотистокрылой полупрозрачной твари сделалось значительно басовитей и гораздо злее, чем раньше.
Кто-то, не разобравшись сорвал стоп-кран, по-видимому, не представляя – к каким последствиям может привести столь неосторожный, в высшей степени непродуманный импульсивный поступок. Под пронзительный скрежет тормозов в потускневшем помещении вагона, пассажиры посыпались на пол и на сиденья, словно сбитые метким ударом кегли. На ногах остался стоять один лишь Аджаньга, да ещё – русоволосая девушка, которой Аджаньга не дал упасть, крепко схватив ее за плечо левой рукой. Девушка породистой статью, шикарной гривой русых волос, смутно напомнила ему Аймургу – его невесту, много-много лет назад украденную злыми болотными карликами (собственно, эпитет – «добрый», в стране унгардов не имел никаких шансов прописаться). Похищение произошло за два дня до свадьбы, обещавшей получиться грандиозной и запоминающейся. Но карлики распорядились иначе, и Аджаньге никогда не удалось познать букет прелестей медового месяца.
– Аймурга!.. – с проникновенной нежностью выговорил первое слово на человеческом языке Аджаньга, не в силах справиться с ностальгическим воспоминанием – галлюцинацией о до сих пор любимой невесте.
– Что-о-о?! – ошарашенно сумела выдавить из себя девушка, бившаяся в судорогах сильнейших рвотных позывов, скорее всего, сама ясно не осознавая, о чем именно и зачем вообще что-либо спросила.
А между тем скрип тормозов перестал быть слышен и поезд окончательно остановился. Внутри вагонов тревожно мерцали лишь аварийные лампочки, почти не дававшие света, и откуда-то из глубины туннеля в автоматически раскрывшиеся двери, щедро вливался запах горелой изоляции. Помимо сгорающей изоляции ноздри Аджаньги уловили хорошо знакомые миазмы болотных испарений – теплых и влажных, пропахших древней, тысячу раз перегнившей тиной. Глаза унгарда подернулись нежной ностальгической поволокой, и он снова повторил глухим гортанным голосом:
– Аймурга! – ещё крепче при этом сжав девушку длинными мускулистыми руками. Программа мутации дала временный, но ощутимый сбой, Аджаньге явственно представилось, что он наконец-то нашел любимую невесту, а неподалеку, за ближайшим поворотом тёмного туннеля их обоих ждет родное болото, покрытое весенними цветами и молоденькой ряской…
Девушка прекратила биться в его руках: она потеряла сознание. Аджаньга перекинул её обмякшее тело через плечо, на другом плече поправил сумочную лямку и выпрыгнул из вагона…
Глава 19
К кладбищу стрэнг подлетал в состоянии, если так можно выразиться по отношению к стрэнгам, полной психической неуравновешенности. Он страшно напугал кладбищенских ворон, огромной стаей поднявшихся с верхушек тополей при его приближении. А когда вороны дружно встревожено каркнули, маяком полыхавший в глубинах мозга стрэнга пульсирующий смарагдовый крестик, внезапно погас и вскоре вслед за ним потускнели и совсем исчезли сиреневые пунктиры и непрерывные линии схемы кладбища.
Стрэнг сделал над кладбищем пару бесцельных кругов, затем резко развернулся и, набрав максимальную скорость, помчался назад в нашу квартиру. Он злился сам на себя – теперь уже окончательно не понимая, с какой целью ему нужно было лететь на кладбище, вместо того, чтобы крепко обнимать плечи очередного хозяина…
При мысли о теплых хозяйских плечах стрэнг испытал молниеносный ураганный приступ голода. В этот момент он пролетал над частными домами поселка под названием Борзовая Заимка. Рядом проходила железнодорожная ветка, за нею – узкая полоса соснового леса, вплотную подступавшая к территории завода синтетического волокна, огороженной в три ряда колючей проволокой.
За тремя проволочными рядами трудились преимущественно расконвоированные заключенные, продолжавшие отбывать срок. И так уж исторически сложилось, что семьдесят процентов мужского населения Борзовой Заимки прошли тюрьмы, ссылки и зоны. И Борзовая Заимка, наряду с Цыганской Слободой, заслуженно считалась во всех отношениях одним из самых гиблых городских районов. Ничего хорошего не видели в своей жизни большинство жителей Заимки, и для полного счастья им не хватало только ночных визитов невиданного кровожадного крылатого чудовища – стрэнга. Гонимый голодом и привлеченный запахом близко находившихся живых людей, стрэнг заложил крутой вираж, спикировав на добротный кирпичный дом, в окошках которого горел свет.
Стрэнг неподвижно повис в воздухе напротив одного из окошек и сквозь незатейливые ситцевые занавески заглянул в комнату. Комната эта оказалась чем-то наподобие гостиной. В ней за накрытым столом сидела семья – мама с папой, двое ребятишек – мальчик с девочкой, дедушка и бабушка, и, несмотря на совершенно неурочный для такого занятия час, ужинала. На столе стоял большой самовар, большое овальное блюдо с мясным пирогом. Мама разливала чай, папа нарезал порционными кусками пирог и раскладывал получавшиеся порции по тарелкам. Судя по улыбавшимся лицам и энергично шевелившимся губам, все члены, по-видимому, очень дружной, семьи что-то оживленно обсуждали.
Стрэнг, сам того не зная, безошибочно выбрал одну из немногих счастливых, выражаясь казённым языком – благополучных семей Борзовой Заимки. В новом своем качестве он не мог долго терпеть голод и немедленно начал аккумулировать энергию, необходимую для успешного нападения.
А счастливая семья, вкусно ужинавшая мясным пирогом, оказывается, праздновала встречу с дедушкой и бабушкой. Дедушка и бабушка приехали из-под далекого Иркутска навестить своих детей и внуков. Дети и внуки ездили встречать дедушку и бабушку на железнодорожный вокзал, и примерно полчаса назад все с вокзала-то и вернулись. И за столом царила теплая радостная атмосфера, какая может возникнуть лишь между по-настоящему родными людьми, давно друг друга не видевшими, и которым много было что рассказать друг другу.
Они и говорили разом обо всем взахлёб – словно все еще не веря самому факту долгожданной встречи. И лишь минуту назад прервался внезапно радостный говор: лампочка ли потускнела на миг под старым абажуром, бабушке ли плохо сделалось с сердцем – она как-то негромко жалобно ойкнула, побледнела, схватилась сухонькой темной рукой за левую половину груди.
– Что с тобою, Ася?! – испуганно и удивленно спросил дедушка.
Но бабушка отняла уже ладошку от сердца, лишь бледность на морщинистом добром и маленьком личике её не прошла, она подняла правую руку в воздух, как будто собираясь сотворить крестное знамение и проговорила слабо, почти шёпотом:
– Дух у меня захватило что-то… – и не договорила. Близорукие глаза бабушки скользнули помертвевшим взглядом по милым русым головкам маленьких внуков и взгляд остановился на оконных занавесках.
За столом установилось жуткое молчание, обвалившееся на людей с неожиданностью и неудержимостью снежной лавины. Все шестеро, не сговариваясь, вслед за бабушкой пристально посмотрели на ситцевые занавески окошка.
Занавески чуть-чуть шевельнулись. У папы исказилось лицо, мама всплеснула руками и закрыла рот ладонями, чтобы не закричать и не напугать ребятишек. Папа начал подниматься из-за стола с мыслью сбегать в кладовку – взять там охотничью двустволку и с нею вернуться в комнату. Но он не успел полностью даже выпрямиться, как раздался резкий сухой треск оконной рамы, сломавшейся в нескольких местах, а следом – звонкий, дробный грохот развалившегося сотнями осколков и рухнувшего внутрь комнаты стекла.
Никто не успел закричать и по-настоящему испугаться, как в комнату влетел стрэнг, мгновенно развернувшийся грозным боевым ромбом, антрацитово сверкнувшим под светом абажура. Тысячи бирюзовых искорок, горевших на кончиках ворсинок-рецепторов, отразились в расширившихся глазах людей крохотными безумными огоньками.
– Это – Чёрная Шаль!!! – совсем без страха, но с ясно прозвучавшими, обиженными нотками крикнул мальчик. – Она прилетела за мной из своей сказки!!!
Лампочка под абажуром лопнула с грохотом ружейного выстрела. В наступившей кромешной темноте замелькала бесшумная вьюга из бирюзовых искорок, поднялся невообразимый шум и гвалт, какой обычно поднимается, когда стремительный голодный ястреб врывается в стаю жирных неповоротливых голубей. С тяжелым металлическим стуком опрокинулся самовар, громко булькая, из него полился на пол и на колени дедушке кипяток. Дедушка подскочил, как молодой, и голосом, полным боли и умственного исступления выматерился от души и без всякого стеснения.
– Мама-а!!! – пронзительно заверещал пятилетний Миша, почувствовав, что его крепко схватили чем-то мягким и липким за плечи и легко подняли в воздух.
– Мишенька, сыночек мой!!! – закричала мама, протягивая руки в сторону бешено мелькающей бирюзовой метели…
Стрэнг беспрепятственно вылетел в окно со своей добычей – в гостях у несчастной семьи он пробыл не более шести-семи секунд. На двухсотметровой высоте мой подарок тёще одним махом, или – глотком, что одно и то же, высосал у мальчика кровь, и, выпустив бездыханное тельце, сделавшееся ненужным, бесшумно полетел к себе домой – в нашу квартиру. Труп ребенка упал прямо на железнодорожную ветку, ударившись о стальную рельсу…
Вернувшись в шифоньер, стрэнг мгновенно крепко уснул, не проснувшись даже, когда Рада перенесла его в ванную и бросила там в стиральной машине…
Кровь маленького мальчика Миши переварилась, и вследствие этого ощутивший смутное беспокойство стрэнг принялся медленно пробуждаться. Помимо вернувшегося чувства голода его пробуждению способствовал и настойчиво звонивший пронзительный квартирный звонок.
Это давил на кнопку звонка майор Эдуард Стрельцов во главе группы стоявший у двери нашей квартиры.
– Странно, они должны были быть дома, – задумчиво произнёс Эдуард и, вынув откуда-то из-под полы черной кожаной куртки служебный ПМ, передёрнул затвор.
Глава 20
Изуродованный до неузнаваемости труп мальчика, брошенный стрэнгом с двухсотметровой высоты, был обнаружен около половины шестого утра путевым обходчиком. Поиски, предпринятые родителями мальчика, продолжавшиеся всю ночь напролёт, результатов не дали. К тому же почти обезумевшие от ужаса и горя родители совершенно не представляли каких-либо определенных направлений в своих поисках.
Единственным практически полезным шагом, сделанным ими получился звонок по «02», но он не привел к хорошим результатам: злой, заспанный дежурный, минуту послушавший сбивчивый, сверхэмоциональный и малопонятный рассказ мамы, просто-напросто послал её на три буквы, в развязной манере и издевательским тоном посоветовал обратиться в «психушку». Мама, естественно, уже серьезно начала подумывать, или казалось ли ей только, что она стала трезво обдумывать – нужно либо не нужно вызвать «скорую помощь» из «психушки» к глухому перекрестку в Борзовой Заимке, на котором они с мужем обнаружили будку исправного телефон-автомата. Но муж понял её состояние, как мог, успокоил и без особого труда уговорил пойти домой и там дождаться рассвета.
С первыми лучами утреннего солнца они отправились к шоссейной дороге, ведущей в город, надеясь поймать там раннее такси и с максимальной возможной скоростью добраться до ближайшего райотдела милиции.
Путевой обходчик наткнулся на останки их сына примерно через двадцать минут после того, как несчастным родителям удалось поймать такси.
Обходчик по рации связался с комендатурой железнодорожной станции и сообщил о своей находке. Затем он присел возле трупа на корточки и долго внимательно рассматривал характер повреждений.
– Ой-ё-ёй! Мальчуган совсем! Кто ж тебя – так! – только и мог он выговорить, сокрушённо качая седой головой, не в силах сообразить, что могло произойти с ребёнком.
Через полчаса подъехали машины «скорой помощи», судмедэкспертизы и опергруппы. Точно также, как и несколько минут назад пожилой обходчик – главный судмедэксперт Железнодорожного РОВД, некто Сусайлов, присел на корточки и тихонько присвистнул. С недоуменного присвиста судмедэксперта и началось расследование первого убийства, совершённого Черной Шалью вне стен нашей квартиры…
…В дежурной части Железнодорожного РОВД творилась обычная рабочая суета и сумбур, столь характерные для заведений подобного рода. Бесконечные звонки по телефону дежурного; без конца входившие и выходившие милиционеры в звании от сержанта до майора; бомжи, тесно прижатые друг к другу на скамейке для задержанных; множество голосов, сливавшихся одним тревожным и назойливым гулом создавали атмосферу, густо насыщенную раздражением, злобой, усталостью и страхом. Другими словами, элементы беззаботной созерцательности и созидательной мечтательности напрочь отсутствовали в стенах РОВД. Места для поэзии здесь не оставалось.
Поэтому очень мрачны были лица и голоса двух дежурных по райотделу: сдающего дежурство и принимавшего его.
– …Звонила баба одна в час двадцать ночи, говорил сдававший дежурство, капитан Охрамцов принимавшему дежурство, капитану Мордовцеву, – по-моему, обкуренная. Сына, говорит, у неё через окно утащила чёрная шаль.
– Так и сказала – чёрная шаль? – заинтересованно спросил Мордовцев.
– Так и сказала, зло усмехнулся Охрамцов, – дебилка.
– Ты зафиксировал в журнале?
– Да я еще не тронулся! – едва ли не огрызнулся Охрамцов, скользнув усталым взглядом по шеренге небритых и опухших лиц задержанных бомжей.
– Ну, а она как: так сразу и бухнула про сына и чёрную шаль, безо всяких прелюдий? – свежий с утра, хорошо выспавшийся дома Мордовцев, немного всё же насторожился.
– Ой, да говорю – обкурилась и ничего больше!
– Откуда она звонила?
– С Борзовой Заимки.
– А, ну тогда точно – обкурилась, – немного успокоился Мордовцев.
Через десять минут, засыпавший на ходу Охрамцов покинул помещение дежурной части, а Мордовцев полноправным хозяином занял его место.
Ещё через пять минут он получил сообщение о найденном в районе завода синтетических волокон изуродованном трупе мальчика примерно семи-восьми лет. На место обнаружения трупа немедленно выехала опергруппа, а Мордовцев начал лихорадочно соображать: не дал ли маху капитан Охрамцов. И сразу нечто неприятное и непонятное холодной скользкой струйкой заползло в душу Мордовцева, и мысленно он покрыл Охрамцова многоэтажным матом.
А ещё, опять же буквально, именно через пять минут, Мордовцев увидел сквозь плексигласовую стену молодых женщину и мужчину, чьи глаза сверкали тусклыми огнями бесконечной скорби и глубокого лихорадочного отчаяния. «Не в себе люди», – подумал Мордовцев и ни секунды не колеблясь, приказал сержанту, сидевшему возле справочного окошка:
– Сидоренко, запусти этих, женщину с мужчиной!
Они вошли, словно сомнамбулы, вернее – женщина. Мужик, на взгляд Мордовцева, держался неплохо, поддерживал жену за руку и сумел сохранять сосредоточенное волевое выражение лица, хотя и давалось ему это с большим трудом.
– Что случилось, граждане? – строго, а вместе с тем, доброжелательно спросил капитан Мордовцев. – У нас сына ночью утащило чудовище, а никто не верит!.. – сразу ответила женщина голосом, почти срывавшимся на рыдание. В дежурной части моментально установилась полная тишина. Все головы повернулись в сторону говорившей и никто, в том числе и капитан Мордовцев, не усомнился в правдивости её слов. Капитан Мордовцев вторично мысленно прошёлся нехорошими словами по адресу сдавшего дежурство капитана Охрамцова.
Глава 21
Майор Стрельцов наконец-то нашел ключи и сделав рукой команду: «Оружие – наизготовку!», поочередно открыл оба замка…
Мощная волна тухлых ароматов ударила «стиксовцам» в ноздри. Эдик предупреждающе поднял руку: «Не входить! Всем оставаться на своих местах!». Вместе с запахами сырой тухлятины, из только что открытой квартиры с неприятным шуршанием поползла глубокая могильная тишина, видимо давно уже переполнившая квартиру и только того и ждавшая, чтобы кто-нибудь поскорее отпер входную дверь и ей можно было бы немедленно вырваться наружу из стеснявшей ее страшной тесноты. Семь спецназовцев «Стикса» во главе со своим командиром дружно сделали невольный шаг назад.
– Ждите меня здесь, – негромко распорядился Эдик. – Ни в коем случае не входить без моей команды.
Эдик, несмотря на многолетнюю специальную подготовку и высокие личные морально-волевые качества, буквально на всей поверхности своей кожи покрылся противным и липким ледяным потом. Ситуация выглядела, звучала и пахла откровенной безнадежностью – в квартире несомненно происходили откровенно опасные для восприятия рассудка процессы.
Майор Стрельцов через несколько секунд после того, как за ним захлопнулась квартирная дверь, догадался, что слышит эти процессы, имеющие быть место не то в гостиной, не то в родительской спальне. Там просто кто-то ползал – много ползучих тварей, судя по специфике звука, совершенно несуразных и может быть даже – в самом своем принципе жизнедеятельности, совершенно невозможных. Эдик стоял неподвижно и абсолютно не представлял – какие ему необходимо предпринять дальнейшие шаги для обнаружения Черной Шали. Он даже как-то и не удивился тому факту, что поименовал ее с заглавных букв и думает о ней с суеверными ужасом и благоговением, и интуитивно понимает бессмысленность каких-либо попыток бороться с Нею…
Услышав щелчок открываемого в ванной комнате шпингалета, Эдуард резко обернулся и увидел мою жену: она стояла в проёме двери ванной комнаты и отчаянно прижимала пальчик к губам, призывая его к сохранению молчания. Он вопросительно поднял брови, Радка энергично отрицательно тряхнула головой и глазами показала в сторону коридора: дескать, отсюда нужно побыстрее убираться. Еще Эдик легко заметил, что Радку мелко трясет и она кусает губы, чтобы не раскричаться или не разрыдаться. Он спросил негромко и как можно более спокойным тоном:
– Что у вас тут за кавардак творится, сударыня?
Радка вздрогнула хрупкой стройной фигуркой, и в глазах её тоже что-то дрогнуло, и, нарушив обет молчания, она ответила голосом пугающе равнодушным применительно к смыслу сказанного:
– Белье на нас с папой вылетело из шкафа, ну и принялось выделывать коленца. Я успела в ванной спрятаться, а папа, наверное, под кровать залез, а может, под одеялом спрятался. А белье шумело так жутко. Краями щелкало зло и радостно, летало и выло, как вьюга (Эдик безвольно уронил вдоль туловища руку, сжимавшую пистолет). А вы позвонили, и оно сразу умолкло и притворилось, что снова сделалось неживым.
Внимательно выслушав её, несколько растерявшийся майор привел в обычное положение нижнюю челюсть и быстро прошёл в родительскую спальню, стараясь не глядеть на беспорядочно разбросанное по сторонам бельё, едва заметно трепетавшее, словно под сильным сквозняком. Спальня оказалась пуста: ни на кровати, ни под кроватью тестя он не увидел. Подойдя к распахнутому настежь окну и перегнувшись через подоконник, он посмотрел вниз, уже заранее зная, что именно там увидит: прямо под окном среди поломанных при падении густых кустов молодой сирени, лежал, раскинув руки и ноги, Михаил Иванович, или, что было вернее, лежало его тело.
Стараясь не наступать на простыни, пододеяльники и наволочки, свернувшиеся на полу среди каких-то чуть-чуть белесоватых мокрых пятен, он осторожно вышел из родительской спальни обратно в коридор. Рада к тому моменту уже сидела на полу – сползла спиной по стене на то самое место, где стояла и смотрела прямо перед собой – на кончики пальцев, вытянутых также прямо перед собой босых ног. Эдик начал лихорадочно жать кнопки своего мобильного и нервничать и злиться, что никак не может дозвониться до нужного абонента.
Так и не дозвонившись, майор Стрельцов осторожно подошел к Раде, присел возле неё на корточки, заглянул как можно проникновенней и душевней в ее равнодушные усталые глаза и убежденным голосом произнёс:
– С вашим отцом – всё в порядке, Рада – он упал прямо на кусты сирени, а четвертый этаж – не четырнадцатый, так что с ним всё в полном порядке.
Когда минуты через три приехала вызванная Эдиком по мобильнику «Скорая», то первым делом выяснилось, что насчёт самочувствия тестя майор Стрельцов ошибался – Михаил Иванович при падении сломал основание черепа и мгновенно умер. Потеряла сознание Рада и сползла по стене на пол, во многих местах замоченный какой-то скользкой белесоватой гадостью, отдающей неприятным, но смутно знакомым специфическим запахом. Спецназовцы бережно подняли Раду с пола на руки и аккуратно положили на носилки, доставленные к тому времени в нашу квартиру санитарами. Ей вкололи какой-то препарат, который сразу привёл её в чувство, она открыла свои глаза и умоляюще посмотрела на Эдика сквозь выступившие слёзы и от крайней слабости, охватившей её, не смогла вымолвить ни слова – лишь красноречиво говорили её глаза: «Спасите меня!..»
Двое автоматчиков «Стикса», были отправлены вместе с Радой в больницу и получили строгий приказ нести охрану у дверей палаты моей жены.
Затем, оставшись в нашей квартире один, по-прежнему не отменяя своего прежнего распоряжения для сопровождавших его спецназовцев оставаться на лестничной площадке перед квартирной дверью, майор Стрельцов приступил к методичному обыску квартиры в поисках Черной Шали. Ожившее постельное белье не потрясало больше его воображение и с оперативной точки зрения майора сейчас интересовала лишь одна черная шаль.
Глава 22
Оказавшись на путях, крепко продолжая прижимать перекинутую через плечо девушку, Аджаньга несколько растерялся и временно потерял логическую ориентацию, всецело отдавшись во власть нахлынувшим на него мощным красивым эмоциям. Чересчур сильно напоминал туннель линии метро, освещенный множеством разноцветных лампочек, своды родовой пещеры Клана, украшенные радужными пятнами люминисцирующей лечебной плесени, а теплые сквозняки, дувшие из глубин подземелья метрополитена, приносили, как ни странно, знакомые запахи бескрайних, бездонных и гиблых болот, где прошло трудное, но счастливое детство Аджаньги. Ему чудились запах жирной наваристой змеиной похлебки, испарения гниющих болотных трав, дым очага, где с треском и искрами сгорали сухие белые кости свирепых болотных рыб, твердые панцири гигантских раков и чешуя двухголовых тритонов, плюющихся ядом…
Он серьезно замечтался, в результате потерял контроль над собой и наступил на контактный провод. Двадцать семь с половиной тысяч вольт прошли сквозь унгарда мгновенным высокочастотным потоком совсем незнакомой ему, показавшейся чудовищной по своей силе, энергии, замкнувшись на девушке. Роскошные русые волосы девушки с треском загорелись, впрочем, Аджаньга не успел проконстатировать начало пожара на голове только что обретённой невесты – их обоих отшвырнуло на несколько метров в сторону, с гулом ударив о каменную стену туннеля.
Дальнейшее Аджаньга помнил смутно – он куда-то пробирался в бесконечном мраке, продолжая крепко сжимать когтистыми лапами обугленные останки девушки, и широкие влажные ноздри унгарда приятно щекотал аппетитный запах свежезажаренного мяса, и из-за шума во вновь сделавшейся рогатой голове Аджаньга не совсем ясно сознавал – откуда он исходит. Огромных ушей достиг мерный стук крепких копыт, резво перебираемых вдоль по шпалам заброшенного, забытого людьми туннеля. Унгард Аджаньга ремутировал под воздействием тока высокого напряжения и напрочь забыл об ответственном задании, данном ему Кланом…
Окончательно он пришел в себя на берегу небольшого подземного озера, по составу воды и миазмам, исходившим от его поверхности ничем не отличавшегося от родных болот Аджаньги. Наконец-то унгард явственно почувствовал зверский голод, и, опустившись на колени, с жадностью, хрустом и чавканьем принялся пожирать хорошо прожаренное юное девичье тело, краем глаза замечая собравшихся вокруг себя знаменитых крыс московского метро.
Так же, как и Аджаньга, крысы были голодны, и запах жареной человечины сводил жутких тварей с ума, но их останавливал инстинктивный почтительный страх перед трёхметровым великаном, явившемся из неведомого «ниоткуда» сквозь зеркало «дожей», чтобы сразиться и поймать Стрэнга – ярко-бирюзовую душу, покинувшую тело одного из хозяев Аджаньги и сделавшуюся поэтому беспросветно чёрной. Сами же крысы, некоторые из которых достигали размеров немецкой овчарки, напомнили Аджаньге усурсков – шестилапых мохнатых падальщиков, во множестве шнырявших вокруг деревень унгардов и выполнявших роль естественных санитаров местной экосистемы. Унгарды смутно понимали предназначение усурсков и старались употреблять их в пищу лишь в самые голодные годы, когда в болотах по неизвестным причинам нельзя было поймать ни змей, ни жаб, ни ослибисок.
Исподволь наблюдая за крысами, Аджаньга ощутил, что уже начинает испытывать к ним своеобразную покровительственную симпатию, как к усурскам или, употребляя расхожую фразу – к братьям своим меньшим. Немного насытившись, он удовлетворенно рыгнул, переводя дух, оторвал кусок мяса и безошибочно определив самую крупную по размерам крысу, швырнул мясо ей. Крыса моментально проглотила подачку, сумев сообразить, что к ней проявлено специальное внимание и она выделена из среды себе подобных. Аджаньга чутко уловил эмоции свирепого подземного хищника и твердо решил приручить популяцию метрополитеновских крыс и сделать из них профессиональных охотников на людей, как на вкусную и, по всей видимости, легко доступную добычу.
Слушая хруст перемалываемых мощными челюстями крыс останков скелета несчастной девушки, Аджаньга почувствовал, что веки его начинают набрякать приятной тяжестью, говорившей о необходимости отдохнуть и набраться, тем самым, сил для предстоящей охоты. Он быстро нашел укромное местечко, где можно было поспать несколько часов в сравнительной безопасности – затянутую серебристой паутиной, естественную выемку в стене. Мохнатым паукам-мутантам унгард дал телепатическую команду охранять его от потенциально возможного нападения особенно голодных и неуправляемых крыс. Перед тем, как окончательно отключиться и, можно уже сказать, даже сквозь сон, Аджаньга нащупал широкую лямку драгоценного баула и крепко сжал ее когтистыми пальцами, способными едва заметным усилием легко раздробить шейные позвонки самой крупной метрополитеновской крысы.
Глава 23
…Внутри пятистенка Вишана и Шиты стояла зловещая тишина и витали неземные ароматы. Наглухо закрытые изнутри сыновьями Буруслана ворота, надёжно закрывали от любопытных глаз царившую в просторном дворе загадочную полутьму, где ежеминутно неслышно вспыхивали крохотные смарагдовые и бирюзовые зарницы. По асфальту двора и поперёк бетонного пола обширного склада зазмеились причудливые трещины, откуда вяло и нехотя выползали необычайно уродливые насекомые и сразу неподвижно замирали в незнакомом им мире, угрюмо пошевеливая угольно-чёрными усиками и угрожающе жестикулируя жёсткими членистыми хвостами. Трещины в бетоне и асфальте незаметно, не неуклонно расширялись.
В прозрачной глубине разноцветных камней, беспорядочно разбросанных по старому покрывалу, растеленному посреди холодного бетонного пола склада, появились темные сложные узоры, и тонкий рисунок их с каждой минутой делался отчетливей, и вот-вот должен был начать раскрывать таившийся в нём определенный символический смысл. Во всех уголках подворья и самого дома Вишана и Шиты набухали споры, зрели зародыши, готовились проклюнуться яйца и почки нигде и никогда не существовавшей жизни, принесённой ими из разграбленного гроба. Шестёрка остекленевших цыган упрямо продолжала ждать новых гостей, неподвижно сидя вокруг праздничного стола.
…Бомжам, в целом, редко приходится о чем-либо глубоко задумываться, так как существуют они исключительно в практической плоскости жизни, причем плоскость великолепно отполирована и наклонена под опасным углом над пропастью небытия. Поэтому надолго задумываться над вещами абстрактного характера бомжу не дают заедающие его, так называемые, мелочи быта: постоянные поиски возможности поесть, выпить, безопасно поспать, ну и, по большому счёту – нечаянно не сдохнуть где-нибудь прямо посреди улицы.
Некто Цыганенко Игорь Васильевич, пятидесяти трёх лет от роду, последние шесть лет являясь классическим бомжем, тем не менее, удивительно для него самого, пребывал описываемым майским утром в состоянии полной праздности – то есть он не думал, как ему заработать хлеб насущный на ближайшие часы, нет. Забравшись в глухую кленовую заросль центрального городского парка, Игорь Васильевич, полулежа на молодой травке, напряженно размышлял о том немыслимо страшном видении, явившемся ему с товарищем по несчастью прошедшей ночью во дворе нашего дома.
Товарища еще на рассвете забрал с собой наряд патрульной милиции, Игорю Васильевичу повезло, и в относительно спокойной обстановке у него появилась возможность как следует проанализировать внутреннее состояние и прийти к каким-либо определённым решениям, и к главному из них: бежать ему из города немедленно или ещё чего-нибудь маленько подождать. До сих пор он испытывал чувство мистического ужаса, и сильная нервная дрожь сотрясала давно немытое тело несчастного бомжа, едва лишь стоило ему вспомнить прошедшую ночь…
Путались мысли у Игоря Васильевича, безнадежно путались и справедливости ради, следует уточнить, что не то чтобы он напряженно размышлял о Чёрной Шали, а скорее – глубоко эмоционально переживал своё нечаянное ночное приключение.
Прошло немало времени, прежде чем он догадался об основной причине ужасного никак не утихающего беспокойства: оно, кем бы оно ни было, продолжало видеть его, Игоря Васильевича, никому не нужного, совершенно никчемного, жалкого человека. Оно упорно не желало выпускать Игоря Васильевича из своего поля зрения по какому-то важному и таинственному поводу, и теперь наверняка им придется встретиться вновь. Неизбежность новой встречи Игорь Васильевич смутно, но твердо предчувствовал, как дыхание неумолимо приближавшейся очередной ночи или горький шёпот предначертанной ему дальнейшей судьбы.
Сквозь ветки кленов Игорь Васильевич с тоской и ужасом посмотрел в далёкое майское небо и, внезапно крепко обхватив голову ладонями, он упал лицом в траву и тихо безутешно расплакался…
Глава 24
Пока я сидел в гостеприимном номере-люксе, где остановился генерал-майор ФСБ Панцырев, душа моя успела покрыться причудливыми уродливыми линиями и бесформенными пятнами самых безобразных цветов и оттенков. Она вся тряслась и жалко съежилась и, наверняка, напоминала тяжело раненую или смертельно больную гиеновую собаку, затравленную голодными нильскими крокодилами на пятачке суши среди бескрайнего центрально-африканского болота. Я с откровенной ненавистью смотрел на сидевшего и разглагольствовавшего напротив меня генерала, почти не слушая его и лихорадочно соображая: что мне делать дальше.
А смысл говорившегося генералом сводился к тому, что я оказался ненужным и опасным свидетелем проводимой ФСБ сверхсекретной операции, и лично он совсем не представляет, что ему со мной делать, а я, как человек более или менее умный и грамотный, должен понимать, как обычно поступают в таких случаях с нежелательными свидетелями спецслужбы любой страны мира. Я ему, естественно, не поверил и без труда догадался, что мне собираются предложить какой-то компромиссный вариант, хотя и, кто его, как говорится, знает – от них всего можно было ожидать.
Генерал Панцырев умолк на полуслове, прерванный мелодичным зуммером служебного мобильника, и мне почудилось почему-то, что неожиданный звонок этот имеет ко мне самое непосредственное отношение. Как выяснилось некоторое время спустя, я не ошибся.
Это звонил из Москвы временно исполняющий обязанности начальника «Стикса-2» генерал-лейтенант Рыжевласов:
– Добрый день, Сергей! Еще – живой?
– Здравия желаю, товарищ генерал! Пока – да.
– Не волнуйся, это – ненадолго. Доложи мне вкратце ситуацию – через час мне нужно идти к Плейтису и рассказать ему что-то бодрое и радостное. Мы можем его чем-нибудь порадовать?
– Боюсь, что только совершенно избитым выражением: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь!». Мы по-прежнему топчемся на месте. Часа через три установим домашний адрес наших цыган, хотя не знаю, что это нам может дать.
– Что думаешь делать с гражданскими? Их вроде бы трое?
– Уже двое.
– Вы, что ли, поработали?
– Нет не мы. В случае чего мы можем и не понадобиться. По-моему, всех вступавших с ним в непосредственный контакт начинает уничтожать Объект.
– Сейчас слушай меня внимательно. Это мой личный тебе приказ и ответственность полностью лежит на мне – во что бы то ни стало постарайся уничтожить Объект. Это жизненно важно. Если не хочешь, чтобы всех нас постигла судьба Шквотина, постарайся выполнить это, как можно скорее. Наши друзья навсегда отвернулись от нас, не желая больше иметь с нами никаких дел или, если выразиться точнее, не желая иметь ничего общего с той страшной судьбой, которая вылетела к нам так внезапно из этой проклятой могилы. Они предоставили нас самим себе, и вся надежда сейчас только на тебя, Сергей. Ты ближе всех к Объекту. Через шесть часов Плейтис подпишет приказ, предоставляющий тебе полномочия «Ч». А нам с Плейтисом, видимо, придется завтра-послезавтра вылетать к вам – в зависимости от ситуации, конечно. Так хочется надеяться, что она выровняется, – Рыжевласов умолк – то ли в задумчивости, то ли ожидая какого-нибудь оптимистичного ответа от Панцырева.
Сергей Семёнович подумал о том, что выровняться у этой ситуации нет почти никаких шансов, и не нашелся, что можно было бы ответить оптимальное Рыжевласову. Тот устало сказал:
– Ну ладно – через шесть часов свяжемся, – и отключил мобильник.
Панцырев после закончившегося разговора задумчиво посмотрел на меня и, выдержав непродолжительную паузу, спросил вроде бы и себя, и меня:
– И все-таки – что же мне с вами делать, молодой человек?
– А чтобы вы ни собрались сделать – мне уже как-то все равно. Хуже мне, видимо, не будет, – ответил я генералу с неподдельными усталостью и равнодушием, не сделав при этом никакой паузы между своим ответом и его вопросом.
– Подпишешь стандартную форму подписки о неразглашении и можешь быть свободен на все четыре стороны, но лично я тебе советую пока отдохнуть в этом номере и никуда, во всяком случае – на свою квартиру, не ходить. Там сейчас идет зачистка и, видимо, долгое время она не окажется пригодной для жилья. К жене в больницу пока тоже не ходи – к вечеру о ее состоянии нам сюда сообщат. Завтра, если что, сможешь ее попроведовать, – он вновь умолк на несколько секунд и затем, глянув на меня с выражением все той же загадочной задумчивости, веско проговорил: – Мне почему-то кажется, что ты, Валентин сможешь нам чем-то сильно помочь, поэтому, собственно, и прошу тебя пока оставаться в этом номере…
Я невольно криво усмехнулся, и не успела еще усмешка эта выпрямиться и сползти с моего лица, как опять зазвонил генеральский мобильник.
На этот раз вторично звонил майор Стрельцов из нашей квартиры и сообщил о том, что на дне стиральной машины в ванной комнате им обнаружена большая по размерам, угольно-черная, напрочь пропитанная какой-то неприятной на вид и на ощупь влагой, шерстяная тряпка свернутая рулоном.
– Ты соберешь все подозрительные на вид тряпки в этой квартире и немедленно сожжешь их на городской свалке! – нетерпеливо прервал майора генерал Панцырев. – Об исполнении сразу доложишь!
Связь прервалась, и, спрятав мобильник в карман, Сергей Семенович без особой уверенности в голосе произнес:
– Может быть, все еще и обойдется…
Глава 25
Во сне Аджаньга немедленно очутился на берегах родных болот в тот самый, запомнившийся ему на всю жизнь яркий безоблачный полдень, когда он увидел в первый и последний раз в жизни Великую Белую Птицу Джаб-Джаб, вступившую в смертельный бой с черными матрицами Срэнга, самыми опасными созданиями мира Алялватаска – румплями.
На берегу тогда собралось все население деревни унгардов и в благоговейном трепете наблюдало за разыгравшимся в небесах небывалым зрелищем. Особенно болотных унгардов, включая Аджаньгу, поразил факт существования на Алялватаске крылатых существ, способных передвигаться в поднебесье, а не только – по болоту.
Сначала появились румпли, огласившие воздушное пространство над деревней удивительно противными воплями – противнее всего того, что слышали когда-либо унгарды на болотах. А выгледели они так, как если бы на полотне неба появились сквозные дырки прямиком в подболотный мир, в убогом представлении унгардов о мироздании, игравший роль посмертного обиталища унгардов.
Холодный скользский ужас заполз в души бесстрашных унгардов, пока они наблюдали за хаотическим полетом постепенно снижавшихся над их деревней отвратительных летающих тварей. Самый сообразительный из всего населения деревни, заслуженный унгард Аджаньга первым догадался, что невиданные ранее над болотами румпли не просто так кружатся над родной деревней, а представляют для ее жителей непосредственную и очень серьезную угрозу. Он, и понятия, естественно, не имел – на что способны румпли и – какого именно рода опасность они представляли для унгардов.
– Детей в хижины, остальным приготовить гарпуны!!! – скомандовал Аджаньга, когда намерения мерзких крылатых тварей окончательно перестали вызывать у него какие-либо сомнения.
Примерно в этот-то, как раз момент, и появилась Великая Белая Птица Джаб-Джаб – знаменитая истребительница румплей Алялватаски. Ее появлению предшествовал внезапный порыв гудящего ветра, покрывший ковром мелкой ряби поверхность болотной воды и заставивший испуганно нырнуть к своим подводным норам тысячи жирных и нежных мирисков – моллюсков, выплывавших на поверхность лишь в безветренную солнечную погоду и заслуженно считавшихся среди унгардов тонкой изысканной закуской. Ну а затем уже, из золотисто-лилового марева безоблачных небесных просторов Алялватаски, появилась сама Птица.
Не видели унгарды за свою жизнь ничего грандиознее и величественнее, чем полет Великой Белой Птицы Джаб-Джаб, сделавшейся с того памятного дня Верховным Божеством болотных унгардов, единогласно решившим на общем собрании, стихийно состоявшимся поздним вечером, отказаться от поклонения Великой Двухголовой Жабе и немедленно сбросить все ее идолы в Полосатую трясину – туда, где издревле хоронили унгардов.
Воздушная битва длилась совсем недолго – не больше минуты. От гигантских крыльев Птицы, бросивших тень на полдеревни, отлетали ярко сверкавшие под лучами светила стрелы и точно поражали черных румплей, обращавшихся, после попаданий в них сверкающих стрел, розово-золотистыми облачками, без следа таявшими среди чистой лиловизны небес. Румплей насчитывалось десятка полтор, и через минуту от них не осталось ничего, кроме воспоминаний в памяти унгардов. А Птица Джаб-Джаб, набрав немыслимую высоту, навсегда исчезла в волшебных, неведомых болотным унгардам далях, уронив им на память одно из боевых перьев-стрел, которыми и были уничтожены румпли. Перо долго планировало по воздуху и наконец воткнулось прямо в середину центральной деревенской площади, вызвав бурю религиозного восторга среди деревенских жителей, как раз и спровоцировав своим падением кардинальную перемену в идеологическом умонастроении унгардов…
Аджаньга тревожно содрогнулся во сне и открыл глаза – настолько явственно прозвучал в подземелье московского метрополитена грозный голос Верховного Унгарда: «Аджаньга!!!..» Аджаньга испуганно вздрогнул и крепче сжал лямку баула, на дне которого хранились боевое перо из крыла Великой Белой Птицы Джаб-Джаб и священная лампа «хиранг» – маяк для потерявшейся во мраке чужого мира души одного из Великих Унгардов – Стрэнга-Хранителя…
Глава 26
В ванную майор Стрельцов зашел примерно через полчаса после начала обыска, в ходе которого он методично и тщательно обшаривал все уголки в комнатах нашей квартиры, время от времени брезгливым движением отпинывая от себя ту или иную бельевую тряпку вялым броском кидавшуюся ему под ноги. Он еще не закончил осмотра всех комнат, когда из ванной послышался сухой металлический звук, прозвучавший в наполнявшей квартиру потусторонней тишине, с ярко выраженно зловещими резкостью и неожиданностью.
Мгновенно оказавшись в ванной, Стрельцов сразу определил, что крышка стиральной машины полуоткрыта и недавний резкий металлический звук могла издать именно она, когда сдвигалась с места. На дне машины Эдуард увидел подаренную мною покойнице теще шаль и сразу позвонил Панцыреву. После короткого разговора с ним, решительный офицер госбезопасности безалаберно запустил руки внутрь стиральной машины, нащупав пальцами мягкую ворсистую поверхность чёрной шали. «Не понимаю – чего я боялся?» – уже просто насмешливо молча спросил он себя и вытащил шаль наружу.
Она сверкнула под светом лампочки разводами смутно знакомого ему бирюзового блеска, не вызвавшего, впрочем, ровным счетом никаких необычных ассоциаций.
В общем, шаль показалась майору Стрельцову обыденнейшей грязной тряпкой, которую требовалось немедленно постирать.
Он аккуратно взял шаль пальцами за два угла и встряхнул её на весу, подняв руки как можно выше и невольно залюбовавшись при этом лагунами удивительного бирюзового сияния, возникавшего где-то в чёрной пушистой глубине и медленно поднимавшегося к поверхности, с лёгким ласковым шорохом, испарявшимся под светом электрической лампочки. И показалось ему, что бирюзовое дыхание щедро отдаваемое чёрной шалью во влажный воздух ванной, имело своеобразный сладковатый запах, вызывавший почему-то в майорской душе ощущение полного психологического комфорта.
Таким образом, любовался Эдик шалью и наслаждался, спонтанно рождавшимися яркими душевными эмоциями, примерно с полминуты – до того момента, пока не начали неметь руки, державшие шаль на весу. Затем, сквозь неожиданно охватившую его эйфорию, он всё-таки вспомнил о служебном долге и безо всяких проблем уложил Черную Шаль в заранее захваченный объемистый брезентовый баул, до сих пор висевший через майорское плечо на широких лямках.
У каждого из дожидавшихся майора на лестничной площадке спецназовцев имелось по точно такому же объемистому брезентовому баулу и примерно минут за восемь они легко собрали все, почти уже не подававшее никаких признаков жизни, тещино белье, до отказа забив им свои баулы. Еще минут через десять оба «джипа» с разместившимися в них членами группы майора Стрельцова уже стояли на краю глиняного ската котлована свалки. Спецназовцы с баулами через плечо молча сгрудились за спиной майора, который придирчиво выбирал место, где удобнее всего было бы осуществить задуманное мероприятие.
На дальнем конце свалки он заметил, как по кучам мусора ползали какие-то люмпены, а может это были ребятишки – на дальнем расстоянии Эдик точно не мог разобрать. Следовательно, и они, совершенно справедливо предположил Эдик, не сумеют разглядеть его самого, спецназовцев и того, чем скоро они начнут заниматься.
На всякий случай Эдуард еще раз огляделся по сторонам, но помойка на то она и есть помойка, чтобы отпугивать нормальных людей, поэтому поблизости он по-прежнему никого не увидел в лучах заходящего солнца. Солнце заходило и покрасило глиняные скаты котлована и кучи мусора в нём печальными красными и тёмно-золотистыми акварелями. Вскоре их должна была растопить ночная темнота, поэтому оставив одного автоматчика возле «джипов», Эдик приказал своим людям не медлить.
Гуськом они спустились по узенькой тропке, ведущей на дно котлована. Замыкал цепочку огнеметчик, немного согнувшийся под тяжестью баллонов с топливом. По знаку, поданному командиром, они остановились среди густо росшей сухой и пыльной полыни, источавшей горький запах тоски, нищеты и полной бесперспективности. А еще здесь пахло сыростью и откуда-то ощутимо тянуло загадочным холодком, да и печальные, но необыкновенно красивые красно-золотистые пастели заката напрочь растворялись здесь в густой тени, отбрасываемой двенадцатиметровым обрывом.
– Идеальное место для того, чтобы здесь закончилась наша очередная страшная сказка, – очень тихо, так, что его почти никто не слышал, сказал Эдуард и после этого уже энергичным голосом распорядился: – Давайте ребята – валите эту дрянь побыстрее в кучу и кончаем с нею. Сегодня вечером, думаю, улетаем домой!
Глава 27
«Ребята» с радостью принялись освобождать баулы от приговоренного к сожжению глупого тещиного белья, как следует так и не успевшего насладиться осознанием присутствия сознания. Белье шлепалось в сухую полынь с тяжелым мокрым чмоканьем и от него в вечерний майский воздух поднимался хорошо ощутимый тухлый смрад. Сверху на получившийся погребальный костер Эдик вывалил Черную Шаль и сказал готовившемуся к акции огнеметчику:
– Коля, постарайся сразу попасть именно в нее – я должен увидеть, как эта дрянь загорится и превратится в пепел. После последнего распоряжения командира группы все, кроме огнеметчика Коли, поднялись обратно на край котлована к «джипам» и нетерпеливо принялись ждать окончания выполнения задания. Эдик взял в правую руку мобильный телефон и приготовился набрать номер «мобильника» Панцырева, ничуть не сомневаясь в очень скором успешном завершении операции.
Как это всегда и случается в подобного рода ситуациях, никто из группы ничего не успел понять – настолько стремительно огнеметчик – старший лейтенант ФСБ Николай Подкалаев, оказался неподвижно лежащим на помойной земле среди прошлогодней полыни и, видимо, одновременно с его падением, по котловану и окрестностям промчался шелестящий порыв горячего, вроде, как пустынного ветра. Вершина кучи грязного мокрого белья вспыхнула ослепительным бирюзовым сиянием, на секунду-другую затмившим свет вечернего солнца в изумленно выпучившихся глазах спецназовцев «Стикса-2».
Но шальной ветренный шквал почти мгновенно утих, оставив в душах спецназовцев мучительное тошнотворное воспоминание о своем сухом и тоскливом звучании, а ослепительное бирюзовое зарево внезапно погасло, уступив место непроницаемому мраку – вернее, в глазах «стиксовцев» опять же на секунду-другую образовались абсолютно черные дыры.
После того, как зрение вернулось к абсолютно дезориентированным офицерам ФСБ, они дружно отказались верить своим, освободившимся от беспросветного мрака, глазам – трёхметровый антрацитовый ромб, сверкавший кое-где сполохами багровой позолоты, неподвижно висевший на высоте, приблизительно, десяти метров над кучей белья и поверженного огнеметчика, сорвался с места, словно осенний лист под внезапным порывом урагана, и плавно, грациозно и стремительно, сумасшедшими темпами набирая высоту, помчался над помойкой куда-то в сторону речного вокзала – за городскую черту.
С отрешенностью фаната фильмов ужаса, Эдик догадался, что она полетела прочь от солнца, преследуемая целой сворой его умирающих тёмно-алых лучей. Примерно через полминуты Черная Шаль превратилась в крохотную сверкающую точку, вскоре слившуюся с прибоем ночных сумерек, штурмовавшим небо на востоке.
Сомнамбулическими движениями майор Стрельцов набрал комбинацию номера мобильника Панцырева и, услышав в мембране голос генерала, отрапортовал:
– Босс – мы проиграли. Она улетела от нас – я провалил задание.
…Я увидел, как помертвели и без того без всякой меры утомленные глаза Сергея Семеновича Панцырева внимательно слушавшего голос в мобильнике, резко выперли сквозь посеревшую кожу скулы на его волевом мужественном лице и, глядя куда-то сквозь меня совсем-совсем неживым взглядом, он негромко уточнил:
– Кто – она??
Дальше он слушал, не задавая вопросов, и по мере того, как находившийся на противоположном конце электромагнитного импульса майор Стрельцов постепенно приходил в себя, в глазах генерала медленно проявлялось что-то похожее на веру в жизнь, и смотреть он стал теперь не сквозь меня, а прямо мне в глаза.
– Подкалаев точно мертв?! Все – возвращайтесь в гостиницу! – и, набирая следующий, скорее всего – московский номер на мобильнике, Сергей Семенович вежливо, но твердо – с чисто военной прямотой попросил меня:
– Валя – сходи, пожалуйста, в буфет, выпей там вина, если хочешь – сейчас я поведу разговоры не для твоих ушей. А через полчасика возвращайся – дальше мы будем разговаривать исключительно с тобой.
Сноски
1
Фермент, вырабатываемый в организме под воздействием неумеренного употребления алкоголя, обладает способностью высасывать воду из клеток.
(обратно)


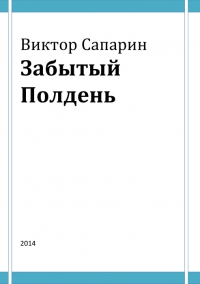
Комментарии к книге «Черная Шаль. Книга 1», Алексей Резник
Всего 0 комментариев