Джордж Алек Эффинджер Кошечка Шрёдингера
В западной части небосклона над переулком виднелся ясный серпик только-только родившейся луны. Джехане было немногим меньше двенадцати лет, ей еще не полагалось носить паранджу, но тем не менее она ее всегда одевала. Никогда прежде она не бывала на улице одна так поздно. Она слышала отголоски веселого празднества – трехдневного пиршества, знаменующего конец священного рамадана. Два пьяных голоса приблизились и удалились, два других голоса, явившись им на смену, принялись громко и сердито обсуждать цену каких-то медовых пончиков. Смех и пьяные крики казались Джехане звуками иного мира.
В прошлом она всегда любила праздник Ид-эль-Фитр, хоть никогда в нем и не участвовала. Странным ей казалось теперь, что кто-то его еще отмечает, раз сама она утратила к нему интерес. В этот год у нее были дела поважнее.
Она вздохнула, передернула плечами.
Праздник придет снова. Всего через год.
Она была одна в ночи, если не считать молодого месяца. На ней была синяя с черным бурка, и под одеждой тело ее дрожало мелкой дрожью.
Джехана Фатима Ашуфи углубилась в переулок еще на несколько шагов – подальше от уличного света. По всей улице люди, которых обыкновенно в этом квартале поди сыщи, веселились напропалую.
Джехана снова вздрогнула, прислушалась, подождала немного.
Рассвет.
Это случится на рассвете. Сейчас небо уже достаточно темное, чтобы видны были луна и несколько звезд. В исламском мире, впрочем, ночь начинается, когда невозможно отличить белую нить от черной; значит, сейчас еще не ночь.
Джехана левой рукой оправила бурку, закутываясь теснее. В правой руке, скрытый длинным рукавом, был зажат изогнутый, остро отточенный клинок: его Джехана стащила из отцовской комнаты.
Она проголодалась. Будь у нее деньги, Джехана, конечно, купила бы немного еды, но... В Будайене[1] многие девочки ее возраста уже знали, как зарабатывать деньги, Джехана к ним не относилась. Она огляделась и различила только покрытые толстым слоем грязи и ила булыжники брусчатки. В переулке воняло так, что девочка ощутила прилив тошноты. Она очень устала. Она была совсем одна и страшно боялась.
Затем окружавший Джехану мерзкий, грязный, нищий, отвратительный мир растаял, превратившись во что-то совершенно незнакомое. Видимость сразу стала лучше.
***
Фатиме Ашуфи было двадцать шесть лет. Она носила консервативный темно-серый шерстяной костюм. Вообще одежда ее не соответствовала моде и была куда строже, чем стоило ожидать от талантливой молодой аспирантки физического факультета. Она не пользовалась украшениями, а черные волосы заплетала в длинную, ниспадавшую по спине косу. Каждое утро ей приходилось потрудиться, одеваясь как можно проще для выхода «в свет» со своим знаменитым наставником и другом. Это он, Гейзенберг, подкинул ей такую идею: кто в наши дни поверит, что такая красавица вдобавок и выдающийся ученый? Но Джехана вскоре поняла, что все эти старания пропали втуне. Смуглая кожа и тяжелый акцент безошибочно выдавали в ней иностранку, хуже того – неевропейку, скорее всего, с Восточного Средиземноморья, и почти все, кто попадался ей на пути, принимали ее за еврейку. Дело было в Германии, в Геттингене, в 1925 году.
Она сидела на университетской физической конференции под председательством Макса Борна, который первым ввел в оборот выражение «квантовая механика» – случилось это два года назад. Физики обсуждали новейшие результаты Макса Планка в теории излучения. Планк подошел вплотную к идеям квантовополевой физики, но для описания взаимодействия света с веществом продолжал использовать классическую ньютонову механику. Подход этот явно не был адекватен проблеме, но другого пока никто не предложил. На Геттингенской конференции присутствовал также Паскаль Йордан, который как раз в этот момент выступал с компромиссным решением. Прежде чем Борн, декан факультета, успел ответить ему, Вернер Гейзенберг неудержимо расчихался.
– Вернер, с тобой все в порядке? – спросил Борн.
Гейзенберг только рукой замахал. Йордан попытался было продолжить, и тут Гейзенберг расчихался опять. Глаза его покраснели и слезились. Он был в отчаянии.
– Дже-апчхи! -хана... – пробормотал он, повернувшись к аспирантке, – займись тут... мне надо выйти... чертова – апчхи! –сенная –апчхи! – лихорадка...
– Но коллоквиум... – заикнулся кто-то.
Гейзенберг встал.
– Вы – апчхи! – можете сказать Планку, чтобы – га-га-апчхи! – проваливал к дьяволу и забирал с собой де Бройля и его волны материи. Апчхи! Нет, пожалуй, и Бора – апчхи! – тоже с его идиотскими прыжками электронов. У меня – апчхи! – уже аллергия на них. Апчхи!
Пошатываясь, Гейзенберг добрел до порога, выдавил дверь и исчез в коридоре. Джехана осталась на несколько минут, сделав в блокноте пару заметок, потом вышла следом за Вернером.
***
В Будайене не было минаретов, но квартал внутри крепостных стен изобиловал мечетями. С высоких древних башен раздавались сильные голоса муэдзинов, призывавших к молитве.
– Молитесь, молитесь! Лучше молиться, чем спать!
Прижавшись к мрачной каменной стене, Джехана слушала выкликания муэдзинов. Слова влетали ей в одно ухо и вылетали через другое. Она смотрела на труп, валявшийся у ее ног. То был мальчик, старше ее на несколько лет, и она уже видела его в Будайене, хотя и не знала по имени. В руке девочки был зажат кинжал, которым она его и убила.
Вскоре трое человек протолкались через толпу, собравшуюся у входа в переулок. Они мрачно воззрились на Джехану сверху вниз. Один был полицейским, другой – кади[2], который помогал в толкованиях старых исламских законов и приспосабливал их к велениям современности, третий – имамом, как раз проводившим молебен в старой маленькой мечети неподалеку от восточных ворот Будайена. В пределах стен карманники, шлюхи, воры и головорезы могли жить, в общем, как им вздумается. Любая смерть в Будайене не привлекла бы особого внимания в остальном городе.
Полицейский был высоким, крепкого сложения мужчиной, с густыми черными усами и сонными скучными глазами. Но даже в нем мало-помалу пробудилось любопытство: он работал в Будайене пятнадцать лет и никогда еще не задерживал столь юную убийцу.
Кади был молод, тщательно выбрит. Он как мог тянул время, не желая подчиняться имаму. Неясно было, как решать дело – по светским или религиозным установлениям.
Имам ростом даже превосходил полицейского, но был заметно уже в поясе и плечах, хотя и не аскет. В квартале его знали, как сторонника здравого смысла в разрешении повседневных проблем. В земных усладах он себе не отказывал, чтоб не сказать – сибаритствовал. Имама случай с девочкой тоже озадачил.
Бородка у него была коротко подстрижена и уже успела поседеть. Ласковые карие глаза прятались в морщинках, избороздивших щеки и лоб. Как и полицейский, имам некогда был обладателем завидных усов, но те дни давно миновали; ныне он казался добрым мягкосердечным дедушкой. Это было не так, но имам считал, что пользоваться подобной репутацией для его должности полезно.
– Дочь моя... – начал он хрипло. Имам был рассержен. Он предпочитал разъяснять верующим сложные места священного Корана, а не расследовать жестокие убийства на улицах. Такое зрелище представлялось ему совершенно возмутительным и, хуже того, безвкусным.
Джехана посмотрела на него, но имам больше ничего не сказал.
Она отвернулась и уставилась на убитого ею мальчишку.
– Дочь моя, – повторил имам наконец, – скажи, это ты убила несчастного мальчика?
Джехана несмело подняла глаза на старика. Она была плотно затянута в паранджу, хиджаб и бурку: видны были только темные глаза да длинные изящные пальцы, все еще сжимавшие нож.
– Да, о мудрейший, – ответила она, – это я его убила.
Полицейский поглядел на кади.
– Ты молишься Аллаху? – спросил имам. Если б дело происходило не в Будайене, задавать этот вопрос надобности не возникло бы.
– Да, – сказала Джехана. И не солгала. Она несколько раз в жизни молилась. И скоро помолится снова, если повезет выбраться отсюда.
– А знаешь ли ты, что Аллах воспрещает отнимать жизнь у человека, которого Он сотворил?
– Да, о мудрейший.
– Знаешь ли ты, далее, что Аллах установил кару для нарушителей Его закона, возбраняющего отнимать жизнь у человека?
– Да, о мудрейший, я знаю.
– Тогда, дочь моя, расскажи, что побудило тебя отнять жизнь у этого несчастного мальчика.
Джехана разжала пальцы – окровавленный кинжал упал на брусчатку. Глухо стукнувшись о нее, он отлетел к ноге трупа.
– Я убила его, потому что он мог причинить мне зло, – сказала она.
– Он угрожал тебе? – спросил кади.
– Нет, почтеннейший.
– Но...
– Откуда же ты знаешь, что он причинил бы тебе зло? – перебил его имам.
Джехана пожала плечами.
Я это видела много раз. Он повалил бы меня оземь. Он бы меня обесчестил. У меня были видения.
Джехану и троицу мужчин все еще окружала толпа. В этот момент по ней пробежал шепоток.
Имам насупился. Полицейский терпеливо ждал. Лицо кади выражало растерянность.
– Так он не причинил тебе зла этим утром? – уточнил имам.
– Нет.
– И, как ты уже сказала, он еще не причинил тебе зла до этого?
– Нет. Я его не знала. Я с ним даже никогда не разговаривала.
– И все же, – с явственным огорчением заметил кади, – ты убила его. Из-за того, что тебе привиделось во сне?
– Это был не сон, о почтеннейший, это было скорее видение.
– Сон, – пробормотал имам. – Что ж. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не указывал прощать убийство, совершенное из-за навеянного сном умопомрачения.
В толпе крикнула женщина:
– Ей всего двенадцать!
Имам развернулся и протолкался между собравшихся.
– Сержант[3], – сказал кади, – эта девочка ныне вверена вашему попечению. Шариат указывает, как поступить.
Полицейский кивнул и выступил вперед. Схватив девочку за руку, он сковал ей запястья и потащил за собой. Толпа феллаинов[4]расступилась, дав им пройти.
Сержант приволок Джехану в маленькую промозглую камеру, где ей пришлось ожидать решения суда. Рассмотреть ее дело собрались религиозные авторитеты. Судить ее должны были по шариату, то есть – по законам, определенным древним священным Кораном, хотя и несколько видоизмененным по требованиям современности.
Камера была вонючая и тесная, но Джехана в ней чувствовала себя не так уж плохо. Она выросла в Будайене и привыкла к таким условиям.
Какую бы судьбу ни назначил ей Аллах, осталось только дождаться ее.
Ожидание длилось недолго. Ее привели на короткое заседание суда и задали некоторые вопросы. Большая часть ответов уже была дана ею имаму. Она повторила ответы, нисколько не колеблясь. Судьи выглядели печальными, но решительными. В заключение девочку спросили, не желает ли она изменить свои показания. Она отказалась. Старший судья поднялся с места.
– Девица, – начал он с напускным отвращением. – Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет ад[5]. И далее, Пророк сказал: кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто бы убил людей всех[6]. Итак, если бы ты убила сего юношу за то, что он пытался тебя обесчестить, ты была бы оправдана. Однако ты отрицаешь таковые притязания сего юноши. Ты оправдываешь свое деяние снами и видениями. Таковое оправдание не может быть принято судом. Ты виновна и понесешь кару по законам шариата. Приговор будет исполнен завтра утром, перед рассветом.
Выражение лица Джеханы не изменилось, и она не произнесла ни слова. Она уже видела эту сцену – много раз, во множестве видений. Иногда (как сейчас) ее приговаривали, иногда же отпускали на свободу.
Вечером ей принесли поесть. Трапеза, по ее нищенским меркам, была роскошная. Она все съела и хорошо спала той ночью. Когда гражданские и религиозные судебные исполнители явились за ней поутру, она уже проснулась и привела себя в порядок. Имам начал какую–то речь. Джехана его не слушала. Оставшиеся ей действия и движения носили механический, расписанный характер. Она никак не могла на них повлиять и, по правде говоря, не особо ими интересовалась. Ее куда-то повели. Она повиновалась. Ей задали какие-то вопросы. Она ответила первое, что на язык взбрело, когда поняла, что ответить необходимо. Потом ее завели на платформу, воздвигнутую перед большой мечетью Шимаали.
– Ты раскаиваешься в содеянном, дитя мое? — ласково спросил имам, кладя руку ей на плечо.
Джехана поняла, что сейчас надо будет встать на колени и положить голову на камень. Она поежилась.
– Нет, – ответила она.
– Ты все еще испытываешь гнев, дитя мое?
– Нет.
– Тогда пусть дарует Аллах в великой милости Своей тебе прощение, дитя мое.
Имам отошел в сторонку. Джехана не видела палача, но, когда площадь озарили первые лучи рассвета, оттуда, где стояли невольные зрители, долетел дружный вздох – это палач занес топор.
И опустил его.
***
Джехану передернуло. Ей всегда было не по себе, когда она видела свою смерть. И ведь час был не такой поздний. Пятый – последний – призыв к молитве звучал не так давно, а сейчас еще ночь... Праздник возобновился даже с большим шумом, чем прежде. Она понимала, что запланированный ею поступок может привести на плаху. Это ее не останавливало. Она крепче сжала нож, взмолилась, чтобы время побежало быстрей, и задумалась о другом.
***
В конце мая 1925 года они поселились в гостинице на крошечном хельголандском островке в пятидесяти с небольшим милях от немецкого побережья. Джехане обстановка ее номера понравилась, но хозяйка гостиницы, спохватившись, послала мужа отнести багаж Гейзенберга и Джеханы в номер люкс, он же самый дорогой. Аллергию Гейзенберга как рукой сняло, чему он очень обрадовался. Он все еще питал надежды как-то распутать клубок противоречащих друг другу теорий и выкладок, который прикатился за ними сюда из Геттингена.
Хозяйка гостиницы ежеутренне смеряла Джехану суровым взглядом, но хранила молчание. Сам же герр доктор был слишком занят своими исследованиями, чтобы заботиться о тривиальных вопросах морали, репутации и приличествующего молодому человеку поведения.
Как скажется на его репутации побег на Хельголанд, Джехану не заботило тоже. Если кто-то вокруг удивленно поднимал брови, Гейзенберг делал вид, что ничего не замечает. Он вообще, казалось, ничего не замечал, кроме источников опасной пыльцы и острых камней, когда те на прогулках врезались ему в подошвы.
Джехана тем временем размышляла над реакцией старой хозяйки. Она прожила на свете двадцать шесть лет. Жизнь у нее, впрочем, выдалась не из легких, и чья-то недовольно поднятая бровь занимала в ее личном списке проблем одно из последних мест. Она слишком часто видела голодающих и больных, обездоленных и нищих, несчастных, убитых во имя Аллаха, в частности – обезглавленных своевольным решением шариатского судьи.
Все эти годы Джехана возила с собой с места на место отцовский окровавленный кинжал, спрятав его глубоко в стопке шерстяных свитеров. С годами кинжал не стал менее смертоносен.
На острове Гейзенбергу полегчало, а из окон номера открывался великолепный вид на море. Настроение у физика тоже поднялось. Однажды утром, прогуливаясь с ним по берегу, Джехана процитировала священный Коран:
– Это сура «Землетрясение», – сказала она. – Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Когда сотрясется земля своим сотрясением, и изведет земля свои ноши, и скажет человек: «Что с нею?» – в тот день расскажет она свои вести, потому что Господь твой внушит ей. В тот день выйдут люди толпами, чтобы им показаны были их деяния; и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его.
Тут Джехана разрыдалась, поскольку понимала, что, как бы ни старалась она творить добро, содеянного ею зла тому не перевесить. Гейзенберг оставался равнодушен: он смотрел на серые, неспешно бившие в берег океанские волны. Священные стихи не произвели на него особого впечатления, но немного погодя он отозвался, и Джехана поняла, что какие-те ее слова все же зацепили его:
– ... и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, – повторил он, подчеркивая каждое слово. Уголки его рта растянула медленная, осторожная улыбка.
Джехана обвила его рукой за плечи – он, кажется, продрог? Она отвела Гейзенберга назад в гостиницу. Действительно, холодало, в воздухе повисла туманная морось. Они сидели в номере и слушали крики носившихся над самой водой и пляжами птиц-рыболовов. Джехана снова задумалась о процитированных словах. Сура толковала о конце света. А Гейзенберг думал только о начале – и о надежно сокрытых в нем тайнах.
Ежедневные прогулки по острову доставляли им удовольствие. Джехана стала носить с собой Коран – гораздо чаще, чем прежде, и часто читала Вернеру отдельные аяты. Они сильно разнились с библейскими стихами, на которых его воспитывали в детстве. Гейзенберг терпеливо выслушивал их, но никогда не комментировал. Впрочем, в сознании его после этого зарождались странные картины.
Джехана уверилась наконец, что он выздоровел: Вернер снова полностью отдался распутыванию безнадежно затянутых узлов квантовой физики. Это было его призвание – и одновременно средство отдыха. Он рассказывал Джехане, что лучшие ученые мира отчаянно пытаются свести воедино экспериментальные данные, составить теорию, математическую модель, которая бы объясняла их все. Но, какой бы способ ни испытывался, полного согласия с экспериментом достигнуть не удавалось. Он был уверен, что у него это наконец получилось. Он сам не понимал, как, но был уверен, что это так. Впрочем, по-настоящему углубиться в проблему он еще не смел.
Джехану это, в свою очередь, не слишком впечатлило.
– Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к ложным божествам, хотя им приказано не веровать в них? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение[7].
Гейзенберг расхохотался.
– Здесь твой Аллах не о Геттингене говорит, не-е-е-ет, – сказал он, отсмеявшись. – Он имеет в виду Бора и Эйнштейна в Берлине.
Джехана нахмурилась, задетая его пренебрежением. Это была насмешка неверного – кафира – над истинной верой. Как глубоко укоренилось в ней самой чувство сопричастности старой религии, а ведь та, вообще говоря, никогда не имела над Джеханой особой силы! Ей подумалось: а что, если сейчас, спустя все эти годы, снова пройтись по узким, заполненным беднотой улочкам Будайена, протолкаться меж лязгающих повозок, стен и лотков? Каково бы ей стало?
– Не смей так говорить, – только и сказала она.
– А? – вскинулся Гейзенберг.
Он уже успел забыть, что ей говорил.
– Ладно, - сказала Джехана. – Глянь туда. Что ты видишь?
– Океан, – ответил Гейзенберг. – Волны.
– Аллах сотворил эти волны. Что ты об этом творении знаешь?
– Гм. Я могу измерить их амплитуду, определить частоту...
– Измерить! – фыркнула Джехана. Долгие годы научной работы внезапно отступили перед напором оскорбления, нанесенного унаследованной от предков вере, как бы мнимо это оскорбление (и сама вера) ни было. – А вон туда глянь! – потребовала она. – Вот – пригоршня песка. Аллах сотворил песок. Что ты о нем знаешь?
Гейзенберг не понимал, куда Джехана клонит.
– Располагая соответствующим оборудованием, – начал он осторожно, слегка опасаясь снова ее обидеть, – и подобрав настройки, я мог бы отделить одну-единственную песчинку и сказать...
Он замолчал. Потом медленно, осторожно, как старик, поднялся на ноги.
– Посмотрел на море, опустил взгляд на побережье, снова скользнул глазами по воде.
– Волны... – пробормотал он. – Волны и частицы – одно и то же! Никакой разницы. Значимо только то, что мы можем измерить. Боровские орбиты не поддаются измерению, потому что их в действительности не существует! Наблюдаемые спектральные линии обусловлены переходами из одного состояния в другое. Пары состояний! Это потребует совершенно нового математического формализма. Придется составить таблицы с перечислением всех допустимых...
– Вернер.
Джехана понимала, что теперь он для нее потерян.
– Расчеты отнимут много дней, если не недель – одни только расчеты!
– Вернер, послушай меня, пожалуйста. Этот остров так мал, что ты можешь отсюда добросить камушек до другого берега. Я не собираюсь сидеть на пляже и мерзнуть, дожидаясь, пока ты соблаговолишь отвлечься от своего изумительного открытия, в чем бы оно ни состояло. Ты меня слышишь? ДО СВИДАНИЯ!
– А? – Гейзенберг моргнул и вернулся в ускользавшую от него реальность. – Джехана, что ты сказала?
Она не смотрела на него. Она опустилась на корточки и просеяла пригоршню песка между пальцев другой руки.
Ей внезапно вспомнилось, что, если у верующего нет воды для омовения при намазе, допустимо омыть лицо и руки чистым песком.
Она расплакалась.
Если Гейзенберг что-то и сказал ей, она не услышала, что именно.
***
В переулке миновала еще пара часов. Стало холоднее. Джехана плотнее запахнулась в бурку и сделала несколько шагов туда-сюда.
Эта ночь являлась ей в видениях уже четыре года. Просверками всех возможных исходов. Иногда в конце переулка вскоре после восхода солнца ее встречал юноша. Иногда юноши там не оказывалось. Иногда она убивала его. Иногда – нет.
Какие именно поступки приведут ее на казнь или же даруют свободу, вопрос отдельный.
Впервые столкнувшись с таким видением, она не поняла, что происходит, что именно она видит. Запомнила только страх, боль, ужас.
Юноша свалил ее наземь, содрал одежду и грубо изнасиловал.
Видение оборвалось. Джехана никому не рассказала о нем: в семье ее приняли бы за полоумную.
Тремя месяцами позже видение повторилось. В некоторых деталях оно отличалось от предыдущего. Она, как и прежде, шла по переулку. На сей раз она улыбнулась юноше и приветливо помахала ему рукой. Он улыбнулся в ответ и пошел за ней вглубь переулка. Когда он положил руку ей на плечо, она выхватила отцовский кинжал и воткнула ему в живот.
Видение снова оборвалось. Она испугалась даже сильнее, чем в тот раз, с изнасилованием.
Время бежало, видения принимали иные формы. Она уверилась, что наблюдает не свое будущее, не какое-то определенное будущее, но множество их, равновероятно предстоящих.
Не все видения были истинны. В некоторых она видела себя старухой, живущей здесь, в этом городе, в грязном бедняцком квартале Будайен. В других – странствовала по странным местам, явно за пределами исламского мира, и говорила на языках, явно отличавшихся от арабского. Она не знала, о чем ей пытаются в этих противоречивых видениях рассказать или предупредить. Джехана молилась, чтобы ей даровали знание, какие из версий ее будущей жизни осуществятся.
Вскоре, словно в награду за крепость ее веры, видения стали не так жестоки. Она заглядывала в будущее на краткое время, находила потерянные вещи, предупреждала о падении или взлете цен на овощи и фрукты, отговаривала от неудачных путешествий. Соседи сперва изумлялись, потом стали сторониться девочки.
Мать Джеханы посоветовала ей ни с кем не говорить об этих видениях, чтобы девочку не заперли в каком-нибудь жутком учреждении. Отцу Джехана вообще ни разу ничего не рассказала о видениях, по той простой причине, что она ему никогда ни о чем не рассказывала. В ее семье, как во всех будайенских семьях – и в семьях этого города, – отец не слишком интересовался жизнью дочерей. Сыновьями он гордился – а у него было трое статных красавцев, которые, как полагал отец, вскоре прославят и обогатят семью Ашуфи. Джехана знала, что он ошибается. Она уже видела, что с ними станет. Двоих убьют в войнах с евреями, третий, трус и слабак, позорно сбежит в Соединенные Штаты.
Джехана ничего не сказала отцу.
***
Видение.
Рассвет только что разгорелся. Юноша крался по брусчатке следом за Джеханой. Джехана не знала его имени. Ей не суждено было его узнать.
Джехана понимала, что это он. Оглядываться не было нужды. Она глубоко вдохнула, прошла еще несколько шагов; не утерпела, глянула влево, поймала его движение боковым зрением. Изобразив какой-то неясный жест, она углубилась в переулок. Она была уверена, что он последует за ней.
У нее ныло и урчало в животе от голода и нервного истощения.
Когда юноша положил ей руку на плечо и пробормотал непристойное предложение, она нащупала скрытый в бурке кинжал, но не вынула его. Не успела.
Юноша свалил ее наземь, содрал одежду и грубо изнасиловал.
Потом оставил лежать в переулке. Она не могла двинуться с места. Она кричала, плакала, ползала по мокрым вонючим камням.
Спустя неисчислимое время двое женщин обнаружили ее и отнесли к доктору. Худшие страхи подтвердились. Она была непоправимо обесчещена.
Жизнь ее оборвалась – в том смысле, что вернуться к нормальной жизни и вырасти в исламской общине, став обычной женщиной, она уже не смогла бы.
Одна из женщин оттащила Джехану домой и поведала о случившемся ее матери. Мать вынужденно поведала отцу.
Джехана пряталась в комнатушке, которую делила с сестрами. Она слышала, как отец в бешенстве крушит мебель и осыпает дочь ругательствами. Сделать уже ничего было нельзя. Джехана не знала имени насильника. Жизнь ее была разрушена. Ценности в ней не осталось никакой.
Она больше не девственница, и за нее не удастся запросить вено. Все эти годы он растил бесполезную приживальщицу, надеясь разом отбить все затраты брачным соглашением – и надежды эти теперь рухнули. Отец Джеханы считал ее предательницей.
К Джехане вообще никто не испытывал симпатии. История ее несчастья – хотя она могла быть другой – поневоле согласовывалась с известными им фактами.
Только мать и сестры плакали о ней, когда, еще до конца утра, Джехану выгнали из дома с запретом возвращаться до конца ее дней. Отец и трое братьев не смотрели ей вслед.
Годы понеслись еще стремительнее. Джехана стала уличной проституткой. Сперва она вела сносную жизнь, ибо была молода и красива. Десятилетия унесли ее красоту, и вскоре ей не по силам было даже заработать на еду и ночлег. Она старилась, мрачнела и казнила себя. Ненавидела ли она отца и остальных родичей? Нет. Судьбу ее определил Аллах, хотя все в ней противилось такому ответу. Или, скорее, ее собственная недопустимая нерасторопность в том переулке, много лет назад.
Она не могла решить.
Каким бы ни был истинный ответ, мудрость его не озаряла ее жизни. Жила она так, как жила, как распорядился милосердный Аллах. Если пути Его неисповедимы, что ж, ее понимания и не требуется.
Она умерла от голода и болезней. Так получилось, что скрюченное в попытке согреться, облаченное в жалкие лохмотья тело ее обнаружили в том самом переулке, где много лет назад неизвестный юноша отнял у Джеханы все то скудное счастье, каким она располагала в этой жизни.
В этом мире.
Никто не оплакивал ее. Разве что Всевышний Аллах, на миг сжалившись, преклонил к ней Свое око; от соседей, среди которых одно время жила, она такого не удостоилась.
Здесь Джехану всегда принимали холодно.
***
Отношения с Гейзенбергом вскоре расстроились. Джехана отправилась к Эрвину Шрёдингеру в Цюрих. Сперва идеи Шрёдингера ее смущали, казались противоречащими основным посылкам теории Гейзенберга. Со временем Гейзенберг отверг простую картину строения атома – отказался от всех моделей.
Шрёдингер был старше и консервативнее геттингенцев. Он пытался объяснить квантовые явления, не прибегая к новой математике и непостижимым аналогиям. Электрон в представлении Шрёдингера описывался волновой функцией, отличной, однако, от волны де Бройля.
Волновая механика физического мира была хорошо исследована и не допускала двусмысленных трактовок. Но стоило Шрёдингеру рассчитать возмущение электронной волны от смены энергетического уровня, как теория расходилась с экспериментом.
Что же я не учитываю? – думал он вслух.
Джехана покачала головой.
- Там, откуда я родом, говорят, что не стоит выливать воду из бочонка, прельстившись миражом.
Шрёдингер потер слезившиеся глаза, скользнул взглядом по толстой стопке бумаг.
- А откуда мне знать, пригодна ли моя вода для питья или взята из канализации?
Джехана не ответила. Шрёдингер досадливо швырнул стопку на стол.
Через несколько месяцев в печати появились статьи, в которых было показано, как при учете релятивистских эффектов расчеты Шрёдингера демонстрируют превосходное согласие с экспериментальными данными.
Шрёдингер был восхищен.
- Я знал, я чувствовал сердцем, что квантовая физика способна описать реальный мир, а не обитель призраков, управляемую призрачными же силами.
– Все это кажется мне нереальным, – сказала Джехана. – Если вы считаете электрон волной, значит, это призрак. Он как океан. Вода создает волну. В случае звука – воздух служит материальным переносчиком волны. Что стоит за волнами в ваших уравнениях?
– Борн говорит, что это волна вероятности. Я и сам до конца не понимаю своих расчетов, – признал он. – Однако они слишком многое объясняют, чтобы оказаться неверными.
– Герр доктор, – нахмурилась Джехана, – а не может ли быть так, что мираж не в пустыне, а в вашем бочонке?
Шрёдингер рассмеялся.
– Может быть, и так. Но я скорее отброшу эти аналогии, чем свою математику.
***
Предвечерняя жара, безоблачно; арабам погода не доставляла неудобств, а вот немногочисленные европейцы страшно изнывали. Круизный корабль зашел в маленький порт, откуда организовали туристическую поездку в крупный город милях в пятидесяти к югу. Через два часа после отправления путешественники пришли к выводу, что это решение ошибочно, однако отступать было уже некуда.
Среди туристов был Давид Гильберт, немецкий математик, преподававший в Геттингенском университете с 1895 года. Его сопровождали жена Катрина[8] и служанка Клэрхен. Сперва их восхищала непостижимая чуждость восточного города, звуки, запахи и достопримечательности, но вскоре новизна ощущений притупилась, и экзотика стала утомлять. Медленно проталкиваясь через базарные площади и без особого успеха укрываясь от солнца под навесами и зонтами, они только и мечтали о дуновении свежего ветерка. Арабы в длинных белых галабеях зычно зазывали покупателей, неустанно поглядывая на туристов. Трудно было предположить, что они говорят. Кое-кто тащил маленькие повозки, наполненные чашками и горшками с темной жидкостью – вода? чай? лимонад? Какая, впрочем, разница? Холера везде. Едва ли не каждый бродяга переносит тиф.
Чуть живая, жена Гильберта махала веером. Она близка была к обмороку, и Гильберт растерянно оглядывался кругом.
– Давид, – пробормотала Клэрхен, одна из немногих любовниц Гильберта, которых фрау Катрина терпела возле себя, – пожалуй, на сегодня достаточно.
– Знаю, – откликнулся он, – но я же ничего не...
– Вон какие-то дамы и господа. Думаю, они тут обедают. Оставьте там нас с Катриной и найдите какой-нибудь экипаж. Потом отвезите нас в порт, пожалуйста.
Гильберт колебался. Ему не хотелось оставлять двух фактически беззащитных женщин на бурлившей рыночной площади. Все же внезапная бледность жены убедила его, а увидев, как ее белки закатились, как она обессиленно осела на плечо Клэрхен, математик решился.
– Я помогу, – кивнул он. Они эскортировали фрау Гильберт в ресторанчик – тут было так же жарко, но, по крайней мере, крутились потолочные вентиляторы. Гильберт представил себя и своих спутниц хорошо одетому мужчине, сидевшему за лучшим столом в компании жены и четверых детей. Ему пришлось испробовать три иностранных языка, прежде чем его поняли. Он объяснил, что случилось, и его попросили не беспокоиться.
Гильберт развернулся и выбежал из ресторанчика в поисках экипажа.
Улиц в европейском смысле этого слова тут не было. Он немедленно сбился с пути; узкие проходы между старинных зданий превращались в переулки, улочки, расширялись до маленьких площадей и сужались опять, заводили в тупики, кружили. Гильберт совсем отчаялся, когда выбежал обратно на сукк[9], вроде бы тот же самый, с которого начал путь, и обрадованно огляделся в поисках ресторанчика. Он ошибся: сукк был другой, в городе их наверняка сотни.
Гильберт начал паниковать. Даже если он отыщет извозчика – как указать ему путь на ту площадь, где ждут жена и Клэрхен?
Тяжелая рука опустилась на его плечо, и математик безуспешно попытался разжать сильные мужские пальцы, стиснувшие его. Он поднял голову и уставился в худое испитое лицо человека в полосатом халате и синем кепи. Араб повторял несколько слов, которых Гильберт не понимал.
Незнакомец взял Гильберта за руку и то ли повлек, то ли потащил за собой через толпу. Гильберт не сопротивлялся. Они миновали два базара, одну лавку жестянщика и одну – мебельщика. Открылась вымощенная крупными булыжниками улица, ведущая к большой площади. На противоположной стороне площади возвышалась величественная мечеть со множеством башенок, сложенная из розового камня. Гильберта поразила красота сооружения – на его взгляд, оно ничем не уступало Тадж-Махалу.
Непрошеный проводник тащил его все дальше через толпу; временами приходилось толкаться и наступать на ноги, чтобы расчистить Гильберту путь. На площади негде яблоку было упасть. Вскорости Гильберт понял, почему: в центре воздвигли платформу, на которой стоял крупный мужчина. Топор в его ручище не оставлял сомнений в избранном им занятии: то мог быть только палач. Гильберта замутило: арабский проводник безжалостно волок его через площадь, пока они не очутились у самого подножия платформы.
Он увидел полицейских в униформе и бородатого старика, ведущего перед собой юную девушку. Толпа расступилась перед ними. Девушка была ослепительно красива. Гильберт встретился с ней взглядом и чуть не утонул в огромных темных глазах – «глаза, как у газели», всплыли в смятенном сознании строки Омара Хайяма. Он заметил, что девушка очень худа, и даже сравнительно свободная скромная одежда этого не скрывала.
Девушка поднялась по ступеням к платформе и снова посмотрела математику прямо в глаза. Гильберта просто тошнило; он почувствовал, как ноги подгибаются. Девушка отвела взгляд.
Араб что-то крикнул Гильберту в ухо. Математик не понял его. Он в ужасе смотрел, как Джехана опускается на колени, а палач заносит над ней свой инструмент. По толпе прокатился жалобный глухой вскрик. Гильберт увидел на своем костюме маленькие темно-красные точки. Кровь. Араб закричал на него и сильно сжал руку, пока Гильберт не отступил и не полез за бумажником свободной рукой. Араб довольно улыбнулся. Через его голову Гильберт увидел, как несколько помощников палача уносят обезглавленное тело девушки.
Араб не отпускал его, пока Гильберт не уплатил баснословную сумму.
***
В переулке прошел еще, может быть, час. Джехана отошла в самую темную его часть и села там, подтянув колени к подбородку, прислонившись к сложенной из грубых кирпичей стене. Если поспать, сказала она себе, ночь пройдет быстрее. Но если не бороться со сном... Что, если она проснется поздно утром, когда всякая возможность изменить ход вещей уже будет давно потеряна?
Единственный ее спутник в ночном бдении, полумесяц, покинул небосклон. Джехана задрала голову. Между крыш виднелись фрагменты созвездий. Знакомые в сочетаниях, звезды теперь были неотождествимы поодиночке. У людей все наоборот. Она вздохнула. Она не привыкла к таким умным мыслям.
Да какие там умные мысли? Ее просто сморило чуток.
Она позволила голове упасть на колени. Обхватила руками щиколотки. Большая часть ночи уже миновала. На улице тихо. До рассвета, наверное, от силы часа три...
***
Вскоре оказалось, что волновая механика Шрёдингера эквивалентна матричной механике Гейзенберга. Это подтвердило работы обоих ученых и послужило весомым аргументом в пользу квантовой физики как таковой. Хотя упрощенное представление об электроне – волновая картина Шрёдингера – было отброшено, математика, стоявшая за ним, не поколебалась. Джехана вспоминала, как Шрёдингер предсказывал, что так и придется поступить.
Она вернулась в Геттинген, к Гейзенбергу. Он простил ей «глупую выходку».
Он был рад ее возвращению. Он ее действительно любил, и ему еще столько надо было исследовать... Он только что закончил формальный вывод того, что впоследствии станет известно, как принцип неопределенности Гейзенберга. Принцип этот впервые высветил неизбежность вмешательства наблюдателя в развитие вселенной на субатомном уровне. Джехана быстро освоилась с концепцией Гейзенберга, другие же ученые, как правило, полагали, что Вернер попросту ударился в тривиальную критику экспериментальных погрешностей. Но работа Гейзенберга имела куда большее значение. Гейзенберг указывал, что вообще невозможно определить одновременно координаты и момент импульса электрона. Ни при каких условиях. На это даже надеяться нельзя. Он навеки уничтожил представление об идеальном беспристрастном наблюдателе.
– Наблюдать – значит возмущать, – подытожил Гейзенберг. – Ньютону бы это не понравилось, я так чувствую.
– Эйнштейну и прямо сейчас это не нравится, – сказала Джехана.
– Хотелось бы мне иметь под рукой блокнот, чтобы каждый раз отмечать в нем момент, когда он произносит свое дежурное «Бог не играет в кости».
– Ну, он так видит «волну вероятности» – пока не посмотришь, не определишь траекторию электрона, а как только посмотришь, изменишь информацию о ней.
Может быть, Бог действительно не играет в кости, – протянул Гейзенберг. – Может статься, он играет в «двадцать одно». И если Ему не хватает в рукаве нужного туза, Он создает его себе – сперва рукав, потом туза. Таким образом, вероятность выпадения двадцати одного превосходит статистически правдоподобную. Джехана, да уймись ты, я не богохульствую! Я же не говорю, что Бог – мошенник. Нет. Он создал Правила Игры. И ныне продолжает их создавать. Это дает ему несомненное преимущество над бедолагами физиками, которые соображают слишком медленно. Мы все равно что крестьяне – смотрим за ловкими фокусами того, кто может оказаться равно гением и шарлатаном[10].
Джехана задумалась над этой метафорой.
– На Сольвеевском конгрессе Бор предложил принцип дополнительности. Что, пока электрон не обнаружен прибором, он ведет себя как волна, а потом волновая функция – р-раз! – коллапсирует, и мы уже знаем, где он находится. И теперь уже электрон ведет себя как частица. Эйнштейну это тоже не понравилось[11].
– Это Божье шулерство, – пожал плечами Гейзенберг.
- Что же, священный Коран говорит: Они спрашивают тебя о вине имайсире[12]. Скажи: «В них обоих – великий грех и некая польза для людей, но грех их – больше пользы»[13].
- Забыть кости и карты? – улыбнулся Гейзенберг. – А какая же азартная игра позволительна в глазах Аллаха?
- Физика, – ответила Джехана.
Гейзенберг расхохотался.
***
- А знаешь ли ты, что Аллах воспрещает отнимать жизнь у человека, которого Он сотворил?
- Да, о мудрейший.
- Знаешь ли ты, далее, что Аллах установил кару для нарушителей Его закона, возбраняющего отнимать жизнь у человека?
- Да, о мудрейший, я знаю.
- Тогда, дочь моя, расскажи, что побудило тебя отнять жизнь у этого несчастного мальчика.
Джехана разжала пальцы – окровавленный кинжал упал на брусчатку. Звонко стукнувшись о нее, он отлетел к ноге трупа.
- Я праздновала Ид-эль-Фитр, – начала она. – Этот юноша пошел за мной. Я напугалась. Он начал делать всякие грязные жесты и говорить о недозволенном. Я пустилась бежать, но он последовал за мной. Он сгреб меня за плечи и прижал к стене. Я пыталась вырваться, но не могла. Он смеялся надо мной и бил раз за разом. Он протащил меня по самой узкой улице, где некому было нас увидеть. Он приволок меня в это гнусное место. Он сказал, что обесчестит меня, и подробно описал, как именно. Тогда я нашарила под одеждой кинжал, который мне дал отец, и ударила его. Всю ночь я молила Аллаха о прощении, ибо содеянное мной ужаснуло меня даже более, чем то, что намеревался сотворить со мной этот юноша.
Рука имама дрожала, когда он касался ею щеки Джеханы.
- Аллах всеведущ и милосерден, дочь моя. Позволь мне проводить тебя в твой дом и облегчить терзания сердечные твоих родителей.
Джехана упала к его ногам.
- Благодарение Аллаху, – пробормотала она.
- Слава Аллаху! – откликнулись в унисон имам, полицейский и кади.
Спустя более чем десять лет Джехана рассказала эту историю своим дочерям. Но в те дни дети уже не слушали предупреждений взрослых, так что сыновья и дочери Джеханы все равно натворили много глупостей.
И, наконец, даже в узкий переулок, где притаилась Джехана, прокрался рассвет. Ей страшно хотелось спать, она проголодалась. Она встала и сделала несколько шагов. Все мышцы затекли, сердце колотилось так, что в ушах отдавало. Чтобы не упасть, Джехана оперлась рукой на стену переулка. Медленно подобравшись к выходу из него, она высунула голову за угол и осмотрелась.
Никого.
Ни слева, ни справа насильника видно не было.
Джехана для верности подождала, пока появятся первые прохожие, спешащие к делам нового дня. Потом снова спрятала кинжал в рукаве и выскользнула из переулка.
Надо было возвращаться домой, помогать матери готовить завтрак.
***
Джехане Фатиме Ашуфи было немногим больше сорока лет. Ее темные волосы были коротко подстрижены, глаза – обрамлены усталыми морщинками, красота – украдена годами бессонницы и неправильного питания. Одевалась она обычно в белый лабораторный халат с приколотой на груди картонкой, где были запечатлены ее имя и ученая степень: фрейлейн профессор доктор Ашуфи.
Жила она теперь не в Геттингене, а в Берлине, и понимала, что война проиграна. Она все еще сотрудничала с Гейзенбергом. Он как мог защищал ее, пока их ученые степени и достижения не стали самодостаточной защитой. Нацистские бонзы нехотя признали ее «почетной арийкой», как поступали с еврейскими физиками и математиками, в чьих талантах нуждались. Джехана не осталась бы в Германии, если бы не давняя привязанность к Гейзенбергу; впрочем, война ее мало занимала. Немцы не были ее народом. Как и британцы, как и французы, как и русские, как и американцы. Интересовали ее только работа, совершенствование физических теорий, неутолимая жажда открытий.
И потому Джехана обрадовалась, когда немецкий атомный проект убрали из сферы ответственности вермахта и передали исследовательскому совету при рейхсканцелярии. Прежде всего следовало созвать научную конференцию в Институте физики имени кайзера Вильгельма в Берлине. Режим секретности был предельный, перечень тем докладов разглашать не разрешалось, чтобы иностранные разведчики не сделали далеко идущих выводов, увидев в программе конференции такие термины, как «сечение реакций деления ядра» или «изотопное обогащение».
Одновременно исследовательскому совету поручили созвать и провести вторую конференцию, на которой нацистским чиновникам высшего звена популярно объяснили бы, в чем польза работы физиков для Вечного Рейха. Сотрудники Института кайзера Вильгельма должны были простым языком изложить ключевые результаты своих исследований и уведомить военных и политических лидеров, как продвигается работа над созданием ядерного оружия. Лишь после этой презентации для умственно отсталых физики наконец смогут собраться вместе и обсудить те же самые проблемы на привычном техническом языке.
Гейзенбергу идея понравилась. Шел 1942 год. Финансовую и политическую поддержку становилось выбивать все тяжелее. Армия оттягивала почти все доступные ресурсы в ракетную программу, поскольку эксперименты ядерщиков не давали очевидного результата. Гейзенберг был теоретиком, а не инженером, и не умел им объяснить, что процесс обогащения урана для ядерной бомбы с необходимостью будет неспешен и дотошен. Теория этого процесса только развивалась. Каждый следующий этап надлежало досконально протестировать, а эксперименты поглощали кучу времени и денег. Рейху же требовались только положительные результаты.
Как-то вечером Джехана задержалась в административном здании исследовательского совета – напечатать свои предложения по совершенствованию техники изотопной сегрегации. На столе она заметила две стопки бумаг. Перелистав их, Джехана поняла, что в одной содержатся краткие сводки, приготовленные физиками для рейхсминистров, не отличавшихся особыми познаниями в точных науках. Эти бумаги она убрала в портфель.
Вторая стопка содержала секретные тезисы собственно физической конференции.
Профессор д-р Шуман:Ядерная физика в военном деле.
Профессор д-р Ган:Расщепление атома урана.
А вот и Гейзенберг.Теоретические основы производства энергии путем расщепления ядра.
Ну и так далее. Для каждого участника конференции был приготовлен свой экземпляр тезисов, и за него следовало расписаться при входе в зал.
Джехана задумалась и припомнила свое нищее детство, потом – прибытие в Европу, всех людей, кого тут узнала, все события, в которых приняла участие. Германия менялась, а Джехана безвылазно сидела в замке из слоновой кости научных абстракций: окружающий мир ее мало интересовал.
Потом она представила себе, что эта новая Германия может сделать, располагая атомной бомбой. И поняла, как поступить.
У нее ушло всего несколько минут, чтобы рассовать по заготовленным и подписанным конвертам, предназначенным для лидеров Третьего Рейха, полные технических деталей тезисы. Тем самым она гарантировала, что на конференцию никто из них не явится.
Джехана превосходно представляла себе, какое впечатление произведет научная тарабарщина на политиков и военных, а главное, какой будет их реакция – короткие вежливые отписки: я-де не смогу присутствовать на конференции из-за крайней занятости, меня-де в этот день, к великому сожалению, не будет в Берлине.
Как легко!
Правители Рейха не интересовались болтовней ученых. Все, что они желали знать, это насколько близка Германия к созданию атомной бомбы. Теперь шанс справиться с этой задачей вовремя, успеть спасти Рейх будет упущен безвозвратно, потому что в нескольких конвертах оказались неправильные письма.
***
Джехана очнулась и увидела, что ночь уже на исходе; вскоре небосклон озарят первые лучи солнца. Вскоре она получит ответы на свои вопросы. Узнает, пройдет ли юноша стороной или потянется за ней в переулок. Узнает, изнасилует ли он ее или же она найдет в себе смелость защищаться. Узнает, будет ли признана виновной и казнена – или же ее оправдают. И, наконец, все это закончится – все, что ее так истомило. Она очень проголодалась, ей стоило немалых усилий не сорваться с места и не кинуться домой. Все же она продолжала бдение. Она всегда верила, что видения даровал ей Аллах. Если она пренебрежет предостережениями Всевышнего, Он может разгневаться.
Так – во имя Аллаха и ради собственной чести – она неохотно осталась смотреть, как умирает ночь. С прошлого вечера ее посетило больше видений, чем за какой бы то ни было день ее жизни. Некоторые были ей знакомы, некоторые – внове. В каком-то смысле она переживала свою собственную Ночь Предопределения[14] – наподобие той, какой сподобился Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
Джехане стало стыдно: как осмелилась она сравнивать себя с Посланником Господа?
Она пала на колени, обратила лицо к Мекке и взмолилась Аллаху. Она прочла одну из заключительных сур священного Корана, «Утро» – та показалась Джехане наиболее уместной.
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Клянусь утром и ночью, когда она густеет! Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. Ведь последнее для тебя-лучше, чем первое. Ведь даст тебе твой Господь, и ты будешь доволен. Разве не нашел Он тебя сиротой – и приютил?
И нашел тебя заблудшим – и направил на путь? И нашел тебя бедным и обогатил?
И вот сироту ты не притесняй, а просящего не отгоняй, а о милости твоего Господа возвещай.
Окончив чтение, она поднялась и прислонилась к стене. Интересно, возвещает ли эта сура, что вскоре ей самой суждено осиротеть?
Она надеялась, что Аллах поймет ее правильно, увидит, что Джехана никогда не желала никаких бед своим родителям.
Какие бы страдания ни уготовила ей воля Аллаха, Джехане представлялось бесчестным перекидывать их на отца и матушку.
Воздух был холоден и влажен. Она поежилась, пригляделась, не светлеет ли небосвод. Ей показалось, что первые звезды уже уходят с небес.
***
На площади негде яблоку было упасть. Вскорости Гильберт понял, почему: в центре воздвигли платформу, на которой стоял крупный мужчина. Топор в его ручище не оставлял сомнений в избранном им занятии: то мог быть только палач. Гильберта замутило: арабский проводник безжалостно волок его через площадь, пока они не очутились у самого подножия платформы. Он увидел полицейских в униформе и бородатого старика, ведущего перед собой юную девушку. Толпа расступилась перед ними. Девушка была ослепительно красива. Гильберт встретился с ней взглядом и чуть не утонул в огромных темных глазах – «глаза, как у газели», всплыли в смятенном сознании строки Омара Хайяма. Он заметил, что девушка очень худа, и даже сравнительно свободная скромная одежда этого не скрывала. Девушка поднялась по ступеням к платформе и снова посмотрела математику прямо в глаза. Гильберта просто тошнило; он почувствовал, как ноги подгибаются. Девушка отвела взгляд.
Араб что-то крикнул Гильберту в ухо. Математик не понял его. Он в ужасе смотрел, как Джехана опускается на колени, а палач заносит над ней свое орудие труда.
Гильберт страшно закричал. Проводник пытался удержать иноземца, но Гильберт яростно сдернул его руку с плеча и отшвырнул араба в группку женщин с лицами, скрытыми под паранджами. Те брызнули врассыпную. Гильберт птицей взлетел на эшафот. Имам и полицейский недовольно уставились на него. Толпа загудела, разъяренная вмешательством европейца-кафира. Гильберт подбежал к полицейскому.
– Вы должны это остановить! – закричал он по-немецки. Они не поняли его и попытались спихнуть с плахи.
– Стойте! – крикнул он по-английски.
– Нельзя это остановить, – враждебным тоном отозвался один из полицейских. – Девочка совершила убийство. Ее признали виновной. Она не может откупиться от семьи убитого. Она умрет.
– Откупиться?! – заорал Гильберт. – Варвары! Убиваете девочку за то, что она бедна? Откупиться! Я ее выкуплю! Сколько они хотят? Я заплачу!
Полицейский переговорил со своими коллегами и имамом. Говоривший по-английски офицер ответил:
– Четыреста киамов.
У Гильберта затряслись руки, но он полез за бумажником. Пересчитал деньги и с неприкрытым омерзением отдал их полицейскому. Имам что-то прокряхтел. Слова его быстро разнеслись по толпе. Зрители были явно недовольны таким неожиданным завершением утренней потехи.
– Берите девчонку и убирайтесь, – сказал полицейский. – Мы не сможем вас защитить. Толпа разгневана.
Гильберт кивнул, схватил Джехану за тонкое запястье и повлек за собой. Она что-то спрашивала у него по-арабски, но он, разумеется, не мог ответить. В них швыряли камни. Мысли Гильберта метались, он не знал, выберется ли с площади перед мечетью живым и сумеет ли уберечь девочку. В Геттингене над ним немало подтрунивали, зная его слабость к молоденьким девушкам. Только ли этим он руководствовался, решив спасти девочку и взять ее с собой в Германию? Или чем-то более... возвышенным? Он так и не узнал. Он сам себе поражался. Прикрывая девочку от летевших из толпы камней, утирая с лица кровь, он думал только о том, как объяснит все случившееся своей жене, Катрине, и молодой Клэрхен.
***
В 1957 году Джехане Фатиме Ашуфи было пятьдесят восемь лет, и жила она в Принстоне, штат Нью-Джерси. Так получилось, что здесь же под конец жизни поселился Альберт Эйнштейн, и до самой его смерти в 1955 году Джехана была частой гостьей в доме великого ученого. Сперва Джехане нравилось обсуждать с Эйнштейном квантовую физику – она даже процитировала ему отповедь Гейзенберга на давний аргумент Эйнштейна о том, что Бог не играет со Вселенной в кости. Эйнштейна ответ Вернера не впечатлил, и после того они беседовали в основном о старых добрых деньках в Германии, еще до того, как нацисты пришли к власти.
Сегодня, однако, Джехана сидела в главной аудитории Принстона и слушала, как молодой человек представляет на суд общественности весьма интересную диссертацию. Звали его Хью Эверетт, и в работе его весьма простым и изящным, но головокружительно странным способом разрешались все парадоксы квантового мира. Идея Эверетта включала в себя копенгагенскую интерпретацию как частный случай и отводила все возражения, какие только могли придумать не столь раскованные интеллектуально физики. Эверетт начал с того, что подчеркнул исключительную точность предсказаний квантовой механики: они неизменно подтверждаются экспериментом. Квантовая механика, несомненно, истинна. Проблемы начинались, когда квантовая теория предлагала дурно пахнущие альтернативы.
Взять хотя бы парадокс кота Шрёдингера – получается, что кот в ящике ни жив, ни мертв, это вообще не кот, а так, квантовая волновая функция. Но стоит туда заглянуть наблюдателю и определить, в каком состоянии кот находится... Этот парадокс Эверетт отвергал, показывая, что кот на самом деле не является квантововолновым призраком; нет, коллапса волновой функции, выбора одной-единственной альтернативы из великого множества не происходит.
Эверетт утверждал, что процесс наблюдения создает одну ветвь реальности, в то время как другая тоже продолжает существовать, ничуть не менее реальная, чем «наш мир». Частицы не выбирают произвольно, каким путем им двинуться, но проходят их все, расщепляя Вселенную при каждом выборе. Разумеется, на уровне элементарных частиц ежемоментно происходит колоссальное количество актов ветвления.
Джехана знала, что эта идея, с присущей ей метафизичностью, большинством физиков была встречена холодно[15]. У нее были свои поводы горячо поддерживать Эверетта: теория молодого человека объясняла ее видения.
Она наблюдала ветвь, которая была реальна для нее. Но так же реальны другие ветви для остальных Джехан, ее двойников из бесчисленного множества параллельных миров. Слушая Эверетта, она улыбалась. Другой молодой физик, сидевший в аудитории, носил футболку с надписью: «Вигнер, думаешь, что твой друг может накормить моего кота[16]? Гейзенберг не был в этом уверен. С уважением, Шрёдингер». Джехану этот прикол восхитил.
Эверетт завершил доклад. Джехане стало хорошо, как никогда в жизни. Она чувствовала крайнее умиротворение, сродни тому, что можно испытать, уладив долгую ссору. Джехана задумалась обо всем пережитом с той ночи в будайенском переулке, о всех поворотах и перекрестках, ею исхоженных. Она улыбнулась снова – печально – и оставила эту мысль. Как много она совершила, сколько всего с ней произошло! Странные и долгие они были, эти жизни. Оставался невыясненным только один вопрос. Сколько еще неисчислимых будущих ей еще суждено произвести на свет, сотворить из нематериального сырья этой минуты? Джехана сидела и видела, как в некоторых мирах эти будущие реализуются сами собой, без ее участия.
Но ее интересовало не то, настанет ли завтрашний день для нее вообще, а то, какое завтра настанет.
Джехана видела их все, но по-прежнему ничего не понимала. Она вспомнила китайскую поговорку: дорога в тысячу ли начинается с единственного шага. Какое упрощение! Верней было бы сказать – тысяча дорог длиной в тысячу ли каждая начинаются с единственного шага каждая. Или возникают на каждом шагу. Она сидела, пока не осталась одна в аудитории. Потом медленно поднялась (при этом у нее заныли спина и колени) и сделала шаг, представляя себе мириады Джехан, которые совершают этот шаг вместе с ней, и мириады Джехан, которые его не совершают. Во всех мирах, раскиданных по времени, это был еще один шаг в будущее.
Сомнений не оставалось: наступил рассвет. Пальцы Джеханы стиснули рукоять кинжала, ее охватил трепет возбуждения. Странные, незнакомые слова сверкнули в ее мозгу.
– Принцип Гейзенности неопределенберга, – пробормотала она, устремившись к выходу из переулка.
Она уже ничего не боялась.
Примечания
1
Этот квартал выступает также местом действия наиболее известной работы Эффинджера, киберпанк- детектива Когда под ногами бездна (1986). Однако события романа происходят на триста лет позже Кошечки Шрёдингера.
(обратно)2
Шариатский судья мусульманской общины на Ближнем Востоке и в исламской Африке.
(обратно)3
Этот ранг употреблен в оригинале. Очевидно, под ним следует понимать соответствующий арабский военный ранг.
(обратно)4
3д.: крестьяне и простонародье.
(обратно)5
Коран, сура 4, аят 93.
(обратно)6
Коран, сура 5, аят 32.
(обратно)7
Коран, сура 4, аят 60.
(обратно)8
Катрина Ерош, более известная как Кэте (Kathe), супруга Гильберта (1864- 1945)
(обратно)9
Рыночная площадь в странах Арабского Востока.
(обратно)10
Отсылка к известной картине Иеронима Босха «Фокусник».
(обратно)11
Из контекста понятно, что речь идет о Сольвеевском конгрессе 1927 г.
(обратно)12
Разновидность игры в кости.
(обратно)13
Коран, сура 2, аят 219.
(обратно)14
Лайлат аль-Кадр – в исламской религиозной традиции двадцать седьмая ночь месяца рамадан, когда Мухаммеду был явлен Коран.
(обратно)15
До такой степени холодно, что, представив свою диссертацию к защите и опубликовав несколько статей по многомировой теории, Эверетт разочаровался в науке, бросил занятия теоретической физикой и стал довольно успешным бизнесменом. Близкие Эверетта, впрочем, не сомневались в справедливости его воззрений; дочь его даже покончила с собой после смерти отца, желая таким образом присоединиться к нему в той ветви реальности, где Эверетт остался жив. В настоящее время многомировая интерпретация занимает в среде физиков второе место по популярности после копенгагенской.
(обратно)16
Отсылка к парадоксу Вигнера, разновидности парадокса кота Шрёдингера. В этой версии участвует также друг физика Юджина Вигнера, проводящий эксперимент с котом вместо спешно отлучившегося Вигнера. Парадокс возникает при попытке ответить на вопрос, когда происходит коллапс суперпозиции квантовых состояний кота и друга «живой кот/счастливый друг – мертвый кот/грустный друг»: в момент, когда Вигнеру становится известно о результате эксперимента по телефону, или в какой-то предыдущий момент? Вигнер полагал, что существование парадокса доказывает особую роль сознания в коллапсе волновой функции. Парадокс имеет отношение к мысленному эксперименту квантового самоубийства.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


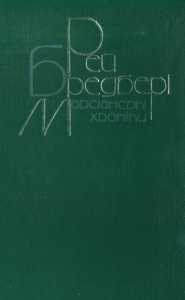
Комментарии к книге «Кошечка Шрёдингера», Джордж Алек Эффинджер
Всего 0 комментариев