С.Бельский ПОД КОМЕТОЙ Повесть
Под кометой
Глава I Под кометой
Из той норы, где я сижу, видна направо черная зубчатая стена гор, окутанные лиловым туманом обгоревшие, поваленные стволы деревьев в долине и слегка изогнутая гряды камней. Красноватый туман скрадывает расстояния и придает всем предметам на обезображенной черной земле фантастические очертания.
Пик Ольдета похож на великана, который согнул колена и, наклонив голову, что-то внимательно рассматривает в развалинах Гелиополиса. Каменная черепаха закрыла мост, арку Мира и сотни маленьких домов, утопавших в зелени, в которых жили рабочие главной электрической станции. Сожженный лес напоминает кладбище.
На холме, где стояла обсерватория, упавшие камни и разрушенные здания образовали перевернутое вверх килем судно. Тучи черной пыли стелются над землей и колеблются как траурное покрывало.
Черная немая пустыня! Небесный огонь уничтожил все краски. Я с трудом представляю себе зеленеющие склоны, белые вершины гор, серебристое море, желтые скалы, — привычное живое лицо земли. Сон то было или то что есть?
Огонь уничтожил не только города, леса, — он сжег историю человечества, его религию, искусство, науку, — все Земля представляет обугленный труп, но небо теперь так красиво, великолепно, каким оно никогда не было.
Комета с своими шестью лучами напоминает белую лилию с пламенной завязью; лепестки этой небесной лилии сжегшей землю медленно изгибаются; кажется их колышет ветер, уносящий комету в глубь неба. Вечером лилия окрашивается в нежно золотистый цвет и вокруг неё разливается спокойное серебристое сияние.
Вчера на рассвете старик Винцент забрался на развалины обсерватории и кричал:
— Эй, вы там, на небе! слышите ли вы нас? Мы не хотим оставаться на земле заваленной мертвыми… Кто ты? Как тебя зовут, который на небе? я хочу тебя услышать…
Он кричал, пока не взошло солнце и не потухли яркие краски на небесном своде.
Нас шестеро: две женщины и четверо мужчин. Третий месяц мы живем в развалинах королевского музея древностей. Старшему, Винценту Энрио; 67 лет; он был монахом и за полгода до появления кометы поселился в одном из тех подземных склепов, которые приводили в ужас всех, кто спускался в узкие извилистые галереи под монастырем св. Иакова. По целым суткам Энрио стоял на коленях в своем склепе молился и клал сотни поклонов. Его часто искушал диавол, который выходил из сырой стены, задувал восковую свечу, передвигал гроб, в котором отдыхал монах, разливал воду из кропильницы. На поверхности земли при свете солнца все его выходки показались бы глупыми шутками. Впрочем и сам Энрио не считал этого демона умным и устраивал ему засады и ловушки как тупому животному. Привыкнув к черным стенам склепа и постоянно мертвой тишине, отец Винцент лучше всех переносит страдания. Ему кажется что ничего особенного не случилось и только до необъятных размеров, от земли до неба, раздвинулись стены той могилы, в которой он себя похоронил. Больше всего печалит монаха исчезновение демона, без которого он не знает чем заполнить половину своего времени. Небо представляется отцу Энрио океаном, на котором вот-вот появится спасительный корабль. Словно на маяке по целым часам стоит он с поднятой головой на груде камней, наваленных на вершине горы. Иногда отец Винцент поднимает обе руки, призывая кого-то в порыве отчаяния и снова замирает, — черный на черных камнях.
Второй мой товарищ Ольрид был хранителем королевского музея древностей.
— Я знал, что все так кончится, — говорил Ольрид, — немного каменных обломков, куча черепков, старых монет, заржавленное оружие, какой-нибудь горшок, осколки статуи, полуистертая надпись — вот все, что в конце концов остается от любого народа.
В одном углу королевского музея стоял пыльный ящик, который мог бы поднять ребенок и в этом ящике хранилось все наследие народа, прожившего двадцать веков.
Как и отец Винцент, хранитель музея, остававшийся много лет среди каменных обломков выброшенных из глубины веков, как море выбрасывает на песчаную отмель доски и мачты погибших судов, скорее нас всех освободился от ужаса.
Сумасшедшего звали Филипп Эверт. Для нас, людей старого мира имя это слишком хорошо знакомо. Эверт был великим хирургом, который первый сумел менять изношенные сердца, как в часах меняют ослабевшую пружину.
Помешался он на чудовищной идее создать высшее мыслящее существо из мозга и других животных тканей, приготовленных искусственным путем. Уже целое столетие наши химики делают все органические вещества. В биологическом музее, в первом зале направо от входа, находилась богатая коллекция животных органов, приготовленных в лаборатории. Каждый инженер-биолог умел изготовить отличную печень, вырабатывавшую желчь, глаз, сильный здоровый мускул и мускульная машина во многих мелких производствах начала вытеснять стальные механизмы.
Эверт вздумал построить мыслящий мозг; и так как у нас не хватало художников, давно умерла поэзия, не было пророков, то хирург поставил себе задачей создать из солей, кислот и щелочей голову гениального мыслителя в своей лаборатории.
Миру нужны были новые блестящие идеи, великие заблуждения и великие истины. Без вдохновения среди дворцов, храмов, колоссальных сооружений человечество задыхалось как рыба на дне высохшего озера. Жизнь стала слишком пресна и так как ни одна голова не давала ничего такого, что не было бы известно раньше, то многие соглашались, что попытка Эверта разумна и полезна.
Правительство уступило ученому старый химический завод, где в течение двух лет Эверт усердно работал над изготовлением своего пророка. По поручению «Южной газеты» я однажды посетил этот завод в тот день, когда там собрались воспитанницы двух приютов в светло-голубых платьях и десятка три учителей знакомившихся с новейшими завоеваниями техники. Эверт уже тогда проявлял признаки душевного расстройства. Он говорил о том, что боится своего дела и с ужасом ждет минуты, когда сознание и мысль, пробиваясь, как солнечные лучи через тяжелые дождевые тучи, пробудятся в серой массе искусственного мозга. Он боялся их дикого стихийного величия.
«Южная газета» первая заметила, что «здоровье Эверта внушает опасения»(№ 1273). Я упоминаю об этом факте без тщеславия и только потому, что впоследствии глупый писака и продажный журналист «Гелиополисского Вестника» В. Г. М. утверждал с присущей ему наглостью, будто бы именно он первый довел до сведения публики о сумасшествии Эверта…
Впрочем теперь нет ни газет, ни читателей, ни издателей. Я заканчиваю мировую литературу и незачем поднимать старые споры.
По странной случайности мировой пожар, уничтоживший миллионы достойных людей, ученых, политиков, филантропов пощадил человека, проведшего три четверти жизни в тюрьмах, не имевшего даже собственного имени и называвшего себя № 369. Безымянный отрицает за собой всякую вину и говорит, что парламенты и короли постоянно запаздывали с изданием тех законов, согласно которым люди действовали, и что только из-за этого постоянного опаздывания он просидел 34 года в одиннадцати тюрьмах.
№ 369 спасся с цепями на ногах, и так как у нас не было инструментов, чтобы его расковать, то беглый каторжник по целым часам разбивал свои кандалы камнями, упавшими с проклятой кометы. Занимаясь этой работой, он распевал тюремные песни, ругал парламент, королей, суды, законы и выражал полное удовольствие по поводу ужасного разрушения, погубившего всю цивилизацию.
Но за то судьба пощадила одного из самых замечательных людей Гелиополиса, — славного и доброго короля Меридита XVI. Портреты давали неверное представление о внешности его величества. Словно все художники условились изображать Меридита не таким, каким он есть, а таким, каким он должен быть. В нем нет ничего величественного, и когда король молчит сидя в яме, куда нас загнала звезда, его можно принять за одного из тех безработных, изнуренных голодом и постоянными неудачами, которые тысячами бродили по городам старого мира.
Вчера № 369 долго сидел около Меридита, рассматривая его так внимательно, как будто бы решал головоломную задачу.
— Так это и есть король? — спросил Безымянный, — обращаясь ко мне, — тот самый король, который мог взять перо и написать: «№ 369 назначается губернатором Гелиополиса» или «№ 369 жалуется графское достоинство» и меня бы сделали губернатором, графом и всем, чем ему угодно. Но он мог взять тоже перо и написать: отвести № 369 на скалу, где совершаются казни и сбросить его вниз головой, с высоты в 500 футов. Вы все это могли сделать?
— Мог, — ответил король улыбаясь.
— Ну, а теперь вы кто?
— И теперь король.
№ 369 засмеялся.
— Выйдите, Ваше Величество, из ямы и загляните еще раз, что сделало небо с землей и Гелиополисом. Груда обломков словно после крушения курьерского поезда. Мы славно разбились на полном ходу. Хвост кометы стер все законы. Вашу власть и мою тюрьму утащила за собой вот та белая штука, что висит над нашими головами.
— И всё-таки я король, — упрямо повторил Меридит.
№ 369 засвистел марш каторжников и звеня кандалами (они у него были гигиенические, новейшего образца) направился к выходу из обрушенной галереи.
Сегодня они спорят о королевской власти с утра. Меридита XVI поддерживает монах и хранитель музея. К Безымянному присоединился сумасшедший Эверт.
— Я из вас выбью эту дурь, — кричал Безымянный. Старый мир сгорел как соломенная плетушка и тут нечего долго разговаривать.
Комета не могла уничтожить истории. Ты был и останешься беглым каторжником, Меридит король, а почтенный отец Винцент обладает благодатью и святостью, которых у него никто и ничто не отнимет.
— Что же тогда по-вашему разрушила комета?
— Стены, только стены. Никакой огонь не может уничтожить старых вечных идей.
— И вечных заблуждений, — хриплым голосом отозвался Эверт.
Они спорили на узкой черной площадке, залитой ярким светом солнца и в своих лохмотьях рядом с грудами, беспорядочно сваленных обломков походили на старьевщиков, которые ссорясь, роятся в груде мусора.
Женщины держатся в стороне. Их две. Младшая девушка Сусанна, дочь богатого сыровара, и проститутка Эльза, служившая в увеселительном заведении синдиката, который захватил всю торговлю публичными женщинами. Сусанна очень красива и даже когда она плачет, сидя на глыбе камня, её крепкое гибкое тело возбуждает чувственность. Все мы за исключением хирурга Эверта хотели ею обладать; она это знала и пугливо сторонилась, когда к ней кто-нибудь из нас подходил, но в её ленивом теле и выражении больших глаз было что-то такое, что противоречило её пугливости и словно кричало:
— Возьмите меня, я хочу отдаться!
И этот немой постоянный призыв девического тела разрушал то, что не могла разрушить своим огнем комета. В нас пробуждался древний человек, не знавший стыда, власти религии и закона; животная страсть овладевала то одним, то другим; и тогда на склоне холма, где мы жили, происходили дикие сцены, во время которых отец Винцент проклинал женщин и призывал небесные кары на нас всех, Сусанну и Эльзу.
— Надо это кончить, — сказал как то вечером № 369. Я беру девушку в жены и дело с концом.
Ольрид поднялся с кучи металлической пыли, принесенной кометой, и отвечал за всех.
— Если ты притронешься к Сусанне, я разобью тебе голову.
Безымянный поднял камень и швырнул его в Ольрида. Камень содрал кожу на щеке и красная струйка потекла по лицу и шее хранителя музея.
— Кровь, — хрипло сказал он, смотря на красные пальцы, которыми вытер щеку и серое лицо его разом стало бледным.
— Я сильнее вас и беру эту девушку, — повторил Безымянный, и медленно направился в ту сторону, где сидела Сусанна. Его большая голова с длинными спутанными волосами, бронзовое крепкое тело, прикрытое лохмотьями арестантской куртки и блестящая цепь из металлических колец на грязных босых ногах до мельчайшей подробности освещалась красным светом кометы, которая вся видна была в широком отверстии галереи. Казалось, мы сидим в огромной кузнице с черными каменными стенами и в открытом горне плавятся груды металла.
— Остановись, — крикнул Эверт в голосе сумасшедшего ученого слышалась такая власть, что № 369 обернулся и ждал. — Эта женщина станет матерью и её дети будут создавать новый мир на развалинах старого…
— Я буду патриархом, — с усмешкой ответил № 369. Эверт взял Безымянного за голую волосатую руку.
— Ты не уйдешь, пока я не скажу всего.
— Говори и все-таки она будет моей женой, я так хочу, слышите вы, все, я так хочу!
Безымянный заложил руки за спину и стал около черной скалы с таким видом, как будто ему было решительно все равно, что скажут Эверт и все другие.
— Кто из нас более всего достоин быть отцом новых людей? — Ученый вопросительно посмотрел на кучку людей, жавшихся друг к другу у входа галереи. — Вы король, последний потомок рода, истории которого все знают. Отец слабоумный, дед пьяница, развратник, прадед страдал религиозным помешательством. Можете ли вы быть мужем этой последней женщины старого мира и первой в мире будущего? Вы принесете весь рой тяжелых видений тяготевших над мыслью и чувством людей.
Король молчал.
— Ольрид, хранитель королевского музея — слабое вялое тело. — Подойдите ближе. Наклоните голову. Вот так! — Тонкие пальцы Эверта быстро двигались по маленькой голове Ольрида.
— Отсутствие воображения… Скучный бледный мозг. Я написал десять томов о памятниках древности, обиженным голосом сказал хранитель королевского музея.
— У вас у самого голова древнего типа… Лобные доли совершенно не развиты. Вам бывает иногда страшно Ольрид!
— Страшно, чего?
— Ну, вы сами не знаете, и в этом все дело. Надвигается темная опасность, вы боитесь неба, короля, темноты; чувствуете себя таким маленьким, как муравей, заблудившийся в вековом лесу.
— Да, это бывает.
— Первобытный животный страх. Ужас, самое древнее из всех чувств, он разрастается у корней жизни и только разум его побеждает. Тени ночи бегут от солнца.
— Теперь Винцент.
— Что такое Винцент?! — гневно закричал монах. — Ты не смеешь касаться меня, потому что тобой владеет диавол. Я прокляну тебя и когда мы все отправимся в небесную обитель, ты будешь один прятаться в норах на этой проклятой обгоревшей земле, освещенной адским красным пламенем. Я не хочу этой девушки, хотя демон меня соблазняет.
— Теперь Энрио Витторино, — обратился Эверт ко мне. — Литератор, 37 лет. Неврастения на почве наследственного алкоголизма (я описываю эту сцену со всевозможной точностью в виду её важности для будущих поколений, но ради справедливости должен заметить, что по отношению ко мне Эверт заблуждался: пью я очень мало и только иногда, когда нет темы, ищу ее при помощи возбуждающих средств).
— Остается один № 369 или как там его зовут, подойдите сюда.
Черная фигура отделилась от скалы и медленно двинулась к освещенной площадке. — Ну, глухо сказал великан; смотря на Эверта сверху вниз.
— Убийца! — тихо и отчетливо выговорил доктор. Мне показалось, что это короткое слово прокатилось по всем окрестным скалам.
— Мы дрались честно и я не виноват, что у него сломался нож, — также тихо ответил № 369. Возвышая голос он продолжал: — я возьму эту девушку потому, что так хочу! слышите ли все: так я хочу! Мне нет дела до того, что произойдет. Доктор тут осматривает нас как лошадей на племенном заводе. По его словам выходит, что король притащил сюда все: своих слабоумных сумасшедших предков Ольрид — новое издание древнего человека; в голове и теле писателя сидит десяток пьяниц, я убийца. Не верьте этому сумасшедшему: комета сожгла все старье, предков и их могилы. Зачем чорт побери, вы тащите сюда мертвецов, королевские мантии, законы парламенты и даже глупого демона, который состоял при этом мерзком монахе, раскачивающемся между землей и небом как паук в сильный ветер. Я сильнее вас и эта женщина будет моей!
Безымянный медленно пошел в ту сторону, где спали женщины.
— Будь вы прокляты! — крикнул ему вслед отец Винцент вместо напутствия.
Мы разошлись, легли и молча смотрели на пламенный цветок в серебристой бездне над черной обугленной землей.
В долинах еще стоят ядовитые газы, принесенные кометою и мы за три месяца ни разу не спускались с горы, на восточный склон которой выходит обрушенная галерея королевского музея древностей.
Я чувствую себя очень плохо, в ушах постоянный шум, как от морского прибоя. Мне кажется, что я слышу бурю, которая уносит комету и сгибает её шесть огненных лучей.
Эверт говорит, что я отравлен цианистым газом. Тороплюсь просмотреть записки о гибели земли. Заметки на полях рукописи сделаны мною и доктором Эвертом. Последние отмечены буквою Э.
Глава II Первое известие о появлении кометы. — Газеты перед концом мира. — Памятник Вентурио. — Площадь Веры. — Храм человека, — Уснувшие и воскресшие
Первый раз я услышал о комете в редакции «Южной газеты», где руководил хроникой и два раза в неделю писал фельетоны. В три часа я, как всегда, сидел за своим столом и просматривал заметки репортеров. Занятие, способное навести уныние на самого веселого человека. К тому же работа эта требовала большого внимания, так как нравы Гелиополисских литераторов были испорчены и каждый хроникер ловко скрывал вознаграждение, полученное им от лиц, заинтересованных в появлении какого либо известия; вследствие этого газеты терпели крупные убытки, так как в пользу издателей отчислялась половина суммы, собираемой журналистами в театрах, акционерных обществах, в банках, ресторанах, парламенте, в банях и проч. Ни одного, даже самого ничтожного дела, нельзя было устроить без того, чтобы предварительно не истратить порядочную сумму на подкуп газет и газетных работников.
В Гелиополисе перед появлением комет насчитывалось четыре тысячи ежедневных изданий. Все они помещались в особом квартале, в западной части города, рядом с улицами, населенными публичными женщинами.
Газетный квартал был самой оживленной частью мирового города. С десяти часов утра гигантские граммофоны, поставленные над дверями редакций начинали выкрикивать новости, полученные со всего света и сейчас же их опровергали.
Сотни других граммофонов бранили консерваторов, радикалов, республиканцев, министров, большинство и меньшинство парламента, акционерные предприятия, новые религии, словом все на свете.
Чтобы заглушить нестерпимый вой металлических голосов, литературные противники пускали в ход пароходные сирены, рев которых был слышен по всему Гелиополису, продавцы газет, одетые в яркие пестрые костюмы и сопровождаемые акробатами и уличными музыкантами, в рупоры выкрикивали названия статей и разбрасывали тысячи объявлений, которые как хлопья снега кружились над улицей и засыпали мостовую. Около домов двигался бурный поток людей, нуждавшихся в помощи печати или искавших её расположения. Нищие, придворные, монахи, артисты, мистики, поэты, банкиры, изобретатели, шарлатаны вливались в широко раскрытые двери редакций и вступали в шумный торг с владельцами газет, с их доверенными сотрудниками.
Газеты выходили каждый час в миллионах экземпляров, распространялись на аэропланах и влияние их было безгранично.
Чтобы дать понятие будущему человечеству о том уважении, которым пользовалась мировая литература в последние дни её существования, я расскажу о том как газеты поставили памятник почтенному и достойному Вентурио, главе синдиката по торговле женщинами.
Я не знаю точно, сколько это стоило Вентурио, но однажды утром голоса всех граммофонов в газетном квартале слились в его прославлении и восхвалении. Маленькая газетка «Оса» пробовала возражать при помощи своего граммофона, который пищал, как комар над болотом, но «Вестник Правды» пустил в ход колоссальную сирену, приводимую в действие машиною в сто сил и заставил «Осу» замолчать. Четыре тысячи статей, в которых говорилось об уме Вентурио, о щедрости Вентурио, о благородстве Вентурио, появлялись каждый час и по беспроволочному телеграфу передавались во все углы земного шара. Газетная волна смывала всех, кто смел противиться прославлению и возвеличению главного содержателя публичных домов. Во время этой компании пало два министерства и, что особенно тяжко, старый добрый Кемпель, вождь народной партии, покончил жизнь самоубийством, так как его каждый час обвиняли в различных преступлениях.
Но что делать? Вентурио платил, а Кемпель был беден, как церковная крыса.
Я помню, что смерть его очень огорчила редактора «Южной газеты».
Бедняга плакал от волнения в то время, когда гигантский граммофон на крыше редакции орал на пять миль кругом:
— Кемпель мошенник! Кемпель взяточник! еще одно преступление Кемпеля!..
Маленькая «Оса» пищала: Убийцы!… убийцы!.. но рядом завывала сирена «Вестника Правды» и обличения «Осы» никто не боялся.
Чтобы поддерживать усердие журналистов, Вентурио разрешил им бесплатно посещать все свои увеселительные заведения и даже знаменитый замок фонтанов, куда за огромные деньги допускались немногие избранные.
Синдикат не только доставлял красивейших женщин из всех углов мира, он еще и выращивал воспитывал их в особых питомниках. Здесь формировали тело и психику девушек и так как дело велось под наблюдением опытных ученых психологов и художников, то синдикату после многолетних усилий удалось создать новую породу женщин, напоминавших богинь и нимф древнего мира.
В Гелиополисе женщины несли тяжелый Труд наравне с мужчинами. Они работали на земле, под землей и в воздухе. Главное управление аэропланами принимало на службу только женщин. В государственных учреждениях их было больше чем мужчин. Ценою огромной борьбы женщины очень давно добились права занимать все высшие должности в управлении страною. Несколько раз министерство составлялось только из женщин, в конце концов они по внешности и психике совершенно слились с мужчинами.
Пол умирал и создавалось новое существо, получившее в обыденной жизни название ман. Можно было целый год просидеть где-нибудь в конторе рядом с товарищем, одетым, как все, в синюю блузу и широкие брюки, и не знать кто этот товарищ: мужчина или женщина. Непрерывный труд, профессиональные болезни, недостаток движения и воздуха; отравление различными возбуждающими веществами отразились на женщинах тяжелее, чем на мужчинах. Поздно вечером, когда ман заполняли лабиринт улиц и переулков, залитых ярким светом электрических солнц, казалось, что все эти миллионы людей, с серыми лицами, с скучными усталыми глазами, изготовлены по одному и тому же образцу на одной фабрике. Нельзя было определить ни возраста, ни пола. Любовь, описанная старыми поэтами давно умерла. Сначала она, как плюш, вилась около машин, потом листья её пожелтели, завяли и осыпались. Как пережиток, любовь иногда вспыхивала ярким пламенем, случалось порождала старую ревность и доводила даже до преступлений, но обыкновенно мужчины и женщины сходились и расходились равнодушно и искали в сближении минутного удовольствия когда не было других развлечений. Вентурио возродил древнюю женщину, бесконечно далекую от мужчины и таинственную. Сам он — маленький, безобразный, с отвисшим животом, похожий на индийского идола, говорил, что в каждой работнице, — серой и скучной как высохшая земля есть семена для превращения её в одну из тех женщин, которыми синдикат населял свои дворцы.
Через месяц после того, как Вентурио открыл свои сады для представителей печати, все, начиная от короля и до последнего нищего, увидели, что памятник ставить необходимо. Один из депутатов, двадцать лет дожидавшийся портфеля министра, сказал в парламенте большую речь о заслугах Вентурио и способе увековечить его имя. Никто ни возражал. Кандидат в министры потребовал открытого голосования «дабы мы знали, как он сказал, имена тех, кто будет противиться народной славе». Принято единогласно.
Вышел из залы только один депутат: семидесятилетний старик, выигравший много лет тому назад великую битву в Африке и спасший Гелиополис от гибели. Не желая, чтобы его славное имя было забросано грязью, народный герой сам покончил с собой, отправив в редакции письма с просьбою ничего не писать о нем. Воля его была свято исполнена, и только 69 газет назвали его выжившим из ума идиотом и дряхлым развратником.
На деньги, собранные путем всенародной подписки, содержателю публичных домов поставлен был великолепный памятник из бронзы и мрамора. Вентурио сам венчал свое бронзовое изображение лавровым венком и когда маленький плешивый человек с отвисшим животом взобрался по лестнице на плечи статуи, многотысячная толпа, которая всегда говорит то, что говорят газеты, закричала, прославляя великого Вентурио.
Такова была в Гелиополисе сила печати. Пишу это не из тщеславия, как может быть подумают некоторые, а только для того, чтобы будущие люди знали чем кончила мировая литература.
В тот день, когда я в первый раз услышал о комете, консерваторы подрались с радикалами и наш парламентский хроникер, профессор Гелиополисского университета, сидя против меня на краю стола рассказывал об этом происшествии так, как будто дрались не живые люди, а вступили в свалку параграфы, статьи и пункты, «закона о конституции». Такой способ изложения он называл юридическим анализом.
— Параграф № 27 вызвал весь этот скандал, хорошо еще, что примечание к статье 94 давало возможность выдвинуть вопрос о голосовании, но тут испортил дело пункт 5…
Унылый это был человек и слушать его было совсем не весело.
Вдруг зазвонил телефон.
— Говорит обсерватория. Только что вычислены элементы кометы Б, столкновение, по-видимому неизбежно.
— Столкновение с чем?
— С землей. Вы меня слушаете. 25 или 27 августа мы пройдем… — конца фразы я не расслышал.
— В чем дело? — спросил профессор. Это должно быть о результатах голосования.
— Да, нет же! обсерватория извещает, что земля столкнется с какой то кометой.
— Лезут с глупостями. Дайте мне триста строк, я напишу статью о параграфе 94.
Главный редактор швырнул заметку о комете в корзину.
— Знаю я эти штуки. Пусть сначала заплатят за тысячу строк, по высшей расценке.
— Да ведь это обсерватория.
— Послушайте Витторино, меня вы не проведете, — редактор поднял от рукописи маленькие прищуренные глаза. — На 26 августа назначено состязание аэропланов. Кто хочет расстроить дело, тот пусть платит.
— По этим, или по каким другим соображениям, ни одна большая газета не напечатала известия о появлении кометы и когда граммофоны над окнами дешевых изданий, не имевших влияния на ход общественной политической жизни, выкрикивали:
— Гибель земли! мировой пожар! остается еще шестьдесят дней… Их голоса заглушал рев сирен «Гелиополисского Вестника» и других серьезных изданий.
— Но все же известие о появлении кометы быстро распространилось по всему Гелиополису.
— Первыми всполошились монахи, мистики, теософы и медиумы.
В Гелиополисе не было господствующей религии, но каждому гражданину, достигшему 25 лет от роду, закон предписывал избрать какое ему угодно верование и держаться его, по крайней мере, в течение одного года. Огромное большинство числилось по официальным спискам христианами, но совершенно не знало в чем его вера и какие обязанности налагает христианство на человека.
На площади Звезды и в прилегающих к нему улицах и переулках всегда можно было видеть шумную толпу, которая стекалась сюда для выбора веры. Другие являлись на эту площадь, чтобы предложить изобретенную ими (новую религию или найти последователей. Храмы всех веков и народов образовали здесь лабиринт, в котором безнадежно блуждали тысячи людей, ищущих бога.
Жрецы Озириса толпились на ступеньках широкой мраморной лестницы, украшенной двумя рядами львов с женскими лицами. В их храме, куда попадали через маленькую трехугольную дверь, было темно и холодно, как в пустом колодце. В серебряных вазах сохранялась мутная вода из Нила, которой больные мочили свое тело; жирные черные кошки с отвратительным мяуканьем бегали между рядами каменных гробниц, в которых лежали набальзамированные тела богатых последователей древней египетской религии.
Жрецы Озириса в длинных белых одеждах с золотыми поясами постоянно ссорились с вертящимися дервишами, которые неистовствовали в круглом балагане напротив; острая крыша балагана поддерживалась двумя рядами колонн и с улицы можно было видеть, как десятки оборванных грязных людей кружатся в бешеной пляске или с бледными лицами валяются на истоптанном песке.
На площадке между храмом Озириса и балаганом дервишей проповедовал атеист Плумпер, называвший себя пророком. Он был одет в широкую красную тогу и сидел под навесом за столом, на котором лежали груды книг, брошюр и газет, опровергавших все религии и старые и новые. Пляска дервишей превращалась иногда в какое то стихийное движение; она захватывала зрителей, как вихрь увлекает сухие листья; кольцо кружащихся быстро расширялось, выходило за столбы балагана; образовались новые маленькие водовороты и случалось, что атеист Плумпер в своей развивающейся тоге и белые жрецы Озириса вертелись на площадке до полного изнеможения.
Огромный белый храм Зевса Громовержца закрывал собой два ряда домов, в которых жили верующие в Нечто. Блистающие глыбы мрамора были украшены золочеными изображениями бога богов, у входа сидели прорицатели и торговцы амулетами.
Верующие в Нечто разделялись на 36 сект и каждый день устраивали публичные состязания сзади храма Зевса. Они отличались цветом одежд, иначе, их было бы легко смешать друг с другом, так как разница в мнениях между наиболее непримиримыми— зелеными и красными— сводилась к тому, что зеленые считали Великое Нечто познаваемым, а красные — не познаваемым, а узнаваемым. Жрецы их походили на сутяг, которые ведут вечную тяжбу с небом. Каждому новообращенному, они открывали доступ в свои книгохранилища и в архивы пыльных рукописей, предоставляя разбираться сколько угодно во всех этих противоречивых документах.
В соседнем узком темном переулке, крытом стеклом помещались конторы медиумов и ясновидящих, которые за небольшую плату брали на себя сношения с загробным миром. В этом переулке странно мешались живые и мертвые.
— Кто хочет говорить с духом девушки, умершей 200 лет тому назад… С египтянином времен первых фараонов! Покойный отец банкира Гирфельда просит сына… Не нужен кому-нибудь Карл XII?
Все это выкрикивали десятки озабоченных служителей, появляющиеся на балконах и у дверей контор.
В приемных на плетеных диванчиках, за круглыми столами, на которых лежали фотографии духов, постоянно сидели посетители, дожидавшиеся очереди.
Медиумы часто ссорились друг с другом, так как каждый день случалось, что один и тот же дух одновременно появлялся в десяти конторах к великому соблазну зрителей и слушателей всей этой сверхъестественной отрасли промышленности. Сутяги из квартала верующих в Нечто то и дело являлись к медиумам и затевали с ними ссоры, в которых принимали участие и души умерших.
Крытая улица медиумов выходила на площадку, вымощенную розовым мрамором. На этой площадке стоял храм Человеку. В Гелиополисе было очень много людей, которые считали себя богами, но лишь немногие из них решались публично принять жертвы и поклонения от льстивых жрецов в храме за улицей медиумов. С южной стороны храма находился склеп самоубийц. Здесь длинными рядами на серых мраморных плитах лежали тела тех, кто на время уходил из жизни. Таким самоубийцам жрецы в храме Человека вводили в кровь особый яд, небытия; сон наступал не сразу, а недели через две-три, а иногда и через месяц. В этот промежуток самоубийца медленно превращался в труп; ослабевало зрение, слух, притуплялась чувствительность к боли; полное оцепенение тела наступало раньше чем прекращалась душевная жизнь. В склепе самоубийц было всегда несколько трупов, в раскрытых глазах которых светилось сознание, как луч заката в темной полосе воды. Умирали чаще всего на десять лет, но были и такие, которые желали проснуться через сто лет — предельный срок действия яда небытия. После воскресения самоубийцы жили столько же сколько прожили бы не приостанавливая жизни.
Правительство очень часто командировало чиновников в будущие десятилетия, так точно, как посылал их с различными поручениями на окраины государства; такие чиновники получали все присвоенное им содержание, суточные и прогоны. В каждом министерстве был свой особый склеп; где важные и неподвижные лежали десятки и сотни людей, сжимая в желтых окаменелых руках портфели, набитые бумагами и пакеты, которые они должны были предъявить по своем воскресении. Иногда в бумагах содержались предписания, касавшиеся преступников, которые успели принять яд небытия и помещались в особом отделении, при центральной тюрьме. Случалось, что никто не знал, когда проснется какой-нибудь важный преступник и тогда за ним посылали двух или трех чиновников снабженных самыми широкими полномочиями. Во время судебного процесса знаменитого Кетмена, подкупившего весь парламент, подсудимый, накануне объявления приговора заснул на 80 лет. В виду исключительной важности дела, вслед за обвиняемым были отправлены судьи, защитники и прокурор. Все они лежали рядом в боковом коридоре во дворце правосудия, и так как там довольно тесно, то самого Кетмена положили под генерального прокурора, а сверху навалили все делопроизводство.
В храме Человека хранились тела только тех самоубийц, которые могли заплатить довольно крупную сумму за место. Жрецы извлекали побочный порядочный доход, показывая трупы посетителям и рассказывая о покойниках невероятные истории. Одного очень почтенного филантропа, пожелавшего перейти на сто лет в небытие для того, чтобы посмотреть, что станется с основанными им благотворительными учреждениями, служители храма ошельмовали до такой степени, что имя покойного стало нарицательным для всех мошенников и плутов.
Случалось, что на время прекращали свою жизнь влюбленные, желавшие чтобы их тела до воскресения, лежали рядом. Ленивые жрецы перепутали все места, и я сам видел как один молодой человек, заснувший полсотни лет тому назад, требовал у смотрителя кладбища, чтоб он немедленно отыскал какую-то Эльзу, с которой влюбленный заснул рука об руку.
— Я всем ей пожертвовал, вопил несчастный, мне некуда и незачем идти из этого храма!
Толстый жрец, заложив пальцы за широкий золотой пояс, равнодушно слушал жалобы молодого человека.
— Выбирайте любую, завтра проснется вот эта хорошенькая девушка в углу, у круглого окна. Подходит? Да вы взгляните внимательнее. Её спутника лет двадцать тому назад перенесли в подвал, под храмом, потому что здесь рядом надо было освободить место для одного ювелира. Уверяю вас, она ничуть не хуже вашей Эльзы.
Влюбленный не слушал.
— Эльза, Эльза! — звал он, слоняясь между каменными плитами.
— Я думаю напрасно трудитесь, — сказал жрец, — она ушла как и многие другие. Почем вы знаете на сколько лет она засыпала? Теперь чего доброго у вашей возлюбленной есть уже внуки.
Жрец обратился ко мне:
— Вот там справа, где тянется полоса света; двадцать лет лежит покойник, посмотрите какое у него счастливое выражение лица. Когда он пришел сюда, у него было трое детей, два сына и дочь, которых он воспитывал по какой-то особой изобретенной им системе. Чудак верил, что из его детей выйдут святые или герои, и желал пробудившись услышать о их славе и святости. Я хорошо помню, как все они четверо стояли вот здесь, где стоим мы…
Жрец поправил руку поэта, оцепеневшего на сто лет, чтобы взглянуть на собственный памятник и пошел к выходу.
— Постойте, постойте; а окончание истории! — крикнул я ему вслед.
— Старший умер от пьянства, младший ростовщик, дочь где-то у Вентурио…
Могильщики на обыкновенных кладбищах не были так равнодушны к человеческому горю и страданию, как жрецы в храме человека, потому что последние видели не только смерть, но и воскресение, которое часто было хуже смерти.
В Гелиополисе была целая секта засыпающих, которые дожидались водворения на земле царствия Божия, справедливости и любви. Но при этом они совершенно не желали вмешиваться в ход истории и спали по тридцать три года в сухих и теплых погребах, которые тянулись под зданием рынка; помещение это было довольно удобное и освещалось двумя рядами узких окон, защищенных железными решетками. Ожидающие наступления Царствия Божия просыпались только для того, чтобы взглянуть какой степени совершенства достигли люди.
Узнав, что все остается по старому, или даже хуже старого, они начинали браниться, читали проповеди, поучения и поднимали такой шум, что их приходилось укрощать при содействии полиции. На площади Веры каждый день можно было видеть несколько человек из этой странной секты, пристававших к прохожим с увещеваниями и обличениями. Бледные, с опухшими лицами, одетые в белые одежды, в которых они желали явиться на праздник мировой любви, эти люди возбуждали общее презрение и насмешки. Созданный ими воображаемый мир до такой степени расходился с действительностью, что многие сектанты предпочитали окончить жизнь где-нибудь в реке, чем оставаться среди населения Гелиополиса.
От храма человека по широкой мраморной лестнице в триста ступеней можно было спуститься в квартал, населенный мистиками, магами, прорицателями, теософами и делателями чудес.
В этом мрачном квартале, куда редко заглядывало солнце, голодные философы из обрывков прошлых верований выкраивали новые религиозные системы; здесь можно было заказать божество по своему вкусу, совершенно так, как заказывают мебель или платье.
По постановлению Гелиополисского парламента чудеса разрешалось творить только в особом помещении, обнесенном высокой оградой и куда зрители допускались за небольшую плату. На этом дворе, вымощенном красным камнем, исчезали все законы природы. В несколько минут вырастали кустарники и целые деревья, брошенные камни не возвращались на землю; днем видны были звезды и луна; люди поднимались в воздух и расхаживали по поверхности воды в широком бассейне, который одной стороной примыкал к стене. Все это были фокусы для невзыскательной толпы мастеровых, рабочих, которые широким потоком вливались в ворота двора чудес; для более требовательных или неверующих зрителей маги проделывали несомненно более сложные и трудно объяснимые вещи. Одним из самых удивительных фокусов было перевоплощение личности. Любой бедняк за скромную плату мог превратиться на время в кого ему было угодно. Я знавал одного старика, служившего бухгалтером в Соединенном Банке, который все свое свободное время проводил на дворе чудес в полутемной комнате с низко нависшим потолком, где он какими-то неисповедимыми судьбами превращался в короля. Но искусство магов шло еще дальше и по желанию они могли перевоплотить человека в любое живое существо. В течение нескольких минут человек переживал яркие картины из неведомого ему мира. Видел себя то среди девственных лесов, то среди пустынь, в глубине океана и даже на других планетах. Все эти картины проносились вихрем и когда уснувший возвращался к действительной жизни, то он отказывался верить, что спал две или пять минут.
На другой день после того, когда обсерватория сообщила о появлении кометы, часов в шесть я возвращался из редакции и остановился около храма Человека, чтобы взглянуть на небо. Солнце уже зашло, но с запада разливалось серебристое сияние настолько яркое, что все предметы бросали заметные тени. Строения за рекой и аэропланы, кружившиеся над городом казались окруженными светящимся туманом. Кометы не было видно, хотя в толпе, собравшейся на площади между храмом Озириса и кафедрой атеиста Плумперта на нее указывали десятки рук; одни говорили что видят белый хвост кометы справа, над линией домов, другие прямо над своими головами, третьи принимали за грозное светило зеленые фонари почтового аэроплана, медленно летевшего вдоль разрушенной железнодорожной насыпи. Жрецы теософы и прочие посредники между небом и землей, сновавшие по площади, вели себя очень странно. Они словно обрадовались зловещей комете и очень подробно, с большим увлечением рассказывали о тех ужасах, которые переживут люди в наказание за свое нечестие. Около меня порядочную толпу собрал распутный жрец Клавдий, неимевший никакой религии и служивший всем богам.
Дождались, кричал Клавдий, размахивая над головами слушателей черным посохом. Сгорите, потому что не чтили алтарей и служителей неба, не поможет вам теперь ни наука, ни политика!., будете молиться и молитва не спасет, суд окончен и все вы осуждены на смерть в небесном знамени. Жрец пошел с холма, продолжая выкрикивать бессвязные угрозы. За ним двинулась кучка людей, из которых одни плакали, а другие ругали Клавдия и бросали в него горсти песку. Какой-то мальчишка, взмостившийся на стену, вылил на Клавдия ведро воды. Идя дальше по площади Веры я всюду видел такие же сцены. Толпа видимо еще не отдавала себе ясного отчета в значении предсказаний, делаемых жрецами, которые впрочем, никогда не переставали пугать суеверное население Гелиополиса местью неба. Эти служители алтаря походили на содержателя зверинца, у которого в кармане ключи от клеток с хищными зверями. В любой момент клетки можно было отпереть и выпустить на беззащитное население свирепых голодных животных.
Припоминая все события, предшествовавшие гибели Земли, я могу с уверенностью сказать, что паника начала распространяться из квартала Веры. В то время, когда еще во всем остальном городе, занимавшем более тысячи квадратных вёрст, шла обычная жизнь, вокруг храмов уже происходили сцены, напоминающие последние дни земли. Огромные толпы людей, среди которых преобладали женщины, беспорядочно бросались от одного алтаря к другому; падали на колени, ползали в пыли по каменным плитам, молились или посылали проклятия. Мерные удары огромных медных гонгов сливались с погребальным пением и дикими выкриками прорицателей. Здесь у подножия алтарей рождался тот великий ужас, который впоследствии заставил миллионы людей покончить с собой прежде чем земля встретила комету.
Дни стояли ослепительно яркие и солнце пробиралось даже в самые темные углы храмов. Светлые пятна там и сям лежали на каменных ступенях, на полу и стенах, металлические украшения рассыпали снопы искрящихся лучей, облитые солнечным светом мраморные статуи казались ожившими. Пестрая шумная толпа придавала картине праздничный вид. В храме Озириса в то время, когда в одном углу шло торжественное служение, в другом толпа ткачей, пришедших из предместья, разбивала на мелкие куски священное изображение, топтала обломки и бросала в цветные стекла, осколки камня. Голубоватый дым от больших бронзовых жаровен смешивался с тяжелой белой пылью от обрушенных разбитых статуй. Уже в эти первые дни паники многие атеисты оказались вдруг в рядах людей верующих, а люди религиозные то и дело превращались в непримиримых врагов молчаливого божества. Схватки приняли настолько опасный характер, что правительство хотело послать в квартал Веры войска и полицию, но так как по 176 статье основных Гелиополисских законов вооруженные люди не могли входить в храмы, то в парламент был спешно внесен законопроект от отмене этой статьи «по случаю совершенно исключительных обстоятельств», как было сказано в объяснительной записке. К сожалению прения в парламенте очень затянулись, потому что на этом вопросе лидер консерваторов задумал провалить либеральное министерство. Противники спорили до тех пор, пока человечество осталось без всякой религии. Весь город был занят событиями на площади Звезды больше чем кометой, которую впрочем пока еще видели одни астрономы.
Глава III Концерт на аэропланах. — Кладбище старой земледельческой культуры. — Одичавшие люди. — Война, превратившаяся в стихийное бедствие. — В обсерватории. — Мнение бродячего о золотом веке
Шестнадцатого августа утром редактор попросил меня съездить в главную обсерваторию. День выдался очень жаркий. Замечу кстати, что по словам метеорологов, последнее лето было жарче всех тех, о температуре которых сохранились записи. Когда я поднялся на крышу башни, с которой отправлялись аэропланы, небо показалось мне раскаленным медным куполом, висевшим над ослепительно белым городом.
На площадке, окруженной высокой решеткой собрались члены музыкального общества, дававшие в этот день концерт в высших слоях атмосферы. Закон строго воспрещал игру на музыкальных инструментах ниже трех сот метров над поверхностью земли. Это благодетельная мера была введена с тех пор, когда механические музыкальные инструменты начали представлять серьезную угрозу общественному спокойствию. Музыканты обзаводились дешевыми маленькими аэропланами или брали их на прокат и целыми роями, вместе со своими слушателями, кружились над городом. Рядом со мной летел толстяк, прижимавший к груди слепившую глаза медную трубу. Он принял меня за любителя музыки и размахивая платком, кричал:
— Невыносимая жара… позвольте познакомиться — Эрнст Тимболь, помощник нотариуса… Смотрите, скрипка уже начала!
Толстяк приложил трубу к губам, оглушительно затрубил и словно шмель начал носиться между аэропланами. Впереди согнув длинные ноги и вытянув шею летел юный флейтист; скрипач плавно описывал широкие круги, виолончель то взлетала к небу, то опускалась к стеклянному куполу над станцией аэропланов. Капельмейстер, помещавшийся в центре этого шумного роя, кричал в рупор:
— Маэстро, ради Бога не ниже трехсот метров! замолчите маэстро! поднимитесь еще метров на двадцать. Справа идет полицейское судно с мегафоном.
Для будущих людей, которые найдут от нашего мира только кучу обгорелых обломков, я поясню, что мегофоном назывался механический музыкальный инструмент, приводившийся в движение машиной в сто, пятьсот и более лошадиных сил. Это была адская музыка, от которой могли упасть самые прочные стены подобно тому, как пали стены древнего Иерихона.
Мегофоном, игравшим сонаты Бетховена была уничтожена вся великая армия негров, двинувшихся на завоевание Европы. На полицейских судах, поддерживавших порядок в воздушном океане были установлены самые слабые мегафоны, которые пускались в ход в тех случаях, когда надо было заглушить голоса ораторов, неугодных правительству или прервать незаконную музыку.
Я видел однажды как сотни скрипачей металась над синей дождевой тучей словно комары над прудом, а над ними как буря ревела полицейская музыкальная машина. На этот раз все обошлось благополучно и когда мой аэроплан повернул к востоку я видел музыкантов, расположившихся полукругом — два ряда слушателей впереди, и капельмейстера на верху на половину скрытого облаком. Часа два мы летели над пустынными лиловыми полями, окружавшими мировой город. Из корзины аэроплана эти мертвые поля напоминали грязное морское дно в час отлива.
Истощённая тысячелетней культурой почва без искусственных удобрений перестала питать растения, чахлые, мелкие кустарники, как лишаи расползались по голой земле. Глубокие овраги переплелись в густую сеть; заброшенные деревни, обрушенные насыпи, размытые дороги, заросшие сорною травою, напоминали, что здесь кладбище древнего непонятного нам мира, когда земледелие повсюду занимало миллион рабочих рук.
До какой степени жизнь этих древних людей отличалась от нашей, показывает описание их обедов. Они ели жареное мясо, мучнистые клубни, листья, корни и семена различных растений, которые возделывали на полях и около домов. Чтобы съесть огромное по объему количество пищи, требовалось не мало времени, а на переваривание её, по словам заслуживающих доверие историков, надо было от двух до трех часов; очень часто во время переваривания проглоченных растительных и животных веществ наши отдаленные предки спали или дремали сидя в креслах. Теперь мы питаемся пилюлями, в которых сконцентрировано все необходимое для поддержания жизни. Четыре или пять пилюль утром, до десятка днем и две или три вечером составляют всю пищу взрослого человека. Фабрики, химические лаборатории и заводы, на которых машины приводятся в движение силой морского прибоя и солнечной теплотой заменили хлебные поля, сады и скот древних. Самая величайшая революция в мире была произведена теми учеными, которые научили легко обращать неорганические вещества в органические и так как открытия в этой области следовали одно за другим очень быстро, а техника успевала использовать в больших размерах на фабриках и заводах данные, добытые в лабораториях, то и земледелие неожиданно очутилось на краю пропасти. Крестьяне вынуждены были забрасывать свои поля и направляться в город. Создалось великое переселение, нищих, разорённых людей, труд которых наука и техника сделали ненужным. Часть крестьян долго еще продолжала возделывать пшеницу, рожь и другие хлебные растения, но это было такое же выгодное и прибыльное занятие, как например, ручная работа ткача под стенами огромных фабрик, способных в одну неделю одеть население целого государства.
Водку, вино и другие напитки вытеснила «веселящая бактерия». Веселие прививают как оспу, но многие пьяницы предпочитают пользоваться гипнозом. В центральном ресторане на королевской площади работало несколько сот гипнотизеров. Как любопытный пережиток старины остались выражения: гипноз на бутылку, на полбутылки, на рюмку и проч. В дешевых гипнотических кабачках посетители поют, пляшут между столами, клянут свою жизнь, ругают прогресс и правительство, бранятся и дерутся друг с другом. Словом, по внешности здесь происходит все то же, что и в древних учреждениях подобного рода, с той разницей конечно, что нигде не видно бутылок, стаканов и прочей посуды, образцы которой сохранились в музее древности.
Желающие привить себе веселящую бактерию или опьянеть под влиянием гипноза уплачивали особый государственный налог, который шел на содержание парламента и многочисленных обществ трезвости. Отправляясь в увеселительные прогулки наши предки предварительно нагружались корзинами с вином и провизией, а мы берем коробку пилюль и одного — двух хороших гипнотизеров. Перед концом мира особенно славился некий Сальме, который все давал степени и оттенки опьянения. Это был великий художник и на конкурсе, который был устроен Академией изящных искусств он по справедливости получил первую награду. Откровенно говоря, веселие наше носило мрачный характер и в Гелиополисе можно было очень редко встретить людей, в группе которых слышался бы непринужденный смех.
Примечание. Есть много родов смешного, но лучшие те, с которыми соединяется месть. Глупцы увлекаются смехом, который уносит их на своих свободных крыльях в такие области, куда они не посмели бы проникнуть, если бы не отдавались в его власть. Смех, рожденный среди полей, на берегу ручьев, умирал в каменных стенах Гелиополиса и возродить его бессильна была вся наша наука и все наше искусство.
Э.
Аэроплан опустился на землю у подножия холма, на вершине которого стояла обсерватория, но нам сейчас же пришлось вновь подняться, так как на поляну из чащи окружавших кустарников высыпала густая толпа людей, которые в официальных актах назывались людьми волками и полулюдьми. Голые худые дети начали бросать в нас комьями сухой земли, а взрослые, видя что мы успели подняться, старались разжалобить меня криками и причитаниями и толкая друг друга предлагали всякую дрянь, которую они разыскивали в грудах мусора на заброшенных полях-кладбищах. Отвратительная старуха, больше похожа на обезьяну, чем на женщину, поднимала над своей головой осколки бутылки и какие-то черепки, мужчины держали над головами в длинных худых руках обломки рельс и заржавленные топоры. Видя, что я не намерен ничего купить они начали осыпать меня бранью и бежали вслед за аэропланом по склону холма. Чтобы отвязаться от дикой своры, я выбросил все мелкие деньги, коробку с питательными пилюлями и пачку газет. В толпе началась свалка, которую прекратил полицейский аэроплан, неожиданно поднявшийся со двора обсерватории.
Опускаясь перед величественным порталом храма науки, украшенном надписью «Разум безграничнее мира», я слышал как завывала дикая толпа и щелкали электрические бичи, которыми полицейские разгоняли полулюдей.
Перед концом мира одичавшие люди заселяли окрестности всех больших городов и вели непрерывную войну с цивилизованным обществом. Вернее сказать, города представляли не большие оазисы среди огромных пространств, где нищета, голод и порок убивали человечество. Правительство и различные религиозные общины часто посылали в заброшенные поля проповедников и учителей, так точно как в древности европейцы отправляли миссионеров для вразумления, просвещения дикарей в лесах Африки и пустынях Австралии. К сожалению все эти проповедники имели очень мало успеха и нуждались в постоянном содействии полиции.
Каждый политический переворот, каждый шаг по пути прогресса, новые завоевания в области науки и техники выбрасывали из среды цивилизованного человечества сотни тысяч и миллионы людей, которые не находя себе места в городах сначала пополняли ряды тех отбросов общества, которые ютятся где попало, бродят без крова у стен великолепных храмов и дворцов, отступают в предместья, но так как и там они представляли всегда серьезную опасность для государства, то в конце концов под давлением силы должны были уходить в пустынные дикие поля. Когда власть попала в руки ста сорока членов академии, задумавших водворить на земле царство Разума в окрестностях Гелиополиса, в один год образовалось несколько пещерных городов, где в ямах и норах поселились люди, оказавшиеся совершенно неподготовленными для великолепного государственного здания, воздвигаемого учеными и философами по их стройным теориям.
Война превратилась в стихийное бедствие, воздушные эскадры в несколько минут уничтожали целые города; взрывы были так сильны, что походили на вулканические извержения. Завладев новыми колоссальными источниками энергии, мы не умели ограничить сферу их действий; каждая война была поединком слепых титанов, вызванных изобретателями и учеными из Таинственной глубины неба и земли; искусственные бури сметали армии, как сухую степную пыль и вызывали нарушение равновесия во всей атмосфере; воздушные волны неся горы лиловых туч с ревом, похожим на шум водопадов, обрушивались на местности, очень далёкие от тех, где происходили битвы и оставляли за собой хаотические нагромождения камня, леса, деревьев и трупов.
Примечание. Материя, которую наши предки считали вечной и ненарушимой оказалась резервуаром силы камень, кусок металла или кусок земли можно было обратить в лучи электричества и света; энергия, заключенная в дождевой капле могла произвести такое же разрушение, как снаряд, выброшенный из древнего двенадцатидюймового орудия. Обратная задача — обращение света электричества и проч. в материю была разрешена одновременно в Европе и в Китае. Электрические волны превращались в белый искрящийся металл, из которого была сделана решетка на одной из набережных Гелиополиса.
Э.
Молния и гром стали детскими забавами. Несмотря на запрещение продавать карманные аккумуляторы для произведения грозы, многие любители сильных ощущений запасались этими игрушечными снарядами и пускали их в ход, где-нибудь загородом, над морем или в пустынных полях. У меня был приятель, репортер одной маленькой газеты, который каждый праздник ездил в окрестности Гелиополиса и в ущельях между гор устраивал сильнейшую грозу. В руках каждого преступника фанатика или сумасшедшего находился ключ к таким разрушительным силам природы, о которых не мечтали наши предки в XIX и XX столетии. При начале каждой войны население бросало города, которые подвергались главным ударам и бежало в поля. Цивилизованное общество, разбившееся на тысячу групп походило на архипелаг островов, омываемый и подтачиваемый со всех сторон наступающим океаном.
Новые варвары готовы были каждый день двинуться на завоевание центров, где сохранилась и развивалась старая многовековая культура. Чтобы защитить себя от гибели, правительства всех стран заключили договор, по которому распространение наук и технических знаний среди дикарей приравнивалось к самым тяжким преступлениям. Виновных отправляли в висящие кладбища, — так назывались верхние слои атмосферы, куда преступники поднимались в клетках, подвязанных к аэропланам особого устройства. Снабженные огромным запасом энергии машины этих плавающих гробниц могли автоматически работать в течение многих десятков лет. Преступник умирал от недостатка воздуха и от холода; вместе с аэропланом труп его блуждал в безднах воздушного океана. Такое вечное путешествие было придумано после того, как цивилизованные народы раз навсегда отказались от применения смертной казни. Осужденному в очень торжественной обстановке прочитывали статьи международного договора об отмене смертной казни. Потом его запирали в клетку, желали счастливого пути и блестящая легкая гробница, похожая на обшитый глазетом гроб, плавно поднималась на такую высоту, где прекращалось действие всех законов — и международных и каждого отдельного государства.
Обсерватория, как и все другие здания того времени, была окружена высокими стенами, защищавшими ее от нападения варваров.
В представлении дикарей в конце мира все ученые учреждения — музеи, академии, библиотеки, обсерватории являлись наиболее прочными укреплениями ненавистного им строя. Наука ковала цепи рабства для миллионов людей, разорвать которые они никогда не были в силах. Слабые, беспомощные массы стояли перед гигантскими сооружениями, воздвигнутыми трудами ученых и скрывающими от них доступ к власти и благам жизни. Сами ученые распались на множество замкнутых сект, проникнуть в которые можно было только при особой удаче и многолетней работе, которая требовала совершенного отрешения от жизни.
Знание разрослось до таких необъятных размеров, что ни один специалист как бы тесна не была область его работы, не мог перечитать и тысячной доли книг, написанных его предшественниками. В конце концов изучение свелось к запоминанию ряда формул и правил, смысла которых не понимали ни учителя, ни учащиеся. Творчество в науке стало невозможным, потому что вся жизнь ученых уходила на чтение и запоминание энциклопедии, в которой были соединены в сухом и сжатом изложении завоевания прошлых веков. Наука умерла. Остался её сухой остов, мумия в гробнице с заклинаниями и магическими формулами. Пользуясь этими формулами можно было вызывать грозу и бурю, прекращать эпидемии, строить удивительные по сложности механизмы и совершать вещи, которые всем казались более странными и таинственными, чем чудеса в храме Озириса и фокусы факиров на площади Веры.
В обсерватории меня встретил младший наблюдатель Хоккей, — астроном шестьдесят четвертой степени, имевший право носить розовую мантию. Величественные инструменты, непонятные и забытые стояли на прочных мраморных пьедесталах. Часть последних была сломана и в дальних углах залы трубы, рычаги и винты напоминали лес, поваленный бурей. Среди этих инструментов Хоккей в своей розовой мантии, которая волочилась по пыльным плитам, казался маленьким и ничтожным. Он словно заблудился среди труб медных дисков и каменных пьедесталов, похожих на гробницы.
— Вы никогда еще у нас не были? — спросил Хоккей. — Тут есть на что посмотреть. Все эти инструменты, за исключением сломанных конечно, накапливают факты! тысячи, миллионы фактов! записывают их на ленты и сами сматывают ленты на катушки, которые мы храним в погребах под холмом, на котором построена обсерватория. От их стеклянных глаз не ускользает ни одно из изменений в яркости самой отдаленной звезды; с величайшей точностью они определяют химический состав туманных масс, рассеянных в мировом пространстве; вот этот инструмент, направо за решеткой, в одну минуту дает более тысячи фотографий.
Астроном смотрел на окружающие нас механизмы с таким выражением, с каким древние язычники подходили к своим идолам. В его взгляде читалась робость и благоговение.
— Что же вы делаете с накопленными фактами! — спросил я.
— Как что? Мы их храним.
— Ну, а потом что?
— Да что же с ними делать. Ведь, чтоб рассмотреть и изучить фотографии, снятые хотя бы этим инструментом в то время пока мы с вами разговариваем, надо затратить по меньшей мере целый год. Человеческий ум слишком слаб, а жизнь слишком коротка для того, чтоб можно было разобраться хотя в ничтожной части бесконечных записей о вселенной, которые непрерывно делают эти механизмы. Было время, когда ученые пытались еще справиться с приливом фактов и осветить теориями и гипотезами горы растущего сырого материала, но теперь мы не можем и мечтать о таких попытках. Если вы спуститесь в подвалы под холмом, то можете целый день бродить в узких переходах между горами печатной и исписанной бумаги, и тогда самая мысль о том, чтоб возможно было — я не говорю изучить, а только рассмотреть эти материалы, покажется вам проявлением безумия. Мы копим факты и больше ничего!
Кругом слышалось слабое жужжание от вращающихся дисков и казалось, что действительно на эту обсерваторию надвигаются волны невидимого прилива, затопившего науку и превратившего ученых в прислужников бездушных мертвых механизмов.
По узкой винтовой лестнице мы поднялись на металлическую узорчатую площадку, повисшую между двумя медными трубами, как сорочье гнездо. Хоккей усадил меня на стул и предложил взглянуть в отверстие трубы.
— Комета еще не успела окончательно образоваться. Она находится в периоде роста. Не смотрите очень долго, если не хотите испортить себе зрение.
Я наклонил голову к искрящемуся стеклу и увидел картину, которую не забуду до конца жизни.
На черном фоне неба ярко горело красное трехугольное пятно; вокруг него кружились вихри искр. Казалось, что там была метель; страшная буря взметала хлопья огненного снега и создавала из него причудливые образы; лучей у кометы еще не было, но по сторонам её тянулись узкие голубоватые линии, изгибавшиеся как пряди водорослей в текущей воде.
Я видел творение. Испытывал такое чувство, как будто присутствовал при создании картины великого мастера и никогда потом комета не производила на меня более сильного потрясающего впечатления, чем в этот момент. Как и все остальные жители Гелиополиса я редко смотрел на небо, — скучное, холодное, немое с медным отблеском от электрических солнц, оно давно утратило для нас всякую тайну. Красное пятно кометы и вихри, крутящиеся вокруг него, показались мне огненным знаком, смысла и значения которого я не понимал, но смутно угадывал. Точно чья-то огненная рука чертила на небе непонятный иероглиф, и в этом иероглифе заключался приговор земле. Когда я поднял глаза от стекла, то не мог рассмотреть ни площадки, ни Хоккея, который стоял около меня.
— Может быть еще она и минует землю, — равнодушно сказал Хоккей, — тут всегда возможны ошибки, тем более что вычисления делали не мы, а наша математическая машина.
Но я уже знал, что столкновение неизбежно, уверенность эта создалась во мне как то разом и ее ничто уже не могло поколебать. Странно, что когда комета стала видима простым глазом, то такая же уверенность явилась у всех людей несмотря на то, что правительство принимало все меры для успокоения населения.
При помощи Хоккея я спустился по винтовой лестнице и через несколько минут вновь был над дикими полями, окутанными лиловым вечерним туманом. Вода в прудах и озерах казалась черной, с пронзительными криками носились птицы, холодный ветер нес тучи мелкой пыли над высохшей землей, далеко впереди над Гелиополисом горели огни электрических солнц и свет их казался мертвенно-бледным.
Недалеко от города с нами случилось небольшое несчастие; в машине что-то сломалось и пришлось быстро опуститься. Мы оказались на поляне, освещенной огнями Гелиополиса. С одной стороны тянулся глубокий овраг, в котором шумел невидимый ручей, а с другой, стояло наполовину разобранное строение, окруженное поваленной изгородью. Пока машинистка возилась около аэроплана, я сделал несколько шагов по направлению к оврагу и почти наткнулся на человека, сидевшего на срубе колодца. По одежде я сейчас же увидел, что предо мной один из тех людей, которые не окончательно еще порвали связь с городом и жили частью в диких полях, частью в отдаленных грязных предместьях. Когда этот человек поднял голову и внимательно посмотрел на меня, я увидел, что он или болен, или давно голодает.
— Что вы здесь делаете? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.
Бродяга пожал плечами.
— Не понимаю, почему вы задаете мне этот вопрос, но если вас это может интересовать, извольте: я вышел за город, чтобы увидеть комету.
— Вы ее еще долго не увидите: пройдет дней десять, а то и больше до того времени, когда ее можно будет различить невооруженным глазом.
— Вот что! — с оттенком сожаления сказал бродяга, — а я думал, что дней через десять все будет кончено и от всего этого, — он неопределенно показал рукой вокруг себя, — останется куча пепла. Впрочем может быть это новая выдумка ученых шарлатанов и плутов из квартала Веры.
— Я возвращаюсь из обсерватории и могу вам сказать наверное, что комета существует.
Лицо бродяги оживилось, он рассмеялся хриплым смехом.
— Да! вы ее видели? Отлично, значит я жду не напрасно.
И внезапно с приливом откровенности он заговорил.
— Если бы знали, как мне хотелось бы присутствовать, когда будет гореть весь мусор, начиная от парламента и кончая учеными в мантиях.
Меня неприятно поразила та радость, с которой этот человек в лохмотьях, сидевший среди пустыря, говорит о гибели всего, что с таким трудом накоплено тысячелетней историей человечества. Я не удержался, чтобы не сказать ему этого прямо.
— А какое мне дело до вашего человечества? — ответил с раздражением бродяга. — Что оно мне дало? вот я сижу здесь под этим черным небом, голодный. И если я здесь умру, то как вы думаете, заметило бы это человечество?
Он встал и говорил, размахивая длинной жилистой рукой.
— Но, позвольте, никто не может быть равнодушным к будущему человечества! Все страдания людей, и живущих теперь и живших раньше, необходимы для того, чтобы создать счастие будущих поколений, придет время когда не будет страданий…
Бродяга прервал меня презрительным жестом.
— Поймите же вы, что я не хочу быть рабом этих будущих людей! И какой толк для меня и для миллионов других таких же, как я, в том, что когда-то через десять тысяч лет люди будут жить в райских садах, что ли. Я хочу жить и все другие, которые умерли, не дождавшись этого вашего блаженства на земле они тоже хотели жить. Счастье нужно было им самим, а не каким-то там неведомым жителям блаженной страны.
Я не знал, что ответить на эту коротенькую речь, произнесенную с большой злобой и молча смотрел на худое лицо моего собеседника, освещенное слабым синеватым светом.
— Да, я за все счастие этого будущего человечества не отдам ни одного дня своей жизни. И в чем оно будет заключаться это счастие? Я уже теперь ненавижу этих ваших здоровых счастливых тунеядцев будущих веков, которые на моем страдании создадут, совершенную жизнь.
Он внезапно умолк, опустился на край сруба и проговорил уже спокойно.
— Я жду кометы. Она по крайней мере удовлетворит чувство мести.
По моему, кто толкует о жирных бездельниках, которые, может быть явятся, когда сгниют наши кости, тот либо дурак, либо не знает, цену слезам и крови.
Не желая вступать в спор я молча пошел к аэроплану.
Накрапывал мелкий холодный дождь.
Туман сгустился и огни Гелиополиса казались заревом, охватившим, половину неба.
Глава IV Язык идиотов. — В красном свете. — Рухнувшие стены. — Нашествие варваров
Я несколько раз принимался писать статью о поездке в обсерваторию и каждый раз бросал перо, рвал исписанные листы и уходил на улицу, где под знойным белым небом, скрывавшим огненный знак разрушения, шла старая привычная жизнь. Тот искусственный язык, на котором мы писали, совершенно не годился для выражения новых, глубоких и неожиданных идей. Если бы эсперанто, родоначальник сотни искусственных языков, был выдуман в древности и стал языком писателей и ученых, то мир не увидел бы Шекспира, Ньютона, Пушкина и Достоевского. Самый гениальный скульптор ничего не сделает из мусора. Но эсперанто был только первым шагом, первым преступлением на том пути, который привел человеческую мысль в душное подземелье, лишил её крыльев и гения сравнял с идиотом.
Перед концом мира, когда люди с величайшей легкостью переносились из одной страны в другую и на площадях городов, в гостиницах, на палубах аэроплана, мешались все племена, международный язык был так прост, что его в один день мог изучить самый глупый человек, какого только можно было найти под всеми географическими широтами.
Грамматика состояла из трех правил. Все слова производились от четырех корней: пи, ри, фью, клю.
Этот всеобщий язык назывался птичьим, так как разговор на нем напоминал щебетанье птиц.
Вот для образчика две фразы.
— Фьюти пиклю (я хочу есть).
— Пи пи фью? (который час).
Заклинаю людей будущего мира не заводить искусственного единого языка, если только среди них не будут преобладать слабоумные и совершенные идиоты. Большие газеты, расходившиеся в миллионах экземпляров среди разноплеменного населения, все печатались на птичьем языке и поэтому у писателей не было стиля. Как сухие листья, упавшие с зеленых шумных древесных вершин, кружились под пером бессмысленные слова и слагались пустые мертвые фразы.
Кто говорит и пишет на живом языке, тот окружен тайной; мысль его обвевают бури и ветер; над ней горят звезды и солнце. Живое слово летит из ночи, что осталась сзади нас, и несет силу творчества того, кто ушел и не вернется.
Изобретатели искусственного языка постоянно уверяли, что хотят помочь объединению человечества, — но достигли только того, что всюду— в Токио или в Мадриде у первого встречного можно было получить справку о названии улицы, направлении дороги, или о цене питательных пилюль. За этот великолепный результат птичий язык убил творчество, потому что никому не было охоты писать для ограниченного круга читателей, и книги превратились в склепы, где умные и глупые, новые и старые мысли были замурованы при помощи трех грамматических правил и четырёх корней всеобщего языка.
На улицах Гелиополиса я не заметил ничего такого, что бы указывало на растущую панику среди многомиллионного населения мирового города.
О комете почти не говорили. Мне самому начинало казаться, что видел скверный сон, и что небо не может скрывать в своей ясной спокойной бездне тех крутящихся огненных вихрей, которые ослепили меня в обсерватории. На одной улице я встретил процессию монахов, они шли с зажженными свечами и что-то пели. Начала собираться толпа, но сейчас же вмешалась полиция и после небольшого замешательства процессию оттерли в глухой темный переулок.
Толпа стояла молча, словно чего то дожидалась.
Разносчик, прижатый к окну магазина, выдавил лотком стекло и вступил в перебранку с приказчиком. Это маленькое событие отвлекло внимание уличной черни от мрачной процессии, и когда дверь в магазин закрылась, толпа начала разбредаться.
В другом месте, недалеко от Королевской площади, я видел кучку людей, собравшихся около стены, на которой было наклеено объявление гелиополисского губернатора, предупреждающего, что все слухи о комете сильно преувеличены. Бумага была еще сырая и какой-то парень сорвал ее и бросил в канаву.
Газеты были переполнены известиями о комете, о которой по телеграфу сообщали со всех концов света, и к вечеру настроение уличной толпы изменилось.
На мостах и набережной плотными рядами стояли тысячи людей, ожидавших появление кометы.
Первое общество аэропланов, устроило увеселительные поездки на такую высоту, где свет электрических солнц, не мешал наблюдать небо.
Места на аэроплане, брались с бою; впрочем, многих привлекала не столько комета, сколько танцовщица из королевского театра, Эмилия Лодуо, которая недавно задушила своего любовника.
15 августа парламент решил избрать особую кометную комиссию для рассмотрения вопроса о средствах предупредить надвигающуюся катастрофу, но, к сожалению, между большинством и меньшинством законодательной палаты не было достигнуто соглашения по поводу состава этой комиссии.
Оппозиция прибегла к обструкции и один депутат, семнадцать часов подряд говорил о бедствиях, которые причинит параграф 26 парламентского наказа, допускающий избрание членов в различные комиссии по простому большинству голосов.
Правительство созвало междуведомственное совещание с участием ста сорока академиков.
От этого совещания ждали самых благодетельных результатов, но на первом же собрании встретилось два серьезных препятствия, мешавших дальнейшему ходу работ.
Во-первых, возникли крупные разногласия о полномочиях председателя и во-вторых, академики поссорились из-за вопроса о том, что такое комета.
Спорили они до тех пор, пока не увидели комету так близко, что миновала всякая надобность в дальнейших прениях.
В течении целой недели над Гелиополисом стоял густой желтый туман. Вечером 23 Августа туманная завеса раздвинулась и красный треугольник, окруженный снопами пламени, показался над Гелиополисом. Громадный город зашумел, как океан при наступлении бури. Все население очутилось на улицах и среди него замелькали оборванные, грязные фигуры дикарей, на которых теперь никто не обращал внимания.
Чтобы ослабить разгорающийся зловещий свет кометы правительство приказало в семь часов вечера зажечь все электрические солнца и направить на небо лучи прожекторов, которые служили для освещения диких полей.
До десяти часов комета была плохо видна, но позднее она снова отчетливо проступила на черном фоне неба; и её красноватый отблеск дрожал в черной воде рек и каналов, в искусственном озере на королевской площади и на полированном мраморе дворцов и храмов.
Огромные толпы народа бросились в квартал Веры, откуда навстречу им бежали жрецы, потерявшие веру в богов и содравшие со статуй золотые украшения и драгоценные камни.
Все дома были освещены и сидя у себя в комнате, я видел через улицу как металась испуганная семья; отец складывал в ящик бумаги и деньги, которые рассыпались по полу; мать и две прислуги одевали детей, — увязывали платье и белье, которое грудами выбрасывали из шкафов и сундуков.
Внизу между стенами домов с шумом, похожим на гул прибоя, мчался живой людской поток.
Я заснул не раздеваясь и когда проснулся солнце ярким светом заливало всю комнату.
Около кровати стоял мой приятель художник Уйтман. Пальто на нем было разорвано, шляпа в пыли; рука, в которой художник держал стакан с водой, дрожала и около кисти была перевязана шелковым носовым платком с пятнами засохшей крови.
В ярко освещенной комнате, где все оставалось на обычных местах, рядом с широким зеркалом, в радужных каймах, черная фигура Уйтмана напоминала о том хаосе и смятении, которые царили за окном.
Художник внес часть этого хаоса и, вдруг стали нелепыми стройные ряды книг на полках около кровати, ковры, картины, мебель.
У меня было такое чувство, как будто бы сейчас в двери, которые стояли раскрытыми, вслед за Уйтманом ворвется буря и превратит в обломки все комнату.
— Скорей вставай и одевайся, — сказал мой приятель. — В город из диких полей идут люди, которые окажутся страшнее кометы. Я всю ночь провёл на окраинах. Там разграблены сотни домов. Подло погибает человечество; трусливое, глупое стадо! Я думаю, что комета явилась как нельзя более кстати.
Когда мы выходили на улицу, Уйтман ударил своей палкой по зеркалу и сверкающие осколки с веселым звоном посыпались на пол.
— Все равно, сюда ты не вернешься.
Я с сожалением взглянул на комнату, где у старых вещей было какое-то сходство со мной.
— Скорей, — торопил художник. — Пойдем к Королевской площади, там безопаснее, хотя многие бегут в квартал Веры и за город.
Улицы были запружены народом. Одни двигались к центру, другие бежали в противоположную сторону, к мосту и арки мира.
Кометы не было видно, но по небу тянулись золотистые полосы, сходившиеся в восточной части горизонта.
Я зашел в лавку на углу купить сигар.
Лавочник запросил за десяток столько, сколько вчера еще брал за сотню.
— Славно будет гореть ваш товар, — сказал Уйтман раскуривая сигару.
— Он у меня застрахован. Пусть горит.
Пройдя еще два квартала, мы натолкнулись на разбитый аэроплан, винты которого продолжали вертеться. На мостовой стояли лужи крови и какая-то старуха засыпала ее пылью, которую брала тут же из канавы.
Рядом на стене была приклеена огромная афиша, которую, в виду её исторической важности я прилагаю к этим запискам.
Где-то послышался гул выстрелов. Толпа испуганно бросилась в стороны и увлекла нас в узкий темный переулок, где было сыро и пахло гнилью, как на берегу болота. Около меня какой-то старик в золотых очках ругал правительство и парламент.
— Что они делают? Вместо того, чтобы принять меры для защиты населения от кометы, вступили в битву с дикарями, которые идут сюда с самыми мирными намерениями. Я вышел бы навстречу к этим несчастным пасынкам цивилизации и сказал речь о примирении и любви. Нет, впрочем ничего удивительного, что дела идут так плохо: в парламенте нет ни одного умного человека; каждый день семьсот дураков соединяют свои усилия, чтобы создать еще одну новую глупость.
Старик говорил с раздражением и глазами искал в толпе противников. Живой поток унес нас к другому концу каменной трубы. Отсюда далеко внизу видна была набережная и высокий узорчатый мост мира. Над рекой вытянувшись в одну линию летели на запад черные боевые суда. Одно из них описывало огромные круги под городом.
Несмотря на все уговаривания Уйтмана, я отказался идти дальше, и остался один около огромного недостроенного здания. Перебравшись через груды брёвен и камня, я удобно поместился за окном, забитым досками. В широкие щели одним взглядом можно было окинуть половину Гелиополиса.
Желтые полосы на небе становились ярче, расширялись, двигались как пластинки веера, развернутого от горизонта до зенита.
В шесть часов вечера вдруг хлынули потоки красного света. Казалось, что всходило второе солнце.
Когда комета поднялась над линией домов, все строения, набережная, река окрасились в багровый свет.
Выстрелы слышались чаще, но теперь они шли с другой стороны. С королевской площади доносились звуки музыки. Там начался Карнавал.
Мне казалось, что над землей веют чьи то огненные крылья и воздух становится невыносимо душным.
— Прекрасное зрелище, — сказал кто-то сзади меня. — Прекрасное, и скоро оно будет еще лучше.
Быстро оглянувшись я увидел маленького человека похожего на обезьяну. Он сидел на груде щебня, охватив руками тонкие колена и с усмешкой смотрел на меня.
— По-моему не прекрасное, а страшное.
— Однако вы ужаса не чувствуете. Все это слишком величественно и огромно, чтобы люди могли поддаться такому страху, который испытывают они, ну хотя бы, во время пожара, в каком-нибудь театре. Больше боятся полулюдей, загнанных в пустыри, чем кометы. Говорят, что в западном предместьи аэропланы навалили горы трупов, но бой еще далеко не кончен. Вы знаете какое время обращения этой кометы?
— Нет.
— Сорок две тысячи лет. Этот красный свет однажды уже заливал землю. Но тогда не было людей. Потоки огня, упавшего с неба, растопили ледники, которые закрывали половину Европы. Человечество, создавая свою цивилизацию и культуру, в сущности всегда находилось в положении приговоренного к смертной казни.
Земля была тюрьмой, а комета исполнителем приговора.
Старик встал, лицо его освещенное, как и все предметы красным светом казалось маской, через глубокие прорезы которой смотрели живые глаза.
— Я думаю, явилась она во время, — сказал он медленно. — Земля с солнцем и другими планетами движется, как вы знаете, к созвездию Геркулеса. Но вот чего не знаете ни вы, ни все другие: на бесконечном пути мы встретили несколько сфер с различным влиянием на дух, мысли и чувство людей. Вышли мы из области, где были равны богам и двигаемся в область низких уровней жизни и психики. Человечество все равно стоит на краю пропасти. Меняются и физические законы, но они более устойчивы, чем дух, который колеблется и гаснет или поднимается до неба на расстоянии какого-нибудь биллиона километров, пробегаемых землей в несколько столетий.
— Пред нами духовная пустыня, — повторил маленький человек, — ужас животной жизни, и пусть лучше комета сделает свое дело.
Небо меняет свой вид, хотя и очень медленно. Десять тысяч лет тому назад оно было иным чем теперь. У каждого столетия есть свой гороскоп. Судьбу человечества чертит орбита земли, и звезды, слагаясь в немые письмена хранят нашу судьбу. Астрологи угадывали истину.
Примечание. Старик Анверс, которого встретил Энрио, был одним из величайших математиков конца мира. Его теория о разнородности пространства дает единое объяснение множеству явлений из истории земли, развития органического мира и освещает историю человечества.
Окружающие нас бездны мира Анверс, исследовал при помощи устроенного им прибора, вроде того, как моряки пользуясь лотом, изучают, недоступные глубины моря.
Э.
Глава V Карнавал на королевской площади. — О театре. — В море тумана, — Последний час
Королевская площадь и расходившиеся от неё по радиусам, семнадцать широких улиц были залиты светом прожекторов и электрических солнц.
Оркестры музыки на земле и над землей заглушили говор и крики, в толпе, двигавшейся между домами, как бурная река в половодье.
Нанятые правительством артисты и артистки из всех театров Гелиополиса играли в последней пьесе, какую видели люди Старого мира.
Во всех больших театрах главные роли давно уже поручались не людям, а заводным говорящим автоматам.
Лучшие из них, занимавшие в разобранном виде немного места и требующие редкой смазки и чистки, изготовлялись на заводе братьев Аплон.
Работа братьев Аплон, была до такой степени совершенна, что в парламенте был однажды отыскан целый склад механических двойников депутатов из партии большинства.
Когда не хватило кворума, друзья отсутствовавших членов парламента совершали величайшее мошенничество.
Они входили в зал заседания с куклами, которые занимали место, внимательно слушали очередного оратора, аплодировали или шикали.
Гнусный обман открылся, когда то же самое стали проделывать члены оппозиции. Во время прений по вопросу о колониях в зале находилось, как это было доказано позднее, 280 кукол и только 27 живых слушателей, считая председателя (о последнем возникало сомнение), стенографисток и двух министров. Автоматами братьев Аплонов можно было управлять при помощи беспроволочного телеграфа. Валики с записями речей, монологов и проч. вставлялись по мере надобности и запас их у автомата мог быть очень велик.
Антрепренеры и в особенности режиссеры предпочитали иметь дело с куклами, чем с артистами. Первые ни когда не ссорились, мирились с любой ролью, а во время поездок на гастроли вся труппа в разобранном виде укладывалась в один сундук среднего размера.
Очень часто авторы, сидя в будке механика, сами исполняли свою пьесу. Большое распространение получили драматические импровизации. Пьеса создавалась на сцене, творчество происходило на глазах зрителя.
Голодные актеры охотно соглашались за ничтожную плату играть вместе с куклами, Антрепренеры всегда держали в труппе несколько живых женщин, чтобы вернее извлекать доходы из актрис-кукол.
В одном из самых больших театров Гелиополиса появилась красавица балерина, за которой начал ухаживать известный писатель Вольней.
Красавица держала себя неприступно, но охотно принимала дорогие подарки и однажды попросила у Вольнея крупную сумму денег. Она со слезами рассказывала в присутствии своей матери, что эти деньги нужны ей для того, чтобы стать свободной.
— Я хочу принадлежать только вам одному, — сказала она, прощая с писателем, за кулисами.
Вольней продал всю свою работу за три года вперед и вложив деньги в букет роз, передал их балерине. С этого дня артистка перестала принимать закабалившего себя на литературную поденщину влюбленного романиста, и во время антрактов сидела в запертой уборной, а после спектакля исчезала неизвестно куда.
Вольней был убежден, что она ему изменяет, начал пить и однажды захватил из редакции длинные ножницы, при помощи которых составлял ежедневный обзор печати, отправился за кулисы, сорвал дверь с крючка и увидел, что балерина сидит на диване рядом с каким-то господином в черном плаще. Вольней ударил ее ножницами в грудь и закричал, от испуга, когда оказалось, что его оружие застряло между двумя рядами блестящих, медных колес.
Аппараты братьев Аплонов были столь совершенны, что через час зашитая балерина танцевала как всегда, и не могла лишь раскланиваться, так как ножницы Вольнея выбили у неё из груди два колеса, совершенно необходимых для этого движения.
На королевской площади среди замаскированных было много кукол. Они двигались группами в сопровождении машинистов и смеялись так весело и заразительно, что невольно казалось, будто бы на площади царит самое неподдельное веселье.
Эту ночь я провел у своего друга, Уйтмана, который жил в центре города.
На следующий день красный свет заливал улицы мирового города с утра до вечера.
Комета с своими шестью лучами занимала половину неба.
Иногда рядом с ней вспыхивали снопы искр, рассыпавшихся как фейерверк. В пять часов вечера пошел дождь из мелких камней, поранивший и убивший несколько тысяч человек.
Улицы опустели. Остались только трупы, да брошенные на произвол судьбы автоматы, которые, никем не управляемые, бродили в своих красных с желтым шутовских костюмах и весело хохотали.
К вечеру выстрелы смолкли и по городу распространился слух, что команда военных судов разбежалась, бросив аэропланы на произвол судьбы. Только один воздушный миноносец «Персей» продолжал защищать город от вторжения дикарей.
Из окна Уйтмана я видел, как «Персей» описывая все суживающиеся круги посылал одну воздушную мину за другой по какой то невидимой цели.
Землю освещала комета, так как все рабочие на электрических станциях бросили работу.
На улицах замелькали грязные, оборванные фигуры, сначала они появлялись поодиночке, робко, потом небольшими толпами и наконец двинулись сплошной массой. Дикари подвигались с восточной части города, и перед ними все дальше и дальше отступало к запалу население Гелиополиса.
Мы с Уйтманом покинули город до рассвета, так как свет кометы уже затмевал свет солнца, правильнее сказать, — когда ядро кометы стояло в зените.
На мосту около арки Мира нам пришлось ждать больше часа, пока удалось перейти на другой берег реки. Счастливцы, которым удалось попасть на аэропланы, давно уже выбрались, и теперь летали только огромные грузовые суда, на которых правительство вывозило бумаги из парламента и правительственных учреждений, золото из кладовых, государственного банка самых важных преступников.
Идти по полю было очень трудно. На каждом шагу попадались рытвины и норы, в которых жили дикари до появления кометы.
Я несколько раз проваливался в эти ямы и выбирался из них с большим трудом.
Кругом нас все поле было усеяно беглецами. Усталые, измученные люди тащили такие вещи, которые теперь им были совершенно не нужны.
В кустарниках, которые в багровом свете кометы казались кучами черного пепла от сожженной бумаги, сидели и лежали собственники скарба, связанного в узлы и валявшегося на мокрой земле. Мы догнали семью, отец которой нес пишущую машину, мать еле передвигала ноги, сгибаясь под узлом, из которого торчала ручка зонтика и угол золоченой рамы, сын нес клетку с птицами, а дочь роскошный букет бумажных цветов.
Я думаю, эти люди умерли бы от испуга, если бы остались среди черной пустыни под красным небом без тех вещей, которые напоминали им о старом привычном мире.
— Ты уронила серебряную ложку, — сказал мужчина жене.
Уйтман поднял блестевшую ложку и его поблагодарили так горячо, как будто бы он оказал этим людям истинное благодеяние. Беглецы почти не разговаривали друг с другом. Каждый думал только о себе и не обращал на случайного спутника не больше внимания, чем на кустарник вдоль дороги.
Человечество разом рассыпалось на составляющие его живые единицы, походило на сухой песок, который развевает буря.
Красный свет кометы разрушил все скрепы, созданные в течении тысячелетий и казавшиеся вечными.
В последние часы старого мира каждый человек был таким же одиноким, как если бы он находился в пустыне, населенной хищными зверями. Ночь мы провели в какой-то яме, рядом с актером, привившим себе огромную дозу веселящей бактерии. Он всю ночь пел, плясал, на полянке между ямой и кустарником, и приглашал меня и Уйтмана ловить женщин, День не наступил, хотя солнце давно уже взошло. Лучи его не могли пробиться через сухой красноватый туман, от которого болели глаза и мучила постоянная жажда. Трудно было рассмотреть что-нибудь в десяти шагах. Казалось, что где-то близко горит лес и земля застлана клубами едкого багрового дыма.
Боясь потерять Уйтмана, я связал себя с ним веревкой в три метра. Шли мы без цели, смутно различая очертания людей, заброшенных строений и холмов, на которых туман был еще тяжелее и колебался, как занавес, вздуваемый ветром. Было так жарко, что я снял сюртук и жилет.
Уйтман жаловался на головную боль и говорил, что все предметы колеблются, и отделяются от земли, словно их подмывает бурный прибой.
Описав огромный круг в двадцать или тридцать километров мы вновь очутились перед Гелиополисом, и почти в том, месте откуда вышли.
От усталости и отравления туманом я перестал ясно сознавать все происходящее, помню только, что черные стены Гелиополиса показались мне зубчатыми скалами, поднимающимися со дна бездонного моря.
Вдруг веревка сильно натянулась, я упал на землю, больно ударившись плечом об острый камень, и поднявшись увидел, что Уйтман с окровавленной головой сидит на ступеньке лестницы.
Кто-то перерезал веревку и схватил меня за руку, втолкнул в узкий темный коридор.
В высокое окно, защищенное железной решеткой я видел, как вокруг Уйтмана в волнах тумана быстро собралась толпа людей.
Они походили на черных крабов, которые копошатся вокруг трупа.
— Отойдите от окна, — услышал я за собой чей то шопот, но меня уже увидели с улицы.
Кто-то из толпы бросил камень, и стекла со звоном посыпались на каменные плиты.
Потом мы втроем молча и долго шли по каким-то галереям, в разбитые окна которых вливался багровый туман, с противным сладковатым вкусом, прятались в погребах и в саду, окруженном высокой каменной стеной.
Один из моих спутников завязал мне рот и нос платком, смоченным в жидкости с запахом нашатыря.
Я подчинялся всему, что от меня требовали, я больше всего хотел покоя. Однажды я даже лег на песчаную дорожку сада, но меня сейчас же подняли и повели дальше.
Последним моим воспоминанием был тяжелый грохот каменного дождя но крышам и стенам домов.
Очнулся я в той подземной глубокой галереи королевского музея древностей, куда меня и Безымянного привел Эверт.
Подтверждаем, что в записках Энрио Витторино, все события изложены верно.
Король Меридинг XIV.
Доктор химии б. председатель гелиологического общества для изучения природы.
Эверт.
И я, № 369.
Сусанна.
За неё подписался
№ 369.
Элоиза.
Особое мнение хранителя королевского музея и кавалера Ольрида
Легкомысленный тон рассказа не отвечает важности событий. Предлагаю уничтожить все тридцать шесть плит, взятых из музея, на которых Энрио Витторино нацарапал историю наших бедствий.
Ольрид.
Биография
С. Бельский
Симон (Семён) Фёдорович Савченко — русский журналист и писатель-фантаст. Писал под псевдонимом С. Бельский, но со временем этот псевдоним практически заменил саму фамилию.
Год рождения 1873. Скончался 23 августа 1923 года.
Жил в Москве. Был сотрудником «Московских ведомостей», «Бюро русской печати» (1913) и др. Много ездил по России. Первую брошюрку издал в Ставрополе в 1895 году, затем жил в Москве, с 1906 года активно участвовал в работе партии «Союз 17 октября» (октябристов). Сотрудник «Московских ведомостей» (1915), «Нивы» (1916-17), редактор-издатель «Бюро русской печати» (1913).
После революции 1917 года эмигрировал, предположительно, первоначально во Францию.
Художественные произведения Бельского разнообразны по темам (историческая и этнографическая фантастика, атомная и экологическая катастрофы, межпланетные сообщения), нередко пронизаны ощущением близкой гибели, непрочности старого мира.
В честь Симона Бельского в городе Пскове его именем названа улица.
Библиография
Повесть С. Бельского «Под кометой» печатается в современной орфографии по изданию С.-Петербург. Типография «Печатный труд». 1910 год.
На обложке нашего издания рисунок художника Георгия Нарбута «Русская комета».

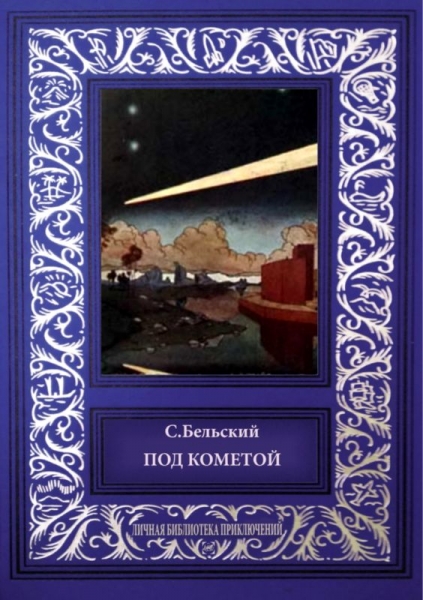

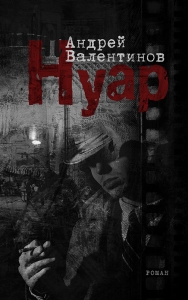

Комментарии к книге «Под кометой», Симон Федорович Бельский
Всего 0 комментариев