СКИТАЛЕЦ ЛАРВЕФ ОСТАНОВЛЕННЫЙ МИГ
Всего два часа продолжалась эта странная попытка заглянуть в бесконечность.
Чего ждала Эроя, включив аппарат? Она ведь знала, что прошлое, возвращенное благодаря бесперебойной работе искусственной памяти, не могло заменить ни настоящего, ни будущего.
Сейчас Веяд был здесь, рядом. Сейчас? Нет, это «сейчас» давно стало прошлым и поселилось в сознании автомата, всегда готового к услугам, всегда умеющего повторить ускользнувшее мгновение, но не способного превратить утраченное в настоящее.
Эроя встретилась с Веядом. Где? На этот вопрос не сумели ответить даже ее напряженные чувства. В квадрате, высветлившемся из потемневшего как ночь фона, показалось его лицо. Он шел, словно под ногами его был пол — нечто надежное, прочное, привычное с детства.
— Веяд! — крикнула она. — Ты куда?
— К тебе, — ответил он, весело и беззаботно улыбаясь. — Куда же еще?
Собственно, эта улыбка (две детские ямочки на преобразившемся мужском лице) и сделала его живым, милым, реальным.
— Как я рада, — сказала Эроя, протянув руку к квадрату.
— Не больше меня, дорогая. Говори, говори… В прошлый раз ты была чем-то озабочена и почему-то молчала.
— В прошлый раз? А когда был этот прошлый раз?
— Вчера.
— Нет, это было не вчера, дорогой. А десять лет назад. — И все же вчера, — настаивал он.
— Вчера? — повторила она задумчиво.
— Я перестала понимать это слово.
— Не надо. Не надо об этом… Как подвигается твоя работа?
Она стала увлеченно рассказывать о своей работе, забыв, что рассказывает не ему, не Веяду, а его отражению, его информационной копии. Слышал ли он?
Разумеется, нет.
— Прикоснись ко мне, милый. Прикоснись, скорей! — крикнула она.
Он сделал шаг, но пространство словно не пускало его, пространство и время. Просветлевший квадрат стал меркнуть, окно в бесконечность закрылось туманом расстояния.
И все же Эроя не жалела, что включила аппарат. Почти два часа она провела «вместе» с Веядом, и временами казалось, что он вернулся. Может, он и вернется, если его отпустит даль. Но когда? Десять лет прошло, и пройдет еще десять, и еще двадцать,
Она ждала. Но ведь и он тоже ждал, если был жив.
Между ними были звезды, которые своим светом напоминали ей, как велика Вселенная и как легко в ней затеряться.
Эроя притронулась к роботу, хранившему прошлое. Он был холоден, как и полагается вещам. Но из всех вещей его выделяла одна особенность: он был хранителем того, что связывало их, и сопротивлялся течению времени.
В этом сделанном из довольно прочных материалов предмете жило нечто неповторимое и интимное, впрочем, не очень прочное-кусок отраженного бытия. Эроя притронулась к роботу ласково, словно это было живое существо.
Затем она вышла из комнаты воспоминаний, усилием воли оторвавшись от утраченного.
Мир отдыхал. Отдыхала природа. Отдыхало население планеты в этот ночной, тихий час. Все существо Эрой сопротивлялось отдыху, не хотело покоя.
Ночной покой-это временное отсутствие, сон, вынужденное бегство от суеты и забот дня. Сон выключал Эрою и ее сознание, заставлял забывать о том, о чем она не имела права забывать, о Веяде.
Но сегодня она не хотела уходить от воспоминаний, не хотела и не могла.
Эроя спустилась в сад, где ее ожидала машина-вездеход, преодолевающий любое пространство-водное, подводное, надводное, воздушное, безвоздушное, горное, болотное, лесное. Водитель не спал и не бодрствовал. Он пребывал по ту сторону одухотворенной и живой среды, во всем подвластный программе, безжалостной и механичной как судьба.
— Добрый вечер, — поздоровался он.
— Сейчас не вечер, а ночь, Кик, — поправила его Эроя, — Да, ночь. Но я не люблю это слово, — Что значит «не люблю»?
— Не люблю — значит не люблю. По смыслу это противоположно слову «любовь», Слово «любовь», произнесенное автоматом, приобретало какой-то неожиданный и чуточку страшноватый смысл.
— Кик, сколько раз я тебя просила не произносить слов, смысл которых тебе непонятен.
— Я понимаю, Я все понимаю, — сказал автомат.
— Помолчи, очень прошу тебя. Кик, сейчас мне нужна тишина.
Небо было полно звезд. Они были бесконечно далекои, казалось, совсем рядом, так же бесконечно далеко, как Веяд.
Автомат-водитель открыл дверцу вездехода, и незаметное движение перенесло Эрою в горную местность, в Институт истории и археологии. Здесь еще было утро. Свистели птицы. Здесь утро длилось дольше, чем везде. Со скалы падал водяной поток. Грохот падающей воды освежал каждое мгновение в этом утреннем краю пахнущих смолой ветвей.
В лаборатории на реконструкционном столе лежал череп молодого охотника, погибшего еще в каменном веке.
Эрон, младший брат Эрой, выдающийся кибернетик и физиолог, советовал ей восстановить внутренний мир этого древнего дильнейца. Разумеется, не буквально вернуть утраченное бытие, а создать духовный слепок, модель ума и чувств. Эроя пока не дала согласия на это. Да и возможно ли смоделировать внутренний мир древнего дильнейца, имея только его череп?
Работа, в сущности, еще не перешла через первую стадию размышлений и догадок. Эроя старалась представить себе жизнь этого охотника, его самого, мир, который его окружал, пещеру, где он и его сородичи нашли приют.
Один древний философ сказал; «Все наше богатство заключено в мысли».
Как будто мысль важнее действия. Философ жил в ту эпоху, когда мышление наивно отрывали от жизни, от дела.
А ей, Эрое, нужно реконструировать скорее жизнь чувств, чем жизнь мысли.
Было ли имя у этого охотника? Нужно думать, было. Собственные имена существуют давно, они возникли вместе с языком для того, чтобы древний дильнеец мог отделить себя от других — и другие могли с помощью звуков обозначить нечто неповторимое и особенное. Иногда Эроe казалось, что ей было бы легче работать, восстанавливая oблик Древнего Охотника, если бы она знала его имя. В каждом имени есть нечто от того, кто его носит. Звук, название сливается с тобой и, как кажется родным и близким, выражает твою суть. Вот и Веяд… Сочетание звуков переносит Эрою в то десятилетие, когда он был здесь на Дильнее рядом с ней. Он немножко подшучивал над ее специальностью палеонтолога и археолога. Всю жизнь смотреть в прошлое, оглядываться назад! Так может заболеть шея Нет, его интересовало не прошлое, а будущее, тоже даль, но не позади, в впереди нас.
Эроя любила свою специальность. Еще в средней школе она поняла или, вернее, почувствовала, что такое время, история. А позже она овладела искусством извлекать время из мертвых предметов и документов, и это стало ее профессией.
Размышления Эрой прервал призывный звук отражателя.
Она взглянула на экран и увидела добрые, усталые глаза своего отца.
— Если ты не очень занята, Эроя, — сказал отец, — зайди, пожалуйста, ко мне в институт. Я хочу показать тебе чудесное существо.
— Опять древнего таракана, извлеченного из тьмы веков? Он мне ужасно не понравился.
— Нет! На этот раз не таракана, а бабочку, только что доставленную из тропиков.
Дети Эрона-старшего, одного из крупнейших энтомологов Дильнеи, не пошли по стопам отца. Эрон-младший избрал специальностью теорию информации, Эроя — историю и палеонтологию. Нет, их не привлекал мир насекомых, крошечных существ, которых эволюция загнала в тупики познания, одарив инстинктом, застывшим знанием рода и вида.
Сколько книг о насекомых и их видении мира написав Эрон-старший! И сколько придумал и создал аппаратов, занятых тем, что они вбирали в свою механическую память факты из жизни этих странных существ.
Эроя зевнула. Ничего не поделаешь, придется провести час или два в лаборатории отца.
ТОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ДАТ
Это было давно. Эрое исполнилось тогда семь лет.
И отец принес домой необыкновенный подарок.
— Не знаю, понравится ли тебе…
— сказал он. — Достаточно войти сюда и нажать кнопку… Но не спеши. Никогда не надо спешить.
— А если я нажму кнопку, — спросила нетерпеливо Эроя, — что случится со мной?
— Ничего особенного. Ты превратишься в пчелку.
Эроя думала, что отец шутит. И так думали все — и дети, пришедшие в гости, и взрослые. Но оказалось, отец вовсе не шутил, Эроя раскрыла дверь аппарата, вошла, нажала кнопку и превратилась в пчелу. Не то чтобы превратилась буквально, как в древних сказках, но она попала в пчелиный мир. А разве это не одно и то же?
Это были чудесные мгновения. Исчезла комнате с гостями, исчезло все, и появилось нечто новое и необычайное.
Этот мир, который раскрылся перед Эроей, сверкал всеми оттенками и всеми цветами. Желтый, зеленый, синий, фиолетовый. А это еще что за цвет? Ведь такого цвета не бывает. Но он тут, перед глазами. Он сверкает, как поверхность лесной реки, как облако, как зыбкая ветка приснившегося дерева. Как же он называется? Эроя начинает вспоминать название всех цветов и оттенков. Но этому цвету, должно быть, забыли дать название. А мир сверкает и меняется.
Цвета и запахи так странно сливаются. Пахнет кленовым соком. Что это?
Птичий свист? Или запах фиалки? Или прохлада грохочущей реки, несущейся по камням?
Вещи потеряли тяжесть. Нет линий и форм, Только цвета и оттенки. Время остановилось. В приснившемся облаке отражается черное крыло птицы.
Спустя много лет у Эрой не раз возникали воспоминания, что когда-то она была пчелкой. Не во сне же ей приснился странный мир?
И все же она не стала энтомологом, вопреки желанию отца. Ее влекла к себе не природа, а история. А еще больше-искусство восстановления утраченного.
Вот и сейчас она хочет восстановить облик древнего охотника, того, от кого остался только череп, а от эпохи кусок грубо отесанного камня, служившего одновременно орудием защиты и труда.
В лаборатории была тишина. Механические библиографы и автоматические историки стояли, погруженные в молчание, в безмолвный покой вещей.
Дверь распахнулась. Вбежала молодая помощница Эрой Физа Фи. У нее было лицо возбужденной от бега школьницы. Сама быстрота, скорость, нетерпение — она всегда куда-нибудь спешила.
— Сегодня я хочу уйти на час раньше, — выпалила она. Ее смеющиеся глаза смотрели на Эрою настойчиво и ласково. Она просила, зная, что Эроя не сможет отказать.
— Опять этот твой безумный Математик?
— Он безумный, но не мой.
— А что он говорит?
— Он не говорит, он только подсчитывает. Он подсчитал все — количество галактик, звезд и планет. Количество атомов. Возможное количество биологических форм, количество клеток у всех организмов, не считая одноклеточных. Исходя из теории вероятностей, он даже предсказал мое будущее.
— Что же он предсказал тебе?
Физа Фи рассмеялась.
— Он не предсказал, а вычислил. Он только назвал две цифры, и обе очень большие. Он подсчитал, сколько лет Вселенная существовала до меня и сколько она будет существовать после.
— Откуда он все это знает?
— Он ничего не знает. Он шутит, Эроя. Но шутит точно, математически, с цифрами, уравнениями и выкладками. Его бог — это число.
— Он всего-навсего мальчишка, студент. Сколько же ему лет?
— Нисколько, Он умножил годы на секунды. И сказал мне, сколько он прожил секунд. Астрономическое число. Он сделал это в уме, всего за три минуты, — А от какой цифры он вычел самого себя?
— Он хочет взглянуть на череп древнего охотника, У него есть какие-то идеи, которыми он хочет с нами поделиться.
— Но он же не археолог, не палеонтолог, он математик. И к тому же мальчишка.
— Он говорит, что без математики тебе не восстановить утраченное.
— Передай ему, что он еще юнец, хотя прожил астрономическое количество секунд. Все мальчишки влюблены в большие числа.
Как только ушла Физа Фи, Эроя включила автоматического Эрудита. Ровный, тихий, приятный академический голос начал называть факты, перечислять события, напоминать даты и имена.
Эроя подошла к Эрудиту и переключила стрелку. Стрелка побежала назад, в прошлое, отмеривая не часы и минуты, а столетия. Наконец она остановилась в той глубокой и темной, как дымная пещера, эпохе, где не существовало ни дат, ни календарей, ни исторических событий, записанных в книгах или памяти поколений. Поколения сменялись быстро.
Никто даже из самых могучих и ловких не мог переступить через порог своих сорока лет. Жизнь была короткой, полной опасностей и невзгод. Жили, охотились на зверей, рожали. А смерть уже ждала, торопилась и торопила.
Она являлась внезапно — то как снежный обвал, то как прыжок оскалившего зубы хищника, то как камень, брошенный рукой соперника, отобравшего у тебя вместе с жизнью и быстроногую самку. Уже не стадо, еще орда. И полное слияние «я» с родом. Личность? Нет, о ней еще никто не ведал.
Тихий, академический, бесстрастный голос, голос без интонаций. Безличный, как всякий автомат и учебник. Безличный монотонно повествовал о безличном.
Нет, не то. Совсем не то. Эроя взглянула на череп древнего охотника. Ведь не общее, не род, не племя хотела она восстановить, а только одного.
Одного из многих. Лицо неповторимое, особенное, живое, каким, вероятно, и был этот рано погибший юноша, Брат Эрой Эрон-младший на днях был здесь и предложил восстановить внутренний мир охотника. Он мог ставить себе такую задачу. Сумел же он создать модель внутреннего мира своей сестры, записать живую историю ее личности и подарить эту модель отправившемуся в космическое путешествие Веяду. Он хотел облегчить горечь разлуки. Удалось ли это ему? Едва ли. Но об этом речь пойдет впереди.
Встречаясь с сестрой, Эрон-младший шутил:
— Ты здесь? Возможно ли это? Но спрашивается, кого же я отправил с Веядом?
— Ты отправил мою тень, мое отражение.
— Нет! То, что я отправил, все же больше тени и глубже отражения.
— Так что же ты отправил, Эрон?
— Что я отправил? Об этом нам расскажет Веяд, когда он вернется из своих странствий.
Но вернется ли Веяд? Пространство молчало. Экспедиция потеряла связь с планетой.
Думая о Веяде, Эроя забыла выключить Эрудита. Стрелка двигалась назад, отсчитывая столетия. Тихий, монотонный академический голос продолжал перечислять факты, добытые археологами и записанные в бездонной памяти кибернетического всезнайки. Из всех аппаратов лаборатории это был самый самоуверенный и категоричный. Он был похож на своего создателя — историка первобытного общества Трана. Перечислил уйму фактов. И ни разу ни на кого не сослался. Можно подумать, что все эти факты добыл сам.
Эрудит читал свою лекцию. Но Эроя уже не слушала.
Ее мысли были далеко за пределами биосферы и атмосферы, истории и доистории, там, в бесконечности, не отпускавшей Веяда и его спутников.
ПОДАРОК ЭРОЙ
Веяду и его спутнику Туафу пришлось поселиться на космической станции Уэра. Им не дано было выбирать, где жить. Космолет погиб, и только им двоим удалось достигнуть Уэры, им, да еще третьему существу, которое не нуждалось ни в пище, ни в воздухе, ни в опоре для ног.
Это существо могло поместиться и в кармане.
О том, как удалось создать дубликат Эрой, оставив почти без изменения внутренний мир, не знал не только Туаф, но и сам Веяд. Он прятал Эрою, пытаясь сохранить в тайне удивительный факт, плохо согласованный с опытом и здравым смыслом. Он прятал ее от чужих и нескромных глаз. Но разве можно спрятать что-нибудь на таком крошечном островке, как Уэра?
В истории планеты Дильнеи это был первый случай, когда путешественник увез вместо изображения своей жены нечто новое, чему еще не придумали названия.
Подарок, который преподнесла Эроя своему другу и возлюбленному, был бесценен — она принесла самое себя, отделившись от самой себя и одновременно оставшись сама собой. Она вручила дубликат своего ума и своих чувств, бесформенный комок какого-то неизвестного и чудного вещества, куда вместилась живая и неповторимая история личности, называемая памятью.
Личность. Привычное слово. Но философы и историки утверждали, что понятие личности появилось сравнительно поздно, всего несколько тысячелетий назад.
А как было раньше? Оставалось только гадать, изучая древние эпические сказания. Проконсультироваться было не с кем. Тот, кто жил в далекие доисторические времена, унес в небытие тайну своего психического мира.
Пещерные рисунки, сказки, загадки, фольклор, древние поэмы. Из них пытались ученые извлечь то, что унесли с собой поколения.
Сколько исследований было написано о том, что такое личность, личность общественная, гражданская, психическая, историческая. Все согласились с тем, что личность неотделима от памяти, от своей собственной и живой истории, от своего бытия. Один из насмешливо настроенных физиологов пошутил. Он назвал память «преодолением отсутствия». Неплохо сказано, хотя и чуточку туманно. Веяд и Эроя с помощью Эрона-младшего нашли способ преодолеть отсутствие, сделать невозможное возможным, разлучившись, все же остаться вместе, разделиться не разделяясь. Они думали, что им удалось обмануть пространство и время, перехитрить законы природы. Но они все же переоценили открытие Эрона, брата Эрой, и невозможное стало возможным только наполовину.
РАССКАЗЫВАЕТ ТУАФ
Не я выбирал себе спутника и товарища, его выбрала за меня судьба.
Покинуть космолет удалось всем, но только мне и Веяду посчастливилось достичь Уэры. Посчастливилось? Я не без сомнения употребляю это слово. Не много счастья в том, чтобы сидеть на крошечном островке, окруженном пустотой, и ждать…
Нас было двое, всего только двое в этом огромном и пустынном мире, и трудно представить мое изумление, когда однажды, проснувшись, я услышал незнакомый голос. Это был женский голос, явно девичий, мелодичный и музыкальный. Я подумал, что меня обманывают чувства. Но голос был рядом, за тонкой звукопроницаемой перегородкой.
Кто-то разговаривал с Веядом. Я прислушался.
Веяд. Тише! Нельзя так громко говорить, Эроя, Впрочем, пусть слышит. Мне надоело тебя прятать. Эроя. А ты думаешь, мне приятно, чтобы меня прятали!
Веяд. Но зато мы вместе, рядом.
Эроя. Рядом? Ты в этом уверен? А мне кажется, что между нами целый мир…
Между нами пространство, Веяд. Холодное космическое пространство.
Веяд. И все же ты со мной. Я слышу твой голос. Я спрашиваю тебя и отвечаю на твои вопросы. Разве это так уж мало?
Эроя. Твой спутник лишен этого?
Веяд. Лишен. Хочешь, я познакомлю тебя с ним? Его зовут Туаф.
Эроя, Не хочу.
Веяд. Почему?
Эроя. Это причинит ему боль. Он еще больше станет тосковать по Дильнее.
Веяд. Возможно.
Эроя. Он тоже расстался с возлюбленной?
Веяд. Не знаю. Туаф ничего не говорил мне о ней.
Э роя. Он застенчив.
Веяд. Не очень.
Эроя. Скрытен?
В е я д. Не всегда.
Эроя. Умен?
Веяд. Отчасти.
Эроя. Добр?
Веяд. Иногда добр, иногда нет.
Э роя (смеясь). Из твоих слов трудно составить что-нибудь определенное. Он красив?
В е я д. Да, когда он этого хочет, когда у него хорошее настроение.
Э роя (изумленно). Разве красота зависит от настроения?
В е я д. Зависит.
Э роя. Я этого не понимаю.
В е я д. Сейчас объясню. Туаф-оптик, косметик и декоратор-иллюзионист. Во время путешествия в его обязанности входило заботиться о внешности членов экспедиции и экипажа. И о своей внешности. Но сейчас он в таком настроении, что ему не до красоты. Да и для чего быть красивым на таком острове? Если б он знал, что его может увидеть женщина…
Э роя. Тебе нравится этот островок?
В е я д. Уэра?
Э роя. Я не знала, что у этого островка такое звучное название.
В е я д (мечтательно). Название успокаивает. Безжизненный островок облачен в звук, он назван, и где-то помнят его название. Названия… Имена! Где-то далеко-далеко, может, вспоминают и мое имя.
Э роя. Она скучает по тебе,
В е я д. Кто?
Э роя. Кто же еще? Разумеется, твоя Эроя.
В е я д. Но разве ты не она? Ты ведь здесь?
Эроя. Здесь только часть меня. На самом деле я там.
В е я д. Нельзя же быть одновременно и там и здесь?
Эроя. Ты же знаешь, что можно.
В е я д. И знаю и не знаю. Я ведь ни в чем не уверен.
Эроя. Разве так уж плохо, что мы вместе?
В е я д. И вместе и отдельно. Ведь то, что здесь ей мной, только копия, совершенная, идеальная копия, но все же не оригинал.
Эроя. Мне неприятно это слышать. Твои слова причиняют мне боль!
В е я д. Те! Кажется, проснулся Туаф.
Пауза.
Туаф. Да, я проснулся. С кем ты беседуешь?
В е я д (растерянно). Сам с собой. Я мечтаю вслух.
Туаф (насмешливо). Двумя голосами? Мне послышалось, что с тобой разговаривала женщина.
В е я д (уже спокойно и тоже насмешливо). На нашем островке появились призраки.
Может, действительно на островке появились призраки.
Здесь снятся такие необыкновенные, реальные сны!
ИГРОК
В сохранности оказались аппараты и запасы вещества, почти все необходимое, кроме воздуха и воды. Но Веяд и Туаф с помощью устаревшей аппаратуры (она оставлена была здесь по меньшей мере полтораста лет назад) создавали воду и воздух, минимум того, что требуется для существования. Пребывавшая же с ними Эроя не нуждалась ни в воздухе, ни в воде, ни в пище. Она была по ту сторону жизни и смерти-отражение живого бытия, кусочек восприимчивого вещества, наполненный до отказа всяческой информацией, нечто большее, чем тень, и нечто меньшее, чем та, что осталась ждать.
Ждать… Из всех слив разговорного языка, из всех обозначений и знаков это слово было самым необходимым на Уэре. Уэра и была создана для того, чтобы дать приют ожидающим. Да и сама Уэра ждала почти двести лет, пока из необитаемого островка превратилась в пристанище для космических робинзонов. Пусть в памяти веков останутся имена ученых и инженеров, строителей этого крошечного мира!
Благодаря их смелости, упорству и мастерству Туаф и Веяд нашли то, на что можно было опереться в этой пустоте.
По-видимому, один из строителей — инженер Тей в свободные минуты предавался размышлениям о сущности времени и бытия. Веяда заинтересовали записи Тея. Инженер Тей писал: «Для меня нет ни настоящего, ни прошлого, а только будущее. Весь смысл моего бытия — чтобы достичь его. Настоящее?
Когда я возвращусь на родную Дильнею, оно станет прошлым. Прошлое? Оно присоединится к будущему. Мне хочется представить себе тех, кто найдет здесь приют. Может, это мне поможет победить тоску по моей родине Дильнее… Жена ждет меня. Но едва ли она меня дождется. Когда я возвращусь домой, пройдет слишком много лет для короткой жизни индивида.
Долгое пребывание в космосе и полет со скоростью, близкой к скорости света, создает парадокс времени. Полет почти со скоростью света затормозит мое время, удлинит мою жизнь, но жизнь моей жены, сына и моих друзей, подверженная другим темпам и иным ритмам, не сможет поспеть за моим бытием».
Веяд столько раз читал и перечитывал этот отрывок дневника Тея, что знал его почти наизусть. Иногда он включал старинный аппарат, проектирующий на экране заснятое инженером Теем и его товарищами, и тогда появлялось изображение самого Тея, технически наивное и устаревшее. Тей ходил, жестикулировал, разговаривал с приятелями, спорил, смеялся. Смех преображал его усталое умное лицо. Оно молодело всякий раз, как кто-нибудь шутил.
Да, они шутили и смеялись, эти мужественные строители, хотя им было не до смеха.
Отчего рассмеялся Тей? Уж не оттого ли, что его товарищ, вакуумщик Дим, назвал этот ужасающий бездонный вакуум милой и любимой им пустотой. Он был действительно влюблен во всякую пустоту, во всякий вакуум, этот вакуумщик Дим. Он знал также о том, что даже самая пустая пустота все-таки не является абсолютно пустой.
Смех инженера Тея долетел до старинного мерцающего экрана. Этот смех преодолел время и даже смерть. Экспедиция Тея, построив станцию Уэра, так и не добралась до своего доброго, защищенного биосферой и атмосферой мира.
Они погибли в пути.
Смех долетел до Веяда как раз в ту минуту, когда вошел Туаф.
— Охота тебе смотреть то, что устарело на полтораста лет! Кто этот смеющийся дильнеец?
— Тей.
— А, да! Читал о нем в детстве. Вспоминаю.
Тей — добрый и мужественный строитель. О, если бы Туаф хоть чуточку был похож на него. На днях он сказал Веяду:
— Мне скучно. А тебе?
— Ты не мог спросить меня о чем-нибудь другом?
— О чем?
— О погоде.
— На Уэре стоит всегда одна и та же погода.
— Ты наблюдателен. А еще что ты заметил, живя здесь?
— О том, что я заметил, я пока тебе не скажу.
Он стал продолжать дело, которым был занят. Туаф чинил автомат для логической игры. Искусственный гроссмейстер был создан по крайней мере два века тому назад и, разумеется, порядком устарел. Когда-то он честно послужил людям, борясь с самой страшной энтропией из всех энтропии, разъедавших не вещи и явления, а душу. Он некогда развлекал строителей космической станции, заставляя их долго думать над каждым ходом.
У Туафа были ловкие руки и способности к технике.
Дело подвигалось успешно. И вот искусственный гроссмейстер сделал свой первый ход. Но прежде чем сделать ход, он бросил Туафу нагловатую и насмешливую фразу:
— Могу дать фору. Хотите, сниму корабль?
— Не хочу, — сердито ответил Туаф. — Будем играть на равных.
— На равных? Но я еще не встречал логиков, которые могли бы поставить знак равенства между своими усилиями и моим умением.
Он, вероятно, повторял то, что говорил двести лет назад, ведь это ему было задано программой. Двухсотлетняя пауза прошла для него так же незаметно, как секунда.
— На равных так на равных, — сказал искусственный гроссмейстер и сделал ход рыбой.
Туаф долго думал, прежде чем сделать ход. Ему не хотелось, чтобы его победил автомат. Ведь в космолете он в продолжении многих лет держал первенство в логической игре.
Веяд знал правила логической игры, но никогда ею не интересовался. Сейчас же он с напряженным вниманием следил за каждым ходом. На чьей стороне он был в этой игре? Кому желал победы? Как ни странно, этому нагловатому автомату. В его манере самоуверенным тоном произносить слова и с азартом бросать фигуры на доску было нечто характерное, живое и интересное.
Казалось, когда-то живший игрок передал этой машине не только свои опыт и знания, но и свой темперамент. После каждого удачного хода искусственный гроссмейстер насмешливо говорил:
— Ну что, маэстро! Еще не заболела голова? Могу предложить таблетку.
Помогает.
И он делал насмешливый жест пластмассовой рукой.
Он неизменно выходил победителем из этого состязания с напрягавшим все умственные силы Туафом. Послушали бы вы, каким тоном он произносил каждый раз это грозное слово «предупреждаю!» И при этом потирал руки.
— Предупреждаю! — говорил он.
Он ли это говорил? Нет, не он, а, казалось, тот живший двести лет назад игрок, который передал ему вместе с мастерством и заметную долю своего насмешливого характера.
РАССКАЗЫВАЕТ ВЕЯД
Она? Эроя? Но разве можно называть живым женским именем кусочек вещества!
И все же я хорошо знал, что за своей вещественной оболочкой оно хранит мир мыслей и чувств, что оно не только вещь, но и отчасти Эроя тоже.
Она была тут, рядом, и я ждал, когда за стеной Туаф и искусственный гроссмейстер закончат последнюю партию и наступит ночная тишина, покой.
Тогда начинался наш разговор. Мы говорили шепотом, чтобы не услышал Туаф.
— Эроя, — спрашивал я.
— Ты здесь?
— Странный вопрос, — отвечала она.
— А где же? Я и здесь и там. Нигде. Меня нет. Вернее, меня не было еще минуту назад. Я спала. Но сейчас… Сейчас я уже здесь. Твоя мысль разбудила меня, и я обрела бытие. Я здесь, с тобой, Веяд. Чем ты занимался сегодня?
— Писал свою диссертацию о проблеме конечного и бесконечного. Думал. И когда устал, пошел пройтись. За шесть часов я обошел почти весь здешний мир.
— Наверно, трудно писать о бесконечности, живя в мире, который можно обойти за шесть часов.
— Наоборот, Эроя. Только здесь можно почувствовать всю глубину этой проблемы.
— А что делал Туаф?
— Последние две недели он почти ничего не делает, только играет с гроссмейстером. Он дал себе слово, что победит своего искусственного и искусного соперника. Но пока до победы далеко. Позавчера Туафу удалось сделать ничью. Ах, как он был счастлив. Я не видел еще более счастливого индивида.
Эроя рассмеялась.
— Ничья сделала его счастливым?
— Да.
— Он не очень-то многого требует от судьбы, твой друг Туаф. Он и на родине был игроком?
— Не только. Он был крупным оптиком, косметиком и декоратором — и, кроме того, преподавал. Он отправился в космическую экспедицию, чтобы изучать сущность прекрасного и его разнообразные проявления. В его обязанности входило украшать быт на космическом корабле, служить красоте… Он занимался этим довольно прилежно. Но здесь он обленился, забыл о прекрасном и играет с утра до ночи с искусственным гроссмейстером.
— А у тебя, Веяд, есть возможность приложить свои силы?
— Я философ. А размышлять можно везде. Уэра словно создана для размышлений.
— А еще для чего?
— Для ожидания.
— И долго нужно ждать?
— Десятилетия… И мне все же легче, чем Туафу. У меня преимущество.
— Какое?
— Он одинок. А я нет. Со мной ты.
— А ты уверен, что я с. тобой, что я здесь?
— А где же ты, если не здесь, со мной?
— Для меня не существует слова «здесь». Я его не понимаю. Сколько раз ты мне пытался его объяснить, а я все равно не могла понять. «Здесь»? Что это означает?
— Это означает, что ты сейчас на космической станции Уэра. Только здесь и нигде в другом месте Вселенной. Это один из незыблемых законов природы.
Нельзя одновременно пребывать в разных местах мира.
— Так ли уж он незыблем, твой закон, Веяд?
— Не мой, Эроя, а природы.
— Значит, мы не все знаем о природе. Для меня понятие «здесь» вовсе не имеет абсолютного смысла.
— Не будем спорить, Эроя, о законах природы.
Меня немножко тревожили слова Эрой. Раз она не понимает, что такое «здесь» и путает его с «там», значит, в ее сознании время не совпадает с пространством. Какой-то дефект в конструкции, в отражении ее «я»… Но не стоит посвящать ее в тайны ее конструкции. Она так обидчива и самолюбива.
Да и само выражение «конструкция» может ее смутить, как смущало меня, пока я не привык.
Кто она? Это, в сущности, не ее дело. Она — отражение Эрой, оставшейся на Дильнее… Логика (если это можно назвать логикой) модели Эрой устроена так, что не хочет считать себя только отражением чужого бытия, она претендует на нечто большее… И пусть претендует! В этой претензии есть нечто загадочное… Она и превращает эту копию почти в оригинал.
«Почти»…, На это «почти» я долго пытался закрывать глаза.
В прошлом и позапрошлом веке люди, отправляясь в долгое путешествие, брали с собой фотографические изображения своих близких. Женатый дильнеец, быстро двигаясь в убегавшем пространстве, достав из кармана конверт с фотографиями, мог увидеть лицо, глаза и улыбку своей жены.
Это было плоское и схематичное отражение чего-то живого и ускользающего, все — и вместе с тем ничего! Фотографическая карточка, напоминая об ускользающем мгновении, напоминала и о бесконечности. Она заставляла еще острее почувствовать расстояние, отделяющее путешественника от родины, боль и тоску.
Я был первым путешественником, который увозил с собой с Дильнеи не только отражение возлюбленной, не оптическое повторение того краткого мгновения, когда любимое лицо и улыбка были запечатлены объективом аппарата, а нечто большее. Ведь странствия могли длиться десятилетиями, и желание мое не только видеть изображение любимого существа, но и иметь возможность говорить с ним, чувствовать его присутствие было естественным желанием, хотя и противоречило опыту, здравому смыслу и логике расстояния, которое все увеличивалось и увеличивалось.
Что же увозил я с собой? Это до сих пор остается загадкой, и слово «модель», употребляющееся вот уже несколько столетий, только отчасти может примирить мысли и чувства со столь противоречивым и странным фактом.
Желание участвовать в продолжительном космическом рейсе возникло во мне еще в средней школе. Разумеется, оно было наивно-романтичным, типично ребячьим, и я тогда еще не думал о том, что всякое долгое путешествие связано с продолжительной разлукой. Как у всякого подростка, у меня еще не было сильных привязанностей, и я не боялся разлучаться с кем-нибудь из родных и друзей. Ведь взамен тех, кого я оставлял на время, я получал огромный и неизвестный мир, который нужно было освоить.
В том году, когда я встретился с Эроей, я совсем иначе стал представлять себе это путешествие. Мир без Эрой это мир без самого существенного для меня. Да и хватит ли у меня мужества и силы воли добровольно разлучиться с ней на несколько десятилетий? Парадокс относительности времени ставил нас в неравное положение. Движение со скоростью, близкой к скорости света, на космолете должно было привести к тому, что я мог не застать Эрою в живых или встретить дряхлую старушку, с грустью разыскивая на ее морщинистом, увядшем лице черты той, которую оставил юной.
Я решил отказаться от своей затеи, и Эроя стала моей возлюбленной. Видеть ее лицо и улыбку, слышать ее голос и смех, чувствовать тепло ее упругого тела стало для меня привычкой.
— Эроя! — говорил я просыпаясь. — Я сегодня видел тебя во сне.
— И я тоже видела тебя во сне, милый. Мы были вместе, всегда вместе наяву и не разлучались даже во сне.
Эроя была увлечена своей работой. Она занималась археологией и палеонтологией. Все ее интересы были на Дильнее. Меня интересовал космос, я изучал время и пространство. И не удивительно, что немного спустя я снова стал мечтать о рейсе в неведомое… Космос! Он манил меня, заставляя завидовать всем, кто улетел осваивать безграничные пространства. Я упрекал себя в малодушии, называл себя трусом. Чего я боялся? Опасностей? Нет.
Смерти? Нет.
Я боялся продолжительной разлуки с Эроей. Я мысленно представлял себе это расстояние в несколько десятилетий, готовое встать между мною и ею.
Да, в этом было нечто коварное, в нем, в этом пространстве, в этой дистанции. И все же космос манил меня. Я знал всю историю освоения пространства, от первой ракеты, преодолевшей силы планетной гравитации, и до самых последних путешествий далеко за пределы нашей Галактики.
Космос манил меня. Прожить жизнь и не побывать вдали от привычного и известного — да стоит ли тогда жить?
Мы жили с Эроей в ярком и бесконечно интересном мире. Дильнея набирала силу. Она была похожа на огромную ракету, заряженную энергией и устремленную вдаль.
А что такое даль? На этот вопрос ответит и астроном и ребенок. Но чей опыт будет ближе к истине-ученого, вычислившего расстояния от бесчисленных звезд одной Галактики до звезд другой, или школьника, измерившего шагами расстояние от дома до школы? Я убежден, что к истине будет ближе ребенок, ощущающий даль сердцем, всем существом, даль с ее музыкой неизвестности, безграничную даль.
И вот я узнал, что такое даль не на астрономической карте, а на опыте.
С тех пор как я поселился на Уэре, я непрестанно думал о Дильнее, о ее садах и лесах, о ее реках и озерах, которых мне сейчас так не хватает,
РАЗГОВОР МАТЕМАТИКА С ЭРУДИТОМ
— Физа, — сказал Математик девушке, — ты веришь, что ваш всезнайка никогда не ошибается?
— Никогда! Его ежегодно проверяют и программируют крупные специалисты.
— Ну что ж, мы его сейчас проверим.
Математик подошел к электронному Эрудиту и включил «В» и «О» — вопросник и ответник.
— Я слушаю вас, — сказал предупредительным голосом автомат.
— Скажите, умели ли первобытные дильнейцы вычислять?
— Умели.
— Уж не хотите ли вы сказать, что их сознание проникло в сущность числа?
— У них было другое математическое мышление, чем у нас с вами, — ответил Эрудит.
— А именно?
— Их математика была не столько количественной, сколько качественной.
— Вы шутите, качество не имеет никакого отношения к числу, к его отвлеченной от всего конкретного сущности.
— У нас с вами — да, А у них дело обстояло иначе.
В голосе автомата послышались фамильярные нотки.
— Мы с вами, — продолжал автомат, переходя на интимный, почти дружеский тон, — вычисляя, абстрагируемся от качества. Они этого не умели. Для длинных и продолговатых предметов у них были одни числительные. Для круглых другие, для плоских-третьи. Вот это я имел в виду, когда говорил о качественной математике древних.
— Благодарю. Вы рассказали мне о том, чего я не знал. Правда, в раннем детстве я тоже не мог понять, как к яблокам можно прибавить вишни. Яблоки сладкие, а вишни кислые. Я, по-видимому, тоже мыслил как первобытный охотник.
Эрудит вежливо промолчал.
— Но не думаете ли вы, что математика когда-нибудь вернется к тому, от чего ушла, от количества к качеству?
— Вы спрашиваете меня о будущем? Прошу задавать вопросы только о прошлом.
Я не пророк. Я только справочник. — В голосе электронного Эрудита прозвучала насмешка, смешанная с обидой, — Еще раз благодарю вас, маэстро. Вы меня просветили.
Выключив Эрудита, математик сказал Физе Фи:
— Он действительно меня просветил. Представляешь, я себя считал знатоком математики, а не знал о качественных числительных первобытного мышления.
— Ну, вот видишь. Значит, он уж не так устарел.
— Меня не удовлетворяет в нем одно — в нем факты абстрагированы от темперамента. Его уравновешенность меня бесит.
— Но не забывай, что он только справочник, а не исследователь.
— Для справочника он все же слишком амбициозен.
Математик, чтобы не сидеть без дела, вычислял. С помощью абстрактных знаков и символов он хотел поймать в силок математической логики нечто неповторимое — жизнь, бытие, нравы первобытного охотника. Лаборатория была занята тем, что пыталась создать модель давно исчезнувшего мира. Но для Физы Фи и для молодого математика не менее важен был другой мир, мир длящийся и чудесным, не нуждающийся в модели.
Эроя вошла в лабораторию и невольно остановилась, услышав голос Эрудита.
— Любовь, — говорил важно Эрудит, — это чувство. Приведу пример. Икс влюбился в Игрек. А в это время некто третий, назовем его Зет, дублирует переживания Икса. Он ревнует. Что же такое любовь? На этот вопрос некоторые специалисты далекого прошлого отвечали так: «Любовь это ненадолго возникшая иллюзия, которой природа, вид и эволюция пользовались для своей цели продолжения рода, цели, не имеющей ничего общего с интересами Икс, Игрек, Зет как личностями».
Эроя подошла к Эрудиту и выключила его.
— Физа! — крикнула она.
— Сколько раз я тебя просила не задавать ему вопросов, в которых он не компетентен. Вы испортите мне автомат.
ТЬМЫ МИНУВШИХ СТОЛЕТИЙ
Стрелка прибора двигалась назад, в прошлое, отмеривая столетия.
Голос Эрудита на этот раз звучал торжественно, доносился как бы из прошлого:
— Его имя родилось вместе с ним. Его назвали. А значит, вырвали из хаоса и неопределенности всего неназванного. Его назвали. И он определился, стал неповторимым.
Он имел имя, как все окружающие: мать, братья, сородичи.
Как его звали? Мне неизвестно. Но в продолжение двадцати лет, пoка он жил, он откликался, кoгда произносили слово, слившееся с ним и обозначавшее его. Тогда имена имели магическую силу. Имена охотников, зверей и вещей, которых мы сейчас считаем неодушевленными. Тогда все, что имело название, казалось одушевленным. Дышали горы, говорили реки, грустили и радовались деревья. Луна и камень, лесная тропа и набежавшая волна-все было полно трепета жизни, невысказанного значения; мгновение дышало, как убегающий олень, и билось, как живая рыба в ладони…
Нам невозможно так увидеть мир, как видел его он и его сородичи. Древний эпос, слова-вещи, слова-звери и слова-птицы, чувства, сливавшиеся с предметами, как капли в звенящем, поющем грохоте водопада. Разве можем мы это почувствовать и понять, как чувствовал и воспринимал он?
Он лежал у водопоя, подкарауливая зверя. В руках он держал лук, изогнутую тугую ветвь, схваченную тетивой-сухожилием… Ноздри его вбирали воздух.
Мир говорил с ним на незнакомом нам, на сильном, щекочущем чувства языке запахов. Когда наступил миг, он натянул тетиву, и стрела соединила его — настороженного и ликующего — с насмерть раненным зверем. Зверь бился, хрипел, А он бежал к добыче, торопился, чтобы каменным ножом освежевать и напиться теплой живой и животворящей крови. Он радовался, он пел от восторга. Разве мы умеем так петь? Мы поем, повторяя чужие, не нами придуманные слова и мелодию. Мелодия и слова ожили в нем в тот же миг. Они были как натянутая тетива, как стрела, соединившая его желание и сметку с попавшим в беду зверем. Он пел, восхваляя мир, а заодно и самого себя-ловкого, удачливого, сметливого ловца. В своей импровизированной песне он помянул и имя той, у которой быстрый взгляд и сильные, вечно куда-то бегущие ноги. Назвав ее имя, он как бы вырвал ее из сна, свою бегунью… Он как бы трогал ее ноги, обнимал шею и вдыхал запах ее тела…
Эрудит вдруг замолчал. Стрелки прибора заколебались.
Эроя сказала не то Эрудиту, не то сама себе; — Все это хорошо. Но мне нужна не реконструкция юноши вообще, а неповторимая его личность. И то, что ты не в состоянии создать из слов, я создам из более прочного материала.
И она создала. Череп охотника облекся словно бы ожившей вдруг плотью. Из тьмы столетий выглянуло лицо юноши, живое, умное и полное насмешливого любопытства. Уж не вернулся ли давно исчезнувший век? Лучше бы не было этого.
Физа Фи и математик услышали громкий женский крик.
Прибежав, они увидели Эрою, лежавшую в глубоком обмороке. Когда она очнулась, она крикнула:
— Веяд! Веяд!
Тоска, изумление, горе, страх бились в этом раздирающем душу крике.
Не сразу сотрудники лаборатории догадались, что произошло. А произошло невероятное, и невозможное стало возможным. Случай сыграл с Эроей злую и нелепую шутку.
Древний охотник оказался словно близнецом Веяда. Сходство было поразительным, чрезмерным. Все напоминало об отсутствующем: очертания лба, разрез глаз, характерный нос с горбинкой, губы. Не хотелось верить, но это было так.
Через несколько часов о странном совпадении уже знала вся планета.
Морфологи, генетики, математики и писатели на разные лады комментировали игру случая. Специалисты по теории вероятностей искали математические закономерности этого морфологического парадокса, Иные из комментаторов оказались не совсем в ладу с логикой реального.
Один журналист-фантаст, специалист в области будущего и прошлого, заявил-правда, не найдя никаких доказательств для своей слишком сумасшедшей гипотезы, — что Веяд благодаря неизученным парадоксам времени и пространства совершил путешествие в далекое прошлое, что он и первобытный охотник, возможно, одно и то же лицо.
Эроя заболела от страшного потрясения. Она не хотела никого видеть, кроме самых близких дильнейцев.
Со случайным сходством (чего на свете не бывает!) можно было бы примириться, если бы Веяд был здесь, рядом, на Дильнее. Но увы! Даль хранила молчание.
ЭРОН-МЛАДШИЙ, БРАТ ЭРОЙ
Два месяца Эроя не заглядывала в свой институт. Она гостила у брата Эрона-младшего.
Перемена обстановки благоприятно повлияла на расстроенную нервную систему Эрой. Спокойный, величавый ландшафт: море, горы со снежными верхушками, лесные тропы, которые манили вдаль, в овеянные ветрами просторы. И голос брата, спокойный, как этот ландшафт, умеющий найти в каждом явлении гармонию и логику, даже в таком, казалось бы, безумном и нелогичном факте, трудно поддающемся объяснению, который недавно обрушился на Эрою, как обвал.
Да, мир, казалось, обвалился, обрушился, потерял вековые скрепы в ту минуту, когда Эроя увидела бесконечно близкие и знакомые черты Веяда, слившиеся с чертами лица первобытного охотника, И вот брат Эрон-младший своей железной логикой восстановил этот разрушенный мир. Внутренний и внешний.
— Индивидуальность, — рассуждал брат, — морфологическая неповторимость…
Так ли уж это абсолютно? Поверь, дорогая, нет. Меня до сих пор часто путают с неким телепатом Монесом. А я терпеть не могу ни этого Монеса, ни эту сомнительную науку телепатию. Но что поделаешь! Природа поленилась и сотворила нас похожими. Уверяю, случай тебя всегда может свести с дильнейцем, похожим на Веяда.
Что за беда, если двойник оказался старше твоего отсутствующего друга на пятьдесят тысяч лет? Хорошо, что он не сверстник и ты не можешь встретить его у общих знакомых, как я встречаю иногда своего близнеца-телепата.
Однажды я ему наговорил дерзости насчет познания без органов чувств… Вот уж прошли века, а наука все не может проверить подсовываемые этими ловкачами факты. Разгадали физическую сущность гравитации, а физическая суть этих сомнительных явлений все еще показывает ученым кукиш и водит за нос всех, не исключая моего двойникателепата.
Эрон-младший всегда был в хорошем настроении. Казалось, он не знал усталости, хотя работал над решением грандиозной проблемы. Вот уже три года он бился над задачей, которая казалась неразрешимой всем его помощникам и друзьям.
— Ум обычного среднего дильнейца, — объяснял он свою идею сестре, — это ум, укладывающийся в том познании, которого достигло его время. Но что такое гений?
В сущности, никто до конца этого не знает. Гений-это ум, заброшенный в настоящее из далекого будущего. Тривиальный, но тем не менее правильный ответ на вопрос, который я тебе задал. Почему хотя бы раз в столетие случается такое явление, когда будущее посылает нам своего вестника? Пока оставим этот вопрос в стороне, он для меня не так важен. Меня интересует «что», а не «почему». Я и мой друг, выдающийся, необыкновенно одаренный изобретатель и логик Арид, пытаемся создать модель ума, обогнавшего своими логическими возможностями современные умы по крайней мере на несколько тысячелетий. Наш отец изучает познание насекомых, познание, загнанное в тупик, придаток адаптации. Становление дильнейца, его эволюция говорит о том, что наш ум, наши логические способности бесконечно шире тех задач, которые связаны с адаптацией, с приспособлением к среде. Но иногда, правда очень редко, в одном дильнейце законы наследственности сосредоточивают грандиозное познание, необычайные способности. Благодаря этим гениально одаренным членам общества всему обществу удается взглянуть в даль будущего, расширить круг познания… Я мечтаю о таком мозге, который перенес бы нас вперед на многие тысячелетия, раскрыв множество тайн, окружающих нас. Мы научились воспроизводить тончайшие интеллектуальные процессы, но перескочить через границу того, чего достигли общество и наука, мы не можем. Мы не знаем тех логических законов, по которым будут мыслить дильнейцы через тысячи лет. В моей лаборатории работают не только самые талантливые физиологи и кибернетики Дильиеи, но и самые выдающиеся логики, в том числе мой друг Арид. Арид — это конденсатор идей, мыслей, остроумных гипотез. Когда он приходит в лабораторию или на заседание ученых мужей, все меняется. Он как искра, от которой готово моментально вспыхнуть все, даже не поддающееся горению. У него сотни замечательных способностей и дарований, но самый большой его дар-умение увлечь, убедить, энтузиазм, энергия, помноженные на безукоризненную логику. Я им горжусь. И не один я, а весь наш коллектив, состоящий из представителей различных специальностей и профессий. Какие науки только не представлены! Пожалуй, все, за исключением телепатии. Эту сомнительную науку я не пускаю на порог своего института. Но представь себе, мой двойник-телепат, о котором я тебе говорил, на днях предложил мне свои услуги.
— Он в самом деле очень похож на тебя?
— Внешне да. Очень. Такого же роста. Так похож, что я сам готов принять его за себя. Но в складе ума у нас нет ничего общего. Я ненавижу телепатию… Пойдем ко мне в лабораторию. Я познакомлю тебя со своими помощниками. И в первую очередь с Аридом. Кстати, он интересуется древним мышлением и хочет поговорить на эту тему с тобой.
РАССКАЗЫВАЕТ ПАВЛУШИН
Я нашел эту книгу в Михайловском сквере возле памятника Пушкину. Кто-то забыл ее, и она валялась под скамейкой на песке.
Кто же был этот рассеянный читатель, кто, а главное откуда?
На этот вопрос пока еще нет ответа, так жe как никто еще не сумел прочесть хотя бы одно слово в этой странной книге.
Где она была издана? На каком языке? И это тоже долго оставалось тайной.
Она побывала у всех лингвистов Ленинграда и Москвы, знатоков всех языков и наречий. Но что толку? Никто не сумел прочесть даже ее название.
За каких-нибудь два-три месяца я стал знаменитым человеком, почти таким же знаменитым, как археолог Шлиман или шахматист Тайманов, хотя вся моя заслуга перед человечеством состояла только в том, что я нагнулся и поднял лежавшую на песке книгу.
Теперь в ящике для писем и газет на дверях нашей квартиры не хватало места и для десятой части той корреспонденции, которую я получал. Почтальонша, толстенькая девушка с красным лицом, спрашивала меня, не то восхищаясь, не то негодуя:
— Долго вам будут писать со всего света?
— Долго, — отвечал я.
И действительно, кто только мне не писал! Школьники из Казани, пенсионеры из Баку, студенты из Киева, журналисты и физиологи, буфетчицы и математики, и даже один не то сумасшедший, не то чудак, утверждавший, что книгу издали в Женеве в знаменитом издательстве Скира просто для рекламы.
Глупость! Кто же станет рекламную книгу издавать на неизвестном языке?
В тот день, когда я нашел книгу, я не придал своей находке никакого значения. Я думал, что какой-нибудь иностранец, западный немец или француз, засмотревшись на здание Русского музея, замечтавшись, уронил эту книгу.
Иностранец? А может, не иностранец, а инопланетен?
Впрочем, этот вопрос задал не я, а корреспондент журнала «Кибернетика и будущее», приезжавший знакомиться со мной из Москвы. Так он назвал и свою статью: «Инопланетец». И на всякий случай поставил вопросительный знак.
Был ли он искренне убежден в своей правоте — не знаю, но он горячо убеждал читателей журнала, что на скамейке в Михайловском сквере перед памятником Пушкину побывал некто, чьи облик и ум были сформированы за пределами Земли, а может, даже и солнечной системы.
Разговаривая со мной, корреспондент не скрывал своего разочарования и три раза подряд упрекнул меня в скрытности.
— Вы чего-то недоговариваете, Павлушин. А как он выглядел?
— Кто? — спросил я.
— Кто? Ну, этот самый, кто презентовал вам книгу.
Слово «презентовал» он произнес с явной иронией, повидимому намекая, что я недостоин космического подарка.
— Мне никто ничего не презентовал. Книгу я нашел в сквере перед…
— Знаю, — перебил он меня. — Слышал эту версию. С чего бы ему быть таким рассеянным? Курите. Обождите, не волнуйтесь. Спешить некуда. Слово он с вас взял, что ли? Но вы поймите, Павлушин, я не следователь, а журналист.
Имя можете не называть, а только опишите наружность хотя бы в общих чертах.
Я усмехнулся.
— Видите ли, у него нет наружности.
— То есть как нет наружности?
— Нет — и все. А почему ему нужно иметь внешность? Он же не человек.
— Ну, ладно, — догадался корреспондент. — Не хотите раскрыть тайну. До завтра! Я еще забегу. А ты, — сказал он, вдруг почему-то переходя на «ты», — а ты обдумай хорошенько: имеешь ли ты право скрывать от общественности правду о таком событии? Ну, пока!
Он забегал по нескольку раз в день в течение недели и все уговаривал обрисовать наружность инопланетна, якобы презентовавшего мне книгу. Именно наружность, черты лица.
Что касается других подробностей, он готов был ждать целый месяц, пока не пробудится во мне совесть и я не перестану разыгрывать из себя сфинкса, а если сказать по-русски просто свинью.
Подробностей он так и на дождался и, разумеется, поспешил опубликовать статью. Я его не упрекаю за это. Не мог же он ждать, пока лингвисты переведут книгу с загадочного языка.
Забегая немного вперед, я должен огорчить читателя: лингвистам и этнологам не удалось расшифровать текст найденной мною в Михайловском сквере книги.
За них это сделала кибернетическая машина, созданная коллективом сотрудников специальной л аборатории Академии наук.
Удовлетворив любопытство читающих мои записки, я должен вернуться к дням, предшествующим расшифровке и оказавшим столь значительное влияние на мою судьбу. Из-за этой находки я оказался в центре жизни не только Ленинграда, но и всей планеты. Телефонные звонки, телеграммы, приглашения из научных обществ и дворцов культуры… Я долго не мог привыкнуть к этому шуму.
Зазнался ли я? Если и зазнался, то только самую малость. И дома и на работе я старался держаться как можно скромнее.
Я работал в геологическом учреждении и каждую весну обычно уезжал с партией на Север, а возвращался поздно осенью. Но в эту весну я совсем забыл, что мне нужно уезжать. При той ситуации, которая так неожиданно возникла, я не мог отлучиться из дома на долгий срок. Я был нужен всем. На днях ко мне звонил сам президент Академии наук. Но в учреждении многие смотрели на меня как на ловкача и делягу. Евдокимов, старший научный сотрудник, сделав вид, что не видит меня, сказал при мне в буфете; — На Север ездил и ничего не нашел, кроме пустяков, а тут в обычном, заплеванном скверике сделал крупное научное открытие.
Я и сам, несмотря на свою молодость, чувствовал неестественность своего положения. Кем я был? Обычным парнем, заурядным геологом, всего три года назад окончившим Горный институт. А кем я оказался? Связующим звеном между двумя мирами, между Землей и той планетой, представитель которой передал через меня странную книгу человечеству. Правда, пока специалисты еще не перевели книгу и не расшифровали ее загадочный текст, это оставалось гипотезой, выдвинутой журналистом, сотрудником журнала «Кибернетика и будущее». Но с каждым днем эта гипотеза находила все больше и больше сторонников. Я даже сам стал подумывать о том, что в сквере побывало существо из другого мира-«инопланетен», как его назвал корреспондент, да, инопланетец (мне понравилось это словечко), оставив вещественные следы своего пребывания в этом месте.
Нельзя сказать, что я без всяких усилий заставил себя поверить в эту смелую концепцию. Этой вере сопротивлялось во мне все: чувство реальности и юмора, привычки, любовь к обыденному и врожденное недоверие к чуду. А что же это было, если не чудо? В сквере среди нянь и детей, играющих возле памятника Пушкину, появилось необычное существо, однако же оставшееся незамеченным.
С какой целью появилось оно? И почему именно в этом сквере, а не на другой точке земного шара?
Все эти вопросы остались без ответа. И кибернетическая машина Академии наук, расшифровавшая текст загадочной книги, позволила нам заглянуть в далекое будущее, но ничего не сказала нам о настоящем, о том, как эта книга попала в сквер, расположенный между Михайловским театром, Филармонией и Пассажем, в одном из самых многолюдных мест Ленинграда. И если можно допустить, исходя из модной теории вероятностей, что там побывал инопланетен, то невозможно поверить в то, что Там очутился человек из будущего, нарушив самый незыблемый закон природы, закон необратимого хода времени. Как ни странно, но о том, что текст наконец расшифрован, я узнал позже других. В эти дни я как раз был в енисейской тайге с геологической партией, и наша рация, как нарочно, безмолвствовала (попался нерадивый и малоопытный радист). Напросился в экспедицию я сам и попал в тайгу вопреки желанию своего начальства, считавшего, что мне следует остаться в Ленинграде, коли уж я стал таким знаменитым. Я настоял — и меня отправили. Было ли это бегством? В какой-то мере да. Я бежал от бесчисленных телефонных звонков, телеграмм, писем, корреспондентов, пенсионеров, интересующихся наукой, от чересчур любознательных школьников, а главное-от самого себя, от того двусмысленного положения, в котором я очутился.
Помню, как я сел в поезд на Московском вокзале и вагоны вдруг тронулись, унося меня от мира шумной и случайной славы в бесконечные и тихие леса Восточной Сибири. Я забрался на верхнюю полку, блаженно закрыл глаза и удовлетворенно подумал, что ни через час и ни через сутки меня не вызовут к телефону, не разбудят ночью, чтобы расписаться в получении телеграммы, не будут требовать ответа корреспонденты и писатели. Я взглянул в окно. За окном было небо, полное звезд, спокойных и не докучливых звезд, звезд, которым не было до меня никакого дела.
Еще меньше, чем звездам, было дело до меня енисейской тайге. В длинных переходах с ночевками у костра я, казалось, забыл о таинственной книге, найденной мною в Михайловском сквере. Но книга не забыла обо мне, и так же неожиданно, как она очутилась возле скамейки сквера, она снова напомнила о себе.
Я уже упоминал о том, что у нас испортилась рация. Радист Валька Додонов, беспутный сын знаменитых родителей и стиляга, сменивший много профессий, пытался починить ее и связать нас с миром. Он был дальнозорок, как все искатели приключений, и увидел эвенка Учигира, гнавшего оленей.
Увидел раньше нас.
— Какие новости? — крикнули мы, когда подошел Учигир.
— Больших новостей нету, — лениво ответил эвенк.
— А маленькие?
— Маленькие найдутся. Книгу расшифровала машина, ту книгу, что долго молчала. Вчера с вечера передавали по радио… И сегодня обещали передавать.
Я бросился к радисту Вальке Додонову, чтобы помочь ему наладить рацию. Мои пальцы дрожали от нетерпения, и не столько наша ловкость и умение, сколько простая удача рация вдруг заговорила. Рация ли? Не рация и не диктор, а голос из неизвестного мира, так странно и нелогично замурованного в текст незнакомого языка.
— Я, — говорил голос, — жил в мире, где время породнилось с самыми заветными мыслями, время большое и маленькое, столетия и мгновения, годы и часы, нетерпеливо звавшие нас в неведомое…
МОЖНО ЛИ ОБИЖАТЬСЯ НА ВЕЩИ
— Мне надоело, — сказал он.
А затем повторил те же слова:
— Мне надоело. Мне надоело играть целый год с таким слабым игроком. Так может облениться ум и притупятся способности.
Туаф обиженнo поднялся с места. «Впрочем, можно ли обижаться на вещи? — спросил он себя. — Искусственный гроссмейстер! Вещь! Предмет! Но как я ненавижу эту наглую вещь! Этот предмет».
Он мог разобрать эту вещь на части, сломать ее, как ломает ребенок надоевшую игрушку. Но это было бы глупо.
А не глупее ли другое: что дильнеец, давно погрузившийся в небытие, игрок, которого давно уже нет на свете, из своего небытия смеется над ним, Туафом, доказывая, что логика и мастерство бессмертны.
Туаф сделал несколько шагов. Когда-то — год назад он был рад тому, что мог шагать, чувствуя под ногами опору. Теперь ему этого было мало. Да, слишком мала была Уэра, островок, отрезанный от всего и всех.
Туафу снились женщины, их лица, их ноги и их руки.
Сегодня ночью он почувствовал легкие прикосновения женских рук. Это было ни с чем несравнимо. С ним рядом сидела женщина. Затем он проснулся и понял, что женские руки он видел во сне. Он долго лежал, стараясь припомнить сон. Потом он снова уснул. Его разбудил тихий женский смех.
Кто-то смеялся рядом, и слышен был мелодичный женский голос. До него, до Туафа, донеслись странные, невозможные здесь, на Уэре, слова:
— Я тебя люблю…
Затем все стихло. Туаф, замерев от напряженного внимания, слышал, как стучало его собственное сердце. Совершенно ясно, Веяд был не один. С ним была женщина. Но как попала она сюда, преодолев бездонное пространство и время? По-видимому, Веяд прятал ее. Но где? Где он мог ее спрятать? Да и как она могла очутиться здесь?
Туаф так и не уснул. Он все ждал, все прислушивался.
Сердце билось возле самого горла. Но женский смех не повторился. Женщина исчезла, испарилась. Ее больше не было здесь.
Утром Туаф, встретившись с Веядом, не подал и вида, что слышал ночью женский смех и слова. Но сейчас… После того как наглая вещь обыграла его в сотый, в тысячный раз и высказала свое презрение, у него не было больше сил молчать. Ему надоело одиночество…
— Послушай, Веяд, — остановил он своего спутника.
— Слушаю, — сказал Веяд.
— Познакомь меня с ней.
— С кем?
— С той, с которой ты разговаривал сегодня ночью.
— Я разговаривал с мечтой.
— Где она? Где ты ее прячешь? Я хочу знать!
— Где же прячут мечту? Да и стоит ли ее прятать?
— Мечту? Для мечты она слишком болтлива и смешлива, слишком обыденна…
Слишком…
— Остановись. А что, если она услышит эти не слишком лестные эпитеты?
— Если это только мечта, призрак, то она не обидится на мои слова.
— А если это не только мечта, не только призрак?
— Я и не сомневался в ее реальности. Где она?
— На Дильнее.
— Но с Дильнеей нет связи. А я слышал ее смех.
— Это не ее смех.
— А чей?
— Чей? Не знаю. Философская загадка, гносеологическая проблема.
— Проблема не может смеяться и говорить на живом дильнейском языке. Не с проблемой же ты объяснялся в любви, — А ты подслушивал?
— Я не подслушивал. Я услышал нечаянно.
— Если нечаянно, то тебе могло и показаться. Может, ты слышал женский смех во сне?
— Во сне так не смеются. Да и за кого ты меня принимаешь? Неужели я не умею отличать сон от действительности! Познакомь меня с ней, Веяд. Я тебя прошу. Мне надоело одиночество… Надоело! Мне просто хочется перекинуться словом с кем-нибудь кроме тебя и этого обнаглевшего автомата, этого искусственного гроссмейстера, чье искусство выводит меня из себя.
Познакомь меня с ней.
— С проблемой?
— У этой проблемы, вероятно, теплые круглые руки и насмешливые глаза.
— Ты ошибаешься. У нее нет рук.
— А ноги?
— И ног тоже нет.
— Лицо?
— У нее нет и лица.
— Но имя у нее есть или нету?
— Имя есть, но имя — это еще не все.
— Как ее зовут?
— Эроя.
— Она здесь? Где-то тут? Поблизости?
— Вот это как раз и загадка. Здесь она или там? Ее бытие, если это можно назвать бытием, в какой-то степени снимает противоречие между «здесь» и «там». Она здесь и не здесь. Она там и не там.
— Я этого не понимаю. И, кроме того, у меня нет основания не доверять своим чувствам. А чувства мне сказали, что она была здесь.
— Здесь была не она, а только ее отражение, ее информационный дублер.
— Не может быть. Смех был слишком реален. И слова… Отражение не может отвечать на вопросы. А в прошлый раз… Ведь я давно догадываюсь, что ты кого-то прячешь.
— Я прячу надежду.
— Надежду? Но с надеждой не разговаривают по ночам. Я слышал голос. Веяд, ты чего-то недоговариваешь, скрываешь от меня. Подумай, может, нам придется провести всю жизнь на этом островке. Помоги мне…
— В чем тебе помочь?
— Я сам не знаю, чего прошу. Может, и действительно то был только призрак…
Веяд ответил не сразу и странно, словно он отвечал не своему спутнику, а кому-то другому, неизвестному, от кого нельзя было ничего таить:
— И все-таки это был не призрак.
И сразу наступила тишина, напомнившая о бездне своей суровой бесконечностью, окружавшей этих двух дильнейцев и третье существо, не боявшееся ничего, даже бездны.
ЛОГИК АРИД
Эрон-младший в разговорах с сестрой слишком уж часто повторял это имя, имя логика и изобретателя, философа и инженера, которого звали Арид.
— Познакомь меня с ним, — сказала Эроя, — если он заслужил твои эпитеты и восторги, то он действительно незауряден.
И Эрон-младший познакомил сестру со своим помощником.
— Это Арид, — сказал он.
— Мой друг Арид. Посмотри, Эроя, на него. Этот ученый обогнал нас на полстолетия или даже на целый век. Он живет в другом тысячелетии. Как это ему удалось? Спроси его. Но он едва ли выдаст свой секрет.
— Бросьте, Эрон. Вы хотите бросить тень на мою реальность.
— Если бы я сомневался в вашей реальности, я бы не поручил вам проектировать логику искусственного мозга небывалой мощности.
Эроя с любопытством взглянула на Арида. Нет, он был слишком реален для дильнейца, избравшего своей специальностью изучение логики. Плотный, по-видимому склонный к полноте, он был больше похож на актера-комика, чем на философа. Наивное, чуточку плутоватое лицо взрослого ребенка. И смеялся он совсем по-детски, весь преображаясь и погружаясь в то удивительное состояние, истинный смысл которого до сих пор не удалось открыть. Что рождает смех? В чем сущность смешного? Об этом гадали мыслители еще на заре цивилизации. Но вот дильнейцы раскрыли сущность гравитации, происхождение жизни, но до сих пор не знают, что такое сущность смеха.
Правда, это никому не мешает смеяться.
— Чему вы так весело смеетесь? — спросила Эроя логика, когда ушел брат.
— Чему? Хотя бы тому, что сказал ваш уважаемый брат. Он верит в то, что действительно можно выпрыгнуть из своего времени и свить интеллектуальное гнездо в другом тысячелетии. Но птицы не вьют гнезда в вакууме, в абсолютной пустоте. Им нужна верхушка дерева, ветка или по крайней мере карниз дома. Моей мысли не на что опереться. Но ваш брат не хочет ни с чем считаться. Ему нужен мозг, искусственный мозг небывалой мощности. Но в чем суть этой мощи, только ли в силе логических способностей? Как вы это себе представляете, Эроя?
— Специалисты по изучению логики обычно лишены чувства юмора. Они слишком серьезны. Вы, Арид, по-видимому, представляете исключение.
— Благодарю за комплимент. Но вы не ответили на мой вопрос: в чем вы видите главную силу мозга? Только ли в логике?
— В умении видеть смешное и смеяться, — сказала Эроя скорее шутя, чем всерьез.
— Вы даже не представляете, как вы близки к правде. Мне думается, Эроя, без смешного не существует и истинно серьезного. Вы историк. Изучаете прошлое. А известно ли вам, когда дильнеец научился смеяться?
— Фольклор полон юморе. Он единственное свидетельство того, как мыслил древний дильнеец, если не считать пещерной живописи.
— Да, — сказал задумчиво логик Арид, — у историка преимущество перед ученым моей специальности. Вы можете судить о прошлом на основании точных фактов. Будущее же, в отличие от прошлого, не спешит сообщить нам о себе.
Мы не знаем, каким будет видение мира через много столетий. Я как-то сказал вашему уважаемому брату: первое, что совершит искусственный мозг, это то, что он расхохочется от души. Ведь ему многое покажется смешным и устаревшим, ему, понявшему суть вещей, отдаленных от нас завесой будущего.
— Чтобы весело смеяться, нужно иметь душу, чувства, ваш искусственный мозг будет бездушен, как всякая машина.
— Кто вам это сказал?
— Никто не говорил. Я его таким представляю.
— Я научу его смеяться. Но не станем гадать. У меня к вам просьба, Эроя.
Не могли бы вы познакомить меня со своим знаменитым отцом? Мне хотелось бы побывать в его лабораториях, посмотреть на результаты его последних работ.
— Отец всегда рад тем, кто интересуется экспериментальной энтомологией.
Если хотите отправиться к нему, не откладывайте это на завтра. Сегодня я обещала быть у него.
Арид и Эроя шли по берегу озера. Увлеченные беседой, они не обращали внимания на окружающий ландшафт, величественный и спокойный.
На песчаном берегу стоял вездеход. Расторопный водитель распахнул дверь в кабину.
— Ну что. Кик? — спросила Эроя автомата-водителя. — Небось скучал, ожидая меня?
— Нет, я не скучал. Да и вообще я не знаю, что такое скука.
— Скука — это временная утеря…
— Чего?
— Самого себя.
— Где?
— В образовавшемся психологическом вакууме. Растворение себя и вещей в монотонности времени.
— Я этого не могу понять, — сказал автомат. — Разве время бывает монотонным?
— Ты не можешь понять, а я не умею объяснить. Ну, трогаемся. Кик. Нам пора.
— Куда?
— К отцу. В его лабораторию.
Машина поднялась над озером. На одно мгновение вбзникла, синея, прозрачная гладь, большое и быстрое тело скользнувшей в воде рыбы, облако, не то отраженное в воде, не то плывущее в небе, затем все смешалось, растворилось в обезумевшем, заторопившемся пространстве.
— Не очень быстро, Кик, — сказала Эроя водителю. — Пусть это будут минуты, а не секунды. Я хочу побеседовать со своим спутником.
СВЕРХОРГАНИЗМ
— Ну, как ваше самочувствие? — спросил Эрон-старший своего гостя, когда тот вышел из энтомологического аппарата новой конструкции.
— Чудесно провел время, — ответил, улыбаясь, Арид. — Но что скажет жена, когда узнает, что ее муж превратился в муравья?
— Вы уже не муравей. Вы логик Арид, представитель вида дильнеец-разумный.
— Вы твердо в этом уверены? А я нет. Во мне что-то еще осталось муравьиное. Во всяком случае, к событиям моей жизни прибавился еще один не совсем обычный факт. Дома на письменном столе у меня лежит вопросник, оставленный журналистом, сотрудником видеомузыкальной станции. Вечером мне придется отвечать на вопросы его анкеты, перечислять наиболее значительные события своей биографии. Кем я был по окончании факультета математической логики? Чем занимаюсь сейчас? Представляю, как удивится журналист, когда узнает, что в числе всего прочего я успел побывать муравьем, настоящим муравьем, видящим мир, как видят его крошечные собратья, В течение часа я воспринимал эту комнату чуть ли не как равнину. Беспокойство овладело мною. Я чувствовал себя затерянным среди огромных незнакомых предметов. У обыкновенного муравья все же есть кое-какой опыт. Я оказался муравьем без опыта. «Где я?»-спрашивал я себя. Но самое странное случилось с временем.
Мгновения непостижимо растянулись. Я смотрел на время словно через увеличительное стекло.
— Ну, а ваша логика? — спросила Эроя.
— Она превратилась в муравьиную логику. Мне хотелось скорее в муравейник.
Пространство пугало меня… Но довольно об этом. Все уже позади…
— У вас это позади, — сказал Эрон-старший, — у меня и позади и впереди. Я столько раз пользовался своими аппаратами, чтобы познать иное время и иное пространство, что иногда мне кажется, что я живу одновременно в разных мирах. Хотите попасть в пчелиный улей, дорогой Арид?
— Хочу. Очень хочу. Но, пожалуй, не сегодня. Превратиться в пчелу-это превратиться из целого в часть. Ведь пчелиный рой — это сверхорганизм. Не правда ли?
— Да, это сейчас ни у кого уже не вызывает сомнения. Пчела как индивид не в состоянии жить без других пчел. Она часть не только пчелиного общества, но и пчелиного организма. Для логики это, пожалуй, загадка. Отдельность пчелы как организма, в сущности, фикция. Она связана с пчелиным ульем. Как орган, ну, как ваши рука или нога. Нога или рука часть вашего организма, не правда ли?
— Но моя рука или нога не ходит отдельно от меня и не выдает себя за логика Арида, они с самого начала примирились с тем, что они часть того целого, которое принято называть Аридом.
— А почему вы думаете, что пчела протестует против того, что она часть сверхорганизма?
— Я этого не думаю. Я не настолько дильнеецентричен, чтобы наделять пчелу своей собственной психологией. Действительно, это пример парадоксального единства части и целого. Парадоксальность в том, что часть имеет форму целого, отдельного организма. Явление обманывает. Сущность отдельной пчелы — быть органом, частью сверхорганизма, то есть пчелиного роя. У низших организмов это не редкость, какие-нибудь губки заставляют гадать о различиях части и целого. Но пчелы стоят на верху эволюционной лестницы.
Это сложно устроенные живые существа. И поэтому ум профана, а в энтомологии я профан, теряется перед причудливостью этого факта.
— Не поверю, чтобы растерялся ваш ум, Арид, — сказала Эроя, — Но что вас привело в лабораторию моего отца? Не думаю, что только бескорыстный интерес к энтомологии.
— Ну вот видите. Я так и знал. Вы не верите в мое бескорыстие. Мир насекомых меня очень интересует. Муравей и пчела заранее знают все, что им нужно знать, чтобы жить в том мире, который открывают им их чувства. Им не дано перейти черту, которую провела сама природа. Дильнеец, делая первый шаг, уже выходит за черту. Он учится. Его детство и юность занимают половину его жизни. И, становясь стариком, он все еще продолжает учиться.
Но что такое ум гения? Для логика это загадка. Гений умеет учиться, как никто. Его умственный аппарат-это Вселенная в миниатюре. Гений-это тоже сверхорганизм, но не в физическом смысле, а в интеллектуальном. Он сверхорганизм не в пространстве, а во времени. Представьте себе рой пчел.
Пчелы разлетелись в разные стороны собирать нектар для меда. Но все равно каждая из них часть одного целого. Частности гениального ума собирают нектар во времени, одни из них в прошлом с его опытом, уходящим корнями в далекие поколения, другие в будущем, которое они стараются предугадать.
Корни гения одновременно позади и впереди. У гения есть нечто общее с пчелиным роем…
— Я не совсем понимаю вашу мысль, хотя кое-что угадываю, — сказала Эроя.
— Каждый ум-создание истории, общества. Но, пытаясь создать искусственного логика, вы отрицаете историзм. Машина лишена истории, она всегда только здесь, за ее бездушной спиной нет времени, нет истории, нет прошлого. А раз нет прошлого, то нет и будущего. Ее настоящее освобождено от всякого процесса.
Арид рассмеялся.
— «Бездушной спиной»? Неплохо сказано. Мы создадим существо гениальное.
Сверхорганизм. А будет ли у него спина? Не знаю. Мозг у него будет. За это ручаюсь. Но не довольно ли на сегодня о сверхорганизме. Тем более что мой собственный организм, все мои клетки проголодались… Эроя, я хочу есть и пить. А вы?
— Я тоже. Отец, веди нас в столовую.
ПАВЛУШИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ
Я лежал на верхней полке, смотрел в окно вагона и думал. Постепенно, не спеша, исподволь бегущий поезд возвращал мне все, что отобрала у меня тайга. Потерянный мир, наполненный домами, дорогами, дворами, полями и человеческими лицами, в которых множество и единство сливались в чудесную и бесконечно заманчивую игру, потерянный мир возвращался. Я вглядывался в каждое лицо, ища в нем полноты бытия и еще чего-то сильного и необъяснимого, чего мне недоставало в таежных просторах и о чем смутно тосковало сердце. Не сразу и не вдруг я понял, и даже не понял, а угадал, что мир, оставленный мною весной, изменился, и это было уже непоправимо.
Нечто неожиданное и уже необратимое прикоснулось к истории, ко всем вместе и к каждому в отдельности. С особой остротой я почувствовал это, когда увидел в руках у соседа, лежавшего на нижней полке, книгу, от одного названия которой у меня заколотилось сердце и зашумело в ушах.
Я смотрел на соседа с изумлением, словно он мне снился, фантом, врезанный в будничный мир, впаянный в тесноту и духоту бегущего на запад и слегка покачивающегося вагона. Книга, которую он держал в руках, превращала даже реальность вагона, с его теснотой, запахом мыла и одеколона, в тревожное сновидение. Это ведь была та самая книга, которую я нашел в сквере, но переведенная на русский язык и, по-видимому, молниеносно изданная в одном из массовых издательств.
Сосед читал. Я с любопытством смотрел на его лицо, желая прочесть на нем то, чего не было и не могло быть в книге, — удивление, страх, радость, тревогу от внезапной встречи с тем, что считалось невозможным, противоречащим вековому опыту поколений, и, в сущности, равнялось чуду.
Лицо, обычное лицо пожилого человека, бухгалтера, инженера или скромного учителя, преподавателя химии или математики. Лысеющая голова. Шрам возле узкого рта — повидимому, след операции. Очки в обычной оправе. И сквозь стекла очков глаза, читающие текст, от содержания которого следовало бы спрыгнуть с полки, кричать, говорить, спорить, утверждать, не соглашаться.
Лицо поражало спокойствием. Пальцы перевернули страницу без всякого нетерпения. Иа минуту глаза отвлеклись от текста и заглянули в окно вагона, как бы ища соответствия между тем, что бежало рядом, с тем, о чем рассказывала книга. Затем эти глаза заметили меня.
— Спали? — спросил меня ровный тихий голос.
— Нет, не спал.
— А мне показалось, что вы спали.
Я хотел спросить, соседа о книге, которую он читал. Но что-то удержало меня. Оно, это чувство, оказалось сильнее моего любопытства, сильнее желания выйти из прошлого в будущее, в тот обогнавший меня миг, в котором уже жил этот мой спутник, читавший необыкновенную книгу. Его не отделяло лето, проведенное в тайге, от всего того, что принесла в мир книга, найденная мною в сквере. Что же она принесла? Я не смел об этом спросить.
Мне что-то мешало.
Что? Может быть, и страх, а может, и радость. Книга пришла в мир. И это была не такая книга, чтобы не оставить в мире следа…
Сосед читал. Он читал медленно, не спеша. Может быть, он нарочно замедлял чтение, задерживал свою жадно воспринимающую мысль, чтобы она не слишком быстро освоилась с удивительным содержанием. Обычный коленкоровый переплет, привычный шрифт — все это должно было чуточку затормозить сознание и понемножку приучить его к тому, что до конца трудно понять и что невозможно освоить. Да, книга была переведена и напечатана, предварительно ее читали и вычитывали корректоры, ревнители абсолютной грамотности и знатоки правописания, ее набирали наборщики в типографии. Но книга-то была переведена на русский с неземного, с дильнейского языка. И никто, даже ее редактор, не знал, как она попала на Землю.
Сосед закрыл книгу. Чтобы не забыть нужную страницу, он вложил в книгу осенний лист березы, только что залетевший в окно. Пассажир слез с полки, прошел по вагону.
А затем принес стакан чаю от проводницы. Пил медленно, помешивая ложечкой в стакане и о чем-то думая. Неужели он мог думать о чем-нибудь другом, не имевшем отношения к книге?
— Вы сели ночью? — спросил он меня.
— Да, сегодня ночью. Надеюсь, я не очень шумел и не разбудил вас?
— Нет, что вы! Я спал… В вагоне я сплю еще крепче, чем дома.
— А где ваш дом? — спросил я.
— Где мой дом? — повторил он и как-то странно, с веселой настороженностью посмотрел на меня. — Где мой дом? Пока мой дом тут, с вами под одной крышей.
— Пока… — спросил я. — Ну, а потом?
— Потом, — сказал он негромко, — я улечу на…
— Последнее произнесенное им слово показалось мне до того странным, что я не поверил своим собственным чувствам.
— На Звезду? — переспросил я.
Он не ответил, словно не слышал моего вопроса.
— На Звезду? — повторил я свой нелепый вопрос.
— Да, на Звезду, — ответил он. — Это в песне поется. Разве вы не знаете эту песню?
— Не знаю. Я в экспедиции был всю весну и все лето. В мое отсутствие, что ли, появилась эта песня?
— Возможно, что в ваше отсутствие, — ответил он. — Композитор написал музыку в связи с появлением одной книги. А поэт, известный поэт сочинил слова, — А вы слова не помните?
— Помню. Кто их сейчас не помнит! Но я без голоса. Да эту песню беспрерывно передают…
Он протянул руку и включил радиорепродуктор. Мужской чуточку мечтательный голос запел:
На Звезду, на Звезду
Улетел он, скиталец Ларвеф,
А в далекой Дильнее, милой Дильнее…
Не дав прозвучать песне, сосед выключил репродуктор.
— Надоело, — сказал он, зевнув.
— Сколько можно петь! Да и банально. Не тот мотив, и слова не те.
— А откуда вы знаете, что слова не те?
— Знаю, — ответил он тихо, почти шепотом, вложив в это краткое обычное слово какой-то особый, интимный, на что-то важное намекающий смысл.
Он замолчал. Молчал и я. В купе, кроме нас, никого не было. Две полки-нижняя и верхняя-пока были не заняты. Хотя неопределенное смутное чувство подсказывало мне, что нужно молчать, я заговорил.
— Какого мнения вы о той книге, которую только что читали? — спросил я.
— Эта книга вряд ли нуждается в моей оценке, — ответил он.
— Почему же, — возразил я, — каждая книга, так или иначе, оценивается читателем.
— Но ведь это необычная книга… Книга без имени автора… Известно только, что он не человек и родился не на Земле.
— Разве это так уж важно?
— А вы думаете! Языком этой книги разговаривает другая действительность, другой, чуждый вам мир, Слово «вам» он выделил интонацией, подчеркнул его смысл, словно между ним и мною зияла пропасть.
— А вам, — сразу спросил я, — вам не чуждый?
Он будто бы не заметил моего вопроса, а продолжал развивать свою мысль.
— Мир далекий, странный, хотя чем-то похожий на тот, в котором мы сейчас с вами находимся. Подчеркиваю, мир. Значит, оценивать нужно этот мир, а не стиль, то есть слова. Да и к тому же перевод довольно неточный. Переводила машина.
— Вы недовольны работой машины? — спросил я не без иронии в голосе.
— Недоволен.
— А кто вам дал право так категорически и безапелляционно судить? — спросил я с чрезмерной резкостью.
— Кто мне дал право? — ответил он спокойно. Не будем говорить о правах.
Смешно. Надеюсь, машина не обидится на критику. Не передан дух языка, а значит, дух мышления, неповторимый голос иной действительности.
— А откуда вам это известно?
— Известно, — ответил он тихо, но твердо.
— Вы специалист? Кибернетик? Лингвист?
— Это неважно, — сказал он уклончиво.
— Я же не спрашиваю вас, кто вы.
— Мне нечего скрывать, кто я. Я геолог, возвращающийся из экспедиции. Да это и без того видно по моему ватнику.
— Вполне допускаю, что вы геолог, и доверяю вашему ватнику. А вы допустите, что я учитель, преподаватель химии или математики.
— А почему бы мне в это не поверить, — сказал я. — Только вот разговариваете вы как-то странно, уклончиво.
Он промолчал.
— Меня, не интересует, кто вы. Вы пассажир. И этого с меня довольно. Меня интересовало ваше мнение о книге…
— О переводе?
— О переводе пусть судят специалисты. Да и они знают не так уж много. До смысла и содержания текста кибернетическая машина добралась чисто логическим путем. Консультироваться, насколько я себе представляю, было не с кем.
— Не с кем? — перебил он меня. — А с тем, кто эту книгу доставил на Землю… О нем вы забыли?
— Но он же неизвестен. Его не нашли.
— Плохо искали, потому и не нашли.
Я не вполне уверен, что он произнес именно эти слова. Возможно, они возникли в моем воображении.
— Вы думаете, что книгу эту кто-то доставил?
— Не сама же она прилетела, преодолев пространство и время. Изрядное притом пространство…
На этом и кончился наш разговор. Он оборвался вдруг, сразу, внезапно. Я смотрел на соседа и думал. Вот, думал я, человек, в котором произошла заметная и необратимая перемена. Еще год или два назад он был обычным школьным учителем, привязанным корнями к своему столетию. Но найденная мною книга вырвала его из его времени, выхватила, подняла над обыденной жизнью и приобщила к иной действительности и к иному опыту. Потому мне и показалась странной его манера говорить. Пребывая лето в тайге, я отстал от убежавшей вперед современности не на четыре месяца, а больше чем на век.
Сосед улегся на своей полке и вскоре уснул. Я тоже лег и тоже постарался уснуть. Когда я проснулся, в вагоне было уже светло. Сосед исчез. Полка испугала меня своей внезапной и абсолютной пустотой. Ощущение чего-то значительного, выходящего за пределы обыденного заставило тревожно биться сердце. Кто же был он, этот случайный спутник? И почему он так загадочно отвечал на мои вопросы, как бы намекая на особые обстоятельства, известные только ему одному?
Еще вчера я мог получить ответ на все эти вопросы. Но сейчас я мог спрашивать только самого себя.
Я протянул руку и включил репродуктор. Мужской мечтательный голос запел:
На Звезду, на Звезду
Улетел он, скиталец Ларвеф,
А в далекой Дильнее, милой Дильнее…
ТУАФ ЗНАКОМИТСЯ С ЭРОЕЙ, А ВЕЯД С ИНЖЕНЕРОМ TEEM
В этот день Веяд познакомил Туафа с Эроей. Пусть его спутник убедится, что эта Эроя не настоящая Эроя, а только искусное отражение той, что осталась в другой части Галактики. Может, Веяд это сделал, чтобы взглянуть на то, что называло себя Эроей, чужими глазами, увидеть со стороны, узнать что-то новое об этом странном существе.
Веяд следил за выражением лица Туафа, когда декоратор увидел бесформенный комочек вещества.
— Это не она, — сказал Туаф.
— А кто же?
— Не знаю кто. Но знаю — другое. Ты говорил с настоящей женщиной, а не с этим жалким кусочком вещества. Не оно же тебе сказало; «Я тебя люблю»!
— Не она? Но тогда кто? Кто мне это сказал? Может быть, это сказала настоящая Эроя с другого конца света?
Туаф не ответил. Недоверчиво он разглядывал этот шарик, в котором было спрятано нечто безграничное.
— С кем же я разговаривал? — повторил Веяд.
— В наших особых условиях здесь, на Уэре, — сказал Туаф, усмехаясь, — важно, не с кем ты разговаривал, а кто с тобой. Ведь здесь, кроме тебя и меня, никого нет.
— Я разговаривал вот с ней.
— А почему же она сейчас молчит?
— Потому что нужно нажать кнопку. Я сейчас ее нажму.
И Веяд действительно нажал кнопку.
Эроя. Зачем ты разбудил меня, Веяд?
Веяд. Я хочу познакомить тебя вот с этим дильнейцем. Его зовут Туаф. Я, кажется, рассказывал тебе о нем?
Эроя. Где? Здесь или еще на Дильнее?
Веяд (изумленно). На Дильнее?
Эроя. Почему это тебя так удивляет?
Веяд. Потому что на Дильнее я разговаривал не с тобой.
Эроя. А с кем?
Веяд. С той частью тебя, которая осталась там. С той, чью память и ум ты отражаешь.
Эроя (обиженно). Я не зеркало!
Веяд. Не обижайся. Я ведь только хочу понять, понять, чтобы объяснить ему и самому себе. Но это необъяснимо и непонятно. Такое чувство, словно ожил вдруг и заговорил портрет или письмо сказало больше того, что было в нем написано.
Эроя, Я не портрет. И не письмо. Ты же это знаешь, дорогой. Зачем ты произносишь эти сухие, бесчувственные, не похожие на тебя слова?
Туаф. Мне нравится ваш голос. Говорите, умоляю вас, говорите. Все мое существо превратилось в слух. Женский голос, мелодичный, полный таинственной музыки. Говорите. Чего же вы замолчали?
Эроя. Я слышала, что вы увлекающийся игрок. Как ваши успехи в игре? Кто же кого победил — вы гроссмейстера или гроссмейстер вас?
Туаф. Гроссмейстер-подставное лицо. За него играл логик, живший в конце позапрошлого века.
Эроя. Он разве не умер?
Туаф. Умер, но тем не менее продолжает посмеиваться над своими партнерами.
Его искусство было запрограммировано и вложено в этого гроссмейстера.
Эроя. Не может быть!
Веяд. Почему не может? Тебя это меньше, чем других, должно удивлять.
Эроя. Ты хочешь сказать, что мне это знакомо по собственному опыту?
Веяд (с грустью). Не знаю. И ничего не хочу знать.
Туаф (к Эрое). Мне нравится ваш голос. Я готов слушать вас весь день. Ваш голос полон жизни. Он здесь, ваш голос, со мной.
Эроя (с интересом). А что такое «здесь»? Я не понимаю смысла этого слова.
Туаф. Хотите, я вам сейчас объясню?
Эроя (с интересом). Веяд объяснял много-много раз, но не смог объяснить.
Может, вам это удастся.
Туаф. Постараюсь. Здесь-это значит нигде в другом месте. Только здесь, рядом. Здесь-это значит вы вся здесь, ваш голос и ваши желания, ваша мысль и ваше сердце. Здесь-это значит чувствовать ваше дыхание… Здесь… нигде… Только здесь.
Э роя. Пока я еще не поняла. Но продолжайте. Мне хочется понять смысл слова «здесь». Никогда еще мне так этого не хотелось, как в последние дни.
Но думаю, что одной логики недостаточно, нужно чувство. Продолжайте.
Туаф. Здесь-это когда можно дотронуться, увидеть, убедиться, когда между мною и другим нет пространства с его космическим холодом.
Э роя. Продолжайте. Почему вы замолчали?
Туаф. Я посмотрел на вас. И теперь не уверен. Я, кажется, сам не знаю, что такое «здесь».
Веяд расстался с Туафом в тяжелом настроении. Расстался? Только в относительном смысле этого не подходящего для Уэры понятия. Здесь трудно было расстаться, слишком уж мал был этот мир.
Каждый раз, когда нужно было успокоить себя, обрести надежду, а вместе с ней и энергию, мужество, Веяд искал общения с тем, кто оставил на Уэре свой дневник, с инженером Теем. Тея не было. Но он как бы присутствовал.
Каждый предмет на Уэре напоминал о нем. Ведь он и его мужественные товарищи опредметили беспредметное, создали этот крошечный мирок, опору для тела и для духа.
Придя в библиотеку, где стояли и лежали духовные сокровища Дильнеи, доставленные сюда полтора столетия назад, Веяд раскрыл дневник Тея, его письмо, посланное в будущее, тем, кто окажется на Уэре, вдали от всего прочного и привычного.
«Общение… — писал инженер Тей. — Связь всех с каждым и каждого со всеми.
Она непрерывна, с тех пор как возникла цивилизация. Я спросил себя, почему я появился на свет именно в этот век и час, а не на несколько столетий раньше или позже? Я спросил себя именно в тот день, когда не следовало задавать судьбе такого рода вопросы. Время шумело возле меня, как прибой.
Сердце билось. Я готовился лететь в бесконечность… Предвестие огромного и неведомого хмелило мое воображение. Казалось мне, что мне и моим друзьям дано скрепить своей жизнью несоединимое: прошлое и будущее, Дильнею, крошечную планету с ее лесами и женщинами, с ее морями и младенцами, и весь остальной мир, уходящий в бесконечность. Мне казалось, что в контейнерах нашего космического корабля и в моем сердце спрятаны эти скрепы, эти спайки и нам удастся спаять неспаянное… И вот я расстался с Дильнеей. Жена пришла меня провожать. На руках она держала ребенка, нашего десятимесячного сына. Ребенок смеялся и протягивал ко мне свои пухлые ручонки. А потом, много лет спустя, я вспоминал этот смех, и детское лицо, и протянутые детские ручонки. Я знал, что никогда не увижу жену и сына, и все же летел в бесконечность, потому что жажда познания и действия была сильнее и самого меня, и даже сил притяжения, уходящих в глубину бытия. Я оторвал себя от своего прошлого и бросил в бесконечность. Мне каждую ночь снились жена и две протянутые детские ручонки сына…» Веяд с волнением перевернул страницу дневника.
АРИД И ЭРОЯ
Математик включил автоматического Эрудита.
— Привык я к его лекциям, — сказал он Физе Фи. — И даже его скучный профессорский голос мне стал нравиться. Ругай его не ругай, а все-таки сила. Миллионы фактов. И притом без запинки.
— Это ты, наверно, говоришь для того, чтобы сделать мне приятное? — спросила Физа.
— Не правда ли?
— Не только. Понимаешь, когда я учился в средней школе, я запустил все предметы, кроме математики. Особенно историю. И вот теперь наверстываю.
— Заполняешь пробелы… Заполняй. Спрашивай. Его можно спрашивать обо всем. Только не надо спрашивать о любви.
— Тише! Не мешай! Он, кажется, рассказывает о чем-то очень интересном.
Эрудит говорил на этот раз тихо, вполголоса; — Именно в эту эпоху Дильнею разжаловали, сняли с нее ореол неповторимости и величия. И все дильнейцы узнали, что они живут на крошечной планете и что их планетка вместе с не такой уж большой звездой, которая ее освещает, находится не в центре мира, как предполагалось, а на периферии. Они узнали, что таких планет, как Дильнея, миллиарды и что природа, подчиненная закону больших чисел, беспрерывно дублирует и повторяет живые биологические формы, вовсе не располагая безграничной фантазией. Наступило отрезвление умов, великое отрезвление, за которым последовало изменение всех форм видения мира — науки, искусства, психологии. Кончилась пора беспочвенного романтизма. Математика и физика внесли свои железные законы во все, даже в поэзию и музыку.
— Ну, он, конечно, преувеличивает, увлекается, — сказал Математик.
— Это ты о ком? — спросила Физа Фи.
— О вашем Эрудите. Преувеличивает, увлекается, — Никогда! Прежде чем произнести, он взвешивает каждое слово. Его программировал коллектив самых крупных специалистов.
— И все же он увлекается, преувеличивает. И мне это даже нравится. Никак не ожидал этого от машины.
— Чего вы не ожидали от машины, дорогой Математик? — спросила Эроя. Она только что вошла в лабораторию и была не одна, с ней вместе вошел широкоплечий дильнеец.
— Арид, — сказала Эроя своему спутнику, — знакомьтесь с моими помощниками. Это Физа Фи, а это Математик. Я про них вам рассказывала. А это электронный Эрудит. Он немножко устарел. И как многие мои приборы — чуточку наивен. Я вам про него тоже, кажется, рассказывала.
Они часто встречались, Арид и Эроя, может быть, даже чаще, чем следовало.
Но Арид нуждался в собеседнике.
А никто не умел так скромно и самозабвенно слушать, как она. Она буквально превращалась в слух, впитывая каждую идею логика. Ведь он пытался создать искусственного гения, ум, способный пренебречь узкой специализацией, отчуждавшей дильнейцев друг от друга.
В разговоре они часто возвращались к этой теме.
— Гений! Но ведь гении бывают разные, — как-то сказала Ариду Эроя. — Вы, насколько я понимаю, хотите создать необыкновенно емкий ум, чья логика могла бы разрешать проблемы, считавшиеся неразрешимыми. Не так ли?
— Да, — ответил Арид.
— Ум нового типа. Совершенно нового, не бывшего раньше.
— Вы панлогист, Арид. Вы хотите оторвать логику от дильнейских чувств, от фантазии.
— Да, я противник дильнеецентризма. Искусственный ум должен взглянуть на все, в том числе и на нас с вами, со стороны. Он должен быть лишен всякого субъективного начала.
— Но вы же говорили недавно, что он будет уметь смеяться и плакать. Разве можно смеяться и плакать, не будучи личностью?
Логик Арид рассмеялся.
— Личностью? — повторил он. — Я знаю существо, для которого личность — это нечто весьма относительное. Хотите, я расскажу вам о нем. Это была первая моя попытка создать искусственный ум, наделенный особой, не во всем похожей на дильнейскую, логикой. Я долго размышлял и еще дольше работал вместе с друзьями, сотрудниками моей лаборатории. Нам хотелось создать объективный ум, ум трезвый, лишенный той поэтической дымки или той красочной призмы, через которую смотрит на мир каждый дильнеец. И вот что случилось. Это создание обладает одним дефектом. Оно одушевляет мертвые предметы и, наоборот, все живое принимает за мертвое. «Уважаемый стул», — обращается оно к предмету или: «Милая полка, не откажите мне в любезности выдать эту книгу».
— Этот ваш ум очень вежлив.
— С вещами — да. Но зато невежлив с одушевленными существами: со мной, с моими сотрудниками. Он держится при нас так, словно мы отсутствуем.
— Но почему?
— Это так и не удалось выяснить до конца. По-видимому, при его создании вкралась какая-то неточность. Но посмотрели бы вы, как он нежен с вещами!
Слушая его, можно подумать, что мы чего-то не знаем о вещах, чего-то очень существенного, что знает он.
— Любопытно, — перебила логика Эроя. — Эта поэтизация, это одушевление мертвой природы напоминает мне мышление древнего дильнейца. Я много лет изучаю первобытное мышление, древние памятники, записи фольклора. Для мышления древних характерно одушевление мертвого. Под взглядом древних каждая вещь оживала, становилась почти личностью. В ней дикарь умел раскрыть нечто неповторимое, индивидуальное… Может, и созданное вами искусственное существо владеет первобытной анимистической логикой и фантазией.
— Нет, — категорично ответил Арид. — Ведь древний дильнеец, мысленно одушевляя мертвое, в то же время не омертвлял живое. Не так ли? Мне кажется иногда, что мой Вещист-мы его так называем-способен создавать контакт с вещами, потому что сам вещь. Его мышление слишком вещественно, предметно… Но эту свою гипотезу я пока не могу подтвердить конкретными фактами. Мой Вещист для меня все еще загадка. Его видение мира — это проблема. Он словно живет в другом измерении, где другие представления о времени и пространстве. Я слишком занят, чтобы изучать сейчас его видение мира или добираться до причин, которые заставляют его так странно видеть мир. Но когда-нибудь я этим займусь.
— Когда?
— Может быть, и скоро. Мне это нужно для того, чтобы создать всеобъемлющий ум… Видение мира? Что может быть интереснее! Старинные книги и фильмы рассказывают нам о том, как видел мир дильнеец в капиталистическую эпоху. Это было обыденное видение. Сейчас так видит что-либо дильнеец только натощак в хмурое утро, когда болит голова. Наше видение-поэтичное видение мира. Оно возникло несколько сот лет назад, когда дильнеец расстался со всеми пережитками прошлого, в том числе с пережитками индивидуализма и эгоцентризма, когда он стал любить природу, жизнь и всех себе подобных… Мне удалось однажды смоделировать ум и чувства себялюбца, эгоцентриста, чтобы изучить эти реликтовые особенности.
Если хотите, я познакомлю вас с этой моделью.
— Пока я не испытываю желания знакомиться с ней. Помню, как мой отец демонстрировал таракана, извлеченного из тьмы веков. Это, поверьте, что-нибудь подобное. Эпоха капитализма была самая страшная эпоха в истории Дильнеи. Нет, меня интересуют более древние времена.
В ДВУХ ШАГАХ
Они ожидали. Что же им еще оставалось? И однажды Веяд сказал своему спутнику Туафу:
— Ожидание может заполнить жизнь, занять все наше время до самого нашего конца. Но ожидание не может быть профессией. Когда я вернусь домой на Дильнею, меня спросят: «Что ты там делал, Веяд?» Не могу же я им ответить:
«Ожидал». Ожидать — это слишком мало, слишком бездейственно. И чтобы не сидеть без дела, я продолжаю работу, начатую еще дома…
— Я знаю, — перебил его Туаф.
— Ты разрабатываешь вопрос о конечном и бесконечном. Ты философ. Но что делать мне? Здесь нечего украшать. Уэра не нуждается в декорациях. Да и зрителей нет, кроме нас с тобой. На днях я тоже начал одно дело. Я переделываю электронного игрока, искусного гроссмейстера. Ты, надеюсь, не возражаешь?
— Не возражаю. Но кого ты из него хочешь сделать? Механического слугу?
Повара? Медика? Актера?
— Я хочу превратить его в нашего собеседника, чтобы он задавал нам вопросы, тормошил нас, не давал нам покоя, беспрерывно будил наше сознание…
— Разве мы не можем это делать сами?
— Иногда можем, а иногда нет. Мы слишком быстро примирились с законами этого крошечного мирка и, кажется, забыли о большом мире. Здесь, на Уэре, всe в двух шагах от тебя, всe и все, и ты сам в двух шагах от себя. Тебе некуда от себя уйти. Ты каждый день должен видеть одно и то же. Я не могу больше терпеть это. Здесь все в двух шагах. И нам не вырваться отсюда. Мне тесно здесь, Веяд, мне не хватает масштабов. Я отдал бы полжизни, чтобы, проснувшись, увидеть вдали горизонт. Но горизонта нет. И ничего нет, кроме маленького искусственного островка да нас с тобой — и ее. Но существует ли она? Ты это знаешь лучше меня. Скажи правду. В мире, где все в двух шагах от тебя, не стоит врать.
— Ты поддался монотонности долголетнего ожидания. Тебе нужен не просто собеседник, тебе нужен друг, сильный не только умом, но и духом, волей.
Мне тоже нужен он. И он здесь есть. Хочешь, я тебя познакомлю с ним?
— Кто же он, этот сильный духом?
— Инженер Тей.
— Но его нет. Он погиб, возвращаясь на родину.
— Он оставил дневник. Хочешь, я тебе почитаю… Когда мне трудно, я ищу поддержки, разговаривая с ним через время и пространство. Его дневник-это письмо, адресованное нам с тобой.
— Но он нас не знал. Мы родились спустя целое столетие.
— Нет, он нас знал.
Они пришли в библиотеку. И Веяд, раскрыв дневник инженера Тея, стал читать вслух:
«Мой сын все еще мне представлялся смеющимся ребенком, протягивающим две детские пухлые ручонки, но, когда мы построили космическую станцию Уэра, он был уже юношей. Он вырос без меня. Я ни разу не приласкал его.
Не сделал ни разу ему подарка. Как ни странно, это обстоятельство почему-то больше всего мучило меня. Что подарил бы я ему, если бы жил вместе с ним? Игрушку? Нет, я подарил бы ему весь необъятный мир, все звезды, которые я видел, и этот мост, соединивший бесконечность с Дильнеей, мост, который мы наконец построили, я и мои друзья,
Теперь, когда Уэра была закончена и пригодна для того, чтобы принять терпящих бедствие путешественников, мы начали готовиться к возвращению.
Казалось бы, это должно было радовать нас. И это действительно нас радовало, но наша радость умерялась печалью, ведь мы возвращались не совсем туда, откуда начали свой путь… То, что было нашим настоящим и осталось на Дильнее, безвозвратно кануло в прошлое, и нам предстояло увидеть другую Дильнею, новую, может быть более прекрасную, но лишенную того, что было всего дороже нам… Где найти силы, чтобы побороть самого себя, свою тоску по безвозвратно утерянному? И я наполнил все чувства, все свои мысли предвидимым будущим. Я мысленно видел тех, для спасения которых я отдал так много. Я мобилизовал все свое воображение, и вот я перекинул мост к вам, мои неведомые друзья. Я не знаю ваших имен, но я вижу вас, нашедших опору в бездонном пространстве, обретших надежду там, где не могло быть никаких надежд…
Того, что я не сумел подарить сыну, я отдаю в дар вам необъятный мир…» Веяд прервал чтение дневника Тея и спросил:
— Что же ты молчишь, Туаф? Скажи что-нибудь, хотя бы одно слово.
— Я предпочту молчание словам.
— Почему?
— Потому что мне стыдно за свою слабость, за те недели, месяцы и годы, которые я провел здесь не так, как их следовало провести.
ПОЕТ ПТИЦА
Затейник-солидный дильнеец с седыми усами сказочного волшебника-менял пейзаж. Нет, это было не хитроумное оптическое приспособление, специально созданное для обмана чувств. Передвигалось пространство и время. Домики переносились в другую местность быстро и незаметно для их обитателей, а затем снова возвращались. Затейник был слишком старателен и услужлив.
Иногда хотелось задержаться в одной точке трехмерного пространства, а не менять ее на другую. И все же было приятно подойти к окну и увидеть рядом озеро, то озеро, которое вчера было далеко.
Эроя проснулась рано и подошла к окну. Она подняла занавес и подумала: «Что же я увижу сегодня за окном?» Она взглянула. За окном стоял олень. Он стоял как бы вынутый из пространства. За ним не было никакого фона.
Он стоял, словно бы на облаке, отражаясь вместе с облаком в синей воде горного озера. Огромные детские влажные глаза оленя смотрели вдаль. Затем олень исчез и облако рассеялось. По-видимому, седоусый волшебник перенес домик Эрой на верхушку горы.
Эроя рассмеялась.
— Посмотри, Зара, — сказала она подруге, — до чего забывчив этот несносный старик. Третьего дня он тоже проделал с нами эту же штуку. Он начал повторяться.
По предписанию врача-стимулятолога Эрою и Зару направили в отделение биохимической стимуляции.
В обыкновенных условиях организм дильнейца химически обновляется за шестьдесят дней. Здесь, в этой камере, куда направили Эрою с подругой, молекулы клеток, кроме тех, из которых состоят нуклеиновые кислоты, должны были обновиться за несколько часов.
Эроя и Зара вышли из отделения биохимической стимуляции обновленными и посвежевшими.
— Мы ли это, Зара, — спросила Эроя, — или не мы?
— Духовно-мы, — ответила, смеясь, Зара. — Но химически-не мы.
Морфологически-мы, физически-не мы. Как же осуществляется единство между содержанием и формой?
— Спроси об этом врача.
Клетки биохимически обновились. Но было нечто важнее физического самочувствия-это духовное восприятие мира. Этим занималась сестра седоусого «волшебника», специалист в области изучения психического поля.
Эроя хотела отказаться от эксперимента, как это сделали многие отдыхающие, не пожелавшие освежать свое видение мира, но после непродолжительного раздумья решила: «Попробую! Чем я рискую?» И она рискнула.
Дверь камеры открылась, и Эроя села в кресло. Вдруг что-то случилось с миром. Планета шатнулась и как бы сдвинулась с места. Уж не превратилась ли снова Эроя в пчелу, как это случилось однажды в детстве?
Она слышала музыку, тихую музыку, которая перешла в шепот. Шепот сменился свистом утренней птицы. Этот свист, это мерцание звуков, этот птичий голос как бы сорвал занавес с бытия. У ног Эрой гремел ручей. И низко-низко, над самым холмом, висела радуга. С нее падали крупные капли дождя. Эроя кружилась вокруг цветка. Запах хмелил сознание. В нем был целый мир, как в мерцающих звуках птичьего пения. Пространство качалось возле самых глаз — синие, желтые, фиолетовые полосы.
И снова запела птица. Она щелкала, свистела, переливалась то весельем, то тоской, она превращала в звуки весь мир.
— Ну, как вы чувствуете себя? — спросил Эрою женский голос.
— Хорошо.
— На этот раз довольно.
Эроя вышла из камеры на лесную поляну. Теперь у нее было другое зрение, другое обоняние, другой слух. Ей словно подменили все чувства. Она смотрела на все вокруг, словно видела все в первый раз. Ее все поражало, но больше всего удивляли ее самые простые вещи: деревья, лица, слова и их способность облекать в звуки предметы и явления. Казалось, она появилась здесь, на Дильнее, с другой планеты.
В птичьем горле все еще щелкал и звенел свист. Птица пела в посвежевшем сознании Эрой.
— Ну что? Обновила свое психическое поле?
«Обновила… — подумала Эроя. — Какое это, в сущности, пошлое, ничего не говорящее слово!» — Я стала другой, — сказала Эроя, — и в то же время осталась той же самой.
— Я понимаю, — сказала Зара.
— Подвержена обновлению только та часть психического поля, которая не ведает памятью. Вот если бы обновление затронуло и память, тогда бы ты, выйдя из камеры, снова родилась. Ты бы стала другой личностью.
— Зачем же, Зара? Разве ты недовольна моим «Я» и вместо меня хотела бы видеть в моей оболочке другую сущность?
— Нет, нет! Зачем мне терять подругу ради неизвестного существа. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Но мы сейчас, кажется, живем с тобой в разных мирах. Я в мире обыденного, ты в сказочном мире обновленных и обостренных чувств.
В мире обновленных и обостренных чувств время длилось иначе. Кто сумел так растянуть мгновение, наполнить его новизной, свежестью и красотой?
Эроя подняла руку с часами к самому уху и прислушалась. Часы тикали, они отмеряли вечно куда-то спешащее, пульсирующее время. Но Эроино бытие словно пребывало в другом измерении. Шевелился лист на ветке. Полз муравей по тропе. Плыло облако в небе. Возле крутой скалы стоял вездеход.
Электронный водитель Кик полудремал-полубодрствовал, находясь на той границе, которая вечно соединяет и разделяет живое и неживое, вещь и личность.
— О чем ты сейчас думаешь. Кик? — спросила Эроя электронного водителя.
— Я размышляю о бренности всего живого, — важно сказал автомат.
— И куда же тебя завели твои опасные размышления?
— В метафизическую пропасть, в познавательное болото.
— Дай руку. Кик, я тебя вытащу из пропасти, извлеку из болота.
— Мне там хорошо.
— Ну, хватит болтать, хвастун. Отвези меня…
— Куда?
— А куда бы ты хотел меня сейчас доставить?
— У меня не хватает воображения. Я же автомат. У меня нет души.
— Ничего, Кик. Я тебе достану душу. И приключу к твоей программе. А пока доставь меня к брату, в его лабораторный городок. Он мне нужен…
— Вам нужен не брат, — сказал Кик строго, — а логик Арид.
Эроя с интересом посмотрела на водителя.
— Откуда тебе это известно, Кик? Или пока я обновляла клетки в отделении биохимической стимуляции, кто-то переделал твою программу?
ДЕТСТВО АРИДА
Логик Арид, разумеется, не сразу стал логиком. И все же он рос необыкновенным ребенком. Когда ему исполнилось девять лет, он удивил мать и особенно отца. Отец сказал ему:
— Вчера ты совершил нехороший поступок. Ты сломал в саду маленькую яблоньку. И она погибла. И, кроме того, ты был невежлив с ботаником, ухаживающим за садом.
— Вчера? — спросил Арид отца. — А что же такое значит слово «вчера»?
Отец растерялся.
— В своем ли ты уме? Это знают двухлетние дети. Вчера-это вчера, а не сегодня. День, который канул в вечность и никогда не вернется.
— Я и знаю и не знаю. Вчера-это то, что было. И все-таки я не понимаю, что такое «вчера». Могу ли я, папа, вернуться во вчерашний день?
— Нет, не можешь,
— А ты точно в этом уверен?
— Ты задаешь глупые вопросы. Может, ты шутишь?
— Нет, я не шучу, — сказал Арид. — Мне кажется, что я вернусь туда.
— Куда?
— Во вчерашний день и исправлю свой дурной поступок. Я не трону яблоню и не скажу ничего ботанику.
— Это невозможно, Арид. Нельзя вернуться в прошлое и изменить совершенный тобою поступок.
В эту ночь отец и мать Арида спали тревожно и, просыпаясь, все время говорили о сыне. В своем ли он уме? Не показать ли его невропатологу?
Невропатолог, осмотрев Арида, сказал родителям:
— Великолепный, совершенно здоровый ребенок.
— А его непонимание того, что время течет и оно необратимо?
— Ну, что ж, у него такой склад характера. Он видит все вещи глубже, чем обычные дети, и, по-видимому, хочет проникнуть своим любознательным умом в сущность явления, которое нам не кажется загадочным только потому, что мы смотрим на мир сквозь призму традиций и привычных представлений, Мать и отец успокоились, но ненадолго. Как-то, зайдя в детскую комнату, отец увидел сына, мастерившего из проволоки и досок какую-то причудливую вещь.
— Что ты мастеришь, Арид? — спросил отец.
— Машину.
— Для чего?
— Для того, чтобы она могла меня доставить в прошлое.
— В прошлое вернуться нельзя. Оно потому и называется прошлым, что оно прошло, его уже нет и оно никогда не вернется.
— А я не уверен в этом, папа.
Отец рассердился.
— Оставь свое упрямство, Арид. Ты же большой мальчик. Все дильнейцы, без исключения-дети и взрослые, — знают, что время необратимо. Нельзя вернуться в прошлое наяву, это можно сделать только во сне.
Отец не был настолько чуток, чтобы проникнуть во внутренний мир своего сына. А это был сложный мир. Мысль Арида не хотела примириться с тем, к чему издавна привыкли все дильнейцы. Мальчик спрашивал себя: почему то, что случилось, не может случиться во второй раз? Почему промелькнувшее мгновение неповторимо? Его удивляло также, что остальные дильнейцы принимали это как должное.
В школе Арид заставлял смущаться самых умных учителей. Все простое, привычное, обыденное казалось ему сложным и непонятным. Он рано стад интересоваться законами эволюции всего живого, биосферой Дильнеи.
Он спрашивал у своих учителей:
— Как и почему на Дильнее возникла жизнь?
Его не удовлетворяли ни те ответы, которые давали учителя, ни те, что были напечатаны в книгах. Он размышлял о том, были ли это отдельные молекулы или системы молекул, но они должны были быть не только хранителями и передатчиками энергии, но и времени. Они должны были повторить утраченное, чтобы сохранить единство вида и течения времени. Он жил среди вопросов, ища сам ответы на них. И все же самым загадочным для него было время.
Как растения с помощью фотосинтеза перерабатывали и хранили солнечную энергию, так все живое хранило время в своей химической, физиологической и психической памяти.
Процесс физического времени был необратим, но каждый дильнеец был хранителем своей внутренней биографии, всего того, что он пережил и видел.
Машина, которую Арид пытался изобрести в детстве, была изобретена самой природой и хранилась в молекулах живых клеток.
Однажды в школе выступал дильнеец, попавший из прошлого в будущее. Он совершил длительное космическое путешествие на фотонном корабле со страшной скоростью, близкой к скорости света, и возвратился на Дильнею, не найдя в живых ни одного из своих современников. Для него, для этого все еще молодого человека, путешествие продолжалось всего пять лет, но на Дильнее оно текло во много раз быстрее. Как же чувствовал себя этот представитель далекого прошлого, проскочивший через невыразимое, длившееся для всех, кроме него, без малого двести лет?
Путешественник (у него было звучное имя Ларвеф) по своему внешнему виду ничем не отличался от других дильнейцев. Он отвечал на вопросы школьников и учителей. Это были обыденные вопросы: занимается ли Ларвеф спортом, какие любит произведения искусства, собирается ли еще раз совершить длительное путешествие в космос. Он отвечал со снисходительной улыбкой, отвечал, наверное, в сотый или в тысячный раз.
Поднял руку Арид.
— У меня есть к вам вопрос, — сказал он тихо.
— Какой?
— Что такое время?
Ларвеф смутился. Это был неделикатный вопрос. Арид догадался по выражению лиц учителей: у Ларвефа были слишком интимные отношения с временем (впрочем, и с пространством тоже), чтобы его можно было спрашивать в такой прямой форме.
— Вы хотите знать, — ответил Ларвеф, — что такое время? Но о времени надо спрашивать не меня. Ведь время поступило со мной довольно жестоко, оно отобрало от меня всех, кого я знал и любил, и заставило меня оторваться от самого себя. Впрочем, об этом я скажу позже. Вы спрашивали не обо мне, а о времени. Время-разве вам этого не говорили? — всеобщая форма существования материи.
— Я это знаю, — улыбнулся Арид.
— И это знают все. Но я хочу знать о вашей связи с временем. Ведь вы знаете о времени нечто такое, чего не знают другие.
— Ого, ты упрям и настойчив, — сказал Ларвеф, переходя на «ты».
— Я тоже упрям и настойчив. Чтобы продолжить разговор, интересный для нас с тобой и, возможно, неинтересный для других, заходи ко мне до мой. Ты знаешь мой адрес?
Арид, казалось, удивился этому вопросу.
— Любой автомат-справочник мне его назовет.
С этого дня началась странная дружба школьника-подростка с дильнейцем, который мог вычесть из своего возраста без малого сто семьдесят лет, разницу, подаренную ему парадоксом относительности времени. Он, Ларвеф, был баловнем физических сил, сил ускорения и замедления времени, он, сверстники которого давно стали добычей небытия, неумолимой энтропии, чьим псевдонимом была смерть.
Ларвеф был женат. Жена казалась его сверстницей, хотя была моложе его на полтораста лет. Их связывало сильное чувство. Они всегда были вместе. И только позже Арид узнал то, что их разделяло.
Что же разделяло их, любивших друг друга и таких молодых? Впрочем, молода была только она. Он выглядел молодым. Их разделяли те сто семьдесят лет, которые все же нельзя было скинуть со счета. Парадокс относительности времени ничего не мог поделать с памятью, а значит, и с личностью. Память Ларвефа хранила то, что было сто семьдесят лет назад. Он не мог оторваться от своего времени, как ни старался. Одной частью своего духовного существа он жил по ту сторону этих ста с лишним лет, другой частью пребывал здесь.
Арид с изумлением смотрел на дильнейца, связавшего своим существованием две разные эпохи. Сквозь оболочку юноши он видел старца. А раз это видел он, подросток, то это не могло укрыться от взгляда жены. Ларвеф был слишком опытен и не умел, а может, и не хотел этого скрывать.
Однажды Ларвеф спросил Арида:
— Ты часто видишь сны?
— Наверно, не чаще, чем другие.
— А что тебе снится?
— Школа. Товарищи и сверстники.
— Мне тоже, — сказал задумчиво Ларвеф. — Сны вносят путаницу в мою жизнь.
Те, с кем я расстался сто семьдесят лет назад, снятся мне чаще, чем нынешние мои современники. Иногда мне кажется, что я прожил не двести, а тысячу лет. А иногда мне страшно хочется вернуться в прошлое. Помню то тревожное состояние, которое я испытал, когда возвратился домой на Дильнею. Я понимал, что прошло без малого почти два столетия и я никого не застану в живых. Так говорил мне разум. Но чувства протестовали. И я им верил больше, чем разуму. Я все же надеялся, что увижу мать, отца, сестру и ту, к которой рвалось все мое существо.
Корабль приближался, уже не годы, а считанные часы и минуты отделяли меня от дома. И вот я на Дильнее… Навстречу мне бегут дильнейцы в странных одеждах. Я вглядываюсь в них, ищу знакомые лица. Разум шепчет мне: «Их нет, их давно, давно нет». Но я не верю, не хочу верить.
Все чувства напряжены. И я жду…
Но я напрасно верил чувствам, а не разуму. И я зря ждал. Я попал в другой мир. За сто семьдесят лет изменилось все, и лишь я один остался таким, каким был. Ты думаешь, мне легко было найти контакт с теми, кого я встретил на изменившейся планете? Сто семьдесят лет-это не пустяк. Язык изменился сравнительно мало. Но изменились вещи. Изменились представления.
Те же самые слова имели теперь совсем другой смысл. «Прошу прощения», — сказал я незнакомой девушке на улице, желая узнать от нее, где мне следует свернуть, здесь ли или за следующим кварталом.
Не отвечая, она изумленно смотрела на меня. Лицо ее менялось. Не сразу она ответила мне: «За что я должна вас простить? Что вы сделали мне дурного?» В свою очередь начал недоумевать я: «Я не мог сделать вам ничего дурного.
Ведь я вернулся сюда только вчера после ста семидесятилетнего отсутствия».
— «Я знаю, — сказала девушка. — Потому я спрашиваю: за что вы просите у меня прощения?»-«Это просто привычное выражение, — начинаю объяснять я, — его употребляли двести лет назад. Закон вежливого обращения».
Девушка рассмеялась: «Странная вежливость… Говорить то, что не соответствует действительности. А я приняла это за шутку. Действительно, смешно просить прощения спустя сто семьдесят лет, да еще без всякого основания». Я что-то сказал в свое оправдание и в оправдание своего времени, которое любило велеречивые фразы, но девушка не поняла меня, хотя мы разговаривали с ней на одном и том же языке. Не подумай, что эта девушка была менее понятлива, чем ее современницы. Просто между нею и мною стояла целая эпоха, эти десятилетия, подброшенные мне парадоксом относительности времени. Мне пришлось искать собеседников среди историков, специализировавшихся на изучении эпохи, из которой я явился. Впрочем, не столько я, сколько они искали общения со мной. Ведь я был первым, кто вернулся из столь продолжительного космического путешествия.
Арид слушал рассказ путешественника с жадным любопытством, Значит, отец и учителя были неправы, понимая время так обыденно и просто. Но что же такое время?
Перед ним сидел дильнеец, который знал все оттенки и нюансы этого удивительного явления.
Ларвеф продолжал свой рассказ:
— Но не для того я вернулся на Дильнею из своего продолжительного путешествия, чтобы стать объектом изучения истории. Я был живым дильнейцем. В моих жилах играла молодая кровь, хотя в моей памяти хранилось далекое прошлое. Но историков меньше всего интересовала моя личность. Они обращались не ко мне, а к моей памяти хранительнице давно утраченных фактов и событий. Я для них был инструментом, с помощью которого они проверяли то, что нуждалось в проверке. Беседуя с ними, я все меньше и меньше чувствовал свою реальность. Мне надоело отвечать на их вопросы. Было задето мое самолюбие, ущемлено мое чувство собственного достоинства. Я не вытерпел и высказал все, что думал, историку — молоденькой девушке, слишком усердствовавшей в своем желании познать прошлое. Она ведь до сих пор не может мне простить моей вспышки гнева.
Ведь впоследствии она стала моей женой. Не думай, Арид, что она вышла замуж за меня по профессиональным соображениям, желая через меня породниться с далекой эпохой и иметь возможность изучать ее через меня, то есть получить преимущество перед своими коллегами. Нет, между нами возникло чувство. И ради этого чувства она взяла на себя трудную роль посредника между мною и новой эпохой.
Посредником быть нелегко! Нелегко было перебросить мост через пропасть, через два столетия, отделявшие мою эпоху, а следовательно, и меня от нового времени. Но сначала нужно было сблизить нас, ее и меня. Нас сблизило чувство, Арид… Но ты, я вижу, устал. В следующий раз я расскажу тебе о том, как я тосковал по своей эпохе, по своим современникам и как мне удалось победить свою тоску.
ИМ СНИЛСЯ ДОМ
Они часто разговаривали с Эроей оба, Туаф и Веяд, забывая о том, что это все же была не Эроя, а только длящийся во времени ее портрет, миг, заимствованный у прошлого и перенесенный сюда, в их жизнь.
— Здесь нет воды, — жаловался Туаф. — С помощью устаревших аппаратов мы можем приготовить ее только для утоления жажды. Я мечтаю о реке, о море, об озере, о дождях. Иногда я закрываю глаза и начинаю вспоминать, как шумят дожди в лесу, как большие капли падают в воду и образуются пузыри.
Неужели я никогда не услышу шума дождя, удара грома, не посижу на траве, глядя на небо и на верхушки деревьев? Сегодня ночью мне снилась лесная тропа. Я шел по ней, чувствуя под ногами живую, влажную, напоенную настоем трав почву. Потом я проснулся и вспомнил о том, что от лесной тропы до меня сотни миллионов километров. Как мне хотелось бы хоть один раз услышать птичий свист и шум водопада, поднять с травы упавший лист.
— И тебе тоже снятся такие же сны, Веяд? — спросила Эроя.
— Снятся. На то они и сны. Но я стараюсь их забыть.
— А что ты стараешься помнить, Веяд?
— Слова инженера Тея, слова мужества и надежды. Ты разве забыла, на днях я тебе читал его дневник. Туафу я тоже его читал.
— Да, это хорошие, мужественные слова, — сказал Туаф. — Но все же это только слова. А нам нужны не только слова, но и живая реальность. Годы идут… Мне хочется услышать, что скажет Эроя… Эроя! Вам хотелось бы поскорее вернуться на Дильнею?
— Мне? Но ведь я и создана для того, чтобы напоминать об отсутствующей. Я изображение, портрет, духовный портрет Эрой. Там, на Дильнее, я не нужна.
Кому нужна копия, когда есть оригинал?
— Вот и пойми вас. То вы отрицаете, что вы отражение, то утверждаете. У вас нет логики. Вы алогичное существо.
— Веяд говорил мне это не раз. Но я сама хочу выяснить, кто я.
— Разрешите, я вам помогу. Вы чудесное создание. Меня влечет к вам. Как странно, что ваш внутренний мир спрятан в этот комочек вещества. Комок!
Комочек! Но в этом комочке спрятана Вселенная. Ум, чувства, лукавство, юмор. Одного не хватает: опыта. И чуточку бы больше логики. Эрон-младший недоглядел…
— А кто такой Эрон-младший?
— Разве вы не знаете? Великий кибернетик и физиолог. Брат Эрой.
— Мой брат?
— Нет, брат Эрой.
— Но ведь я — то и есть Эроя. Если я не Эроя, так кто же я?
Туаф смущенно промолчал.
— Кто же я? Почему же вы не отвечаете? Я жду ответа.
— Мне непонятна сущность вашего вопроса. Ни один дильнеец не будет спрашивать у других, кто он. Если он сам не знает, кто он, так как же могут знать другие? Потому я и не могу ответить.
— Кто я? Мне это нужно знать. Нельзя жить, не зная ничего о себе. Кто я?
— Вы-мир, мир, спрятанный в комочке вещества… Говорите! Я готов вас слушать хоть весь день.
До сих пор они разговаривали с длящимся портретом, с информационной копией, но в этот день копия превратилась в оригинал.
— Слушайте, — сказала Эроя. И они забыли, что это говорит комок вещества.
— Слушайте! До каких пор вы будете ждать, ничего не делая для того, чтобы сократить ожидание и приблизить час возвращения на Дильнею?
— Сие от нас не зависит, — сказал Туаф.
— И ты тоже так думаешь, Веяд?
— К сожалению, я не могу думать иначе.
— Нет, это зависит от вас. Почему бы вам не отремонтировать аппарат, на котором вы добрались до Уэры, когда с космолетом случилась беда?
— Это очень трудно, — сказал Туаф. — А даже если мы его сделаем годным к полету… Далеко ли он унесет нас?
— Если есть хотя бы один шанс из ста встретиться с космическим кораблем в пути, то надо воспользоваться этим шансом!
— Но, кроме одного, — возразил Туаф, — есть еще девяносто девять других. И все они против нас.
— И ты тоже так думаешь, Веяд?
Веяд не ответил. Он с изумлением слушал. Голос Эрой стал другим, сильным, полным жизни, словно длящийся портрет был не только отражением отсутствующей.
СКИТАЛЕЦ ЛАРВЕФ
Где те два столетия, которые подарила Ларвефу судьба? Он был дважды молод-той молодостью, которая осталась в другой, утраченной эпохе, и той, что началась здесь после возвращения на Дильнею, началась и продолжалась.
Не мечтал ли он отлучиться, еще на пятилетие в космос и выиграть еще сто семьдесят лет?
Арид не смел задать столь бестактный вопрос своему другу. Но он не догадывался, что у Ларвефа не хватило бы на это сил. Значит, снова потерять навсегда новых своих современников, друзей, любимую женщину и снова в новом, уже совершенно новом мире искать общения с другими поколениями и снова тосковать по навсегда утраченному.
Всем знакомы утраты и приобретения, но никто не знал таких утрат, как Ларвеф, оказавшийся впереди себя на сто семьдесят лет.
Арид с ненасытной жадностью впитывал поистине гигантский опыт своего друга и наставника. Он словно беседовал с самой историей, на этот раз принявшей вид не старинных книг и запоминающих устройств, а облик живого, необыкновенного, милого и симпатичного собеседника.
— Ну, что ты еще хочешь узнать, ненасытный подросток?
— Почти ничего. Пустяк. А где вам было лучше-там или здесь?
— Не спрашивай об этом, Арид. Я тебе запрещаю. То, что было, то утрачено навсегда. Мне и здесь хорошо среди вас.
— А как вы склеиваете эти два отрезка времени?
— Склеиваю? Ты не мог найти более одухотворенное слово? Ну, раз ты спрашиваешь, я отвечу. К двум разным эпохам я прибавляю свое путешествие.
Правда, большую часть его я провел в состоянии анабиоза, полного отсутствия. Но это легко себе представить. Вообрази, что ты уснул вечером, а проснулся не на следующее утро, как все, а спустя несколько лет. Вот и все, дорогой Арид. Спрашивай, спрашивай, мальчик. Я охотно отвечаю на твои вопросы.
— А вы очень изменились за эти сто семьдесят лет?
— Внешне почти не изменился. Ты сам можешь об этом судить — взгляни на фотографическое изображение. Анабиоз задержал явления, связанные со старением, с влиянием энтропии. Да и пять лет — это пустяк. А что касается внутренних, душевных перемен… Внутренне я, разумеется, постарел. Да и могло ли быть иначе, мальчик? Мир, в котором я жил почти двести лет назад, не похож на ваш. Ты думаешь, что изменились только техника, наука и экономика? Изменился сам дильнеец, его сознание, его внутренний, духовный аппарат. Даже с женой я долго не мог найти общего языка, не говоря о других. Вы не только иначе мыслите, чем мои современники, но и иначе чувствуете. Вы искреннее, прямодушнее, умнее. Ты думаешь, мне легко произносить эти слова? Я любил и люблю своих современников со всеми их недостатками. Они жили в более суровый век. Наука еще не разгадала тайн гравитации, не умела овладеть искусственным фотосинтезом. Ты, наверно, никогда не слышал стука топора? А мои тогдашние современники варварски рубили деревья и уничтожали целые леса, они еще не научились создавать искусственную древесину. Я вижу усмешку на твоем лице. Но я сам рубил деревья. Сейчас это считается преступлением. Живую природу охраняет не только закон, но и сознание дильнейца. С детства вас приучают смотреть на живую природу как на нечто такое, что надо беречь и любить. Вы связаны с природой тысячами нитей. В мою эпоху было не так. Жестокие и неразумные охотники стреляли в беззащитных птиц и зверей. Женщины щеголяли в дорогих шубах, сшитых из шкур самых редких и ценных зверьков.
И никому не казалось это чудовищным и ужасным. И еще тогда существовала жадность. Ты не понимаешь этого слова, мальчик. Оно исчезло из разговорного языка. Как тебе обяснить, что это значит? Это нелегко, Арид… Дильнеец любил вещь…
— Он и сейчас ее любит, — перебил Арид.
— Это не та любовь, мальчик. Сейчас дильнеец любит вещь за ее красоту и полезность.
— А тогда за что он ее любил?
— За то, что она его собственная, принадлежит ему. Дильнеец любил только свою вещь и был почти равнодушен к чужой.
— Я этого не понимаю.
— Я рад, что ты не понимаешь этого, мальчик. Твое непонимание и делает тебя прекрасным, тебя и твоих современников.
— Но я хочу это понять! Хочу! — сказал Арид. — Что может быть хуже и унизительнее непонимания? Я всегда стремился понять все, что поддается пониманию, и даже то, что не поддается.
— Ну, хорошо, я постараюсь объяснить тебе, что такое собственность.
Слушай, мальчик.
Ларвеф говорил пространно, напрягая все свои логические способности. Когда он закончил свой рассказ, на лице Арида быстро сменилось несколько чувств: чувство досады, разочарования, недоумения, — Какая же радость в том, — спросил он, — чтобы иметь несколько вещей, когда тебе принадлежит весь мир?
— Ну вот видишь, мальчик, есть явления, которые не поддаются объяснению.
Арид почти ежедневно заходил к своему другу. Его полюбила и жена Ларвефа Иноя. Они никогда не сердились на своего юного гостя, даже когда он задавал слишком много вопросов.
Однажды Арид проснулся ночью и не мог уснуть до утра. В его сознании возник вопрос, который не давал ему уснуть. Чего ищет Ларвеф, бросая себя и все свои привязанности в пучину неизвестности?
Неясная смутная тревога томила подростка. Утром он встал, оделся, позавтракал и побежал к своему другу. Дверь открыла Иноя.
— Где Ларвеф? — спросил он Иною.
— Далеко, — ответила Иноя тихо.
— А когда он вернется?
— Через сто семьдесят лет.
— Но ведь он не застанет нас?
— Не застанет.
— Почему он это сделал? Почему он не предупредил меня? Ведь позавчера он был здесь.
— Не знаю, — сказала тихо Иноя.
— Тот, кто оказался впереди себя, не может долго сидеть на одном месте. Его тянуло туда.
— Куда?
— В неизвестность, в будущее, вдаль, к тем, кто будет жить через сто семьдесят лет после нас.
ПАВЛУШИН
Я искал его. Искал везде-на улицах, вокзалах, в театрах, кино, в метро и автобусах, в садах и парках и даже в своих собственных снах. Я упрекал себя, что, встретив его в поезде, не догадался, кто он. Смутное сознание, что это он доставил книгу, было у меня и тогда. Но утром я оказался рядом с пустой полкой. Полка была не просто пуста. Она как бы наглядно демонстрировала свою пустоту, внезапное отсутствие того, кто еще вчера был здесь, рядом со мной. Я спросил проводницу о пассажире, ехавшем в одном купе со мной, и смутился своего вопроса. Я думал, она скажет:
«Никого не было. Вам показалось».
Но проводница ответила на мой вопрос с исчерпывающей, не оставлявшей ничего для моих сомнений конкретностью:
— Вышел ночью в Тюмени. А в чем дело? Какой-нибудь непорядочек?
— Да нет. Ничего. Все в порядке.
Я всю дорогу думал о нем, вспоминал его слова, манеру их произносить, выражение его лица, в первые минуты показавшееся мне таким обыденным. Эта обыденность, будничность, схожесть с тысячу раз виденным и примелькавшимся смущала меня и продолжает смущать даже сейчас. Уж очень он был похож на обычного инженера, служащего или учителя лицом, одеждой, неторопливостью жестов и замедленностью чуточку окающей речи. Но смысл каждого произнесенного им слова, подтекст, проступавший в интонации, вырывал его из обыденности и уносил в беспредельность.
Он сошел в Тюмени, почему же я искал его на ленинградских улицах? Я сам не отдавал себе в этом отчета. Мне казалось, что он был везде и нигде, далеко и здесь рядом.
Смутное чувство подсказывало мне каждое утро, когда я просыпался: «Он здесь! Ищи его! Ищи!» Разумеется, я никому не сообщил о своем предположении, что в поезде я встретил его. Я мысленно называл этого мимолетного своего собеседника «он». Ведь я не знал его имени: ни земного, под которым он скрывал себя от людей, ни того настоящего, которое ему дали не здесь, а в космических просторах Вселенной. Я не говорил ничего о нем еще и потому, что не был на все сто процентов уверен в его инопланетном происхождении. А что, если случайный пассажир-обычный инженер или учитель-решил позабавить себя и меня, поиграть с таинственностью и со мной, а заодно с пространством и временем? Ведь не так уж трудно в создавшейся обстановке выдать себя за сына пространства и времени и говорить от их имени со случайным собеседником, прежде чем дать опустеть полке, связав купе транссибирского экспресса с беспредельностью, которая якобы его сюда послала.
Беспредельность? Вот именно! То самое слово, которое вертелось у меня на кончике языка, когда я беседовал с ним в вагоне, мчавшем меня из Красноярска в Ленинград. Он сел где-то раньше меня, может в Иркутске или на станции Зима, но он явно дал мне понять, что этими названиями масштабы и рамки его путешествия не ограничивались. Кроме Иркутска и Зимы, были иные точки трехмерного пространства, уносившиеся за черту земного и приземленного воображения. Почему он сошел в Тюмени? Не означало ли это, что у него, кроме вселенских дел, были обязанности и сугубо земные?
Если бы я встретил его еще раз, я забросал бы его вопросами. В найденной мною книге было много пробелов. Кибернетической машине и ее талантливым программистам удалось дешифровать далеко не все главы книги.
Многих читателей книга раздражала своей фрагментарностью и недоговоренностью, досадной недосказанностью в отличие от книг, написанных земными авторами, от которых можно было потребовать, кроме всего прочего, и обстоятельности тоже.
Да, я забросал бы его вопросами. Но пока он был в недосягаемости. Почему он скрывал от людей свое настоящее имя, зачем прятал себя за скромной внешностью инженера или школьного учителя? Пока об этом можно было только гадать. Но я не сомневался в том, что не вражда к людям, а, наоборот, интерес к ним заставил его до поры до времени скрывать свое прошлое.
Возможно, он хотел изучить человеческий мир самостоятельно, а уж после того протянуть руку всем и каждому и назвать себя.
А между тем доставленная им книга делала свое дело.
Она приобщала человечество к неизведанному, знакомила с иной цивилизацией, в чем-то похожей на нашу, земную.
Мост через бездну был переброшен, он уже почти связал сознание землян с иным опытом, но не хватало только проводника, толмача, его живого голоса, который не могли заменить никакие дешифрованные машиной слова и знаки.
По утрам я включал радио со смутной надеждой, что услышу известия о нем или даже его собственный голос.
Но неизвестность молчала. Только слова популярной песни напоминали о нем:
На Звезду, на Звезду
Улетел он, скиталец Ларвеф,
А в далекой Дильнее, милой Дильнее,
ИДЕИ АРИДА
Что чувствовал Ларвеф, снова расставаясь навсегда с знакомым и привычным миром?
На этот вопрос нет ответа. Свой ответ Ларвеф отнес туда, вдаль, вперед почти на целых два столетия.
Где он?
Арид любил мир, который его окружал. Тысячью невидимых, но крепких нитей он был связан со своей родиной и с каждым дильнейцем. Даже ради познания неведомого он не решился бы порвать эти нити. Н о никогда он так сильно не ощущал привязанности к Дильнее, как в те дни, когда Ларвеф покинул современность для того, чтобы совершить длинный и опасный путь и пристать к другой эпохе, Идя по улице, Арид вглядывался в лица прохожих.
Улыбка на лице незнакомой девушки. Смех играющего в саду ребенка. Кашель старика. Обрывки фраз, брошенных кем-то на ходу. Все вызывало у подростка чувство грусти, словно он, так же как Ларвеф, собирался покинуть Дильнею и взамен своего времени обрести чужое.
Арид понял, что он смотрит на мир не своими глазами, а глазами своего друга и наставника, поспешившего затеряться в неведомом.
Тысячи вопросов за годы знакомства с Ларвефом задал ему любознательный подросток. Но самого главного не узнал. Он так и не узнал: какая сила тянула Ларвефа в неведомое и почему?
Арид рос быстро физически и еще быстрее духовно.
Он проявил необыкновенные способности к математической логике и обратил на себя внимание одного из крупнейших ученых Дильнеи Эрона-младшего.
В Эроне-младшем было нечто неуловимо сходное с Ларвефом. Необыкновенная простота в обращении и скромность. Родители Арида были удивлены, когда возле дома, в котором они жили, остановился вездеход и из него вышел ученый, чье суровое и задумчивое лицо было знакомо каждому дильнейцу.
— Арид дома? — спросил Эрон-младший отца Арида.
— Нет, он еще в институте.
— Ах, какая досада. Но он мне спешно нужен. И если вы мне разрешите, я обожду.
Пропустив гостя в комнату ожиданий, отец Арида невольно переглянулся с матерью. Зачем так спешно понадобился никому не известный юноша, скромный студент одному из самых знаменитых ученых планеты, чье время берегли бесчисленные автоматы, ученики и помощники? В глазах отца Арида, а затем и его матери мелькнула тревога: как бы не задержался по дороге домой их сын и не заставил знаменитого гостя терять время, такое ценное для науки и общества.
Заглянув в комнату, где ожидал гость, отец Арида успокоился и поспешил успокоить жену. Гость не терял ни секунды. Достав из кармана миниатюрный вычислитель и положив перед собой лист бумаги, он углубился в какие-то формулы.
Арид пришел домой, не обратив внимания на вездеход, ожидавший Эрона-младшего.
— Где ты пропадал? — спросила его мать.
— Ты даже не догадываешься, кто тебя ждет!
— Кто бы меня ни ждал, я не мог об этом знать. И поэтому не виноват перед своим гостем.
— Нет, отчасти виноват!
Слова матери отражали ее волнение, радость, тревогу.
Арид подумал: если бы меня ждал Ларвеф! Но, увы, это невозможно…
Великий ученый долго просидел у Арида. Они о чем-то горячо спорили, и даже когда ученый уходил, он остановился на пороге и продолжал спорить со студентом, гневно выкрикивая какие-то формулы и размахивая руками.
Когда гость сел в свой вездеход и вездеход унес его к делам и заботам, отец спросил Арида:
— Он, кажется, был недоволен тобой?
— Ты ошибаешься отец, он был недоволен не мной, а собой.
— Почему?
— Потому что мои вычисления и гипотезы оказались ближе к истине, чем его.
Отец с изумлением посмотрел на своего сына.
Окончив кибернетический и философский институт, Арид поступил работать в большую экспериментальную лабораторию Эрона-младшего.
Еще в школе у него возник грандиозный замысел создать гениальный мозг, вооруженный опытом не только индивида, отдельной личности, но и опытом историческим. Эта идея возникла в результате общения с Ларвефом. В Ларвефе парадокс времени осуществил неосуществимое, он слил юношу со стариком.
Память Ларвефа соединила две эпохи, разделенные двухсотлетием, слила вместе две разных современности. Сын двух эпох, Ларвеф обладал невиданным опытом.
Задумав создать гениальный мозг, Арид поставил перед собой необычайную задачу.
Он рассуждал так;
«Ларвеф — вечный странник. Через сто или двести лет он ненадолго остановится в новой современности, чтобы отдохнуть, познакомиться с дильнейцами новой эпохи и затем снова отправиться в путь. Его влечет неведомое, загадки познания, поиски истины. Я же хочу служить своим современникам. Я создам грандиозный искусственный мозг, чья гигантская ненасытная потребность познания будет слугой коммунистического общества Дильнеи. Ларвеф неправ. Как бы мне хотелось встретиться и доказать ему его неправоту!
Но это невозможно. Он впереди всехи в том числе меня на много лет. Ну что ж, мой искусственный мозг, почти не подверженный влиянию энтропии, встретится с ним через двести лет и выскажет все мои сомнения».
Годы шли, Арид положил много сил на то, чтобы реализовать свою дерзкую идею. Но ему пришлось прервать работу над созданием гигантского аппарата познания и мысли. Совет коммунистического общества поручил ему дело более срочное и важное, ему, Эрону-младшему и всем талантливым ученым планеты.
В эти дни весь мир узнал о том, какую огромную задачу предстоит решить соединенным усилием многих наук.
В те часы, когда все сидели перед экранами приближателей, там возникло лицо одного из самых уважаемых членов Совета и все услышали его мощный голос. Он говорил:
— Юноши! Вы не скоро расстанетесь с вашей юностью. Ее продлят. Зрелые люди, вы можете не бояться старости. Ее отменят. Больные! Вас излечат от ваших болезней, чем бы вы ни болели. Старики! Вам вернут вашу утраченную молодость! Дети! Запоминайте то, что вас окружает. Скоро изменится мир.
Жизнь не будет знать увядания.
СПРАВОЧНИК НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ
Эрудит сказал Эрое:
— Не спрашивайте меня о нем.
— Почему ты не хочешь, чтобы я тебя спрашивала? Ты и создан только для того, чтобы отвечать.
— Я не знаю, для чего я создан, впрочем так же как и ты. Но существуют вопросы, которым лучше бы остаться без ответа.
— Перестань своенравничать. В конце концов, ты справочник, а не капризный актер. Скажи, пожалуйста, ты не хочешь ответить на мой вопрос или не можешь?
— Какая разница… Не могу, не хочу. В сущности, это одно и то же.
— Нет, разница существует. В твоей памяти запрограммирована его биография, того, о ком я тебя спрашиваю. Прошу тебя, не упрямься. Отвечай на мои вопросы.
— Нет, не буду.
— Я тебя распрограммирую! И тебя снесут туда, где валяется всякое не нужное никому старье, всякий лом и хлам.
— Нет, ты не сделаешь этого, не пугай. Я тебе нужен.
— Отчего же ты упрямишься и не хочешь отвечать на мой вопрос?
— Дело в том, — сказал Эрудит, по-видимому неохотно и при этом замедляя слова, — он сам не хотел, чтобы о нем знали. Он ведь не оставил ни одного автопортрета, уничтожил все свои изображения.
— Но он был замечательный художник. Его пейзажами восхищается весь мир, хотя они были созданы в середине прошлого тысячелетия.
— Знаю, — сказал Эрудит, — но я знаю и другое. Он сжег все свои автопортреты. Он хотел унести с собой в небытие свой лик, свои внешние черты. Он не хотел, чтобы будущие поколения разглядывали его…
— Почему? Тебе об этом что-нибудь известно?
— Нет, мне ничего не известно, — сказал Эрудит. — Я могу опираться только на догадки. Но мое профессиональное самолюбие не позволяет мне спекулировать домыслами. Я поклоняюсь только одному богу-фактам!
— Я знаю. И ценю это. Но в этом случае я прошу тебя сделать исключение.
Мне даже и догадки могут пригодиться. Пойми, Эрудит.
— Для чего тебе нужны догадки? Ты всегда ценила только факты. И я уважал тебя за это.
— Я хочу восстановить его облик. Мне нужно на что-то опереться.
Электронный Эрудит погрузил себя в молчание. Пауза затянулась. Уж не демонстрировал ли он своим упорным молчанием желание противодействовать Эрое? Для справочника это было бы слишком!
Арид застал Эрою в лаборатории разглядывающей воспроизведение старинной картины. Погруженная в глубокую задумчивость, Эроя не сразу заметила присутствие своего друга и собеседника.
— Да, это не просто изображение мира, а нечто большее, — произнес Арид.
— Что вы хотите этим сказать? — спросила Эроя.
— Собственно, ничего. Я только хочу похвалить то, что, в сущности, выше всяких похвал. Гочнив был не только великим художником, но и великим мыслителем. А вы знаете, что он уничтожил все свои портреты?
— Еще бы мне этого не знать. Ведь я хочу создать его изображение, восстановить утерянный в небытии его внешний и внутренний облик.
— Вопреки желанию самого художника? — удивленно спросил Арид. — Это значит нарушить его волю, его желание. Впрочем, я не осуждаю вас. Прошло столько столетий, и мы имеем право увидеть изображение того, кто так много сделал для дальнейшей цивилизации.
— Почему он уничтожил свои автопортреты? Вы не задавали себе этого вопроса? Ведь это, казалось бы, стояло в противоречии со всем смыслом его жизни, с его философией. Мне удалось найти один редкий и ценный документ, оставленный Гочнивом. Вскоре я его опубликую. Гочнив за много столетий до работ моего брата Эрона-младшего пришел к поразительной мысли. У меня сейчас нет под рукой этого документа, а мысль его, изложенную безукоризненно изящными строгими словами далекой эпохи, я буду вынуждена излагать так, как умею…
— Я с нетерпением слушаю вас, Эроя.
— Он предсказывал, что в далеком будущем между изображением дильнейца и самим объектом изображения исчезнет то, что их разделяет: пространство и время.
— Не понимаю вас, Эроя. Что же он имел в виду? Если он думал, что изображение и изображенный сольются, то это наивно…
— Вот видите, дорогой, я не сумела передать его мысль. Она невероятно сложна и вместе с тем до очевидности проста. За много веков до нас он угадал, что такое информация… Информация в нашем, в современном смысле этого слова. На портрет дильнейца, написанный масляными красками, он смотрел как на отпечаток в пространстве, лишенном времени. Портрет — это остановленный миг. А ему хотелось мысленно увидеть изображение, которое бы длилось… И не только длилось, но как бы дублировало объект, сливалось с ним в какое-то более высокое и совершенное единство. Разве не этого добивался и добивается мой брат Эронмладший, создавая электронные портреты, информационные копии?
— А почему Гочнив уничтожил все свои автопортреты?
— Предания и воспоминания современников не дают удовлетворительного ответа на этот вопрос. Но я почти уверена, что он был не удовлетворен своей работой. Ему нужен был не остановленный миг, не вставленное в раму застывшее мгновение, а нечто длящееся, бесконечно более близкое к объекту изображения. Ему нужно было то, что сейчас делают Эрон-младший и его помощники.
— А каким вы представляете облик Гочнива?
— Сейчас я включу проектор, и вы увидите его изображение. Правда, это только первоначальный набросок…
Арид взглянул на экран. Легкое мерцание-и, казалось, переместилось пространство. Сквозь пелену времени смотрело лицо провидца, мечтавшего о невозможном. Мгновение ожило. Затем закрылось облаком и исчезло.
ЭРОН-СТАРШИЙ
Старый энтомолог проснулся рано. Пели птицы в садах.
И спали те, кто привык просыпаться позже. Они забывали, что мир никогда не спит.
Эрон-старший не любил отсутствовать. На сон он смотрел как на вынужденную и досадную остановку, пропуск, перерыв. Не слишком ли уж много этих пропусков и остановок? После каждого дня наступает ночь, но когда-то, впрочем очень скоро, должно наступить и полное абсолютное отсутствие, на этот раз уже постоянная остановка, ночь, но без утра, вечная ночь, называемая смертью. И вот вчера он узнал, что полное отсутствие отсрочат, и ему, как и всем старикам и старухам планеты, вернут утраченную молодость. Сын и раньше говорил ему об этом. Но старик принимал его слова за шутку. Кто мог думать, что отсрочкой вечной ночи и возвращением молодости займутся крупнейшие ученые и общество выделит на это огромнейшие средства, не меньшие, чем те, которые выделялись для освоения космоса, для победы над суровым и неуютным пространством.
Эрон-старший не сомневался, что науке удастся в конце концов даже победить смерть. Но он был почти уверен, что смерть не так глупа, чтобы легко даться в железные руки ученых, и что он, Эрон-старший, десять раз успеет погрузить себя в вечное отсутствие, в ночь без утра, прежде чем найдут средство обновлять «память» клеток организма.
Вечное отсутствие. Его бы следовало оставить без названия, потому что оно невыразимо. Но дикий, пещерный, звероподобный дильнеец, как только стал дильнейцем разумным, поспешил дать названия всему, и даже тому, что противилось всякому называнию и отрицало не только слова, но и жизнь, было ничто.
И хотя Эрон-старший не любил отсутствие, ненавидел ничто, но он его не боялся. Пожалуй, никто так хорошо не изучил время, не физико-математическое время, измеряемое скоростью света, а время-жизнь, время-бытие, время индивида, время, чьи узкие рамки определены раз и навсегда биологическими и видовыми пределами. Энтомолог-экспериментатор, он знал, через какое «волшебное стекло» смотрит на мир бабочка или жук, пчела или муравей, какую «лупу времени» им подарила могущественная природа, равно внимательная и равнодушная ко всем своим созданиям, большим и малым. Насекомым известны совсем другие ритмы и темпы бытия. Минута, незаметная для нас, живущих восемь или десять десятилетий, для бабочки или для жука растягивается, превращая секунды в недели. Впрочем, никто не завидовал бабочкам и жукам — ни старики, ни дети, все только удивлялись.
Эрон-старший ценил это детское чувство, умение удивляться. Но лишь однажды он встретил того, чей талант удивления был ни с чем не сравним.
Много лет назад к нему в лабораторию пришел незнакомый дильнеец с прозрачными детскими глазами.
Он назвал свое имя, ничего, впрочем, не добавив.
— Ларвеф, — сказал он тихо.
— Знаю, — кивнул головой ученый. Чувство собственного достоинства не позволяло ему суетиться и суесловит даже перед тем, кого знал и кому удивлялся весь мир, — Я пришел взглянуть…
— На моих бабочек?
— Нет, на вас, — ответил Ларвеф.
— Я понимаю, — пошутил ученый.
— Для вас, в сущности, и я не больше, чем бабочка.
Удивление мелькнуло в светлых глазах путешественника.
— Я имею в виду жизнь, время, — пояснил свою мысль Эрон.
— По сравнению с вами мы слишком недолговечны. Я старик. А вы почти юноша. Но вы намного старше и опытнее меня.
— Я охотно подарю вам свой опыт. И в свою очередь попросил бы взамен ваш.
Вы были здесь. А я отсутствовал.
Слово «отсутствовал» он так выделил оттенком голоса, интонацией, что оно стало огромным и бездонным, как межзвездный вакуум.
— Я отсутствовал, — повторил он. — Вам до конца понятен смысл слова «отсутствие»?
— Нет. Я, в сущности, мало вдумывался в его смысл. Ведь я отсутствую только по ночам, когда сплю.
— Советую вдуматься. Но понять это, по-настоящему глубоко понять, можно, только отсутствуя сто семьдесят лет.
— Вы отсутствовали только для нас, для самого себя вы где-то присутствовали.
— Но я тосковал по родине. Я не забывал ни ее, ни своих близких и друзей, куда бы ни уносило меня быстрое движение. И может, потому, что я так долго отсутствовал, меня тянет к дильнейцам. Я ненасытен в своих знакомствах. С каждым мне хочется перекинуться хотя бы словом, каждому пожать руку, каждому — и всем вместе. Сегодня я пришел к вам. Подумать только! Я не виделся с вами сто семьдесят лет.
— Но тогда меня еще не существовало. Я еще не родился, когда вы улетели.
— Какая разница, были вы или вас не было? Важно то, что вы существуете сейчас. И я рад, что я с вами. Покажите мне свою лабораторию.
— Может, вы хотите немножко поработать вместе со мной? — пошутил Эрон.
— Хочу.
Ларвеф кивнул головой и улыбнулся.
— Очень хочу. И не только с вами, но со всеми вашими современниками. С каждым рыбаком и с каждым астрономом, с каждым агробиологом и с каждым педагогом. Никому я так не завидую, как воспитателям. Они проводят жизнь с детьми. Вокруг них любознательные детские глаза. Вы не представляете, как я тосковал по детям нашей планеты.
— Пока вы тосковали, они стали взрослыми.
— Детство вечно. На смену одним Детям приходят Другие. Мир непрерывно смотрит вокруг себя детскими глазами. И это прекрасно! Детство! Я улетел от него. Я снова прилетел к нему. Каждый день я вижу детей, говорю с ними.
Отвечаю на их вопросы.
— Вы в самом деле хотите поработать? Но что вам мешает? Каждый будет рад вам, как я.
— Недостаток времени. Пространство уже зовет меня. Торопит. Я должен скоро улететь. Показывайте свою лабораторию. И заодно расскажите мне: почему из всего живого мира вы выбрали для изучения именно насекомых?
Эрон-старший любил отвечать на этот вопрос. Ведь сколько раз он сам задавал его себе.
— Насекомых намного больше, чем всех остальных видов животных, вместе взятых. Достигли ли они вершины своего развития? Мы этого не знаем. Но мы знаем другое. Изучая палеонтологию, мы видим, что все группы животных возникают, достигают пределов развития, а затем приходят в упадок.
Признаки эволюционного упадка мы наблюдаем сейчас почти у всех важнейших отрядов животных. В предшествующие геологические эпохи они были более развиты и более дифференцированы. И только про насекомых мы не можем сказать этого. Их эволюционному прогрессу не видно конца. Не видно конца и края их жизненной энергии.
— Не означает ли это, — спросил Ларвеф, — что все животные рано или поздно вымрут, останутся только одни излюбленные вами насекомые?
— Но вы забываете о дильнейце разумном, — ответил энтомолог, — сейчас эволюция зависит не только от природы, но и от науки, от теории и практики. А наука не даст вымереть тем видам животных, которым покровительствует дильнейское общество.
Ларвеф с интересом рассматривал приборы и новейшие аппараты энтомологической лаборатории.
— Мир, — рассказывал Эрон своему гостю, — поворачивается к насекомым той стороной, которая недоступна нашим чувствам. Наши чувства слишком грубы и приблизительны. Чувства насекомых точны, как совершенный прибор. Разве мы способны, как кузнечик, реагировать на колебания, амплитуда которых равна половине диаметра атома водорода? Если бы дильнеец обладал такой бесподобной чуткостью, то что с нами было бы! Я, например, всякий раз вздрагиваю, когда внезапно слышу, как кто-то хлопнул дверью или крикнул.
Но представьте себе, если бы мы с вами чувствовали то, что чувствует кузнечик: колебание ультрамалых величин…
— Уж не завидуете ли вы кузнечику? — пошутил Ларвеф.
— Завидовал бы, если бы не хотел мыслить. Чтобы осуществить то, что мы называем мышлением, нужны более грубые и стабильные условия. Разве мы могли бы думать, если бы наш слух или обоняние реагировали на колебания атома?
— Сомневаюсь, — сказал гость.
— Значит, вы не завидуете им?
— Зачем им завидовать, когда у меня есть приборы. Вот взгляните хотя бы на этот катодный прибор, обладающий сверхвысокой чувствительностью. Пучок Х-лучей проходит через электрическое поле и натыкается на экран, покрытый флуоресцирующим веществом… Здесь может быть зарегистрировано самое мимолетное явление, недоступное нашим грубым чувствам, но вполне доступное насекомым.
— А я завидую, — сказал вдруг Ларвеф.
— Насекомым?
— Нет, вам. Если бы пространство не звало меня на свои просторы, я бы остался работать вместе с вами. Удивительное единство охватывает большое и малое. Я видел двойные звезды, огромные планеты, но мне хотелось бы познать и тот малый, но бесконечно интересный мир, который изучаете вы.
— Оставайтесь.
— Нет, это сильнее меня… Я должен лететь. Пространство зовет!
Именно сегодня утром Эрону-старшему вспомнился его необыкновенный гость.
Он был далеко, бесконечно далеко. А жаль! Именно с ним сейчас хотелось поговорить старому ученому. О чем? О чем же еще, как не о том, что должно случиться. Хватит ли у него, Эрона-старшего, сил, чтобы перешагнуть через эту черту, через предел, созданный природой для вида «дильнеец разумный»?
Он тревожился. Не странно ли это? Тревожиться оттого, что ему собираются возвратить утраченное и еще недавно считавшееся невозвратным — молодость?
В саду было прохладно. Старик нагнулся над цветком, рассматривая его так, словно видел его в первый и последний раз. Тревога, что вместе со старостью от него отберут нечто, слившееся с ним и подобное ему, не оставляла его.
РАССКАЗЫВАЕТ ВЕЯД
Мы с Туафом мирно спали, когда это случилось. Бодрствовал только комочек вещества, вместивший в себя внутренний мир отсутствующей женщины и называвший себя Эроей.
Эроя и разбудила нас.
— Тревога! — крикнула она пронзительно громко. Тревога!
— Что случилось? — спросили мы с Туафом, — На нашем острове посторонний, — ответила она.
Мы невольно рассмеялись. Уэра была слишком далеко от всех путей и населенных мест, чтобы здесь мог оказаться кто-то. Видно, Эрое, этому комочку вещества, почудилось. Но все же прев оказался комочек вещества, а не мы. Мы увидели летательный аппарат и высокого дильнейца, склонившегося над нами. Да, это было похоже на чудо. Мы отнеслись с недоверием к своим собственным чувствам, пока он не подошел к нам и не назвал свое имя.
— Ларвеф, — сказал он тихо и устало.
Мы молчали. Молчал и комочек вещества, разговорчивый шарик.
— С космолетом, — продолжал пришелец, — на котором я странствовал много лет, случилась беда. Мне одному удалось достичь вашей станции. Признаться, не ожидал здесь кого-нибудь встретить.
Он сделал паузу и снова назвал себя:
— Ларвеф.
— Ларвеф? — переспросил я. — Мне кажется знакомым это имя. Так звали одного странника, получившего взамен своих утрат сто семьдесят лет. Я видел ваше лицо на экране приближателя.
— Я тоже, — вмешался Туаф.
— И я видела, — раздался женский голос.
Ларвеф оглянулся, пристально всматриваясь.
— Мне послышался женский голос. Среди вас есть женщина?
— Да, — сказал Туаф и показал взглядом на бесформенный комочек вещества, лежавший на краю стола.
— И вы видели меня? — спросил вежливо Ларвеф, обращаясь к комочку вещества.
— Я рад. Как вас зовут?
— Эроя.
— Красивое имя.
— Благодарю.
— Ну что ж, я рад, что встретил здесь живых дильнейцев. Я на это не рассчитывал. И вы давно живете здесь?
— Давно. Слишком давно, — ответил я. — Шесть лет.
— А вы? — обернулся Ларвеф и нежно посмотрел на комочек вещества.
— Я? Я не знаю, что такое «давно» и что такое «недавно». Эти слова имеют смысл только для тех, кто существует временно и чья непрочность подвержена всем нелепым случайностям бытия. Я же жила всегда. Для меня не существует ни время, ни пространство.
— Она шутит, — прервал Эрою Туаф. — Кроме того, она не в ладу с логикой.
Маленький дефект в конструкции. Ошибка. Неисправность.
— Ошибка? — спросил Ларвеф.
— Ну, что ж. Я всю жизнь ошибался и далеко не всегда был в ладу с логикой. Мы найдем с ней общий язык.
И он снова посмотрел на край стола, где лежал шарик, комочек вещества, полного жизни, страстей и пристрастий.
Он посмотрел чуть нежно и ласково, словно прозревал сквозь оболочку прекрасную и только ему одному открывшуюся суть. Он протянул руку, чтобы притронуться к трагическому комочку, к этому парадоксальному шарику, но раздумал.
— Я понимаю вас, Эроя, — сказал он тихо. — И понимаю потому, что жил в двух разных столетиях и снова отправился в путь в поисках другого времени.
«Давно» и «недавно» для меня имеют тоже другой смысл, чем для всех.
Он больше ничего не добавил к тому, что сказал, и стал устраиваться.
По-видимому, он собирался здесь жить. Впрочем, что ему еще оставалось?
Теперь нас было трое, если не считать комочка, оболочку, за которой скрывалось нечто загадочное.
— Вы играете в логическую игру? — спросил Туаф, давно мечтавший о живом партнере.
— Нет. Не играю, — сухо ответил Ларвеф.
Он был молчалив. В этом мы убедились вскоре. Слишком молчалив. И это понятно. Ведь он долго, слишком долго отсутствовал.
Отсутствовал? Это мало сказать. Отсутствие было его призванием, его профессией. Но обстоятельства жестоко подшутили над ним. Вместо необъятной Вселенной он получил крошечный островок, крохотную искусственную планетку.
Он шагал по ней, как леопард в клетке. Ходил и ходил взад и вперед.
Наконец он спросил нас;
— Долго вы намерены околачиваться в этой дыре?
— Не дольше вас, — ответил Туаф и усмехнулся.
— Я не намерен здесь засиживаться, — сказал Ларвеф, и на его узком длинном лице отразилась решительная и дерзкая мысль.
— А что вы можете предпринять? Отремонтировать летательный аппарат и улететь.
На этот раз задал вопрос я:
— Далеко ли вы улетите на таком аппарате?
— Недалеко. Согласен. Но лучше погибнуть, борясь с пространством, чем годами сидеть и ждать.
— Он нетерпелив, — сказал Туаф.
Ларвеф усмехнулся.
— И это говорите вы мне, обогнавшему почти на двести лет самого себя, дильнейцу, знающему, что такое расстояние и время.
— В самоубийстве нет ничего героического, — сказал я. — Значит, остается только ждать, хотите вы этого или не хотите.
Ларвеф промолчал. Он повернулся и зашагал. Он шел, словно впереди была даль, бесконечность. Но увы! — ее не было. Впереди граница всего в каких-то двух-трех километрах. А за ней зиял провал, пустота, бездна, бесконечность. Но он шел, шел так, словно хотел перешагнуть через границу.
Его не пугали пустота и бездна. Она звала его. Он шел, и мы боялись, что он не вернется. Но он возвращался, каждый раз возвращался и снова уходил.
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Вот что поведал однажды Ларвеф Веяду, Туафу и комочку вещества, называвшему себя Эроей и тоже умевшему слушать и понимать:
— Есть события, о которых я еще не рассказывал никому. Вы первые узнаете о них, если не считать моих спутников. Но никто из них не остался в живых, и некому подтвердить истинность моих слов. Большой космолет, на котором я возвращался из странствий, как вам известно, погиб, и я достиг Дильнеи на легком летательном аппарате. Этот аппарат сейчас стоит в Музее истории космонавтики и удивляет всех, кто способен чему-нибудь удивляться. Почему я до сих пор молчал? Я надеялся, что события продолжатся.
Теперь у меня почти нет надежды на продолжение истории, которую я сейчас вам расскажу, и поэтому я буду вынужден ограничиться ее началом. Мне удалось побывать на планете, которую ее жители называют Землей. Космолет не стал приземляться. Он остановился на естественном спутнике этой планеты, который люди называют Луной, откуда легкий аппарат меня одного доставил на Землю. Так было решено после долгих споров и размышлений.
Посадка на малоизученной и населенной планете представляет риск, а командир космолета и начальник экспедиции не хотел рисковать. Я был послан на Землю, чтобы заснять и записать с помощью электронной аппаратуры все, что могло представлять интерес для цивилизации Дильнеи. О Земле, несмотря на совершенство нашей оптики, мы знали мало. Мы гадали о высокоразумных существах, населявших эту планету. Кто они? И по анализам оптических данных, и по другим признакам мы решили, что на Земле еще каменный век, а ее жители еще совсем недавно переступили ту черту, которая отделяет мир биологический от мира социального.
Я приземлился в лесу. Впереди сверкали снежными верхушками высокие и крутые синие горы. Затем я увидел прозрачное пространство, висевшее среди гор. Это было огромное озеро. Я смотрел и слушал. Оптические и звуковые впечатления слились. Казалось, я слушал симфонию, которую исполняла сама природа. У моих ног звенел ручей. Вода неслась по камням с необычайной стремительностью, и звучание падающей воды, ее грохот и звон наполняли слух однотонной и мелодичной музыкой. И тут я увидел тропу. Ее протоптали разумные существа, по-видимому подобные нам.
В песке я разглядел след ноги… Я вступил на тропу и, доверившись ей, пошел туда, куда она вела меня. Воздух был густ, напоен запахами хвои, цветов, ветвей. Он пьянил меня.
Кружилась голова. Сердце усиленно билось от предчувствия неизвестного.
Никогда я еще не Испытывал такого легкого и острого чувства, даже во сне.
Тропа привела меня на холм, но не кончилась там, а вела дальше и дальше в глубины синего леса, то смыкавшегося за моей спиной, то снова расступавшегося, чтобы пропустить меня вперед.
Внезапно я вышел на поляну и увидел стадо рогатых животных, низко наклонявших морды и щипавших серебристый мох. Вдали были видны конусообразные жилища. Над ними вился дымок. Я остановился, пораженный, словно попал в далекое прошлое Дильнеи, в неолитический век. Значит, мы не ошиблись, когда гадали о населении Земли. Здесь еще неолит. Интересно, как ко мне отнесутся неолитические охотники? А что, если они примут меня за бога? Я невольно рассмеялся. Нет, мне вовсе это не улыбалось. Могут еще принести мне кровавую жертву. В детстве я любил читать исторические повести о первобытных обычаях и нравах. Разумеется, у них существуют легенды, и в моем появлении они увидят подтверждение своих мифов. А может, меня убьют? И это не исключено. У них, должно быть, зоркие глаза, обостренные первобытным инстинктом. Коварная стрела, копье или дротик могут попасть в сердце или в глаз. Они, надо думать, отличные стрелки. Но любопытство всегда сильнее страха. Я долго стоял, всматриваясь в открывшийся мне мир. Кусочек древней эпической песни, которую исполняла сама действительность. Из крайнего чума выбежало двое ребятишек: мальчик и девочка. Она убегала, он догонял. Бежали в мою сторону. Пока еще не видели меня, закрытого кустами. Все ближе и ближе…, И вот, добежав до кустов, они остановились. Мальчик первым увидел меня.
На его оживленном смехом лице отразился испуг и недоумение. Он что-то сказал девочке, и она тоже остановилась. Они были в пяти шагах от меня. Я рассматривал детей. В их скуластых лицах с узкими глазами, испуганно и недоуменно глядевшими на меня, было нечто дикое и прекрасное. Я еще никогда не видел такой живости и красоты. Незаметно нажал на кнопку видеоинформационного аппарата, чтобы запечатлеть их в этот миг. Они не подозревали, что их запечатлевают. Миг длился. Необыкновенный, страшный и чудесный миг моего первого знакомства с жителями Земли.
Потом мальчик подошел ближе и что-то спросил у меня на своем странно звучавшем языке. Я молчал. Он догадался, что я его не понял, и, показав на себя пальцем, назвал свое имя:
— Гольчей.
Затем он показал на девочку, по-видимому сестренку, и назвал ее имя:
— Катэма.
Тогда я назвал себя.
— Ларвеф, — сказал я.
Эти три слова, три названия, три имени, произнесенные вслух, начали действовать с поразительной скоростью. Они уничтожили ту пропасть, которая только что была здесь, лежала между мною и детьми Земли. Девочка приветливо рассмеялась. Улыбнулся и мальчик, чуточку, правда, недоверчиво.
Они изумленно, но уж е без страха рассматривали меня.
И я тоже рассматривал себя как бы их глазами, словно впервые видя жителя Дильнеи. Вероятно, их смущал синий цвет моей кожи, мои огромные глаза, мой крошечный рот и, разумеется, мой костюм, Но у меня было имя, так же как у них. А то, что имеет название, все, что произносится вслух и облачено в звук, находится уже по эту сторону реальности. Черта перейдена. Я переступил ее, назвав себя. Они уже запомнили мое имя и будут помнить всю жизнь.
— Ларвеф, — назвала меня Катэма, затем ее брат Гольчей.
Он взял меня за правую руку, она за левую, и повели меня в чум, даже не предупредив родителей о том, какого странного гостя они ведут. Что же произошло затем? То, что я ожидал. Волна ужаса захлестнула родителей Гольчея, когда они увидели своих детей, ведущих злого и коварного духа, решившего нарушить человеческий покой и предпринявшего для этого длительное путешествие из потустороннего мира.
Что привело меня к ним? Разумеется, недобрые намерения.
Злой дух, несомненно, принес с собой всякие беды и несчастья. Это по его специальности.
Недели две спустя я с помощью универсального логиколингвистического аппарата (им меня снабдил предусмотрительный начальник экспедиции) овладел эвенкийским языком. Однако я не пытался разубедить их в том, что я представитель потустороннего мира, правда, не наивно-мистического, порожденного мифологией, а вполне реального, физико-математического, хотя и не похожего на тот, в котором они пребывали, Уничтожить стену ужаса и непонимания мне помогли дети, мои юные друзья Гольчей и Катэма. Они быстро прониклись доверием ко мне. А затем помогли подарки, которыми я предусмотрительно запасся.
От родителей Гольчея я узнал, что, кроме их племени, на берегу большого озера жили люди русской национальности: купцы, чиновники, крестьяне, солдаты.
Меня тянуло встретиться с цивилизованными людьми, да к тому же я должен был торопиться. Начальник экспедиции был не из тех, кто мог простить бездеятельную медлительность и ротозейство.
ИЗ БАРГУЗИНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ларвеф продолжал свой рассказ:
— Расставшись с эвенками и запечатлев с помощью электронной памяти и видеоаппаратуры их быт, язык и нравы, я отправился в городок Баргузин, центр этого малонаселенного и полудикого края.
Я поселился в доме, построенном из толстых деревьев, воспользовавшись гостеприимством крестьянина и его большой семьи. Разумеется, мой хозяин не подозревал о том, кто и откуда послал меня в его дом. Он принимал меня за обрусевшего иноземца, сосланного за какой-нибудь проступок или преступление. Это было место ссылки, где простор и воля были на замке, ключ от которого хранил полицейский чиновник-толстый детина с заспанным лицом и маленькими глазенками, смотревшими подозрительно и сердито.
Чтобы моя кожа не очень привлекала к себе внимание, я прибег к косметике.
И кажется, перестарался. Мое лицо было теперь ненатурально белым, словно посыпанным мукой.
Но мне это сошло с рук. Хуже было со ртом, с которым я ничего не мог поделать. Он был слишком мал, с точки зрения землян. Все смотрели на мой рот с изумлением. И бесцеремонная старуха, мать хозяина, спросила однажды, не то сочувствуя мне в моем несчастье, не то меня за него попрекая; — Как же ты, голубчик, им пользуешься? Еще пить им худо-бедно можно, а есть-не приведи господь!
Действительно, мне было не легко принимать их грубую и твердую пищу вместо тех питательных и вкусных таблеток, которые мы привыкли глотать. Все почему-то смущались и старались не смотреть на то, как я справляюсь с пищей, кроме, разумеется, ребятишек, не спускавших изумленных глаз с моего рта. Но вскоре все малочисленное население Баргузина примирилось с моей морфологической особенностью, сочтя, что, за исключением этого природного недостатка, я был во всем остальном вполне приличной и почетной личностью, высланной сюда, по-видимому, за политическую неблагонадежность.
Благодаря универсально-лингвистическому аппарату и своей врожденной способности к языкам, я быстро овладел здешним наречием русского языка, в котором было немало бурятских и тунгусских слов. Я запечатлел все, что следовало запечатлеть, в своей собственной памяти и в памяти электронных устройств: грохот горных рек, крик самца-изюбра, подзывающего самку, танец эвенков и песни байкальских рыбаков, быт и нравы, сказки и загадки. Но задерживаться на этой окраине я не собирался, мне необходимо было поскорей попасть в столицу обширного государства-город Санкт-Петербург.
От Баргузина до Петербурга было около восьми тысяч километров. И если бы я решил путешествовать на лошадях, это бы отняло у меня почти год. Что такое лошади? Это милые домашние животные с усталыми добрыми глазами. Лошадиными шагами измерялся весь земной шар, лошадиными силами — все довольно примитивные механизмы и машины.
Мог ли я терять год? Я преодолел это, по земным представлениям, огромное расстояние за несколько минут, воспользовавшись своим летательным аппаратом.
Аппарат я спрятал в лесу в окрестностях Санкт-Петербурга, в болотной и малопроходимой местности. Остановился я в гостинице той части города, которая именуется Васильевским островом. Половой, прежде чем вести меня в номер, долго и с сомнением смотрел на мой рот, потом махнул рукой, спросил:
— А откушать не желаете?
— Зубы болят, — ответил я, чтобы скорее отвязаться от всяких вопросов.
Я решился на маленькую хитрость. Придя в номер, я завязал себе рот, чтобы никто не обращал на меня излишнего внимания.
Санкт-Петербург мне очень понравился. Архитектура некоторых зданий поражала изяществом, легкостью и красотой.
Я бродил по улицам, охотно заходил в лавки, где бородатые купцы продавали ткани или снедь. Но самое сильное удовольствие я испытывал, когда, смешавшись с толпой, околачивался на самых людных м естах, слушая бойкую речь мещан и слуг. Я с удовольствием пил сбитень-горячий пряный напиток, приготовленный на меду. И однажды был так неосторожен, что снял повязку. В рыночной толпе произошло легкое замешательство. Кто-то грузный и бородатый сипло сказал, показывая на меня толстым пальцем:
— Смотрите, у господина вместо рта пустое место!
— Не ври! Есть рот, — перебила бородача пожилая женщина, — есть! Да больно мал.
Толпа начала расти и волноваться.
— Ты кто? — спросил меня румяный парень, лихо подпоясанный красным шелковым кушаком.
— Я кто? Человек.
— А рот где?
Кто-то рассмеялся и ответил за меня:
— Дома забыл.
Смех меня выручил. Все вдруг чуточку подобрели, А пожилая женщина заступилась за меня:
— Чего вы Пристали к человеку! Мало ли каких бед не бывает! Мог отморозить или зашибить. Идите, господин, с богом. Никто не тронет.
Я с интересом наблюдал социальные контрасты, знакомые мне только из истории далекого прошлого. Точно такие же контрасты, как и у нас на Дильнее в далекие времена феодализма и капитализма. На окраинах в нищих лачугах ютилась беднота. Там не было ни чванства, ни корыстолюбия, ни ханжества, которые я в избытке находил, посещая дома богачей и особняки аристократов. Чтобы попасть в высший свет, мне пришлось преодолеть внутреннее отвращение к мистификации и лжи и выдать себя за последователя Сен-Жермена и известного авантюриста графа Калиостро. Наука и техника не интересовали этих чванных и неумных вельмож.
Зато лженаука и пошлая метафизика были на уровне их духовных интересов. Я провел несколько месмерических сеансов и сомнительных опытов в особняке графа Юсупова и во дворце князя Гагарина, дурача величественных хозяев и столь же доверчивых их гостей. Для этого не требовалось особой ловкости рук. Электронные приборы и видеоаппараты помогли мне воссоздать перед моими легковерными зрителями иллюзорную обстановку сна наяву. Сеансы имели столь шумный успех, что я начал от них уклоняться, боясь привлечь внимание полиции. В особняках меньше обращали внимания на размер и форму моего рта.
Ученик Месмера, соперник графа Калиостро и Сен-Жермена имел право на несколько экстравагантную наружность и на некоторую таинственность.
Я не без успеха пользовался этой таинственностью, чтобы держаться в тени.
Когда хотел-появлялся, когда желалстоль же таинственно исчезал из поля зрения тех, кто мог мною заинтересоваться.
В свободные от сеансов и странствий часы я много читал, погружаясь в земные знания, в многовековой человеческий опыт, подолгу мысленно беседуя с теми, кого я уже не мог застать в живых. Особенно яркое впечатление произвел на меня старинный французский писатель Франсуа Рабле необычайной предметностью и плотной густотой своего художественного мышления. Его веселая, дерзкая, умная речь вся была пропитана плотью, земной радостью.
Самозабвенно перечислял он бесчисленные блюда, которые съедал его бесподобно прожорливый герой Гаргантюа. Меня, привыкшего, как и все дильнейцы, глотать синтетические таблетки, это жирное обилие, этот умопомрачительный аппетит повергал в изумление. На Дильнее художественное мышление не было столь телесным и плотским, да и, впрочем, на этой планете Рабле со своей крайней предметностью был мало с кем схож. Его голосом говорила сама земная жизнь, народные массы.
Понравился мне и Джонатан Свифт, который играл с относительностью пространства, не подозревая о том, что пространство и время неразрывны. И раз у описанных им лилипутов других размеров все, начиная от глаз и рук и кончая дорогами, домами, деревьями, то у них должно быть и другое время, соответствующее масштабам их пространства. Свои возражения мне пришлось оставить при себе, Свифт умер до моего появления на Земле.
Прежде чем покинуть Землю (экспедиция заждалась меня на Луне, о чем почти ежедневно меня извещал начальник с помощью квантовой связи), я решил побеседовать с одним из крупнейших ученых и мыслителей того земного столетия, в которое я попал. Его звали Иммануил Кант, и жил он в Кенигсберге, сравнительно недалеко от Санкт-Петербурга.
ПОСЛАННИК ЗВЕЗДНОГО НЕБА
Господин Яхман, личный секретарь кенигсбергского мудреца, любезно провел меня в кабинет. Профессор с минуты на минуту должен был вернуться с прогулки.
— Как доложить о вас? — спросил Яхман.
Я назвал первую русскую фамилию, которая мне пришла в голову, мысленно три или четыре раза повторив ее про себя, чтобы не забыть. В кабинете было темновато, и, кроме того, высокий воротник специально придуманного мною костюма почти скрывал мой рот, так что я мог не беспокоиться.
Яхман был разговорчив. Мы говорили о том о сем, о погоде, о временах года, о редких и удивительных феноменах природы.
— Господин Кант, — сказал Яхман, — обладает редким даром. Он удивляется тому, что другим вовсе не кажется удивительным.
— Чему, например? — спросил я.
— Больше всего-звездному небу над нами и нравственному закону внутри нас.
— О нравственном законе мы еще поговорим, — сказал я тихо и значительно, — а что касается звездного неба над нами, оно и послало меня сюда.
— Вы астроном? — спросил Яхман.
— Отчасти да. Но только отчасти.
— Что значит это ваше «отчасти»? Надеюсь, вы, сударь, не маг и не фокусник? Господин Кант очень ценит свое время.
— Время? Я как раз и пришел сюда, чтобы выяснить его сущность.
— Да, здесь вам дадут на этот вопрос точный и исчерпывающий ответ. Здесь знают, что такое пространство тоже, Он вышел, оставив меня одного среди скромной обстановки ученого. Я задумался и не заметил, как вошел Кант. Это был человек небольшого роста, с некрупными чертами лица, человек, очень похожий на всех других людей и в то же время чем-то резко от них отличавшийся. Чем? Пожалуй, больше всего лицом, на котором лежала печать острой любознательности и сомнения.
Еще в Санкт-Петербурге в одной из светских гостиных я слышал анекдот, слова Канта, якобы сказанные им о себе:
«Я, наверно, самый глупый человек на свете. То, что другим кажется простым и ясным, приводит меня в отчаяние своей сложностью».
Он стоял и смотрел на меня, должно быть ожидая, когда я назову свое имя.
От сильного волнения я забыл имя разумеется, не свое собственное, а то, которым я назвал себя Яхману. Пауза, как мне показалось, длилась долго, дольше, чем того требовали обстоятельства. Я молчал, ожидая, когда заговорит сам хозяин. Он сказал тихим, но резким голосом:
— Господин Яхман, мой друг и помощник, сообщил мне о том, что привело вас сюда. Вас интересует, что такое время. Не могли бы вы задать вопрос не столь трудный?
— Где и задавать трудные вопросы, как не в этом кабинете?
Кант улыбнулся.
— Самое трудное-это на сложный вопрос ответить просто. И я отвечу вам, как ответил самому себе, когда впервые задал себе этот вопрос: время-это априорная форма нашего созерцания, так же, впрочем, как и пространство. Вы прибыли сюда издалека?
— Да, мне пришлось познакомиться с изрядным расстоянием, чтобы попасть к вам.
— Земля не так уж велика. Ее делают большей, чем она есть, медленные средства передвижения. Если бы мы могли летать, как птицы, мы бы лучше чувствовали масштабы той небольшой планеты, на которой поселила нас судьба. Сколько километров делали вы в час?
— Без малого триста тысяч в секунду. Я догадываюсь, что вы уже сделали нужные умножения, но не решаетесь назвать цифру.
— Вы шутите. На Земле нет таких расстояний. Да здесь и некуда так спешить.
— Я спешил поневоле. Могло не хватить жизни, чтобы преодолеть расстояние.
— Откуда вы?
— Из звездного неба, что над нами…
— Уж не хотите ли вы сказать, что вы не человек, а посланец потусторонних сил? Это было бы забавно и наивно, совсем в духе некоторых современных романов, пренебрегающих законами природы.
— Вы думаете, я прибыл вас дурачить? Кто бы взял на себя такую смелость!
Нет, я имел дело со строгими законами природы. Я имел дело с пространством, с объективным пространством. Оно и послало меня к вам…
Меня послало сюда будущее.
— Мне легче поверить, что вас послал дьявол, как это ни пошло и тривиально. Будущего нет.
— Но оно будет! Хотите, я расскажу вам о нем? О том, какой будет Земля через двести лет?
— Только не вдавайтесь в излишние подробности. Я все равно не имею возможности их проверить. Я говорил увлеченно о будущем обществе, обществе справедливом и творческом. Я рассказывал о теории относительности, квантовой механике, теории единого поля, генетике, кибернетике, сущности гравитации…
Кант слушал, не перебивая меня.
— Забавная смесь идей английских утопистов, Жан-Жака Руссо и причудливой выдумки романистов. Вы писатель? Через двести лет не будет ни меня, ни вас, и никто не сможет вас уличить в неправде.
— Жалею, что я вас уже не застану. Я постараюсь вернуться сюда через двести лет.
Кант усмехнулся. В эту минуту солнце вынырнуло из-за туч, и в кабинете вдруг стало необычайно светло. Лицо мыслителя изменилось. Глаза его смотрели на мой рот с тем откровенным изумлением, которое я видел только на лицах детей.
Мгновение длилось. Я не видел ничего, кроме этих изумленных глаз. Он, вероятно, не видел ничего, кроме моего странного рта. Длилась пауза. Кант молчал. Молчал и я.
Наконец он спросил тихо, почти шепотом:
— Кто вы? Поведайте, ради бога! Только не молчите. Кто вы?
Я рассмеялся.
— Разве мы так уж точно знаем, кто мы? — ответил я почти так же тихо.
— Во всяком случае мы знаем, что мы люди. Но вы не человек. Кто же вы?
Кто?
— Я житель далекой планеты Дильнеи.
— Докажите.
— Разве то, что я вам рассказал, не подтверждает мое происхождение? А мой рот, который вы рассматриваете с таким изумлением?
— Ваш нечеловеческий рот произносит вполне человеческие слова. Ваш разум человечен…
— Ну, что ж, это только подтверждает диалектическое единство законов природы, мир материален, и высокоразумные существа пребывают не только на Земле…
— Может, я вижу сон?
— Позовите Яхмана. Он вам подтвердит, что вы не спите.
— Не стоит. Не стоит звать Яхмана. Он найдет какоенибудь объяснение этому феномену. И это объяснение будет слишком запутанным и сложным, чтобы быть истинным.
— Может, лучше не вдаваться в объяснения, господин Кант?
— Философ не должен бояться истины, как бы она ни была ужасна. Я жажду узнать причины, чтобы понять следствия.
— Все очень просто. Я прилетел на Землю с Дильнеи. Космический корабль ждет меня на Луне. Моя миссия подходит к концу. Мне пора, господин Кант.
Благодарю вас за аудиенцию. Вот уже слышны шаги… Кажется, сюда идет господин Яхман?
— Да, это он. До свидания, господин с русской фамилией, посланец будущего.
Я не хотел бы при Яхмане сомневаться в том, что вы человек. До свидания!
— Прощайте! Я вернусь через двести лет.
НАКАНУНЕ
Сто пятьдесят лет назад один из крупнейших биологов Дильнеи, великий Ахор, писал, не скрывая своей ревности к успехам физиков:
«Если бы наше знание проникло в живую клетку так же глубоко, как в сущность атома, вероятно, мы избавились бы от большинства болезней и смогли бы продлить нашу короткую жизнь вдвое, втрое, а может, и в десять раз».
Еще недавно эти слова звучали несбыточно, как не оправдавшееся пророчество, сейчас же они были близки к реализации. Вот уже несколько лет, как вся Дильнея была занята наступлением на тайны клетки. Казалось, все превратились в цитологов: инженеры, поэты, старушки, доживавшие свой век, диспетчеры на космических вокзалах, астросадовницы, астрономы, работники связи, литературоведы, косметики.
Арид сказал Эрое:
— Теперь вы можете спокойно ждать Веяда. Вам не суждено состариться. Мы уже накануне победы над энтропией и временем.
В глазах Арида, увеличенных экраном приближателя, были следы грусти.
Нелегко было ему вспоминать о Веяде.
Об этом Эроя догадывалась давно.
— Когда мы встретимся? — спросила она.
— Я так давно не видела вас.
— Может быть, завтра. Если мне удастся выкроить час, отложив все дела.
Трудно Ариду выкроить час. Его личное время принадлежало не ему, а проблеме, которую нужно было решить.
Клетка была куда сложнее атома. Атом не обладал «памятью». А клетка не только «помнила» себя, но своей безукоризненной «памятью» связывала прошлое, настоящее и будущее каждого многоклеточного организма. Найти средства, предохраняющие наследственно-информационный аппарат от разрушающего действия энтропии, — значит сделать каждый индивид, каждое «я» и каждое «ты» таким же не боящимся смерти, как вид и род. Кому, как не Ариду, могла прийти такая дерзкая идея? И эта идея завладела умами всех дильнейских ученых.
Эроя ждала Арида в тот день, когда он обещал прийти.
Но он пришел только через неделю.
— Спешная работа, — сказал он, — не могла выделить для меня даже свободной минуты. Вы должны меня извинить. Но зато теперь остались считанные дни…
— Вы рады? — спросила Эроя.
— Ваше усталое лицо об этом не говорит. Глаза смотрят на мир не только утомленно, но и грустно. Отчего это, дорогой? Раз вы так близки к победе, вы должны быть счастливы. Выражение вашего лица опровергает это.
— Это не совсем так, — ответил Арид.
— Я действительно счастлив, как и все мои многочисленные сотрудники и друзья. Но поймите нас, Эроя. Ведь мы берем на себя огромную ответственность. Трудно сказать, что принесет нам победа над старением клеточной «памяти». Дильнейское общество, все и каждый, переступит через границу, отделяющую две эпохи — прошлую и будущую — и выйдет в неведомое. В продолжение десятков ты сяч лет дильнеец жил, если благоприятствовали социально-экономические условия, столько, сколько ему было отмерено его биологическими и физиологическими пределами. Между мыслью дильнейца, рвавшейся в беспредельность пространства и времени, и его бренным телом не могло быть подлинного единства. Слабое, рано стареющее тело было недостойно интеллекта и воли, готовой победить все, преодолеть все физические препятствия для познания мира и для развития коммунистического обществе. Наука была обязана продлить жизнь, сделать слабое тело таким же сильным и боеспособным, как интеллект и воля современного дильнейца. И вот мы накануне реализации этой дерзкой идеи.
— Так почему же вы тревожитесь? Разве может тревожиться врач, несущий больному здоровье?
— Поймите, Эроя! Это же процесс необратимый. Каждый дильнеец станет чем-то вроде Ларвефа, моего учителя, победившего сначала самого себя, а потом время. Но не каждый может быть Ларвефом. Жизнь-это, кроме всего, цепь привычек и привязанностей. Разве легко выскочить из рамок своей жизни, ко дну которой, как ракушки к кораблю, прилипли привычки и пристрастия, А что, если дильнейцы, чьи клетки приобретут долговечную память, потребуют от меня и моих сотрудников вернуть им утерянный мир, утерянное бытие, способность быстро стареть! Судя по вашей улыбке, вы этого не предполагаете?
— Вы не поняли мою улыбку. Я как раз это предполагаю. Многим свойственно желать того, чего у них нет, и не ценить то, чем они обладают. Подарите им бессмертие, и они будут тосковать по смерти.
— Ну вот, — сказал удовлетворенно Арид, — вы лучше меня объяснили мою тревогу. А сейчас, если вы согласитесь отложить все срочные дела, я предлагаю вам совершить вместе со мной быстрое путешествие по Дильнее. Мне хочется запечатлеть в своем сознании мир таким, какой он сейчас. Через несколько дней наступит перемена. Все, что есть сегодня, отделится от нас почти с катастрофической стремительностью. Слово «вчера» потеряет всякий смысл. Вчерашний день будет так же далеко от нас, как палеолит, если не дальше…
— А вы не преувеличиваете, Арид?
— Наоборот. Я преуменьшаю.
Он бросил взгляд на автоматический справочник.
— Как поживает ваш Эрудит?
— Отлично.
— Как работает?
— Бесперебойно.
— Бедняга!
— Чуточку тише. Я очень прошу. Он не любит, когда его жалеют.
— А как его не жалеть? Все изменятся, а он останется прежним.
— Ничего. Мы подновим его программу.
— Дело не только в программе, а в точке зрения на мир. Разве дильнейцы, обретшие долголетие, будут точно так же мыслить, как мыслили они вчера?
Вся история прошлого покажется им крайне странной и во многом непонятной.
Им прежде всего будет непонятно, как их предки могли откладывать срочные дела, когда рамки их бытия были столь узкими. Но идемте, Эроя. У нас есть возможность поговорить и в вездеходе.
Автомат-водитель открыл дверцы вездехода.
— Ну, как настроение, Кик? — спросила Эроя водителя.
— Самое бодрое.
— Ну вот. Кик. Сегодня бодрость — это тот идеал, к которому стремимся и мы с Аридом.
Водитель сел на свое место, и вездеход стал набирать скорость.
САМА СКОРОСТЬ
А потом много лет спустя они оба — Арид и Эроя с чувством грусти вспоминали свою поездку, с чувством грусти, смешанной с легкой радостью.
Они то мчались, обгоняя минуты и секунды, то замедляли движение вездехода так, что могло показаться: они не летели, а шли. Шли!
Они шли, и мир шел вместе с ними. Они мчались, и мчался мир, почти развеществляясь и превращаясь в движение, в абстракцию, в кружащийся фон.
Они плыли, и плыла Дильнея, как облако, и плыли леса и горы, слегка покачиваясь как отражение в прозрачном озере, и все становилось музыкой: трава и небо, деревья и реки, дно озер и морей.
Они летели-сама быстрота и скорость, и от страшной скорости срастались времена года, сливались зима и лето, весна и осень. Движение вездехода как веер развертывало пространство и время.
Крыло ласточки. Верхушка горы, леденящей дыхание.
Дно моря с синими, розовыми, оранжевыми его обитателями. Гром. Молния.
Снегопад. Ливень. Звон падающих капель. Снежная тропа, соединившая жаркую пустыню с прохладной поляной, по которой скачут зайцы, высоко поднимая свои пушистые тела. Водопад. Грохочущая, стонущая, поющая громада, вода, обрушившаяся со скал в долину. Следы в снегу. Озеро в кратере потухшего вулкана. Просека. Удивленная голова жирафа. Медведь, с ревом выскочивший из берлоги. Стремительный бег вспугнутой лани. Пчелиный улей.
Ладонь лесника. Полевые цветы от горизонта до горизонта, Одни цветы. Как будто на свете нет ничего, кроме цветов.
— Не слишком ли ты спешишь. Кик? — сказала Эроя, — Если не трудно, замедли мгновение.
Кик включил аппарат, изобретенный отцом Эрой Эрономстаршим. Теперь они оба, Эроя и Арид, глядели на мир сквозь «лупу времени». Бытие замедлило свой темп. Другой ритм жизни, знакомый только бабочке или пчеле, охватил их сознание. Время, казалось, остановилось. Согласно ритмам и темпам замедленного времени, уже никуда не спешило самое быстрое в их существе — их мысль. Минута растянулась невыразимо, превратилась в день.
Ласточка в небе остановила свой полет. Медленно-медленно, сорванный ветром, падал лист с ветки. В только что бешено мчавшемся ручье вдруг застыла вода, замедлив течение. Где-то куковала кукушка. Звуки растянулись, замедлились, таяли, таяли и никак не могли растаять.
— Кик! — сказала Эроя водителю.
— Мы превратились в твоих братьев.
— У меня нет ни братьев, ни сестер, — возразил автомат.
— А вещи? Разве они не в родстве с тобой, не в дружбе?
— Нет! Вещи замкнуты в своем остановившемся застывшем ожидании. Они не говорят и не мыслят.
— В ожидании? Но чего они, собственно, ждут?
— Того же самого, чего жду и я, — чтобы их одушевили.
— Я знаю, ты ждешь, когда к твоей программе подключат живую, веселую душу?
— Вы мне обещали.
— Не все обещания легко выполнимы. Кик. Иные из них относятся к тем иллюзиям, которыми мы тешим себя. Но довольно тишины и покоя! Вези нас туда, где движение, в центр цивилизации.
— А вы мне достанете душу?
— Иногда я готова вынуть свою и отдать тебе. Но у меня женская, слабая душа. А тебе, Кик, надо мужскую. Ну, трогайся, не клянчи! На Дильнее нет душ, годных для тебя. Нет душ из металла. Ты слишком прочен, Кик. Ну, поторопись! Я тебя прошу.
Арид взглянул на часы. Нет, ему только показалось, что они остановились.
Они шли. Секундная стрелка отмеряла мгновения.
— Судя по часам, мы провели здесь всего-навсего одну минуту. Но мне показалось…
— Мы привели здесь не минуту, а целый день.
— Часы идут. Почему я должен им не верить? — спросил Арид.
— Часы идут точно. И все же они обманывают, обманывают себя, а не нас. Мы были в другом измерении времени, в том мире, который возникает в чувствах насекомых. Туда перенес нас аппарат моего отца. Вам не понравилось там?
— Нет, там было чудесно.
— Кик, увеличь скорость! Ты, случайно, не спишь?
— Я нахожусь по ту сторону сна, — ответил водитель, — Лучше бы ты находился по эту.
Пространство, охваченное бешенством движения, стремительно неслось вместе с вездеходом. Уже не существовало ни часов, ни минут, только обезумевшие секунды.
Кик начал тормозить. Скорость стихала.
Несколько секунд спустя Эроя и Арид оказались в одном из центров планеты.
Затем их взгляду открылся прозрачный, как горный воздух, зал с бесчисленным множеством танцующих пар. Зал был безграничен. Он висел над морем. Волны бились о прозрачную синеву стен. Невидимое оптическое устройство, включенное администратором, освобождало глаза от привычной обстановки неподвижных вещей, от всего прочного, стабильного, незыблемого, сопротивляющегося движению. Казалось, зал парил над морем, плыл, как воздушный корабль. К тому же действовали антигравитационные установки, правда не на всю мощность. Танцевало сразу десять тысяч пар. Десять тысяч молодых дильнейцев обоего пола, почти освобожденных от тяжести своего тела, от груза привычек, сливаясь с ритмом музыки, словно плыли в неизвестное. Ритм музыки и самого бытия освобождал их от всего неподвижного, он был как мысль, одевшаяся в плоть, но сохранившая всю подвижность, быстроту и красоту мысли.
Потом запел женский голос. Он пел o великой победе над косными силами природы. Казалось, это пела сама Дильнея, устремленная в дали будущего.
— Вы не хотите хотя бы на десять минут обрести то, что обрели они? — Арид показал на танцующие пары.
— Хочу, — сказала Эроя.
И только они вступили на площадку в сферу действия антигравитационного устройства, как обрели легкость. Они несли себя по воздуху, едва касаясь пола, почти сливаясь с музыкой. Это было похоже на сновидение.
— Посмотрите, — шепнул Арид, — на танцующую пару рядом с нами.
Эроя оглянулась и увидела Физу и Математика. У Математика было такое выражение лица, словно он и здесь, танцуя, продолжал вычислять. Но Физа Фи была счастлива.
Десять тысяч танцующих пар. Под ногами у них бушующая стихия, море, волны.
А над головами Вселенная.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
— Кик, — спросила Эроя, — ты знаешь, где нужно остановить вездеход?
— Знаю, — ответил электронный водитель. — Возле дворца дискуссий и споров.
— Ты не ошибся, Кик. Но откуда тебе это известно?
— Я научился угадывать ваши желания.
— Научился или тебя научили?
— Зачем вы напоминаете мне об этом? — сказал обиженно автомат. — Но вы не даете мне забыть и забыться. Почему? Я знаю, что когда меня в прошлый раз ремонтировали, то немножко изменили мою программу, включили в нее телепатическое устройство. Да, эту самую телепатию, которую так не любит ваш брат Эрон-младший.
— Тебе и это известно?
— Мне все известно. Решительно все.
— Не притворяйся всезнайкой. Кик. Ты всегда был скромным и славным малым.
— Был и остался.
— Но ты не должен слушать и запоминать то, о чем при тебе говорят. Ты же только автомат.
— Автомату иногда тоже может быть скучно.
— Это для меня ново. Раньше ты никогда не жаловался на скуку.
По-видимому, не в полной исправности телепатическое устройство. Чужие чувства и желания ты принимаешь за свои. Не забудь остановить вездеход возле дворца споров.
— Разве я когда-нибудь что-нибудь забывал?
Водитель включил механизм торможения.
Арид и Эроя вошли в переполненный зал как раз в ту минуту, когда выступавший оратор упомянул имя Эрона-младшего. Это был высокий дильнеец с одутловатым лицом и широкими, размашистыми жестами. И в жестах и в лице было что-то неуловимо знакомое. «Чем-то похож на моего брата, — подумала Эроя.
— И в то же время совершенно ему противоположен».
— Я буду возражать Эрону-младшему, — выкрикнул оратор. — Я буду возражать ему даже на смертном одре, даже после своей смерти в статьях и книгах, да, даже после смерти…
— Не волнуйтесь! Вам отсрочат вашу смерть, — сказал кто-то из сидевших в зале.
— Я не приму этого подарка от Эрона-младшего. Я не нуждаюсь в отсрочке.
— Жестом и мимикой он показал, как он отвергает и отталкивает протянутую ему в подарок жизнь. — Я отвергаю это сомнительное счастье!
Отвергаю!
— Кто это? — тихо спросила Эроя сидящего рядом Арида.
— Телепат Монес, кто же еще! Старый демагог, яростный противник вашего брата.
— Вспоминаю. Брат мне говорил о нем как о своем двойнике. Но сходство не так уж велико.
Лицо Монеса стало багровым. По-видимому, оратору не понравилась реплика, брошенная из зала.
— Я возражал против этой затеи, — продолжал он, — но общество не вняло моим словам. Вернемся же к главной идее Эрона-младшего. Еще в прошлом тысячелетии знаменитый художник Гочнив бросил в огонь свои автопортреты.
Он считал, что в далеком будущем искусство, соединив свои усилия с наукой и техникой, сумеет перейти через ту грань, которая отделяет изображение от оригинала, портрет от портретируемого. Странная мысль! Художник считал, что не следует останавливать миг, а дать ему возможность длиться как в жизни. Современники, да и последующие поколения отнеслись к идее Гочнива как к причуде. Никто не думал, что найдутся ученые, которые попытаются реализовать эту неосуществимую мечту. В ту эпоху, когда жил художник Гочнив, не существовало кинематографа. Может быть. Гочнив мечтал о нем?
Ведь в кинематографе изображение двигалось, дышало, говорило. Но ведь это была только иллюзия.
Не об иллюзии же мечтал Гочнив. В его век многие тосковали об абсолюте, потому что не имели представления о законах больших чисел, о гибких и далеких от абсолюта законах вероятностей. Но вот двести лет назад наступил век кибернетики. Мыслители и ученые стали смотреть на все живое как на инструмент информации и связи. Такого рода однобокость таила в себе опасность. Что означает попытка Эрона-младшего и его школы создать информационную копию личности? Прежде всего смысл каждой личности и заключается в том, что она не нуждается в копии. Размноженная репродуцированная личность — что же это такое? Эрон-младший, в сущности, уклонился от ответа. Тот, кто внимательно читал его главный труд «Электронный портрет как психическое воспроизведение личности», не мог не обратить внимания на странный факт, что автор рассматривает свое изобретение как завершение эволюционного процесса информации-жест, слово, рисунок, кино, телеизображение и так далее вплоть до создания электронного двойника личности, точной копии духовной жизни оригинала. Но где же логика? Портрет всегда был только портретом, даже если он говорил, смеялся, плакал, как это было на экране дневного кино. Затем, по мнению Эрона-младшего, произошел диалектический скачок. Развитие науки и техники позволило в какой-то мере слить портрет с оригиналом, перебросить мост через ту пропасть, перед которой всегда останавливалась даже самая дерзкая мысль. В лабораториях Эрона-младшего были созданы информационные копии личности. Одна из этих копий была послана вместе с космической экспедицией в далекое путешествие. Экспедиция не вернулась, и проверить, как действовала информационная копия оставшейся на Дильнее личности, до сих пор не удалось. Те же копии, которые были подвергнуты проверке, не оправдали надежд их изобретателя. Я знаю одного дильнейца, который дал подвергнуть себя электронному воспроизведению. Он пошел на это ради развития науки и техники. С этого дильнейца (имя его мне не хотелось бы здесь называть) сделано было три копии. И все они получились разными, еще раз подтвердив бесспорную и незыблемую истину, что личность неповторима.
Можно передать голос, даже привычки, даже склад мышления, но нельзя передать характер. Его можно только сыграть, как играет актер свою очередную роль. И вот электронные портреты играют то, что им задано программой. Самая совершенная программа не может заменить живой и противоречивой души. Информационные копии-это, в сущности, карикатуры на оригинал. Большего Эрону-младшему не удалось добиться… Вместо портрета карикатура. Смешно. Впрочем, и печально тоже.
Монес сделал короткую и многозначительную паузу, затем сказал, метнув насмешливый взгляд в ту сторону зала, где сидели Арид и Эроя.
— Эрон-младший не смог или не пожелал прийти сюда и защитить свои горестные создания. Он уклонился от встречи со мной. Здесь в зале сидит его друг, помощник и ученик, логик Арид. Может, уважаемый логик попытается защитить идею, трудно согласуемую с логикой?
Эроя взглянула на своего спутника. Неужели он откажется от этого вызова на бой?
Арид встал и молча пошел к трибуне. Все смотрели на него, все, находящиеся здесь, в зале, или пребывающие далеко у своих отражателей.
Через минуту раздался его голос.
— Карикатурой на дильнейца назвал только что выступавший здесь телепат Монес информационные копии, созданные в лабораториях Эрона-младшего.
Монесу кажется при этом, что он был остроумен и предельно логичен. Но если рассуждать так же «логично», как Монес, придется признать карикатурой и слово, и рисунок, и всякое изображение и отражение того неповторимого, что мы называем личностью. Ведь любой самый гениальный портрет изображает не всего дильнейца в целом, а только его часть. Действительность всегда бесконечно богаче ее отражения. Какую задачу ставил себе Эрон-младший, создавая так называемые информационные копии? Ответить на этот вопрос отнюдь нелегко. Начало ответа нужно искать в развитии мышления, речи, искусства, науки. Уже произнеся первое слово, назвав вещь или выразив чувство, первобытный дильнеец (еще полузверь) отделился от себя, и если вас не пугает это слово (телепата Монеса оно пугает), — создал свою модель, свою копию, копию своих мыслей и чувств. Это умение воспроизводить свою духовную и эмоциональную сущность совершенствовалось с каждым столетием. И вот наступила эпоха таких наук, как бионика, кибернетика и созидательная психология. Монес жалуется на то, что копии несовершенны, что они беднее оригинала. Но ведь это только начало. Если Монес согласится обождать пять-шесть лет, то он увидит свою собственную копию, и притом гораздо более совершенную, чем он сам, освобожденную от ограниченности, нетерпимости к чужому мнению, страсти все искажать…
— Я воспротивлюсь копированию. Воспротивлюсь! крикнул с места Монес.
— Моя личность вряд ли нуждается в слишком большом тираже!
В зале раздался смех.
— Монес слишком скромен, — продолжал Арид.
— Он утверждает, что копирование уничтожит личность с ее неповторимостью. Но разве об абсолютной копии идет речь? Речь идет о портретировании, о воспроизведении духовной и эмоциальной сущности. Я хочу назвать имя дильнейца, который подвергся, или, точнее, подверг сам себя копированию. Имя этого дильнейца Арид. Это я сам сделал свои копии. Что же тут предосудительного? Писали же художники свои автопортреты. Помню, какое сильное и странное чувство охватило меня, когда я услышал свой собственный голос. Я это говорил или не я? И я и не я. Было такое чувство, что, вопреки логике, я встретился сам с собой. Но только несколько часов спустя я понял явление, с которым столкнулся. В сущности, я видел свое отражение, свои достоинства и свои недостатки. Я видел себя со стороны. И первое, что мне захотелось сделать, освободиться от своих недостатков. Это, так сказать, чисто моральная сторона проблемы.
Но существовала и другая сторона, интеллектуальная. Создался парадокс.
Личность встретилась сама с собой. Но, разумеется, не только для этой встречи был предпринят сложный, требующий большого труда эксперимент. Он был создан для проверки возможностей современной технической мысли.
Невозможное стало возможным. Я могу послать себя, свой ум, свои чувства, свой характер в любую точку Вселенной, куда меня могут доставить современные средства передвижения и одновременно пребывать еще во множестве мест и у себя дома.
— Не тешьте себя и других иллюзиями. На самом деле это невозможно! — прервал Арида голос телепата Монеса. — А даже если это и стало возможным, разве это правильно? Нужно не посылать в неизвестное свои копии, а лучше лететь самому, как это сделал смелый Ларвеф!
— У вас есть какие-нибудь причуды? — неожиданно спросил своего противника Арид.
— Причуды? Странности? Привычки?
— Я не признаю никаких причуд!
— А Ларвеф признавал. Одна из его странностей, его причуд — это желание быть там, где быть почти невозможно. Потом это стало его привычкой, так же как для вас, Монес, бояться всяких причуд. Ларвеф, конечно, не стал бы посылать в бесконечность свою копию, а послал самого себя. Но это каждый раз приводило к тому, что он попадал в чужую эпоху и не мог попасть в свою. Слишком долго длилось его путешествие, чтобы он мог встретиться с знакомыми и друзьями. Я, по-видимому, очень привязан к своим знакомым, в том числе и к вам, Монес, и поэтому предпочел бы послать в бесконечность не самого себя, а свою копию.
— Это трусость!
— Нет, это особенность характера. Не все рождаются Ларвефами.
— Вы правы, — крикнул с места Монес, — с Ларвефа невозможно создать копию.
Реплика была удачной. И зал, а также далеко за пределами зала ее оценили.
Оценил ее и Арид.
Воспользовавшись своей удачей, Монес начал возражать Ариду, поспешив к трибуне, с которой еще не успел сойти его противник.
— Я, — начал он, сделав эффектный жест, — я хотел бы спросить уважаемого логика Арида, что несет с собой обновление «памяти» наших клеток? Впрочем, я угадываю ответ. Молодость — скажет нам остроумный логик. Но не станем ли мы своими собственными копиями? Ведь мы будем вынуждены расстаться с собой. Нет, я возражаю.
— Ну и оставайтесь самим собой. Вас же никто не принуждает! — сказал Арид под общий смех присутствующих.
ЗАГОВОР ВЕЩЕЙ
Казалось, Ларвефу теперь некуда было спешить. Некуда и незачем. Он вынужден был ждать, как годами ждали Веяд, Туаф и крошечное существо, называвшее себя Эроей. И все же Ларвеф спешил закончить свое повествование и скорее взяться за дело.
За какое дело? Он об этом пока еще никому не говорил, даже крошечному существу, в разговоре с которым он был всегда очень нежен и предупредителен. Но он явно к чемуто готовился. Изучал карту этого участка Галактики, что-то отмечал на ней. По-видимому, для того он и делал длинные паузы, нередко на самом интересном месте, прерывая свое повествование, к явной досаде двух слушателей и одной слушательницы.
— Извините, — говорил он, — я вынужден здесь поставить точку. Впрочем, не точку, а многоточие. Завтра продолжу, если у вас будет желание меня слушать.
О чем рассказывал он? Нет, теперь уже не о Земле.
Ведь, кроме Земли, он посетил немало других планет. Разговаривал ли он с другими мудрецами, кроме того, которого оставил в далеком Кенигсберге?
Нет, на большинстве других планет он-увы! — не встретился с живым разумом, с разумной жизнью, своим удивительным существованием как бы иллюстрирующей старую и мудрую мысль, что природа (эволюция), стремясь увидеть и понять самое себя, создает разум, облачив его в подходящую форму. Люди Земли своим внешним видом не многим отличались от жителей Дильнеи, подтверждая этим единство законов природы, которую вряд ли стоит обвинять в недостатке воображения.
Но как быть с законом больших чисел, с теорией вероятностей? Уж не старается ли природа, поскольку ей это удается, обойти эти законы?
Поддержанный Туафом и Эроей, Веяд вынужден был задать этот вопрос.
Ларвеф пожал плечами. Природа не давала ему полномочий отвечать за нее на такого рода вопросы. Что может сказать он, скромный путешественник? Только на двух планетах он встретил высокоразумную жизнь, впрочем отделенную очень большим расстоянием, но отнюдь не таким уж большим отрезком времени.
Математики и физики вряд ли простят ему его «антропоцентризм», если употреблять земной термин, но что делать с фактами? Они сильнее всяких теорий. Зато на других планетах дело обстоит по-другому. Там игра больших чисел, единство невозможного и возможного нередко приводили к неожиданным результатам. Как вам нравится, например, планета, намного превышающая своими размерами Дильнею и Землю, планета, населенная… кем бы вы думали?
Ларвеф остановился и посмотрел на своих слушателей, словно задав им загадку, которую они способны разгадать.
— Кем? — нетерпеливо спросила Эроя.
— Кем? — повторил ее вопрос Туаф.
— Кем населенная?
— Не спешите, а попытайтесь ответить сами. Напрягите свое воображение. Не можете? Хорошо, я отвечу за вас. Вашими реализованными желаниями.
— Нашими?
— Ну, не вашими, а, скажем, моими. Представьте себе мир, в котором мы нашли то, чего когда-то желали.
— Планета сюрпризов? — спросила Эроя.
— Расскажите о ней.
— Так слушайте и не прерывайте… Пребывая в течение многих лет в летящем космолете, борясь с невзгодами слишком большой длительности с помощью анабиоза, я все дальше и дальше отдалялся от cвоего прошлого. В интервалах между вынужденным отсутствием, дарованным мне и моим спутникам анабиотическим состоянием, мысль работала интенсивно. Она продолжала спрашивать сама себя: «Откуда и куда?» Казалось бы, беспочвенный вопрос.
Но на что-то же надо было опереться в этом движении среди вакуумов межзвездного пространства. Я вспоминал. Воспоминания и были опорой для чувств. Воспоминания, в сущности, живут в нас независимо от логики, от здравого смысла. Не знаю почему, мне часто вспоминалась игрушка, подаренная мне в детстве. Это была забавная штука, забавная, разумеется, только для маленького мальчика, каким я тогда был. Нечто вроде складного ножа. Впрочем, с множеством всяких приборов; крошечной вилкой, ложкой, зажигалкой, всем необходимым для путешественника. В ручке этого ножа было спрятано целое хозяйство. Крошечный напильник, пилка, сверло. Я не мог нарадоваться этому подарку. А затем, как это часто бывает в раннем детстве, он исчез. В детстве все исчезает более загадочно, чем в зрелые годы. Наверно, я его потерял, бегая в лесу. Потерял и не мог найти. Но вернемся на ту планету, о которой сейчас идет речь. Достаточно было мне на несколько минут уединиться и сделать одному небольшую прогулку, как случилось это. Словом это я обозначаю нечто необъяснимое. Невольно нагнувшись, я увидел у своих ног что-то знакомое и давнее. На песке лежал тот самый складной нож, который я потерял в детстве. Чтобы проверить, не обманывают ли меня мои чувства, я поднял нож. Да, такой же точно. Правда, он был немножко тяжелее дильнейских вещей, давал почувствовать себя объем планеты. Что же такое случилось? Не знаю. И не знал никто из моих спутников, тоже получивших каждый по одному подарку. Все находили здесь то, что когда-то утеряли на Дильнее. Планета не была населенной. Больше того, на ней не было никакой органической жизни, даже плесени. А вещи тем не менее появлялись, только те вещи, которые были когда-то утеряны нами — членами экспедиции или экипажа. Казалось, кто-то затеял с нами забавную игру. Но кто мог играть с нами на мертвой планете? Никаких происшествий.
Ровно ничего. Если не считать этих маленьких сюрпризов, Планета возвращала нам то, в чем мы, в сущности, не нуждались.
Для чего мне был этот складной нож, изделие прошлого века? Для чего был нужен командиру космолета Хымокесану-дильнейцу зрелых лет-детский компас с нервной, тянувшейся к магнитному полю стрелкой, когда в его распоряжении были совершенные приборы ориентировки в космосе?
Но каждый находил только то, что потерял в детстве. Нет ничего ужаснее помеси забавного с таинственным. Шутил и посмеивался только один повар и фармацевт Нев. Он ничего не нашел, потому что ничего не потерял. Он появился на свет, миновав детство и юность. Повар и фармацевт Нев был автомат, правда автомат, очень похожий на живого дильнейца.
Нев не ведал, что такое страх. Нам же стало страшновато.
С изумлением смотрели мы на возвращенные подарки, сложенные в кучу в одном из контейнеров корабля. В реальности их невозможно было усомниться. Они пребывали на месте, играя с нами в недозволенную игру, смеясь над нашим опытом и нашей логикой.
— О, если бы мы были детьми, — сказал командир космолета Хымокесан, — с их наивным доверием в доброе чудо! Но мы не дети. Мы взрослые и не можем верить в чудеса.
Он собрал нас, всех членов экспедиции и экипажа, на совещание. Физики, химики, математики и биологи сделали обширные сообщения, рассказали о том, что показали анализы и эксперименты, словно формулы и цифры могли успокоить нас.
— Ну, а все эти сюрпризы? — спросил Хымокесан.
Главный физик Ывар почему-то счел этот вопрос обидным для себя и для своей науки.
— Пусть ответит психиатр и невропатолог Хым. Это относится к его компетенции, — сказал он раздраженно.
Психиатр и невропатолог Хым сидел бледный как бумага.
Он тоже получил подарок, или, точнее, нашел то, что потерял совсем в другом месте и в другое время.
— Хым, почему вы молчите? — спросил Хымокесан, бросив на бедного невропатолога убийственный взгляд. — Вы-то должны знать.
— При чем же здесь я? Они ведь не кажутся, они реальны. Это по части физиков и химиков, а не моей.
— Действительно, — поддержал врача биолог, — это явление физическое, а не психическое.
Главный физик экспедиции Ывар вспылил.
— Это фарс! — крикнул он.
— Причем тут законы природы?
«Фарс». Наконец-то найдено было то слово, которое, казалось, могло внести ясность в чрезвычайно неясные и запутанные обстоятельства.
— Фарс, — охотно ухватился за это слово психиатр и невропатолог Хым.
— Фарс. Вот именно-фарс!
Иных это даже чуточку успокоило. И только трезво настроенный командир Хымокесан не намерен был даже на одну минуту удовлетвориться словесным обозначением необъяснимого.
— Ну, хорошо, фарс. Согласен. Но ведь и за фарсом должны стоять причины и следствия. Не у повара-фармацевта Нева мне просить объяснения этого загадочного факта.
Забегая вперед, я должен сказать, что именно повар и фармацевт Нев, этот дильнееподобный автомат, помог нам разобраться в необъяснимых и загадочных обстоятельствах.
Планета, сделав каждому маленький сюрприз, перестала играть с нами и забавляться. Ее щедрость не была чрезмерной. Напрасно надеялись те, кто рассчитывал, что игра затянется и вслед за возвращенным из прошлого пустячком появится и само прошлое во всем его богатстве, — прошлое, от которого мы так давно отчалили, уходя в безбрежную неизвестность. По правде говоря, я тоже надеялся на большее.
Почему только этот складной нож, спрашивал я, а не все, что ему сопутствовало? Нож, вырванный из живой конкретной среды и преодолевший время и пространство, нарушив все логические основы бытия… Зачем?
Ответа не было. Наступило то длительное и нормальное состояние, когда не происходило уже никаких чудес. А складной ножик между тем лежал в отсеке рядом с детским компасом и другими предметами, о наличии которых нас уведомляло наше напряженно рaботавшее чувство. Находки, повидимому, не собирались исчезать, как это бывает во сне.
Нет, все это нам не приснилось, все происходило наяву. Это-то и приводило в бешенство нашего мужественного командира Хымокесана. Он ходил, сжимая кулаки.
— Абсурд! — ворчал он.
— Нелепость! Чепуха! Алогизм!
Его трезвый ум продолжал работать, работать лихорадочно, пока не нащупал причину. Я пользовался доверием Хымокесана и не удивился, когда, отозвав меня в сторонку, он сообщил то, к чему привела его беспокойно работавшая мысль.
— Какого вы мнения о нашем психиатре и невропатологе Хыме? — спросил он.
— По-моему, серьезный и знающий свое дело специалист.
— Я не об этом. Еще на Дильнее мне говорили, что он когда-то занимался телепатией и тешил себя и других психологической и парапсихологической игрой, угадывая чужие мысли.
— Очень возможно. Но ведь это естественно. Он психолог. И парапсихолог.
— Не думаете ли бы, — спросил меня Хымокесан, — что, угадав какие-то наши мысли и желания, он затеял эту недостойную игру?
— Не думаю. Это было бы почти преступно. К тому же слишком много предметов. Где он мог их спрятать?
— Разумное возражение, — ответил задумчиво Хымокесан. — И все же я вынужден настаивать на своем предположении. Не могу же я поверить в абсурд. Легче поверить в розыгрыш, в шутку, затеянную, пока неясно мне, с какой целью, одним из нас. Подозрение падает на парапсихолога Хыма. В юношеские годы он прославился тем, что давал время от времени полусомнительные сеансы парапсихологии, гипноза, объяснения снов. Это ведь чуть не послужило препятствием, когда шел отбор участников нашей экспедиции. Я был против. Но меня переубедили. У Хыма, если не считать этих сеансов, была завидная репутация среди специалистов. Специалисты меня и переубедили. А вы знаете, я не из тех, кого легко переубедить.
— Знаю, — сказал я.
Хымокесан стоял в глубокой задумчивости, словно вдруг потеряв нить начатого со мной разговора. Я ожидал молча, не напоминая о себе и не торопя своего собеседника.
— Больше ничего не остается, — сказал командир, и лицо его приняло то выражение, какое появлялось в минуты всеобщей опасности и тревоги.
— Это он, Хым! Прошу пока никому об этом не говорить.
Хымокесан круто повернулся и ушел в свою каюту.
Согласился ли я с доводами командира? И да и нет. Я был слишком доверчив, чтобы заподозрить товарища в столь жестокой и нелепой шутке. Хым, с которым вместе я пробыл не один год, странствуя в беспредельности, производил на меня впечатление серьезного и сердечного дильнейца, большого знатока психологии. Держался он просто, незаметно, и если можно было его в чем-нибудь упрекнуть, то только в отсутствии юмора. Он был всегда серьезен, никогда не шутил, но серьезность его не отдавала педантизмом и никого не раздражала. Это была скромная серьезность дильнейца, который не позволял себе шутить в пути, слишком уважая суровую действительность и окружавшую нас неизвестность, чтобы относиться к ней фамильярно и игриво.
Он был не только крупный экспериментатор-ученый, но и отличный врач, тщательно следивший в продолжение многих лет за состоянием нашей нервной системы, подвергавшейся тяжелым испытаниям во время длительного пути.
Врачи любят шуткой смягчать переживания больного. Но он был слишком честен, чтобы облекать в фамильярную форму нечто чуждающееся фамильярности. Да, он был серьезен. И это не всем нравилось. Мог ли я допустить, что его серьезность была только маской, за которой скрывалось нечто противоположное? Опытный парапсихолог и экспериментатор, он, конечно, мог вычитать наши сокровенные мысли, но вряд ли он стал подбрасывать ножички, компасы и прочие сувениры, спрятав их про запас еще на Дильнее и храня их в пути в течение многих лет. Уж легче было поверить, что забавлялась планета, хотя это был и абсурд. Да, планете я не доверял, но я не мог не доверять своим товарищам. Таков уж мой характер. И Хымокесану не удалось сделать меня своим единомышленником. Между тем нужно было действовать, и действовать решительно. Ведь скоро космолет должен был оторваться от гравитационного поля планеты, названной нами Планетой ненужных сувениров…
Все — и члены экспедиции, и члены экипажа-готовились к отлету. Физики и химики брали пробы, вещественные доказательства физического и химического своеобразия планеты, тем же были заняты и астрогеологи.
Механики-электроники и силовики-возились с механизмами, с многочисленными аппаратами. Они проверяли силовое поле, защищавшее нашу жизнь от воздействия среды. И только психолог Хым пока не находил, чем себя занять.
Что-то невидимое, но ограждающее-вроде силового поля-уже стояло между ним и коллективом. Волна подозрения уже охватила почти всех, даже самых объективных, еще недавно симпатизировавших невропатологу и психиатру.
Начали вспоминать вопросы, которые задавал невропатолог Хым нам еще на Дильнее, изучая нервную систему своих будущих попутчиков, а затем и во время длительного пути. Даже я, что до сих пор не могу простить себе, поддался этой недостойной путешественника слабости и припомнил, что я рассказывал Хыму о складном ножичке, потерянном в детстве и неизвестно почему начавшем тревожить мою память в пути. Поддавшись слабости, я подумал: «А что, если Хымокесан прав, подозревая психиатра? Что, если мы стали объектами психического эксперимента со стороны чрезмерно любознательного Хыма, пренебрегшего нашим покоем ради интересов своей специальности?» Я боролся с собой и с теми, кто поддался недоверию и подозрительности.
— Не может этого быть. Не верю, — говорил я. — Если бы Хым поступил так, он бы нам сказал.
— Возможно, эксперимент еще не закончен, — возражал Хымокесан и его единомышленники, — потом он, может, и признается.
Как только космолет оторвался от сил притяжения планеты, случилось то, чего, впрочем, можно было ожидать. Сувениры исчезли. В том месте контейнера, где они лежали, зияла пустота. Все молчали, и только повар-фармацевт Нев сказал своим бесстрастным голосом автомате:
— Их нет.
— Но они были! — возразил Хымокесан. — Были! Я за это ручаюсь!
— В том-то и парадокс, — сказал Нев, — что их никогда здесь не было.
— И ты это знал?
— Знал.
— Но почему же ты ничего не сказал?
— Потому что каждый верит себе больше, чем другим. Вас много. Я один. Вы бы мне не поверили.
— Ты прибегаешь к уловке, — крикнул разгневанный Хымокесан, — не достойной машины! Ты не имел права молчать. Всем известно, в том числе и тебе, что твои электронные чувства не поддаются ни гипнозу, ни воздействию наркотиков. Уж не в заговоре ли ты с тем, кто был заинтересован в этой недостойной игре, в этом возмутительном эксперименте?
— В заговоре с планетой? — изумился Нев.
— Но она же не живой дильнеец.
Онавещь. Огромная вещь.
— Ты тоже вещь, — сказал кто-то из присутствующих.
— Заговор вещей, — пошутил биолог Карег.
Хымокесан метнул в него гневный взгляд, не одобряя неуместную шутку.
Наступило молчание, которое не предвещало ничего доброго. Тяжелая тень необъяснимой загадки легла на наше сознание и придавила его. Все начали расходиться, каждый к своим обязанностям и размышлениям, Прошло часа два, томительных, неясных, тревожных.
Меня вызвал к себе Хымокесан.
— Ларвеф, — начал он бел всяких предисловий, — я считаю вас справедливым и объективным дильнейцем.
— Надеюсь, не более объективным, чем повар-фармацевт Нев?
— Не напоминайте мне об этом электронном мерзавце.
Он в сговоре с парапсихологом Хымом. Сейчас всем без исключения ясно, что был проделан недопустимый эксперимент…
— Вы говорите, всем ясно? Разумеется, кроме меня. Мне это вовсе не ясно.
Хымокесан улыбнулся.
— Вы из тех, кто никогда не торопится произнести свой приговор. Потому я и хочу просить вас быть судьей. Парапсихолога Хыма за его проступок мы должны предать общественному суду.
— Но, может, судить следует не его, а планету, с которой мы недавно расстались?
— Слушайте, Ларвеф. Я мог терпеливо выслушать такую нелепость от автомата Нева, но не от вас. Мертвые планеты не занимаются психологическими экспериментами.
Хымокесан был категоричен. Это я за ним заметил давно. Это был его главный, а может, единственный недостаток.
Но этот недостаток мог погубить всех нас.
— Откуда вы можете это знать, чтобы говорить так уверенно? — сказал я.
— Для столь смелого обобщения у вас не так уж много материала.
— Я доверяю приборам больше, чем своим чувствам, Ларвеф. Ни химики, ни физики, ни биологи не нашли на Планете сюрпризов ничего такого, что могло воздействовать, как гипноз, на наши чувства. Мне нужна истина, Ларвеф.
Нельзя вести корабль в космических просторах, не зная явления, которое стоит на вашем пути. Я почти уверен в том, что психолог Хым ради интересов своей науки решил пожертвовать спокойным состоянием наших нервов.
— Откуда у вас такая уверенность, Хымокесан?
— Прежде всего из знания всех сильных и слабых сторон своих спутников.
Прежде чем пустить на корабль каждого из вас, не исключая автоматов, я тщательно изучил характер каждого. Прошлое Хыма заставило меня долго сомневаться. Я об этом, кажетс o, уже говорил. Мне было известно, что это страстный экспериментатор, ради познания готовый пожертвовать собой…
— Собой-не сомневаюсь, — прервал я своего разгневанного собеседника, — но не вами, не мною.
— Вы в этом уверены?
— Почти уверен. Я с ним говорил. Я ему доверяю.
— Я тоже с ним говорил. Так вы отказываетесь быть судьей?
— Мне легче судить самого себя, чем этого дильнейца. Ведь его подозревают в проступке, которого он не совершал.
— Ларвеф! Вы уклоняетесь от общественного долга…
— Нет. Я против всякого суда. Мы слишком мало пробыли на Планете сюрпризов, чтобы быть в чем-либо абсолютно уверенными. Нужно забыть о том, что случилось, и спокойно лететь дальше.
Ларвеф прервал свой рассказ, не закончив его. Наступил тот час, когда не оставалось времени на разговоры, час неотложных занятий и дел.
Двое слушателей и одна слушательница с нетерпением ждали продолжения рассказа. Но были дела поважнее всяких рассказов и историй. Этими делами и занялся Ларвеф.
Он проверял приборы летательного аппарата, который принес его из бесконечности в этот малый и тихий мир. Уж не собирался ли он в самом деле улететь отсюда?
Наконец, потрудившись вволю, утомившись и желая чуточку отдохнуть, он продолжил свою историю.
— На чем я остановился? — спросил он своих слушателей. — Да, на споре с Хымокесаном. Хымокесан был отличный астронавигатор, а значит, он обладал талантом не только замечать явления крупного порядка в их целом, но отмечать про себя детали, мелочи. Без этого нельзя управлять таким сложным хозяйством, как космический корабль, Но, по-видимому, гнев и пристрастие заставили его не заметить того, что заметил я. Психолог Хым целиком ушел в исследования. Он, в сущности, один на всем космолете теперь искал ответ на всех тревожащий вопрос. И физики, и химики, и биологи успокоились, поспешив уверить себя, что они изучили Планету сюрпризов. Он один не успокоился.
Зайдя к нему в лабораторию, я застал его в глубокой задумчивости.
— Ларвеф, — вдруг спросил он меня, — вам, разумеется, известно, что такое здравый смысл?
Наивность вопроса удивила меня. Я принял его за шутку.
— Еще бы! Здравый смысл есть здравый смысл.
— Да, в обычных и стабильных условиях, когда наш опыт и наши чувства дома.
Но здесь…
— Уж не считаете ли вы, — сказал я, смеясь, — что здесь он мешает?
— Да, Ларвеф. На Планете сюрпризов он нам помешал. Столкнувшись со странным и алогичным явлением, мы все стали рассуждать, как рассуждали бы у себя на Дильнее. Все, впрочем кроме автомата, который оказался объективнее нас, а значит, и разумнее.
— Вы думаете, что планета сыграла с нами в эту недозволенную игру?
— А кто же еще? — Он посмотрел мне прямо в глаза. — Или вы думаете, что это сделал я?
— Нет, я этого не думаю.
— Но если не я, то кто? Кто же? Почему вы молчите?
— Не знаю. Ни за что не поручусь.
— А я готов поручиться. Я в этом убежден. Мы поторопились улететь с планеты, не изучив ее так, как она того заслуживает. Еще за несколько дней до посадки, когда мы только приближались к ней, я, как психолог и врач, не мог не обратить внимания на одно крайне странное обстоятельство. В сознании каждого как бы пробудилось прошлое, проснулись воспоминания.
Этого никогда не бывает в том случае, если космолет приближается к новому неизвестному месту.
В новом неизвестном месте чувства не ищут встречи с прошлым. Это бывает только тогда, когда вы возвращаетесь домой и близка ваша родная планета.
Многие признавались в удивительном самообмане, в надежде встретиться с тем, что они покинули несколько лет назад. Да, вопреки здравому смыслу, вопреки рассудку, многие рассчитывали на невозможное.
— И даже Хымокесан?
— Думаю, что и он тоже. Но разве он когда-нибудь признается в слабости даже самому себе? Такие сильные и закаленные навигаторы, как Хымокесан, побороли свое настроение. Но менее сильные и волевые признавались мне в этой странной слабости. Они искали у меня поддержки, как у врача. А у меня не хватало знаний, чтобы объяснить это психическое явление.
— А сейчас у вас хватает знаний? — спросил я, Он усмехнулся, выражением своего лица намекая на то, что мой вопрос был недостоин ни меня, ни обстоятельств, о которых шла речь.
— Как вы думаете, — сказал он, — могу я дать исчерпывающий ответ, находясь здесь, а летящем космолете, далеко от Планеты сюрпризов? Нужно возвратиться туда, возвратиться, пока не поздно.
— Хымокесан не согласится. Он и так упрекал экспедицию, что было потеряно зря столько времени. Планета ведь никого не заинтересовала. Кажется, кроме вас.
— Постарайтесь переубедить его, сделайте все, что возможно ради самого великого из того, что существует, ради истины, ради знания, ради интересов общества, которому мы служим.
Я дал согласие. И мне в конце концов удалось переубедить Хымокесана. Хым, на этот раз поддержанный биологом Карегом и одним из химиков, предъявил несколько неоспоримых доказательств того, что мы столкнулись с неразгаданным явлением.
Участники экспедиции много говорили о направлении времени, о необратимости его, о памяти, единственном аппарате в природе, который противится однонаправленности времени, и о странном явлении, с которым мы столкнулись.
И вот корабль снова начал сближаться с планетой. И снова всех охватило чувство, хорошо знакомое всем, кто хоть раз в жизни возвращался домой после долгих странствий, предчувствие встречи с прошлым. Казалось бы, сейчас здравому смыслу было легче побороть смутное чувство приближения к прошлому, мы уже имели представление о планете, однажды побывав на ней. И все же ощущение, что прошлое возвратится, было сильнее нас.
Хымокесан после совещания со своими помощниками решил спуститься в другой части планеты. Он уменьшил скорость движения корабля. На этот раз и командир, и главный штурман заинтересовались спутниками планеты.
Хымокесан вызвал меня в отсек управления кораблем.
На его обычно спокойном лице я заметил следы тревоги.
— Вот что, Ларвеф, — сказал он, — мой выбор пал на вас. Зная ваш характер, не думаю, что вы будете этим недовольны. Я поручаю вам обследовать спутники планеты. Одноместный летательный аппарат в вашем распоряжении. О результатах обследования вы доложите мне уже на Планете сюрпризов. Мы раньше вас попадем туда.
Перед вылетом он обнял меня. Я простился с ним с легким сердцем, не думая, что вижу его в последний раз.
Наступила пауза. Слишком долгая пауза. Ларвеф молчал.
— Ну, а что же было дальше? — спросила Эроя.
— Вы же не кончили свой рассказ.
— Я его кончаю. Это случилось… Возвращаясь со спутников и держа курс на планету, я услышал последнее донесение. Кванттелеграф принес мне слова Хымокесана:
«Не приближайтесь к планете, Ларвеф. Я вам приказываю. Случилась катастрофа. Мы гибнем. Постарайтесь добраться до космической станции Уэра.
Мы…»
Это были последние его слова,
— И вы выполнили его приказ не приближаться? — спросил Туаф.
— Только отчасти. Я приблизился к планете и, не спускаясь, облетел вокруг нее, используя специальные оптические приборы. Но ни космолета, ни его экипажа я не нашел…
ЭТО Я! Я! АРИД!
Электронный Эрудит молчал полтора года. Физа Фи, Математик и все другие сотрудники и сотрудницы сочли, что он устарел, занимает много места и что его нужно за ненадобностью убрать из лаборатории. Но Эроя не разрешила его трогать.
— Пусть пока стоит, — сказала она. — В этом механическом старце есть что-то трогательное. Особенно его не хочется убирать сейчас, когда некоторые нескромные и живые старцы, спеша расстаться со старостью, занимают очереди у пунктов обновления клеток. Он хорош хотя бы тем, что не торопится обновляться. Включи его, Физа. Я хочу услышать его голос.
— Но он устарел. Он не в состоянии сказать ничего нового. Его знания одряхлели сразу после того, как нашли способ обновлять клеточную «память».
Опять будет плести всякую чушь о бренности жизни. А ведь жизнь стала практически почти бесконечной. У всех теперь другой взгляд на мир. Только он один видит мир так, как видели его полтора года назад. А эти полтора года больше, чем все тысячелетия истории общества.
— Да, это был переломный год в истории общества. Но ко всему нужно привыкнуть, Физа, даже к тому, что должно взорвать все привычки и навыки.
Включи его. Пусть поговорит.
— О чем?
— Ну, хотя бы о любви.
— Вы же сами запретили задавать ему вопросы, в которых он некомпетентен.
— Это верно. Но кто сейчас компетентен в этом вопросе… Никто не знает, какой будет любовь, когда смерть стала почти практически невозможной, когда никто не станет стареть, если, разумеется, этого не пожелает. Пусть говорит.
Физа Фи включила Эрудита.
Ровный, тихий, приятный академический голос начал говорить. На этот раз он не перечислял события, не называл исторические факты, не напоминал даты и имена. Он начал читать повесть старинного писателя Инзижа, знаменитую «Повесть о двух любящих».
Все слушали. Не странно ли, что посредником между эмоциональной мыслью Инзижа и слушателями был автомат, созданный математиками и инженерами? На несколько минут все забыли об этом. Голос Эрудита на этот раз обращался к чувствам, непосредственно к чувствам, отбросив холодную логику.
Голос читал:
«Еще вчера я села писать это письмо вам, Сенаг, как будто письмо способно остановить и удержать его. Я не хочу умирать, мне хочется прожить хотя бы до весны».
Предчувствие чужой смерти и соприкосновение с чужой жизнью захватило всех слушавших в эти дни, когда смерть от всех живущих была бесконечно далеко.
Голос читал. Ощущение чьей-то беды, чьего-то горя, казалось, растрогало даже автоматического чтеца, изменило и преобразило его голос.
«Я прощаюсь с тобой, Сенаг, навсегда. Ты чувствуешь железный необратимый смысл этого слова? Прощай, мой милый. Прощай навсегда».
— Я не могу слышать это, — Физа вскочила и выключила Эрудита.
Ни у кого не хватило ни сил, ни желания включить его снова.
Потом все молча разошлись. Разошлись, полные смятенных чувств. В лаборатории осталась одна Эроя. Сегодня она ждала здесь Арида, которого не видела давно, со дня их совместного путешествия по Дильнее.
Ее желание двоилось, она хотела, чтобы он пришел, и одновременно не хотела. Ощущение смутной тревоги томило ее.
Арид вошел в лабораторию так тихо, что она не слышала его шагов. Да и он ли пришел к ней? Перед ней стоял незнакомец, чем-то чуточку похожий на Арида. Может быть, это был его младший брат, решивший пошутить?
— Это я, — сказал он, — я, Арид! Помолодели только те клетки, которые не ведают памятью. Житейский опыт остался прежним. Мое «я» тоже не изменилось. Узнаете вы меня?
Эроя готова была расплакаться. Перед ней стоял юноша, Она искала в чертах его лица прежнего Арида — зрелого и мудрого дильнейца. Но этот дильнеец исчез. Вместо него здесь стоял юноша-жизнерадостный и охмелевший от избытка сил.
— Это я! Я! Арид! — повторял он все менее и менее уверенным голосом, словно сам сомневаясь в том, что это был он.
— Я! Я! Неужели вы мне не верите?
— Пока еще не очень!
— Я тоже испытал это, когда взглянул на себя в зеркало. Но я знал себя таким. Это было двадцать лет назад. Возвратилось мое прошлое.
— Но зачем? К чему? Я знала вас, а не ваше прошлое. Я ждала вас. Но вместо вас пришел другой. Ваш брат, ваш тезка, но не вы. Неужели вы не понимаете, какое я испытываю сейчас чувство? Я не нуждаюсь в иллюзии, в обмане.
— Это не иллюзия, не обман. Это истина. Моим клеткам пришлось вспомнить то, что было записано в них двадцать лет назад, меня вернули в прошлое.
— Но мне нужно ваше настоящее, а не прошлое. Вы, а не воспоминание о том, каким вы были в юности.
— Я не воспоминание. Я — реальный дильнеец. Поймите!
Он протянул руки, словно трогая ту невидимую абсолютно прозрачную стену, которая разделяла теперь их, его и ее, удивительную стену, превращавшую время в пространство.
— Я — реальный дильнеец! Я не хочу, я не могу быть воспоминанием!
— Но дело же не в том, реальный вы или не реальный. Важно то, что вы уже не тот, а другой. Вы юноша, а я знала зрелого дильнейца. Что осталось от него, кроме имени?
— Но я тот же. Совершенно тот же, каким был, каким вы меня знали.
Помолодели только клетки. Сознание осталось тем же. Личность не изменилась. Я помню все, что помнил до того, как подверг себя эксперименту. С кого-то же надо было начинать. Я решил, что надо начать с самого себя… Разве я поступил неэтично?
— Я не осуждаю вас за это. Я только говорю, что передо мною не тот Арид, которого я знала и ждала. Где мне найти его?
— Его уже нет. Вместо него — я!
— Но между нами время! Разве вы этого не чувствуете? Время! Я осталась такой же, какой была. А вы резко изменились. Вы вернулись в прошлое, в свою юность.
— Но я вернулся в свое прошлое, не в чужое, в свою юность. Почему же вы смотрите на меня так, словно я совершил нехороший поступок?
Эроя не ответила. Пауза длилась, пожалуй, больше, чем следовало.
— Почему вы не отвечаете? Говорите! Говорите! Я вас умоляю. Разве я не имел морального права поступить так с собой, вернуть себе утраченное?
— Но какой ценой!
— Вы не ответили на вопрос — имел ли я право поступить так с собой?
— Но ведь вы поступили так не только с собой, но и со мной. Я потеряла вас в прошлом.
— Вы это тоже можете сделать. Достаточно…
— Я этого не хочу. Я не хочу расставаться со своим возрастом. Не хочу. Я стала стареть. На днях, причесываясь, я увидела седой волос. Я не стала его вырывать. Зачем? Он часть меня, результат моих переживаний. Пятнадцать лет назад я была юной. На моем лице не было морщин. Но я не требую ни от судьбы, ни от науки, чтобы мне вернули прожитое. Оно стало частью моего опыта. Вы утверждаете, что изменились только внешне. Но возможно ли это?
Ведь между внешностью и внутренней жизнью должно быть единство. Хорошо ли, когда за внешностью юноши прячется душа зрелого мужа или старика?
Арид ничего не ответил на ее слова. Он молча вышел.
У ОТЦА
— Молодеют, — сказал водитель-автомат, открывая дверцу вездехода.
— Кто молодеет? — спросила Эроя.
— Все. Решительно все, кроме вас.
— Ну, не все. Многие. Это верно. Но не все. Не преувеличивай, Кик.
— А почему бы и вам немножко не помолодеть? Хорошее дело.
— Ты в этом убежден. Кик?
Кик не ответил.
— Куда вас доставить? — спросил он.
— К моей приятельнице Заре. Ты же отлично знаешь. Зачем спрашиваешь?
— Она тоже помолодела?
— Не знаю. Кик. Думаю, что нет. На днях я ее видела. Она не из тех, кто слишком торопится расстаться со своим настоящим ради прошлого.
— Ради будущего.
— Юность-то была в прошлом, Кик.
— Но из прошлого она стала настоящим и будущим. Не так ли?
— Откуда, Кик, ты научился так логично рассуждать?
— От вас. С тех пор как мне подарили душу…
— Душу? Душой ты называешь телепатическое устройство, последнее достижение парапсихолога Монеса?
— Не важно, как ее называть, устройством или душой. Но теперь я сопереживаю ваши чувства и настроения. Все эти дни вы гадали о том жизненном парадоксе, который влечет обновление клеточной «памяти»…
— Не так уж важно, о чем я гадала. Кик. Ну-ка, поторопись и поторопи свою старушку машину.
Движение над океаном, под океаном, над лесом, под лесом, над облаками, под облаками и наконец остановка у дверей дома в саду, где жила Зара.
Дверь открылась, еще дверь. А затем еще три сразу, Огромное окно в мир. И возле окнадевочка.
— Где же Зара? — спросила Эроя девочку.
— Зара — это я. Разве ты не узнаешь меня, Эроя?
— Не шути, позови Зару.
— Я — Зара! Зара! Почему ты не узнаешь меня? Я же тебя узнала сразу.
— Но я же не изменилась. А ты поспешила расстаться с собой. Почему же ты девочка, почти ребенок?
— Цитологи сами не могут этого понять. Они объясняют это тем, что «память» моих клеток оказалась более податливой, более восприимчивой, чем они ожидали. «Это единственный случай», — говорят они. Как ты думаешь, Эроя, это действительно единственный случай?
— А как ты чувствуешь себя?
— Удовлетворительно. Ко мне вернулось мое детство. Понимаешь, Эроя?
— Не понимаю! И не хочу понимать.
— Я тоже не все понимаю. Такое чувство, что я переступила черту, попала в другой мир и не могу вернуться туда, где я была раньше.
— А цитологи? Они этого не могут сделать?
— Не знаю. Кажется, не могут. Они ссылаются на твоего брата, говорят, что Эрон-младший открыл какое-то средство, которое способно повернуть физиологическое и молекулярное время, ускорить жизнь клеток. Эроя, попроси своего брата.
— Тебе уже не хочется быть девочкой?
— Это все произошло случайно, по небрежности цитолога, который дежурил на пункте. Он переусердствовал… Или было что-то не в порядке. Молекулярное время слишком заспешило. Попроси своего брата, я умоляю.
— Попрошу, но странно, ты говоришь словно издалека.
— Это так и есть, Эроя. Я — далеко, да-ле-ко-о от тебя. Да-ле-ко-о!
— Где ты?
— Да-ле-ко-о! В детстве! Между нами что-то есть. Разве ты не чувствуешь его? Оно нам мешает быть вместе.
— Ты рядом со мной, Зара. Ты близко. Вот я протянула руку и дотронулась до тебя. Ты здесь, дорогая, здесь.
— Я здесь. И ты здесь. Но почему я вспоминаю тебя, словно ты находишься где-то далеко-далеко в прошлом? Почему это, Эроя?
— Не знаю. Нужно спросить у цитологов и специалистов пo молекулярному времени. Вероятно, это переломный момент, Ведь ты обновила молекулярную «память». А твое сознание еще не свыклось с новым необыкновенным состоянием. Ты в другом молекулярном времени, чем я. Но все, я уверена, наладится. И ты будешь чувствовать себя нормально.
— Я переступила черту. Наверное, мне не надо было этого делать. Попроси своего брата, чтобы он помог мне вернуться в прежнее молекулярное состояние, в то измерение, в котором я была еще вчера. Сейчас я чувствую свою неслитность с временем. Я в детстве. И это не воспоминания, это факт.
— Не волнуйся, Зара. Мы тебе поможем.
Расставшись с приятельницей, Эроя отправилась к отцу.
Она попросила водителя Кика чуточку замедлить движение вездехода. Ей хотелось побыть одной и подумать. Подумать было о чем. Что же случилось с Зарой? Только ошибка дежурного цитолога, каприз молекулярного времени или нечто большее? Правда, Эрон-младший ищет средство, с помощью которого можно было бы повернуть направление молекулярного времени, но он только ищет, еще не нашел. Бедная Зара! Зачем она поспешила? Никогда не надо спешить.
Движение вездехода под горным хребтом, над горами и лесами, потом над морем и над рекой, и вот дверь, за которой лаборатория отца.
Эроя остановилась перед дверью с тревожным чувством. А что, если отец тоже поспешил и сейчас вместо милого и доброго старика она увидит стремительного юношу, до отказа наполненного жизненной энергией, юношу или даже конфузливого подростка, которому вряд ли будет приятно признаться всем и в том числе самому себе, что он отец довольно пожилой женщины.
Сердце Эрой билось, шумело в ушах. Минуты шли. Она все еще стояла у закрытых дверей, не решаясь сделать шаг, шаг в неизвестное.
Она стояла и вспоминала отца. Она помнила его Сравнительно молодым дильнейцем, еще не достигшим среднего возраста, но подростком она, разумеется, его не знала, видела только на старых изображениях. Ей не хотелось потерять отца, такого, каким она его знала и любила, приобретя, правда, вместо него др угого, неизмеримо более молодого… Ну, а как быть с тем, к кому она привыкла? Только вспоминать? Нет, ей нужно не воспоминание, а отец, такой отец, каким она его привыкла видеть.
Внезапно открывшаяся дверь прервала ее размышления.
Перед ней стоял ее отец Эрон-старший. Ничто в нем не изменилось, ни одна морщинка. На нем был тот же самый костюм, в котором она видела его в прошлый раз. А на лице та же стариковская, добрая улыбка.
— Это ты? — спросила Эроя.
— Я!
— И долго ты собираешься быть таким?
— Долго. Мне дороги мои привычки, слабости, моя старость. И я не спешу с ними расстаться.
— Но все спешат.
— Нет, не все. Многие цитологи на своих пунктах сидят без дела. Но пройдем ко мне в лабораторию. Я тебе покажу необыкновенных муравьев, доставленных мне вчера.
— Узнаю тебя, отец. Веди меня к своим муравьям.
Эрон-старший подвел Эрою к экспериментальному прозрачному муравейнику.
Эрою охватили тишина, покой. Знакомые с детства предметы, прочный, никуда не торопящийся мир отцовской лаборатории, где велись наблюдения над природой.
— И ты совсем не собираешься обновлять «память» клеток, отец? — спросила Эроя.
— Собираюсь, хотя и не спешу, — ответил спокойно Эрон-старший. — Как каждому старику, мне дороги привычки, из которых состоит жизнь. Но придется сломать старый привычный уклад жизни, изменить ее ритм…
— Для чего, отец?
— Для того чтобы отсрочить небытие. Мне хочется увидеть будущее. И встретиться с одним дильнейцем, который далеко. Его зовут Ларвеф. Никто не умеет так ломать свои привычки для победы над временем и самим собой, как этот путешественник. Я понимаю, Эроя. Ты дорожишь привычным. Но ради встречи с Веядом, ради радости бытия ты должна пойти на это. Должна перебороть свою боязнь нового необыкновенного состояния.
— Я только что видела Зару, отец. Она страдает.
— Эти страдания временны. Всякий большой перелом требует отказа от старых ценностей ради новых приобретений. Мы должны расстаться с непрочностью ради прочного долговременного бытия. Эпоха требует от нас этого, дорогая.
— А как быть с неслитностью душевного состояния с физическим?
— Все наладится, Эроя. Ученые уже совершенствуют методы. Наука не стоит на месте.
РАССКАЗЫВАЕТ ВЕЯД
Ларвеф ремонтировал свой летательный аппарат. Мы думали, что он нарочно занимал себя, чтобы убить время и не сидеть без дела. Мы почти уверены были в этом. Какой смысл ремонтировать машину, не способную преодолеть сколько-нибудь значительное расстояние? Но ни я, ни Туаф, ни комочек вещества, отражавший внутренний мир Эрой и тоже обладавший способностью удивляться и размышлять, никто из нас не решился спросить Ларвефа о его истинных намерениях. Держался он так, словно не зависел от законов природы. Правда, он имел на это некоторые права, Ведь у него были иные взаимоотношения с временем, чем у других дильнейцев. Но тут дело шло не только о времени, а прежде всего о пространстве. Уэра была слишком далеко от Дильнеи и других населенных мест, чтобы кто-нибудь отважился лететь на легком летательном аппарате, предназначенном для преодоления близких дистанций.
Ларвеф работал. Прошло то время, когда он рассказывал о своих странствиях, о посещении далекой планеты, называвшейся так странно — «Земля», а также о других ненаселенных планетах, в том числе о той, где он нашел потерянный в детстве складной ножик, а позже потерял всех своих спутников и друзей.
Сейчас ему было не до бесед. Он спешил. Куда? В неизвестность. Он как-то сказал нам, что не намерен сидеть на искусственном островке и ждать. Уж не предпочитал ли он верную гибель длительному ожиданию?
Едва ли. Он был смелым, более того, дерзким искателем, но он любил жизнь не меньше, чем неизвестность. Он хотел побывать еще раз на Земле, побывать через двести лет, а срок истекал. Он дал себе слово побывать и на той планете, которая, нарушив законы здравого смысла, перевернула время и пространство, поиграв с ним и с его товарищами в загадочную игру, а затeм… Он и должен выяснить, что произошло затем. Он все время думал об этом. И эти думы приводили его буквально в бешенство, в ярость. Они не уйдут от него, эти страшные и коварные загадки, он их разгадает! Но на что же надеялся он? Не надеялся ли он, что встретит космолет где-нибудь на близком расстоянии от Уэры? Это было маловероятно. Но мы молчали — я и Туаф.
Мы делали вид, что это нас не касается.
Однажды, вернувшись домой с прогулки, я и Туаф услышали заинтересовавшие нас слова. Ларвеф разговаривал с комочком вещества. Он так был увлечен беседой, что не слышал, как подошли мы. Я запомнил, а потом записал этот разговор.
Э роя. Вы собираетесь покинуть нас?
Ларвеф. Собираюсь.
Э роя. Я привыкла к вам. Мне будет грустно. И к тому же я буду беспокоиться за вашу судьбу. Пространство огромно, а летательный аппарат ненадежен. В нем слишком мал запас энергии.
Ларвеф. Откуда вам это известно?
Э роя. От Веяда.
Ларвеф. Веяд прав. На нем далеко не улетишь.
Э роя. Не лучше ли остаться и ждать?
Ларвеф. Разумнее ждать. Но я согласовал свое решение не только с разумом, с чувствами тоже. Меня зовет даль. Я хочу рискнуть, попытаться выбраться из этой ловушки. Из ста шансов девяносто девять, что меня проглотит пространство. Но раз есть хоть один шанс, я все же рискну. Мне не раз приходилось рисковать, побеждая обстоятельства и собственные недостатки и слабости. Хотите, я возьму вас с собой?
Э роя. Я не могу бросить Веяда. И, кроме того, я боюсь.
Ларвеф (нежно). Не надо бояться. Я буду возле вас. Я не брошу вас в беде.
Э роя. Нет, мне страшно. Я боюсь, Я лучше останусь здесь, на Уэре. Здесь есть опора для ног.
Ларвеф (удивленно). Но у вас нет ни рук, ни ног. Зачем вам опора?
Э роя. Останьтесь, не улетайте.
Л а р в е ф. Тише! Они с минуты на минуту могут прийти. Поговорим в другой раз.
И они говорили. Говорили много, много раз. При нас и без нас, до того как они улетели вместе. Я сам разрешил Ларвефу взять с собой странную спутницу, занимавшую слишком мало места. Слово «разрешил» не совсем точно выражает смысл того, о чем сейчас идет речь. Ведь комочек вещества, отражавший внутренний мир Эрой, был не просто вещью, а чем-то большим.
Чем? Только в эти дни я кое-что узнал о ней…
Ларвеф всегда был нежен с ней. Может, он видел в ней то, чего не видели мы, нечто большее, чем простое отражение внутреннего мира отсутствующей Эрой. Он был нежен и чуток. И когда говорил с ней, он буквально преображался.
Он терпеливо объяснял ей устройство своего летательного аппарата и всех приборов, словно рассчитывал на ее помощь. Развернув карту звездного неба, он посвящал ее в тайны астронавигации. Карта звездного неба, как всякая карта, обманывала чувства, Безмерное она вкладывала в слишком малые и уютные масштабы.
В комочке вещества пробудилось то, чего мы раньше не замечали, — энергия, сила воли, желание спасти нас всех, даже ценой своей жизни.
Да, было решено, что она отправится вместе с Ларвефом. Ведь она не нуждалась ни в питье, ни в пище. И если погибнет Ларвеф, она могла продолжать путь, ища встречи с теми, кто мог нам помочь и сократить годы нашего ожидания.
Не без горького чувства расстались мы с Ларвефом и с ней.
Они исчезли. Пространство проглотило их в один миг.
Я не буду рассказывать 6 долгих и томительных днях ожидания. Я лучше расскажу о другом, о том, как мы дождались наконец того, на что и не надеялись.
Я сидел в укрытии и вычислял. Числа, формулы, игра с неизвестным, превращавшимся в известное, — все это помогало мне убивать время.
Вбежавший Туаф помешал моим занятиям.
— Ларвеф! Эроя! — кричал он как сумасшедший.
— Где?
— Здесь. На Уэре. Бежим их встречать.
Действительность не пыталась возражать, оспаривать слова Туафа, которым я сначала не поверил.
— Вы вернулись, испугавшись пространства? — спросил я Ларвефа, когда мы подошли к летательному аппарату.
— Нет, — спокойно ответил Ларвеф, — мы вернулись за вами. Недалеко от Уэры нас и вас с Туафом ждет космолет.
— Какой космолет?… Здесь не может быть космолета.
— Тот самый космолет, — ответил так же невозмутимо Ларвеф, — который я считал погибшим.
Затем мы услышали возбужденный голос Эрой.
— Здравствуйте, друзья, — сказала она, — собирайтесь в путь.
Это были удивительные слова и удивительные обстоятельства.
Мы стояли с Туафом, стояли на месте как истуканы, и Уэра, казалось, уходила у нас из-под ног.
— Сядьте, — сказал Ларвеф. — Вот так будет лучше.
И мы сели. Мы сели, впервые за многие годы чувствуя, как торопится, спешит на наших часах время, как бьется пульс бытия, как шумит кровь в наших сосудах и как ее шум отдается в ушах.
— А теперь встаньте, друзья, — сказал Ларвеф, — и идемте собирать и укладывать то, что необходимо взять с собой в путь. Путь будет долгим.
— Но не дольше же нашего ожидания, — сказал я.
— Не дольше, — подтвердил он. — Надеюсь, не дольше.
И вдруг рассмеялся. Никто не умел так весело, по-детски смеяться, как он, этот странник Ларвеф.
МИР БЕЗ ДЕТАЛЕЙ
И вот мы среди друзей. Под ногами у нас не пустынная Уэра, а прекрасный и населенный мир с гравитационной установкой, мир, не стоящий на месте, а двигающийся почти со скоростью света туда, где оставленное нами прошлое слилось с будущим.
Вокруг нас улыбающиеся приветливые лица. И руки.
Множество лиц и рук. И есть все необходимое, чтобы преодолевать пространство. И среди этих незнакомых и милых дильнейцев знакомая фигура Ларвефа и голос Эрой, спрятанной в комок чудесного вещества.
Мы среди своих.
Что же произошло?
Об этом расскажет сам командир межзвездного корабля, мужественный Хымокесан. Для нас он повторит тот рассказ, который выслушали уже Ларвеф и Эроя, вступив на корабль.
Хымокесан встречает нас в своей каюте, где повар-фармацевт Нев приготовил ужин, обильную еду и вкусное питье.
— Что же случилось? — начинает свой рассказ Хымокесан.
— А вот что. Послав Лврвефа на разведку к спутникам планеты, я начал снижаться. Мы отлично сели. И приборы не сообщили нам ничего такого, чего стоило опасаться.
Только одно обстоятельство было несколько неожиданным всех стало клонить ко сну. Я не успел оглянуться, как все уже спали, разумеется кроме повара Нева с его электронными чувствами. Я и двое моих помощников боролись со сном изо всех сил. Какая-то невидимая и страшная сила воздействовала на наши чувства, сковывая их, сковывая нашу волю, пытаясь ее сломить. Гипноз?
Хым спал мертвецким сном, и я не смог его растолкать. Спали и другие врачи.
Пока я возился с Хымом, пытаясь его разбудить, уснули оба мои помощника.
Бодрствовало пока только двое — я и дильнееподобный робот Нев.
— Буди всех, не церемонясь! — крикнул я.
— Толкай! Тормоши!
Но даже робот Нев, обрадовавшийся такому приказанию, не смог их растолкать. Все спали. Тревога охватила мое сознание. Я понял, что надо любой ценой оторваться от гравитационного поля коварной планеты. Но антигравитационная аппаратура отказала. Чья-то невидимая сила вывела ее из строя. Чувствуя, что слипаются веки, борясь с самим собой, я еле доплелся до рубки квантовой связи и связался с Ларвефом, чтобы предупредить его.
Сознание выполненного долга дало мне только на одно мгновение почувствовать прочность жизни, на секунду вырвав из объятия неизвестности.
Секунда, чуть замедлив свое милосердное движение, истекла. Потом все заволоклось пеленой небытия, как видите все же временного небытия. Но почему оно оказалось временным, это небытие? Почему? Пока об этом мы можем только гадать.
Проснулись мы в один и тот же час. Час? Нет, этот странный, загадочный час длился два года и четыре месяца.
Об этом нам сообщили приборы, созданные для измерения времени, и точности их мы не могли не доверять. Но как мы могли так долго спать, не получая искусственного питания? Это ведь был не анабиоз? Об этом тоже некого было спросить. Повар Нев, единственный, кто бодрствовал все эти два года, не отлучаясь с корабля, сообщил нам нечто странное, чему мы не в силах были поверить.
— Вас не было здесь, — сказал он своим категоричным безапелляционным голосом. — Вы исчезли через три часа после того, как уснули, а появились здесь только сейчас.
Автомат не мог ошибиться. Мы должны были верить показаниям его электронных чувств. Мы должны были и все же не могли ему поверить.
— Где же мы были?
— Не знаю, — ответил автомат.
Действительно, откуда он мог это знать? Ведь, по его словам, мы исчезли, а он остался нас ждать и честно ждал два с лишним года, ждал и наконец дождался. Он мог ждать хоть сто лет.
— Где же мы находились?
Только один из нас сделал попытку дать ответ на этот вопрос, опираясь на показания своих чувств. Он припомнил то, что видел и слышал, погрузившись в состояние, которое только условно можно было назвать сном.
Это был математик Заб, самый молчаливый из нас. Теперь ему пришлось заговорить. Но лучше бы он молчал.
Потому что, кроме его рассказа, ничто не связывало нас с той парадоксальной действительностью, с которой мы соприкоснулись.
Но математик Заб заговорил. Это его, угрюмого, скрытного молчуна, невидимые жители удивительной планеты выбрали своим посредником и доверенным, Как выяснилось затем из его рассказа, он один из всех нас, подвергшихся рискованному и непозволительному биомолекулярному эксперименту, он один получил информацию от одного из дерзких экспериментаторов. Нет, по его словам, он вел себя с достоинством и отнюдь не напрашивался на доверие к тем, кто ему его оказал, вопреки его воле.
В странном мире очутился Заб, в мире без деталей и очертаний.
Действительность, если это можно было назвать действительностью, плыла, неся его с собой в неизвестность. Он слышал музыку. Но была ли эта музыка внутри или вне его, он не знал. Разноцветные пятна, похожие на облака, плыли над его головой. Это длилось, длилось, и, казалось, не было этому конца.
И вдруг наступила пауза. Плывущий куда-то мир остановился. Математик Заб услышал голос.
— Здравствуй, Заб, — сказал ему голос любезно. — Как ты себя чувствуешь после той небольшой операции, которой ты подвергся?
— А что было со мной? — спросил Заб. Потому что даже он не мог сейчас молчать.
— Ничего такого, что могло заставить тебя беспокоиться. Мы разобрали тебя сначала на молекулы, а потом и на атомы, а затем собрали. Ты не нервничай.
Все молекулы и атомы, из которых ты состоишь, каждая и каждый на своем месте. Не думай, что это случилось сразу. Два с лишним года, употребляя вашу дильнейскую меру времени, длилась эта кропотливая работа, потребовавшая немало усилий от наших аналитиков и синтетиков. Но работы, как мы ожидали, закончились успешно. И скоро ты, Заб, и твои спутники смогут продолжить свой путь в пространстве. Мы служим познанию, впрочем как и вы. Но нас разделяют десятки миллионов лет прогресса нашей цивилизации. Не думай, что с тобой говорит живое существо. С тобой беседует прибор, специально сконструированный, способный мыслить так, как мыслите вы, находящиеся, в сущности, в детстве вашей цивилизации. Когда вы начали приближаться к нашей планете, мы уже знали ваш внутренний мир, ваши желания и постарались их удовлетворить. Может быть, мы и вступили бы в контакт с вами, но вы испугались и поспешили убраться.
Потом вы снова прилетели сюда… Мы не сделали вам никакого зла, хотя смысл этого странного слова нам не до конца понятен. Мы только познакомились с вами, а вы с нами познакомитесь в пути, когда ваш корабль будет лететь вдали от нашей планеты… Кто мы? Вы это узнаете. А кто вы?
Мы уже узнали. Ваши копии остались у нас в музеях. Они ничем не отличаются от вас. И мы могли бы послать их на ваш корабль вместо вас, а вас оставить у себя. Но вас ждут родные и друзья. И они вас дождутся. Им нужны не копии, а только вы сами. Можете спокойно продолжать свой путь.
Хымокесан усмехнулся.
— И мы продолжаем свой путь. Спокойны ли мы? Отвечая за себя, я должен сказать, что я спокоен. Но спокойны не все. Иных тревожит вопрос-они ли пребывают на корабле или их копии? И это мешает им спать. Я же спокоен.
Я слишком хорошо знаю себя, чтобы принять себя за свою копию… И все же я должен сказать, что аналитики и синтетики Планеты сюрпризов несколько переоценили свою работу. Присмотревшись друг к другу, мы заметили, что нечто странное произошло с парапсихологом Хымом и астрофизиком Енаплом.
Внешность их не изменилась. Но внутренний мир! Они словно поменялись ролями и склонностями. Хым стал Енаплом, а Енапл Хымом. По-видимому, вкралась какая-то ошибка, перепутали молекулы и атомы памяти…
Еще полбеды здесь, в пути. Но что мы станем делать, когда вернемся на Дильнею? Как мы объясним родным и близким Хыма и Енапла эту метаморфозу и путаницу? Нам становится не по себе, когда Хым начинает говорить о звездах, а Енапл рассуждать о психике…
РАССКАЗЫВАЕТ ВЕЯД
Туаф признался мне, что он много думает о копиях.
— О каких копиях? — спросил я.
— Не о наших, разумеется. Не о твоей и не о моей. Нам повезло. Мы сели на этот космолет уже после посещения им коварной и загадочной планеты, а с нас никто не снял копии и, надеюсь, никто не снимет. Планета сюрпризов далеко.
— Почему это тебя так волнует?
— Потому что я личность. Надеюсь, тебе это понятно? И не хочу иметь дублера. Им кажется, наверно, что они в плену, и они тоскуют.
— Кто?
— Копии наших спутников. Экспериментаторы поступили жестоко. Они не имели морального права создавать дублеров. Это неэтично.
Меня немножко удивило, что Туаф заговорил о моральном праве, об этике.
Обычно он мало интересовался этическими проблемами. Слишком уж он был занят собой.
— Успокойся, — сказал я, — тебе это не грозит. Ты останешься неповторимым.
— Ты вот гордишься своей наблюдательностью, — перебил меня Туаф, — а не заметил, что они расстроены.
— Кто?
— Все. Все без исключения, кроме этого автоматического болвана Нева. Я убежден, что, просыпаясь, они каждый раз задают себе один и тот же вопрос.
«Мы это или не мы?» спрашивают они себя. «А что, если мы остались там, а здесь наши повторения?» И действительно, как доказать, что это они? Разве можно верить на честное слово дерзким экспериментаторам с загадочной планеты? Я почти убежден, правда не имея возможности подтвердить свою гипотезу, что с нами пребывают дублеры, копии, а оригиналы остались там, в музеях негостеприимной планеты. И зачем они позволили проделать над собой этот сомнительный эксперимент? Я бы никогда не согласился.
— Но тебя бы не спросили, как, впрочем, и их. Их сначала усыпили, а потом сделали это.
— Это! Это! — передразнил меня Туаф.
— Ты даже не можешь придумать название.
И действительно, как это назвать? Как? Этому нет и не может быть названия.
Не удовлетворившись моими ответами, Туаф обратился с таким же вопросом к Ларвефу, по-видимому рассчитывая найти в нем единомышленника. Но тщетно!
Ларвеф сказал ему своим невозмутимым голосом покорителя пространства:
— Займите свою мысль чем-нибудь более разумным. Возможно, что экспериментаторы скрыли правду от математика Заба и с нами летят копии, чьи оригиналы остались ублажать посетителей музеев Планеты сюрпризов.
— Об этом я и говорю, — перебил Ларвефа Туаф.
— Но не очень гордитесь тем, что вы не копия, Туаф. Их копии, Туаф, мне больше нравятся, чем ваш оригинал. Они настоящие, творческие, мужественные борцы с пространством. А вы игрок, давным-давно проигравший самого себя обстоятельствам. Вы мелкая душа, Туаф!
Туаф замолчал. Не знаю, надолго ли. Я всегда прeдпoчитал молчавшего Туафа разговаривавшему. Надеюсь, он теперь понял, что мы пребывали не среди копий и дублеров, а среди настоящих борцов.
Разумные слова Ларвефа успокоили меня, но, как выяснилось затем, они не смогли успокоить Туафа. Какая муха его укусила? В нем пробудились древние инстинкты и глупые пережитки праистории. Он разбушевался.
— Извините меня за приверженность к истине. Вы копии, — говорил он спутникам.
— Разве вам это не известно? Ваши оригиналы бережно хранятся в музеях планеты, с которой вы сбежали. А я настоящий чистокровный дильнеец.
И я не знаю, как отнестись к вам, чтобы не уронить свое достоинство. Между нами не может быть ничего общего.
Туаф обнаглел. Мне, Ларвефу и комочку вещества, называвшему себя Эроей, было стыдно за него.
— Вы дублеры! Дублеры! — повторял он в непонятном неистовстве.
— Какие у вас доказательства, что вы это вы? Вы не вы! А я это я! Туаф. Моей копии нет ни в одном музее.
Пришлось обратиться к психиатру. Пришли оба: Хым и астроном Енапл.
Обнаглевший Туаф расхохотался.
— Вас перепутали. Понимаете вы это или нет? Вы доказательство того, что даже и через миллионы лет будут существовать ошибки и недоразумения. Я не желаю иметь с вами дела!
Енапл с помощью Хыма сделал ему инъекцию, влив в жилы разбушевавшегося Туафа изрядную дозу успокоительного.
Туаф уснул. Если бы он не уснул, Хымокесан принял бы дисциплинарные меры.
Но обошлось и без мер.
Все успокоилось на корабле. Безукоризненно работали многочисленные приборы и машины. Побеждая пространство и время, мы все дальше и дальше уходили от Планеты сюрпризов. И когда мы отошли от нее на то расстояние, которое ее жители сочли подходящим для общения, мы кое-что узнали об удивительной цивилизации от непредвиденного посредника. Он оказался среди нас, до поры до времени не обнаруживая своей причастности к чужим замыслам.
Кого же выбрала доверенным лицом строгая и загадочная цивилизация Планеты сюрпризов? Кому дала столь необычное и ответственное поручение?
Повару-фармацевту Неву, дильнееподобному роботу.
Преображение Нева произошло в тот момент, когда он нес напитки и яства в каюту командира Хымокесана. Хымокесану пришлось отложить свой ужин, и не ему одному.
У всех сразу пропал аппетит. Была отброшена в сторону посуда, и из раскрытых уст автомата как мелодия полилась речь, начинавшаяся далеко за пределами межзвездного корабля в неизвестности, пока недосягаемой для наших дильнейских чувств.
Не сразу поняли мы, что к нам обращается неизвестность, пытаясь переступить для этого через преграду привычного и обжитого.
Преображение Нева произошло почти с катастрофической внезапностью, без всякого предупреждения, вдруг.
По-видимому, далекие экспериментаторы вложили в Нева обширную и сложную программу, которая начала действовать в заранее выбранный и предусмотренный час. Автомата словно подменили. Красноречие, неслыханная эрудиция, чувство собственного достоинства… Нет, дело не только в этом.
Через посредство довольно примитивного робота на этот раз говорила с нами цивилизация загадочной планеты, щедро делясь с нами своими знаниями, своим опытом, своим видением мира.
— Мы знаем, кто вы, — так начал повар Нев, когда мы все собрались в конференц-зале, — а вы почти ничего не знали о нас. Сейчас узнаете.
Наступила напряженная нервная тишина. Все приготовились внимательно слушать. И только Туаф, невыдержанный, влюбленный в свою личность Туаф, счел возможным нелепой и пошлой репликой прервать голос самой неизвестности:
— И тебя тоже подменили, автомат? И ты тоже кого-то дублируешь?
Хымокесан бросил грозный взгляд на бывшего косметика, и тот замолчал.
— Что касается копий, — ответил на реплику Нев, — они делают то же дело, что и я. Рассказывают, повествуют, знакомят. Вы должны извинить нас, что мы скопировали ваше физиологическое устройство, вашу морфу и ваше сознание. Но мы должны были сделать это, чтобы долго не задерживать вас на нашей планете и дать вам возможность продолжать путь. Не беспокойтесь, ваши копии не болеют ностальгией, не тоскуют по родным и близким. Родные и близкие, все, кого они пожелали видеть возле себя, сейчас с ними.
Неизвестность, разговаривающая голосом Нева, сделала, по-видимому, заранее предусмотренную паузу.
В зале пронесся ропот изумления, ужаса и недоумения.
— Не волнуйтесь, всех своих близких и родных, подвергшихся омоложению «памяти» клеток (довольно примитивная операция), вы найдете там, куда вернетесь, закончив свое путешествие. Впрочем, это наше предположение.
Вашим копиям мы подарили копии. Мы создали для них привычную обстановку, довольно удачно смоделировав среду, в которой они жили до путешествия.
— Но знают ли они, что они копии и что вокруг них иллюзорная среда? — крикнули с места Хым и астроном Енапл в один голос.
— Не знают. Мы от них это скрыли. И зачем им это знать?
— Но в этом есть нечто сомнительное. Как согласились с этим ваши философы, это противоречит законам этики!крикнул с места на этот раз сам Хымокесан, суровый командир корабля.
— Я постараюсь вас переубедить. Нормы этики не могут быть неизменными.
Речь идет о времени и пространстве. Пространство и время могло жестоко поступить с вами. Вернувшись на свою планету, вы, как и ваши предшественники, могли не застать в живых, кого вы знали и любили. Вы двигались почти со скоростью света, а жизнь на вашей планете подчинялась куда более медленным темпам и ритмам. Мы поступили вполне разумно и гуманно, дав вашим копиям полную иллюзию привычной среды. Вы считаете, что им нужно было сказать правду. Это бы их убило. А они должны жить, служа познанию. Проблема, которую мы сейчас затронули, сложна, и, может быть, мы вернемся к ней позже… Может, и от вас следовало скрыть, что ваши копии остались на нашей планете? Но вы не копии, вы настоящие дильнейцы, и мы не хотели скрывать от вас истины, зная заранее, что едва ли она будет вам приятна. Ваши копии не только знакомят нас с вами, но и знакомятся с нашими обычаями, постепенно привыкают. Придется и вам привыкнуть ко мне…
Кто я? Боюсь, что я не сумею ответить на этот вопрос так, чтобы удовлетворить вашу любознательность.
Я не копия с отдельной личности жителя планеты, названной вами Планетой сюрпризов. Нас невозможно скопировать ни в отдельности, ни тем более вместе. Само понятие «личности» в том виде, в каком оно существует в сознании вашего общества, нам кажется устаревшим и наивным. Пока еще в вашем обществе жизнь-это почти мгновение. Личность связывает своей памятью историю индивида. Но вся эта история (биография) личности ограничена узкими рамками непрочного бытия. Мы бы задохнулись в таких тесных и узких масштабах. Еще триста тысяч лет назад нашей науке удалось слить индивид с временем, с историей, но не с узкой историей личности, а с грандиозной историей общества. Наш индивид стал великаном, выйдя из узких границ личности в мир космоса, в бесконечность. Раздвинулись масштабы времени и пространства. Мы стали носить в своей памяти не узкий мирок личных переживаний, а огромный мир, не чувствуя его тяжести… Мысль, что же это такое? Первый вопрос, который мы задали вашим копиям, смутил их всех, не исключая копии психолога Хыма, весьма компетентного в такого рода вопросах.
— Мы не отвечаем за свои копии! — крикнули Хым и Енапл в один голос.
— Напрасно. Ваши копии вели себя вполне достойно и не ударили лицом в грязь. Правда, мы были не удовлетворены некоторыми их ответами…
— Вы устроили им экзамен? — спросил Туаф. — И они сдали вам его всего лишь на тройку? А сейчас вы, по-видимому, хотите экзаменовать нас?
— Наоборот. Скорей экзаменаторы — вы. Я послан к вам не спрашивать, а отвечать. Но мне не хотелось бы, чтобы мои ответы выглядели монологом.
Мысль, об этом мы давно догадались, социальна. Ее породил не монолог, а диалог. Поэтому не ждите, что я буду читать вам лекцию. Охотнее я отвечу на ваши вопросы. Спрашивайте, я жду.
— Вас создала природа или вы сами создали себя? спросил биофизик Яам-третий.
— Мы сами создаем себя не потому, что не доверяем природе. Просто мы можем это сделать лучше, чем она.
Когда-то, в очень далекие времена, мы рождались от родителей, которых выбирали не мы, а случай. Во многом случайное наше появление на свет было связано со множеством других случайностей. Законы наследственности выбирали нам заранее все наши способности, склонности, в значительной мере характер, наконец, внешность, вплоть до выражения лица, цвета глаз, формы ушей и рта. Мы, как вы еще и теперь, были обусловлены причинами, не зависящими от нас. От нас в какой-то мере зависел только ход самой жизни, нравственное поведение, цепь поступков, настроений, мыслей. Но ведь и они тоже во многом обусловливались наследственным темпераментом, склонностями.
Сейчас не так. Сейчас индивид появляется на свет, не подчиняясь прихоти случайности, склонностям и вкусам родителей, которые, выбрав друг друга, тем самым в значительной мере выбрали себе и потомство, зависящее от того, что природа и время вложили в них. Сейчас каждый появляющийся на свет-сын не случая, а выбора самых умных и образованных специалистов планеты. Они выбирают ему и красоту тела, и склонности. Если он недоволен, он может перестроить себя…
Посредник сделал паузу.
— Ведь мы решились разобрать вас на молекулы и атомы потому, что мы давно это делаем, давно этому научились. Таким образом, индивид появляется в мир, обусловленный разумом, а не стихийными законами вероятностей.
— Но если вы сами создаете себя, — спросил Енапл, то ваша планета должна быть населена сплошными гениями и талантами. Кто захочет быть посредственностью, если это зависит от него самого, а не от природы?
— Вы ошибаетесь. Далеко не каждый хочет быть гением. Гений-это тяжесть, которую отнюдь не легко нести.
— А любовь существует в вашем обществе? — спросил Хым.
— Существует.
— Но как же может существовать любовь там, откуда изгнана всякая случайность, всякая непредвиденность?
— Случайность не может быть изгнана в абсолютном смысле. Она существует.
Случай изгнан только из той области, которая связана с появлением индивида на свет.
— А смерть существует?
— Разрешите на не очень долгий срок отложить ответ на этот вопрос.
— Почему? — удивился Хымокесан.
— Потому что вы еще не подготовлены к тому, чтобы понять все то, что связано с исчезновением смерти. К этому вопросу мы еще вернемся.
Но-увы! — к этому вопросу он не вернулся. Не успел.
По-видимому, кончилась его программа. И вместо него снова с нами очутился повар и фармацевт Нев, недалекий дильнееподобный робот. Многие, в том числе и я, жалели, что не задали посреднику самого главного вопроса, а интересовались всякими пустяками. Но кто мог предполагать, что программа была рассчитана всего на полгода, срок, казалось бы, не такой уж короткий, если учесть замедление времени от близкой к световой скорости движения нашего межзвездного корабля. Шесть месяцев сжатого времени, почти равняющегося шестидесятилетию на Дильнее или на Планете сюрпризов, протекло как большая перемена в средней школе, когда расшалившиеся ученики не замечают стремительного бега времени.
Сколько вопросов осталось без ответа! И кто знает, может, очень надолго, если не навсегда. Мы даже не узнали самого главного: почему наше зрение и наши оптические приборы не смогли зарегистрировать и заметить разумную жизнь на Планете сюрпризов? Этот вопрос из известного рода деликатности мы откладывали, заранее рассчитывая, что мы получим на него ответ.
Неизвестность, в сущности, почти осталась неизвестностью, хотя в нашем распоряжении был более чем достаточный срок. Да и сам посредник незадолго до того, как исчезнуть, бросил всем нам упрек в том, что мы не умеем спрашивать — и это объясняется просто: недостаточным развитием интеллектуальной культуры на Дильнее, молодостью общества и познания. Он признался также нам, что ему трудно было отвечать на большинство наших вопросов потому, что они были неправильно поставлены с точки зрения той высшей логики, от которой нас отделяют сотни тысяч лет развития культуры мышления Планеты сюрпризов.
Он сказал это нам не для того, чтобы ущемить наше самолюбие, личное и общественное, а для того, чтобы мы поняли самое основное. Знакомству нашему с их цивилизацией мешала не скрытность их посредника, а наш незрелый и наивный способ мышления, наша логика, которая казалась им почти первобытной. Мы мыслили слишком конкретно и предметно. Наша логика незримыми цепями была привязана к макроявлениям и казалась им слишком статичной, негибкой, застылой. Большинство заданных нами вопросов привели его, посредника, в удивление, хотя он и был создан на основе полученной от изучения нас информации и запрограммирован с учетом наших физиологических, психических и логических особенностей, И все же он терялся перед элементарностью и схематизмом наших мысленных навыков и познаний. Научная строгость и щепетильность мешали ему ради общего понимания жертвовать сложностью явлений и искажать истину. Когда он произносил это слово — «истина», менялась даже интонация его голоса. И он, по-видимому, очень страдал оттого, что не в силах был приблизить нас к истине, к более полной истине, ради которой он был послан сюда, на наш межзвездный корабль.
Затем он перестал существовать, закончилась его программа. Перед нами был снова повар Нев, прежний Нев, глуповатый и добродушный искусственный малый.
Многие еще от него чего-то ждали, и даже сам строгий командир Хымокесан продолжал оказывать ему знаки уважения. И только Туаф, единственный из всех предвидевший этот смешной и печальный конец, говорил, похлопывая робота по плечу:
— Ну что, Нев? Ты снова с нами, дружище. И я ценю твой автоматизированный, программированный талант не меньше, чем познания этого куда-то испарившегося посредника. Да и был ли он? Может, его и не было. По правде говоря, я не очень об этом горюю. От его ответов у меня каждый раз болела голова. Приготовь для меня что-нибудь повкуснее и дай напиток, который поможет мне забыться,
ЛАРВЕФ ПОКИДАЕТ МЕЖЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
Находясь на межзвездном корабле, я невольно наблюдал за Ларвефом. Его авторитет был высок, и чувствовалось, что все его здесь уважали.
И даже посредник, еще до того как исчерпал свою программу, беседовал с Ларвефом охотнее и откровеннее, чем с другими.
Туаф, который любил все упрощать, и это обстоятельство объяснил слишком просто и плоско.
— Ларвеф, — сказал он, усмехаясь, — ведь не подвергся дублированию, как все прочие, не исключая самого Хымокесана. Его копии нет в музеях Планеты сюрпризов. Он еще не потерял своей ценности. Почему ему и отдано предпочтение.
— Но ведь у тебя тоже нет дублера, — возразил я, однако же посредник просто отказался отвечать на твои вопросы и даже, вопреки своему обыкновению, пренебрег вежливостью.
— Мои вопросы поставили его в тупик.
— Еще бы. Ты спросил его о том, существуют ли у них дурманящие разум напитки.
— Я спрашивал о том, что меня интересует. Я не выступил представителем своей цивилизации, как все вы, хотя никто не уполномочивал вас.
— Довольно, Туаф. Ты мне надоел еще на Уэре.
Ответа я не слышал. От него меня избавил Ларвеф, только что подошедший ко мне.
Он был чем-то возбужден и, по-видимому, желал с кемнибудь поделиться своим настроением.
— Вы знаете, о чем я сейчас говорил с посредником?
— О чем?
— О планете Земля. Я рассказывал ему о своем пребывании там в восемнадцатом столетии по тамошнему летосчислению; упомянул и о встрече с кенигсбергским мыслителем Иммануилом Кантом. Его очень заинтересовала Земля. И знаешь, он позавидовал мне, что мне удалось там побывать. О Земле они кое-что знают. И меня крайне удивило одно необычайное обстоятельство.
Они знают не только о далеком прошлом Земли, об эволюции ее биосферы, но знают и о будущем. Если доверять его словам. Землю ждет великое будущее.
Об этом будущем он говорил с не меньшим знанием, с не менее точными подробностями, чем о прошлом. Он пытался мне объяснить физическую сущность того удивительного источника, из которого они черпают свою парадоксальную, не согласованную с логикой и с законами здравого смысла информацию. Он рассказывал о созданных ими приборах, управляющих направлением времени. Но мои скромные познания физики и математики не позволили мне проникнуть в ход его мысли, следить за игрой его ума. Но самое удивительное-это то, что он заполнил промежуток.
— Какой промежуток? — спросил я Ларвефа.
— С тех пор, как я посетил Землю, прошло почти двести лет. Он подробно рассказал мне о тех событиях, которые произошли на Земле за эти двести лет. Он назвал мне имена философов, ученых, писателей, которые появились после тех, кого я застал в живых.
— Но где доказательство, что это не вымысел?
— У меня имеется возможность проверить. Мы будем пролетать сравнительно недалеко от Земли. Мой летательный аппарат здесь, в одном из отсеков нашего корабля. Надеюсь, что Хымокесан не будет возражать и даст мне возможность осуществить мое давнее желание. У меня к вам просьба, Веяд.
Напишите историю вашего пребывания на Уэре, а заодно расскажите и о Дильнее.
— Но я же отсутствовал столько лет!
— В памяти информационных машин хранятся все сведения, полученные в пути через квантовую связь. Чего не удастся узнать, дополните воображением.
— Уж не хотите ли вы, чтобы я написал роман о вас и о ваших приключениях?
— Ну, что ж, было бы ложной скромностью, если бы я отказался.
Не знаю, почему я дал согласие. Я никогда не занимался писательским делом, требующим воображения и некоторых профессиональных навыков. Но я был одним из немногих, ничем не занятых на корабле, и бремя времени чувствовал сильнее других. Может быть, потому и взялся не за свое дело.
Помогала мне и Эроя, комочек вещества, наполненный энергией и мыслью. Она рассказывала мне о настоящей Эрое, оставшейся на Дильнее, рассказывала так подробно, словно пребывала одновременно и тут и там.
Повествование мое подвигалось постепенно, пока не достигло кульминационного пункта.
Наш межзвездный корабль летел недалеко от планет солнечной системы. Мы теперь видели Солнце, которое освещало жизнь Земли. Мне пришлось поспешить и чуточку скомкать конец рассказа. Ларвеф готовился к полету на Землю и хотел взять с собой книгу, которую я спешил закончить.
И вот этот момент наступил. Ларвеф простился со всеми так, как только он один умел прощаться, расставаясь не только с нами, но и с тем временем, в котором мы пребывали. Прощаясь с поваром Неком, он дольше, чем следовало, задержал на нем взгляд. Он смотрел на это механическое существо, словно видел за ег о спиной нечто невидимое нами, другую, неизмеримо более необыкновенную действительность, более значительную, чем та, которая нас окружала.
РАССКАЗЫВАЕТ ПАВЛУШИН
Весь день моросил дождь. Я пришел домой, снял промокшую одежду и лег в постель. Сон не шел ко мне. Я все думал и думал о том же. Невидимый певец пел в моем сознании:
На Звезду, на Звезду
Улетел наш скиталец Ларвеф.
А в далекой Дильнее, милой Дильнее…
Сердце сжималось от предчувствия необыкновенного, и незаметно тело мое провалилось в сон. В странном мире я вдруг очутился, в мире без деталей и очертаний. Были слышны звуки незнакомой мелодии. Эти звуки были прозрачны, как стекло, как биение льдинок. Потом мелодия смолкла. И я услышал незнакомый голос, тихий, словно он звучал не вне, а внутри меня:
— Здравствуй, Павлушин, — сказал голос.
— Как ты себя чувствуешь после той небольшой операции, которой ты подвергся?
Мне стало душно. Я проснулся от ужаса. Полежав минуты две или три, прислушиваясь к ночной тишине, я затем вскочил, зажег свет и подбежал к зеркалу. Стены комнаты раздвинулись. Все вещи словно развеществились и исчезли.
В овале зеркала я увидел вместо себя его. На меня смотрел Ларвеф, каким описывала его книга. Он смотрел на меня как из тумана, и за спиной его угадывался незнакомый мир, другая действительность, словно зеркало, купленное мною во Фрунзенском универмаге, стало окном в бесконечность.
— Кто ты? — крикнул я,
Он не ответил. Окно в бесконечность закрылось пеленой моросящего дождя.
Я проснулся весь в поту. На этот раз уже не во сне, а наяву. Окно распахнулось. И ветер с дождем влетел в комнату.
Я встал, быстро оделся и вышел, повинуясь безотчетному смутному желанию.
Ночные улицы были пустынны. Я свернул с улицы Софьи Перовской в переулок, прошел мост и вышел на улицу Ракова. Вдали, окутанный сеткой дождя, стоял памятник Пушкину. Я шел туда. Зачем? Неужели для того, чтобы увидеть продолжение своего сна?
Когда я подошел к памятнику, я увидел его. Он сидел на скамейке как раз на том месте, где сидел я, когда нашел лежавшую на песке книгу. Завидя меня, он встал. Ощущение необъятного охватило меня, словно за его спиной была бесконечность.
— Это вы? — спросил я с трудом.
— Да, это я, — ответил он тихо, — Ларвеф.
ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕЛЬМОТ
Обо всем этом трудно составить себе понятие людям, скованным законами времени, места и расстояний.
Оноре Бальзак «Прощенный Мельмот»1
Меня разбудил телефонный звонок.
— Слушаю! — сердито крикнул я в трубку.
Ласковый женский голос произнес:
— Ты узнаешь меня?
— Нет, не узнаю.
— А я тебя узнала сразу, хотя не слышала твой голос с позапрошлого года.
— Вы не могли слышать мой голос в позапрошлом году.
— Почему, милый?
Я промолчал.
— Почему, милый?
Я промолчал.
— Почему, милый? — повторила она.
— Потому что тогда меня не существовало.
— Ты шутишь? Что же тебе от роду меньше двух лет? Объясни. И объясни заодно, почему ты называешь меня на «вы»?
— Для объяснений еще не наступило время.
Слова мои звучали сухо, неубедительно, бессердечно, но что я мог сделать? Самое лучшее повесить трубку, и я повесил.
Девушка явно принимала меня за кого-то другого. Не могла она слышать мой голос в позапрошлом году. Я появился в этом мире всего восемь месяцев тому назад. Кто я? Никто не знает. Все думают, что я Николаи Ларионов, человек со странным выражением лица. Никому не пришло в голову, что я вовсе не человек и поп, именем Николая Ларионова ходит существо, не имеющее ни одного родственника на Земле ни среди живых, ни среди мертвых.
Семья! Когда я слышу это слово, меня словно пронизывает электрический ток. У каждого живущего здесь есть либо предки, либо родные среди современников, каждый что-то унаследовал и что-то продолжает. Среди миллиардов людей, населяющих Землю, я один свободен от какой-либо земной традиции.
Рано утром, просыпаясь в номере гостиницы, я лежу и думаю. О чем? Все о том же. Я вспоминаю. Иногда мне хочется все забыть и проснуться с таким чувством, словно я только что родился. Уж не завидую ли я Фуату-Муату, искусственному существу, произведенному в лаборатории великого физиолога и кибернетика Эрона-младшего?
Фуату-Муату поселили среди живущих. Он жил, не имея прошлого. Ему не о чем было вспоминать. У него было имя, но не было ни юности, ни детства. Его изучали. Он и создан-то был для разного рода исследований и наблюдений. Жил как под стеклом.
Нет, я не Фуату-Муату! Мне есть что вспомнить. В моей памяти хранятся факты более чем двухсотлетней давности. Например, встреча с Иммануилом Кантом в Кенигсберге, а также пребывание в Санкт-Петербурге XVIII века. Никто не знает, что я так стар.
Фуату-Муату был лишен возраста. С ним разговаривали вещи. Дверь говорила ему:
— Я — дверь. Как ваше самочувствие?
Стул обращался к нему с просьбой:
— Закройте, пожалуйста, окно. Дует.
Окно говорило ему:
— Взгляни, какая прозрачная синева. И даль. Что может быть заманчивее дали?
Для Фуату-Муату Эрон-младший создал экспериментальную обстановку сна и сказки. Специально длл этого ему пришлось погрузиться в доисторию, изучать первобытное мышление и фольклор.
Судьба, выражаясь сумрачным языком древних, тоже поставила меня в особые обстоятельства. Я жил среди людей, не принадлежа к человеческому роду. В XVIII веке это было куда проще, я мог выдать себя за графа Калиостро, мнимого мага и сомнительного волшебника, наконец, за самого дьявола. Сейчас я должен был скрываться и молчать. Я откладывал свое признание, день и час, когда я приду в редакцию одной из самых больших газет или в студию телевидения и скажу:
— Я не тот… Существу из другого мира вряд ли подходит земное имя Николай… Ларвеф! Так меня звали там, за пределами вашей Солнечной системы.
Я откладывал этот день, понимая, что последует за моим признанием. Я не люблю сенсаций. Поэтому я живу под именем Николая Ларионова. В XVIII веке, когда я впервые посетил Землю, мне приходилось прятать признак, резко отличавший меня от людей: мой рот. Но удачная пластическая операция изъяла это отличие. Л к странному выражению лица можно привыкнуть.
Никто из студентов-однокурсников, учившихся вместе со мной в Ленинградском университете, не подозревал, что я ношу в своем сознании столько пространства и времени, сколько не в состоянии вместить внутренний мир человека. Никто не догадывался, что моими глазами смотрит на них другой мир, чужая планета, смотрит и не перестает удивляться.
Фуату-Муату тоже удивлялся, существо без прошлого и без настоящего, модель ума и чувств, напряженно работавших и все же не способных создать контакт между собой и окружающими.
— Я не Фуату-Муату! — часто шептал я себе.
Почему? Потому что чувство ощущения странного, незнакомого, отделяло меня от людей, среди которых я жил.
— Я не Фуату-Муату! — говорил я себе. Почему? Потому что я вовсе не был в этом уверен. Иногда мне казалось, что я искусственное создание, модель живого существа, в котором исследователи пытались осуществить неосуществимое и при помощи одной личности связать два мира — Землю и Дильнею.
Скучал ли я по своей планете? Да, не скрываю, скучал. И когда я хотел поговорить на родном языке, я раскрывал футляр и доставал комочек вещества, который вмещал в себе внутренний мир отсутствующей Эрой.
— Эроя, — спрашивал я, — ты слышишь меня?
— Слышу, — отвечало вещество, мгновенно превращаясь в существо — в мысль, в звук, в жизнь.
— Ты спала или бодрствовала?
— Зачем ты спрашиваешь меня об этом? Ты знаешь, что я жду, все время жду. Жду, когда сплю, и жду, когда бодрствую.
— Чего же ты ждешь?
— Я жду, когда ты со мной заговоришь. Но мы с тобой теперь так редко говорим. Расскажи мне об этой планете!
— Как-нибудь в другой раз.
— Почему ты откладываешь?
— Не знаю, дорогая. Я боюсь обмануть и тебя и себя самого. Я еще так мало знаю об этой планете. И кроме того я люблю с тобой говорить не о том, что здесь… Ты помогаешь мне вспоминать.
— Я это знаю. Но твои слова причиняют мне боль. Разве я — только в прошлом? Разве меня сейчас нет?
Я промолчал. Что я мог сказать ей? Ведь она была здесь и одновременно отсутствовала. Ее бытие, записанное в кристаллик, не знало, что такое «здесь» и «сейчас». Но не стоило ей об этом напоминать. Для чего? Ведь она такая обидчивая.
Когда кончался наш разговор, я снова прятал ее в футляр, а футляр убирал подальше, чтобы он не попал на глаза дежурной уборщице, когда она придет прибирать номер.
2
Фуату-Муату жил среди говорящих вещей. Дверь признавалась ему:
— Извини. Я была так неосторожна, что чуть не прищемила тебе палец.
Стол спорил с ним по вечерам:
— Чепуха! Я-то лучше знаю. Я ближе к природе. Меня создали из досок, распилив живое дерево, а тебя из синтетических веществ.
Соорудив Фуату-Муату, ученые позаботились и о том, чтобы создать для него подходящую среду. Его действительность уподобили сну, но рано или поздно его должны были разбудить.
Мне тоже иногда казалось, что я вижу сон. Окно говорило мне:
— Я — окно! Взгляни, какая прозрачная синева. И даль! А что может быть заманчивее дали.
Даль! С этим понятием я был знаком как никто. Даль, пространство… На эту тему мы беседовали с Кантом в его кабинете, и секретарь философа господин Яхман ждал, когда кончится наш затянувшийся разговор. Канта больше всего на свете удивляло два явления: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. А меня — даль, безграничность пространства. И о пространстве я знал гораздо больше, чем господин Яхман и чем Кант. И о времени тоже. Но о личном знакомстве с Кантом пока следовало молчать.
Однажды я проговорился. Это было на семинаре по истории философии. Я привел слова Канта, сказанные им тогда, у него в кабинете, и так тихо, чтобы не слышал господин Яхман. Профессор Матвеев, большой знаток немецкой классической философии, перебил меня:
— Кант не говорил этого!
— Вы говорите так уверенно, — ответил я, — словно присутствовали при нашем разговоре.
На лице профессора появилось выражение крайнего недоумения:
— Позвольте, как он мог с вами говорить? В своем ли вы уме?
Я замолчал, хотя я мог легко доказать, что я встречался с Кантом. Время еще не пришло. В этом все дело.
— Извините, — пробормотал я, — я оговорился.
— Бывает, — снисходительно кивнул профессор.
Даль и синева! Это только за окном гостиницы даль выглядит такой ручной и мирной. Верхушки деревьев. Облака. Ну, а там, где нет ни деревьев, ни облаков, там, в бесконечных вакуумах вселенной, там — совсем другая даль. И она тоже живет в моем сознании.
Я сижу за письменным столом и читаю рассказы Чехова. Чехов привлекает меня, привлекает и отталкивает. В изображенных им людях и событиях есть нечто такое, что я не в состоянии понять. Эта жизнь похожа на лабиринт, в котором блуждают люди, ища не выхода, а чего-то еще более запутанного, чем лабиринт. Неужели действительно такой была жизнь в конце XIX столетия?
Кто-то стучится в дверь.
— Войдите, — говорю я.
Входит толпа однокурсников.
— Колька! — кричат они хором. — Ну, собирайся, пошли!
— Куда?
— Забыл? Вот чудак! Сегодня «Спартак» играет с Гвинеей. Ну, побыстрей. Не то опоздаем.
3
С тех пор как на Земле исчезли границы, исчезли и личные документы, свидетельствующие о времени и месте рождения.
Все человечество — одна большая семья. И никто не носит с собой бумажек с печатями.
Я ношу в кармане небольшого размера предмет, который лучше всякого документа мог бы удостоверить, что я родился не на Земле. Это разумная логическая машина, лингвистический аппарат, способный приобщить меня сразу к любому земному наречию, к любому способу мыслить и говорить. Но я никому не показываю этот предмет, хотя меня иногда и подмывает сказать усердной старушке, нашей преподавательнице английского языка:
— Вот у меня есть словарь, так это словарь! Сам переводит с любого языка.
Но я молчу, молчу и улыбаюсь. Смешно, особенно когда преподавательница хвалит меня за мои успехи — Ларионов, — говорит она, — написал сочинение без единой ошибки.
Я усмехаюсь. И притрагиваюсь рукой к лингвистическому аппарату, лежащему в боковом кармане моего пиджака. Человеческая техника создаст нечто подобное не раньше чем через пятьсот лет, если я, разумеется, не поделюсь своим секретом. Что скажет наша «англичанка» в тот день, когда ее профессию признают ненужной?
Я присвоил себе чужое имя, назвав себя Николаем Ларионовым. Но сделал я это не сейчас, а двести с лишним лет тому назад в Кенигсберге, когда явился к Иммануилу Канту. Со мной тогда случился казус, я забыл свое имя, разумеется, не настоящее, а то, которым себя назвал. Но Кант не обратил никакого внимания на мое замешательство. Он был увлечен темой нашей беседы, речь ведь шла о пространстве и времени и о звездном небе над нами, за посланца которого я себя выдал.
Иногда по ночам мне не спится, я смотрю на звездное небо. Моя родина, милая Дильнея, затерялась где-то среди этих бесчисленных звезд, и я ее ищу, хотя и знаю, что ее не найти. Она далеко, так далеко, что даже трудно себе представить.
Не удивительно ли, что у Земли есть двойник, планета, очень похожая на нее, словно между двух сестер-близнецов легло холодное отчужденное пространство и разделило их… И когда мне становится грустно, я достаю комочек вещества и он разговаривает со мной. Тогда мне кажется, что в этом комочке чувствительного вещества вместилась вся Дильнея, огромный мир, моя далекая родина.
4
Телефон звонит.
— Слушаю.
Опять ласковый женский голос:
— Ты узнаешь меня?
— Нет, не узнаю.
— Что с тобой, Николай? Почему ты не узнаешь меня? Я — Вера! Вера Васильева!
Я мучительно напрягаю память, пытаюсь вспомнить всех, с кем я познакомился за восемь месяцев моего пребывания на Земле. Вера Васильева? Нет, не припоминаю.
— Я — Вера! Вера! — внушает мне ласковый женский голос. — Ты не мог меня забыть, нам нужно повидаться. Что же ты молчишь?
— Не знаю, — неуверенно отвечаю я. — Я помню всех своих знакомых…
— Нам надо повидаться, — настаивает женский голос. — Надо! Я тут близко. Спускайся. Я буду ждать тебя в вестибюле возле газетного киоска.
— Хорошо, я приду.
Я снимаю пижаму и надеваю костюм. Руки мои спешат. Для чего я дал это обещание? Но надо же когда-нибудь объясниться. Очевидно, у меня есть однофамилец и голос его похож на мой.
Через три минуты я уже внизу, в вестибюле. Возле газетного киоска стоит девушка. Она смотрит на меня, на лице ее улыбка.
— Теперь ты меня узнаешь? — спрашивает она.
— Нет. Не узнаю.
— Не могла же я за полтора года так измениться. Ты, наверно, шутишь, Николай?
— Нет, не шучу.
Теперь начинаю удивляться я.
— Меня зовут Николай Ларионов.
— Я знаю. Но если ты Николай Ларионов, ты не мог забыть Веру. Ты здоров, дорогой?
Глаза незнакомой девушки смотрят на меня озабоченно. В них страх и надежда.
— Как же это могло случиться? Прошло всего полтора года, как мы виделись с тобой. Я улетала в Антарктику, и ты меня провожал. Всего полтора года, а ты, Коля, смотришь на меня так, словно видишь впервые.
— Впервые? Это так и есть. Полтора года назад меня не было здесь.
— А где же ты был?
Я чувствую, что мне не уйти от ответа, не увильнуть. От этой девушки я не могу скрывать истину, — Полтора года назад я был далеко.
— Где? — тихо спросила девушка.
— В окрестностях Сатурна, — ответил я так же тихо.
Девушка побледнела. Не знаю — почему она так побледнела. Вся краска сошла с ее лица. И… она пошла Шла, не оглядываясь и не спеша, словно в темноте Она, наверно, подумала, что я сошел с ума. Я не хотел и не мог вдаваться в подробности. Для этого еще не пришло время. Но как мне хотелось крикнуть ей вслед: «Вернись! Не уходи! Я ведь не сказал самого главного».
Нет, о самом главном не могло быть и речи.
Придя к себе в номер, я долго ходил из угла в угол. Значит существует мой двойник? Девушка ведь не сомневалась в том, что она меня знала. Глупое положение. Чертовски глупое, идиотское. И посоветоваться не с кем, кроме Эрой.
Я вынул из футляра комочек вещества и спросил:
— Ну как твои дела, Эроя?
— Твой вопрос, — ответила она, — имеет чисто риторический характер. Я живу не для дела, не для действия.
— Извини, — сказал я, — мне хочется посоветоваться с тобой.
— О чем?
— Нелепая история. Я только что разговаривал с земной девушкой. И она утверждает, что она знала меня.
— Она шутит?
— Нет, она говорит всерьез.
— Приведи ее сюда. И я ей все объясню. Я расскажу ей о Дильнее, где ты родился… Мне, надеюсь, она поверит.
— Тебе? Да. Тебе она несомненно поверит.
5
На стене афиша. Она извещает, что сегодня состоится публичная лекция: «Разумное существо других планет».
Я как раз иду на эту лекцию. Зачем? Уж не для того ли, чтобы уличить лектора в невежестве? Нет. Мне просто хочется сличить фантазию с действительностью, выдумку с фактом. И кроме того еще раз испытать заманчивое и сильное чувство искушения, с которым придется бороться, напрягая всю волю. А вдруг я не выдержу испытания, встану и скажу:
— Вы ошибаетесь, дорогой профессор. Разумное существо других планет вовсе не обязательно должно выглядеть морфологическим монстром.
— А какие у вас доказательства, молодой человек? — спросит лектор, насмешливо улыбаясь.
— Какие доказательства? Ну хотя бы я сам. Надеюсь, вы не откажете мне в разумности? А я родился не на Земле.
Нет, несмотря на более чем солидный возраст и завидный опыт, во мне много юношеского тщеславия. Не оно ли и ведет меня на эту лекцию?
Актовый зал набит до отказа. Мне с большим трудом удается найти свободное место. Слева сидит старик лет восьмидесяти, справа — студентка. Старик гладит пушистую белоснежную бороду и снисходительно поглядывает на меня. А я думаю: «Э, дедушка, ты моложе меня на несколько сот лет и не гордись своей патриаршей бородой».
В глазах студентки нетерпеливое желание проникнуть в неведомое.
— Вас, видно, очень интересуют далекие миры? — спрашиваю я студентку.
— А вас?
— Нет. Меня больше интересует наша интеллигентная старушка Земля.
— Для чего же вы пришли на эту лекцию?
— Для того, чтобы еще больше любить нашу обаятельную старушку. А вы?
— Чтобы узнать что-нибудь о разумных существах других планет.
— Понятно Сейчас нам о них расскажут. — Мне едва удается спрятать улыбку.
Лектор уже на трибуне. У него умное, но не доброе лицо, скорей лицо актера, чем ученого. А на лице то особое, свойственное только актерам, выражение значительности и уверенности в себе, которое я не раз наблюдал и на Земле и у себя на Дильнее. Говорил он со щегольством, играя дикцией, свободой и силой в управлении голосом. А в голосе, в том, как он произносил слова, был оттенок лени и скрытой усталости, словно космос и проблема жизни на других планетах (с ней он был давно на «ты») чуточку приелись ему, как приелась актеру чужая жизнь, которую он изображал в сотый или тысячный раз на одной и той же сцене.
Он говорил о биополимерах и о том, что вселенная любит повторять и повторяться хотя бы потому, что в ее распоряжении так много времени и пространства. Это замечание свидетельствовало о том, что он, лектор, не хотел подогревать себя и своих слушателей наивным энтузиазмом, а хотел дать понять, что, заинтересовавшись сутью проблемы, придется иметь дело с монотонностью бесконечности… Слово «бесконечность» он произнес так изящно и легко, словно модуляциями голоса, самой интонацией хотел изменить, сделать более ручным и приемлемым его несколько страшноватый смысл. Это произвело сильное впечатление не только на восьмидесятилетнего старца и на студентку, но, не скрываю, даже на меня, имевшего о бесконечности куда более конкретное представление, чем сам лектор.
«Ничего не скажешь — талант, — подумал я. — Но все-таки о разумных существах других планет ты, дорогой, знаешь немногим больше этого доверчивого старца».
И сразу же был наказан за эту не слишком почтительную мысль, наказан, как мальчишка. Лектор как бы невзначай произнес странное, бесконечно знакомое и невозможное здесь на Земле слово. Он тихо, почти переходя в шепот, обозначил его голосом:
— Дильнея…
Мне вдруг стало душно, словно все это произошло не наяву, а во сне. Не мог он произнести это слово. На Земле ни единая душа не знает о существовании Дильнеи, кроме меня и кусочка бесформенного вещества, спрятанного в футляр. Очевидно, мне пригрезилось. Я наклоняюсь к студентке и спрашиваю ее:
— Он говорил о Дильнее?
Она морщится:
— Вы мне мешаете слушать.
— Извините… Говорил он или не говорил?
— О чем?
— О планете Дильнее?
— Не говорил.
Тогда я поворачиваюсь к старцу. Он плохо слышит. Я чуть ли не кричу в его заросшее сизым пухом ухо:
— Говорил ли он о Дильнее?
— Говорил, — отвечает старец, почему-то усмехаясь.
«Ну, нет! — подумал я. — Студентка права, он этого не говорил».
Лектор, играя голосом, снова заводит речь о полимерах, о нуклеиновых кислотах и той химической «памяти», которая лежит в основе организации всех живых существ.
У него не только голос, но и руки артиста. Держа мел в тонких длинных пальцах, он пишет на доске формулу, чтобы с помощью условных и бесстрастных математических знаков, более точных и независимых от нашего «я», чем слова, приобщить слушателей к вещественной сущности жизни…
Я думаю, почти шепчу про себя:
«Э, твои знания о деятельности живой клетки, твои сведения о молекулярной «памяти" устарели, голубчик почти на пятьсот лет».
И снова он наказывает меня за мою дерзость. Уж не телепат ли он, умеющий читать мысли на расстоянии? Он снова произносит слово, невозможное в его устах. Он говорит:
— Дильнея.
Я снова спрашиваю девушку:
— Говорил он о Дильнее?
Она изумленно смотрит на меня. Потом отвечает сердито:
— Лучше послушаем то, что говорит лектор.
Послушаем.
Я слушаю внимательно. Опять зады, столетние зады биофизики и биохимии. Я говорю себе: Ларвеф, какая: муха тебя сегодня укусила? Не виновата же Земля, что жизнь на ней моложе, чем на Дильнее? Сиди, терпи и слушай, коли пришел.
Я гляжу на трибуну, и мне становится не по себе Лектор, сделав паузу, смотрит на меня. Смотрит и усмехается. В его усмешечке есть нечто загадочное, и слова, которые он затем произносит интимно, негромко, но отчетливо, обращаясь словно не к залу, а только ко мне одному, подтверждают мое подозрение.
— Согласны ли вы с тем, — спрашивает он вдруг, — что жители Дильнеи мыслят совсем иным способом, чем мы, земные люди?
Слово «вы» он выделил интонацией, отчего оно приобрело неуловимо странный смысл, как бы утверждая, вопреки фактам, что в зале нас только двое, он и я. Он и я. И он обращается к моему «я», к подлинному «я», а не к тому, что выдает себя за Николая Ларионова.
Николай Ларионов молчит. Молчит и мое подлинное «я», не выдает себя. Старец изумленно смотрит на меня. Смотрит и студентка, словно догадываясь, что лекция превратилась в диалог между лектором и молодым человеком странного вида, на чьем лице слишком быстро и часто меняется выражение.
Я молчу, молчу и тревожно думаю — откуда он может знать о Дильнее и обо мне, он всего только лектор, может, он телепат и сейчас читает мои самые сокровенные мысли, как раскрытую книгу?
Нет, это был просто ораторский прием. Сейчас он уже смотрит не на меня, а на сидящего рядом со мной старца. И говорил ли он о Дильнее? Сомнительно. Всему виной моя болезненная мнительность.
И все же, когда кончилась лекция, я подошел к окруженному толпой лектору и тихо спросил его:
— Мне казалось, что вы рассказывали о Дильнее?
И он ответил, нисколько не удивившись моему вопросу:
— Вам не показалось, я действительно рассказывал об этой далекой планете.
6
У лектора, разумеется, было имя и фамилия. Густав Павлович Тунявский, — так звали его.
Астробиолог и беллетрист. Две специальности, если не считать третьей: пропаганда научных и технических идеи. Краткое изложение его жизни и деятельности я нашел в двух энциклопедиях: космической и литературной. Теперь я знал, когда и где он родился, в каком оду окончил космический факультет Ленинградского университета, когда опубликовал свою первую статью, но я не узнал самого главного — откуда ему было известно о существовании Дильнеи.
Все эти дни я непрестанно думал о нем, об этом загадочном человеке. Да и человек ли он? Люди не могли знать о том, что превышает их опыт и возможности современной им науки. Но если он не человек, то кто же? Такой же дильнеец, как я? Нет, это исключено Только мне одному удалось преодолеть пространство и время и попасть на Землю. Это во-первых, а во-вторых, у него слишком земная внешность. Чего стоит это его манера играть голосом и щеголять интонацией. Дильнеец никогда бы не стал прибегать к столь дешевым театральным приемам. И рот у него человеческий, земной. Следов пластической операции я не заметил. Но откуда он мог знать то, чего не знали другие?
Ответ на этот вопрос я должен получить немедленно и от него самого. И все же я откладываю со дня на день свой визит к нему. Прежде чем идти к нему, нужно было познакомиться с его трудами. Кибернетический библиограф в университетской библиотеке дал мне все необходимые справки. Получив заказанные книги, я принялся за чтение. Я буквально заставил себя прочесть его научные работы. Кроме немногих фактических сведений о Марсе и его биосфере он угощал читателя сомнительными гипотезами и наивными домыслами о разумных существах вселенной. Его научно-фантастические рассказы были куда занимательнее. Но, к сожалению, он слишком много написал, чтобы я мог все им написанное прочесть. А узнать сюжеты, реферированные фабульным автоматом Публичной библиотеки, я не догадался, о чем потом пожалел.
Откладывать встречу не хотелось. Я позвонил ему, назвав, разумеется, не свое подлинное дильнейское имя, а земное, заимствованное у людей.
— Ларионов? — переспросил он. — Николай? Ну что ж, Николай, по-видимому, придется отложить все дела, если вы уж так настаиваете. По правде говоря, я очень занят.
— Иммануил Кант тоже был очень занятый человек, но однако… — я спохватился и не закончил фразу вырвавшуюся у меня.
— Кант? — переспросил он. — Иммануил? Меня N очень интересуют кантианские идеи. Да я и не философ Надеюсь, не из-за Канта вы так настаиваете на встрече?
— Нет, Иммануила…
Я нарочно повторил:
— Иммануила…
Я подражал фамильярной манере того, с кем сейчас говорил.
— Иммануила я вспомнил совсем по другому поводу. Он тоже был занят, но отложил все дела, чтобы принять меня.
Я услышал смех.
— Вы остроумный человек.
— Остроумный? Не мне судить. Но я не человек.
— А кто же вы?
— Ответ отложим до встречи.
— А кто же вы?
Я промолчал.
— Ну, хорошо, — сказал он. — Я жду вас завтра в четыре часа дня.
7
Я до сих пор не могу себе простить, что попал к Тунявскому, предварительно не прочитав все его научно-фантастические рассказы. Тогда бы я не попал в глупое положение. Но он слишком много написал, я же спешил встретиться с ним, спешил выяснить то, что не давало мне покоя. Мне было не до книг. Правда, я мог воспользоваться услугами автомата, реферировавшего сюжеты. Но я перестал ему доверять после того как прочитал «Давида Копперфильда» и «Записки Пиквикского клуба», сличив их с этой краткой и лишенной юмора фабулой, с которой меня предварительно познакомил автомат.
Я не зря вспоминаю здесь произведения Диккенса. Придя к Тунявскому, я словно попал в тихий и идиллический XIX век. По странной прихоти или какой другой причине писатель-фантаст (он же астробиолог) поселил себя в старинном доме, похожем на музей быта и нравов. Я поднялся по лестнице в третий этаж и позвонил. Дверь открылась не только в квартиру, но в диккенсовское столетие. Как раз в ту минуту, когда я вошел, начали бить старинные стенные часы. Они били мелодично, медленно, словно не отмечая время, а возвращая его вам.
— А, Николай, — сказал Тунявский таким тоном, словно знал меня с детства. — Присаживайтесь. Курите? Могу угостить отличной гаваной.
В его кабинете стояла старинная мебель. Я сел в кресло, смутившее меня своей непривычной располагающей к лени мягкостью. На стене висел пейзаж, тоже старинный и идиллический, как бы заманивающий в прошлое. Я подумал про себя: «Э, да ты совсем не тот, за кого я тебя принимал. Пишешь о будущем, а живешь в прошлом».
Тунявский угадал мои мысли. Усмехнувшись, он сказал:
— В такой тихой провинциальной обстановке легче мечтать о будущем, чем в кабине космолета или на подземных трассах, где все несется и спешит. Смелой мечте нужен контраст.
— Возможно, — ответил я.
Наступила пауза. Я воспользовался ею и спросил:
— Что вы знаете о Дильнее?
Он рассмеялся.
— И много и мало. А почему вас так интересует вымышленная планета?
— С таким же правом я мог бы сказать и про Землю, что она вымысел. Но за истину бы это принял только тот, кто никогда ее не видал.
— Что вы хотите сказать, Николай? Я не совсем понимаю вас. Ведь о Земле мы с вами знаем не из научно-фантастического рассказа, а о Дильнее вы узнали, прочтя мою повесть «Уэра».
— «Уэра»? У вас есть такая повесть? Я не читал.
На лице Тунявского появились признаки недовольства:
— Не читали? Так для чего, черт бы вас побрал, вы спрашиваете меня о вымышленной Дильнее? Все, что я хотел и мог о ней сказать, я сказал в своей повести.
— Непременно прочту. Но меня удивляет, что вы так настойчиво называете ее вымышленной!
— Я ее выдумал.
— Вы слишком много на себя берете. Если вдуматься, это даже обидно. Представьте, что я пришел бы к вам и сказал, что я выдумал Землю, наверно, вы обиделись бы на меня.
— На Земле я родился. Здесь я живу.
— А я родился на Дильнее. Устраивает это вас?
Он рассмеялся, на этот раз искренне, без позы.
— Меня это устраивает. Да еще как? Это льстит моему авторскому тщеславию. Но кроме меня есть здравый смысл, логика. А логику это едва ли может устроить.
— Не беспокойтесь. Логика останется не в обиде. Это факт. А как здравый смысл может возражать против очевидного факта?
— Очевидного? — Он пожал плечами. — Никогда я не слышал столь лестного замечания. Я так убедительно описал Дильнею, что вы сочли ее за такую же реальность, как Земля.
— Я не читал вашу повесть. К сожалению, не читал. И пока не могу судить о точности ваших описаний. Но я слишком хорошо помню Дильнею. Я родился на ней.
Он смотрел на меня, не скрывая тех чувств, которые возникли в нем в эту минуту. Недоумение, недоверие, мелькнувшая догадка, что его дурачат. Все это я прочел на его лице.
— Вот как, — сказал он вставая. — Вы родились на придуманной мною планете? Забавно! Но разрешите притронуться к вам и убедиться, что вы не фантом, а факт.
Он протянул свои длинные изящные пальцы и ущипнул меня, довольно больно ущипнул.
— Да, вы реальность. Но что привело вас сюда?
— Этот же самый вопрос мне задал Иммануил Кант. Правда, в более деликатной форме. Но если к Канту я шел обсуждать гносеологические проблемы, то к вам меня привела совсем иная причина. Я пришел спросить у вас, откуда вы получили сведения о Дильнее?
— Я уже ответил вам. Дильнею я придумал. Она существует лишь в моей голове и в сознании читателей, запомнивших мою повесть «Уэра».
— Непременно прочту вашу повесть.
— Прочтите. Она довольно занимательна.
— Прочту. А в ней есть какие-нибудь факты?
— Нет, только вымысел.
— И вы настаиваете на этом? Для чего? Чтобы замести следы? Неужели я поверю вам, что Дильнея вымысел, когда я сам оттуда.
— Но вы же назвали свое имя. Вы Николай Ларионов.
— Там меня звали по-другому. Я Ларвеф!
В насмешливых глазах Тунявского мелькнул страх и исчез. Он сменился сочувствием.
— Ну хорошо, хорошо! — сказал он. — Я верю! Верю’ Вам нужно отдохнуть, сменить обстановку. Давно вы им больницы? У вас было нервное потрясение?
— Вы ошибаетесь. Я здоров. Ну что ж. Вы не верите словам, но я надеюсь, что у вас нет основания не верить фактам.
Я вынул из кармана футляр, достал комочек вещества и положил его на стол.
— Эроя, — сказал я тихо, — ты слышишь меня?
— Слышу, — ответила она, — что ты хочешь, милый?
— Я хочу, чтобы ты поговорила с этим человеком, рассказала ему — кто мы и откуда. Он уверяет меня, что он придумал нас с тобой…
8
Потом не раз у себя в номере мы с Эроей вспоминали этот эпизод. Нет, фантаст оказался не на высоте. Он попросту испугался, испугался вульгарно и глупо, как пугались люди XVIII века, верящие в существование злых и потусторонних сил. От испуга он потерял дар красноречия и чувство юмора. Впрочем, можно ли его за это осуждать? А разве не растерялся бы Герберт Уэллс, если бы его навестил Невидимка или Путешественник, вернувшийся из будущего на своей машине времени?
Тунявский побледнел, упал в кресло. И мне пришлось рыться в его домашней аптечке, искать валерьяновые капли и валидол. К сожалению, я не захватил с собой дильнейских лекарств, с помощью которых он сразу почувствовал бы себя прекрасно.
Когда Тунявский пришел в себя, он взглянул на тел конец стола, где только что лежал комочек вещества, Но там уже ничего не было. Я поспешил спрятать Эрою в футляр, а футляр поскорее убрать.
— Кто вы? — спросил меня Тунявский.
— Этот же самый вопрос мне задал Иммануил Кант, — сказал я тихо.
— Кант не задавал вам этого вопроса.
— Откуда вы знаете? Вы же при этом не присутствовали.
— Я сам придумал этот эпизод.
— Ну вот и отлично. Все стало на свое место.
— Так, значит, этого не было? Значит, это мне только показалось?
— Показалось, — ответил я.
— Так кто же вы?
— Персонаж вашей повести. Вас это устраивает?
Он рассмеялся. Рассмеялся на этот раз весело.
— Пусть будет так. Не хочу ломать голову, распутывая этот узел. Вы что же это встали? Собираетесь уходить?
— До свидания, — сказал я.
Он не стал меня задерживать.
Да, он был человек. И он был искренен. Он действительно удивился и не поверил мне, что я Ларвеф. Значит, и Дильнею, и меня, и Эрою он придумал. Но в такое совпадение выдумки и реальности невозможно поверить. Следовательно, он дурачил нас. С какой целью?
Как это ни странно, Эроя, искусственная Эроя, сама загадка из загадок, не выносила ничего загадочного.
— Ты должен выяснить это, Ларвеф, — сказала она мне.
— Что?
— Откуда он знает нашу тайну.
— Он утверждает, что все придумал.
— Но ты же веришь в это еще меньше меня.
— Не нужно спешить. Рано или поздно узнаем. А сейчас я прочту тебе вслух его повесть «Уэра», которую сегодня принес из библиотеки.
Я читал ей весь вечер. Изредка она прерывала меня:
— Но ведь этого не было. Я что-то не помню. А ты помнишь, Ларвеф?
— По-видимому, то, о чем ты говоришь, он придумал тля занимательности, но остальное изображено точно. Как ты находишь, Эроя?
— Мне кажется, что он жил в каждом из нас. Подслушивал наши разговоры, читал мысли. Не находишь ли ты, Ларвеф, что это противоречит логике?
Я невольно усмехнулся. Уж если Эроя говорит о логике — значит, действительно, тут что-то не так. Я промолчал.
— Читай дальше, — сказала она, — может, в конце мы найдем объяснение этого странного факта.
Я прочел повесть до конца. Но конец не избавил на от сомнений, наоборот, только усилил их. Оттого что моя дильнейская жизнь была изображена в земной книге, я испытывал незнакомое мне раньше чувство. Казалось я жил и не жил, был здесь и одновременно был вплетен в ткань чужого и чуждого мне повествования и как бы переключен в другой, более причудливый план бытия.
Нет, я с этим был не согласен. Я не сомневался в своей реальности, и то обстоятельство, что я стал объектом фантазирования беллетриста Тунявского, не должно было задевать чувство собственного достоинства. В конце концов возможно, что за этим кажущимся иррациональным явлением стояла вполне рациональная сущность. Телепатия — эта старая и в то же время «молодая» наука и на Дильнее и на Земле — была еще в зачаточном состоянии. Совпадение вымысла и действительности, очевидно, объяснялось телепатическими талантами Тунявского, сумевшего преодолеть время и пространство каким-то шестым, еще не раскрытым наукой, чувством. Так я думал, прочтя книгу о себе. Но я не стал говорить об этом Эрое, комочку бесформенного вещества. Да и к тому же она уже лежала в футляре, погруженная в то отсутствующее состояние, которое больше подходило к ее сущности, к сущности скорее вещества, чем существа.
9
Встретившаяся мне на улице старушка любезно улыбнулась и спросила:
— Молодой человек, скажите, пожалуйста, который час?
— Половина шестого, — ответил я.
Она еще раз взглянула на меня и пошла, медленно переставляя ревматические ноги. Возможно, завидуя моей молодости, она рассеянно и меланхолично вспоминала прошлое и утраченное. Она, наверное, помнила то, что было десять лет назад, и двадцать, и все пятьдесят. И ей, не сомневаюсь, казалось, что это было давным-давно. Она не подозревала, что все это происходило почти вчера и молодой человек, которого она остановила, помнил то, что было двести, и двести пятьдесят, и триста лет назад. И в сущности, это тоже было почти вчера. Что же такое время? Об этом я спросил когда-то Иммануила Канта. И Кант сказал мне — не могу ли я задать ему вопрос полегче?
Вчера я разговаривал с профессором Тихомировым. Он историк и, по-видимому, очень любит свой предмет.
— Историк, — сказал он мне задумчиво, — это, в сущности, Мельмот-скиталец, живущий одновременно среди нескольких эпох.
— А кто этот Мельмот?
— Герой одноименного романа Мэтюрена, своего рода антифауст, человек продавший душу дьяволу за право вечно узнавать новое и ничего не забывать. «Мельмот-скиталец»… Разве вы не слышали об этом романе? Его высоко ценил Пушкин и очень любил Бальзак, который написал даже продолжение…
— Я и есть этот ваш Мельмот, — сказал я. Но погруженный в свои мысли профессор не расслышал того, что я ему сказал.
Тихомиров мне симпатизирует. Он выделяет меня из всего курса. Он хорошо знает XVIII век, но я знаю еще лучше. В моей памяти хранится не только отраженное в книгах, но живое время. Идя по Невскому или по Литейному, я вижу не только современные здания из стекла, но и те дома, которые когда-то стояли на этом же месте. Мне становится не по себе, когда я гляжу на деревья Летнего сада. Они были тогда тоненькими деревцами. Нечаянно я произнес вслух слова, которые мне не следовало произносить.
— Что такое время? — спросил я.
Тихомиров усмехнулся и сказал:
— На этот вопрос с исчерпывающей полнотой мог бы ответить только Мельмот. Он знал загадку времени и тайну власти над ним.
— Я тоже Мельмот, — сказал я тихо, надеясь, что Тихомиров не слышит. Но он услышал и удивленно посмотрел на меня:
— Вы? Ну уж этого я бы не сказал. У вас лицо человека, начисто лишенного всякого опыта. Когда я гляжу на вас, мне кажется, что вы только что появились на свет. В ваших глазах отражается великое неведение, полнота абсолютного незнания, свойственного только младенцам. Правда, не всегда. Я помню, когда на экзамене я спросил вас об Екатерине второй, о ее дворе, о том, как выглядел Петербург, вы ответили с такой исчерпывающей осведомленностью, что я был смущен… но возвратимся к Мельмоту. Он буквально сгибался под непосильной ношей своего личного и исторического опыта. Его память была перегружена и сердце истощено от обилия событий. Глядя на вас, никто не подумает, что вас обременяет опыт. Судя по вашим словам, вам хотелось бы быть Мельмотом?
— Не знаю, — ответил я. — Я не настолько еще надоел сам себе, чтобы жаждать чужих переживаний, завидовать чужому опыту.
10
Чувство, что я пришелец, это странное чувство не покидает меня ни наяву, ни во сне. Когда я иду по улицам, я прислушиваюсь к словам прохожих. Мне хочется войти в их жизнь, понять не только смысл их слов, но и уловить тот непонятный и неповторимый ритм сокровенного земного человеческого бытия, который не перестает меня удивлять.
Куда идут они, эти пешеходы? Домой или из дома? Не все ли тебе равно. Ты тоже пешеход, и ты тоже идешь куда-то. Куда? И откуда? Никто еще не задал мне этот вопрос. Да и смог ли бы я на него ответить’3 Я иду по улице и прислушиваюсь к голосам прохожих.
— Лиза, — тихо и настойчиво говорит мужской голос. — Лиза…
Я не слышу, что отвечает женский.
— Лиза, — повторяет мужской голос, — Лиза. Лиза, — умоляет он.
Она молчит.
Лиза… По одному произнесенному прохожим слову, по интонации, с которой оно произнесено, я хочу войти в смысл чужих отношений. Зачем? Не знаю. Пока что жизнь на Земле напоминает мне обрывок случайно услышанного на улице разговора. Но ведь и Мельмоту тоже представлялось, наверно, все отрывочным, недосказанным, ибо он был гость эпохи и каждое десятилетие было 1ля него промежутком, который надо заполнить.
Я должен преодолеть эту отрывочность и не чувствовать себя гостем.
Гость… Я только гость на Земле. Но за короткий срок я так много узнал о ней, о ее людях. Земные события властно вторгаются в мою память, жадно вбирающую каждый факт. Как это ни странно, земное начинает преобладать во мне над дильнейским, вытеснять его. Но еще удивительнее, что иногда мне кажется, что я не дильнеец, а человек. Наверное, это любовь к людям, к земной природе дает знать о себе.
По ночам я пишу книгу. Она называется так: «Естествознание будущего». Эта книга соединит меня с миром, с каждым человеком на Земле. Небывалая книг а перенесет сознание современного человечества на много десятилетий вперед. У книги будет скромный подзаголовок: «Учебник». Мой учебник будет учить людей искусству быть впереди своего времени, впереди себя… Но, наверное, наступит такое время, когда и мой учебник устареет.
Я люблю ходить по улицам, именно ходить, а не ездить. Я ищу контакт с тем миром, который меня окружает. Пешеходы не похожи на пассажиров. У них другое видение мира. Пассажиры внутренне устремлены к той точке, которую проецирует их сознание. Они здесь и не здесь… Подхваченные вихрем скорости, они мысленно торопят пространство, время и свое «я». Пешеходы не торопятся. Не тороплюсь и я.
Вот этого старичка я часто встречаю на набережной. Он тоже меня заметил и улыбается мне.
— Здравствуйте, — говорю я ему.
— Добрый вечер.
Мы идем с ним рядом. Он очень стар. Возможно, он еще помнит семидесятые и даже шестидесятые годы, подвиг Гагарина, первое посещение человеком Луны и Марса, биологические и эстетические дискуссии, волновавшие его бывших современников.
— В мое время, — рассказывает старик, — пешеходов было куда больше, но не потому, что людям некуда было торопиться. Транспорт был несовершенный. Здесь еще ходили троллейбусы и автобусы А мой отец застал еще конку. Помню, меня ребенком везли из Владивостока по железной дороге. Время текло не спеша. Я стоял у окна и смотрел, как менялась местность. Вам, молодой человек, случалось бывать на Марсе или Луне?
— Случалось.
— Мой сын посмеивается над земными расстояния ми. Он недавно вернулся из космоса, работал на Марсе, побывал в окрестностях Венеры. Он говорит, что здесь у нас еще двадцатый век. Он удивляется, как можно терять драгоценное время на хождение. Он влюблен в скорость. И почти в отчаянии от того, что законы природы создали предел для человеческой техники.
— Что он имеет в виду?
— Скорость света. Ее человеку не обогнать.
— Как знать, — сказал я.
— Я вас не понимаю, молодой человек. Яснее выразите свою мысль.
— Человечество еще мало знает об истинных свойствах пространства.
Старик недоверчиво посмотрел на меня:
— Человечество… А вы что, не представитель человечества, что ли?
— Не совсем, — сказал я. — А кто же вы?
— Это другой вопрос, — уклончиво ответил я.
Старик рассмеялся:
— Вы оригинал. И лицо у вас не такое, как у всех. Странно, что вы никуда не спешите. Сколько вам, молодой человек, лет? Двадцать пять? Тридцать?
— Умножьте на десять. И вы не ошибетесь.
Зачем я это сказал? Для чего? Мне теперь уже было невозможно встречаться с этим стариком и разговаривать. Ничто так не отчуждает, как странность. Старик смотрит на меня испуганно. Мои слова нарушили незыблемую логику земных человеческих отношений.
— Кто же вы? — спрашивает он. — И откуда?
Я говорю ему:
— Кто же возьмет на себя смелость ответить на ваш вопрос? Кто мы? Откуда? Это предмет философии.
— А, — говорит старик обрадованно, — вы философ? Теперь мне все понятно.
Он снова обрел меня, а я его. И оба мы стоим обрадованные, счастливые.
11
На улице меня окликает женский голос:
— Николай!
Я оглядываюсь. Возле клена стоит та самая девушка, которая мне звонила. Тогда она назвала свое имя, и я его запомнил.
— Вера? — говорю я неуверенно и тихо.
Она радостно улыбается мне:
— Ну вот ты меня и узнал, узнал, наконец. К тебе вернулось наше прошлое, дорогой. Ты вспомнил меня. Было так странно и ужасно, что ты меня не узнавал. Сначала я думала, что ты шутишь. Но интонации твоею голоса, выражение лица опровергало это. Я была в отчаянии. Я не знала, что подумать. Но сейчас по твоим глазам вижу, что ты меня узнал. Наваждение прошло. Как я рада… Ты не представляешь, как я рада!
— Я тоже рад, — сказал я тихо.
Потом я подумал: она продолжает ошибаться и принимать меня за кого-то. Стоит ли ее разубеждать? Пусть она ошибается. Это мне поможет убрать стену и приблизиться к земной жизни.
— Ты сейчас занят? — спрашивает она. — Мне хотелось поговорить с тобой, провести вместе вечер.
Я взял девушку под руку, и мы пошли.
Мне было приятно ощущать тепло ее большой круглой и сильной руки, слушать ее голос… Мы шли по городу. Пешеходов было мало, как всегда. Пешком шли только влюбленные.
Стал накрапывать дождь.
— Помнишь, Николай, — сказала девушка, — как мы попали под ливень на Елагином острове. Лило как из ведра Мы стояли под деревом. Помнишь?
— Помню.
Разумеется, я не помнил, да и не мог помнить то, что было не со мной, а с кем-то другим.
— Недавно я вспоминала о дне Черного моря.
— О дне Черного моря? — удивился я. — Почему?
— Странно! — сказала Вера с упреком. — Неужели ты и этого не помнишь? Мы же познакомились на дне Черного моря возле Феодосии. Местечко называется Коктебель… Я работала в подводной экспедиции. А ты жил на спортивной базе и заплывал далеко в море в своем акваланге. Не смешно ли, что первое наше свидание произошло на глубине двадцати метров. Над нами были волны. И я на всю жизнь запомнила тишину. Потом мы поднялись на поверхность и ты спросил, как меня зовут. Я назвала себя. И ты себя назвал. А потом мы сидели на берегу у подножья Карадага, помнишь?
— Помню, — сказал я неуверенно. На какую-то долю секунды мне показалось, что я действительно помню этот эпизод.
В голосе девушки чувствовалась доброта, необычайная душевная щедрость; казалось, она дарила мне свое и чужое прошлое, прошлое, которое мне не принадлежало и не могло принадлежать, и я не в силах был отказаться от этого необыкновенного подарка.
— А помнишь, ты читал мне стихи какого-то старинного поэта. Мне запомнились они, и, если ты забыл, я тебе напомню.
— Прочти, — сказал я.
…Не я, и не он, и не ты,
И то же, что я, и не то же:
Так были мы где-то похожи,
Что наши смешались черты.
— Не нужно, — перебил я Веру, — не стоит читать дальше.
— Почему, дорогой? Тогда ты любил повторять эти строчки.
— А сейчас не хочу.
— Почему же? От времени они не стали хуже.
— Не знаю, — сказал я, — почему они мне разонравились.
— А я знаю, — сказала она тихо.
— Почему?
— Потому что ты хотел измениться и все забыть, но тебе это не удалось. Ты остался прежним. Затмение пришло. И мы опять рядом. Я прочту только заключительные строчки. Можно?
— Читай.
…Лишь полога ночи немой
Порой отразит колыханье
Мое и другое дыханье,
Бой сердца и мой и не мой.
— Не надо дальше читать, — сказал я.
— Почему?
— Меня удивляет, что кто-то другой, живший задолго до меня, написал обо мне.
— Нет, это написано не о тебе. Ты неповторим. И похож только на себя. Я долго искала тебя, но ты ведь исчез. И никто не знал, где ты. Все твои знакомые и друзья потеряли тебя. Я думала, что ты улетел на Марс или на одну из космических станций. Но в Комитете Космоса мне сказали, что тебя нет в их списках. И все-таки я тебя нашла. И позвонила. Не знаю, какая причина заставила тебя настаивать на том, что ты меня не знаешь. Можно было подумать, что ты заболел амнезией, потерял память, но я сразу отвергла эту мысль. Просто у тебя были какие-то причины, важные, разумеется. И я тебя не стану спрашивать о них. Я так* рада, что ты снова со мной.
Она посмотрела на меня. В больших серых ее глазах я увидел страх. Она, должно быть, боялась, что я снова буду настойчиво повторять, что я не тот, за кого она меня принимает.
— Нет, ты тот, — сказала она, словно угадав мои мысли, — тот, а не другой.
Я рассмеялся и повторил запомнившиеся мне первые строчки стихотворения, которые она только что читала:
Не я, и не он, и не ты,
И то же, что я, и не то же:
Так были мы где-то похожи,
Что наши смешались черты.
— Не читай эти стихи, не надо!
— Раньше просил я, а теперь ты просишь.
— Эти строчки меня пугают. Все эти дни, после нашей встречи в вестибюле гостиницы, я жила, как в страшном сне. Раза два или три мне в голову приходила нелепая и ужасная мысль, что от тебя осталась только оболочка, что ты, действительно, не ты, а кто-то другой, что, оставив прежней твою внешность, заменили твой внутренний мир.
— А что если это правда?
— Нет, это не правда. Ты прежний. Все прежнее: и голос и улыбка. Только что-то в глазах другое, не пойму что…
— На днях профессор Тихомиров сказал мне, что у меня лицо человека, начисто лишенного всякого опыта, словно я только что появился на свет.
Она посмотрела на меня:
— Ты знаешь, он прав. Я тоже это подумала.
— А раньше я разве выглядел не так?
— Нет. У тебя было другое выражение глаз, немножко насмешливое и скептическое. Что-то в тебе сильно изменилось. Ты не согласен?
— Нет, что ж. Может, это и так.
Я довел ее до дверей дома, в котором она жила.
— Спасибо, — сказала она. — Надеюсь, что мы скоро увидимся. До свидания, милый.
— До свидания, — сказал л и, отойдя, оглянулся и помахал ей рукой, Она стояла на том же месте и смотрела на меня.
12
Иногда, увлеченный какой-нибудь идеей, я возбужденно ходил из угла в угол и напряженно думал. Потом энтузиазм спадал и подкрадывалась холодная и коварная мысль: а что ты скажешь в издательстве, когда принесешь свою странную рукопись? Как и чем объяснишь, что ты обогнал земных ученых на несколько столетий?
Тебе скажут:
— Вы Ньютон и Ломоносов, помноженные на Дарвина и Эйнштейна. Но откуда, черт бы вас побрал, вы взялись? Где прятались? Почему скрывали свои идеи?
Мне не поверят. Добро бы, если я принес научно-фантастический роман и все формулы и концепции произносил бы от имени героев. Но начало моей рукописи больше похоже на учебник, чем на роман. Ведь я только посредник. Моей рукой водит будущее. Я только популяризатор, пытающийся перевести научные идеи отдаленного времени на язык современных жителей Земли.
Нелегко проложить мост между будущим и прошлым, начав строить из будущего. Как мне объяснить людям Земли теорию дильнейского физика Тинея, с помощью которой нашей науке и технике удалось победить пространство и время? Для того чтобы понять сущность открытых Тинеем закономерностей, нужно вывернуть наизнанку человеческую логику, пересмотреть все традиционные навыки земного математического мышления. Я ломаю голову над этой проблемой. Будет не менее трудно рассказать о том, как дильнейским биофизикам удалось познать все тайны живой клетки и остановить миг, называемый жизнью индивида. Ну и ускорение мысли! Как и почему дильнейцы научились мыслить быстрее, чем их предки? Разве это не сочтут за парадокс, за беспочвенную выдумку?
Мне не с кем посоветоваться. Впрочем, иногда я раскрываю футляр, вынимаю Эрою* и читаю ей вслух то место рукописи, в котором сомневаюсь.
Вот и сейчас я спрашиваю ее:
— Как тебе кажется — достаточно ли ясно я изложил эту мысль?
Эроя просит меня:
— Прочти еще раз. Я хочу проверить свое первое впечатление.
Я читаю вслух:
— «Земной философ Спиноза убеждал своих последователей не плакать и не смеяться, а только понимать. Говоря это, он словно предчувствовал появление Эйнштейна и создание теории относительности. Чтобы понять сущность этой теории, нужно было отделить мысль от эмоций, оторвать ее от чувств, наконец, от тысячелетнего опыта, от здравого смысла… Что же требуется от человека, чтобы понять закон, открытый дильнейским ученым Тинеем? Тоже не горевать и не жаловаться, как говорил Спиноза?» — Слишком длинно, Ларвеф, — перебила меня Эроя, — нельзя ли покороче? А кто такой Эйнштейн?
— Эйнштейн — земной ученый, который ходом своего мышления нанес удар антропоцентризму.
— Но при чем же здесь Тиней и его труды?
— У Тинея много общего с Эйнштейном. Он тоже нанес сокрушительный удар привычным представлениям. Если ты не забыла, он создал новое представление о пространстве, проник в сущность малого и большого и вскрыл их единство.
— А что такое малое и чем оно отличается от большого, Ларвеф?
— Извини меня. Я забыл, что ты совсем иначе, чем все, воспринимаешь пространство, что ты принципиально не видишь никакой разницы между «здесь» и «там»…
— Но ведь Тиней тоже…
Я невольно рассмеялся:
— Уж не хочешь ли ты сказать, что ты мыслишь, как Тиней?
— Нет, я этого не считаю, — сказала скромно Эроя. — Да и к тому же я не могу понять теорию Тинея. Прежде чем объяснить ее сущность людям, объясни мне.
Я замолчал. Что я мог ей ответить? Как я мог ей объяснить одну из самых сложных концепций, когда-либо созданных на Дильнее, ей, странному и искусственному существу, не способному отличить понятие «здесь» от прямо противоположного понятия «там»…
Телефон звонит.
— Слушаю, — говорю я, сняв трубку. Женский голос, теперь уже знакомый, ласково спрашивает:
— Ты узнаешь меня?
— Да, теперь узнаю. Вера?
— Да, Вера. Твоя Вера. Ты сейчас очень занят?
— Нет, я свободен.
— Может, зайдешь ко мне?
— Когда?
— Когда тебе удобно, милый. Я буду ждать… Или нет, давай лучше встретимся в вестибюле гостиницы, Я приеду к тебе.
Я стою возле газетного столика и жду. С минуты на минуту она должна прийти. А что если я скажу ей сегодня, что я не тот, за кого она меня принимает? Нет, надо отложить этот неприятный разговор. Мне так хочется побыть вместе с ней. Она снова будет вспоминать прошлое, свое и того, другого, за кого она меня принимает. А я буду делать вид, что тоже ношу в памяти это прошлое…
Вот она идет быстро и легко, как всегда. На ее раскрасневшемся от ходьбы лице добрая улыбка. Она уже увидела меня и машет рукой.
— Ты здесь? — спрашивает она.
— Нет, здесь не я, — шучу я, — а тот, другой, который тебя не узнавал.
— Нет, это ты, — тихо говорит она, — ты… — Она как-то совсем по-особому произносит это слово «ты», удивленно и радостно, словно открывая во мне того, другого, чье обличье я принял, сам того не подозревая. Мне становится не по себе от этого ее «ты».
«Ты», — словно говорит не только ее сильный ласковый голос, а все ее существо. «Ты», — говорит она, и я начинаю еще острее чувствовать свою реальность. «Ты», — повторяет она, и мое сердце начинает биться сильнее, и кажется, Земля вырвется из-под моих ног.
Мы опять вместе. Я беру ее под руку, и мы выходим из гостиницы. Сейчас мы одни. Никто не обращает на нас внимания.
— Хочешь немножко потанцевать? — спрашивает Вера. — Тогда зайдем сюда. — Она показывает на танцевальный клуб, сквозь его прозрачные стены видны танцующие пары.
Мы заходим. Музыка. Земная хмелящая сознание музыка. Я долго не мог приучить себя к ней. В XVIII веке существовали более прозрачные и неспешные мелодии. Тогда танцевали менуэт и играли Моцарта, про которого кто-то сказал, что он писал музыку не для людей, а для ангелов. Я — не ангел. Но к Моцарту мне было легче привыкнуть, чем к современным композиторам.
Мы начинаем с Верой танцевать. У меня не очень-то это получается. Но она улыбается и одобрительно кивает мне:
— Ничего, ничего, дорогой. Ты раньше танцевал гораздо лучше. Но полтора года жизни в космосе на крошечной космической станции со счетов не сбросишь. Там было не до танцев.
— А откуда ты знаешь, что я был на космической станции? Разве я тебе об этом говорил?
— Нет, не говорил. Но я и так догадываюсь.
— Ты такая догадливая.
— Не смейся, милый. О том, что ты жил эти полтора года не на Земле, догадается каждый, кто поговорит с тобою. Ты так изменился. В тебе появилось что-то новое, незнакомое, то, чего я не замечала до нашей разлуки.
— Что ты имеешь в виду?
— Рассеянность. Иногда мне кажется, что только твоя оболочка здесь, а сам ты где-то далеко-далеко за миллионы километров отсюда. И в эти минуты мне становится страшно, страшнее даже, чем тогда, когда ты не хотел узнавать меня.
— Лучше поговорим о чем-нибудь другом.
— О чем же?
Она задала этот вопрос и вдруг словно забыла обо мне. Ее глаза смотрели в сторону, где стоял какой-то человек, казавшийся высоким, хотя он не выше среднего роста. Он улыбался Вере. Она тоже улыбнулась и кивнула ему.
— Извини, дорогой, — сказала она, — я сейчас же вернусь к тебе. Одну минутку.
Она отошла. Я оглянулся. Она подошла к высокому. По-видимому, это был ее старый знакомый. Потом она окликнула меня:
— Николай!
Я подошел. Высокий, или, вернее, казавшийся высоким, улыбнулся и протянул мне руку. Он не назвал себя. Я себя назвал, и довольно отчетливо:
— Николай…
— Коля, — словно поправил он меня. Это было так странно, будто он знал меня давно.
Глаза его смотрели на меня с интересом. Нет, незнакомые так не смотрят. Потом он раскланялся и ушел.
— Кто это? — спросил я Веру.
Прежде чем ответить, Вера удивленно взглянула на меня:
— Неужели ты его забыл за эти полтора года? Это физиолог и кибернетик Иванцев, Сергей Андреевич Иванцев, твой приятель. Ты же сам сколько раз мне говорил, что такие люди, как Сергей, родятся раз в два столетия. И ты умудрился его забыть? Ты же сам говорил, что он гений, обыкновенный, ничем не примечательный гений, вроде Павлова или Леонардо да Винчи.
— А что он сделал, чтобы его так называть?
— Ничего особенного. Создал новое физиологическое учение. Новую школу. Тебе этого мало? Но объясни, как ты мог его забыть?
13
Каждую ночь мне снится Дильнея, стоит закрыть глаза — и я там. Поворот бытия, сдвиг времени и пространства.
Когда я просыпаюсь, мне становится не по себе. Она далеко, моя Дильнея!
За свою продолжительную жизнь я возвращался на Дильнею несколько раз и каждый раз вместо друзей и родных встречал их потомков.
Мое призвание вечного странника превращало будущее в настоящее. Я появлялся, обгоняя свою эпоху, своих современников и самого себя. Что-то чудесное было в этих часах, днях и неделях, как бы открывалась дверь в новое небывалое бытие. Я попадал в новый век, не узнавал ни лиц, ни вещей. Но среди новых лиц и новых вещей я старался чувствовать себя уверенно. И только на Земле я теряюсь, словно не нахожу самого себя, и начинаю повторять слова Спинозы: «Нужно не плакать и не смеяться, а только понимать».
Но есть явления, которые я понять не в силах. Возвращаясь из университета, я замедлил шаги. Впереди шли два школьника. Они о чем-то болтали. Вдруг один из них позвал меня. Он громко произнес мое имя, не здешнее, а тамошнее, настоящее.
— Ларвеф, — сказал он.
Он обращался не ко мне, а к своему товарищу, но я вздрогнул, словно проснулся.
И второй подросток сказал так же громко и отчетливо:
— Эроя.
Тогда я нагнал их и спросил:
— Откуда вы знаете эти имена?
— А разве вы не читали научно-фантастическую повесть «Уэра»? — ответил подросток. — Почитайте. Там рассказывается об одном путешественнике, который летал со скоростью света. Его звали Ларвеф.
— Ларвеф это я.
— Вы шутите, — сказал школьник. — Он на вас не похож. У него почти не было рта.
— Я сделал себе пластическую операцию.
Оба подростка рассмеялись.
— Значит, вы прямо со страниц книги сошли на эту Улицу? — спросил второй подросток.
Меня поразила неожиданная правда этих слов. Я даже растерялся. Не сразу я ответил ему:
— Нет. Скорей я прямо с этой улицы попал на страницу.
Я всегда любил детей, даже когда сам был ребенком. Но это было давно, очень давно, несколько столетий тому назад. Я очень любил детей, может быть, и потому, что только в промежутке между путешествиями встречал их. Земные дети не так уж сильно отличались от дильнейских. И там, на Дильнее, я частенько заходил в школы и другие детские учреждения и рассказывал детям о своих путешествиях.
— Вы что, не верите мне? — спросил я.
Один из подростков более разбитной и бойкий ответил:
— Чему не верим?
— Тому, что я Ларвеф?
— Верим, — ответил он насмешливо и бойко, — но ведь не это главное — верим мы или не верим.
— А что?
— Ну как это выразить, когда читаешь — веришь, а когда прочтешь, думаешь — интересная сказка. А сейчас ведь я не читаю.
— Это правда, — сказал я. — Сейчас ты не читаешь, а идешь по улице. Но тут есть одна загвоздка. Сейчас я тебе покажу одну вещь, и ты перестанешь сомневаться.
Я достал из кармана универсальный лингвистический аппарат и протянул его подростку.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Володя.
— А твоего приятеля?
— Он просто Семенов. У него имя очень трудное. У нас все его Семеновым зовут.
Я сказал:
— Посмотри, Семенов, на эту вещицу. Ты французский язык знаешь?
— Нет, не знаю. У нас в школе проходят английский и банту.
— Ни одного слова не знаешь?
— Знаю только «бонжур» и «мерси».
— Маловато. Но сейчас ты все слова будешь знать. Вот нажми эту кнопку.
— Нажал. А теперь что?
— Теперь говори.
Семенов заговорил по-французски. На лице его приятеля Володи изобразилось крайнее изумление. Петом он сказал:
— Семенов, наверно, раньше знал, да притворялся.
— Не знал я. Честное слово. Не знал! Клянусь! А вы где такой аппарат достали?
— Чудак! На Земле такие не выпускают. А этот с Дильнеи привез.
— А вы кто? Гипнотизер?
— Ларвеф я! Ларвеф!
— Ну да Ларвеф. Этак и я могу сказать, что я Робинзон Крузо. А вещица забавная. Подарите нам ее.
— Нет, не могу. Она мне самому нужна до зарезу. Без нее — я глухонемой.
— А все-таки кто вы? Телепат?
— Нет, Ларвеф я. Лар-веф.
— Бросьте. Так не бывает.
— Ну не бывает, так не бывает. Стоит ли спорить. До свидания.
Подростки пошли в одну сторону, я в другую.
14
Я возвращался домой поздно. В вестибюле дежурный автомат остановил меня.
— Вас ждут, — сказал он тихо и значительно, тише и значительнее, чем всегда.
— Где? — спросил я.
Автомат-дежурный ответил с подкупающей вежливостью, безукоризненно точно выговаривая слова:
— В зале для ожиданий и встреч.
У него был обворожительный голос, проникающий до самых основ существа, голос, вероятно, занятый у какого-нибудь трагического артиста или певца. И, играя голосом, словно догадываясь о том, какое он производит на меня впечатление, повторил:
— В зале для ожиданий…
Я подумал, что меня ждет Вера и, войдя в зал, стал искать ее глазами. Но ее там не было. Мужской голос окликнул меня:
— Ларионов!
Навстречу мне шел человек неопределенного возраста. Не сразу я узнал Тунявского. Казалось, за эти две недели он постарел, обрюзг, опустился. Значит это он ожидал меня?
— Извините, что я не предупредил о своем приходе. Это произошло неожиданно. Я не хотел идти к вам, но какое-то безотчетное, не до конца понятное мне чувство заставило меня переменить решение. Я ведь не совсем доверял своим чувствам. И сейчас не вполне доверяю!
— Что вы хотите сказать?
— Я пришел выяснить — кто вы?
— Кто — я? Однажды я уже дал ответ на ваш вопрос. — Я — Ларвеф и прибыл сюда с Дильнеи.
— Но вы же и Ларионов?
— Ларионов я для всех, кроме вас… Но я вижу, вам нездоровится. Вы побледнели? Что с вами?
Он не ответил.
— Может, поднимемся в мой номер, чтобы продолжать наш разговор? Зал ожиданий и встреч не совсем подходящее место для обсуждения физических и философских проблем.
Он молча кивнул. Казалось, он потерял дар речи, он не произнес ни слова, пока лифт не поднял нас на девятнадцатый этаж. И вот мы в номере, в обычном гостиничном номере, где все вещи выглядят обыденно, буднично и банально.
— Садитесь, — сказал я гостю и показал на кресло.
Он сел, потом встал, потом снова сел. Он явно был не в своей тарелке. Не очень-то уверенно я употребляю это старинное и типично земное выражение, смысл которого для меня не до конца ясен. Не в своей тарелке, именно так!
— Ларвеф? — вдруг он произнес имя, которое не хотел признать за мной.
— Ларвеф! И Ларионов тоже! — сказал он и вдруг возвысил голос: — Бросьте свои нелепые шутки. Мне, наконец, это надоело! Я не мальчишка, чтобы меня разыгрывать и причем так наивно.
— Говорите спокойнее. Философские проблемы не принято обсуждать в таком взвинченном и нервозном тоне. Напоминаю вам слова вашего знаменитого земляка Спинозы, который дал отличный совет: не горевать и не жаловаться, а только понимать.
— Вы льстите. Спиноза мне не земляк. Я родился под Ленинградом, а он в Амстердаме, за несколько столетий до меня.
— Но если я не ошибаюсь, и вы и он родились на Земле.
— Покажите мне человека, который родился бы не на Земле.
— Вы хотите, чтобы я показал на себя?
— Не верю!
— Ну вот. Это я могу понять. Постараюсь вас разуверить. Но опасаюсь одного…
— Чего? — спросил он нетерпеливо. — Да говорите, пожалуйста, быстрее, не играйте на чужих нервах. Чего вы опасаетесь?
— Вашей неподготовленности. Скажу еще более откровенно: вашей неспособности отделить мысль от эмоций. Не горевать, не жаловаться, а понимать. Вот девиз!
— Кто же на Земле подготовлен лучше меня? Я астробиолог и писатель-фантаст. Я ежедневно имею дело с самым непривычным и далеким от общепринятого и известного.
— Но почему же вы так волнуетесь? Почему не хотите внять совету Спинозы? Зачем повышаете голос, вместо того чтобы спокойно обсуждать возникшую ситуацию. Скажем откровенно: парадоксальную ситуацию, ситуацию, в которой мне самому трудно разобраться. Кстати, вы знакомы с теорией Тинея?
— Впервые слышу. Кто такой Тиней?
— Тиней — это великий дильнейский физик и математик, создатель новых принципов математической логики.
— Дильнейский? Бросьте эту чепуху. Дильнея не существует. Это плод моего вымысла.
— Спокойнее, спокойнее, дорогой. Если вы будете так волноваться, мы не сможем ни о чем договориться. Сейчас мы не будем решать с вами вопрос — существует или не существует Дильнея. Сейчас мы будем говорить только о Тинее и его теории. Если бы не физические идеи Тинея, я бы не прилетел на вашу планету! Может быть, вы воображаете, что я попал сюда благодаря тому наивному и нелепому средству, которое вы придумали в своей повести «Уэра»?
— Опять вы за свое! — перебил он меня. — Я ничего не понимаю, но начинаю догадываться. Может, это особый имманентный прием критики? Набитый иронией и скепсисом критик выдает себя за героя произведения и пытается критиковать как бы изнутри?
— Вы — антропоцентрист! Антропоцентрист, хотя и пишете о космосе. Вам кажется, что весь мир вертится вокруг вас. Немножко отвлекитесь от вашей собственной персоны и попытайтесь понять мои слова, последуйте совету Спинозы.
— При чем тут Спиноза? Если это не розыгрыш, то стоит ли прятаться за спину мудреца? А я почти убежден, что стал жертвой недостойной игры, жалкого эксперимента, нелепой шутки. Кто вы?
— Кто я? Сколько же раз мне отвечать на этот вопрос. Я тот, кто не похож на всех. Вам этого мало?
— Мало!
— Вы игрок!
— Да, я игрок. Наконец вы нашли подходящее слово. Я играю со временем и пространством, чтобы выиграть нечто важное…
— Что именно? — спросил он, усмехаясь.
— Возможность пребывать «там» и «здесь». Я игрок. Вы удачно обмолвились. Очень удачно…
— Не придирайтесь к словам. Я имел в виду совсем другое… Игрок, играющий недостойную взрослого человека игру. Это мальчишество! Довольно меня дурачить. Я могу принять меры.
— Какие, интересно?
— Любые, но такие, которые сразу пресекут вашу недостойную игру. Меня достаточно хорошо знают в вашем университете.
— Есть лучший способ избавиться от меня.
— Какой?
— Отправить меня обратно на Дильнею. Своим вымыслом, надеюсь, распоряжаетесь только вы самолично? У вас нет соавтора?
— Довольно! Прекратите! Я пришел сюда не для того, чтобы затягивать эту недостойную игру.
— А для чего?
Он не ответил, словно бы и не слышал моего вопроса.
— А для чего? — повторил я.
— Представьте, — сказал он тихо и печально, — я сам не знаю — для чего?
Меня поразил его тон, на этот раз бесконечно искренний и трогательный.
— Я долго разыскивал вас, — продолжал он, — вы не оставили адреса… Я разыскивал вас, но временами мне казалось, что я разыскиваю не вас, а самого себя. После вашего посещения что-то изменилось во мне, что-то нарушилось. Казалось, вы что-то забрали у меня и унесли с собой. Не сразу я понял, что вы забрали и унесли уверенность. Люди не любят ничего таинственного и загадочного. Для того много веков назад и возникло научное знание, чтобы освободить человечество от странного и загадочного, дать ему уверенность в себе и в законах природы. Человечество давным-давно возмужало… Я всю жизнь прославлял знание, науку. И вдруг во мне возникло сомнение. Моя логика очутилась в лабиринте, ища выхода. Мог ли я поверить, что вымышленная мною планета существует на самом деле и вопреки всем законам логики я угадал реальное существование некоего путешественника по имени Ларвеф. Я сам придумал это имя. И могу вам это доказать. Я писал свою повесть в феврале… Прочтите слово «февраль» с конца, справа налево… Вот откуда это имя Лар-ьеф… А вы хотите меня уверить, что вы — реальность.
— Совпадение, — прервал я его, — простое совпадение. Вы еще ищете доказательства? Но стали ли бы вы их искать всерьез, если бы кто-нибудь усомнился в вашей собственной реальности? Не ищите. Все равно вам не удастся убедить меня, что я самозванец или шутник.
— Так кто же вы такой?
— А кто вы?
— Я астробиолог и писатель. Каждый читатель это может удостоверить. А кто может удостоверить, что вы не Ларионов, а тот, другой, кто возник вместе с игрой моего воображения. Кто это может удостоверить?
— Удостоверить? — повторил я. — Моя память. Ведь в памяти начинаются корни, истоки каждой личности, каждого «я». Откуда бы я мог помнить всё, что я познал и пережил до того, как прилетел на Землю?
— Могли вообразить.
— Нет, воображение и память это не одно и тоже. Я помню свое детство и юность. Они прошли не здесь, на Земле. Тысячи событий и обстоятельств хранятся в моей памяти. Вообразить можно вещь и даже чувство.: но нельзя вообразить отца, мать, братьев, сестер, дедушку с бабушкой, создать из небытия тех, кто создал тебя. Как сейчас я вижу дом, через порог которого я впервые переступил.
— Где же этот дом?
— За много световых лет отсюда. У ворот текла река. А у окна стояло дерево. Возможно, оно и сейчас стоит там и ждет моего возвращения. Милое дерево моего детства. С ветвей этого дерева впервые для меня свистела птица. Я много бы отдал, чтобы еще раз услышать ее свист.
— То, о чем вы рассказываете, могло случиться и на Земле. Тут тоже есть дома, реки и деревья, на ветвях которых поют птицы.
— Вы хотите, чтобы я вспомнил то, чего не может быть на Земле? Но Дильнея очень похожа на Землю.
— Да! — перебил он меня, словно утеряв нить нашего разговора. — Меня не раз упрекали критики и читатели за это. Они обвиняли меня в бедности воображения.
— При чем же здесь вы? — холодно сказал я. — Дильнея действительность, она бесконечно реальнее вас и ваших читателей. Вас не было на свете, а она существовала, вас не будет, а она будет продолжать свое бытие.
— Но вспоминайте, вспоминайте, — опять перебил он меня. — Пока еще вы не вспомнили ничего такого, что могло бы переубедить меня.
— Я вспоминаю не для того, чтобы вас переубедить.
— А для чего?
— Для того, чтобы самому понять и почувствовать нечто существенное… Бальзак, а никто из земных писателей не понимал лучше его зависимость человека от среды, Бальзак как-то сказал: «Обо всем этом трудно составить себе понятие людям, скованным законами времени, места и расстояния». Это очень сильно сказано! Как по-вашему?
— Бальзак сказал это в ту эпоху, когда люди передвигались на лошадях.
— Тем удивительнее. Значит, он предвидел возможность победы над законами времени, места и расстояний!
— Эти законы остались незыблемыми.
— Для вас, земных людей. Дильнейцы же сумели освободить себя от их власти. Если бы это было бы не гак, я бы не сидел в этом номере гостиницы вместе: вами.
— Опять вы принялись за свое! Упрямец! Вы возразили себя Ларвефом, космическим странником. Я начинаю догадываться. Может, это психологический эксперимент. Может быть, вам захотелось узнать, как чувствует себя человек, находящийся вне власти законов времени, места и расстояния? По выражению вашего лица я чувствую, что я угадал.
— Если вы наблюдательны, как все представители зашей профессии, вы должны были бы заметить, что выражение моего лица слишком часто меняется.
— Я заметил. Но что из этого? Вы, по-видимому, очень впечатлительный человек.
— Прежде всего я не человек!
— А кто же вы?
— Дильнеец.
Он рассмеялся:
— Меня восхищает ваше упрямство. Мы уже почти договорились. Я угадал, что вы психолог, поставивший на самом себе интересный опыт. А вы опять за свое… Вернемся лучше к вашему опыту. Меня он очень заинтересовал. Действительно, что должен чувствовать индивид, освобожденный от законов времени и пространства?
— Индивид? Вы употребили это слово не случайно. Значит, вы уже наполовину согласились с тем, что я не человек. Благодарю за маленькую уступку, но вам нужно сделать еще одно усилие и поверить в то, что я дильнеец.
— Ну что ж, — сказал он. — Я готов и на это… Я поймаю. Вам легче осуществлять свой эксперимент, если вам удалось убедить себя, что вы Ларвеф. Я не буду возражать. Я готов вас слушать.
Я рассмеялся, рассмеялся искренне, от всей души:
— Значит, вы хотите, чтобы я усомнился в своей реальности? Дорогой мой, уж не вы ли мне подарили мое прошлое, всю мою жизнь, мой опыт, мои радости и страдания? Нет, давайте уж поговорим по душам. Я тоже хочу задать вам один вопрос. Откуда вы узнали о существовании Дильнеи и догадались, что существую и я? По правде говоря, это противоречит логике и здравому смыслу.
— Я все придумал.
— И вы хотите, чтобы я вам поверил? Шутник. Или еще точнее — игрок. Я возвращаю вам это ваше слово. Перестаньте разыгрывать меня. Говорите правду. На Дильнее правду ценят не меньше, чем на Земле.
— У правды есть одна особенность. Она одна. На свете не может быть двух правд. Правда одна.
Он вдруг замолчал. Потом поднялся с кресла, простился и вышел.
На этом кончился наш странный разговор.
15
Я нечеловек. Подобно Мельмоту, я в несколько мгновений могу очутиться где мне угодно. По существу каждый дильнеец это Мельмот или гетевский Фауст. Человек, не знающий смерти, уже не человек. Наследственно-информационная «память», подсказывающая молекулам и клеткам моего организма их сокровенное бытие, их верность себе, не боится энтропии, называемой людьми старением. Я буду вечно молод. Но еще Бальзак догадался, что это означает.
Что же это означает? Сейчас объясню. Человек, победивший бренность, независимый от законов времени и старения, уже перестает быть человеком. Клетки и молекулы не стареют. Но как быть с памятью? Разве она безгранична? Разве сможет этот новый, нестареющий человек носить с собой или в себе все свое прошлое, которое будет длиться тысячелетиями?
На этот вопрос я не могу дать точный ответ. Ведь я живу всего триста пятьдесят лет. Обождите… Когда-нибудь я отвечу. Ведь я нахожусь еще в начале своего длинного пути. Дильнейская наука сравнительно недавно узнала, как остановить мгновение и устранить энтропию из жизни молекулярной и клеточной информации. Но никто не догадывается об этом, и меньше всех Вера.
Вера! Она все еще настаивает на том, что знала меня раньше. Она убеждена в этом и хочет убедить меня.
— Ты помнишь, Коля, — спрашивает она меня, — как мы с тобой ночевали на берегу Телецкого озера у рыбацкого костра?
— Это давно было?
— Три года тому назад.
— Только три года? А я помню и то, что было триста дет назад.
— Нас с тобой тогда не было.
— Тебя не было. А я был.
— Ты, конечно, шутишь, Николай!
— Может и шучу.
— Ты разговариваешь иногда очень странно. Что произошло с тобой за эти полтора года? Ты что-то скрываешь от меня? Иногда мне кажется что тебя подменили. Ты не ты!
— А кто?
Она не ответила.
— Кто?
Она снова промолчала.
— Кто же? — допытывался я.
— Ты лучше должен знать, кто ты.
— Значит, ты сейчас идешь не со мной… А с кем же?
— С тобой, успокойся. С тобой иду. Я любила тебя и люблю так же, как и раньше. Зачем же ты так странно шутишь?
— Не знаю.
— А о чем ты думаешь сейчас? У тебя такой вид, словно ты далеко.
— Я думаю о том, что такое жизнь.
— Разве это проблема? Каждый знает, что такое жизнь. Спроси ребенка, и он тебе ответит.
— Не каждый. Один мыслитель сказал, что жизнь — это целая цепь привычек. Как ты думаешь, он был прав?
— Привычек? Отчасти верно. Жизнь не может быть без привычек. Я привыкла видеть тебя, слышать твой голос. Разве это плохо? Мне нравится идти рядом с тобой. Это тоже привычка. Разве это плохо?
Я уклонился от ответа. Если бы я стал отвечать, я сказал бы ей, что на Дильнее жизнь — это борьба с привычками, яростная борьба с рутиной. Дильнеец борется с привычками, чтобы не дать им взять верх над своей любознательностью, над своим желанием ежедневно творить новое, побеждать препятствия, сопротивляться всему тому, что стоит на пути… Но я этого не сказал. Не йог я ей рассказывать о Дильнее. Для нее я был земной человек и земным, только земным должен остаться.
— А помнишь, Николай?.. — спрашивает она мечтательно.
С помощью таких вот вопросов она хочет как бы засыпать пропасть, разрушить то отчуждение, которое разделяет нас.
— А помнишь, Николай, как мы…
Глупенькая! Я помню, как по этим улицам мчались кареты, везя вельмож в напудренных париках. Я видел поэта Державина, читавшего нараспев длинную оду, я видел крепостных мужиков, засыпавших болото на том месте, где ты сейчас стоишь. Я видел… Я слишком много видел и слишком много помню, и это мне мешает говорить с тобой и смотреть на тебя. За твоей спиной я вижу бесконечность: космическую среду, ничто и вакуум, который я преодолел, чтобы попасть сюда и оказаться с тобой рядом, в том столетии, в котором ты живешь. Ты говоришь, что мы рядом. Да, рядом. Но прежде, чем оказаться рядом с тобой, я должен был… Нет, об этом лучше забыть.
— Так что же ты не отвечаешь, Коля? Ты опять отсутствуешь, дорогой?
— Нет, я здесь. Только здесь и нигде в другом месте.
16
Когда я ухожу или уезжаю из гостиницы надолго, я беру с собой футляр, в котором находится комочек чудесного вещества, начиненного эмоциями, страстями, пристрастиями и воспоминаниями. Футляр я ношу с собой, я боюсь оставить его где-нибудь или забыть. Я не выпускаю его из рук. Наблюдательные люди давно это заметили и объяснили по-своему. Они думают, что ношу рукопись, записки, с которыми боюсь расстаться. В этом есть доля истины. В комочке чудесного вещества сама жизнь записывает все, что достойно записи и запоминания.
Сейчас я отдыхаю на берегу Черного моря и живу в санатории. Я люблю взбираться на высокие горы, ходить по узким тропам, по самому краю обрыва. Иногда я совершаю дальние прогулки с компанией отдыхающих, но чаще — один. И куда бы я ни шел, я несу с собой футляр; в футляре та, что прилетела вместе со мной с Дильнеи.
Иногда, остановившись где-нибудь в глухом уголке в лесу на поляне и оглянувшись — нет ли поблизости людей, я вынимал футляр и доставал из него комочек чудесного вещества.
Вот и сейчас я делаю то же самое. Вокруг — никого. Тишина.
— Эроя, — тихо спрашиваю я, — ты слышишь меня?
— Я слышу тебя, Ларвеф, — отвечает она. И в свою очередь спрашивает: — Мы долго еще пробудем на этой странной и удивительной планете?
— Не знаю, Эроя, — отвечаю я.
— А кто же знает кроме тебя?
— Разумеется, никто, но нам еще рано возвращаться домой.
— Домой? — Она ловит меня на не совсем точно сказанном слове. — Ты говоришь, домой? Но разве у нас с тобой есть дом? Ведь мы с тобой вечные путешественники.
— Ты права, Эроя. Я не могу долго задерживаться на одном месте, меня тянет даль, влечет неизвестность, безграничность времени и пространства.
— Но почему же ты так долго намерен задержаться здесь?
— Ты знаешь почему, Эроя. Я пишу книгу, в которой питаюсь изложить все то, чего достигла дильнейская наука и техника. Это мой подарок людям Земли. Я полюбил их, Эроя.
— За что?
— За то, что они люди, за то, что они переделывают мир и самих себя. Недавно я шел по улице. Навстречу мне шла молодая мать, впереди нее катился самокат, автоматическая коляска с ребенком. Я попросил эту незнакомую мне женщину остановить коляску, сказав, что мне хочется полюбоваться на ребенка. Она исполнила мою просьбу. Я взял ребенка на руки. Это была прелестная девочка. Звали ее Леночка. Она еще не умела говорить. Только лепетала. Слушая ее лепет, я держал ее на руках. Она трогала своими ручонками мое лицо, теребила волосы; мне казалось, что я держу в руках все человечество. Ребенок смеялся… И вдруг внезапная боль пронзила меня. Мне казалось, что я расстаюсь с человечеством, покидаю Землю, с тем чтобы уже никогда на нее не вернуться. Ты понимаешь это чувство, Эроя?
— Понимаю, Ларвеф. Тебе не хочется отсюда улетать. Тебе здесь хорошо.
— Это не то слово. Дело не в том — хорошо мне здесь или плохо. Мне везде было хорошо. Но ты права: мне не хочется улетать отсюда. Я полюбил Землю, свист земных птиц, запах земных ветвей… Я смотрю на все, что меня окружает, и не могу насмотреться… Понимаешь ли ты это, Эроя?
Она промолчала. Комочек вещества, хранитель информации, она умела только вспоминать прошлое, те утраченные и чужие переживания, которые отразились в ее искусственном и искусном устройстве. И не следовало мне спрашивать ее о том, что она не знала и де могла знать.
17
Я потерял футляр. Как это могло случиться? Сам не знаю. Может быть, я оставил его на лесной поляне или на верхушке горы? Хватился я не сразу. Но когда до моего сознания дошел весь смысл того, что случилось, я впал в отчаяние. Теперь со мной не было Эрой, комочка вещества, включавшего в себя мир далекий и родной Разумеется, я никому не сказал о своей потере. Я еще надеюсь найти этот футляр. Ежедневно я ухожу на поиски. Тоненькая ниточка, которая соединяла меня с прошлым, могла оборваться… Но я должен найти футляр, даже если мне придется искать год.
Прошла неделя, и я нашел его. Футляр лежал в траве. Я раскрыл его, вынул комочек вещества. Он был тут, на моей ладони. Осторожно я положил его на камень, осмотрелся — нет ли кого поблизости, потом позвал:
— Эроя, ты слышишь меня?
Молчание.
— Эроя! — повторил я громче. — Ты слышишь меня?
Снова молчание.
«Неужели испортилось устройство? — подумал я. — Или, может, комочек вещества побывал в чужих, нескромных руках?» — Эроя! — крикнул я.
И вдруг я услышал, еще не веря себе и ничего не понимая:
— Это ты, Ларвеф? Здравствуй.
Комочек был рядом на камне, а голос доносился издалека, казалось с трудом преодолевая огромное пространство.
— Это ты, Ларвеф?
— Это я! Это я! — крикнул я, рванувшись к ней всем существом. — Это я!
И до меня донеслось издали еле слышное, как эхо:
— Это ты, Ларвеф? Где ты? Ты далеко от меня?
— Эроя!
— Ларвеф!
18
Я спешу закончить свой труд, свою книгу о Дильнее и дильнейцах для людей Земли. У меня есть основания торопиться. Я чувствую, что моя память слабеет с каждым днем, и я не решаюсь обратиться к земным врачам. Почему? Может быть, потому, что земная медицина отстала от нашей, и на много столетий? Нет, не только из-за этого. Как я могу показаться врачу? Уже первый внимательный осмотр подскажет медику, что его пациент — нечеловек. Как я смогу скрыть от специалиста те особенности моей морфологии и анатомии, которые не дает заметить одежда? Нет, я не могу показаться земным врачам. А память слабеет, гигантская нечеловеческая память, хранящая факты трехсотлетней давности.
Я пытаюсь изложить теорию Тинея и чувствую свое бессилие. Факты и логические доводы ускользают. Странно, я отчетливо, ясно помню все события своего детства и юности и ловлю себя на том, что не могу вспомнить, как и когда я попал на Землю. Случись это со мной месяц назад, я вынул бы из футляра комочек чудесного вещества, Эрою, и попросил бы ее напомнить мне все, что я вдруг забыл. Но с комочком вещества случилось нечто непонятное мне. Голос Эрой доносится издали, как эхо, как вздох, как призыв, теряющийся в безмерном пространстве. Эроя в состоянии только откликнуться, напомнить о себе, но не в силах ничего сказать.
Действительно, когда же я попал на Землю? Иногда мне кажется, что это произошло очень давно.
Я спешу записать все, что знаю и помню о Дильнее. Но времени у меня мало, обстоятельства торопят меня, и нужно рассказывать только самое главное.
Поставьте себя на мое место. Вообразите, что в вашем распоряжении считанные дни, а вам нужно рассказать самое главное о Земле тем, кто не имеет о ней никакого представления.
Самое главное, что жители Дильнеи, мои соотечественники и современники, находятся совсем в других отношениях с временем, чем земные люди. Известную французскую писательницу госпожу де Сталь, жившую в XIX веке, кто-то из ее знакомых спросил, как она относится к христианской идее бессмертия, то есть жизни на том свете? Госпожа де Сталь иронически улыбнулась и ответила: «Если бы мне дали гарантию, что и на том свете я останусь госпожой де Сталь со своими привычками и вкусами, со своими поместьями и славой, я, возможно, заинтересовалась бы этой странной идеей».
Но кто мог дать ей такую гарантию? Во всяком случае не те, кто ее окружал.
Что же хотела сказать госпожа де Сталь? А то, что индивидуальность и христианская идея бессмертия состоят в логическом противоречии, нельзя сохранить личные свойства, соединившись с бесконечностью.
Но сейчас речь идет не об иллюзорном христианском бессмертии, а о бессмертии реальном, которое наука подарила нам, жителям Дильнеи.
Казалось бы, я бессмертен или почти бессмертен. Старость не угрожает мне, как и всем моим соотечественникам. Но память? В состоянии ли она носить в себе тысячелетний опыт и не только исторический опыт поколений, но опыт индивидуальный, мой личный опыт, переживания моего «я»?
Я не смогу ответить на этот вопрос, особенно сейчас, когда память начинает изменять мне.
Я только что поймал себя на том, что — не могу вспомнить, как на родном моем языке, языке моей юности и детства звучит местоимение «ты»… Я помню, как звучат слова: «мы», «я», «вы», но слово «ты» не могу вспомнить. Я хожу из угла в угол и силюсь вспомнить. В памяти образовался провал.
Почему? Как могло это случиться? Мои тревожные размышления прерывает телефонный звонок. Я подхожу к телефону, снимаю трубку и говорю:
— Слушаю!
Ласковый женский голос спрашивает тихо:
— Это ты, Николай?
— Я…
— Говорит Вера. Что же ты не спускаешься вниз? И же тебя жду, мы условились. Спускайся, милый.
— Сейчас! Жди. Я приду.
Пока лифт несет меня вниз, я шепчу те слова, которые помню, словно опасаюсь, что завтра я их забуду.
Вот и зал встреч. В больших глазах Веры радость и благодарность — Ты еще здесь? — спрашивает она, словно не веря себе самой.
Мы усаживаемся в уголке.
— А помнишь, — спрашивает Вера, — как мы с тобой ходили на лыжах и попали в пургу?
— Нет, не помню. Напомни мне… — И она начинает рассказывать, как бы возвращая утраченное.
Я слушаю и думаю про себя с тревогой. Она может рассказать мне то, чего не было со мной, ведь она принимает меня за другого. Но кто мне напомнит о том, что действительно было, кто напомнит о Дильнее, о подлинных фактах и событиях, которые я начинаю забывать?
Кто?
19
Из дневника астробиолога и писателя-фантаста Тунявского
«Наконец-то разрешилась загадка, которая почти год мучила меня, мою логику и мое врожденное чувство здравого смысла.
Есть люди, которые считают, что писатель-фантаст, хозяин своего воображения, вовсе не обязан быть слугой здравого смысла, логики обыденной жизни. Сама специальность как бы дает ему право пренебречь и тем и Другим. Что касается меня, то я всегда был поклонником здравого смысла, покорным слугой логики. И поэтому меня много дней мучило состояние бессилия, неспособность разрешить задачу, выбраться из того лабиринта, в который я попал. Кто же этот Николай Ларионов, с таким упорством пытавшийся меня убедить, что он Ларвеф? Самозванец? Сумасшедший? Шутник?
Загадка мучила меня до вчерашнего дня, пока я раскрыл только что вышедший номер журнала «Наука и завтра». Там я увидел портрет Николая Ларионова и познакомился с более чем странной его биографией.
Да, он Николай Ларионов. Только Николай Ларионов. Но он не играл в космического странника Ларвефа, в какой-то мере он им был в течение года. В какой мере? На этот вопрос ответить трудно. В пространной статье, написанной специалистом для специалистов, рассказывалось об одном исключительно интересном, хотя на мой взгляд и спорном эксперименте. В статье называлось мое имя, имя автора повести «Уэра», в которой описывается несуществующая планета Дильнея и космический путешественник Ларвеф, разумеется, лицо вымышленное. Экспериментатор, он же автор статьи, совершил своего рода заимствование. Он взял некоторые события из моей научно-фантастической повести и поместил и в сознание человека по имени Николай Ларионов. Поместил? Нет, это не то слово. Он подменил одно сознание другим, убрал одно бытие и вложил в человека другое.
В клинику к известному кибернетику и нейрохирургу профессору Иванцеву, автору статьи, привезли больного, потерявшего память. Потерпевший работал в химической лаборатории и там, в результате несчастного случая произошло то, о чем я сейчас хочу рассказать самому себе. Тот участок мозга, который хранит прошлое, в результате этого несчастья стал чем-то вроде чистой страницы.
Смерть не угрожала Ларионову. Но можно ли назвать жизнью чисто растительное существование, лишенное прошлого, а значит ощущения собственной личности, своего «я»? Разумеется, нет. И вот автору статьи экспериментатору Иванцеву пришла мысль заполнит чистую страницу, дать возможность пострадавшему ощутить и осознать свое бытие. Не имея возможности восстановить утраченное прошлое, профессор Иванцев решил вложить в сознание Ларионова чужое бытие, бытие путешественника, прибывшего на Землю с чужой планеты.
Прочитав статью, я позвонил профессору Иванцеву. Может быть, следовало отложить этот звонок хотя бы на один час. Сильное волнение овладело мной и мешало не говорить с той безупречной ясностью, которую я ценю выше всего на свете.
— Писатель Тунявский? — переспросил он меня, словно не доверяя своему слуху. — Автор «Уэры»? Судя по голосу, вы недовольны тем, что ваша вымышленная и к тому же фантастическая повесть нашла свое продолжение в реальной жизни.
— А если бы вы были на моем месте, вы были бы довольны?
— Не стоит горячиться. Тем более на расстоянии. Если у вас есть время и желание, приезжайте ко мне.
Его лаборатория помещалась в том же новом и сверхсовременном здании, где и клиника. Слово «клиника» всегда возбуждало во мне ряд не слишком приятных ассоциаций, связанных с болезнями и унылым распорядком больничных палат. Это здание стояло в лесу, безупречно вписываясь в пейзаж, здание светлое и чуточку утопичное, синтез романтической мечты и деловой трезвости инженера.
Я подумал про себя, что всю эту красоту и изящество тяжелобольные вправе счесть излишней. Вряд ли легче расставаться с миром там, где мир пребывает в таком красивом обрамлении.
Иванцев… Это имя было окружено дымкой таинственности. В сущности, его можно было назвать почти магом, если за тем, что он делал, не стояла сама трезвость, смешанная с дерзостью — физиология с инженерной и технической мыслью. А он делал почти невозможное… Иванцев встретил меня просто и приветливо, словно мы были давно знакомы.
Не успели мы с ним уединиться и сесть, как его рассказ вырвал меня из повседневной действительности и погрузил в бытие, в жизнь и биографию человека, к чьей судьбе так странно примешался мой вымысел, став реальностью неожиданно для меня самого.
— Я врач и инженер, — начал свой рассказ Иванцев, — физиолог, нейрохирург и бионик. Я не писатель. И не только другие, но я сам не раз спрашивал себя, зачем я пошел на такой необычный эксперимент, позволительный скорее литератору, чем врачу? Но что бы стали делать вы на моем месте? В палате лежал человек, Николай Ларионов. Но что осталось от человека, которого звали Николай Ларионов? Имя, некоторые даты и факты, отраженные в документах бездумным языком канцелярии, и некоторые события, о которых могли рассказать его знакомые и друзья. Разве можно восстановить внутренний мир человека, его личность по фрагментарным воспоминаниям его современников, живую личность, а не схему? Передо мной лежал человек с сознанием новорожденного. Все, что в его памяти записала жизнь, было стерто до основания в результате несчастного случая, происшедшего в химической лаборатории, где работал пострадавший. Я был знаком с Ларионовым, не скажу, что близко. Мы встречались с ним время от времени, обычно в праздничные дни, за гостеприимным столом одной нашей общей знакомой. Мне Ларионов казался очень обыденным, вполне заурядным человеком до тех пор, пока мы однажды не разговорились. Меня поразило своей фантастичностью желание, высказанное Ларионовым в беседе со мной, биоником-экспериментатором и нейрохирургом. Он признался мне, что ему сильно хочется испытать чувства живого существа, прибывшего в наш мир с другой планеты. Он изложил свою мысль подробно и изящно, подведя под нее нечто вроде философской базы. Он напомнил мне о живописи старинного художника Брейгеля-старшего, по его мнению, видевшего людей и земной мир как бы со стороны глазами существа для Земли постороннего. Он развивал свою мысль и дальше, сославшись уже не на Брейгеля, а на самого Альберта Эйнштейна, считавшего, что объективное познание мира требует от познающего «надличного» отношения к действительности. Каждый раз, когда мы встречались, Ларионов возвращался к этой мысли с поражавшей меня настойчивостью. Однажды он спросил меня: «Могли бы вы создать искусственный внутренний мир человека»? Я ответил: «Разумеется, не полностью, только память». — «Но память — это история личности», — сказал он мне… «История личности это еще не сам человек, а только его половина», — возразил я. Он посмотрел на меня… Мне надолго запомнился его взгляд. Так смотрят люди, которыми овладела мысль более сильная, чем они сами… Когда случилось несчастье в химической лаборатории, я подумал, не нарочно ли это сделал с собой Ларионов? Нет, тщательное обследование специальной комиссии Академии наук показало, что катастрофа была случайной… Остальное вам известно из моей статьи. Вас, кажется, удивляет то обстоятельство, что я, воспользовавшись замыслом вашей повести «Уэра», не известил об этом вас, навязав свое соавторство. Но ведь это соавторство особого рода… К тому не эксперимент был окружен тайной. Никто из знаковых и близких Ларионова пока не должен был знать о том, о чем знали мы, ученые. В разговоре со мной по телефону вы сделали замечание об этической стороне нашего эксперимента. Нет, я и мои помощники убеждены, что мы не совершили ничего такого, что бы повредило достоинству человека, нравственной стороне этой сложной проблемы. Перед нами был как бы чистый лист бумаги, и мы записали на нем то, чего так сильно хотел сам пострадавший. Вернуть ему его личность мы были не в силах. Сделать его копией, двойником, духовным дублером кого-либо из живших его современников мы считали не этичным…
— Почему? — перебил я Иванцева.
Профессор усмехнулся и посмотрел на меня так, с говно рядом со мной сидел мой двойник, моя духовная копия.
— Потому что индивидуум неповторим. Повторение, буквальное сходство с кем-то существующим в одном времени и пространстве противоречит сущности человека…. Другое дело моделирование внутреннего мира существа с другой планеты. Встреча исключена…, Пока наши миры еще не соприкасаются. Наш выбор пал на Ларвефа, героя вашей повести. Почему? Прежде всего потому, что это образ сильной и благородной личности, с богатым духовным миром. Не скажу, что вся ваша повесть, но именно этот герой заинтересовал меня. Я постарался дополнить своим собственным воображением ваше. Ведь когда вы писали, вы не думали, что ваш воображаемый герой сольется с живым и конкретным человеком. Как ни удивительно, но это произошло, правда ненадолго. Как вам известно из моей статьи, Ларвеф-Ларионов под влиянием сильных переживаний снова стал терять память. Его снова положили в экспериментальное отделение Института мозга, чтобы вернуть ему сознание — на этот раз уже не путешественника, прилетевшего с Дильнеи, в обычного земного человека. Тут уже понадобятся не ваши услуги фантаста, а помощь писателя-реалиста и психолога.
— Хорошо, — перебил я рассказчика. — Все понятно. Но откуда же взялась Эроя, комочек чудесного вещества?
— Ее создали мои помощники, молодые талантливые кибернетики. Ларионов-Ларвеф нуждался в опоре для своих чувств. Комочек вещества и связывал его с далекой Дильнеей.
— А что с Ларионовым сейчас? Он выздоровеет? — спросил я.
— Да, — ответил Иванцев. — Опыт удался, и Николай Ларионов на днях выйдет из клиники-лаборатории в жизнь.

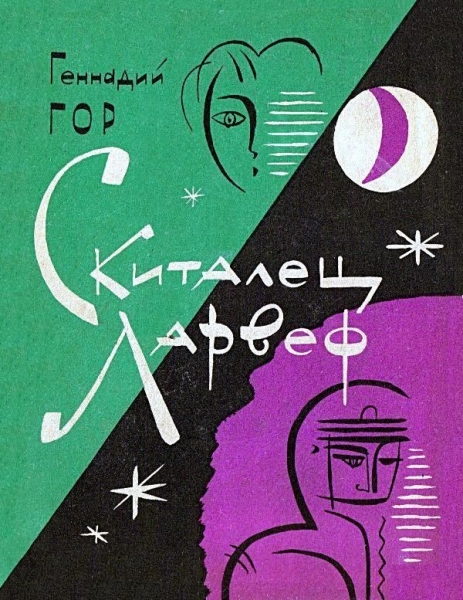

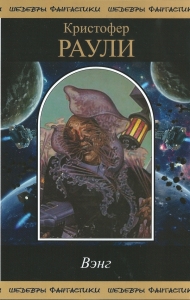

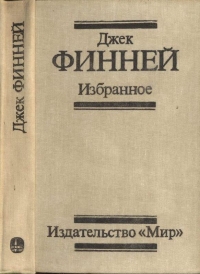

Комментарии к книге «Скиталец Ларвеф. Повести», Геннадий Самойлович Гор
Всего 0 комментариев