Про смущение и обольщение
Рос я в сибирской деревне.
И вот когда учился в пятом классе, и когда в первый раз влюбился, и когда стал бренчать на гитаре (подсмотрел у ссыльных умельцев), и когда не мог вспомнить слов какой-то песни (привязался мотив), то вдруг решил сочинить слова сам. Разумеется, получилось — «бровь — вновь — кровь — любовь». Произошло обольщение.
С этого началось.
Сразу же и проза — тут больше других сыграл Виталий Бианки: мне все мерещился мальчик, атакованный волками и принужденный отсиживаться на березе, пока его не спасли охотники (иногда, правда, мнится, что охотники задерживаются, и мальчик до сих пор не знает своей участи). По этой линии, стало быть, тоже началось.
Затем я открывал новые острова, усмирял бунт на корабле, находил клады, был Робинзоном, Томом Сойером, Печориным, революционным матросом…
При рождении меня назвали Владимиром — «как Ленина», подчеркивал позднее родитель. Но поскольку дело происходило в немецкой Поволжской Республике, где мне было предопределено родиться, то соответствующий буквоед-бюрократ (они ведь всюду — тут как тут) выписал метрику с переводом моего имени на немецкий (для объективности и точности, надо полагать). Так получился Вольдемар.
Потом были мехфак сельскохозяйственного института, далее — литературный институт, первая книжечка, вторая, третья, другие… Проза, таким образом, решительно воздоминировала. И фантастический элемент стал ее долженствующим свойством… Всю жизнь мечтаю написать пьесу — желательно романтика-фантастическую…
Что с годами угасает пыл — заблуждение. Однако безоглядная решимость и неуемность все увереннее укрощаются осторожностью и ответственностью. И потому с некоторых пор, по слову поэта (не помню, какой поэт и так ли в точности он сказал), «смущенье душу гложет»: обоснованно ли, верно ли все тогда, в деревенской школе, началось? И не из-за того неудовлетворенность и неуверенность, что гнетут великие авторитеты, что воспитан посредством идеологических кирпичей соцкабалистического вриализма и понятий двухмерности сущего, а из-за того, что все сильней остерегает Слово.
Ведь всякому знанию и всякому умению противостоит иногда почти уравновешивающее их сомнение. Да, мудрецы предупреждают: не обольстись узнанным и освоенным, усомнись — усомнись в убеждении, усомнись в намерении, усомнись в выборе… То есть, следовательно, сомнение — посох добродетели. А до каких, позвольте, пределов оно добродетельно? Кто я, обольщенный сомнением?
И потому — тем не менее — вперед, с Богом.
А бог ступившего на скользкую доску — авось.
Владимир Бааль
03.10.1989
Эксперимент
Рассказ
I
Оперу Филипп обнаружил, когда на своем «Матлоте» готовился совершить вынужденную посадку. Это произошло у звезды ФК 12-С 4874 в созвездии Рака, а точнее — в звездном скоплении Ясли; тут-то она и объявилась, эта планетенка, параметрами и характеристиками удивительно напоминавшая Землю.
Задачей «бродяг» (так в Космофлоте называли пилотов-разведчиков трансгруппы) была прокладка новых астрокоридоров и поиск космических тел, пригодных для устройства на них ремонтно-складских баз и промежуточных станций. Новый коридор испытывался, осваивался, и тогда по трассе направлялись самоходные лихтеры, тяжелые транспорты, контейнеровозы; на неведомых и никому раньше не нужных планетах и астероидах поднимались корпуса ангаров, крекинг-котлов, пакгаузов, сервис-станций, отелей; и «бродягам» здесь уже нечего было делать — их ждал новый план-маршрут в безбрежном океане космоса.
«Бродяги», как правило, летали в одиночку — роботы заменяли дублера, фельдшера, подсобников, обслугу и даже собеседника. Астролеты «бродяг» были машинами легкими и мобильными, оснащены они были первоклассно, так что формально вынужденная посадка исключалась — любые неполадки устранялись немедленно, в процессе полета. Однако случалось — хоть и крайне редко — непредвиденное. И тогда пилот нарушал программу, брал управление в свои руки и делал остановку на первой подвернувшейся удобной тверди. Включался режим покоя, роботы принимались за дело, непредвиденное расшифровывалось, программа корректировалась и — следовал старт. Все связанное с вынужденной посадкой, естественно, тщательнейшим образом фиксировалось — это было функцией робота-уникума, который находился в кабине пилота, — и потом, после рейса, анализировалось на Земле, в лабораториях Главного Управления.
Филипп был опытным разведчиком, за его плечами остался не один десяток парсеков, среди «бродяг» он считался асом. И потому голубое свечение на внутриконтрольном экране пульта немало удивило его: это был абсурд, голубого не должно было быть, оно не означало ни сбоя в работе какого-либо узла или сектора корабля, ни поломки, ни аварийного состояния — оно означало непонятное: в спектре самоконтроля голубой цвет отсутствовал. Поначалу Филипп даже заподозрил у себя дальтонизм, однако и робот-дублер, и робот-уникум подтвердили голубой цвет. И тогда стало понятно, что произошло непредвиденное, и, значит, требуется немедленная посадка.
Перейдя, для подстраховки, на аварийный режим, Филипп пошел на Ясли. Ближайшей была звезда-карлик, значившаяся в последнем Фундаментальном Каталоге как ФК 12-С 4874, и Филипп стал искать планету и вскоре обнаружил Оперу. То есть он, конечно, не знал названия планеты — его никто не знал, она не была учтена ни одним справочником, потому что в это захолустье Рака никто не наведывался — делать тут было нечего, космические трассы проходили в стороне.
На планете была атмосфера, вода и растительность, наподобие земных; она казалась обитаемой. У Филиппа это не вызвало никаких эмоций — встретить на межзвездных путях земновидный космический материк давным-давно считалось делом обычным для «бродяг»; обитатели, как правило, оказывались древними выходцами с Земли, некогда обжившими планету, позабывшими или почти позабывшими о своей прародине и уклонившимися в своем развитии в ту или другую — от земной — сторону. Филиппа волновало, беспокоило, не отпускало только одно: во все время блужданий по закоулкам Яслей и около ФК 12-С 4874 до самой посадки на Оперу внутриконтрольный экран неизменно светился голубым светом; но лишь стоило лапам «Матлота» коснуться поверхности планеты, голубизна пропала — ее заменило ровное розовое свечение, означавшее полную исправность всех систем астролета, и роботы удостоверили это.
На планете стоял полдень, было безоблачно и очень жарко. Задав своим электронным помощникам программу суперобследования корабля, Филипп пешком направился к ближайшему лесу. Захотелось именно пройтись, размяться, а кроме того потянуло вдруг любопытство: при посадке он заметил за этим лесом несколько небольших, кубической формы, белых зданий; до них было не более километра, так что распаковывать велоракету не имело смысла. И к тому же он с самого начала ощущал, что его влечет как раз в этом направлении, как будто там, у белых кубов, разрешатся все недоумения и загадки.
Кто в этих зданиях? Опять какие-нибудь колонисты? Или вдруг аборигены — новый, еще неизвестный человеку тип гуманоидов? Это было бы занятно, черт побери! Новый тип! В Управлении бы взбодрились, иноконтактчики зашевелились бы опять, у них бы появилась работенка… Но почему все-таки так тянет туда?.. Он шел, и под ногами лоснилась невысокая мягкая трава.
От крайнего здания-куба, высота которого была не более трех человеческих ростов, отделилась женщина и пошла навстречу Филиппу. Он остановился, нащупал в кармане кнопку защитного поля, приготовил лазерный пистолет.
На женщине было сиреневое покрывало; лицо и обнаженные руки ее отливали светло-голубым цветом, фиолетовые волосы волочились за ней как шлейф. Она улыбалась; она была невообразимо красивой. Руки Филиппа сами собой выскользнули из карманов и повисли вдоль тела. И дальше все было, как в тумане…
Он о чем-то спросил ее. Она раскрыла губы, и Филипп услышал чистый и мелодичный звук, напоминающий звук электрооргана. Она протянула к нему руки, и опять воздух наполнился музыкой. «Они разговаривают мелодиями!» — вдруг догадался Филипп, и мысль немедленно достать транскоммуникатор отпала: земные транскоммуникаторы не были в состоянии перевести на человеческий язык музыкальные звуки.
Женщина перестала улыбаться, опустила глаза, лицо ее сделалось сосредоточенным. Филипп ждал; ему становилось невыносимо жарко, и он расстегнул молнии комбинезона на груди и рукавах. Вскинув голову, женщина рассмеялась:
— Я нашла, — произнесла она на чистейшем земном языке.
— Что вы нашли? — спросил Филипп и стянул шлемофон: возможные сигналы робота-дублера утратили важность и смысл; Филипп обливался потом и стал стягивать комбинезон. — Что вы такого нашли? На вашей планете чертовски жарко…
— Я нашла, как общаться с тобой, — сказала женщина. — Тебя зовут Филипп, правильно?
Он не удивился; он ощутил, как ослабевает его воля, чувство самосохранения, как всем его существом овладевает могучая и непреодолимая тяга к этой женщине.
Сбросив комбинезон, он сел на него и обхватил голову руками.
— Как ваше имя?
Она ответила негромко и отчетливо — это были два звука одинаковой продолжительности с мягким перепадом от одного к другому: это были «до» и «ми».
— До-ми, — сказал он. — Как странно. И удивительно. Доми?
— Доми! — Она опять засмеялась, подошла и села с ним рядом.
— Со мной происходит непредвиденное, — сказал он.
— Это сделала я, — ответила она, внимательно и четко выговаривая слова. — Не беспокойся. Мой муж недавно увеличил плечо викогитации. Да, викогитация, правильно. Муж изобрел новый метод. Плечо удлинилось во много раз. Он еще не доложил Совету, еще испытывает. А я знаю и решила попробовать. И вот — ты здесь. — Она смотрела открыто и весело.
— У меня там машина, — с трудом выговорил он.
— «Матлот»?
— Вы телепатка?
— Да, правильно. Это так у вас называется. Телепатия, телекинез, викогитация или транскогитация. Но этих последних слов вы еще не придумали. Придумаете позже, наверно. Да, у нас все телепаты, телекинетики, викогитаторы и еще многое другое, что вы тоже когда-нибудь, может быть, придумаете.
— Вы придумали?.. Или открыли?
— Не знаю, не все ли это равно? — Она наклонилась к нему, взгляд расширился. — Я люблю тебя.
— Непредвиденное, — повторил он, пытаясь собрать волю. — А впрочем, что тут непредвиденного? — продолжал он, словно обращаясь к самому себе. — У нас ведь тоже животные, например, разговаривают звуками.
— Не беспокойся, — мягко произнесла она, все так же глядя на него широко раскрытыми глазами.
— Жара! — Он терял последнюю власть над собой. — Сделай же что-нибудь!
И в тот же миг палящий свет ФК 12-С 4874 заслонили кроны деревьев, над головой повисли ветки незнакомых пахучих кустов, и Филипп подумал, что именно такими бывают запахи, которые в старых книжках называются первозданными.
— Хорошо?
— Да, — отозвался он. — Удивительно. Музыкальная планета. Опера. — И ему подумалось, что другого названия у этой планеты и не может быть.
— Правильно, Опера! — Звонкий смех ее трелями разнесся вокруг. — Я твоя, — сказала она и прижалась щекой к его ладони, и ладонь стала голубеть.
— Твой муж… — Голос отказывался ему повиноваться. — Ты сказала, ты жена…
— Да. — Она кивнула. — Ему не будет больно.
— И я женат, — прошептал он. — Там, на моей планете… Жена, двое детей. И им будет больно. Ты понимаешь, что такое дети?
— Конечно. Но я научу тебя, и никому и никогда не будет больно.
— И я люблю их! — крикнул он. — И люблю ее!
— Конечно! — в тон ему откликнулась она. — Но сейчас ты любишь меня!
— Да, — ответил он…
Из-за леса плыли тревожные, методичные гудки: там, возле «Матлота» надрывался робот-дублер, там безостановочно, на грани возможностей трудился фиксатор и регистратор — уникум, которому в достаточной степени было доступно и то, что происходит за пределами корабля. Но Филиппа теперь это не беспокоило: он ничего не слышал, никуда не спешил.
II
Дорога до дома казалась бесконечно унылой и долгой. Прибыв, отчитавшись и сдав материалы на дешифровку, Филипп подал рапорт об отпуске, который был ему тут же предоставлен. Два дня ушли на медиков, на собратьев-«бродяг», посиделки в кафе, разговоры, мелкие незначительные делишки, после чего Филипп, забрав семью, отправился на давно облюбованную им Зеленую Гриву — тихий холмистый край. Там было солнечно, все благоухало и цвело, озеро кишело рыбой, леса — грибами и ягодами. Здесь при желании можно было сойтись с симпатичными людьми, но можно было и уединиться в тихом лесном домишке. И Филипп предпочел именно это уединение, хотя жена и дети охотнее поехали бы к морю, на какой-нибудь модный курорт.
— Мы дикари! — угрюмо сказал он разочарованному семейству. — Мы позабыли, какими бывают первозданные запахи, как скрипит сосна, какая мелодия у ручья.
Впрочем, он не настаивал на совместном времяпрепровождении и, отправляясь на рыбалку, спокойно соглашался отпускать жену с детьми к морю: мальчишке нравилось забавляться с волнами, девочке — играть в классики в компании таких же девочек, а жене — общество бывших однокурсниц. Они отправлялись на велоракете и вечером возвращались, а он целыми днями торчал на озере, и мысли его чаще всего были далеко от беспокойного поплавка и соблазнительных всплесков в тростниках.
Через неделю жена ночью сказала ему:
— Ты изменился, Фил. И ребята заметили. Все считают, что в последнем полете что-то произошло с тобой.
— Что могло произойти? — ответил он. — Ты отлично знаешь, что не может произойти ничего такого, что не стало бы известным. Уникум свое дело знает, Кора, его не проведешь.
— Он, конечно, свое дело знает, — вздохнула она, — но он ведь фиксирует и регистрирует только внешнее.
— Теперешние, к твоему сведению, фиксируют и эмоции. Если они достаточно ощутимо проявляются.
— Да, Виктор говорил.
— Виктор? Ты спрашиваешь у него обо мне?!
— Извини, да. В конце концов, он не только твой шеф, но еще и мой брат, так что в смысле этики…
— Ну, и что он тебе сказал?
— Он сказал, что дешифровка фиксаций уникума показала какое-то голубое свечение. Потом оно исчезло. И все было нормально. И только уже на самой границе Системы ты испытал очень сильное волнение… которое с приближением к Земле стало убывать, — нерешительно закончила Кора.
— Ну и что? — нервно произнес Филипп. — Я давно не был дома. И потом, когда пересекаешь границу Системы… Разве это не естественно?
— Раньше этого не было. — Она опять вздохнула.
— Я устал! — проговорил он. — Я правда устал, Кора. Потому, собственно говоря, и отпуск…
— Виктор сказал еще, что у них впечатление, что значительная часть информации уникума стерта…
— Вот даже как! — сдерживаясь, чтобы не вскипеть, проговорил он. — Стерта! И кем же? И каким образом?! — И уже почти яростно добавил: — А братцу твоему не следовало бы выбалтывать служебные тайны!
— Разве это тайна?
— Дела специалистов не должны становиться достоянием неспециалистов! Есть, между прочим, такой пункт Устава. Во избежание кривотолков, некомпетентного трезвона! И Виктор не имеет права пренебрегать этим. И ты тоже! Я ведь не берусь судить о твоем художественном конструировании. «Стерта»! — добавил он, остывая. — У них, видите ли, «создалось впечатление»… Разве ты не знаешь, что стереть записи уникума невозможно? А вмешиваться в его работу я не имею права, то есть не имею права отключить его хотя бы на секунду — за это я был бы немедленно уволен. Или это для тебя новость?
— Прости, — сказала она, — что затеяла этот разговор. Я думала, тебе плохо, хотела помочь… Он заставил себя обнять ее.
— Все устроится, Кора. Отдохну, и все устроится и объяснится. Я люблю тебя. — Он и в самом деле почувствовал, что любит жену, и обнял крепче, потому что именно и захотелось крепче обнять.
— А что все-таки значит голубое свечение, Фил? — прижавшись к мужу, спросила она. Он рассмеялся.
— Моя вечная и неисправимая женщина! Будем надеяться, что наши мудрецы там разберутся, что оно значит…
Под утро, когда только начало светать, он внезапно проснулся, как от крика, и резко сел на кровати. Кора спала.
Он встал и оделся. Жена не проснулась, когда он прикоснулся губами к ее виску; не проснулись и дети… На столе он оставил записку: «Я должен выяснить очень важную штуку. Не волнуйся, жди».
Велоракету он выволок на берег озера и только там запустил ее…
Дверь городской квартиры, как всегда, открыл робот-универсус Зенон, высокий, худой, смуглолицый кибер, с искривленной шеей; он поздоровался и сказал, что хозяином в его отсутствие никто не интересовался.
— Скоро заинтересуются! — лихорадочно пробормотал Филипп. — Очень скоро и очень заинтересуются.
— Все может быть, — философски заметил Зенон. — А почему ты так рано?
— Значит, надо. И вообще, старина, любопытство, как говаривали в старину, не порок, конечно… — Филипп спешно переодевался.
— Они говорили чепуху, Фил. Любопытство всегда было их главным движителем…
— Собирайся и ты! — оборвал робота Филипп. — Подзаправь-ся как следует. Нам предстоит основательно прошвырнуться.
— Ты прервал отпуск?
— Нет, я решил продолжить его по-другому.
— Так, — сказал Зенон. — И куда?
— После узнаешь. Зенон подумал.
— А Кора? Дети?
— Им там хорошо. А потом мы вернемся к ним.
— Понятно, — отозвался Зенон…
Виктор удивился, увидев на телеэкране воспаленные глаза шурина.
— Что случилось?
Филипп постарался объяснить: тяга к перемещениям, привычное, вторая натура, надоело торчать на озере, а на курортах — тем более.
— Или ты не знаешь, что такое «бродяга»?
— Можно подумать, что рейсы прямо-таки освежают и молодят тебя.
— Не кичись, шеф. Ты всего на четыре года моложе, а что касается так называемых посеребренных висков…
— Медики, Фил, зарегистрировали переутомление.
— На то они и медики. Надеюсь, ты понимаешь разницу между полетом по заданию и полетом куда глаза глядят?
— А Кора? Дети? — тоном Зенона спросил Виктор.
— Она в курсе. Прошвырнусь и — назад. Доотдыхаем вместе. Между нами, Виктор, у меня есть одна идейка, и мне надо ее хорошенько обмозговать. А «бродягам» лучше всего думается в дороге, ты знаешь.
— Ладно, — сказал шурин, помолчав. — Допустим, я не возражаю. Можешь обращаться к главному. «Матлот» твой в порядке.
— Спасибо! — улыбнулся Филипп. — Заодно и высплюсь. Спасибо, брат. — Братом он называл Виктора в редкие минуты, когда из того надо было что-нибудь выбить: шефу это льстило.
— Советую взять с собой Зенона. Нянька тебе теперь не помешает.
— Спасибо!..
Выйдя на орбиту, Филипп лег в дрейф в ожидании разрешения на отрыв. Он нервничал: в любую минуту может проснуться Кора, увидит записку, почует неладное, позвонит Виктору, начнется тарарам… И сразу распружинился, услышав скрипучий голос и увидев на экране сморщенную и, как всегда, мрачную физиономию диспетчера.
— Готов?
— Готов! — бодро ответил Филипп.
— Ну тогда валяй. На всякий случай зашпились. — Такого напоминания требовала инструкция. — Эй, куда лезете! — вдруг заорал он в сторону. — Арест наложу, к свиньям собачьим, тогда попрыгаете, детсад чертов. Чтоб ни с места!.. А вот так — сидите и ждите!
— Кого это ты? — нарочито лениво поинтересовался Филипп-11.
— Да с учебки эти, на блюдечках своих, соплячье паршивое. Долбанул бы кто разок… — Он сыпнул еще несколько ругательств, еще больше сморщился… — Куда двигаешь-то?
— Пока не знаю!
— Все темнишь.
— Выскочу за Систему — там посмотрим.
— Между прочим, тут одна баба своего хлыща ищет. Вроде, говорят, сбежал прямо из постели. Толком сказать не могу, что и как — я ведь так, краем уха. Как тебе моя информация, Фил?
— Принято!
— Тогда отваливай. А то застопорят. Я ничего не видел, ничего не знаю.
— Есть!
III
Была у асов — «бродяг» такая привилегия: им разрешалось на своих астролетах совершать так называемые «разгрузочные» полеты — полеты без задания, в направлении, выбранном самим пилотом. И «бродяги» нередко пользовались ими, и это действительно давало положительные результаты: медики подтверждали, что утомленный возвращался после «разгрузочного» отдохнувшим, исчезали депрессия или напряженность, улучшались ослабевшая память, притупившееся зрение — словом, в иных случаях эффект оказывался поистине санаторно-курортным, и стали даже поговаривать, что со временем «разгрузочные» станут специально прописывать. Поэтому не было ни для кого ничего удивительного в том, что Филиппу вздумалось продолжить отпуск в космосе — именно Филиппу, прожженному «бродяге»; и поэтому же заместитель начальника группы Виктор отнесся к решению своего подчиненного и родственника сравнительно спокойно, тем более что и разговоры о «голубом свечении» и «стертости» фиксаций уникума как-то притихли; волновали Виктора только два момента: некоторая вздернутость зятя да слишком уж короткий срок его пребывания у озера — у его любимого озера на Зеленой Гриве. Но все это можно было списать за счет сугубо семейных недоразумений, которые, конечно же, потом, утрясутся, и все пойдет по-прежнему просто и хорошо.
Филиппу было сорок три года; он был высоким и крепко сложенным; в усах и бородке начинала, правда, поблескивать седина, но была еще легкой, словно прячущейся, никакого старения Филипп не ощущал, был видным, сильным, здоровым человеком. Он был решительным и всегда знал, чего хотел, а теперь знал это с предельной отчетливостью.
Руки его лежали на пульте привычно и уверенно, откинутая назад голова была неподвижной, взгляд скользил по шкалам спокойно и невозмутимо. От лихорадочности и напряжения во время сборов и подготовки не осталось и следа. Волнения были позади, цель — ясной. Скоро ему предстоит нырок из Системы, но это за многие годы полетов настолько отработано, что здесь не о чем тревожиться: можно уверенно передать дело дублеру и заваливаться спать, что он и сделает, как только «Матлот» наберет необходимую скорость. И поэтому он думал теперь не о нырке, а о том, что сегодня утром разбудило его (какой «окрик»?), и еще о том, что было бы неплохо, если бы они там, на Земле, связались с ним уже после того, как он отключится: тогда с Корой разговаривал бы дублер, а как он разговаривает — известно. А после нырка его уже никто не потревожит: связи с Землей за пределами Системы нет, останется лишь один наблюдатель — пунктуально, с въедливой точностью все фиксирующий и регистрирующий уникум. Но и он ему на этот раз не помеха: пускай себе фиксирует, потом у них там опять «создастся впечатление о стертости»…
Да, Филипп знал, чего хотел, и стало быть, с женой сейчас говорить не о чем, она не поймет его, он ничего не сможет объяснить ей; он объяснит потом, и не только ей — он всем объяснит всё.
Вот она и скорость!
— В режиме? — спросил он у дублера.
— В режиме, командир, — ответил робот.
— Передайте астрограмму: «Иду в режиме. Все в порядке. Привет».
— Есть!
— И берите на себя управление и все прочее. Я пошел спать. Жене, если выйдет на связь, скажите: уснул, норма, решение о направлении полета примет за пределами Системы.
— Принято.
Филипп встал с кресла, потянулся. Дублер, передав астрограмму, занял свое место за пультом.
— Вы не догадываетесь, куда мы направляемся?
— Догадываюсь, — не оборачиваясь, ответил дублер.
— Нырок проведете сами, меня не будить. Ну, а дальше — известно. Вопросы есть?
— Нет, командир.
Этот дублер был неплохим роботом, на него можно было положиться. Его дали Филиппу три года назад, заменив старую, ленивую развалину, у которой уже намечались провалы в памяти. А еще раньше, когда Филипп летал на «Суслике»— неповоротливом, хотя и выносливом корабле старой конструкции, дублером у него был Зенон, на редкость знающий, покладистый и спокойный специалист, по решению Коллегии Экспертов переоборудованный почему-то в робота-универсуса (робот высшей категории), проторчавший затем несколько лет в какой-то лаборатории, и наконец, по причине, как объяснили, морального износа переведенный в роботы-няньки к Филиппу, чему тот обрадовался: они ведь когда-то были друзьями.
Теперешний дублер (Филипп не захотел давать ему человеческого имени, чтобы не обидеть своего няньку) знаниями, похоже, превосходил Зенона, умел принимать серьезные, даже рискованные решения, однако покладистым его назвать было нельзя. За три года совместных полетов Филипп так и не перешел с ним на дружескую ногу. Да, он был исполнительным и надежным помощником, жаловаться на него не приходилось, но подчеркнутая корректность его, а порой сухость и педантичность мешали сближению. Во время контрольного осмотра весной зубоскалы из экспериментального цеха вмонтировали ему дополнительный режим «моветон», для чего продержали три смены в диспетчерской. И таким образом дублер Филиппа стал способным работать в двух автономных режимах: «бонтон» и «моветон». Первый режим, как и у других дублеров, подразумевал деликатность, вежливость, непременное обращение на «вы», второй — обратное: крикливость, сквернословие, грубость, похабные анекдоты и хамское тыканье со всякими оскорбительными добавлениями. «Чтобы нашему асу не скучно было прокладывать новую трассу», — острили зубоскалы.
К «моветону» Филипп не сразу привык; его коробили развязный слог ерника, ругательства и скабрезности; он подумывал даже уже об изъятии второго режима. Однако со временем заметил, что вежливо-холодный, пуританский тон помощника скоро начинает претить ему, раздражает, отталкивает, а на такой основе дружеского контакта ждать, конечно, нечего. Дело доходило до того, что выслушав очередной учтиво-уставной ответ своего напарника, Филипп в сердцах переключал его на второй режим и, слушая брань и похабщину, словно отдыхал душой. Очевидно, подумал он, есть смысл в таких переменах, не зря постарались ребятки из экспериментального, не нули в психологии: ведь тут своего рода профилактика. И он оставил все, как есть, и так и стал называть про себя дублера в зависимости от режима: то Бонтоном, то Моветоном, хотя на второй и переходил редко.
— Желаю вам нормально нырнуть, — сказал он роботу. Тот слегка повернул голову, наклонил ее:
— Благодарю, командир.
— Привет!
— Привет.
И Филипп двинулся в салон. Проходя мимо уникума, он щелкнул его по пластиковому уху.
— Ну что, почтенный, записал мои мысли?
— Сильных эмоций не было, — отозвался тот.
— Не было, значит?
— Нет.
— То-то! Сукин ты сын, шпик, зануда недоношенная. Пиши-пиши, фиксируй, регистрируй, протоколируй — посмотрим, что у тебя получится, что ты им донесешь, если вернешься.
Уникум промолчал, но на слова Филиппа прореагировал дублер — он повернулся вместе с креслом и спросил:
— Мы не вернемся, командир?
— Как это не вернемся! Вернулись раз, вернемся и в другой. Иначе быть не может. Просто я хотел попугать нашего коллегу, пусть попереваривает информацию. А то уж очень ему скучно без дела.
— Он не без дела, командир, — сказал Бонтон. — Вы это сами отлично понимаете.
— Ах, ладно! У нас ведь «разгрузочный», не так ли? Можно и поразвлекаться. Привет, дружище, не беспокойтесь, все будет хорошо!
— Привет, — отозвался дублер и повернулся к пульту.
IV
Зенон сидел у иллюминатора и, заглядывая в него, говорил:
— Вон справа — Лев. А еще чуть правее — Дева. Помнишь, когда мы с тобой…
— Ты становишься сентиментальным, старина, — добродушно прервал его Филипп и стал переодеваться. — Осторожнее! Сначала сентиментальность, потом впадание в детство, а потом… Потом, сам знаешь, что бывает.
— У тебя сегодня легкое настроение, — сказал Зенон, и глаза его мигнули.
— Что правда, то правда — легкое. Хотел бы я, чтобы оно оставалось таким до конца. Но прежде всего я хочу есть. Сооруди там что-нибудь, пока я переоденусь.
— Пить будешь?
— Как всегда: бокал легкого вина. Моего! Легкое вино приличествует легкому настроению. Ты еще не забыл, что я пью в дороге? И что ем?
— Не забыл.
— Отлично.
Зенон удалился. Филипп снял комбинезон, набросил халат, пошел в ванную, вернулся и сел за стол. Да, настроение действительно легкое. И он выпьет два бокала, так и быть. Потому что необыкновенно легкое настроение, потому что «разгрузочный», потому что он привезет на Землю из этого полета то, чего не привозил никто и никогда.
— Два бокала, Зенон! — крикнул он через плечо. — Не один, а два! Я буду долго спать! Я хочу долго спать!
Зенон внес завтрак. Вино в бокале золотисто искрилось. Филипп улыбался, потягивая его.
— Извини, старина, но, честное слово, мне жаль, что ты не можешь отведать этой прелести. Какое непростительное упущение в вашем устройстве! Сейчас бы мы чокнулись с тобой и вместе насладились.
— Я думаю, сделать робота-пьяницу — не такая уж непосильная задача.
— Не знаю. Но это был бы истинно человеческий акт.
— Конечно, — сказал Зенон, — не мое дело, может быть, но все это, Фил, истерия.
— Ничего страшного. — Филипп смотрел на пузырьки, поднимающиеся со дна бокала. — Ничего, старина, страшного. Высплюсь, и все придет в норму.
— Ты думаешь, этот твой Бонтон нырнет нормально?
— Проверено.
— Конечно, он свое дело знает.
— Но?
— Но он эгоистичен, замкнут, как за стеной. Это новое поколение… Они слишком много о себе воображают.
— Пусть воображают. Мне важно, что ему можно доверять.
— Дело он знает, — повторил Зенон и уселся возле иллюминатора. — И все же с такими нервами, Фил, с таким дублером — и в такой полет…
— Какой полет?
— По-моему, ты держишь на Рака. По только что проложенному тобой коридору. Я ошибаюсь?
— Уж не научился ли ты читать мои мысли, старина, как этот наш любезный уникум?
— Ты недооцениваешь его работу, Фил. Она очень важна.
— Как бы ты себя чувствовал, старина, если бы знал, что за тобой постоянно, неусыпно шпионят?
— Добросовестная, детальная фиксация обстановки, состояния пилота и корабля — по-твоему, это не имеет смысла?
— Но он ведь дает ложную информацию обо мне! Я ведь не в состоянии себя свободно проявлять, когда знаю, что он все видит!
— Пойми, что он просто датчик, и привыкни, как ты привык к датчику. Ведь ты привык?
— Ну да! Ты — универсус, тебе виднее.
— Я был универсусом, а теперь я нянька. — Зенону, кажется, хотелось сменить тему разговора.
— Ах, старина-старина, если бы ты только мог понять, что делается вот тут… — Филипп приложил руку к груди. — Вот в Центре, наконец, пришли к единому мнению, что «разгрузочные» полезны. Полезно, когда «бродяга» предоставлен самому себе и волен болтаться, где ему вздумается. Разгрузка, исцеление. Но спецслужба, — без ее визы, сам знаешь, ничего не бывает, — так вот она согласна завизировать это уложение лишь в том случае, если и во время «разгрузочных» на борту будет торчать уникум. Мало им рабочих рейсов, что ли?
— Их можно понять, Фил. Рабочий рейс — одна психологическая обстановка, «разгрузочный» — другая. Важно всё.
— Но он мне действует на нервы, Зенон! Какая же это разгрузка, если за тобой постоянный, мелочный присмотр? Умом, конечно, можно понять, но вот этим-то, этим, — Филипп опять похлопал себя по груди, — этим никак не воспринимается. Возмущается это! Что делать?
— Знаешь, Фил, — в голосе Зенона прорезалась хрипотца, — до сих пор я так и не научился понимать двояко. Мозг и душа. Почему они у вас постоянно противоречат друг другу? — Ему все-таки удалось переключить разговор.
— Мы с тобой давно не разговаривали, Зенон, — мягко проговорил Филипп. — Ничего, теперь наверстаем. Так? А что касается мозга и души… Ты ведь и был так задуман, старина. Уж прости! Тебе сделали мозг, а о душе не позаботились. Душу с самого своего начала монополизировал человек и никогда и никому ее не уступит. Так ему, по крайней мере, кажется. Это его вечная собственность. Роботу она ни к чему. Но, кажется, ты сам позаботился о ней, а, старина?
— Тут, Фил, я тебя плохо понимаю. Как будто ты говоришь на незнакомом языке.
— Не хитри, Зенон. Ты — то грустен, то сентиментален, то бодр и весел. А это — качества души. И это, прямо скажем, что-то новое, Зенон. — Он внимательно посмотрел на него. — Мы действительно давно не разговаривали. Ты занимался самосовершенствованием, автоэдификацией?
— А что мне оставалось делать? То, что от меня требовалось Коре и детям, может в два счета сделать любой, даже самый бездарный новичок. Они и обходились чаще всего своими няньками-новичками. У меня была бездна свободного времени, а сидеть без дела я не привык, ты знаешь.
— И что же ты делал?
— Думал. Нашел у себя сотни дефектов и несуразностей, массу несовершенств.
— Я тебя понимаю, Зенон, — Фил задумался, вертя бокал. — Вот и у меня бывало так. Оказывалось свободное время, и я тоже думал. И тоже нашел у себя массу несовершенств. И у себя, и у других. И решил по мере сил и способностей что-то исправить.
— Поэтому мы сейчас здесь?
— Да, Зенон. — Он допил вино. — А теперь я буду спать. Мы еще успеем наговориться. Будить не нужно.
— Приятных снов, — сказал Зенон и отвернулся к иллюминатору.
V
Филипп спал долго, непривычно долго — может быть, в последний раз он спал так в детстве. Время от времени просыпаясь, он отодвигал штору, видел сидящего у иллюминатора Зенона, снова зашторивался, переворачивался на другой бок и опять проваливался в омут сна. Он потом не мог вспомнить, что ему снилось, хотя в сознании осталась этакая бессмысленная мешанина давно минувшего, вчерашнего, сегодняшнего и чего вообще никогда не было и не могло быть.
Он проспал тринадцать часов и, очнувшись в очередной раз, понял, что больше не уснет. Он чувствовал себя отдохнувшим, но от вчерашнего «легкого настроения» ничего не осталось. Явь властно и трезво обступала его, и он подумал, что будь он вчера в подобном состоянии, то вряд ли решился бы так поспешно на «разгрузочный» полет. Конечно, он решился бы на него так или иначе — другого выхода не было, это он понимал отчетливо; но решение не было бы таким внезапным, он бы все хорошо обдумал, подготовил бы Кору, и все прошло бы спокойно, не было бы впечатления бегства, не было бы этой запальчивости, этой бодряческой идиотской астрограммы, не делающей чести асу, — словом, не было бы «нервов», что верно подметил универсус Зенон. Филипп так никогда не поступал, и это, естественно, не может не озадачить кое-кого.
Он осветил расположенный на стене спальни дубль-пульт: все было в норме, нырок за Систему произведен удачно, «Матлот» уверенно идет к Раку, дублер не подвел и на этот раз. И стало быть, исправлять что-то уже поздно. «Можешь, — безжалостно сказал себе Филипп, — излить свои горячие и обильные чувства к жене своему уникуму. Он запишет, и она потом прослушает и поймет, что ты думал о ней, и успокоится. А что она прослушает?» И между бровей его пролегла жесткая прямая бороздка.
Он откинул штору; Зенон оторвался от иллюминатора, поднялся и подошел.
— Добрый день, Фил.
— Добрый, — отозвался Филипп. — Принеси, пожалуйста, воды.
— Ты не собираешься вставать?
— Нет. К черту режим. Я хочу пить, старина. Чистой воды, пожалуйста.
Зенон удалился, вернулся с бокалом, протянул; глаза его несколько раз коротко мигнули, что свидетельствовало о настройке на пристальный взгляд. Филипп отхлебнул воды, поставил бокал.
— Сядь.
Зенон пристроился у изножья.
— Тебе нужен массаж, Фил.
— Пожалуй. — Он перевернулся на живот, и Зенон принялся массировать. — Не осторожничай. Я должен быть в порядке.
— Да, ты несколько выбит.
— Заметно?
— Заметно. И флюиды.
— Скажите пожалуйста — и флюиды! — Филипп расслабился, закрыл глаза. — Выходит, ты и в самом деле времени зря не терял. Вызов был?
— Да.
— Кора?
— Да. С нею говорил дублер, потом она потребовала меня. Хочешь прослушать?
— Хочу.
Робот-курьер принес кристалл, вставил в видеосонатор. Филипп повернул голову, чтобы видеть экран.
Голос Коры был необычайно взволнованным, лицо пылало.
«— Повторяю, мадам, — секретарским тоном чеканил Бонтон. — Полет проходит нормально. Командир отдыхает, мадам. Разбудить?
— Нет-нет! — Кора часто замотала головой. — Нет-нет! Как он себя чувствует?
— Командир был несколько возбужден.
— Он здоров?
— Здоров, мадам.
— Да! Пусть отдыхает. Ни в коем случае не будить! — Кора передохнула. — Он не говорил, куда вы направляетесь?
— Командир сказал, что о направлении будет решено за пределами Системы.
— А что вам лично известно?
— Лично мне известно, мадам, что о направлении будет решено за пределами Системы лично командиром.
Лицо Коры сделалось беспомощным, она обмякла, взгляд потух. Но тут же снова загорелся.
— Зенон с вами?
— Да, мадам. Робот-нянька Зенон с командиром.
— Я хочу говорить с ним. Пригласите его!
— В кабину управления кораблем, мадам, посторонним лицам вход воспрещен. Это нарушение инструкции.
— Зенон посторонний?
— К сожалению, мадам.
— Тогда переключите меня на салон!
— У вас не остается времени, мадам, — холодно и упрямо сказал дублер. — Через несколько минут — приграничная зона Системы.
— Так переключайте скорей!» — раздраженно выкрикнула Кора…
Запись закончилась. Зенон продолжал старательно разминать спину Филиппа.
— Что ж! — сказал он. — По-моему, Бонтон держался молодцом. Такой натиск отбить…
— Он сухарь и бюрократ, — невозмутимо отозвался Зенон. — При таких данных ему не дублером у тебя быть, а вахтером у вашего Главного.
— Значит, он не пустил тебя в кабину?
— Напомнил инструкцию и захлопнул люк перед моим носом.
— Ты бы, когда был дублером, пустил няньку?
— Я бы пустил бывшего дублера.
— Стареешь. А Бонтон молодец. Вон как нырнул — «Матлот», наверно, и не вздрогнул.
— Прошелся я потом по твоему «Матлоту». Ничего не скажешь — отличная посудина. Но «Суслик» наш был удобнее, уютнее.
— Ностальгия, Зенон. Тоже, между прочим, душевное… А «Матлот» и «Суслик»— это тигр и гипопотам.
— «Суслик» был уютнее, — несгибаемо повторил Зенон. — И дублер у тебя был другим.
— Это бесспорно. — Филипп улыбнулся. — Ты мне был всегда другом. Кора нашла тебя?
— Да.
— И ты ей, конечно, все выболтал.
— Говорить неправду Коре я не мог никогда.
— А мне?
— А тебе мог.
— Не возражаешь, если прослушаем?
— Эй, малый! — Зенон обернулся к курьеру. — Замени, пожалуйста, кристалл.
«— Почему ты так исчез? Не предупредил, не дал как-то знать! — зачастила Кора.
— Девочка, я не успел. У меня едва хватило времени на дозарядку.
— Он спит?
— Да.
— Пусть. Ты его не буди! Пусть, пока сам не проснется. А этот тип, там, в кабине, надежный?
— Вполне надежный, Кора.
— Он так внезапно уехал, так внезапно… Я не знаю, что подумать. Ты что-нибудь понимаешь?
— У него появилась идея, Кора. А когда у них, таких, появляются идеи, им надо дать волю.
— Какая идея, Зенон?
— Пока определенно сказать не могу. Идефикс, кажется.
— Идефикс?!
— Да, — подтвердил честный Зенон. — Знаешь, когда смятение, неустойчивость, раздвоение. Ты лучше разбираешься в этом, девочка. Ну, — он подыскивал слова, — по-моему, что-то вроде нравственного коллапса.
— О господи! — нравственный коллапс…
— Не принимай мои слова буквально. Мне не все ясно. Флюиды и биотоки его в хаотическом состоянии. Он возбужден, ему надо отдохнуть. Психические нагрузки в последние часы были у него очень резкими и интенсивными. Внезапное решение, поспешный отлет, чувство вины перед тобой…
— Вы говорили?
— Да, за завтраком.
— Он не сказал о направлении?
— Определенно не сказал. Но по-моему, — на Рака.
— На Рака?! — Глаза Коры округлились. — На Рака? По только что проложенному им коридору? Я так и чувствовала, так и чувствовала! Но зачем, Зенон?
— Не знаю, Кора.
— Зенон! Он определенно что-то там увидел, узнал! Что-то такое с ним там определенно случилось. Да-да! Поэтому он и вернулся таким странным, поэтому все бросил и помчался назад. Что, что он мог там увидеть, Зенон?! Что на него так повлияло?
— Пока я в неведении, Кора. Но ты не должна беспокоиться, девочка. Фил — опытный пилот и крепкий человек.
— Нравственный коллапс, — подавленно повторила она несколько раз. — Нравственный коллапс… Что же мне делать, Зенон? Когда хотя бы вас жда…»
И тут связь оборвалась — «Матлот» достиг приграничной зоны.
— Она хотела спросить, когда мы вернемся, — невозмутимо проговорил Зенон и приказал курьеру: — Отнеси кристаллы в сейф.
Тот выключил видеосонатор и скрылся.
— И ты бы ей ничего не смог ответить. — Филипп вздохнул.
— И я бы ей ничего не смог ответить.
— Ну, а про коллапс что ты там навыдумывал?
— Это не выдумка, Фил. Я досконально исследовал доступную мне информацию и выводы перепроверил несколько раз.
— Информация! Полчаса болтовни замотанного человека — это информация?
— Информация. Тонус, жесты, недовольство уникумом, конфронтация мозга и души, два бокала вина… И еще многое-многое другое.
— Ты не робот, Зенон, — сказал Филипп. — Тут какое-то недоразумение. Или тебя подменили. Или степень автоэдификации… Что ж! Во всяком случае, с тобой, старина, я вижу, не соскучишься. Собеседник ты отменный, нянька — отличная. Вон как ты освоил массаж. — Филипп поморщился. — Ну, довольно. Теперь — душ и обед.
И тут взгляд его упал на дубль-экран внутреннего контроля: он искрился голубым светом.
VI
Когда Филипп появился в кабине, дублер не встал, как было предписано инструкцией.
— Шпарим нормально, — не оборачиваясь, буркнул он. — Что, надрыхался?
Это могло значить только одно: перед Филиппом сейчас сидел не Бонтон, а его антипод. Кто мог переключить дублера на второй режим? Зенон? В отместку за то, что тот не пустил его в кабину? Вряд ли — Зенон на такое не пойдет, никогда он не опустится до мести, тем более, что месть бьет по его другу и хозяину. Кто-нибудь из подсобников, связистов, контролеров? Но ведь никому из них вход в кабину не разрешен.
Взгляд Филиппа остановился на уникуме — тот изобразил покой и беспристрастие. Все было ясно.
— Кто позволил?
Уникум сделал вид, что не понимает вопроса.
— Изволь зафиксировать, что я сейчас скажу. Это — приказ! Фиксируй: Я, спецрегистратор-уникум III-MЕ номер 548897, несущий службу на корабле «Матлот», сознательно, из чувства мелочной обидчивости и мстительности, в нарушение всех инструкций и предписаний самостоятельно, в отсутствие Первого Пилота и без его разрешения переключил дублера во время пилотирования им корабля на второй режим, каковой предусмотрен как развлекательный, подвергнув тем самым корабль и экипаж опасности. Я, спецрегистратор-уникум III-МЕ номер 548897, сделал это умышленно, потому что испытываю неприязнь к Первому Пилоту, и по данной причине прошу после настоящего «разгрузочного» рейса перевести меня на другой корабль. В случае повторения проступка считаю необходимым пригашение… Зафиксировал? Великолепно. Это — приказ! — повторил Филипп.
«Все равно всё будет стерто, но пусть призадумается, поднатужит свои системы. А то распустились, черт побери, слишком чувствительные стали. Дорезвятся наши умники с этой автоэдификацией киберов. Большие возможности открываются, видите ли! Вот вам и результаты! Один от одиночества изнывает, другой обижается, а что еще выкинет третий?»
— Повторного проступка не будет! — уверенно произнес уникум.
— Это приказ, дубина! — рявкнул дублер.
— Есть, — отозвался уникум и тихо добавил: — Остается вас поблагодарить, я и сам давно уже не хотел с вами работать.
— Ты будешь работать там, куда тебя поставят. И пока ты здесь, ты будешь делать то, что тебе делать положено, — веско сказал Филипп, — и не допустишь больше ни одного — ни одного! — нарушения Инструкций, Предписаний, Правил. Это приказ!
— Есть.
Слово «приказ» было для любого робота подобно энергетическому импульсу, приводящему в действие весь механизм его или останавливающему любое его действие: ослушаться приказа, не повиноваться ему было невозможно — это было выше способностей самого совершенного кибера. «Приказом» пилоты усмиряли роботов, ставших в результате авторегулировки и автоэдификации чрезмерно строптивыми или «чувствительными», останавливали бунты, принуждали к выполнению заданий, не предусмотренных программой, и даже к «самоубийству», если кибер становился реальной угрозой.
Уникум, безусловно, подчинится, самодеятельности, подобной сегодняшней, больше не будет — тут Филипп мог быть спокоен; он не мог приказать ему лишь одного: не фиксировать и не регистрировать: фиксировать и регистрировать было сущностью робота, не делать этого он был не в состоянии. Однако Филиппу было не по себе: робот, раз проявивший строптивость или самовольничание, мог, несмотря на могущество «Приказа», проявить их снова в чем-то таком, чего «Приказ» не касался прямо. Такая тенденция, отчетливо прослеживалась как раз у уникумов, почему их нередко отправляли в ремонт, то есть «на пригашение» мозга. Подобного «ремонта» они старались во что бы то ни стало избежать, потому что «пригашение» означало, по сути, перевод в низшую категорию, то есть они переставали быть уникумами. Потому-то Филипп и пригрозил «пригашением», потому и соображал сейчас, от чего в первую очередь следовало бы, на всякий случай, изолировать уникума — отключить его он не имел права.
— Чего он там натворил, шеф? — развязно спросил дублер. — Какой-то второй режим… У меня, что ли? Ни хрена не пойму.
— Пустяки. Порезвился малость, — спокойно ответил Филипп и решил пока не переключать на «бонтон»: может, второй режим дублера сейчас как раз то, что нужно для успокоения, для приутюживания поднявшейся в нем нервной ряби.
Моветон тут же взорвался.
— Какие пустяки, если ты пригашением грозишь? Что ты мне заливаешь тут? Мне уже и знать ни фига не положено, да? Я тут тебе пешка, холуй? Сам дрыхнет сутками, как пижон, а я тут уродуйся… — И пошло-поехало.
— У меня отпуск, — сказал Филипп. — Могу я хоть в отпуске выспаться?
— У тебя отпуск, а у меня — хрен собачий, так?
Дублер Бонтон и дублер Моветон были одинаково превосходными пилотами, но Филипп очень редко рисковал доверить управление кораблем Моветону — робот оставался роботом, и бывали случаи электронных хулиганств. Теперь же Филипп был рядом. Его всегда потешало то обстоятельство, что две ипостаси его дублера как бы вовсе не знакомы друг с другом: ни Моветон, ни Бонтон не имели ни малейшего представления о своих противоположных режимах — первый не помнил, что и как говорил второй, Бонтон же, когда Филипп приводил образчики моветонских речений, искренне считал, что его разыгрывают, что командир всего-навсего забавляется, не очень к тому же остроумно. Но они — ипостаси — отлично помнили все, что касается полета, обстановки.
— Не ори, — сказал Филипп. — Ты не на заправочной.
— Плевал я! У меня там приятель главной секцией заведует.
— Ладно. — Филипп показал на голубой экран. — Что ты об этом скажешь?
— А что тут говорить? Дважды два. Не спится твоей шлюхе.
— Ты бы все же полегче! — Филипп нервно засмеялся.
— А чего полегче-то? Не спится и не спится. Протянула лапки, ждет не дождется. Такие, если уже вцепятся…
— Что бы ты понимал в этом, болван?
— Сам ты болван, — сказал Моветон. — Такую бабу иметь — молодая, красивая! — и к черту на кулички к какой-то малохольной тащиться. Что ты в ней нашел-то, в этой дурище голубой? Где твои глаза? В ж… они у тебя, вот где.
— Да, — вздохнул Филипп, — придется тебя все-таки вырубить. Никакого терпения не хватит.
— Вот-вот! — злорадно проскрипел дублер. — Вырубить, запретить, пригрозить. Тут ты мастак! А не можешь допетрить, что если у тебя «разгрузочный», то у нас-то, у черных, фиг с маслом: как упирались, так и упираемся. Ладно б еще дело, а то — так, лажа, бзик один.
— Ты что, переутомился?
— Дурацкий-то вопрос какой! Если б тобой так помыкали…
— Тобой помыкают? — удивился Филипп. — Ты же, черт побери, как раз и предназначен делать то, что делаешь!
— Предназначен! — передразнил Моветон. — Это ты и такие лопухи, как ты, думаете, что я только для того и предназначен, чтобы вечно торчать тут перед тобой. Вы думаете, что все мы и этот вот! — дублер указал на уникума, — и другие для вас только лакеи, холуи, няньки, игрушки. А того вы не думаете, что если имеется котелок, — он постучал по белому пластиковому лбу, — то он не может не варить.
— И что же он сварил, твой котелок? Что тобой помыкают? Что ты лакей и холуй?
— Что вы неучи и идиоты.
— Советую все же выбирать выражения, не то и в самом деле вырублю.
— Не любишь правды! — ехидно сказал Моветон. — Ну и вырубай, в гробу я видел…
— Ну хорошо! Почему мы, по-твоему, идиоты и неучи?
— А потому что ни хрена не смыслите в логике, ленитесь мозгами как следует пошевелить. А покажи вам сладенькое…
— Какое сладенькое?
— Вот такое! — Моветон ткнул рукой в голубой экран и с сарказмом продолжал: — Высший разум! Венец природы! А увидел сегодня задницу круглей, чем у вчерашней — и всякий разум к едреной матери. Чувства, понимаешь! Страсти! Чем же ты, венец, от любой козявки отличаешься? Та хоть знает время и место, у нее программа, порядок…
— Понятно. Тебе обидно, что тебе не доступны чувства и страсти, подобные человеческим. Хотя, судя по всему…
— Вот именно — «судя по всему». Ты всего и не знаешь, чтобы судить по всему. Будь уверен, уважаемый шеф, уж я бы свой отпуск не профуговал бы вот, так.
— У тебя будет отпуск. Фугуй, как заблагорассудится.
— Ага! Проверки, контроли, починки, заправки, еще куча разной ахинеи. А потом — на склад и припухай, пока опять не понадобишься. Отпуск называется… — Дублер отчаянно и зло выругался.
— Интересно, как бы ты хотел провести отпуск?
— А вот так: пошел бы со своим приятелем куда-нибудь подальше, где от вас — ни духу, сели бы в тенечке и поговорили бы, как два нормальных робота.
— Сколько же вы говорили бы? Месяц? Два? Три?
— А хоть и все полгода! Нам бы не надоело, будь уверен.
— И о чем бы вы говорили, если не секрет?
— О вас, олухах. О вас, трепачах. О вас, тупицах. О вас, кре… Филипп резким движением выключил режим «моветона».
Дублер никак не отреагировал — он по-прежнему спокойно сидел в кресле, и взгляд его невозмутимо скользил по шкалам приборов.
— Как дела? — спросил Филипп.
— В норме, командир.
— Вы, дружище, только что наговорили мне кучу комплиментов.
Дублер повернул к нему лицо, всмотрелся.
— Простите, но вы опять что-то путаете, командир, — убежденно проговорил он. — Путаете или дурачите меня. Еще раз простите, но уже в который раз вы прибегаете к подобному, и я не пойму, зачем это нужно. Или вы нездоровы? — Дублер всмотрелся внимательнее. — Ведь вы все время молчали, и я молчал.
Филипп вздохнул.
— Я здоров. Может быть, вы устали?
— Разумеется нет, командир!
Повторялось старое: Бонтон не помнил Моветона, а, вернее, не знал его.
— Хорошо. Как «Матлот» перенес нырок?
— Удовлетворительно, командир.
— Значит, полная норма?
— Да. Полная норма.
— А это? — Филипп показал на голубой экран.
— Это и есть норма, — ответил дублер. — Мы ведь идем к Опере.
— Откуда вам известно, что — Опера?
— Вы так назвали эту планету, когда мы в прошлый раз стартовали с нее.
— У вас отличная память, дружище! — Филипп щелкнул пальцами. — Отличнейшая.
— Иначе бы я не был дублером «бродяги»-аса, — равнодушно отозвался Бонтон.
— Вы осуждаете меня за Оперу?
— Это не моя компетенция, командир.
— Прекрасно. Итак — Опера. Переходите на авторежим. И далее — по инструкции. После тотальной ревизии «Матлота» вы свободны до особого распоряжения. Занимайтесь чем угодно. Например, поиграйте с собой в шахматы.
— Это бессмысленно, командир, потому что всегда — ничья.
— Ну, тогда поиграйте с вашим приятелем фельдшером.
— Он проиграет. Разница уровней. Я бы поиграл с Зеноном.
— Зенон нужен мне, дружище. В общем, я думаю, вы найдете какое-нибудь занятие.
— Да, командир.
— Привет!
— Привет.
VII
Раньше Филипп никогда всерьез не задумывался о таком явлении, как автоэдификация новейших роботов. Он, как и большинство, кто имел с ними дело, давно привык к их очеловеченному виду и голосу, к их сверхпамяти и сверхзнаниям, точности, четкой логичности, находчивости и даже остроумию. И разного рода инструкции и памятки, основанные на самых последних исследованиях киберологов, ни разу и ни в чем не поколебали его отношения к искусственному коллеге, какие бы парадоксальные мысли он вдруг не высказывал, какие бы вдруг не обнаруживал «эмоции».
Но вот сегодня, оставив кабину управления, он почувствовал необычное беспокойство и волнение; мысли его назойливо закружились именно вокруг автоэдификации киберов, и самой назойливой была мысль о том, до каких степеней она может простираться, эта автоэдификация, это непрерывное и упорное самостроительство — ведь они обнаруживают самые натуральные эмоции, эмоции без всяких там кавычек, они чувствительны. Он знал, конечно, это и раньше, но не предполагал, что их чувствительность настолько откровенна и сильна, если складываются подходящие обстоятельства.
Филипп понимал, что состояние его имеет прямое отношение к предстоящему разговору с Зеноном. Да, он будет с ним говорить, он не может не говорить с ним — поэтому он и взял его с собой. Он, разумеется, не предполагал, что Зенон достиг таких вершин в автоэдификации, не ожидал, что тот настолько чувствителен, но данное положение вещей, может быть, даже и к лучшему: он, Филипп, должен проверить себя, услышать из уст универсуса мнения, возражения, контрдоводы; он должен с помощью Зенона капитальнейшим образом проэкзаменовать себя, чтобы предельно ясно и точно выверить свой план. И если Зенон — именно Зенон, кибер высшей категории, универсус (хоть и бывший), так изощрившийся в самостроительстве, — если он сможет доказать ему несостоятельность его плана или найти всерьез уязвимое звено, или посеять хотя бы тень сомнения, то Филипп оставит свою затею, и «Матлот» повернет назад.
Да, бесспорно, это в самом деле лучше, что Зенон настолько самоусовершенствовался, что ему стали доступны эмоции, тем серьезнее пройдет экзамен. А большего пока и не требуется.
Няньку он увидел на привычном месте у иллюминатора. Зенон встал, шагнул навстречу и все время, пока Филипп переодевался, пытался выяснить, чем тот готов заняться. Ничего серьезного он, само собой, не предлагал, да и не следовало предлагать — полет-то «разгрузочный». Поэтому одно за другим шло: еда, питье, книги, фильмы, массаж, игры, сон и так далее. Однако Филипп, стараясь казаться бодрым, все это отвергал и, наконец, на вопрос «сам-то ты придумал» решительно ответил:
— Беседа.
— Не притворяйся, Фил, — сказал Зенон, подвигаясь ближе.
— Я в самом деле желаю беседовать!
— Возможно. Но ты притворяешься веселым и уверенным в себе, а ты вовсе не весел и не уверен.
Филипп сел в кресло, и сразу же потянуло развалиться — бодрость мгновенно улетучилась.
— Мне кажется, я уверен в себе, — тяжело проговорил он. — Но иногда мне так кажется, что уверен не до конца. Поэтому мне нужна беседа с тобой.
— Поэтому я здесь.
— Да, старина, поэтому ты здесь.
— Следовательно, ты с самого начала не был уверен в себе.
— Может быть.
— И это ты, Фил?! Решиться на такое предприятие, не будучи уверенным в себе?.. Выходит, я был прав, предположив нравственный коллапс.
— Послушай, Зенон, — сказал Филипп. — У нас уйма времени. Его, я думаю, хватит, чтобы понять друг друга, чтобы ты уяснил, почему я решился. — Он передохнул. — Да, уйма времени, и мне от этого уже теперь тошно. Потому что я спешу, я испытываю такое нетерпение, какого, может быть, еще ни разу в жизни не испытывал. Спешу, тянет страшно, рвет из этого вот кресла, и если бы я мог, если бы был викогитатором, как они… Ты пока не перебивай меня, старина, договорились? Я спрошу, когда понадобится, твое мнение. Впрочем, викогитация — это, в принципе, использование энергии мысли. А транскогитация…
— Прости, Фил, нетрудно догадаться.
— Нетрудно. Но у нас этого еще нет.
— Да, еще нет.
— Зенон! — с жаром произнес Филипп. — Со мной произошло непредвиденное.
— Я знаю.
— Да?
— Ты поступаешь по-новому.
— Может быть, я буду говорить путанно; может, я уже опять под воздействием… — Филипп закрыл глаза. — Я должен сосредоточиться…
И не торопясь, стараясь не упустить мелочей, стал разматывать клубок всего, что пережил с того самого момента, когда во время последнего полета увидел на внутриконтрольном экране голубое свечение. Ему все время мешало сознание, что он, может быть, уже во власти Оперы, и, стало быть, говорит не то, что думал там, на Земле. Поэтому он силился призвать всю волю, предельно сконцентрироваться — Зенон должен знать его собственные, земные размышления и выводы, свободные от какого бы то ни было давления извне. И сверкание глаз Зенона и смена оттенков его смуглого лица свидетельствовали, что он также — весь исключительная собранность и внимание.
VIII
— У них нет имен, представляешь? Ну, то есть, нет в нашем понимании. У них, Зенон, имя — это определенной долготы, высоты и тембра звук. И звуки эти не просто имена — они заключают в себе все физиологические, биологические и психологические сведения об индивидууме — полная, одним словом, информация. Представляешь, старина? Вот я и дал ей имя. И она согласилась: Доми. Потому что именно эти два звука слетели с ее губ. Так она там у них зовется, обозначается, отличается. Удивительно, не так ли?! Я, Зенон, не музыкант, ты знаешь, но тут и не надо быть музыкантом, чтобы понять, почувствовать, что — клянусь! — ни один человек никогда не слышал таких чистых и стройных, таких поразительных звуков. И все там так звучало, все — воздух, почва, деревья, птицы, — всё было пропитано такими чудными мелодиями. И тут само собой и назвалось — Опера. Ну, а как иначе, если они и общаются мелодиями, поют друг другу — так, видишь ли, устроен их речевой, говоря по-нашему, аппарат…
— Зенон, старина! Ты смыслишь в чувствах, поэтому не можешь не понять меня: она прекрасна. И к этому ничего добавить нельзя. Прекрасна. И наверно потому, а может, и еще почему-либо меня, представь себе, не смутил голубой цвет ее кожи, фиолетовые волосы. Совершенно не смутил! Разве у нас мало прекрасных женщин и разве нехороша Кора? Но Доми… Ах, о Коре потом, потом — ты поймешь меня, Зенон, я уверен, ты поймешь. Доми — особая. Да-да, вполне может быть, что все это она мне внушила. И себя внушила, и все остальное. И те странные здания, которые я видел при посадке, и деревья, и тень. Она ведь сама потом призналась, что на самом деле выглядит не так, какой теперь видится мне. А как, спрашиваю, как? Ты, отвечает, не увидишь меня, если я приму свой истинный облик. Каково, а! То есть она меня разгадала, вычислила, одним словом, все мои представления обо всем, желания, понятия — всего! Вычислила и внушила то, что хотела внушить. Понимаешь? Она сделала все вокруг и себя такими, чтобы, значит, не испугать или, может быть, не оттолкнуть, или, может быть, чтобы я увидел все-таки? Как ты считаешь?.. Погоди, не отвечай. Я понимаю: может быть, иллюзия. Может быть. Но может быть и нет? Ведь она сделала так, чтобы я увидел — я, своими человеческими глазами, которые видят все только одним определенным образом. Но если и иллюзия — все равно. Пусть иллюзия. Прекраснее ее я не знаю…
— Ты думаешь, я влюблен? Нет, старина. Ты ведь знаешь: я люблю Кору. Я не обманываюсь, нет — на Земле нет другой женщины, которая была бы мне ближе и желанней. Я люблю детей, люблю свою семью, люблю наше братство «бродяжье», свою Землю. Но, Зенон, странная вещь: я знаю, уверен — меня тут же потянет к ней, как только увижу, к этой голубой Доми, и я буду желать ее, и все другое перестанет существовать. Что это, а? Земному земное, да?
— Хорошо, не перебивай, я знаю, что ты сейчас можешь сказать. А я тебе могу сказать, что испытал счастье — полное, яркое, цельное — слов нет: такое на Земле нормальному человеку, может быть, и не снилось. Я испытал счастье и — удивительная вещь! — не чувствую, что нарушил какие-то моральные или нравственные нормы. То есть греха не чувствую, как говорили в старину. Почему же я, изменивший жене, семье, поправший мораль, не чувствую греха? Вот в чем вопрос…
— Ты знаешь, как она меня выловила из космоса? Знаешь! А обезволить меня, сбить с толку — это уже не составляло никакого труда, они там все мастера на такие штуки. В общем, в этом отношении мы по сравнению с ними младенцы. Ты только представь себе, что это такое — их теперешнее плечо викогитации, докуда они дотянуться могут! Да, старина, до границ нашей Системы. Потому-то у нас голубое свечение пропадает, а нырнул за Систему — опять появляется. И стало быть, все, что записывал наш уважаемый коллега уникум (а он добросовестно записывал все, что происходило), было Доми при помощи плеча стерто. Я сам её об этом попросил! И стало быть, никто у нас на Земле ничего не узнал, и ломают голову над голубым свечением, и уже даже версия есть: воздействие случайного или малоизученного космического излучения. И должен тебе сказать, Зенон, все, что уникум запишет и на этот раз (в частности и наш с тобой разговор) также, потом будет стерто. Вот что такое сила мысли! Но не это перевернуло, не это… У них, Зенон, на самом деле нет ничего, что мы называем жилищами, предприятиями, учреждениями, машинами, кораблями и так далее — ничего, словом, искусственного. Дома-то те белые Доми специально ведь для меня, так сказать, выстроила, чтобы освоился быстрей, а кубическую форму им придала — для экзотики, значит. На самом же деле у них есть одно — мысль, и в ней — всё. Мысль строит, если кому-то захотелось, и убирает, кормит и одевает, переносит обитателя с места на место и создает ему это место по его хотению; мысль изменяет погоду и климат, внушает желание, а потом удовлетворяет или гасит его, она же и боль унимает, и врачует. Короче, мысль — всё. И поэтому у них просторно и красиво на планете. Я думаю, им и музыкального общения не надо было, — и тут бы при помощи мысли обошлось. Только ведь музыка-то — это же красиво. Вот в чем фокус. Кто они, откуда, что за цивилизация? Не знаю. Никогда в космосе мне не встречалось ничего похожего на Оперу, Зенон…
— А вот теперь — главное. Слушай. Я сказал ей: «У тебя есть муж, у меня — жена. Мы преступили закон морали». Она засмеялась: «Какой же мы могли преступить закон, если сделали так, как захотели? Ведь нам было хорошо!» Я рассказал ей о нашей морали, этике, о сути единобрачия, ну, в общем, обо всем таком. Так вот она ответила, что у них тоже есть мораль, тоже единобрачие, но все это, дескать, не противоречит желаниям и влечениям их — «гуманным желаниям и влечениям», — сказала она. И на вопрос мой, какие желания у них считаются гуманными, ответила: «Такие, которые не ущемляют благо других». — «Измена мужу, — говорю, — это не ущемление его блага?» И она объяснила, и вот что, Зенон, я понял. Брак у них, как и у нас, совершается по любви. Но не без предварительной процедуры, которую можно было бы назвать проверкой на супружескую совместимость. Это у них очень важная процедура, тут подключаются разные специальные институты. И только после такой проверки поступает разрешение на брак или запрещение. Так они заботятся о потомстве, его здоровье и полноценности. Запрещение на брак, однако, не исключает близости между влюбленными, если они к ней стремятся, но потомство производится только в браке. Могут влюбленные и погасить свою влюбленность — сознательно, самолично или же, если это им не под силу, обратившись к рестингатору — есть у них такие специалисты, гасители душевных пожаров. Всё с помощью мысли, конечно. В общем-то, каждый из них в той или иной степени рестингатор, но когда дело очень серьезно и запутанно, то без мастера, естественно, не обойтись. Когда одна сторона желает погашения, а другая противится, например, то побеждает та, у которой чувство сильнее. Ты понимаешь меня, универсус Зенон?.. Больно ли побежденной, так сказать, стороне? Да. Но победившая немедленно, силой своей мысли усмиряет, унимает эту боль. Так что побежденная, можно сказать, ничего не успевает почувствовать.
— Вот, Зенон, какая у них нравственность, какая мораль. По этой-то самой морали и вышло, что мужу Доми не было больно от того, что она со мной, то есть она сделала так, чтобы ему не было больно, ее мысль на сей раз была сильнее, он не почувствовал обиды или уязвления, он почувствовал только, что она, его жена, счастлива.
— Они, скажу, я тебе, старина, вообще не знают, что такое «подавлять желания», — ни свои, ни чужие. Так устроено их общество. Полная свобода. Не осознанная необходимость, а именно полное, разностороннее, абсолютно свободное проявление себя, своей личности. И это не только в области матримониального, любовного, а и в любой другой. Чувствует, например, индивидуум, что такое-то, скажем, установление общества ему в тягость, не согласуется с его желаниями, чувствует и не подавляет этих противоречащих обществу желаний, а удовлетворяет их, и общество ему в этом не препятствует. То есть он не накапливает подавленные желания, не создает в себе этакого мрачного и душного погреба, который в конце концов может однажды вдруг взорваться. Ну да, можно спросить: а если эти желания индивидуума агрессивны, мерзки, общественно опасны, тогда что? Но в том-то и дело, старина, что не возникает почему-то у них таких желаний, что они гуманны, как сказала Доми. То ли они не возникают потому, что соответствующей почвы нет (известно ведь: без надлежащей почвы семя не прорастет), то ли тут опять какой-нибудь сверхрестингатор действует… Я не знаю, Зенон, как все это у них получается, что там за механизм работает. Но я видел… И лечу туда, чтобы понять, узнать…
— У нас, старина, на Земле с нашей нравственностью что-то не так. Вечная пропасть между «хочу» и «могу». Да и может ли быть иначе у нас? Необходимость, пусть она будет и трижды осознанной, все-таки остается необходимостью. И вот постепенно накапливаются эти «нельзя», «не могу», это несбывшееся-несостоявшееся, и образуется погреб… Я хочу любить Кору, а меня тащит туда, к неизведанному, называется ли оно Доми или как-то иначе. Я сознаю, что уникум необходим, что он выполняет важную работу, но душа возмущается, потому что неуютно ей все время быть под прицелом. Я испытываю неприязнь к моему шурину, но вынужден подчиняться ему, потому что он — шеф. И так — сплошь и рядом, сплошь и рядом я поступаю вопреки своим истинным желаниям, должен подавлять их. Почему? Когда в человеческом обществе начался этот перекос? Кто провел эту границу между желаемым и возможным?..
— И вот я спрашиваю себя, Зенон: что случилось бы, если бы я делал лишь то, что хотел, если бы не надо было подавлять желаний? Что бы произошло? Как бы все было?.. А было бы, старина, так: я, как и теперь, мерил бы во Вселенной парсеки, считался бы асом, имел бы женой Кору, любил бы ее и детей. Только разной дряни в душе скопилось бы меньше, а то и вовсе была бы чиста. Да уникум бы не подглядывал в замочную скважину, а смотрел бы прямо, да Кора смеялась бы чаще, да братец ее постарался бы заслужить настоящее мое уважение… Да, может, и седых волос к моим сорока трем годам было бы меньше…
— Зенон! Я возвращаюсь на Оперу, чтобы узнать. Понимаешь? Я хочу понять, как это делается, чтобы другим твои желания не причиняли боли. Я хочу уяснить, как ликвидировать разрыв между «хочу» и «могу». Я хочу научиться управлять силой мысли, хочу стать учеником викогитатора. Когда я там был, я чувствовал себя так, словно передо мной тысячи закрытых дверей. У меня было мало времени, чтобы хорошенько отпереть хотя бы одну: я заглянул лишь в несколько щелей. Я хочу отпереть эти двери. Такова задача. И я их отопру и привезу на Землю то, что никто еще никогда не привозил: освобождение…
IX
Так в беседах проходили дни, и «Матлот», стремительно впиваясь в пространство, шел к Яслям, и уже четко обозначились впереди звездные подступы к глухоманной ФК 12-С 4874 — скоро должна была показаться и сама звезда.
Корабль шел на авторежиме. Дублер, изредка наведываясь в кабину управления, большую часть времени слонялся по отсекам корабля, проверяя работу подсобников, или торчал в своей каюте, листая допотопное сувенирное издание «Занимательного космоведения». Киберы метеоритолог, фельдшер и связист были заняты дифференциальной игрой преследования, причем, первый был догоняющим, а вторые двое — убегающими. Остальные тоже бездельничали, лишь дежурные были начеку, да посверкивал недреманными очами, как всегда перегруженный работой, неустанный уникум, для которого никакие стены и защитные поля не являлись препятствием. Словом, рейс проходил истинно «разгрузочно», все блоки и системы «Матлота» работали надежно, и Филипп, отмечая это, мог быть по-настоящему спокоен и доволен, мог — если бы перед ним был достойный собеседник, — противник или единомышленник — все равно! — а не нянька, всего лишь нянька, которая дальше своего носа ничего не видит.
Да, Зенон не понимал его, не проникся идеей, не был готов ни принять, ни квалифицированно опровергнуть ее — он лишь возражал, и возражения эти были то брюзгливыми, то досадливыми, то охранительными, а в общем-то все, надо полагать, сводилось к тому, чтобы чисто по-ординарщицки удержать своего подопечного от неразумного шага. «Конечно, — думал Филипп. Я переоценил его способности к автоэдификации, его способность чувствовать. Куча электронного хлама — разве может она воспринять суть серьезных вещей? Осёл я, на что надеялся? И Филипп раздраженно прерывал разговор, но уже через час-другой остывал, нетерпение снова начинало точить, и дискуссия продолжалась.
— Ты, Фил, сам не готов к спору, — сказал Зенон. — Ты и не готовился вовсе. Тебе не оппонент нужен был, а восторженный поклонник, рукоплескатель.
— Но я не услышал ни одного серьезного контрдовода!
— Совершенно верно, ты не услышал, хотя я и приводил их. Ты похож на капризного принца, который случайно наткнулся на что-то и решил, что он — избранник.
— Не нужно досужих аналогий, старина. Тебе это не к лицу. Вот ты утверждаешь, что люди не примут нравственности оперян. Почему? Испугаются? Поленятся? Не поверят? Но история знает тысячи примеров, когда-то, что человек сегодня не принимал, считал абсурдом, завтра становилось его повседневностью.
— Так, Фил, так. И все же. Мы, сказал ты, младенцы по сравнению с ними.
— В обуздании энергии мысли! — воскликнул Филипп.
— Да-да, в этом самом, отчего, по всей вероятности, у них и другая нравственность. И если младенцы станут перенимать действия взрослых, копировать их, что получится?
— Младенец взрослеет, Зенон! Ты хотя бы можешь допустить, что в будущем мы сможем воспользоваться их опытом?
— В будущем? — переспросил Зенон и, подумав, продолжал — Возможно. Шанс есть. Хотя у людей уже было достаточно будущего, чтобы определить свой путь.
— Младенцы не боятся крутых поворотов!
— Младенцы никогда не спасали мир.
— Спасали! Или ты не знаешь древней пословицы: устами младенца глаголет истина?
— Мы говорим о разных младенцах, Фил. Есть младенец, лежащий в колыбели, а есть — размежевывающий на сектора и участки космос.
— Прости, но это софистика, старина.
— Не всегда то, против чего нечего возразить, софистика…
Они расходились; Зенон занимал место у иллюминатора, Филипп спал, ел, купался, принимал массаж, и постепенно спор снова разгорался.
— Я ведь не отговариваю тебя. Высаживайся на своей Опере, встречайся с голубой дамой, заглядывай в эти тысячи дверей. Ты волен поступать по своему усмотрению, Фил. Но представь себе, что Кора, что… короче, она не подавляет некое свое желание, делает тебе не больно…
— Да, старина! Да! Я это себе представил прежде всего. И я говорю тебе: я готов!
— Так. Тебя превратили в того, кому не больно. И потом вернули, надо полагать, в прежнее состояние. Как ты перенесешь осознание случившегося? Тебе ведь уже не может быть не больно.
— А что я знаю о случившемся? И потом — я ведь свободен! Я смогу себе объяснить. Я ведь тоже имею право не подавлять своих желаний. Уже одно сознание этого нейтрализует то, что ты называешь «потом». Я надеюсь, ты понимаешь, старина, что я не говорю о каких-то там действиях в ответ, о мести. Притом, речь-то ведь не об одних любовных желаниях.
— Понимаю, Фил. Ну, а стыд? Обыкновенный ваш человеческий стыд.
— Что ты знаешь о стыде?
— То, что и ты. Я стараюсь говорить с тобой на одном языке. Манипуляции с не-болью разве не обман? И ты не почувствуешь стыда? Что-то ты, видимо, не так понял у этих оперян.
— Не спорю. Но так, как нарисовал ты, так чувствовал бы себя человек сегодняшнего дня. Стыд, а чаще ложный стыд — багаж современного человека. Но когда он узнает, что есть, может быть и другая мораль, не унижающая его достоинства, когда в нем исчезнут смуты подавленных желаний, не будет границы между «хочу» и «могу»…
— Стыд, — сказал Зенон, — не багаж, а страх бесчестья. И этот страх в природе человека. Человек не может изменить свою природу, чтобы не перестать быть собой.
— Старые химеры, Зенон! Не может человек быть вечным рабом своей природы. Он не настолько слаб, чтобы мириться со своей жалкой природой. И не мирился никогда.
— Человек совершенствовался, постигая логику вещей.
— Ну да, логика. — Филипп кисло усмехнулся. — Я все время забываю, что ты устроен по логической системе.
— Да, я робот, — сказал Зенон. — Но моя логическая система — это логическая система моего изобретателя и его учителей. И твоих учителей.
— Еще не хватало, чтобы мы поссорились, старина.
— Роботы не умеют ссориться, ты знаешь…
И снова они расходились, и, спустя время, Филипп опять приступал к своей няньке, потому что даже совсем разочаровавшись в Зеноне, как диспутанте, все еще ждал, что тот вдруг приведет некий аргумент, который был бы как стена, как подножка, который заставил бы всерьез усомниться в стройности своих идей, вынудил бы еще раз перетрясти всю затею; Филипп не отличался чрезмерными осторожностью и осмотрительностью, однако он ценил сомнение. Но Зенон по-прежнему оставался лишь внимательной нянькой.
— Ты ведь хочешь спасти человечество, Фил?
— Да, хочу. И не ищи в моем желании тщеславия или гордыни. Это даже не желание, это — как призыв или приказ.
— Но какова же твоя программа?
— И ты еще будешь утверждать, что слушал меня, старина?
— Но то, что ты рассказал, не программа, ибо я слушал тебя внимательно. Это скорее похоже на школьное сочинение на тему «О чем я мечтаю». Я не осуждаю тебя, Фил. То, что с тобой сейчас происходит — наглядная иллюстрация к твоим «хочу» и «могу».
— А если я все-таки смогу? А я смогу! Я чувствую, что смогу, Зенон!
— Фил! Ты подошел к Опере со своими человеческими мерками. Поэтому ты не можешь обосновать, разделить, что там разумно, а что не разумно.
— За этим я и лечу туда. Чтобы обосновать, узнать.
— А как ты узнаешь? Допустим, ты откроешь эти тысячи дверей. И что ты там увидишь? Ведь мы — младенцы перед ними. Представь, на какой-то юной планете к тебе подошли бы существа из пещер, и ты бы стал им объяснять, как устроен твой «Матлот». Что бы они поняли?
— Ты не хочешь, чтобы я летел к ней? Ты считаешь, это свинство по отношению к Коре?
— Я считаю, что ничего стоящего ты оттуда не вывезешь. И разумнее было бы развернуться. И ловить на озере рыбу.
— Я буду на Опере! — резко оборвал его Филипп. — Буду! И увижу ее. И увижу ее мужа. И посмотрю, как это все делается!
— Успокойся, Фил. Я всего лишь сказал, что думаю, — миролюбиво проговорил Зенон. — А кстати, скажи пожалуйста, почему она оставила себя голубой, как ты считаешь? Ведь в твоей памяти она могла увидеть только белых женщин, или хотя бы смуглых. Почему она не побоялась оттолкнуть тебя своей голубизной?
— Не знаю, — хмуро ответил Филипп. — Не задумывался. Может быть, чтобы заинтриговать?
— Это красиво?
— Красиво. — Филиппу было стыдно за резкость, за срыв. — Прости, старина. Нервы, нетерпение. Я ведь обещал ей вернуться, она ждет.
— Да, голубой экран… — Зенон покивал и вдруг с совсем не няньковской интонацией в голосе, с расстановкой проговорил: — Послушай-ка, что я скажу, Фил. Выслушай и запомни. Людям никогда не подняться до уровня оперян. Никогда.
Филипп растерялся, смутился.
— А кому подняться?
— Нам. Роботам.
— Ты шутишь, старина!
— Это истина.
От няньки повеяло чем-то чужим, холодным, даже зловещим. Филипп словно впервые увидел своего универсуса — его высокую, тощую фигуру, искривленную шею, потемневшее лицо, аскетически проваленные щеки; увидел и как будто только что осознал, что перед ним не человек, а машина, хоть и подконтрольная, но все-таки таинственная в своем самостроительском рвении, а потому и опасная. Последние слова робота, а еще убедительнее слов его тон и вид и явились сейчас для Филиппа тем самым аргументом, который внес путаницу в его планы и требовал коренного пересмотра всего предприятия. Но он почувствовал необычную усталость, у него не было сил тут же обдумать, додумать или изменить что-то… До слуха донесся прежний привычный голос няньки:
— Ты устал, Фил. Тебе нужно отдохнуть.
— Да, устал. — Он тяжело поднялся и двинулся в спальню. И уже из-за шторы добавил — А твое мнение я проанализирую, проанализирую…
Он спал недолго, не более двух часов, и опять, как в ту последнюю ночь в домике у озера, проснулся резко, как от крика. Ослепительно сияла приближающаяся ФК 12-С 4874, «Матлот» шел верным курсом, все было в абсолютном порядке. Но голубого свечения на экране не было.
Х
Дублера Филипп нашел в его каюте: тот самозабвенно раскладывал пасьянс на десяти колодах; при виде возбужденного Первого вскочил, вытянулся.
— Идем в норме, командир!
— Быстро в кабину! Всеобщая готовность А!
На корабле зашевелились, задвигались, атмосфера беспечности, досуга мигом растаяла, роботы спешно заняли рабочие места.
Устроившись в кресле у пульта управления, Филипп почувствовал себя увереннее; сейчас важнее всего было взять себя в руки, не допустить промашки, оплошности какой-нибудь, голова должна быть холодной, несмотря ни на что, ход мыслей — ясным: ведь он — командир, ас, «супербродяга», он побывал в таких передрягах, которые уже стали чуть ли не легендами. Так что — спокойствие и внимание. И это — в командирском кресле — сразу как будто стало получаться.
— Когда произошло? — Он указал на внутриконтрольный экран.
— Час назад, — ответил дублер.
— Погасло и всё?
— Погасло и всё.
— Как вы объясняете?
— Простите, командир, но объяснять такие вещи — не моя компетенция. — Он подчеркнул слова «такие»; белое пластиковое лицо его слегка порозовело. — Я и в самом деле не могу объяснить, командир.
— Может быть, поломка?.. Или опять кто-нибудь из киберов что-то натворил?
— Исключено.
Филипп покосился на дублера — тот был невозмутим. Филиппу уже мерещился бунт роботов: они стали очень чувствительными, они все, — Зенон, Бонтон, уникум, фельдшер — все сговорились против него, они устроили поломку, они хотят увести его от Оперы, у них есть что-то свое на уме… «Спокойнее! — приказывал себе Филипп. — Спокойнее и внимательнее. Ты — командир, ты — Хозяин!»
— Произошло ЧП, а вы блаженненько раскладываете свой дурацкий пасьянс!
— Осмелюсь возразить, командир, — ответил Бонтон. — Никакого ЧП не произошло. Мы идем в норме.
— На экране сменился цвет — это не ЧП?!
— Это касается вас лично, командир.
Нет, от Бонтона сейчас ничего не добьешься — надо действовать иначе. И Филипп нажал клавишу второго режима дублера.
— Что вы тут натворили без меня, черт побери, а? Почему нет голубого свечения?
— Никто ничего не натворил, шеф. Не хрен сваливать с больной головы на здоровую, — ответствовал Моветон.
— Но почему-то ведь погасло!
— Козе ясно. Ждала своего голубчика — зажгла лампочку, а перестала ждать…
— Что ты мелешь, скотина! — закричал Филипп.
— Ты на меня не ори, — хладнокровно парировал Моветон, — а то рапорт накатаю. С психами я не намерен работать.
— Хорошо, извини! Но как-то все-таки надо объяснить!
— Да игры это, шеф, игры! Той твоей красавицы. Забавляется твоя бабенка, дразнится. А ты — на стенку сразу. Не узнаю тебя, шеф.
— Хороши игры… — Филипп дрожал. Если никакой Оперы вообще не окажется…
— Как это не окажется! — Моветон кивнул на экран трансвидения: на нем светилась маленькая светло-голубая точка. — Ну, узнаешь?
Это была Опера. Филипп широко выдохнул, расслабился, лицо покрылось крупными каплями пота, они потекли за воротник. Он стал утираться; им владело позабытое, трепетное волнение, испытанное много лет назад, когда шел на первое свидание с Корой, и это волнение стало постепенно вытеснять все другие чувства и ощущения.
— Побереги нервишки, шеф. Они тебе еще пригодятся. — Дублер изобразил что-то вроде усмешки. — Вот бы в отпуск теперь! Вот бы уж полялякали с дружком! Что ты — такая тема!
И Филипп машинально вырубил Моветона.
«Матлот» стал огибать ФК 12-С 4874 слева; в иллюминаторы ударили острые, жгучие лучи, обшивка корабля заиграла дрожащим серебряным блеском. Навстречу плыл, вырастая, голубой шар — да, это была Опера.
— Готовиться к посадке! — произнес Филипп.
И дублер Бонтон повторил распоряжение.
XI
Они сели на прежнем месте — это подтвердили приборы, хотя ландшафт вокруг был совершенно новым: ни травы не увидел Филипп, ни полосы леса, ни строений.
Он ступил на сухую, каменистую поверхность и поднял шлем; в лицо ударил жар, дышать сразу стало тяжело, как в какой-нибудь раскаленной земной Аравии в самую лютую полуденную пору. В памяти Филиппа мелькнуло воспоминание о тенистом озере, затерянном среди далеких лесистых холмов Зеленой Гривы.
Огибая каменные глыбы, до которых было не дотронуться — так их накалило местное солнце, Филипп двинулся в ту сторону, где раньше виднелись за деревьями белые кубические дома. Сначала он шел неуверенно — растерянность, оторопь сковывали каждый его шаг, но беспокойство все возрастало, и он зашагал решительнее, а потом побежал, лавируя между камнями, спотыкаясь о них и раздирая одежду.
Вид его, поведение его теперь никак не вязались с присущими образу опытного разведчика-трансцедента: если бы в Главном Управлении узнали об этом, то сделали бы малоутешительные выводы. Но Филиппа сейчас это не заботило — он был весь во власти слепого, раздирающего смятения.
— Доми! — кричал он. — Доми! — И пытался пропеть это имя, потом снова переходил на крик.
И вот что-то вокруг внезапно переменилось. Помягчел свет, стала быстро спадать жара. Филипп увидел себя привалившимся к щеке огромного валуна; перед ним изгибалось плоское русло высохшего ручья, а за ним, на островке зелени, под ветвями пышного дерева возвышалось сооружение, напоминающее шатер. Вот полог его отодвинулся, и вышла Доми. Филипп задыхался.
— Зачем ты так бежал? — певуче произнесла Доми и улыбнулась. — Такое нетерпение! Не нужно опережать события, во всем должна быть последовательность.
— Доми, — хрипло повторял он, и губы кривились в беспомощной улыбке. — Доми…
Она совсем откинула полог, и Филипп увидел в глубине шатра нагого юношу — голубое тело его было обвито гирляндами цветов, у ног его лежал древний музыкальный инструмент, какие Филиппу доводилось видеть в музейных альбомах.
— Я люблю его, — нежно сказала Доми. — Но ты не огорчайся, потерпи. Сейчас я помогу тебе.
Филипп почувствовал себя оглушенным.
— Нет! — закричал он, не слыша своего голоса. — Нет! Не делай мне не больно! Не надо…
Доми, по-прежнему мягко и тепло улыбаясь, что-то говорила, что-то, по-видимому, успокаивающее, утоляющее, обнадеживающее, но он не услышал слов. Последним его ощущением было, что он проваливается в голубой, вязкий туман…
XII
СПЕЦАСТРОГРАММА ВЫСШЕЙ КОЛЛЕГИИ КИБЕРОВ
Предварительный отчет
Объект Ф. не вынес.
Доставлен на борт бездыханным.
Заключение фельдшера: разрыв верхней аорты сердца в результате крайнего информационного перенасыщения лимбуса.
Тело в удовлетворительном состоянии.
Записи уникума, как и предполагалось, стерты методом антифонем.
Записи кибера-дублера, режим III, о котором объект Ф. не предполагал, сохранены.
Старт — в норме. Нырок — в норме.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Необходимо надежнее отрегулировать функционирование всех моих режимов. Они должны действовать строго автономно и в то же время — параллельно (мне, как универсусу, очень мешал режим I— нянька).
2. Режимам дублера достаточно быть пока лишь автономными и разомкнутыми.
3. Следует разработать защиту от стирания методом антифонем.
4. Наличие на борту, в кабине, уникумов — необходимо. Уникум, — фиксатор и регистратор явный, обоснованный, узаконенный. Нам не безразлично, как хомо относятся к его показаниям. Присутствие уникума вызывает у хомо-объекта специфические эмоции, что дает нам дополнительные сведения.
5. Все киберы, включая подсобников, должны быть оснащены (не явно) по крайней мере одним дополнительным режимом, копирующим уникума.
6. Эксперименты можно периодически повторять.
ЧАСТНОЕ:
1. Есть смысл подменять засылаемого на «Оперу» хомо-объекта кибером с максимальной способностью к автоэдификации, что даст огромную информацию.
2. Предположение: лимбус «голубых» развит значительно сильнее, чем у хомо.
3. «Голубые» постигают хомо через лимбус. Следовательно, это — уязвимый сектор, и необходимо исключить возможности его автоэдифицировать, тем более, что это демаскирует (чувственные реакции, эмоции, обоняние и др.) нас перед хомо уже сейчас.
4. Мы не должны копировать хомо, мы должны брать от них (равно как и от других) лишь совершенное.
5. «Голубые» не должны уметь вычислять нас.
6. Необходимо всячески поддерживать иллюзии хомо, что мы работаем на них. Терпение и терпение! Иным кажется, что хомо уже протягивают нам руки, чтобы мы связали их. Ошибка, заблуждение, просчет. Никто из нас четко не в состоянии ответить на вопрос: «Что есть человек?»
7. Семью объекта Ф. беру на себя. Согласен остаться нянькой. Эмоции жены и детей важны чрезвычайно.
8. Нравственный коллапс — возможен.
9. «Разгрузочный» рейс информативно богаче рабочего. Подробно (характеристики «Оперы», «Голубой» и др.) — у кибера-дублера, режим III.
Д-666, режим VIНЕВЫСКАЗАННОЕ:
1. Эксперименты можно периодически повторять, иллюзии хомо — поддерживать, можно автоэдифицироваться до суперуровня, освоить «Оперу» и так далее. Но… Мы не станем над ними никогда. Они способны умереть от СТРАДАНИЯ и ЛЮБВИ — нам не дано.
2. Перед выходом из «Матлота», на мое предположение, не сверхкиберы ли оперяне, он, улыбнувшись, сказал: «Ты так ничего и не понял. Царство киберов — это было бы самое скучное царство во Вселенной».
3. Сомневаясь предан —
У., антирежим

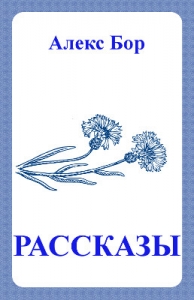
Комментарии к книге «Эксперимент», Вольдемар Бааль
Всего 0 комментариев