А. РЕННИКОВ ДИКТАТОР МИРА
Роман будущего
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Рассвело. Побледнев в лучах зари, в небе одна за другой меркли ночные световые рекламы. Медленно спускались вниз к своим ангарам на отдых дирижабли электрической станций с висящими, уже погасшими, ночными солнцами. На четырех гигантских башнях Берлина и Шэрлоттенбур-га затихли перед дневной сменой гудящие вентиляторы, очищающие дневной воздух… И сирена «Рабочего дворца» радостным воем возвестила об официальном начале дня.
Проснулся город, зазвенел, загудел. Потянулись по небу громоздкие аэробусы, отвозящие рабочих на фабрики. Взметнулись с площадок домов частные аэропланы, отошел с воздушной платформы Friedrichstrasse-Bahnhof первый утренний цепеллин-поезд. Среди многоэтажных домов в теснинах улиц запорхали на автоптерах, на автопланах продавцы булок, разносчики, торговки… И в семь часов в куполе «Храма труда» в Тиргартене ударил гулкий автоматический гонг, и над городом пронесся громкий голос Прокуратора Германской Социалистической Республики:
— Привет трудящимся!
После чего в небе грянул веселый марш.
— Газеты!
У окна квартиры доктора Штейна, находящейся в 18-ом этаже, на автоптере висит в воздухе газетчик. Уже 10 часов утра, а две главные берлинские газеты «Arbeiter Tageblatt» и «9 Uhr 25 Minuten Morgens Zeitung» выходят около этого времени. Доктор Штейн встает из-за стола, подходит к окну.
— Благодарю вас. A «Lustige Blatter»?
— Не вышел. Задержан цензурой.
— А что?
— Не знаю. Говорят, из-за рисунка. До свиданья!
Доктор Штейн садится снова за стол, придвигает пустую чашку жене, разворачивает «АгЬекег Tageblatt».
— Ариадна, налей, пожалуйста.
Жена Штейна — русская. В 1920 году, тридцать лет тому назад, когда ей было всего два года, ее мать, вдова офицера, бежала из Петербурга в Берлин и здесь вышла впоследствии замуж за немца-профессора. Дочь давно могла бы вернуться на родину: уже много лет, как в России, после длительной военной диктатуры, восстановилась монархия, условия жизни стали легче, чем во всей остальной Европе. Но разве она что-нибудь помнит о Петербурге? Кроме того, отчим умер только в прошлом году, мать не хотела его оставлять… А сама Ариадна два года назад вышла замуж за Штейна.
— Прочесть тебе телефонограммы?
— Нет… Спасибо…
Она неподвижно смотрит в окно на повисший между крышами лоскут синего неба. И этот прорыв кажется страшным. Все вокруг понятно: окна, кариатиды, аэропланные зонты на площадках. А он — прозрачный… Искрящийся. И — без дна… В бесконечность…
— Ты что: нездорова?
— Нет…
Она смотрит в глаза спокойно, равнодушно. Штейн пожимает плечами.
— Не пойму я тебя, Ариадна!
— Да, должно быть…
Он нервно пробегает столбцы, на некоторое время останавливается взглядом, затем снова рыщет среди многотысячных строк.
— Может быть, опять что-нибудь насплетничала Бенита?
— Ах, оставь… Просто — настроение.
— Настроение! Два года, все настроение!
Она апатично берет со стола вторую газету, просматривает.
Как все надоело! Во Франции по-прежнему конфликт между Палатой депутатов и Рабочим сенатом. Законопроект об уменьшении налога свободных профессий не утвержден… Возвращен обратно в Палату… В Англии забастовка художников… В Швеции — страхование семей рабочих на случай запоя главы семьи… В Тимбукту, на юге Сахары, сгорел кафешантан «Казино»… Во время исполнения кордебалетом популярной пантомимы «Грезы рабочего»…
Отвратительная пантомима!.. Как назойлива ее бездарная музыка, с рожками, гудками, стуком ложек в тарелки! Каждый день воздушный городской оркестр посылает с неба попурри этой пошлости во все окна… И нет спасения нигде…
Она вздыхает, встает, подходит к буфетному шкапу.
— Ты не брал моей книги, Отто?
Штейн поднимает голову.
— Да. Она в кабинете.
— Ты читал?
— Нет… Ей не место на буфете, когда есть книжные полки.
Ариадна отвечает молча — презрительной скучающей улыбкой. Выходит из столовой, возвращается. У нее в руках — издание дешевой стеклянной библиотеки, получившей большое распространение в последние годы. Вместо прежних бумажных листов — одна только пластинка формата книги. Вделана в деревянную раму. Вставив штепсель и нажимая сбоку пружину, можно на матовой поверхности последовательно проявлять все страницы. Одну за другой.
Книги эти дешевле. И, кроме того, посвящены оккультизму, мистике чисел, спиритизму, телепатии… Самым модным вопросам сороковых годов.
— Так, так… — задумчиво стучит Штейн по столу пальцами. — Опять, значит, придется в Рейхстаге призывать демократов к порядку… Ты что читаешь? «Жизнь за гробом»?
Голос — чуть заискивающий, с напускною веселостью. Она удивленно смотрит.
— Да.
— Я просматривал… Глупость. Хотя я и не крайний социалист, чтобы отрицать Бога… Хотя я и не клерикал, чтобы в Него верить… Но все в ней так бездоказательно! Кстати…
Он улыбается, нагибается над газетой, протягивает жене.
— Вот, прочти… Это тебя, наверно, заинтересует… «Таинственное радио». В отделе «Смесь».
Она покорно кладет книгу на стол, просматривает.
— Где?
— Не нашла? Ну, дай я. Погоди… Вот… Слушай:
«Таинственное радио.
Центральная мировая радиостанция на Монблане 18го апреля получила от подчиненных станций различных частей света донесения о странном перерыве в работе, происшедшем 17 апреля. В продолжение получаса волны какого-то могущественного аппарата парализовали деятельность станций, после чего всеми ими записано следующее сообщение неизвестно откуда:
С вами говорит Диктатор мира. Приказываю вам немедленно, по получении сего, оповестить правительства всех держав земного шара, что с настоящего момента, 12 часов дня по гринвичскому времени, я, по милости Божьей, принял власть над земным человечеством. Первого мая, в день вашего праздника, будет издан первый приказ по народам и нациям. Да исполнится воля Божья. Человечество должно обрести себя. Мною будут восстановлены попранные демократией и социализмом духовные ценности. Свобода творческого духа, искание правды, уважение к человеку, любовь к Богу возродятся снова, чтобы указать людям утерянный путь. Горе народам, пожелавшим идти наперекор мне. Горе правителям, не исполнившим моих распоряжений. Президенты, короли, императоры, палаты, сенаты, советы, военачальники армий всего мира, флоты всего мира — все отныне подчинено мне. В моей власти жизнь и смерть всех живущих. И один только надо мною повелитель — Всемогущий Господь».
— Ну-ка, дай номер… Что это? Шутка, конечно…
Ариадна заинтересовалась.
— Хорошо, если шутка… — смеется Штейн, вставая. — Но дело, наверно, значительно проще и хуже. Ведь радиотелеграфисты нашего времени дают наибольший процент психических заболеваний!.. Погоди… Кажется, звонят?
Штейн выходить в переднюю, открывает дверь, ведущую в лифт, любезно говорит с кем-то.
— Ариадна! Ты можешь выйти?
— А что, Отто?
— Это барон. Уезжает сегодня, пришел проститься…
II
Мать Ариадны сегодня плохо себя чувствует, лежит в постели. Отто не возвращается из Рейхстага, очевидно, обедает в ресторане с приятелями… А к трем часам приходит Бенита, предлагает совершить на аэроплане загородную прогулку.
— Аппарат до восьми часов не нужен отцу, — говорит она. — Хочешь в Дрезден, к Альтмюллеру? Выпьем кофе, вернемся…
Бенита, как всегда, веселая, добродушная. Ее отец, — председатель союза объединенных германских метельщиков улиц и помощник комиссара труда. Живется ей недурно — казенный автомобиль, аэроплан, два автоптера, на взморье у Свинемюнде в летнее время подводная лодка… И, кроме того, бесплатные билеты повсюду: в оперу, в театр пантомим, в фонокинематографы…
— Поезжай, деточка, — говорить Ариадне Софья Ивановна. — Мне сейчас лучше… А тебе надо освежиться: посмотри, какая ты бледная.
— Летим? — подтверждает Бенита.
Ариадна условливается, что к шести часам обязательно — назад. Она уже готова в дорогу: на ней высокий белый шлем с синей лентой вокруг, спускающейся до пояса сзади, мягкое деревянное черное манто…
Однако, звонок в передней изменяет план.
— В Дрезден? — презрительно усмехаясь, говорит знаменитый изобретатель доктор Штральгаузен, поздоровавшись и осведомившись у дам, куда они собираются. — Что вы нашли интересного в Дрездене, не Цвингер ли? Я предложу вам, mesdames, другой проект, если угодно: осмотреть мою лабораторию.
— А как наш стереопортрет? — вспоминает Ариадна.
— Относительно него и залетел… — самодовольно улыбается Штральгаузен. — Ваша Frau Mutter вышла великолепно, скажу без хвастовства. Но вы вот не так… А мне очень хотелось бы, Gnadige, демонстрировать перед публикой свое изобретение именно на вашем портрете. Разрешите сегодня снять снова?
— Наверно, я вам буду мешать, господа, — многозначительно смеется Бенита.
А Ариадна, избегая навязчивых глаз Штральгаузена, говорит строго, спокойно:
— Нет, если мы полетим, то полетим все вместе, Бенита.
В дороге почти не говорили, хотя мотор, работающий на переходе вольфрама в гелий, был совершенно беззвучен, а заостренная к носу глухая каюта не передавала внутрь воздушного вопля. Штральгаузен сам управлял. Подняв аппарат над Берлином, он поставил его неподвижно, дал дамам возможность полюбоваться панорамой и затем, взявшись за рычаг, обернулся:
— Можно уже?
Шпицы и купола зданий отбросило в сторону. Метнулся к западу Рабочий дворец, графлеными строчками под прозрачным полом зарябили мутные улицы. Над предместьями города мелькнули фабричные трубы, давно не дымившие, упраздненные переходом промышленности на энергию атомного распада… И через двадцать минут у плоского берега Одера, между Франкфуртом и Фюрстенбергом, аппарат уже мягко спускался к лаборатории «Ars», пользовавшейся мировой славой благодаря работам Штральгау-зена в области искусственного превращения материи в энергию.
— Я согласен с вами, Frau Штейн, что одушевленность невозможно получить техническими средствами, — снисходительно говорил Штральгаузен, сидя за столом в своем кабинете с узкими решетчатыми окнами и стараясь при помощи кофейника с чашками и бутылки с ликером быть радушным хозяином. — Но нам до сих пор не известно, в конце концов, что такое одушевленность… Ведь если мне удастся технически зафиксировать внешние проявления отдельного человека во всей их совокупности, а затем воспроизвести их, — может быть, этот снимок сам окажется живым человеком?
— Не совсем понимаю, — нерешительно произнесла Ариадна.
— Вообще не люблю философии, — капризно поморщилась Бенита. — Я лучше еще раз рассмотрю картины…
Бенита встала, подошла к длинной черной стене, на которой в узких золоченых рамах висели яркие движущиеся портреты, улыбавшиеся, что-то говорившие немым ртом, многозначительно кивавшие головами. Это были — миниатюрные кинематографические экраны, лишенные, однако, громоздкой надобности в проекционных фонарях.
— Я вам объясню свою мысль… — удовлетворенно скосил глаза Штральгаузен, глядя вслед уходящей Бените. — Ведь теперь, после того, как тайна превращения материи в энергию технически к нашим услугам, мы перешагнули прежнее заблуждение, будто техника — простая служанка промышленности. Уже восемь лет, Frau Штейн, как мир промышленной техники стал только одной незначительной областью всего великого целого — того, что профессор новой магии Коллис называет пантехникой. Да, мы подошли к магическому периоду техники, к техномагии, это вне всяких сомнений. Человек в старое время при помощи изобретений копировал то, что по частям находилось у него самого в организме: рычаги рук и ног, зрительные стекла глаз, мембрану уха… Все было развито, усилено, усовершенствовано… Но все было разбито на части, раздроблено… Старая техника не могла сложить подобные части в одно органическое целое. Она не могла их связать, вдохнуть в них то, что вы до сих пор называете душой. Для старой техники было только важно доведение наших отдельных свойств до грандиозных размеров: вместо рук — подъемные краны, вместо скромного глаза — телескоп в 100 дюймов в диаметре… И техномагия, как протест против смешения всей техники с технологией, ставит перед собою основной задачей заниматься именно не таким мертвым анализом, а творческим синтезом. Цель которого — достижение полной одушевленности.
— Что же? Снова что-нибудь вроде гомункулуса? — Ариадна говорила робко, смущенно. Но глаза светились, обычная грусть сменилась живым интересом.
— Нет, именно не гомункулуса! — пренебрежительно улыбнулся Штральгаузен. — Наивные времена гомункулуса безвозвратно прошли. Мы пойдем к достижению одушевленности новыми путями. Сначала добьемся воспроизведения материальных образов живого обычного человека, затем — созданием одухотворенного великана, руки которого будуть подъемными кранами, а глаза телескопами. Первый путь мне уже ясен — мы скоро преодолеем его. Ну, а что касается второго…
Штральгаузен смолк, загадочно посмотрел на Ариадну, встал.
— Пока займемся, однако, первым. Вот я сейчас покажу вам полученные стереопортреты… Вы сами убедитесь, что эта задача мною почти решена.
В темном, совершенно пустом зале со стенами, затянутыми черным сукном и лишенными каких бы то ни было отверстий для доступа дневного света, Штральгаузен нажатием кнопки засветил длинную трубку наподобие гелиевой и залил все пространство зала нежным фиолетовым светом.
Затем он прошел к противоположной стене, у которой, на некотором расстоянии друг от друга, были расположены четыре аппарата. И медленным вращением винтов стал наводить объективные отверстия приборов на центральное место зала, где с потолка спускался короткий металлический стержень.
— Вы с кого хотите начать? — раздался со стороны аппаратов озабоченный голос. — С себя?
— Все равно, доктор… Ну, пусть мама сначала…
Ариадна волновалась, но старалась не показывать этого.
Что же касается Бениты, то последняя не на шутку тревожилась:
— Дорогая моя, а с нами ничего не случится?
— Хорошо, пусть сначала Frau Muller, — глухо произнес Штральгаузен, скрываясь в нише стены, откуда шли к приборам электрические провода. — Вы простите, я сейчас потушу свет, и вам несколько мгновений придется пробыть в темноте.
Фиолетовая трубка погасла. В черном мраке стояла жуткая тишина, прерываемая иногда далекими тихими шорохами. Но прошло десять, двенадцать секунд — и центр зала начал постепенно светлеть. Под металлическим стержнем на полу образовалось матовое пятно; затем постепенно наверх стало вытягиваться дрожащее неясное облачко, принимая форму человеческого тела.
— Сейчас наведу на фокус, — донеслось из глубины недовольное бормотание Штральгаузена. — Эманометр что-то капризничает…
— Мама! — тихо вскрикнула Ариадна. На полу, посреди зала, окруженная светящимся воздухом, стояла Софья Ивановна, уже не в виде дрожащего расплывчатого призрака, а совсем живая, реальная.
— Ты бы лучше без меня снималась, Адик, — недовольно заговорил по-русски снимок Софьи Ивановны. — Не люблю я эти новейшие изобретения… Иди, стань на мое место!
— Вы можете подойти к своей матери, Frau Штейн, — торжественно произнес, стоя у ниши, Штральгаузен. — Обнимите ее, потрогайте: не бойтесь испортить.
Ариадна сделала несколько нерешительных шагов, но Бенита испуганно потянула сзади за руку.
— Не ходи… Ради Бога!
— Хотите, чтобы я? — после некоторой паузы насмешливо спросил доктор. — Хорошо, сию минуту… Закреплю только…
Через несколько секунд в глубине зала послышались уверенные шаги.
Сияние в центре пересекла быстрая тень. И Штральгау-зен подошел к дамам.
— Идемте, mesdames. Прошу вас обратить внимание не на световое изображение этих портретов, которое давно уже известно, а на осязательное и тепловое. Вот, смотрите, — продолжал он, когда все втроем приблизились к Софье Ивановне. — Вы видите? Протяните руку… Настоящее живое плечо!.. Голова… Глаза… Вы простите, что я невежлив по отношению к вашей почтенной матушке… Но это ведь не сама она… Копия. Лицо — теплое. И рука тоже. Троньте руку… Чувствуете?
— Твердая… — вздрогнула Ариадна.
— Но упругая?
— Да…
— И такой температуры, как живая?
— Да…
— Доктор, может быть, можно сидя? — печально заговорил портрет. — Хорошо, — повеселев, произнес он после небольшой паузы. — Адик, дай стул. Это прямо безобразие, — прошептал затем портрет сердито по-русски, — таскаешь старуху во время прогулок Бог знает по каким местам!
Недовольные глаза матери на мгновение встретились с глазами Ариадны и повернулись дальше. Под Софьей Ивановной очутился стул; кисть чьей-то руки на одно мгновение показалась на спинке, затем исчезла.
— Адик, — продолжала Софья Ивановна, — он просит что-нибудь сказать тебе на память. Так вот что… Если, действительно, портрет выйдет таким, как он говорит, немедленно уничтожь его, когда я умру. Неприлично мне после смерти продолжать говорить, улыбаться, оставаться на ощупь такою, какою была при жизни… Я не хочу этого, Адик. Слышишь?
III
Они возвращаются в Берлин к сумеркам. Уже задолго, с Фюрстенвальде, видны ослепительные диски только что зажженных ночных солнц. На бывших фабричных трубах у окраин стоят призрачные великаны, размахивающие огромными флаконами, коробками, туфлями, расстилающие перед собою в воздухе разнообразный яркие цветные ткани. Запад еще горит оранжевым отблеском, но на нежной вечерней зелени неба уже пробиваются плакаты: «Питайтесь искусственным белком д-ра Гейна», «Радуйтесь, лысые!», «Весь мир носит обувь из алюминиевой кожи»…
В эти часы первый воздушный ярус Берлина всегда оживлен праздной веселой толпой летательных аппаратов. В трех направлениях — на Фюрстенвальде, на Потсдам и на Ораниенбург — образуются встречные ленты фланирующей публики, отдыхающей после законченного дневного труда. Громоздких аппаратов не видно — они давно переведены на будничную деловую работу. Среди редких небольших монопланов на несколько человек — больше всего автопланов, — с одним или двумя креслами, — работающих над головой бесшумным винтом в прозрачном каркасе.
— Вы очень быстро идете, — недовольно говорит Штраль-гаузену Бенита. — Я не могу хорошенько рассмотреть знакомых! Ади, это не Буркгардт с дамой?
— Не знаю…
— Наверно! У него над аппаратом голубой фонарь… Какая обида — проскочили. Herr Кунце!… — кричит она, нагибаясь, — летите сюда!… Я хочу вам сказать несколько слов. Herr Кунце, — протягивает она руку вынырнувшему снизу молодому человеку с двумя красными мерцающими фонарями, — папа очень недоволен, что вы не занесли до сих пор проекта памятника неизвестному германскому металлисту. Зайдите завтра вечером, я предупрежу… А вы почему здесь? Разве Мелита летает не по Ораниенбургской линии? Ну, завтра поговорим… Хорошо, хорошо. До свиданья.
Огни цветных фонарей — к центру Берлина — гуще. Публика по преимуществу из рабочих союзов, из правящих социалистических кругов, из среды торговцев и промышленников тех предприятий, которые обложены пока в виде поощрения не особенно высоким налогом.
— Не люблю этой сутолоки… — хмурится Ариадна, кутаясь в мягкую ткань манто. — Скучная, серая толпа… Повернем назад…
— А по-твоему что же: лучше внизу, на улицах? У этих нищих — художников, писателей, теоретиков?… Погоди: это кто? Ади, смотри — Отто! Честное слово, Отто!
Навстречу аэроплану среди шумной толпы приближался двуместный автоплан с зеленым и красным огнями. Аппарат шел медленно; обгонявшие сбоку и сверху соседи недовольно оборачивались, так как несоразмеренностью хода он мешал общему движению. Забыв о руле, доктор Штейн о чем-то горячо спорил с сидевшей рядом баронессой Ос-терроде, очевидно, успокаивал ее, в чем-то оправдывался, а аппарат, лишенный управления, автоматически шел, не лавируя, не считаясь с пролетчиками.
— Я его окликну, Ади! — взволновалась Бенита. — Мне удобней отсюда. Хочешь?
— Не надо, Бенита.
— Как не надо? Ты именно покажи, что мы заметили. Это Бог знает что такое с его стороны! Каждый раз афиширует… Я окликну, Ади! А?
— Оставь… Не смей… Доктор, может быть, уже снизимся к Potsdamerplatz? Мне что-то холодно… Ветер.
Бениту завезли домой по дороге, и Штральгаузен, как видно, рассчитывал, что Ариадна пригласит его на вечер к себе. Однако, у нее разболелась голова. Она поблагодарила за прогулку, попросила как-нибудь прилететь на днях, стала прощаться.
— Когда оба снимка будут переведены на карманные аппараты, — сладко проговорил Штральгаузен, не отрываясь глядя в глаза, — я попрошу разрешения поднести их вам на память.
— Нет, доктор… Это неудобно… Чересчур большая любезность…
— Но если это доставить мне удовольствие? Откажете?
— Хорошо… Мы поговорим… После. Я сейчас устала…
— А один снимок будет у меня в кабинете. Около письменного стола… Всегда. Всю жизнь. Спокойной ночи!
Софье Ивановне к вечеру стало значительно лучше. Она встала с постели, приготовила чай, поджидала дочь в столовой за накрытым столом.
— Я бы тебе вообще советовала остерегаться и самого Штральгаузена и его изобретений, — недовольно заметила она в ответ на рассказ Ариадны о всем виденном в лаборатории. — Хотя он и знаменитость, и почетный член всех академий, — но мне напоминает манерами совсем не ученого, а провинциального фокусника прежнего времени.
Она закашлялась, сделала несколько глотков, пытливо посмотрела на дочь.
— А за твое отсутствие, знаешь, новость… Очень интересная…
— Новость?
Ариадна побледнела. В многозначительном и в то же время ласковом тоне почувствовала для себя что-то тревожное.
— Звонил по телефону какой-то профессор… Представился. Фамилия русская, но точно не разобрала: как будто, Корельский. Говорит, что прилетел по делам из Петербурга, привез мне пакет от Владимира Ивановича.
Невольный страх не обманул. Ариадна сразу, с первых слов матери, почувствовала, что речь будет именно о Владимире. Почему пришло в голову? Владимир уехал в Россию два года назад… После той сцены ревности, которая так ее оскорбила, заставила даже назло выйти замуж за Штейна… Два года она старалась не думать… Запретила матери вспоминать… И почему вдруг сейчас — та сказала: «интересная новость», а у нее сразу в мыслях — Владимир?
— Я не приму… — холодно произнесла Ариадна, вставая со стула и переставляя на буфете посуду, чтобы скрыть волнение.
— Кого? Профессора?
Софья Ивановна испугалась.
— Да.
— Ну и характер!… Ведь это глупо, в конце концов, Адик!
— Что глупо?
— Да вообще все… Вся ваша ссора. Ты прости, Адик. Не мое дело… Я знаю. Но ведь Владимир Иванович такой хороший, такой благородный… Если не ты, так я его ценю… Уважай мое мнение! Среди всех этих несчастных тупых демократов и социалистов — он такой умница, такая светлая голова. Никто из них и в подметки ему не годится.
— Ну, да… И что же?
— А то, что нельзя быть озлобленной так долго, Адик. Нехорошо, милая. Поссорились, не подошли друг к другу — и кончено. Но к чему злоба? Адик, когда профессор придет — будь любезной, не уходи к себе, как обыкновенно делаешь, когда кто-нибудь тебе не нравится. Для меня сделай. Я очень люблю Владимира Ивановича.
— Для тебя?
Ариадна задумалась.
— Ну, поди ко мне… Я тебя поцелую. Что ты так плохо выглядишь? Устала? Адик, а ну наклонись…
Ариадна нагнулась. С замиранием сердца ждала чегото.
— А знаешь что, Адик?
Ариадна круто повернулась. Быстро вышла из комнаты.
IV
Профессор Корельский оказался очень милым и интересным человеком. Держал он себя просто, естественно, говорил увлекательно, часто не без остроумия. И совершенно подкупил Софью Ивановну презрительным своим отношением как к социалистам, так и к бессильной оппозиции к ним со стороны европейской демократии.
За жизнью в России Софья Ивановна следила внимательно по распространенной петербургской газете «Крестьянин», которую аккуратно выписывала уже много лет. Но Корельский, конечно, сообщил ей в живом изображении много того, чего не может дать никакая газета.
— Да, да, — вздохнула Софья Ивановна, выслушав рассказ о деятельности Земского Собора за последнее время.
— Опять, значит, начинается старое! Когда Собор собирался раз в год, от него был и толк и польза… А теперь что ж такое? Чем отличается он от всех этих рейхстагов и палат и сенатов? Только и делают, что болтают, интригуют, мутят народ… Я бы на месте царя просто разогнала всю эту публику, и дело с концом…
— Ну, это легче сказать, чем сделать, — улыбнулся Ко-рельский. — Такое течение в Петербурге и в Нижнем Новгороде, конечно, есть. Но для этого нужно опираться на реальную силу, а армия, к сожалению, в значительной степени распропагандирована партией радиотелеграфистов.
Если вы подсчитаете голоса Собора по всем профессиям, то увидите, что всецело поддерживают правительство только духовенство, профессора университетов, педагоги, студенты и ассоциация российских кустарей. Крестьянский союз занимает центральное выжидательное положение… Мужики всегда так: «моя хата с краю»… А все остальное — в сильнейшей оппозиции к власти: сахарозаводная партия, суконная, башмачная, текстильный прогрессивный союз, восемнадцать рабочих ассоциаций, группа кинема-тографистов-республиканцев, радиотелеграфисты-индивидуалисты… Если законопроект о новом изменении конституции пройдет, император безусловно отречется от престола.
— Что вы говорите! Значит, опять смута?
— Не знаю… Может быть.
Корельский задумался. Быстрым, как будто случайным взглядом окинул сидевшую за столом Ариадну и с презрением добавил:
— Что же… Этого надо было ожидать. Ведь когда народам дают право высказываться, они всегда ходят по кругу, как лошади в цирке. Сегодня морда в одном направлении, завтра — в другом. А в центре движения — пусто.
— Я помню наши времена… Когда была еще барышней… — грустно заговорила Софья Ивановна. — Ведь что происходило в Петербурге перед революцией! Не приведи Господи. Все будто только того и желали, чтобы сделаться беженцами. В Государственной Думе не заседания, сплошная истерика. В газетах не статьи, а прокламации. Потом видела здесь, в Берлине, многих из этих почтенных деятелей. Не социалистов, конечно, — я с ними, как и с чумными, никогда дела не имела… А своих — монархистов, националистов. «Ну, что, миленькие, — спрашиваю, — устроили прогрессивный блок? Прогрессируете в Берлине-то?» А они — вместо того, чтобы плакать, — улыбаются. На черта сваливают: «Черт попутал, Софья Ивановна». Скажу вам правду, я на наших правых всегда больше злилась, чем на левых. Те что? Тем все равно — царь не царь, Россия не Россия… Лишь бы разбитое корыто после революции разделить по программе поровну. А наши куда смотрели? Черт попутал! А зачем черта к себе пускали? Что они от черта ждали: что тот ради их прекрасных глаз ангелом себя проявит?
— Мамочка, тебе налить?
Ариадна прервала нарочно. Когда Софья Ивановна начинала вспоминать прошлое, ее трудно было остановить. В особенности, если собеседник нравился.
— Да, налей… Я, дорогой мой… Простите, ваше имя-отчество?
— Глеб Николаевич.
— Глеб Николаевич. Я, миленький, много за свое время всего передумала. И покойный муж Ганс всегда со мной соглашался… Не только за жизнь в Петербурге, но и здесь, когда беженкой была, ясно почувствовала, что это за публика русский народ, когда над ним палки нет. Не то что рабочий какой-нибудь или мужик… Генерал даже, почтенный генерал и тот равновесие теряет! Стоит, растерянный, как былинка в поле, от всяких фантазий качается. Только при крепком начальстве русский человек и бывает умен. И в глазах тогда смысл, и разговор настоящий, солидный, и походка с достоинством. А что происходило после революции? Вы мальчуганом тогда были, вам не вспомнить, конечно… Но я видела: серьезные люди, уважаемые — и вдруг не узнать: приготовишки какие-то. Сорванцы! Будто во двор на большую перемену выскочили! Ганс правду говорил: «Помни, Сонни, ваша русская культура принадлежит к тем продуктам, которые получаются под прессом, как вино, например, или масло». Я сначала даже, признаться, обижалась. А потом согласилась. Без нажима из русского человека, действительно, ничего не получишь: как виноград — перезреет, свалится и загниет.
— Правильно, совершенно согласен, — с удивлением поглядел на бойкую старушку Корельский. — Просвещенный абсолютизм для нас, русских, конечно, самая лучшая форма, это показала история. Но я все же думаю, что эти мысли справедливы не только по отношению к России, а вообще ко всему человечеству. В Петербурге, скажу вам по секрету, давно образовалась тайная интернациональная лига, которая поставила целью свержение социалистических и демократических правительств и восстановление всюду просвещенного абсолютизма. Форма, конечно, не такая, какая была в 18-м веке… Сейчас время другое. И ошибок повторять не следует. Однако, поверьте мне: не только русский, но вообще всякий народ всегда инстинктивно рад, когда власть над ним осуществляется сама собою, а не по его желаниям и выборам. Владимир Иванович, с которым мы нередко беседовали на эту тему, идет даже дальше. Он считает, что достойному правителю гораздо приличнее сначала получить власть, а потом симпатии народа, чем сначала симпатии, а потом власть…
До сих пор о Владимире Ивановиче ни Софья Ивановна, ни тем более Ариадна не расспрашивали Корельского. Корельский же, знакомясь с дамами, в свою очередь, только передал краткий привет, а затем, зная о ссоре, решил дипломатически выжидать, пока собеседницы поднимут сами разговор о его друге.
— Ах, мы тоже так часто говорили с Владимиром Ивановичем обо всем этом! — радостно улыбнулась при вос-поминаиии о Павлове Софья Ивановна. — Его непримиримость и, как бы сказать, внутренний аристократизм — меня всегда приводили в такой восторг! Кстати, вы ничего еще не сказали… Ну, как он? Женился, наверно?
— Нет… Не женат.
— А где сейчас? В Петербурге?
— Нет… Уехал… довольно давно.
— Что вы! Уехал… А Сорокины говорили, что там. Будто снова профессором физики. Что же? В провинции?
— Нет… Вначале он, действительно, читал лекции в университете… Но зимой прошлого года отчего-то захандрил, решил бросить научную деятельность, продал патент на зрительный прибор для слепых за огромную сумму и уехал. На остров Яву.
— На Яву? Да что вы? Навсегда?
В восклицании Софьи Ивановны слышалось искреннее сожаление.
— Да, навсегда… С ним вообще что-то сделалось в последнее время… Во-первых, разочарование в политическом строе России… После того, как Земский Собор ограничил права императора… Затем общий скептицизм по отношению к нашей цивилизации… Увлечение идеей, будто человек должен вернуться к первобытному состоянию и начать после этого свое совершенствование на новых началах… Прежде, чем переехать на Яву, Владимир Иванович около двух месяцев пробыл в Америке. Ликвидировал там отношения с одной фирмой… А затем купил участок земли около Зондского пролива, выстроил дом, развел сад. И живет отшельником.
— Как жаль, как жаль! — вздохнула Софья Ивановна, с упреком бросив взгляд на Ариадну. Та молча сидела, как-то странно выпрямившись на стуле. — Теперь, может быть, нам не придется и увидеться с ним… А вы были на Яве? Видели, как устроился?
— Да, летал к нему в начале весны… На «Илье Муромце»… У нас теперь есть раз в неделю курьерские: «Петербург — Калькутта — Мельбурн». Дом у него отличный — дворец, если хотите. И природа… Фантастическая. Ява вообще всегда отличалась диковинными цветами, животными… Там, возле Батавии, целый естественнонаучный городок, несколько приютов для престарелых английских казенных огородников. Живет Владимир Иванович совсем обособленно, ни с кем не знакомится, есть, конечно, прислуга, сторожа… Был я всего три дня… Недолго. Но беседуем мы теперь часто, благодаря микрорадиотелефону, который недавно изобретен в Америке. Кстати, по поручению Владимира Ивановича я привез один экземпляр этой новинки и вам. Разрешите взять из передней пакет?
Раскрыв небольшой алюминиевый ящичек, Корельский осторожно вынул из ватной обертки блестящий цилиндрический прибор размером не больше чайного стакана. Он осмотрел его со всех сторон, поочередно нажал несколько кнопок, приложил аппарат к уху, поставил, наконец, на стол.
Софья Ивановна и Ариадна молчали. Старушка сильно волновалась, на морщинистых щеках даже выступило нечто вроде румянца. Ариадна была бледнее обыкновенного, карие глаза стали совсем черными под надломленными сосредоточенными бровями, будто ушли вглубь…
— Хотите, может быть, вызвать? — любезно обратился Корельский к Софье Ивановне. — Я настрою на его волну… У нас сочетание С-13.
— Кого? Владимира Ивановича? Конечно… Господи! Господи!..
Старушка перекрестилась.
Корельский придвинул к себе аппарат, нажал сначала одну кнопку, затем другую. Надавил сверху миниатюрный рычаг.
— Владимир!
Молчание.
— Владимир? Ты в кабинете?
Молчание.
— Наверно, сейчас подойдет, — отодвинулся от стола Корельский, — аппарат будет у него гудеть, пока не услышит… А удобная вещь, — продолжал он, с любовью взглядывая на телефон. — Вы можете поставить где угодно в комнате и разговаривать в другом конце, не подходя близко… Вообще, как развилась за эти десять лет микротелефония! Ага… Простите…
Со стола раздался нежный гармонический звук. Будто аккорд отдаленного органа. Затем громкий голос ясно и четко проговорил:
— Я слушаю. Это ты, Глеб?
— Да… Угадал, — улыбнулся Корельский. — Здравствуй, Владимир. Я исполнил поручение. Аппарат стоит сей-чась в квартире у Софьи Ивановны и Ариадны Сергеевны. Обе дамы тут, возле меня. За столом.
— Владимир Иванович, здравствуйте, миленький, здравствуйте, — придвинулась Софья Ивановна к аппарату, вытянув шею и ласково качая вперед головой. — Сколько времени о вас ни слуху, ни духу! Как живете? Нехороший вы!..
— Здравствуйте, Софья Ивановна, — ответил сдержанный, но как будто взволнованный голос. — Вы говорите: нехороший? А что? Опять в чем-нибудь провинился?
— Нет, нет… Я шучу. Я так счастлива, дорогой, что слышу вас! Скажите — неужели вы говорите сейчас с Явы?
— Да, с Явы…
— Боже, Боже… Вот чудеса! Адик, ты не здоровалась? Погодите, Владимир Иванович. С вами будет сейчас говорить Ариадна… Адик… Ну?
— Здравствуйте, Владимир Иванович, — с усмешкой в лице проговорила Ариадна, медленно расставляя слова, точно с усилием. — Очень рада встретить вас на Яве… Что поделываете? Отдыхаете?
— Адик!.. — укоризненно прошептала Софья Ивановна.
— Да, отдыхаю, — иронически ответил голос Павлова.
— Если бы вы знали, Ариадна Сергеевна, какая здесь природа… Все можно забыть!
— Я представляю… Конечно.
— А как доктор? По-прежнему депутатом в Рейхстаге?
— Отто? Да… В этом году в президиуме… Товарищем председателя. Ну, очень рада… С вами будет сейчас говорить мама, Владимир Иванович…
— Что со мной случилось? — неестественно весело проговорил Павлов в ответ на длинную речь Софьи Ивановны о прежнем его интересе к общественной жизни и о неожиданности перехода к отшельничеству. — Ничего, уверяю вас. Никакого перелома!… Глеб Николаевич, очевидно, сгустил краски. Конечно, общественность мне порядком надоела… Об этом вы уже давно знаете… Видеть сразу много голов, много ног… Слышать гул голосов… Мысли… Крики… Призывы. Скучно! Я теперь, Софья Ивановна, уже, слава Богу, не депутат, не физик, не профессор, а просто-напросто цветовод и праздный наблюдатель природы. И бесконечно рад этому.
— Счастливец! — вздохнула Софья Ивановна. — Я вас так понимаю! Ведь подумайте: у нас в городе в прошлом году вырубили последние деревья в Тиргартене, чтобы поставить памятники великим социалистам. Великих социалистов, разумеется, оказались так много, что получилось нечто вроде братского кладбища. А дерево оставили только одно: окутали проволочной сеткой, огородили и таблицу прибили. Чтобы школьники знали. Вы для чего цветы разводите, Владимир Иванович: так? Или для продажи? А что у вас — какие сорта? Я когда-то занималась…
— Что хотите… Розы, камелии, азалии, гортензии… Туберозы, хризантемы, гардении…
— Боже!
— Цветущие деревья есть — мимозы, олеа фрагранс, магнолии, питосфорум.
— Милый! Вот если бы мне к вам!
Корельский улыбнулся при восклицании Софьи Ивановны. Ариадна нахмурилась.
— А вы хотите? — раздался ласковый смех. — Так вот… приезжайте! Будем вместе разводить, ухаживать… На экспрессе долетите в 36 часов. Всего 7000 километров.
— Ну, что вы! Это я так… — встревожилась старушка. — Куда мне на Яву! Такое путешествие не для старухи. Я до сих пор вот боюсь, когда меня Адик вытаскивает на аэроплане за город… Адик… Ты как думаешь: могу разве я?
— Тебе виднее, мама. Не знаю…
Ариадна встала, провела рукой по лбу, поправила волосы.
— Мне что-то нехорошо. Я пойду, прилягу. Вы простите меня, — устало улыбнулась она Корельскому. — Владимир Иванович, до свиданья…
Штейн в этот день вернулся после полуночи. Софья Ивановна засиделась с Корельским и с голосом Владимира Ивановича до одиннадцати часов и не заметила, как прошло время. О слабости, которая была днем, уже не вспоминала. Без умолку говорила, сначала о политике, потом о театре, об изобретениях, об увлечении дочери магией, спиритизмом, оккультизмом. Осторожно, как бы случайными вопросами, Павлов выпытал от Софьи Ивановны все подробности жизни Штейнов, узнал об их холодных отношениях друг к другу, об увлечении Отто баронессой. Вначале Софья Ивановна была в своей откровенности несколько сдержана; но когда Владимир Иванович заявил, что Ко-рельский — его лучший друг, от которого он ничего никогда не скрывает, высказалась до конца, отвела душу.
— Если разрешите, я вас буду часто тревожить, — сказал на прощание повеселевший голос Владимира Ивановича.
— Вам это не будет в тягость, скажите правду?
— Вы знаете, что к вам я всегда относилась, как к родному… — растрогано произнесла Софья Ивановна. — Каждый день буду обязательно вызывать. И вы тоже. Спокойной ночи, мой милый.
— Спокойной ночи, Софья Ивановна. Хотя мне, собственно говоря, вставать пора. У меня утро.
Телефон глухо щелкнул. Корельский встал, подошел прощаться.
— Заходите, пожалуйста… — ласково протянула руку старушка. — И почаще… Всегда буду рада… А? Хотите что-то сказать?
Она вздрогнула. Он оглянулся, придвинулся ближе, протянул два небольших кружа с выпуклым дном.
— Желтую мембрану, — прошептал он, — оставьте в квартире у баронессы… Зеленую — в комнате Ариадны Сергеевны. Может быть, это упростит дело…
V
Празднование первого мая в этом году, как и обычно за последнее десятилетие, было обставлено в Берлине с большою торжественностью. С раннего утра дома разукрасились розовыми флагами с изображением рычага и наклонной плоскости — гербом Германской Социалистической Республики. Над городом реяли воздушные машины, обвитые искусственными бумажными цветами, спускавшие вниз длинные разноцветные ленты с надписями: «Счастье республики — в страховании рабочих!», «Да здравствуют пенсии!», «Слава в элеваторах хлебу!»
В воздухе играли несколько шумных оркестров главных гвардейских полков имени Мануфактуры, Кожи, Сахара, Муки. В третьем ярусе, с высоты трех километров, аэропланы сбрасывали картонные бомбы, разрывавшиеся с гулом, обсыпавшие крыши и улицы веселыми хлопьями конфетти. И над окраинами города длинные громоздкие дирижабли грохотали орудиями, салютуя воздушным процессиям отдельных заводов и фабрик.
Доктор Штейн около десяти часов вышел из дому. Первое мая было одним из редких дней, когда социалисты и независимая демократия объединялись, когда праздник правительства был также праздником и оппозиции. В этот день в Рейхстаге, по обыкновению последних лет, происходило торжественное заседание обеих палат — Рейхстага и Рабочего Государственного совета. И председательствовал на заседании Прокуратор республики.
До начала торжества оставалось почти два часа. Штейн поднялся по лифту на площадку крыши соседней гостиницы, махнул тростью:
— Аэро!
Он сделал несколько официальных коротких визитов — супруге председателя союза кельнеров, жене главы металлистов, семье покойного председателя рабочих центральной электрической станции… И к одиннадцати часам был уже в Рейхстаге. Остававшийся свободный час можно было бы, конечно, посвятить баронессе Остерроде. Но Софья Ивановна почему-то собиралась сегодня до обеда навестить баронессу. Благоразумнее, поэтому, свой визит отложить на вечер…
— Что нового, Фриц? — весело спросил Штейн молодого журналиста Гольбаха, усевшись на мягкий диван в помещении бюро печати при Рейхстаге. Гольбах был известен в Берлине, как талантливый публицист и репортер. Но по обычаю, установившемуся за последнее время, социалистические журналисты обыкновенно вставали, когда в помещение входили члены их партий. И Гольбах почтительно вскочил.
— Первый телефон уже принят с Эйфелевой, господин доктор, — проговорил он, чуть-чуть изогнув спину. — Из Рима тоже полчаса назад получили.
— Садись, Фриц… Ты же работаешь…
— Покорно благодарю… Желаете, может быть, ознакомиться?
— А что… Есть особенное?.. Что в Париже?
— В Париже печально, господин доктор. Палата депутатов отказалась от совместного чествования… В виде протеста за особый налог на профессоров философии. Сообщают, будто ожидаются даже беспорядки со стороны членов Академии наук…
— Ого! Осмелели. Интересно… Еще что?
— В Константинополе кое-что… Президент арабской республики объявил по случаю первого мая амнистию… Всем муллам, осужденным за отпевание усопших… А вот еще… чуть не забыл! Только что получено. Вы изволили читать около недели назад заметку о таинственном радио?
— Сумасшедшего? Помню… Да.
— Точно так, сумасшедшего. Так сегодня опять… Но уже более любопытно. Я бы сказал, если позволите, даже тревожно.
— Да что ты? А ну… Покажи-ка…
— Сейчас… Сию минуту… Пятый лист, восьмой, десятый… Вот.
Гольбах сделал значительное выражение лица, не лишенное, однако, сознания скромного своего социального положения, робко кашлянул, начал:
«Еще о таинственном радио…
Центральная мировая радиостанция на Монблане сообщает об удивительном случае, происшедшем на ней сегодня в семь с половиной часов утра. Находившиеся на станции служащие в числе ста двадцати пяти человек, в разгар очередной своей работы, вдруг одновременно почувствовали какое-то легкое недомогание. Вслед за тем неожиданно наступило полное оцепенение. Никто не мог ни пошевельнуться, ни произнести слова, ни расслышать, ни увидеть, что происходит вокруг. Находясь в полном сознании, служащие тем не менее пробыли в этом оцепенении ровно полчаса, по истечении которых явление исчезло…»
— Атмосферное электричество! — презрительно пробормотал Штейн.
— Простите?.. Атмосферное?
— Индукция… Влияние аппаратов, мало ли что!
— Это возможно, конечно. Индукция… Но вот, разрешите дальше… Дальше значительно хуже…
«Спустя пятнадцать минут радиотелеграф той же станций принял странное сообщение, которое в связи с предыдущим происшествием наводит на тревожные размышления. Мы приводим текст сообщения полностью, предоставляя публике самой сделать выводы:
«Я, Диктатор мира, объявляю всем подвластным мне народам* Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Островов, что с сего числа, первого мая, мною предпринимаются в порядке постепенности коренные социальные и политические реформы во благо человечества и во имя Всемогущего Бога.
С прискорбием наблюдая всеобщее оскудение духа среди вверенного моей власти населения Земного шара; с отеческой жалостью видя угнетение лучших моих сыновей худшими, разумных глупыми, ученых неучами, честных мошенниками, застенчивых наглыми, утонченных безвкусными; со страхом взирая на постоянную борьбу за власть, на которую уходит драгоценное для самоусовершенствования время; с беспокойством наблюдая, как интересы народов оберегаются теми, от которых народы сами должны оберегать себя, а тюрьмы строятся теми, кто должен сам быть немедленно в них заключен… Видя, обозревая, наблюдая все это, я со смирением в сердце перед Господом Богом и с твердой решимостью перед земным человечеством приступаю к осуществлению своих начертаний.
А посему, в первую очередь, повелеваю:
В недельный срок со дня сего эдикта распустить все парламенты мира, все палаты верхние, нижние, все советы, соборы и сенаты, обладающие законодательной властью. Закрыть клубы и бюро всех партий и фракций. Обратить в благотворительный фонд все партийные суммы, всю недвижимость их и всю движимость. Императорам, королям, президентам, прокураторам и всем правительствам мира оставаться на своих местах в ожидании дальнейших моих распоряжений.
В случае неисполнения сего эдикта за № 1, мною будет применена к непокорным столицам первая мера наказаний:
Всеобщий двигательный и чувствительный паралич населения сроком на 24 часа: от 12 час. 8-го мая по 12 час. 9 мая.
Дано в крепости Ар, 1 мая 1950 г.»».
— Как это понять? — после некоторого молчания задумчиво произнес Штейн, взяв в руки бюллетень и перечитав снова его. Он с тревогой почувствовал, что к концу чтения текста его праздничное веселое настроение куда-то исчезло. — Что ты на это скажешь, Фриц?
— Я? Мне трудно самому… Без указаний… — уклончиво пробормотал Гольбах. — Во всяком случае, многоуважаемый доктор, когда я прочел незадолго перед вами эту телефонограмму Штральгаузену, он отнесся к ней чрезвычайно серьезно. Даже удивительно, как нервно принял известие… Простите, телефон. Из Гринвича…
Гольбах направился к аппарату, в котором раздалось гудение и возле которого пишущая машинка быстро защелкала, автоматически записывая текст.
— Чепуха! — тряхнул головой Штейн, с улыбкой вставая и направляясь к двери в зал заседаний. — Просто, — наверно, шутка центральной станции по случаю праздника!..
Он уже закрыл за собой дверь, когда испуганный Гольбах громко воскликнул, держа в руке лист:
— На Гринвичской станции тоже оцепенели!
VI
Обычай делать визиты первого мая получил давно распространение во всей Европе. Не только правящие социалистические круги, но оппозиционная демократия и даже непримиримые тайные роялисты и члены нелегальных противоправительственных лиг восприняли первомайский обычай. Ариадна в этот день с утра принимала визитеров и до изнеможения варила в электрическом кофейнике кофе, сама принося, унося и промывая стерилизатором чашки. Как известно, декретом Прокуратора республики уже три года как воспрещено гражданам пользоваться трудом наемной прислуги.
Чтобы избежать визитеров, Софья Ивановна с полдня отправилась в город, намереваясь, между прочим, зайти к баронессе Остерроде взять одолженный ей номер поваренного журнала «Автокулинар». За время отсутствия Софьи Ивановны у Ариадны перебывало визитеров немало. Залетал председатель союза кельнеров, Herr Шмидтен, изящный молодой человек, рассказавший о всеобщем увлечении Европы новым шампанским «Универсаль», приготовляемым из искусственного алкоголя и антрацита. Были Herr Брандт, простодушный глава рабочего союза «Мясные консервы», Herr Кунце, чиновник комиссариата воздушных дорог, знакомый Бениты; было еще много других: доктор Штейн вообще пользовался симпатией и демократических кругов и правительственных сфер, как лидер партии правого социалистического центра в Рейхстаге. И круг знакомств его был довольно разнообразен.
От баронессы Софья Ивановна вернулась в сопровождении Штральгаузена. В это время Herr Кунце, пересидевший других визитеров, мучил Ариадну своими рассуждениями о современном искусстве и подробно передавал содержание серьезных драматических пьес, которые видел в последнее время.
— Ну, и что же? — равнодушно смотрела Ариадна на пестрый галстух Кунце. — Кончается все хорошо?
— Если бы хорошо, Gnadige! Но в том-то и дело: содержание великолепно, а финал глуп. Стоило тратить деньги на одну женщину, чтобы жениться потом на другой? Рецензент «Arbeiter Tageblatt» прав, что такие пьесы демора-лизующе действуют на хозяйственные способности зрителя… Конечно, пьеса, если и привлекательна, то только трюками. Удивляюсь, например, как этот Альберт, возлюбленный Минны, бросаясь с потолка зрительного зала на сцену, не разбивается! А в цирке бываете?
— Нет… Несколько лет, кажется, не была…
— Очень жаль! «Circus Maximus» сейчас великолепен. Возьмите хотя бы осла Джимми, который решает задачи на составление уравнений с двумя неизвестными! А доктор Краген? Политический эксцентрик, как его называют?.. Удивителен! Кто угодно из публики дает тему, и он, представьте, сразу произносит блестящую парламентскую речь. С цифрами, с аргументами, с историческими справками. И для какой угодно партии. Кстати, может быть, соберемся сегодня вместе? Жалеть не будете, Gnadige!
— Нет, благодарю… Как-то нет настроения…
— А в «Рабочий дворец»? Сегодня — пантомима «Роман в фаланстере»… Погодите, что еще дают? Я помню репертуар: в Opernhaus'е «Капиталист-скиталец»… В оперетте Тиргартена «Превращение элементов». В оперетте Куно «Машина Мюнхгаузена». В драматическом в Шарлоттен-бурге, кажется, мелодрама «Дитя металлиста»… В фоно-кино-Паласе — «Загадочный девятиугольник…» В фоно-киноКазино…
— Здравствуйте, доктор, — обрадованно произнесла Ариадна, прервав вдохновенные перечисления молодого человека. — Мама, была у баронессы?
— Да. Мы вместе оттуда. Взяла журнал…
Не добившись согласия, Негг' Кунце грустно откланялся. Софья Ивановна отправилась на кухню. И Ариадна осталась в гостиной с доктором.
— Вы простите, что я против правила, — печальным, несвойственным для него тоном проговорил Штральгаузен.
— Теперь пять минут четвертого, а ведь в три все визиты без приглашения кончаются… Но я бы хотел, Frau Ариадна, сегодняшний вечер обязательно провести у вас. Мне, в общем, очень нехорошо…
Он был неузнаваем. Где обычная самоуверенность? Снисходительность? Покровительственное отношение к собеседнику?
— Ну конечно! — дружески произнесла Ариадна. — Вы ведь знаете, какое удовольствие доставляют ваши беседы… А что с вами? Неприятность какая-нибудь?
То, что всегда так не нравилось в нем, — сейчас как будто исчезло. И ей представилось: если бы он был всегда таким… Простым… Гениальный ум при отсутствии рисовки, при искренности, при интересной внешности…
— Неприятность? — поднял он на нее грустные глаза. — Я сам не знаю… Да, конечно, неприятность. Даже больше: горе. Нет, нет! — вскочил вдруг он, страдальчески улыбаясь. — Счастье! Я пойду дальше! Я сделаю больше! Но только…
Он сел. Сидел долго молча, опустив голову, не двигаясь. Затем посмотрел на нее… Совсем не тем взглядом, который ей всегда бывал так неприятен. В этом взгляде сейчас — как будто надежда на что-то, тоска в то же время…
— Вы понимаете, Frau Ариадна, — заговорил он наконец, — несмотря на то, что меня всюду так ценят, оказывают знаки внимания, уважения… Мне некому даже открыться. Некому рассказать о том внутреннем, что происходит в ответственные минуты. У меня нет друга! А когда голова кружится… Когда вдруг или блеск… Или неудача… Вроде смерти… Провал на всю жизнь… Когда… Например…
— Доктор… Что с вами?
— Нет, нет. Сейчас пройдет. Нет, нет.
Он закрыл глаза, виновато улыбаясь и мягко проводя ладонью по виску, точно успокаивая его. Что случилось? Ариадна никогда не питала к Штральгаузену большого расположения. Но сейчас он был так несчастен… Так подавлен… Горем? А, может быть, радостью? Действительно, ведь он одинок… Замкнут… Она об этом раньше не думала…
— Вы не хотите? — спросил вдруг он тихо, с искривленным лицом, которое сделалось таким детским, беспомощным. — Вы откажетесь? Нет?
— В чем дело? Доктор…
Ариадне стало страшно.
— Вы рассмеетесь? Вот, если я скажу: будьте другом. Моим… Навсегда…
— Мы ведь и так, доктор…
— Нет, нет. Совсем. Чтобы бежать. Бросить все. Я прокляну это… Лабораторию. Славу. Не надо ничего… Не нужно больше. Материя… Энергия… Ужасные волны… Пусть будут прокляты! Душа есть, Ариадна, есть!.. Вот, у вас — у вас… Я ее вижу… Большая. Неизвестная. И у себя… нашел. У себя! Сегодня… Весь мир берет у меня волны… Материю. А кому — она? Хотите, Ариадна? Возьмете?
— Доктор…
— Не полюбите? Нет? И не смейте! Я неискренен. Да! Не все говорю! Да, да! Скрываю. Честолюбие… Тщеславие… Прогнил в них… Насквозь. И души, может быть, нет. Ну, отлично! Ясно. Прощайте!
— Доктор… — протянула руку Ариадна, — вы хороший, славный… Когда вы успокоитесь, тогда…
— Не полюбите?
— Доктор… Не надо этого…
— Не надо?.. Да, да… Да, пора. Ведь, теперь четверть… Извините — задержал. Прощайте, Frau Штейн!.. Очень рад был… До свиданья!
Наступал вечер. Сгущались сумерки. Ариадна сидела в мягком кресле у окна, при свете электрического городского солнца дочитывала недавно вышедшую в свет книгу Штральгаузена. Уже около месяца, как он поднес ей этот экземпляр, снабдив его длинным витиеватым автографом.
Но до сегодняшнего дня она успела прочитать только предисловие президента Академии наук, введение самого автора и несколько первых глав. Называлась книга: «Колебания от нуля до бесконечности» и, судя по первым главам, была как будто сухой, специальной. Но со второй части начинались любопытные мысли. В главе «Новые виды энергии» Штральгаузен развивал предположения о том, что человеческий организм в скрытом виде воспринимает все колебания эфира в обе стороны от светового спектра. Если сотни биллионов колебаний нами ощущаются, то почему не ощущаются десятки биллионов? Биллионы? Миллионы? Осязание, быть может, и есть то ощущение, которое соответствует одной из групп этих волн? Внутренние органы тела, быть может, тоже специфически реагируют на эти низшие эфирные волны, точно так же, как глаз реагирует на световую группу лучей? А если так, то нельзя разве предположить, что и все наши аффекты, и все настроения, и ощущения здоровья и ощущения слабости — результат воздействия невидимых физических раздражителей? Этих неизвестных лучей ниже световых и выше световых — до бесконечности.
Аппарат, над созданием которого, судя по заявлению в книге, работает теперь автор, должен дать возможность получить все эти колебания в постепенной градации. Нет сомнения, утверждает Штральгаузен, что после опытов с воздействием подобного аппарата на живые организмы можно будет добиться грандиозных открытий. Определить, какие колебания приводят мертвую клетку к жизни, какие вызывают стремление к питанию, к размножению. И, быть может, будет найдена та группа, подобно колебаниям света, которая производит иннервацию, возбуждает нервную ткань, разрушает ее, дает в конце концов то, что мы называем мыслью?..
— Аппаратом вызывать мысль!.. — задумалась Ариадна, опустив книгу на колени. — Аппаратом оживлять мертвую клетку… Возбуждать и разрушать нервную ткань… Как смешно было читать это хотя бы десять лет назад, до открытия Штральгаузеном искусственного уничтожения материи!
А между тем… Странно, что могло его сегодня так взволновать? Она, конечно, давно замечала… Старалась делать вид, что не видит…
— Прости, дорогая, что опоздал, но это проклятое официальное положение…
Ариадна обернулась. Голос Отто! Разве пришел?
— Отто!..
В ответ ничего. Ариадна с тревогой встала, прошла в переднюю, заглянула в кабинет, в спальню.
— Мама, ты слышала?
Она стояла возле кухни, дверь которой выходила в конец передней. У электрической плиты что-то месила и лепила Софья Ивановна.
— Что, Адик?
Софья Ивановна низко нагнулась, с интересом разглядывая тесто.
— Ты слышала голос мужа?
— Да. Он в гостиной?
— Нет его! А что ты слышала?
— Не разобрала. Как будто извинялся, что поздно… А что?
— Ничего… А где твой аппарат?
— Владимира Ивановича? Тут… На полке… В чем дело? Разве Оттомар не вернулся?
— Нет…
Софья Ивановна удивленно посмотрела на дочь, повернулась, усиленно стала искать что-то на столе.
— Не понимаю в таком случае, Адик. Вот, может быть, у окна… Пролетал? В окно крикнул?..
— Ты думаешь? Может быть…
Успокоенная Ариадна вернулась в гостиную. Сумерки кончились, но она не зажигала пока электричества. В открытое окно, выходившее на улицу, видны соседние площадки и крыши домов, высится вдали обвитый электрическими лампочками купол Рабочего дворца, горят вертящимися фонтанами фейерверка верхушки бывших фабричных труб. И наверху воздух — в бесшумной огненной буре. Распадаются бледные луны, падают разноцветные звезды, взад и вперед мчатся молнии, ударяя среди визга и хохота в аппараты, украшенные световыми гирляндами.
Шум и говор повсюду — в небе, на улицах, на крышах с площадками. И среди хаоса электричества и гула человеческих жизней — сверху и снизу неотвязная музыка, скачущий мотив модного танца «Dog-Love».
— Ну, иди ко мне… — произнес сзади Ариадны обиженный голос баронессы Остерроде. — Я прощаю…
— Сознаешь, что глупо? — рассмеялся Штейн. — Ну, то-то же!..
Ариадна обернулась. Со страхом оглядывала пустую комнату.
— Если ты будешь так со мной разговаривать, я опять замолчу! — снова послышалось громко рядом. — Сядь сюда… Поцелуй руку!
— Только руку?
— Пока. Значит, домой не заезжал?
— Нет.
— А к Frau Гомперц?
— Тоже.
— Клянешься?
— Какая смешная! Конечно, клянусь.
— В таком случае, можешь сюда… И сюда. Погоди, какой нетерп…
Слова оборвались. В гостиной, разрезанной на яркие части ближайшим солнцем, трепещут в прорывах огни фейерверка. Тень какого-то аппарата прочертила на полу черный угол, исчезла. Наверху звуки «Dog-Love» сменились веселым маршем.
— Мама!
Ариадна выбежала, столкнулась в передней с Софьей Ивановной. Вслед за матерью она подошла к двери гостиной, остановилась, смотрела внутрь осветившейся комнаты, следила за тем, как Софья Ивановна внимательно осматривала стены.
— Оставь, Отто… Довольно!..
— Еще… Любимая… Родная…
— Ты с ума сошел!.. Мы сейчас будем ужинать…
— Не хочу… Не хочу… Не хочу…
Софья Ивановна быстро повернулась к столу. Приложила ухо. Подняла круглую зеленую пластинку с неглубоким выпуклым дном.
— Нашла!
Она с суровым лицом подошла к дочери, вырвала пальцами тонкую мембрану, смяла в комок, брезгливо бросила на пол.
— Проклятые изобретения!..
А Ариадна стояла в дверях — застывшая.
— Это он! — не отрывала она взгляда от страшного комочка на полу. — Это он… Ужас… Ужас…
— Кто он? Скажи?..
— Штральгаузен!
Ариадна опустила голову на плечо матери. Долго вздрагивала. С тех пор, как уехал Владимир, она плакала в первый раз.
VII
На следующий день Ариадна с матерью переехала на Engelsstrasse в огромный новый городской дом, где сдавались по дешевой цене отдельные меблированные комнаты.
После смерти мужа Софья Ивановна получала ежемесячную пенсию, на которую, хотя и скромно, но можно было жить вдвоем. Кроме того, покойный Ганс Мюллер завещал жене свой небольшой пятиэтажный железобетонный дом с садом на одной из окраинных улиц Дрездена…
Они обе твердо решили переехать после ликвидации имущества в Петербург. Уже ни что больше не связывало с жизнью в Берлине. И Корельскому, принявшему в судьбе Софьи Ивановны и Ариадны искреннее теплое участие, не пришлось долго их уговаривать.
Вообще, Корельский теперь был неразлучен с ними. Помог переехать, устроиться, брал на себя все неприятные хлопоты, организовал дело спешной продажи дома, а по вечерам ежедневно проводил время с дамами, приходя к ним или приглашая куда-нибудь в загородные сады.
— Числа девятого или десятого можете переезжать в Петербург, — заявил он в один из ближайших дней. — Только что вернулся из Дрездена, наладил все. На восьмое число условился с покупателями, что вы, Софья Ивановна, лично приедете.
— Восьмого? Отлично. А как идут поезда?
— К чему поезда! Мы полетим, Софья Ивановна. Это быстрее и проще.
— Ну, нет. Я поеду. Ведь до Дрездена верст триста лететь, не меньше. И потом, дорого стоит. Мы не пролетарии, миленький!
— Мы с мамой вам так благодарны за все, Глеб Николаевич… — добавила Ариадна, видя, что Софья Ивановна, не поблагодарив, сразу перешла к делу.
— Благодарны?.. — удивленно посмотрела на Ариадну старушка. — А как же иначе? Ах, да. Вы, профессор, не обижайтесь, дорогой, что я иногда так… Без формальностей. Ведь вы теперь у нас совсем свой!
— Конечно…
Корельский улыбнулся, взял руку Софьи Ивановны, поцеловал.
— Хороший вы!
Ариадна тоже стала привыкать к Глебу Николаевичу. Будучи сама скрытной и замкнутой, она тем не менее ценила в людях простоту и искренность. А Корельский именно казался таким.
— Кстати… В Петербурге мой друг, приват-доцент Паль-мин, уже подыскивает вам комнату, — вспомнил Корель-ский. — Я говорил утром по телефону. К сожалению только, теперь там нелегко найти помещение.
— А что?
— Сейчас пересмотр конституции… Съехалось много народа. Ораторы, лидеры, представители… Банкеты везде, заседания.
— Нечего людям делать! А в какой части ищет? Только не на Васильевском, голубчик. Не люблю я Васильевский: скучный, однообразный.
— Ну, это, может быть, было когда-то, — рассмеялся Ко-рельский. — Теперь вы Васильевского острова не узнаете. Такие небоскребы! А где хотите? В старой центральной части, конечно, нечего думать. Там никто и не живет: все — учреждения, конторы, канцелярии. Если угодно, попрошу взять в Лесном, или на Лахте. В Белой части тоже недурно.
— В какой Белой?
— Очень хорошее место. Разве не встречали в газете? Новый центр, прекрасные улицы… Между прежней Новой деревней и Озерками.
— Новой деревней? Ах, да. Вспоминаю, читала. Да, да, не узнать мне, действительно, Петербурга! — вздохнула старушка. — Ведь Гостиный-то двор в наше время какой был? Всего в два этажа. А теперь, шутка ли сказать, — двенадцать!
На следующий день Корельский зашел за Софьей Ивановной, чтобы отправиться вместе к нотариусу. Ариадна осталась одна, села у окна, стала вышивать на платке метку.
…Как это все неожиданно! Налетело, разрушило… Освободило. Почему сама раньше не сделала? Ведь было так ясно и без того… Чужие, совсем чужие! Слава Богу, он вел себя благородно. Без сцен, без оправдания… Когда прощался, на глазах были слезы. Очевидно, любил. Да она потому и терпела. Не все ли равно? Жизни не было… С тех пор, как с Владимиром кончено, — все кончено. Какие глупые бывают концы! Может быть, и она неправа? Ведь он мог и не придавать обидного смысла словам, с которых все началось… «Я твоему сознанию верю, а инстинкту не верю. Ты можешь изменять…» Это теперь она другая… А тогда? Тогда, действительно, дразнила… Виделась с Отто… К чему?
Ариадна вздохнула, повернулась в кресле, взглянула на стол.
…Так близко, так жутко… Всегда рядом, будто вместе… Если бы только знать наверно — такой ли, как раньше!.. Должно быть — как у всех: утихло, заглохло… Сделалось просто воспоминанием — ничем больше… Но почему этот, сверкающий?.. Неужели для мамы? Они часто ведут беседы. Она молчит… За все время сказала несколько слов. А если для этих слов и прислал? Чтобы услышать? Почувствовать близость? Нет, нет… Не такой… Только забыв, может возобновить. Все прошло, исчезло. Теперь, наверно, другая… Вместе. Всегда. Смотрит ей в глаза, как смотрел… Улыбается… Два года смерти из-за него. Впереди — то же самое… А он упрекал: «Говоришь, что навсегда, вечно. У тебя вечности надолго не хватит…»
Ариадна подошла к столу, села, придвинула аппарат.
— Владимир!..
Пальцы обеих рук обхватили металл, голова опустилась. Взгляд застыл среди блестящих колец. Искаженное чужое лицо смотрело оттуда.
Холодный… Безжизненный… Кончено. Кончено. А раньше, когда-то!.. Все для нее. Улыбка… Взгляд… Каждое слово. В последний раз, перед ссорой… помнит: в Швейцарии. Было холодно. Между двух озер, среди зелени, проскользнул Интерлакен. По дороге на Эйгер полз игрушечный поезд… Вблизи вершины Юнгфрау, над ледником, в который смотрят из каменной глыбы окна станции «Eis-meer» — предложила: хочешь на небо? Вверх, вверх, вверх — без конца — пока работает винт! Там, вместе, смерть… Вдвоем… Выше всех. Все равно — ты разлюбишь. Все равно — счастье кончится…
Над Юнгфрау стоял аппарат… Они рядом. Молчали. Ледяною тропою уходили вершины, одна за другой, в обе стороны с прова лами к глубоким долинам. И тихо, тихо, без конца: твой, твой, твой… Мой? Теперь? Прежний? Владимир!..
В руках прозвучал нежный орган.
— Я слушаю. Глеб, ты?
Ариадна вскочила. В лице — хлестнувшая кровь. Тяжело дыша, поднявшись на цыпочки, застыла. Пряча за спиною руки, стала тихо, крадучись, отходить.
— Софья Ивановна?.. Вы у телефона?
— Софьи Ивановны нет.
— Это вы, Ариадна Сергеевна? — голос Владимира затуманился. — Вы вызывали?
— Я? Нет… Да… Я прибирала стол. Зацепила… Простите.
— Ах, вот что… Значит — как же?.. Закрыть? Или…
— Как хотите. Закройте…
— Хорошо! До свиданья.
Телефон щелкнул. Ариадна подбежала к окну. Закрыла глаза, частым дыханием схватилась за воздух.
…Зачем не остановила? Зачем?
Она стояла. Долго. Без движения. Затем быстро повернулась, подошла к телефону, нажала рычаг.
— Софья Ивановна?
— Нет, я.
— Ариадна… Сергеевна?
— Да, я. Я хочу… Поговорить…
— Со мной? Очень рад.
— Расскажите… Что-нибудь… Вообще…
— О себе?
— Нет… Не о себе… Не обо мне. О постороннем. О Яве… Я буду сидеть. Вышивать… Хотите?
В ответ — долгая пауза.
Он начал как будто с улыбкой, с грустной шутливостью:
— Вот лежу сейчас на траве… Под большим манговым деревом. Аппарат возле меня… Красный муравей пытается взобраться, исследовать…
Скоро вечер у нас. Солнце смотрится в океан. От горизонта, я вижу, ко мне идет широкий сверкающий путь. Никогда люди не говорили мне, что я так велик. Что солнце свяжет меня с собою такою царской дорогой…
Океан там, внизу. За воздушными корнями манглий, научившихся бороться с приливами. Я люблю его по утрам, — ранним утром, когда царь явских вулканов, великан Смеру, играет солнечным диском, долго держит его за спиною, уверяя прибрежные острова, что солнце погибло. В тихий день так нежна голубая вода — океан может не доказывать величия серьезностью: ему верят без этого. Тихо плещет волной, точно рябью пруда. Как дитя, шепчет у берега, перебирая песчинки.
Надо мной, под ветвями манго, вьются чудесные бабочки. Хотите знать, как их звать? Papilio Blumei. Золотистозеленые, с тонкими крылышками, с лазурно-голубыми подвесками. Мы давно познакомились. В прошлом августе, когда я приехал, они показали опушку, у которой в чаще деревьев снежными гроздьями зацвели орхидеи. Трудно этим деревьям жить в такой тесноте. И все-таки на ветвях приютили чужие корни… Согласились отдать последние силы, чтобы цвела красота.
Здесь друзей у меня много… И так покойно душе! Каждый день, ровно к полдню, когда круглый бамбуковый стол под питосфорумом заполняется завтраком, на звон тарелок приходит из парка застенчивый Аноа, маленький буйвол. Появляется за ним со своим клыкастым мужем бабируза…
Мы все завтракаем молча. Все уважаем мысли друг друга. Самое главное понимаем без слов. О пустяках говорить не желаем. И когда после этого через парк идем на берег посмотреть, что принес на волнах океан, хитрый Аноа отстает среди зелени. Делает вид, будто он садовод…
Вот теперь здесь, под деревом, я один. Целый день Аноа не было: очевидно, не в духе. Но наверху, надо мной, на широких листьях другие друзья: муравьи. Мохнатые, красные. Мои коллеги, ученые, называют их oecophylla. Как oecophylla называют ученых — не знаю. И каждый день вижу их настойчивый труд, вижу, как из манговых листьев они лепят на ветвях целый дом в виде огромного шара… Я заметил: они притягивают листья, как акробаты, челюстями поднимая друг друга. Я узнал: клей для постройки получают от своих же личинок, щекоча их усами.
Да, какая культура!.. Хоть бы когда-нибудь человек научился для общественной работы находить цемент в самом себе. Хоть бы челюсти его хватали ближнего не для того, чтобы разрушать, а чтобы строить дворцы!..
Иногда, во время блужданий у берега на своей скромной лодке, вижу сифонофоры… Вы не устали, Ариадна Сергеевна? Я — о постороннем…
— Говорите!
— Может быть, теперь… вы?
— Видите сифонофоры. И что же?
— Вижу часто… На голубой водной поверхности… Флотилия красноватых стеклянных шаров. Каждый шар — это парус. Его соткали, скроили медузы, плывущие под ним дружной семьей. И у них там, внутри, водолазный колокол. Аппарат для нагнетания воздуха. Кто из нас может соткать из себя парус? Без станка, без орудия, без пролетариата?
Много знаю теперь я того, о чем не думал раньше. Это у них, у скромных и мудрых, нужно учиться. Аргиронита-паук уверяет: для уютных жилищ можно лепить кирпичи из своего тела и воздуха… Пурпурная улитка показывает: смотрите, как нужно воздвигать неприступные крепости!.. Электрический скат говорит: я презираю ваши электрические станции, батареи, аккумуляторы…
Да, сколько знанья. Сколько уменья… Какая культура! В наших человеческих бедствиях, как я вижу, всецело виноват преступный ужасный питекантроп. Живя здесь, когда-то, на Яве, положил он начало проклятию человеческой жизни. Это он первым испугался солнца и света. Гроз и бурь. Воды и воздуха. Он бежал, чтобы скрыться… Схватился за чужую одежду. За рычаг, колесо. И никогда нам уже не защитить себя от внешнего мира без мрачной взаимной вражды. Без рабства, без противоречий, без тупика, в которых рушатся цивилизации во все времена, у всех народов… Я каждый день вижу в кокосовой роще семьи яв-ских летающих лягушек, добившихся того, что у них выросли, наконец, крылья-перепонки… И мне стыдно… Лягушки могут, если захотят. Мы — не в силах. Без посторонних предметов, аппаратов, орудий — ничто. Бездарнее лягушки. Ничтожней моллюска…
— Я знаю, вы это говорили в насмешку… — тихо произнесла Ариадна.
— Над чем?
— Над просьбой… О постороннем… А между тем…
— Между тем?
— Это было так хорошо… Скажите: почему ваш голос теперь — среди какого-то гула? Я слышу глухие удары…
— Это прилив… Океан шумит.
— Океан?
Молчание.
— До свиданья, Владимир Иванович.
— Спокойной ночи…
Аппарат замер.
VIII
Они сидят втроем, рядом, на скамье аэробуса. Софья Ивановна долго упрямилась, прежде чем согласилась лететь. Однако, заманчиво: теперь только девять часов, а к сумеркам можно вернуться, окончив все дело.
Аэробус длинный, громоздкий. Мест 120, по шесть человек в отделении. Обыкновенно по будним дням, как говорят, свободно. Но сегодня публики масса. Многие стоят посредине, в проходе, хватаясь за ремни во время качки на воздушных ухабах. Кто-то бранится…
— Миттенвальде! — кричит кондуктор. — Господин, уберите сверток, нельзя пройти! Кто в Миттенвальде? Прошу на заднюю площадку, в мегапарашют!
Против Софьи Ивановны на скамье две толстые немки. Судя по ярким шелковым платьям, жены рабочих. Рядом с ними — мрачный господин, углубленный в газету.
— Берта, может быть, в Миттенвальде?
— Ты думаешь? Нет, лучше до следующей. Безопаснее… Вилли!
— Ну?
Мрачный господин, скрипя воротником, медленно поворачивает шею.
— Вилли. Где слезем?
— Где хотите. Мне все равно. Глупости!
Аэробус гудит. Остановка. Пассажиры на Миттенваль-де проходят на корму аэробуса, отделенную от главного корпуса железной решеткой, начинают медленно вместе с площадкой проваливаться вниз.
В пять минут мегапарашют успевает спуститься, вернуться назад с новыми путниками. Кондуктор смыкает площадку, щелкает затвором.
— Готово!
— Вы на прогулку, наверно? — не удерживается Софья Ивановна, чтобы не заговорить с соседками. — Погода хорошая, приятно на воздухе.
Ей не только интересно, однако. Хочется забыть о высоте, не думать о том, что до земли, по крайней мере, полкилометра. И, к удивлению, вместо вежливого обычного ответа, презрительный возглас той, которая ближе:
— Хороша прогулка, к дьяволу. Бежим из Берлина, вот что!
— Берта!
Мрачный господин укоризненно смотрит. Бросает косой взгляд на Ариадну, обращается к Софье Ивановне.
— Ничего не могу с ними поделать, мадам, — как бы извиняясь, говорить он, с негодованием кивая на спутниц.
— Прочли в газетах о каком-то идиотском радио и уверяют, что сегодня в Берлине будет светопреставление.
— В каких газетах?
Софья Ивановна вопросительно смотрит на Ариадну, на Корельского. Корельский удивленно пожимает плечами. Ариадна вспоминает, рассказывает матери о недавней радио-телефонограмме с Монблана.
— Интересно!… Кто же это мог сделать, Адик?
— Вы не думайте, мадам, что только они так… — снова иронически говорит пассажир, стараясь показать свою интеллигентность. — Потому так много народу и едет сегодня, что среди населения ходят эти глупые слухи. Вчера работницы у нас уверяли, будто сегодня над Берлином появится призрак последнего кайзера и разрушит Рабочий дворец. Одна женщина говорила тоже — что нужно 8-го числа ожидать грозы: пойдет град, который разобьет все дома, все заводы и фабрики. Вы сами знаете, мадам, какая теперь публика! Невежество, темнота: каждый читает газеты, ну, конечно, и сбивается с толку.
Обе спутницы пассажира презрительно молчат, поджав губы. Перед остановкой Люббен они торопливо вскакивают, снимают с металлической сетки саквояжи с провизией и, не прощаясь, исчезают в проходе. А рабочий, снисходительно качает им вслед головой, встает, галантно приподнимает шляпу:
— Adieu!
И, как будто случайно, задерживается взглядом на Ариадне.
Дом был продан. Софья Ивановна получила чек на 200 тысяч гросс-марок на Дрезденский национальный банк, хотела немедленно получить по этому чеку и к трем часам к обеду вернуться в Берлин…
Но было уже четверть двенадцатого. А все учреждения в республике, не исключая и банков, работали только с восьми до десяти и с трех до пяти. Волей-неволей пришлось ждать трех часов. Ариадна предложила пойти в Цвингер, осмотреть галерею. Но Софья Ивановна воспротивилась. Ей вообще был неприятен по воспоминаниям Дрезден, а Цвингер в особенности. Никто теперь не знал, никому никогда, даже дочери, она не рассказывала этого. Но Ганс, с которым она прожила мирно и дружно двадцать шесть лет, однажды во время их летнего пребывания в Дрездене преступно увлекся какой-то учительницей. Чтобы никто из местных граждан не сплетничал, он назначал свидания в Цвингере, в той самой угловой маленькой комнате, где помещалась Сикстинская Мадонна и куда усталые туристы-демократы и социалисты обыкновенно не доходили. Так бы и не раскрылась эта ужасная история, если бы не сестра Софьи Ивановны — Елена, ныне покойная, которая внезапно приехала в гости и через час по приезде, умывшись и переодевшись, отправилась в Цвингер.
— Ну, если не хотите, покатаемся до обеда по Эльбе, — предложил Корельский. — Вы согласны, Ариадна Сергеевна?
Прогулка в Саксонскую Швейцарию заняла часа полтора. Небольшая быстроходная лодка, снабженная гидроли-затором, производившим передвижение путем разложения воды на водород и кислород, — мчала их, поднимая сзади бурлящую пену. Промелькнула нежно-зеленая луговая часть Эльбы. Поднялись оголенные скалы, подобные башням, осколкам бесчисленных береговых крепостей. Показался справа, высоко на горе, старый замок Кенигштейн…
— Не люблю я Саксонию, — говорила за обедом на террасе фешенебельного ресторана «Zum goldenen Proletar» Софья Ивановна. — И народ неприветливый, и женщины какие-то неискренние… Ариадна, ты что на второе?
— Я? Консервы бизона…
— А на сладкое?
— Радиоторт…
К половине третьего кончили. По случаю продажи дома Софья Ивановна разошлась — заказала шампанское «Уни-версаль». Корельский, со своей стороны, предложил к кофе ликер. И все втроем стали говорить о том, как устроится жизнь в Петербурге. Ариадна повеселела, несколько раз вступала в пикировку с Корельским по вопросу о женском труде, объявила о твердом желании своем по приезде в Петербург искать службу…
— Гибель Берлина! Небывалая катастрофа в Берлине! Телефон! Телеграф! Радио!
Газетчик-мальчишка заметался по терассе, бросаясь от столика к столику, потрясая листами. Гул испуганных голосов ответил выкрикам. Застучали о бетон стулья, загремели вилки, ножи, вокруг мальчишки — толпа, внутри — летящие вверх клочья бумаги.
— Не все! Не все! Не могу так!
Корельский вырвал из рук растерявшегося газетчика лист. Софья Ивановна дрожала. Ариадна встала, с удивлением смотрела… Напрягая голос, чтобы преодолеть шум, Корельский читал дамам, нервно разделяя слова:
БЕРЛИН ОЦЕПЕНЕЛ!
СТРАШНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ!
Пролетарии; всех стран, соединяйтесь!
Экстренное приложение к «Dresdener Sozialisti-scher Beobachter».
«Потсдамское радио срочно сообщает нам о потрясающем несчастье, постигшем сегодня столицу республики. Аппараты, вылетевшие из Потсдама в Берлин после 12 часов дня, застали в столице зрелище, невиданное когда-либо в истории человечества. Все шестимиллионное население города, не исключая представителей власти, членов Рабочего Государственного совета, депутатов Рейхстага и даже самого Прокуратора республики — впало в состояние глубокого столбняка. Никакими мерами привести в чувство хотя бы кого-либо из берлинцев не удалось. Прокуратор найден в остолбенелом положении в кресле за своим письменным столом с широко раскрытыми немигающими глазами и с удивленным выражением лица. Сидевший за столом напротив комиссар народного здравоохранения окаменел, держа в руке доклад о принудительном лечении неврастении у лиц свободных профессий. В зале заседаний Рейхстага — мертвая тишина, несмотря на присутствие 428 депутатов и президиума в полном составе. Говоривший с ораторской трибуны член партии «Panem et drcenses» — доктор Гейнце найден лежавшим перед трибуной на столе среди онемевших стенографисток. В городе начались пожары. На улицах — публика без движения. Много катастроф. Городские предприятия не работают. Вылетевшая из Потсдама правительственная комиссия установила, что оцепенение охватило не только Берлин и Шарлоттенбург, но и близлежащие места: Герцфельде, Кепеник, Тельтов. В Миттен-вальде юго-восточная часть городка осталась нетронутой, северо-западная подверглась участи Берлина. Высланными из Потсдама воинскими частями приняты меры к охране города и прекращению пожаров…»
IX
С большим трудом Корельскому удалось достать в Дрездене наемный аэро. Почти все улетели к Берлину с пассажирами, падкими до всякого рода происшествий и зрелищ. Растерявшаяся Софья Ивановна сначала предложила остаться, переночевать, подождать, пока события выяснятся. Но Корельский вполне благоразумно рекомендовал не брать сейчас из банка денег и немедленно возвращаться домой на случай пожаров и грабежей. Кроме того, ему самому нужно обязательно в Берлин, где он оставил в номере гостиницы важные деловые бумаги.
Уже издали — на горизонте будто черная туча. Гигантской стаей застилают небо десятки тысяч аппаратов, кружатся, подобно воронам, над безмолвным городом, облетают окраины, стараются снизиться, быстро вздымаются кверху. На вершине купола Рабочего дворца, на площадке, где для Прокуратора республики установлен мощный звуковой прожектор, потсдамский комиссар, временно принявший на себя власть, отдает распоряжения, слышные далеко вокруг:
— Всем аппаратам отойти к Лихтенбургу! Разрешения для влета на трубе № 8! Спуск в город по очереди!
— Алло! Дорогу!
— Осадите!
— Именем республики!
Крича в рупора, угрожая применением газов, колонна потсдамских воздушных милиционеров напирает на аппараты, оттесняет к востоку. Постепенно туча перемещается к окраине. Над центром города остается высоко вверху величественный бронированный крейсер; несколько разведочных аппаратов вьются вокруг, поблескивая стеклянными крыльями в лучах заходящего солнца.
На площадке бывшей фабричной трубы Лихтенбурга Софья Ивановна, Ариадна и Корельский показывают свои документы. После долгих расспросов дежурный офицер пишет бумагу, прикрепляет к аппарату зеленый флаг.
— При спуске пропуск предъявить ближайшему патрулю. Флаг передать комиссару части. Следующий!
Гуськом, один за другим, плывут к центру аппараты с зелеными флагами, расходятся в стороны, осторожно снижаются. У Karlstrasse, на углу Arbeitallee, к аэроплану подходит начальник патруля, прочитывает разрешение, отрывает талон.
— На квартиру с вами пойдет милиционер… Herr Мюнстер, примите!…
До Bebelstrasse — недалеко. Осторожно ступая, боясь произнести слово, Софья Ивановна идет посреди между Ариадной и Корельским, со страхом озирается по сторонам.
На тротуаре, близко друг к другу, иногда целыми грудами, лежат неподвижные оцепеневшие прохожие. Широко раскрыв глаза, смотрит в небо господин в котелке, держа в одной руке трость, в другой букет живых цветов. Возле лежащей недалеко дамы уперся ногами в асфальт окаменелый бульдог в наморднике, с цепочкой, идущей от шеи к бледной руке. Кое-где, прислонившись к стене, стоят, схватившись за выступ, одинокие фигуры с застывшим на лице изумлением. Витрины во многих местах выбиты, торчат из стеклянных дыр ноги; в угловом магазине, в дверях, раскрыв объятья и прильнув к стеклу расплющенным носом, стоит приказчик, улыбаясь бессмысленной неизменной улыбкой. И среди улицы время от времени — серая куча аэропланных обломков, разбитые автопланы, изуродованные тела, пятна крови на камне.
Между крышами, за углом, застряла уродливая масса радиоцеппелина, с исковерканным остовом, с разбитой каютой. На перекрестке, среди площади, два столкнувшиеся на стрелке вагона трамвая врылись — один в бок другого. За каждым из них — бесконечный поезд с безмолвными пассажирами. А на газоне, за тонкой решеткой, наскочив на памятник Лассаля, лежит на боку автомобиль; шофер, выпав на клумбу, прильнул к цветам.
Иногда, вдруг, пугая отчетливостью, одиноко зазвонят на ближайшей колонне городские часы. Где-то, в одном из огромных домов, в квартире с открытыми на улицу окнами, механическое пианино с заводом на 24 часа играет старинный вальс из «Фауста». Зловещи эти звуки на общем фоне гробового молчания. Страшной кажется искусственная одушевленность инструмента среди общей безжизненности.
Неожиданно вдоль улицы, бросая жуткие тени, тревожа воздух, промчится вдруг на автоптере корреспондент с механическим пером, с записной книжкой в руках, с зеленым флагом над головой в качестве пропуска. Иногда — за одним, следом, другой. Третий… Обгоняют, перекликаются. Торопливо взлетают, заглядывают в окна, записывают, бросаются вниз, рыщут вблизи зданий правительственных учреждений, вьются вокруг Рейхстага, Рабочего совета, ратуши.
— Mesdames! Monsieur!
Из-за угла к вздрогнувшей Софье Ивановне радостно бросается прилично одетый господин с лихорадочно возбужденным лицом. Котелок — на затылке, в руках длинная черная трубка.
— Я вас прошу! Будьте любезны! На одну минуту! Разрешите взять на фильму. В качестве чудесно спасшихся…
— Простите, мы только что прибыли, — возражает Ко-рельский. — Нас не было в Берлине.
— Из Дрездена мы, — поясняет Софья Ивановна.
— Все равно, madame! Безразлично, monsieur! Позвольте представиться: сотрудник информационного фильм-агентства «Cinema de deux Mondes»… Коэн…
— Идем, Ариадна, — тревожно прикасается к плечу дочери Софья Ивановна.
— Одну минуту, madame… Что вам стоит, monsieur? Если угодно, я могу заплатить. По три доллара. Четыре! Мне необходимо, чтобы вы вылезли из под обломков моноплана… Мне крайне нужно, madame! Вообще, в городе совсем мало живых экземпляров. Все неподвижно, теряет всякий эффект!.. Может быть согласитесь, mademoiselle, сыграть несколько сцен? При вашей прекрасной внешности мы можем поставить: «Жена разыскивает на улице окоченев-шого мужа», «Горе неутешной дочери, вернувшейся из Дрездена», «Безумная». Грим и костюмы имеются, mademoiselle! Я уплачу гонорар!
— Идем, Ариадна…
Они у себя, в комнате. Корельский ушел с милиционером в гостиницу, обещал вернуться, остаться с ними, пока будет нужно. Софья Ивановна, разбитая, усталая, лежит на кровати. Ариадна сидит у окна, со страхом смотрит на город.
— Я все-таки не понимаю его, — больным голосом говорит с постели старушка. — Какие волны? Разве можно волнами приводить в столбняк?
— Может быть, кто-нибудь изобрел, мама. Теперь ничего нет чудесного.
— Проклятое время!..
Вокруг тихо. В окно — ни звука. За бесконечным хаосом крыш гаснет красный закат. Над ним — синий балдахин туч с каймою из пламени.
— Frau Мюнце лежит возле двери… — шепчет Софья Ивановна. — Разбила тарелку. Осколки валяются…
— Я видела.
— Если бы Корельский оттащил в сторону… Ее. И того… Музыканта. Совсем близко около нас. Страшно. Не буду спать…
— Они же не умерли, мама.
— Все равно… Еще хуже. Волны! Кто мог? Корельский говорит — в Берлине преступник?
— Да… в Берлине. Или в окрестностях. Недалеко.
— А как же… Монблан? Ведь там тоже было.
— Монблан? Правда… Не понимаю.
Опять тихо. Внизу, на углу, солдаты пикета зажгли розовый фонарь. Наверху, высоко в гаснущем небе, воздушный крейсер сияет созвездием иллюминаторов.
— Скорее прав немец… В Дрездене… — бормочет сквозь сон старушка. — Наверно, поляки… Или французы… Какой-нибудь газ… Порошок… Несколько лет… назад… было ведь… И теперь…
Софья Ивановна спит. В окне — темно. Нет ночных солнц, реклам, зарева города. Чуть заметным силуэтом стоит купол Рабочего дворца, башня ближайшего вентилятора бесшумно тонет в грозовой туче. На углу, возле розового, новый — белый фонарь. И иногда, будто светляки, проносятся взад и вперед зеленые огоньки автоптеров. Вот один поднялся. Выше и выше. Приближается. Под рефлектором видна фигура летящего…
— Штральгаузен!
— Я целый день беспокоился… — задыхаясь, нервно говорит доктор, держась на одной высоте с окном, стараясь приблизить аппарат к стене. — Где вы были? Я знал ваше окно… Изучил… Вы не видели?.. Каждый вечер… Мимо… Вам страшно?
Он улыбается. Лицо — искривлено хитростью. В глазах жуткая радость.
— Да, ужасное событие, — сухо говорит Ариадна. Уверенная в том, что мембрану подбросил Штральгаузен, она не может побороть в себе отвращения к нему. — Вы, наверно, знаете, доктор, что это. Волны или газы…
— Объяснить?
Штральгаузен — совсем у окна. Выдвинувшись из аппарата, держится за подоконник рукой. Смотрит пристально.
— Ну… как же?
Ариадна дрожит.
— Не знаете?
Он смеется, Тихо, хихикающе. Глаза — полны злого счастья. Лицо — в складках загадочного самодовольства.
— Не знаете? Лучи или газы? А может быть, спросите — кто? Хотите знать, кто? Не донесете? Не откроете? У вас душа есть! Да! Сказать вам?
— Вы?..
— Я.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Петербург понравился Ариадне. После шумного беспокойного Берлина, где демократия культивировала внешний блеск технических достижений последнего времени, столица Российской империи показалась тихой, сосредоточенной, немного даже угрюмой.
Здесь не было этого увлечения завоеванием воздуха, бесконечной толкотни и снования по небу. Дома — значительно ниже, уличное движение проще. По ночам освещался город, как в старину, простыми электрическими фонарями на улицах. И ни одной световой рекламы на небе: по постановлению Городской думы, согласно пожеланию патриарха, подобные плакаты запрещены уже несколько лет тому назад.
До сих пор никто из солидных петербуржцев не позволял себе передвижения на автоплане, а тем более на авто-птере, чтобы не ронять своего достоинства перед столичною чернью. До сих пор эта область ограничивалась только пределами увеселений и спорта. Когда в Европе начался переход с пешеходного передвижения на автоптерный полет, Петербургом тоже на несколько месяцев овладел этот последний крик моды. Но практически для русских людей такое движение в неопределенных воздушных рамках оказалось немыслимым, и после многочисленных столкновений с человеческими жертвами, мода быстро исчезла. Только по праздникам молодежь и республикански настроенная передовая часть интеллигенции тянулась по небу в направлении на Сестрорецк и на Павловск ко времени начала традиционных симфонических концертов. Но в эти дни наряды полиции бывали значительно усилены, и по пути следования аппаратов над каждым перекрестком улиц высоко в воздухе парил городовой в белых перчатках, с палкой в руке, чтобы указывать русло.
Приват-доцент Пальмин нашел Софье Ивановне и Ариадне уютную меблированную квартирку в Белой части, между Новой деревней и Озерками. Здесь, в новых многоэтажных домах, на недавно застроенных улицах, поселились главным образом бывшие эмигранты, бежавшие в Европу во время владычества большевиков. Квартира выходила окнами на Корниловский проспект, и Софья Ивановна, сидя у окна четвертого этажа с вязаньем в руках, наслаждалась. Тишина, нет в небе музыки, никто мимо не пролетает, не заглядывает в комнату, а на проспекте мирно, спокойно. Чинно бредет по тротуарам публика, деревья вдоль аллеи зеленеют молодою листвой… И там, напротив, странные для отвыкшего глаза родные русские вывески: «Сапожная мастерская А. Полковникова», «Книжный магазин «Славянская Взаимность»», «Торговые бани Сапогова»…
— Мамочка, посмотри, кого я привела!
У Ариадны радостный вид. Она раскраснелась от ходьбы, в глазах веселые солнечные лучи, из-под шляпы беспорядочно набегают на виски волосы.
— Ната?
Софья Ивановна нежно целует подругу дочери, треплет по плечу, усаживает против себя в кресло. Наташа училась вместе с Ариадной и с Бенитой в одном пансионе и все праздники проводила у Софьи Ивановны, принявшей участие в судьбе одинокого ребенка.
— Совсем не узнала бы, совсем! — любовно удивляется Софья Ивановна, гладя Наташу по руке и взглядывая одобрительно на Ариадну. — Ну, что? Как живешь? Вышла замуж, конечно?
— Мама, я же тебе говорила! — укоризненно смеется Ариадна.
— Ах, да. Конечно. Твой муж редактор газеты?.. Верно. Злобин.
Наташа громко смеется:
— Злобин, Софья Ивановна, Злобин. Дайте поцеловать еще раз! Милая вы!
— Ну, отлично, будем, значит, встречаться… — удовлетворенно говорит Софья Ивановна, принимаясь за вязанье.
— Знакомых ведь у нас, кроме Корельского и Пальмина, пока никого. Есть, конечно, старые, по Берлину, из беженцев. Но где их найдешь! Капитан Горев, например… Часто ходил к нам, шофером были. Сейчас, говорят, генерал, командует гвардейским полком. И Петровский тоже… Стекла, помню, вставлял. Теперь на Пулковскую обсерваторию вернулся, астрономию здесь, в университете, читает… Но ты сама как? Что нового? Говорят, у вас тоже не лучше 8-го числа было?
— Вы про столбняк? Ах, не говорите, Софья Ивановна. Ужас! Что было на следующий день! Манифестации, понимаете, митинги… Совет министров собирался. Собор экстренное заседание устроил. А рабочие, подумайте, какой позор, — перепугались! «Если Собор не распустится, — кричали на митингах, — мы его сами распустим! Мы не желаем больше столбенеть!» И священников замучили. Потребовали окропить каждый дом в рабочих кварталах, каждую комнатку. Наши прогрессивные газеты, конечно, обвиняют правительство. Куда оно, в самом деле, смотрит? Что оно делает? «Корма» вчера, например, напечатала громовую статью «Quousque tandem?» Великолепно разделала министра внутренних дел! Я вам занесу номер, непременно прочтите. А социалистические «Ночи» призывают к ниспровержению строя. «Будь власть наших руках, — говорят в передовой, — мы бы ни в коем случае не допустили». И правда: разве это возможно, скажите? В столице! В центре России!
— Хорошо… Но при чем тут строй, милочка, если столбняк?
— Как при чем, Софья Ивановна? Очень при чем! Страшно при чем. Сегодня — столбняк, завтра — паралич, послезавтра — общая смерть, а общественность — молчи? Нет, вы посмотрите, в таком случае, что пишут в провинции! Разоблачаются пикантные вещи! «Одесские вести» из достоверных источников узнали, например, что таинственный изобретатель столбняка подкуплен Департаментом государственной охраны для устройства еврейских погромов. Так и пишут в статье «Столбняк и евреи». Украинская «Рид-на хата» тоже… призывает Украйну отделиться, если Петербург хоть один еще раз заснет. А что касается Кубани, то… Ах, да, Ади, а как же с лондонским платьем? Если мне понравится, не будь в претензии, дорогая: обязательно закажу такое. Имейте в виду, господа, у Ковалевой заказывать лучше всего. Недорого, со вкусом, и от вас два шага: налево по Корниловскому проспекту до Галлиполийской улицы, на углу… Я тебе покажу, сговоримся.
— А ты сама-то где живешь, Ната? — улыбается в ответ на скачущую речь Наташи Софья Ивановна.
— Я? Совсем рядом. Направо. В тупике графа Бобринского. Во вторник у меня религиозно-философский вечер, господа, манихеи Кудашев и Мержеерский будут говорить… Вы обязательно должны быть! Познакомитесь, Софья Ивановна, с мужем. Нет, нет, не возражайте. Это решено и подписано. Ади, ну, как же с платьем?? Показывай!..
II
— Может быть, поедем на Стрелку?
Они идут рядом, Корельский и Ариадна. Невский проспект, по обыкновению, весь в движении, окаймлен на тротуарах бесконечной лентой прохожих. Ариадна только что сделала несколько покупок, Корельский несет свертки.
— Мама будете ждать, Глеб Николаевич.
— Вы второй раз отказываете, — недовольно усмехается Корельский. — Ведь в автомобиле на всю поездку час. Разве так много?
— Хорошо, если хотите… Поедем.
Она замечает, что он в последнее время очень обидчив. И в то же время слишком предупредителен, даже навязчив. Тогда на лице — приторная улыбка, с претензией на интимность, глаза становятся нехорошими, взгляд напоминает Штральгаузена.
— Макар Петрович! Прошу!
Ожидавший на углу Большой Конюшенной собственный автомобиль Корельского беззвучно подкатывает к тротуару. Корельский усаживает Ариадну, садится. Сначала едут медленно, среди гущи моторов, затем у небоскреба на углу Михайловской, где помещается теперь лучшая в Петербурге «Американская гостиница», сворачивают.
— Я все собираюсь в Музей Александра III, — говорит Ариадна, глядя налево, когда повернули на Сербскую улицу, бывшую Итальянскую. — Мне хотелось бы посмотреть это знаменитое полотно «Оставление Севастополя».
— Да, чудесная вещь. Хотите, пойдем на днях? Обязательно побывайте и на весенней выставке «Художники — Богу». Скоро закроется.
— Да, я читала… Это где? В Таврическом дворце?
— Что вы, в Таврическом! В Таврическом — Общество покровительства животным. Испокон веков. А «Художники — Богу» в вашем же районе — за Врангелевским плацем.
Они проезжают мимо Летнего сада. Слева на Марсовом поле величественный храм-памятник, стилизованный в духе новгородских церквей, посвященный памяти императора Николая II. На четырех углах поля, соединенных оградою, часовни в честь жертв Третьего Интернационала. На Каменноостровском автомобиль идет быстрее. Остался сзади новый крикливый фронтон Аквариума, промелькнул заново выстроенный гигантский Лицей… На Каменном острове друг за другом плывут великолепные виллы, дворцы, на Елаги-ном — среди зелени парка бельведеры, фонтаны… И старые, неприкосновенные задумчивые пруды.
— Может быть, пообедаем? — предлагает Корельский, сходя с автомобиля на Стрелке и подавая руку Ариадне. — Здесь недурно кормят.
— Спасибо, я уже обедала, Глеб Николаевич.
— Но, может быть, так… слегка?
— Нет, благодарю.
Они входят в американское Казино, роскошное здание, построенное на прозрачных стеклянных сваях. Бесконечная терраса с воздушными колоннами выдается далеко в устье реки. Над нижним ярусом— еще три, переплетенных узорными арками, увенчанных причудливой никелевой крышей. Поднявшись на лифте, Корельский ведет Ариадну по верхней террасе на крыло площадки, висящее над самой водой, занимает свободный столик.
— Карточку, пожалуйста!
После долгих просьб Корельскому удается уговорить Ариадну съесть осетрины и выпить бокал шампанского.
Она сидит молча, смотрит вдаль, на виднеющееся у горизонта бледное море. А в памяти — вчерашние слова матери: «Он как будто и приличный человек, но не могу одного понять: на какие средства живет. Не на жалованье же профессора физиологии!» В самом деле: у него ведь свой автомобиль, аэроплан, огромная, по его словам, квартира, повар, несколько человек прислуги… И широкий образ жизни, слишком подчеркнутое презрение к деньгам.
— Еще бокал… Разрешите?
— Нет, нет…
— Я вас прошу… Ведь это не «Универсаль».. Настоящее, крымское.
— Вы знаете, я не люблю вина, Глеб Николаевич.
— За благополучный приезд… За Петербург. Да? Один глоток.
— Не могу. Достаточно.
— На всякий случай налью. Пусть стоит.
Корельский сегодня самоуверен и весел. Приказав подать кофе, наливает ей без спроса ликер, откидывается на спинку стула, часто пристально смотрит.
— Не могу, все-таки, разобрать вас, Ариадна Сергеевна, — многозначительно говорит он, потребовав вторую бутылку. — Ведь вы по натуре и очень добрая и удивительно женственная… А между тем — сколько упорства! Не думаете ли, что это влияние Германии?
— Не думаю.
Она слабо улыбается. Он рад, что вызвал улыбку, придвигает стул ближе.
— Сначала, когда с вами знакомишься, думаешь, что вы вполне взрослая, настоящая женщина. И серьезность всегда, и стремление быть положительной. А вот, когда присмотришься ближе, узнаешь, — ясно видишь, что просто ребенок. Настоящее дитя, еще совсем не проснувшееся.
— В самом деле?
Ариадна чуть презрительно щурится. Спокойно смотрит в узкие глаза на раскрасневшемся бритом лице.
— Владимир Иванович говорил о вас кое-что… — продолжает Корельский, на мгновение сделавшись задумчивым, как будто бы даже слегка недовольным. — Конечно, немного, он тоже достаточно скрытен… Но на основании его слов я думал, когда не был знаком, что вы гораздо шаблон-нее, примитивнее. Ведь в вас именно ценна эта своеобразная чистота духа, особенная брезгливость к житейской пошлости. Вы, в общем, еще не жили на земле, Ариадна Сергеевна. Все еще по-детски спите и грезите. Но зато тот, кто разбудит, — да! Тот будет действительно счастлив. Он будет богом. Ваше здоровье!
— Скажите, что это за вальс?
Ариадна показывает глазами в сторону оркестра. На лице — равнодушие. И Корельский с улыбкой отвечает, стараясь придать язвительность тону:
— Из старой оперетты «Электрификация». Нравится?
— Мелодично…
III
Ариадна вернулась не в духе. Открыв парадную дверь, услышала веселые голоса в столовой, осторожно направилась к спальне, стараясь пройти незамеченной.
— Адик, ты? Мы тебя ждем!
Пришлось выйти к гостям. Это были — генерал Горев и профессор Петровский, которых Ариадна помнила с детства. Горев пополнел, поседел, принял барский холеный вид. Петровский сильно постарел, осунулся, сгорбился. Но глаза под очками такие же добрые, ласковые. И бородка, как раньше, козлиная, только — седая.
— Узнаешь, Адик? Господа, помните мою маленькую дикарку? Познакомьтесь!
— Мы вот вспоминали наше беженское житье-бытье, — весело говорит генерал Ариадне. — Профессор — свое стекольное дело, а я чистку машины. Знатно работали!
— Да, было время… — сочувственно улыбается Ариадна. — Мамочка, дай я помогу.
Она садится за самовар, начинает хозяйничать. А профессор треплет бородку, говорит мечтательно, грустно:
— Что же… Положа руку на сердце, могу сказать — вспоминаю свою молодость всегда с удовольствием. Голодал-то я как! Холодал!.. А теперь — особая нежность к прошлому. Будто ты и не ты… Сейчас просто — обыватель, рядовой гражданин. А тогда что-то значительное. Важное. Хотя и стеколыцик.
— Это верно, профессор. Вот и я, например… Два года зимою и летом, помню, шинели с себя не снимал. Кое-где уже просвечивало это самое, в чем мать родила. А, между тем, как горд был! Ясно чувствовал, что все же не кто-нибудь я, а гвардии капитан! Вы сколько: много на стеклах-то своих вырабатывали?
— Да как вам сказать… Не помню точно. Иногда — биллионы, иногда миллионы. Смотря по курсу.
— Со своею замазкой?
— Ну а как же. Конечно. Вот если что с неудовольствием до сих пор вспоминаю, так это, знаете, профессиональный союз. Принимать не хотели, мошенники… Запрещали работать.
— Ну, как же. Помню! Ведь и со мною — то же самое. Два месяца клянчил, пока дали билет. Швейцар, слава Богу, протекцию оказал.
— Я им показывал удостоверение из Пулкова. Что я, мол, — астроном-каблюдатель, что с телескопами обращаться умею. Никаких разговоров. Аусгешлоссен!
— Хо-хо! Вот вам свобода и равенство! Значит, как же: контрабандой работали?
— Контрабандой, конечно. Как многие. Несу, обыкновенно, свои стекла, завернув в простыню, будто пакет… И высматриваю по сторонам: все ли дома в порядке? Не зияет ли где? Особенно приятно бывало после бури. Или грозы..
Урожайно.
— Хо-хо! Урожайно! И у меня, сказать правду, тоже дело вначале не клеилось. Сильно бедствовал, когда приехал из Крыма. Но на счастье, сто французских франков в кармане было, а марка, вы помните, падала. Разменял я, это, сначала десять, получил 500 марок, прожил. Потом другие десять разменял, получил 20 тысяч, прожил. Третьи десять затем разменял, 250 тысяч получил, прожил. Когда до последней десятки дошел — 3 биллиона имел… Ну, а туг как раз подвернулось: помощник шофера… Шофер. И пошло! Хорошее время было, профессор, ей-Богу. А?
— Что и говорить… Сказка!
— Адик, тебя Владимир Иванович вызывал, — вспоминает после ухода гостей Софья Ивановна. — Может быть, поговоришь? Какое-то дело…
— Дело?
На лице Ариадны пренебрежение.
Софья Ивановна вздыхает. Она никак не может понять, почему нынешняя молодежь так упряма и злопамятна. Два года, кажется, прошло со времени ссоры, пора бы забыть. А между тем — телефон в распоряжении около месяца — и они говорили друг с другом один только раз. Каждый день Софья Ивановна беседует с Владимиром, беседует много и долго. Но он об Ариадне только спросит из вежливости вскользь — как здоровье; а та даже не слушает, когда аппарат в комнате; читает книгу, шьет, иногда просто уходит…
— Как-нибудь после, мамочка, — лениво говорит Ариадна, садясь на диван возле своего рабочего столика. — Я устала… И потом, нужно сегодня обязательно кончить роман. Обещала завтра утром вернуть Наташе…
Наконец от Бениты — письмо. Почтальон принес только что, и Ариадна читает его за завтраком Софье Ивановне вслух.
Бенита пишет:
«Дорогая, дорогая Ади. Если бы ты знала, как мне без тебя тоскливо! Правда, мы во многом с тобой не сходимся, но при чем взгляды, когда столько хороших воспоминаний детства. Я тебе должна написать большое, большое письмо, но все зависит от того, опоздает ли Herr Кунце или нет. Мы с ним сговорились сегодня идти на заседание в Рейхстаг: будут прения о Диктаторе мира… Увижу, конечно, и твоего мужа. Если очень настаиваешь, могу сказать: бывшего мужа. Ади, все-таки, ты очень странная женщина! Мы как-то летали вместе ужинать в Варнемюнде, провели очень приятно вечер — не подумай только плохого, ради Бога!.. И он удивлялся, почему это ты так внезапно и без видимой причины… Ты разве что-нибудь видела? Или кто-нибудь пролетал мимо окон баронессы и рассказал? Я не решалась при прощании тебя расспрашивать, но, должна сознаться, ты поступила слишком сурово. Бедный Отто так страдает! Мы сговорились завтра встретиться, очевидно, он хочет поговорить о любви к тебе. Напишу все подробно.
У нас за это время сенсационная новость, о которой ты, может быть, уже знаешь по вашим газетам: исчез Штраль-гаузен. В последний раз его видели в лаборатории в пятницу, на следующий день после твоего отъезда. Служащие лаборатории рассказывают, что он в среду и в четверг сидел, запершись у себя в кабинете, и над чем-то спешно работал. Затем в пятницу утром приказал приготовить свой аппарат, уложил в него провизию, какие-то бутылки и склянки, подзорную трубу, в разобранном виде несколько неизвестных приборов — и улетел, обещав вернуться к вечеру. Уже скоро две недели, а его нет. Администрация вскрыла на днях кабинет, но там ничего особенного не нашла. Были какие-то чертежи, большой глобус, валялись на полу географические карты.
Что с ним произошло, как ты думаешь? Я знаю, он был к тебе неравнодушен, может быть, это в связи с твоим отъездом? Если вы сговорились, и ты знаешь, где он, напиши, дорогая, даю слово, что буду хранить тайну, как сфинкс. Ади, а ты бы написала что-нибудь Отто. Хотя бы несколько строк. Он так будет рад! После вашей истории он даже перестал бывать у баронессы, во всяком случае вчера, нет, не вчера, а тогда, когда мы летали, он уверял меня, что все уже кончено…»
— Ну и ловкая женщина! — изумленно качает головой Софья Ивановна. А Ариадна внимательно перечитывает место, в котором говорится об исчезновении Штральгаузена, и тихо шепчет, как бы в ответ на свои мысли:
— Значит, в другом месте… Не в лаборатории…
Кто-то резко звонит у парадной двери. Держа в руке полуденный выпуск «Крестьянина», Корельский торопливо здоровается, с неестественной нервностью говорит:
— Простите, что не в урочное время… Но проезжал мимо… Только что купил газету. Оказывается — новый эдикт Диктатора.
Ариадна понимает: воспользовался случаем. Но Софья Ивановна испуганно семенит навстречу:
— Что вы? Опять? Батюшки!
— «22-го сего мая, — читает за столом Ариадна, — истекают две недели со дня применения мною к непокорным столицам первой меры наказания: всеобщего паралича на одни сутки.
Любезные моему сердцу народы!
Не для устрашения, не для террора, не ради личных выгод и честолюбивых намерений принял я на себя тяжкое бремя власти над земным человечеством.
Я знаю, дети мои, что вы стремитесь к лучшей, осмысленной жизни, хотите рая земного, жаждете блаженства тела и духа. И знаю я, что тщетны до сих пор все ваши усилия.
Вам не найти этого счастья, дети мои, счастья даже временного, случайного, пока будете искать вы его путем всенародных скоплений, сборищ, митингов, референдумов, голосований, баллотировок, прислушиваясь к мнению не только мудрейших, но и глупейших сограждан. Уже скоро два века, как Европа изнемогает от тщетных усилий найти в себе общую народную волю, отыскать общее народное чувство, осознать общую народную мысль. Не только два века, еще двадцать веков вы будете пребывать в тяжких муках искания и ничего не достигнете, ничего не найдете. Ибо общей воли у народов нет. Общего чувства нет. Общей мысли нет.
А посему повелеваю:
К двенадцати часам ночи, с 22-го на 23-е сего мая, распустить навсегда все представительные учреждения, согласно эдикту № 1. В дополнение к сему, приказываю: перед роспуском, особым актом, подписанным народными представителями, объявить провозглашение абсолютной монархии с правом наследования престола старшим в роде. В странах с монархическим образом правления передать полноту неограниченной власти ныне здравствующим императорам, королям, князьям. В странах республиканского строя утвердить в монарших правах ныне временно возглавляющих эти страны президентов, прокураторов, диктаторов, правителей. Всякая политическая пропаганда после провозглашения монархии воспрещается под угрозою смертной казни как в среде противников нового строя, так и в среде сторонников. О дальнейших мероприятиях всем монархам надлежит сноситься со мною.
В случае неисполнения сего эдикта за № 2, мною будет применена к непокорным столицам вторая мера наказания:
Бессрочный всеобщий двигательный и чувствительный паралич, с ежедневным перерывом на два часа, вплоть до того дня, пока столицею не будет выражена полная покорность моей единоличной воле. В подтверждение подлинности сего эдикта население всего Земного шара, без исключения, будет подвергнуто легкому оцепенению на один час 22-го сего мая с семи до восьми часов утра по гринвичскому времени..
Дано в крепости Ар, 21 мая 1950 г.».
— Что же теперь делать? — испуганно говорила Софья Ивановна, смотря поочередно то на дочь, то на Корельско-го. — Опять, господа, столбняк?
— Да, как видите, — презрительно хмурится Корельс-кий. — Этот Диктатор не может, очевидно, ничего остроумнее придумать.
— Бежать, может быть? — продолжает волноваться старушка. — Но куда? Теперь везде будет, некуда даже скрыться!.. Адик, как ты думаешь: уехать нам?
— Бесполезно уезжать, мама… — рассеянно отвечает Ариадна, у которой сейчас в глазах странный блеск, а на щеках румянец. — Как это все-таки удивительно! «Тяжкое бремя власти над земным человечеством»… «Повелеваю!»
— Нужно, в таком случае, целое утро не выходить из дома… — бормочет Софья Ивановна. — Лечь в постель и переждать… Да. Вот только для сердца, не знаю… Глеб Николаевич, для сердца это не вредно?
Корельский, видимо, раздражен. Но старается казаться спокойным.
— Не думаю, Софья Ивановна. Разве только при очень плохом здоровье может что-нибудь случиться. У вас разве больное сердце?
— Нет, слава Богу, до сих пор не страдала. Погодите, господа… Вызову-ка я Владимира Ивановича.
Она торопливо подходит к этажерке, берет аппарат в руки.
— Владимир Иванович! Вы здесь?
— Здесь, Софья Ивановна. Здравствуйте…
— Владимир Иванович, душенька… Вы очень заняты?
— Нет, ради Бога… Просто копаюсь в саду. А что? Сделал, знаете, только что любопытное открытие с огнецвет-ником. Вам знаком этот цветок, Софья Ивановна?
— Огнецветник? Нет, не помню. Голубчик, Владимир Иванович, я хочу…
— Незнаком? Удивительное растение, Софья Ивановна. Сколько раз я встречал его и у нас, в России, и в Германии, в Исполинских горах. И никогда не подозревал, как коварно и преступно это существо по своему образу жизни.
— Да? Преступно?.. А у нас, знаете, Владимир Иванович…
— Мне недавно одна фирма прислала по моей просьбе семена… — весело продолжает Павлов. — Хотелось иметь у себя наш родной европейский цветок. У него на тонком стебельке букетик прелестных желтых цветочков, и сверху, над желтыми, посреди — фиолетовый. Представьте, посеял, сам следил за грядкой, полол траву… И что же? Завял!
— К чему это? — пренебрежительно пожимает плечами Корельский.
— Владимир Иванович, погодите, миленький…
— Сию минуту окончу. В чем же вы думали бы, — дело? В климате? Ничуть не бывало. Оказывается, просто полоть траву не нужно. Когда я вырвал несколько штук, обследовал корни, то увидел, что передо мной не невинный скромный цветок, а ужасный хищник, нападающий своими корнями на корни соседних трав. Высасывающий у них их собственные, с трудом заработанные, соки.
— Интересно. Да… Очень… Владимир Иванович, дорогой, а у нас опять неприятность. Представьте: снова эдикт Диктатора мира!
— Да что вы? Опять?
— Опять. Завтра обещал усыпить на один час. А затем — бессрочно. Имейте, кстати, в виду, что один час будут спать не только столицы, а и весь Земной шар. Коснется, значит, и вас… Смотрите, будьте завтра осторожны, голубчик!
— Как? И нас? — удивляется Павлов. В тоне его голоса, хотя и ироническом, слышна тревога. — А мы-то причем, Софья Ивановна? Кажется, Ява не такой центр, чтобы с нею считаться. Во всяком случае, — большое спасибо. Приму меры. Может быть, расскажете подробности? Не затруднит вас?
Софья Ивановна, волнуясь, передает содержание эдикта, высказывает свои опасения. И когда Павлов начинает успокаивать, советует утром оставаться в городе и уезжать только в том случае, если Собором к вечеру не будут приняты условия Диктатора, Корельский громко произносит:
— Здравствуй, Владимир. Ты не беспокойся, пожалуйста, за Софью Ивановну: в случае паники, мы все улетим к ночи на моем аэроплане. А как у вас? В батавских газетах ничего еще не было?
— Сейчас должна прийти почта, посмотрю. Кстати, Глеб. Я тебя вызывал несколько раз вчера, вызывал и сегодня. Все время не было. В чем дело, Глеб?
— Ни в чем, Владимир. Просто был занят.
Корельский отвечает сухо, пренебрежительно. Но затем, вдруг, поднимается, делает над собою усилие, принимает добродушный веселый вид.
— Владимир, — мягко добавляет он, — не сердись, дорогой. Я вчера был по твоему же делу… Все идет благополучно. Заказ на луковицы сделал.
— А в Париж когда, Глеб?
— На той неделе еду, не бойся. Ниццкие розы сам вышлю. Сейчас же.
V
К восьми часам у Софьи Ивановны все готово. Собственно говоря, ничего не нужно готовить, но почему-то встала она очень рано — в шесть часов, привела в порядок квартиру, заставила кухарку Дашу как следует натереть суконкой пол в гостиной и в столовой, сама везде вытерла пыль, тщательно причесалась, надела нарядное платье.
— Адик, который час?
— Пять минут девятого.
— Ох… Приближается!.. А ты знаешь наверно, что у нас около девяти, когда в Гринвиче семь? Я не верю, Адик!
— Ну как не верить, мамочка… Ведь Глеб Николаевич сам по карте высчитывал. И в вечерних газетах сказано.
— Мало ли что в газетах бывает сказано! Адик, пойдем уже в спальню, а? Ляжем, детка!
— Еще целый час, мама.
— Кто его знает, час ли! А вдруг — в вычислениях ошибка? Или сам Диктатор перепутает? Вставай.
— По- моему, я могла бы прекрасно оставаться в этом кресле. Смотри: высокие ручки. Спинка…
— Ради Бога! С ума сошла! Упасть хочешь?
— Ведь я сижу глубоко…
— Адик, не спорь! Прошу! Посмотри, видишь, что на улице делается… Боже! Боже!
Софья Ивановна со страхом смотрит в окно. По проспекту в обе стороны бегут, торопясь по домам, запоздалые прохожие. С жутким грохотом опускаются в магазинах железные шторы. Зловеще завывая сиренами, проносятся мимо автомобили. Где-то слышится плач.
— Я положу возле себя чашку. И платок для компресса. Адик, хочешь? Может быть, дурно станет…
— Мама, ведь ты же читала, что никакой опасности нет. Лишь бы не упасть с высоты… В Берлине ни одного смертного случая в квартирах. И здесь. Успокойся, милая.
— Да я и не беспокоюсь. Откуда ты взяла? Ну, идем, ради Создателя! Дверь в гостиную оставлю: пусть больше воздуха. И занавеску спущу… Кажется, все… Ну, что же? Адик! Вставай… Ну, милая… Ну, хорошая… Ну, я тебя умоляю!
Они лежат на кроватях. Ариадна читает книгу, Софья Ивановна мочит водой лоб, прикладывая к вискам мокрый платок.
— На всякий случай… Не повредит… Что это? Владимир Иванович?
— Кажется.
— Да. Его орган. Погоди…
— Софья Ивановна! — слышится из гостиной голос Павлова. — Вы дома?
— Дома, миленький, дома.
— И Ариадна Сергеевиа?
— Да. Вы простите, Владимир Иванович, но не могу разговаривать. В спальне лежу! Столбняка ожидаю!
— Разве пора? По моим расчетам, у вас ведь только четверть девятого.
— Все равно! Миленький, вызовите по окончании! Через два часа. Я сейчас прячу голову под подушку!
Ариадна делает вид, что читает. Не опускает книги. Но друг за другом идут слова, фразы, страницы… А смысла нет.
…Все-таки беспокоится… Вызывает. Но если правда, что так сказал: примитивна, обыкновенна — она будет знать, как поступать в будущем. Напрасно вызывала тогда, в Берлине. Наверно, торжествовал, считал, что сама первая не выдержала… И после этого всего один раз вызвать! Так и нужно было тогда, после Стрелки… сделать вид, что устала, а потом — забыть. Не напоминает больше, ничего вчера не спросил…
…Как изменился за два года! Прежде — гордый, уверенный в силах. Теперь — садовод, помещик… Огнецветни-ки… Корни… Насколько сильнее Штральгаузен! Неужели — Диктатор? «Тяжкое бремя власти над земным человечеством…» «Повелеваю!» «Хотите знать, кто?.. Я…» В руках одного человека — мир. Все народы… «У вас есть душа». Она, конечно, молчит… Не выдаст. Но, может быть, отречение — выше? «Лежу под манговым деревом… Муравей пытается взобраться».
Ариадна чувствует, вдруг: нежный ток начинает струиться по телу. Руки дрожат. Выпадает книга. Голова кружится…
— Адик, уже!
Это где-то далеко. Глухо. Неясно.
Точно сон. Нет, не сон. И не сон, и не бодрствование. И не смерть и не жизнь. Провалилась земля. Небо в ярких лучах. Блеск, сверканье, мерцанье. И навстречу, оттуда, — разрастается, ширится… Новое, странное. Жуткое, неизвестное.
Мир весь — в пламени. «Ате» — горит слово из звезд. Об-ступають цветы… Лепестки из огней, корни в синей воде. Океан, океан! Шум волны… Гул на скалах. Это кто — среди звезд поднимается, смотрите?.. Глаз — огромный вблизи. Голос странный… знакомый… Говорит.
Говорит:
— Я Диктатор Земли. Император Земли. Мне подвластны народы. Мне подвластны цари. Все свободные, сильные, все ничтожные, слабые — все внизу, у подножья. Я один над живущими.
И где радость? Где счастье? Я не знаю, не слышу: любишь ли? Ждешь ли?
Люблю тебя!
Будут счастливы все. Будут радостны все. Путь для ннх уготован, звезды в небе указаны, солнце явится скоро, день придете после ночи.
Но где звезды мои? Нет тебя! И где солнце? Тебя нет! Путь неясен, томителен. Любишь ли? Ждешь ли?
Люблю тебя! Люблю тебя! Ариадна!
— Мама!
Било десять часов.
VI
В этот день в Петербурге вспыхнули серьезные беспорядки. Огромные толпы народа с одиннадцати часов утра запрудили все главные улицы. На углах вокруг ораторов стали образовываться непроницаемые кольца из слушателей.
Городовых, именем конституции просивших не нарушать порядка, не слушали. Бессильны были патрули. Ничего не могли сделать отряды конных жандармов.
К часу дня распространилось известие, что озлобленная толпа рабочих, разгромив базар на Петербургской стороне, перешла Троицкий мост, направляясь к Мариинскому дворцу, где заседал Земский Собор. Над Невским проспектом стали реять многочисленные летательные аппараты, к которым были подвешены гигантские плакаты: «Вся власть Диктатору!», «Долой народных избранников!» Один из запасных батальонов, по ошибке не расформированный после недавней войны с Китаем, вышел на улицу, смешался с манифестацией. С огромными белыми знаменами, на которых было начертано: «Граждане, подчиняйтесь эдикту!», «Большая Охта изъявляет покорность», «Да здравствует Диктатор мира!» — шли процессии за процессиями.
За Ариадной на автомобиле заехала взволнованная Наташа.
— Со мною уже пять дам, Ади, — торопливо говорит она, объяснив вкратце цель своего посещения. — Хотя ты и не состоишь членом «Лиги прав женщины», но мы тебя проведем вечером в спешном порядке… Единогласно. Поедем? Мест в автомобиле двенадцать. Огромный… Нам нужно заполнить… Согласна? Прежде всего — к Николаевскому мосту… Там задержали манифестацию горничных… Мы должны образумить их, Ади! Мы должны успокоить их, Ади!.. Ведь если прислуга не перейдет на нашу сторону, ты представляешь, что будет? Не перейдут матросы. Не перейдут пожарные… Городовые дрогнут. Солдаты… Мы потеряем представительный строй, Ади! Мы потеряем гарантии, Ади! Ади, что же ты смеешься? Не хочешь? Ади! Неужели ты не наша? Неужели ты за него?.. Ади!
— За Диктатора? Да, Ната. Конечно. Я — за Диктатора.
— За узурпатора? За насилие над земным населением? Ади, подумай, что ты говоришь! Ади, постыдись! Ну, что же, едем? Послушай, ведь мы же, в конце концов, подруги! Одевайся… Потом будем спорить! Принципиально!
— Нет, Ната. Я ведь сказала тебе. Ясно, кажется.
Корельский зашел к Ариадне позже — около пяти. Предложил проехаться по городу.
— Лучше сиди дома, — тревожно уговаривает дочь Софья Ивановна. — Куда на улицу в такое время? Слышишь, крики, гул. Еще подстрелят.
— Не беспокойтесь, Софья Ивановна, — возражает Корельский. — Нигде никто не стреляет. Я буду осторожен, в случае чего… Обещаю.
До угла Каменноостровского и Большого проспекта кое-как добрались, нередко останавливаясь и пропуская процессии. Но через площадь нельзя и думать проехать. Живой стеной стоит густая толпа. Посреди, над ней, парит в воздухе на легком автоптере какой-то рыжий молодой человек, размахивает руками, выкрикивает:
— Граждане! Мы не имеем нравственного права повиноваться! Граждане, мы не имеем социального права подчиняться! Граждане, протестуйте! Граждане, объединяйтесь!
— Бей провокатора! — раздается в ответ несколько голосов. — Бей! Бей! — гудит площадь. В автоптер летят палки и шапки. Молодой человек поднимается выше, кричит что-то. Поднимается еще выше, опять кричит. И, потрясая кулаками, скрывается, наконец, за ближайшей крышей. А изможденная женщина в белом платке машет возле Ариадны костлявой рукой и неизвестно по чьему адресу вопит, вращая головой во все стороны:
— Правильно! Правильно!
— Дорогие друзья! — говорит, стоя на грузовом автомобиле, какой-то почтенный господин, тщательно выбритый, с золотым пенсне на носу. — Я понимаю ту нервную атмосферу, которая создалась среди вас благодаря необычным условиям двигательного и чувствительного паралича, созданного неизвестным таинственным насильником…
— Ты сам — неизвестный!
— В наш век гигантского прогресса во всех сторонах социальной жизни, мы не в силах повернуть колесо истории назад, как того требуют эдикты № 1 и № 2. Анализируя государственные правовые нормы настоящего времени и считая, что формальный правовой момент в благоустроенном государстве всегда гармонически связан с содержанием жизни, мы должны неизбежно прийти к заключению, что требование незнакомца чистейший нонсенс. Нас, конечно, можно подвергнуть столбняку, каталепсии, вызвать паралич. О, да. Но что отсюда следует? Что мы должны отказаться от идеалов общественности? От светлого будущего? Нет, друзья! Нам не по дороге с Диктатором! Будем терпеть. Будем лежать. Будем спать. Один час, две недели, год, пять. Не в этом дело…
— В этом!
— Не в этом дело, а…
— В этом! В этом! Никита, тащи его с машины!
— Пять лет! Я те полежу, бездельник!
— Спи сам, черт!
— Довольно!.. Довольно!..
— Братцы! — вскакивает на автомобиль какой-то парень в картузе. — Послушайте меня! Им, этим господам, хорошо говорить! Им, барам, хорошо поспать годик, другой! Он лежит, а проценты текут! А нашему брату? Рабочему? Мастеровому? Где у нас проценты? Где у нас капиталы? Для него, в канцелярии, на заседании, столбняк — как с гуся вода. Впадет — и спит. Никакого различия! А как мне, маляру? Или штукатуру и каменщику? С четвертого этажа — трах на улицу? Шею ломать? Жизнь губить? Я предлагаю исполнить приказания господина Диктатора! Они свое дело понимают! Они нас не обидят! В честь его сиятельсгва, уважаемого Диктатора мира, ура!
— Уррра!.. — гремит на площади. — Урра! — несется по улицам. — Ура! — осторожно кивает из окна соседнего дома какой-то интеллигент с тревожным лицом.
Заседания в этот день шли повсюду: в «Клубе мануфак-туристов-прогрессистов», в «Союзе возрождения социализма», в «Лиге борьбы с новым средневековьем», во всех профессиональных, политических, научных и спортивных объединениях. В «Американской гостинице» спешно был назначен банкет «Франко-русско-славянского общества», на котором должен был обсуждаться вопрос о помощи со стороны России Парижу, Праге, Белграду и Софии от угрожающего союзным столицам столбняка. В Городской думе постановлено было экстренно образовать для борьбы с двигательным параличом санитарно-медицинскую комиссию. Что же касается Земского Собора и ответственного перед ним кабинета министров, — то совместное заседание с правительством открылось в половине одиннадцатого и сразу же приняло бурный характер.
Крайними правыми уже в самом начале заседания был поставлен вопрос о доверии. До сих пор, около двух лет, все вопросы решались в Соборе в строгой очереди — то левым блоком, то правым. Благодаря равному числу депутатов в обоих блоках, перевес всегда давали три представителя одной из многочисленных новых православных сект — секты «Братьев-молчальников». По уставу секты, вступавшие в нее члены не должны были заниматься мирскими вопросами; но суровый закон 1943 года о принудительном избирательном праве не делал ни для кого из российских граждан исключения. Сидя молча в Соборе, не обмениваясь мнениями и не выступая с речами, фракция «Братьев-молчальников», чтобы не обидеть никого, давала свои голоса в четные числа месяца — левым, а в нечетные — правым. Сегодня, 22-го, следовало ожидать, что молчальники будут голосовать с левыми и поддержат правительство. Но вопрос о доверии, однако, неожиданно не получил разрешения: от баллотировки молчальники воздержались. И когда депутаты шумными криками справа и слева потребовали, чтобы воздержавшиеся мотивировали свой отказ от голосования в такой ответственный для жизни государства момент, старший брат-молчальник взошел на трибуну, поднял взор к небу, кивнул головою налево, кивнул направо, махнул рукой и спустился вниз при негодующем шуме парламента.
Не получив, таким образом, ни большинства, ни меньшинства, правительство к трем часам пополудни заявило устами министра-президента о своем уходе в отставку и отбыло. На площади возле Мариинского дворца весть об этом прокатилась в несметной толпе гулом грозного одобрения. Толпа стала напирать на дворец. Отряд конной полиции едва сдерживал озлобленную массу, по всей площади громче и ярче раздавались призывные крики:
— Вперед, братцы!
— Распустить их!
— Да здравствует Диктатор мира!
— Заседание российского парламента продолжается, — торжественно говорил, между тем, во дворце председатель Собора после того, как члены правительства покинули свои места. — Господа народные представители! В настоящий момент судьба России в наших руках. От мудрости нашей зависит спасти отечество от грозящей опасности или ввергнуть его в пучину бедствий, бросив под ноги неожиданного мирового тирана. От городов и земств мною уже получены со всех концов необъятной родины многочисленные приветствия от городских дум, земских управ, различного рода общественных организаций. Они вдохновят нас на дальнейшую работу. Разрешите огласить?
— Просим!.. Просим!
— От московского городского самоуправления:
«Московская городская дума, придерживаясь славных традиций своего великого прошлого, горячо протестует против насильственного акта в виде эдиктов № 1 и № 2, попирающих все права человека и гражданина, сводящих на нет достижения Великой французской революции. Гордая российская общественность никогда не примирится с чьими бы то ни было попытками посягнуть на суверенную волю русского народа. Народные избранники, вся Россия смотрит на вас! Будьте сильными до конца, будьте смелыми до последнего шага, Москва с вами! Городской голова Иван Лодочкин».
— Урра!..
— Послать благодарность!
— Просим!
— От тверского губернского земства: «Только республиканский строй, основанный на высших началах гуманности, справедливости, прогресса, морали, науки, техники, литературы, поэзии, музыки, спорта и эмансипации женщин может привести нашу дорогую родину к светлому и счастливому неизвестному будущему. Не уступайте насилию! Председатель губернской земской управы князь Тиг-ровский». Из Гомеля от Союза аптекарских учеников: «Мы, аптекарские ученики города Гомеля, заслушав на общем собрании возмутительные эдикты узурпатора, категорически, всем существом протестуем и требуем немедленного прекращения насильственных действий против вселенной. Председатель союза Абрам Ципельман». От харьковского совета присяжных поверенных…
— Просим огласить, кто за Диктатора! — раздался вдруг возглас с крайней правой. — Профессора и студенты согласны на роспуск!
— Не мешайте председателю читать!
— Просим огласить! Это нечестно!
— Оскорбление председателя! Недопустимо!..
— От кустарей прочтите! От кустарей!
— Прошу высокое собрание… — звонит председатель.
— Прошу…
— Долой!
— Позор! Позор!
— Долой!
К половине десятого вечера зал заседания превратился в бурно-кипящий котел из человеческой массы, потрясавшей руками, стучавшей пюпитрами, что-то кричавшей. Председатель непрерывно звонил, приставы сновали по залу, стараясь не допустить резких эксцессов. И в это самое время на площади, глухо рычавшей ввиду приближения зловещей ночи, судьба народовластия была решена. Бодрым, привычным шагом к площади подошел гвардейский экипаж в полном составе для изъявления покорности Диктатору мира, и осмелевшая толпа ринулась во дворец, проломив тяжелые двери.
— Долой народную волю! — кричал бравый радиотелеграфист, изменивший сегодня утром своей партии и ставший во главе проникшего во дворец вооруженного отряда.
— Немедленно распуститься!
Этот крик гулко раздавался вокруг, так как депутатов в зале уже не было. Только за центральными тремя пюпитрами спокойно сидели три брата-молчальника и молча смотрели на вошедших.
— Депутаты? Составляй телеграмму! Живо!
Младшие братья закивали в ответ головами, радостно показывая руками на старшего. А старший поднялся на председательское место, достал из кармана карандаш, бумагу, посмотрел счастливыми глазами на зияющие депутатские места, облегченно поднял глаза кверху, перекрестился и написал:
«Его Мировому Величеству Диктатору Мира.
От имени двухсотмиллиониого населения России изъявляю покорность.
Фаддей Чубуков, депутат бугурусланский».
VII
Жуткие дни наступили в западной Европе.
Представительные учреждения, существовавшие повсюду в виде уступки правящей социалистической партии старым европейским демократическим принципам, в вопросе о подчинении эдиктам таинственного Диктатора слились с социалистами в общем порыве негодования. Были забыты принципиальные несогласия, оппозиционные настроения, расхождения во взглядах на ограничения права собственности, права торговли, на национализацию крупных предприятий, которую социалистические правительства из года в год проводили в порядке систематической постепенности.
День 22-го мая прошел тревожно во всех столицах. Как и в Петербурге, всюду были многочисленные митинги, заседания, собрания. Огромные толпы манифестировали на улицах. Многочисленные ораторы — на автоптерах, на автопланах, в аэробусах, на улицах, на подземных дорогах — призывали народ сплотиться, не уступать насильнической власти узурпатора.
Но, в противоположность Петербургу, где против народных избранников выступили рабочие, армия, флот и монархически настроенная молодежь, — здесь, в Европе, уличная толпа вела себя сдержанно, неопределенно, не высказываясь ни за Диктатора, ни против него. В Берлине произошло несколько несчастных случаев из-за давки автопланов возле Рабочего дворца; в Париже оказались растоптанными несколько человек на центральном рынке, куда парижане с утра бросились закупать пищевые продукты.
К двенадцати часам ночи ни один европейский парламент не сдался. Рейхстаг и Рабочий Государственный совет закрыли совместное заседание в час дня, постановив оказывать пассивное сопротивление насилию. Французская Палата депутатов, совместно с Рабочим сенатом, вынесла резолюцию о передаче вопроса на арбитраж Лиги Наций. Что же касается английской Палаты общин и Палаты рабочих, то члены обоих учреждений днем спокойно разошлись по домам, а к позднему вечеру вернулись обратно в палаты, в глубоком молчании расположились на своих местах, без пяти минут двенадцать погасили свои трубки и, пропев: «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом», — впали в глубокий сон.
Прошло две недели. В Петербурге — оживление, жизнь идет своим чередом. Интеллигенция быстро приспособилась к новой политической конъюнктуре. Крайние левые, лишенные возможности заниматься политикой, принялись за составление мемуаров и собирание архивов; крайние правые, лишенные той же политической возможности, стали свободные часы посвящать детальному изучению российской истории, географии, этнографии.
В России укрепилась твердая власть, население вернулось к обычной мирной трудовой жизни. А в Европе — смятение. Глубоко спят столицы, глухо ропщут провинции. Каждый день, в час пополудни по гринвичскому времени, оживают Берлин, Париж, Лондон, Рим. Пользуясь двухчасовым перерывом, многие бегут вглубь страны, захватив что можно из домашнего скарба. В аэробусах, на железных дорогах, начинающих действия к этому времени, места берутся с боя, пассажиры сидят на крышах вагонов, висят, ухватившись за подножки поездов-цеппелинов.
Идти пешком решаются немногие. Район паралича не ограничивается только территорией столиц. На полтораста километров вокруг — все города и села испытывают участь центра: каждый день впадают в сон, каждый день возвращаются к жизни только на два часа. Постепенно пустеют столицы, наглухо заколачиваются оставляемые жильцами квартиры. Но сотни тысяч — все же упорно держатся, не желая оставлять громоздкого имущества, продолжают переносить бедствие, лихорадочно снуют по улицам, стараясь успеть в перерыве закончить самые необходимые свои дела. Бойко торгуют магазины, базары. Спешно жа-рять и варят хозяйки, чтобы накормить детей и мужей. На французских бульварах происходит торопливый флирт с расчетом на прекращение к трем часам дня. На площадки лондонских спортивных обществ слетаются молодые люди, делают быстрые физические упражнения, перебрасываются мячами и несутся обратно, чтобы поспеть домой к началу паралича.
Наиболее состоятельные обитатели столиц, имеющие собственные летательные аппараты, пытались вначале приспособиться к новым условиям. Отлетая после часа дня далеко за пределы зловещей зоны, они возвращались в город значительно позже трех часов, когда все уже было погружено в сон. Но уловка оказалась бесцельной. Как бы в предвидении этого, ежедневно, в разное время, на столицы добавочно направлялась неожиданная волна столбняка, не изменявшая состояния уснувших, но повергавшая в сон всех вновь прибывших в столицу. И обстоятельство это не только ликвидировало попытки обойти наказание, но сразу остановило наплыв на спящие города праздных любителей зрелищ, сократило налеты газетных корреспондентов.
На третьей неделе сдались все небольшие державы, за исключением Швейцарии. Изъявили покорность и согласились на условия обоих эдиктов: Чехословакия, Румыния, Дания, Швеция, Норвегия, Югославия, Болгария, все южноамериканские республики. Греция, признавшая Диктатора уже в конце первой недели, в начале второй, благодаря смене правительства, отказалась от данного слова; в конце второй — снова признала, к началу третьей опять отказалась и окончательно согласилась подчиниться только на пятой неделе. Париж, Лондон, Берлин, Рим, Вашингтон продолжали сопротивление. Правительства, для руководства политической жизнью, перебрались в провинциальные центры; но члены палат, советов и сенатов оставались в столицах, опасаясь своим переездом навлечь столбняк на новые места и вызвать этим взрыв негодования во всей стране.
Однако, пока европейские и американские народные избранники упорно пребывали в состоянии оцепенения, научная мысль в провинциальных городах лихорадочно работала над раскрытием тайны неведомого мирового тирана. Из наблюдений над находившимися в параличе столичными гражданами было строго установлено, что явление это аналогично каталептическому состоянию во время гипноза и получается от действия на организм какого-то неведомого физического раздражителя. Установлено было также, что излучение неизвестной энергии, приводящей к каталепсии, происходит в направлении с юго-востока на северо-запад; случай с Миттенвальде, где северо-западная часть города была погружена в сон, в то время как юго-восточная оказалась незатронутой, с очевидностью доказывал это. Кроме того, знаменитые французские психофизиологи Жан Мартэн Леско и Альфред Бите, засыпая на противоположных окраинах Парижа и отмечая момент потери сознания при помощи самопишущих приборов, нашли, что действие неизвестного раздражителя постепенно начинается в юго-восточной части города и передвигается на северо-запад, охватывая всю столицу только по истечении нескольких секунд, а именно: minimum — 3,1545 сек., maximum — 7,0024.
Приблизительно те же результаты относительно направления радиотелеграфной волны были получены немецки-мн физиками Гуго Мерцем и Беннэ Мейером, сделавшими по способу Штольцмана одновременные засечки во время получения эдикта № 2 на радиостанции в Ганновере и в Мюнхене. Как и французские психофизиологи, Мерц и Мейер утверждали, что местопребывание самозваного Диктатора находится на юго-востоке от Европы, а именно — в Тихом океане, около Марианских островов. Но в то время, как радиотелеграфная волна шла в Берлин по линии — Фюр-стенвальде, лаборатория «Ars», Киев, Тибет, Формоза, Марианские острова, — каталептическая волна двигалась на Париж со стороны островов Фиджи, нигде на востоке не пересекаясь с направлением Марианские Острова — Берлин. Возникший на этой почве спор между французскими и немецкими авторитетами был горяч и упорен, так как нельзя было допустить, чтобы узурпатор власти телеграфировал с Марианских островов, а производил каталепсию с островов Фиджи, отделенных друг от друга более чем на 4000 километров. Не много ясности внесла в этот спор и примирительная прагматическая гипотеза английского психолога Джемса Купера, согласно которой самозваных диктаторов было два.
VIII
Настроение у Софьи Ивановны весь этот месяц было радостное, праздничное. Несмотря на свои 65 лет, она участвовала в торжественных крестных ходах, устроенных петербургским духовенством по случаю принятия императором всей полноты самодержавной власти, ходила встречать царя, переехавшего из Ливадии в Петербург и принятого восторженной столицей с небывалым энтузиазмом.
В связи с событиями Ариадна, как будто, тоже немного повеселела. Все, что произошло, вполне совпадало с ее мечтами о восстановлении былого могущества России, о возвращении родины к прочным историческим традициям. В личной жизни Ариадны за это время произошло также несколько приятных событий: генерал Горев устроил ее дик-тофонисткой в Главный штаб; Корельский, раздражавший своей назойливостью и прозрачными намеками на нежные чувства, улетел по делам в Париж. И, наконец, что, может быть, самое главное — она несколько раз наедине говорила с Владимиром, который сам вызывал, долго задерживал у телефона, жаловался, что настроение у него сейчас почему-то тяжелое, подавленное.
Говорили о политике, о посторонних вещах… Но по тону голоса видно: действительно грустит. Действительно тоскует… А это так хорошо!
После службы, за вечерним чаем, Ариадна читает вслух газеты. Софья Ивановна слушает. Часто просит разрешения присоединиться к ним во время чтения и Владимир Иванович. Никогда еще в печати не бывало сведений столь любопытных, сенсационных, захватывающих. Во Франции, Германии и Англии, в связи со столбняком, стали выходить новые газеты: «Le Sommeil», «L’homme dormant», «Ka-taleptische Zeitung», «Sleeping News». И все, что печаталось в них, было жутко, загадочно, таинственно.
Однажды вместе с Владимиром читали вечерний выпуск «Крестьянина». В отделе, посвященном заграничной жизни, была помещена заметка под заглавием: «Страшная смерть в Тихом океане». В ней говорилось, что около середины июня японское товаро-пассажирское судно «Сим-бун», вышедшее из Нагасаки в Австралию, не пришло согласно своему расписанию в Сидней и, ввиду свирепствовавшего в районе Каролинских островов тайфуна, считалось погибшим. 22 июня, однако, английский крейсер «Уор-кер», подходя к острову Эндербери в Полинезии, встретил «Симбун», качавшийся на волнах в открытом океане без признаков управлений. Оказалось — вся команда и все пассажиры судка были мертвы. Никаких признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. Матросы найдены почти в том положении, в каком находились во время работы. Окоченевшие пассажиры сидели за столом в кают-компании, некоторые найдены утонувшими в холодном бассейне во время купания, большая группа приняла смерть в зале фонокинематографа во время демонстрации фильмы…
— Может быть, Диктатор? — испуганно прерывает дочь Софья Ивановна. — Дальше не говорится, Адик?
— Сейчас… Погоди.
Ариадна смотрит в газету, отыскивает место, на котором остановилась, внезапно бледнеет.
— Я так и знала… Арестован!..
— Кто арестован? Что с тобой? Адик!
— Штральгаузен!..
— Штральгаузен? — с любопытством переспрашивает Владимир Иванович. — За что? Интересно! Прочтите, Ариадна Сергеевна… Если не очень расстроены.
— Расстроена? Да, мне, конечно, неприятно. Мы с доктором большие друзья.
— Ну вот еще, друзья! Читай, Адик, читай. В чем дело? А?
Огромная корреспонденция… Из Франкфурта на Одере. Вначале — подробности ареста. 25 июня, около 4 часов дня, на своем аэроплане после почти полуторамесячного отсутствия вернулся в лабораторию «Ars» доктор Штральгаузен. Вид у него был измученный, жалкий; на вопросы помощника и служащих отвечал рассеянно, бессвязно; по прибытии тотчас же отправился к себе в кабинет, заперся на ключ.
Милиция прибыла через двадцать минут на служебном аэробусе из Франкфурта и окружила лабораторию, заняв все входы и выходы. Отвезенный во Франкфурт, Штральгаузен был подвергнут допросу, держал себя сначала презрительно-спокойно, затем вдруг в резком припадке заявил, что его никто не смеет задерживать, так как в его власти уничтожить население всего Земного шара и, наконец, разрыдался, заявив, что никакого отношения к Диктатору мира он не имел и не имеет.
Улики против Штральгаузена оказались, однако, очень серьезными. В следственном материале, собранном за последний месяц, находилось, между прочим, указание, что еще в ноябре прошлого 1949 года, недалеко от лабораторий «Ars», в местечке Шлабен, местные жители с удивлением наблюдали у себя ежедневно, в разное время дня и ночи, странное нервное недомогание, временами переходившее в состояние легкого паралича. Известие это, сообщенное франкфуртскими газетами, не обратило на себя достаточного внимания остальной периодической печати. Однако, ныне свидетельскими показаниями установлено, что именно в эти дни доктор Штральгаузен без всякого повода посещал Шлабен, вел беседы в местными жителями, интересовался всем, что касалось их жизни.
Отсутствие арестованного во время появления эдикта № 2 и нежелание дать ответ о своем местопребывании в последние полтора месяца усугубляло подозрения властей. Под сильным конвоем доктор Штральгаузен был перевезен из Франкфурта в Мюнхен, где находится в настоящее время бежавшее из Берлина германское правительство. Но, к всеобщему удивлению, после секретного допроса, произведенного самим Прокуратором республики, арестованный был немедленно освобожден и, в сопровождении германского верховного Комиссара по морским делам, вернулся в лабораторию «Ars». Всю ночь с 26-го июня на 27-ое верховный Комиссар провел в кабинете доктора. А 27-го июня, рано утром, сев в свой аппарат, доктор снова внезапно исчез, окутав весь прилежащий к лаборатории район газом небулином, чтобы избежать погони аэропланов многочисленных газетных корреспондентов.
В начале июля в Петербург вернулся Корельский. Очевидно, обиженный чем-то, он зашел к Ариадне только через несколько дней после возвращения и пробыл недолго, всего около часа.
— Ну, как в Европе? — спрашивает Софья Ивановна. — Я читала, что Испания приняла условия. Говорят, большие междуусобия были?
— Да, в Мадриде ежедневно шел бой на улицах, — сухо отвечает Корельский. — Просыпались к часу дня, схватывались за оружие и дрались, пока не засыпали… А что у вас нового, Ариадна Сергеевна? Я, между прочим, вызывал вас несколько раз по нашему телефону. Но почему-то никогда не заставал.
— Да, я теперь служу. Возвращаюсь только к шести. Устаю.
— Все-таки служите? Охота вам! А мне предстоит на днях опять поездка. На тайный съезд европейских физиологов в Лейпциге. Будем обсуждать возможные меры борьбы с каталепсией. Этому насилию, действительно, нужно положить конец.
— Конец? — обидчиво удивляется Софья Ивановна. — Совершенно напрасно, дорогой мой. Нужно, наоборот, благодарить Бога, что все это началось, а вы говорите — конец.
— Насколько я помню, вы стояли раньше за абсолютизм, Глеб Николаевич… — говорит Ариадна, насмешливо взглядывая на Корельского. — Откуда вдруг такая перемена? Ведь не так давно это было…
Корельский краснеет.
— Да, это было, Ариадна Сергеевна. Но я стоял не за подобное возмутительное обращение с людьми. Я предполагал естественный внутренний переход к самодержавию, а не насильственный, извне. У человечества, согласитесь, все-таки должно быть какое-то достоинство.
— У человечества? — восклицает Софья Ивановна, не дав Ариадне возможности возразить. — Никакого! Я вам скажу, миленький: теперь, в наше время, даже отдельный человек и тот часто не понимает, где у него достоинство, а где простое свинство. А вы… ишь куда хватили: человечество! Нет, нет. Дай Бог ему здоровья, Диктатору. Молодчина он!
Когда Корельский ушел, Софье Ивановне стало неловко, что спорила она слишком решительно, пожалуй даже, несколько резко. И стала упрекать Ариадну:
— Ты слишком холодна с ним, Адик. К чему такой насмешливый тон, пренебрежение? Я понимаю, он может тебе не нравиться. Да. Я сама сильно разочаровалась. Но не забывай, сколько он сделал для нас тогда, в Берлине. И при переезде сюда. Нужно быть вообще снисходительнее, Адик, терпимее.
— Что же делать, мама, если он мне противен? Я официально с ним вежлива… Достаточно этого.
— А в Народный дом отказалась идти? Пойди, Адик, Бог с ним! Тем более, сама хотела, а одной все равно неудобно… Провожатый будет.
Ариадна улыбнулась, ничего не ответила. Но когда на следующий день вернулась со службы, Софья Ивановна объявила, что Корельский через час заедет.
— Ведь я же отказалась вчера? — хмурится Ариадна. — Как же так?
— Ты не сердись, Адик… Но знаешь, виновата, в сущности, я. Я сказала, что ты не идешь со мной к Горевым и согласна послушать ораторию… Адик, не делай таких глаз! Мы обязаны быть вежливыми с теми, кто к нам хорошо относится… Ну, Адик… Прости! В последний раз, честное слово! Ведь вот язык… Сама не знаю, кто меня тянул? Ах, Господи, Господи!..
На территории Народного дома, в глубине, там, где некогда была обширная пустая площадь, отведенная под балаганчики, рестораны, открытые сцены, бараки для танцев, теперь красуется величественное здание с громадными залами, с зимним садом, с аудиториями для устройства докладов и диспутов. Тут помещается специальный театр без сцены для слушания европейских радиоконцертов и радиозаседаний; здесь находится темный зал под названием «Шумы Земли», куда передаются звуки радиотелефона со всех концов земного шара, где в ослабленном виде можно услышать одновременно жуткий гул земных столиц, прибой морей, свист ветров, песни, музыку, богослужения, рев народных скоплений, крик о помощи с тонущих в океане судов.
Тут же, в центре здания, и специальный амфитеатр для духовных собраний. Днем обычно происходят диспуты про-поведвиков всевозможных религиозных сект, отчасти недавно возникших, отчасти возродившихся из глубин первых веков христианства. По вечерам — идут духовные концерты, охотно посещаемые петербургскою публикой.
Корельский, к неудовольствию Ариадны, взял отдельную ложу. Глухие перегородки отделяют ее от соседних; впереди, над барьером, тяжелые портьеры, спускающиеся в обе стороны, подхваченные наверху шнуром с массивною кистью.
Она чувствует: сегодня будет что-то решающее. Он готовится говорить… Видно по напряженному выражению лица, по неприятной задумчивости глаз. Но отчасти хорошо. Чем раньше, тем лучше. Пусть узнает раз навсегда. Пусть услышит, если сам до сих пор не догадывается.
— Последний раз! — твердо решает про себя Ариадна. Она отодвигает от Корельского кресло, садится ближе к барьеру, осматривает огромный круглый зал театра. Со всех сторон, выше и выше, — притихшие слушатели, тысячи застывших фигур. Скоро начало. Идет оратория «Верую».
Наверху, где обрывается последний ряд, — вместо плафона — круто поднимающийся к центру гигантский балдахин, скрывающий хоры и места для оркестра. Постепенным закатным угасанием меркнет свет. Яркими звездами просвечивают сквозь балдахин многочисленные огоньки невидимых оркестровых пюпитров.
…Верую.
Все в хаосе, в смятении. В страхах жизни — вселенная. Вздох морей, гул огня, крик ветров. Кто-то мрачный и злобный, проклинающий смертью, взывающий бурей, тяжкой поступью переходить бытье, погружается в тьму.
— Верую… — наверху раздается неясно, бессвязно. Хор младенческих лепетов, дрожь родившихся голосов. Где-то там: среди гаснущих молний, вслед уходящей грозе. На пришедших волнах тихо плещущих струн.
— Верую, верую! — поднимаются в разных концах громкие возгласы. — Верую, верую, — присоединяются окрепшие, новые. — Верую! — ширится всюду, стихийно, ликующе. Звуки радости, стона, умиления, трепета, медь восторженных кликов, величайший аккорд коленопреклоненного ужаса и просветленной любви.
………. «Во единого Бога Отца!..»
Разверзается небо. В диссонансе распада, в созвучьях творенья, в трелях звезд, в метеорных каденцах, в неугадан-ных, смутных, безначальных мелодиях, все — бесчисленно, множественно, едино, могущественно…
………. «Вседержителя!»
— В последний раз… — шепчет сзади Корельский.
В последний раз! Она вздрагивает: ее слова!
— В последний раз, Ариадна Сергеевна… Я не буду больше говорить. Никогда. Быть может, не увижусь. Не встречу. Но сегодня — сегодня выслушайте.
………. «Творца Неба и Земли!»
— Я ведь знаю… Вы ко мне холодны. Равнодушны. Я даже вижу иногда брезгливость… Отвращение. Но это пройдет. Вы не знаете, кто я. Вы не догадываетесь. Вы, как женщина, преклонитесь. Вас победит — сила… Могущество… Слава…
………. «Видимым же всем и невидимым…»
— Я сейчас для вас— ничто. Тот, которых миллионы. Безразличных. Ненужных. Я вас знаю. Не прельстит вас богатство. Я могу собрать горы драгоценных камней. Дать все золото мира. Приказать положить к ногам все, чем гордится земля… Но мало, мало… Не нужно. Необходимо другое. Ариадна, я дам вам величие. Бессмертие. Какого не бывало в истории. Вы будете первая… Среди живущих. Среди всех славных, ушедших… Вы будете повелительницей. Всей земли. Земного шара. Перед вами падут на колени короли. Императоры. На вас будут молиться народы. Жизнь и смерть человечества в ваших руках. Счастье и горе его — в ваших глазах. Ариадна, вы будете моей. Ариадна, вы будете со мной. Я вас люблю. Я не в силах побороть себя. Скажите… Одно слово… Скажите — да. Я раскрою всю тайну.
Ариадна бледна. Дрожат руки. Притаилось дыхание. Она негодует, молчит, ждет конца оратории, последних звуков.
Там — поднимаются из гробов стучащие кости. Оживают мертвецы, зажигаются блеском радостных песен провалы глаз. Встают, вырастают, толпятся, трепещут… И грозные трубы, и пенье бесплотных, и славословие ангелов….
………. «И жизни будущего века…»
— Я ухожу. Вы — останетесь здесь, — говорит Ариадна. Лицо — неподвижно. В глазах презрение. — Мы больше никогда не увидимся. Помните. Мне стыдно и больно. Вы могли говорить без обмана. Без всей этой лжи. Прощайте.
Она направляется к выходу. Корельский схватывает ручку двери, смотрит в упор.
— Не верите?
— Оставьте, прошу вас.
— Не верите? Да? Так вы узнаете! Поверите! Скоро! Отвечайте: не любите? Не полюбите? Ариадна… Сжальтесь… Ариадна… Не оставляйте… Любимая… Моя…
— Ступайте прочь!
X
Софья Ивановна еще не вернулась от Горевых. Ариадна сняла пальто, шляпу, прошла в гостиную.
За окном белая ночь. В раскрытых далях — колокольни, купола, остроконечия крыш. Наверху, в оправе нежного неба, голубая звезда. Север тихо сияет. Под зеленой каймою золотой горизонт.
Ариадна сидит в кресле, уронила голову на бархат, закрыла глаза. Пусто, жутко, ненужно…
… «Горы драгоценных камней. Золото мира… Вы будете первая!» Как смешно — в этих пошлых устах, в этой мещанской душе!.. «Среди всех живущих. Среди ушедших…» А быть может, — не ложь? А если вдруг — он? Нет, нет! Штральгаузен! «Вы?» «Я». Ужасный смех. И тогда было страшно. Гений! Великий мозг. Только почему же слова: «Жизнь и смерть человечества в ваших руках?.. Счастье его в ваших глазах?..»
В сознании переплелись пути смешавшихся мыслей. Стучит болью в висках, тяжело дышит грудь. Все не то, все не то, все не то!..
— Владимир Иванович!
Она держит в руках микрорадиотелефон. Ждет ответа. Где-то — неясные звуки. Шаги…
— Я не слышал, простите. Софья Ивавовна?
— Я.
— Ариадна Сергеевна!
Голос, раньше глухой и сонный, быстро проясняется. Владимир мгновение ждет. Говорит:
— Вы меня вызвали. Наконец-то. За все время — второй раз.
— Да, второй.
— Мало, не правда ли?
— А про бабирузу?
Молчание.
— Ну, в таком случае, у меня есть для вашего внимания любопытное наблюдение над птенцами амадины…
— Не нужно, Владимир Иванович.
— Не нужно?
Иронический тон исчезает. Неожиданно слышится заботливость, участие.
— Не нужно… — дрогнувшим голосом повторяет Павлов.
— Хорошо… Но, может быть, тогда…
— Я хочу молчать. И чтобы вы — молчали. Нет, впрочем, нет. Говорите. Говорите. Мне нужно. Ах, я сама не знаю, что нужно! Я ничего не знаю!.. Мне тяжело… Я устала. Устала!..
— Ариадна!
Тихо.
— Ариадна! Ади!
Молчание.
— Ты вернулась… Я чувствую! Ты вернулась. Скажи… Вернулась? Ади!
— Владимир!..
— Любовь моя!.. Счастье! Наконец… Ади! Ади! Любимая… Светлая… Родная…
— Говори?.. Я хочу… О себе… Обо мне. Голос твой…
Она поднимает яркий никель. Держит возле лица, обвивает нежными пальцами. И в глазах — все в тумане. Отблеск белой ночи в слезах.
— Два мучительных года, два томительных года, — шепчет у лица Ариадны счастливый голос Владимира. — Я хотел все забыть, я хотел все порвать… И нельзя. Невозможно. Ведь это — ты! Ведь это ты — мечта моя, моя жизнь, до конца, до дна, до последнего вздоха! Я не видел тебя — ярче светились глаза. Я не слышал тебя — громче вспоминались слова. Ади, два года, каждый день, я с тобою вдвоем, только с тобою, полон тобою. Я ведь верил, я знал: ты будешь опять. Будешь снова, как раньше. Но какая боль — это время! И какое страдание — вдали!
Я здесь, в храме Бога, посреди океана. И красота мира — мучительная рана после твоей красоты. Ясный день — хмур и сер без улыбки… В звездном небе тусклы без взгляда ночные огни… И вот, снова, — счастье мое! Опять — радость моя! Ты любишь, Ади? Ты плачешь? Ади! Ты плачешь?
Она молчит. Но Владимир слышит: боль прерывистых вздохов, подавленный стон… И шепот счастливых лепечущих губ:
— Как я измучилась… Как измучилась!
XI
Приближался конец июля. Уже два месяца, как в непреклонном упорстве спят столицы, не идя на уступки таинственному захватчику власти. Была сделана попытка в Италии перевести парламент и Рабочую комору из Рима в Милан. Удалось устроить торжественное заседание, вынести вторичное постановление о неподчинении насилию. Но на следующий день Рим вдруг вернулся к нормальной жизни, вместо него впал в тяжелое оцепенение Милан.
Спят столицы… А в провинции — напряженный покой, зловещая тишина перед чем-то роковым, неизбежным. Каждый день заседают правительства; совещаются в глубокой тайне съехавшиеся в глухое местечко Вольфганг, в Швейцария, президенты непокорных европейских республик. И, как будто случайно, каждую ночь из Бреста, Тулона, Плимута, Нью-Йорка, Вильгельмсгафена и других европейских и американских портов уходят куда-то один за другим военные корабли, направляясь в различные моря, в различные океаны.
На германском гидролиз-супердредноуте «Франц Ме-ринг», уже пять дней тому назад вышедшем из Киля, в простой, уютно обставленной каюте, возле стола на полукруглом диване сидят трое: вице-президент Рейхстага доктор Штейн, известный германский географ профессор Шмидт, директор потсдамской обсерватории, знаменитый астроном, открывший находящуюся за Нептуном планету Плутон, — профессор Гаген.
Штейн выехал по личной просьбе самого Прокуратора. Прокуратор потребовал от него во имя блага республики покинуть Берлин, где Рейхстаг до сих пор продолжал пассивное сопротивление, и без объяснения причин, обещая раскрытие плана только через несколько дней, просил отплыть на «Франце-Меринге».
Профессора Шмидт и Гаген, как не пользовавшиеся депутатской неприкосновенностью, были перевезены сюда неожиданно, после внезапного и тайного ареста на своих квартирах. В газеты были даны сведения, будто оба профессора обвиняются в заговоре против республики и сосланы в одну из новых африканских колоний. Относительно доктора Штейна газеты были информированы также неправильно. Штейн сам перед отъездом сообщил корреспондентам о том, будто он едет на совещание в Вольфганг.
Дверь каюты заперта снаружи на ключ. Каждый день приносят изысканный завтрак, обед, кофе, ужин. Иногда заходить командир судна, сам встревоженный, недоумевающий, так как три нумерованных, запечатанных пакета вручены ему для выполнения маршрута. Первый вскрыт уже на тридцать седьмой параллели южной широты, вблизи островов Тристан да Кунья. В этом пакете следующим пунктом указаны Южные Оркнейские Острова, на юго-запад от Тристан да Кунья. А дальше? Эта неосведомленность коман-дира успокаивает самолюбие доктора Штейна и обоих профессоров. Все трое — социалисты; но немецкая дисциплина во имя республики побеждает остальное. Они спокойны, не протестуют.
— Южный Крест стоит над горизонтом выше, чем на сорок пять градусов, — задумчиво говорит Гаген, подойдя к иллюминатору и вглядываясь после яркого электрического света в темноту ночи. — Профессор, на какой широте Южные Оркнейские?
Этот вопрос обращен к Шмидту. Тот, не выпуская журнала из рук и трубки изо рта, мрачно бормочет:
— Смотря какой остров. Северная оконечность Фрейин-зеля — 6о градусов 43 минуты. А секунды различны. По Джону Паркеру — 25. По Фридриху Цельнеру — 27.
— 60? — испуганно произносит Гаген, поднимая воротник пиджака и слегка отступая. — А я не знал, что здесь так холодно! Зима!..
Он закрывает иллюминатор, садится. Начинает снова допытываться у Штейна, не говорил ли ему Прокуратор, хотя бы намеками, о цели путешествия.
— Если это против Диктатора, — рассуждает он, — то к чему идти на юго-запад? Ведь доказано, что радио излучается Марианским архипелагом!
— Даю вам слово, профессор, что я знаю о цели поездки не больше, чем вы!
— Да, да… Ну, а случай с «Симбуном»?.. — продолжает Гаген. — Или недавно с «Коммон-Сенсом»? Ведь это все — одно к одному. Читали про исчезнувшую китайскую эскадрилью?
— Читал.
— То-то и оно!
Гаген встает, снова подходит к иллюминатору, круто поворачивается, начинает нервно ходить из угла в угол.
— Я, во всяком случае, думаю, доктор, что путешествие наше небезопасно, — упавшим голосом говорит он. — Я даже думаю, если хотите звать, что оно очень опасно!
— Возможно, профессор, — спокойно соглашается Штейн. И берет со стола «Simplicissimus».
Южные Оркнейские отошли к Германии по Цюрихскому договору 1943 года, после Великой Газовой Европейской войны. Все острова сейчас в глубоком снегу. Справа, сквозь белую сеть метели, видна громада главного острова; слева плоский небольшой островок. На берегу несколько европейских построек, дальше — деревня из конических шалашей, тесно примкнувших друг к другу.
— Опустить трап!
Едущий на судне адмирал Штраус, стоя в передней боевой рубке, видит в бинокль снующие возле стоящего на снегу аэроплана фигуры. В аппарат садятся два человека. Толпа разбегается. Аэроплан быстро идет вертикально наверх, под прямым углом меняет направление, летит к дредноуту.
— Отставить трап! Подать гидроплан-планум!
Грохочут цепи, гудит машина. И у левого борта развертывается на упругих шарнирах, выдвигаясь в море, громадный плоский металлический лист. Адмирал сам отдает рас-поряжевия; командир судна стоит рядом, с удивлением следит за летящими.
— Вам известно, кто должен прибыть, господин адмирал? — почтительно спрашивает он.
— Так же известно, как любому дельфину!
Аппарат замедляет ход. Остановившись вверху, замирает на мгновенье, начинаете тихо садиться.
— Адмирал Штраус, — говорит изумленному адмиралу, оставшись с ним наедине, сошедший с аэроплана германский морской комиссар Гельм. — Согласно постановлению Верховного совета в Вольфганге, вам вверяется командование всеми вооруженными морскими и воздушными меж-дусоюзными силами в действиях против самозваного Диктатора. Разрешите вручить документ.
А через несколько минут в каюту, где сидят доктор Штейн, Гаген и Шмидт, входить укутанный в меха кто-то измученный, злобный, бросается в кресло, шепчет в отчаянии:
— Не могу… Не могу… Ничего не могу!..
Это — Штральгаузен.
XII
План всеобщей морской и воздушной мобилизации, разработанный германским морским комиссаром Гельмом, оказался выполненным с блестящим успехом, с соблюдением строжайшей тайны, в которую были посвящены только президенты и военно-морские министры великих держав.
10-го августа, около полдня, к острову Каро в архипелаге Гильберта подошли вдруг со всех сторон серые массивы боевых кораблей. 1200 судов в продолжение часа поднялись у горизонта из бесконечных далей Великого океана. Более 20000 газовых истребителей неожиданно слетелись к острову, застыли в небе сомкнутыми рядами зловещих крыльев.
Корабли прибыли в одиночном порядке, не зная ничего друг о друге, пройдя предварительно, согласно строго данным маршрутам, сложный запутанный путь по океанам и по прилежащим морям. Военные летчики, до перехода к архипелагу, бесцельно сновали у берегов Австралии и Азии, не вызывая ничьих подозрений, сами не понимая, почему каждый, час, согласно расписанию в приказе, им предписано изменять направление.
По прибытии морских и воздушных союзных сил, по всем кораблям и летательным машинам во избежание шпионажа был отдан приказ: вынуть все ключи передающих аппаратов, даже у рейдовых радиостанций, и сдать их особой комиссии на флагманском корабле «Франц Меринг». Вокруг линии судов, далеко во все стороны, были выдвинуты сторожевые посты субмарин, захватывавших проходя-щия мимо торговые суда, уничтожавших их радиоаппараты, уводивших к острову в качестве пленников. Несколько неизвестных аэропланов, появившихся неожиданно на горизонте и заподозренных в принадлежности к издательствам австралийских и азиатских газет, было немедленно уничтожены вместе с пилотами и пассажирами.
Командирам судов и начальникам воздушных отрядов дежурные гидропланы главнокомандующего передали точные инструкции предстоящих на этот день действий. Ввиду исключительности обстановки, в которой должна была вестись кампания, связь между судами, вместо обычного радиотелеграфирования, устанавливалась особыми, выработанными для этого случая световыми сигналами и сигнализацией флагами.
Не было еще двух часов, как о берег пустынного Каро забились внезапные тревожные волны. Взметнулась вокруг, точно в дни шторма, голубая вода. И полным ходом, взрывая сталью океан, 1200 серых чудовищ широким фронтом в 50 кильватерных колонн ринулись ураганом на северо-восток. В воздухе грозовой тучей, затмевающей небо, неслись аппараты. Все на пути уничтожалось, сметалось: торговые суда, рыбачьи лодки, одинокие воздушные путники. Никто на кораблях не знал, когда будет бой, где будет бой. Но все знали, чувствовали: сегодня решается судьба человечества.
— Ха-ха! — закинув назад обнаженную голову, скользя руками по прорези рубки, смеялся Штральгаузен. — Ха-ха! Будет весело! Будет!
Адмирал Штраус с молчаливым негодованием смотрел на знаменитого ученого. Комиссар Гельм снисходительно улыбался, стараясь подчеркнуть свое хладнокровие.
— А вы уверены, господин комиссар, что доктор дал точную широту и долготу? — недоверчиво кивнул адмирал головой на Штральгаузена. — Талантливым людям в таких случаях еще кое-как можно верить. Но гениальным — опасно.
— Комиссия из 258 ученых и политических деятелей подтвердила правильность выводов, господин адмирал.
— В группе Барбера немало мелких островов, господин комиссар, — продолжал, нахмурившись при напоминаниио комиссии, Штраус. — Я, во всяком случае, не буду базироваться только на Арди. Для большего спокойствия уничтожу все острова на четыреста миль в окружности.
— А моральная ответственность перед жителями, господин адмирал? — испуганно воскликнул Гельм.
Штраус сложил лицо в презрительную гримасу. Снисходительно посмотрел на собеседника.
— Если вы мне дадите определенного врага, в определенном месте и с определенной боевой сопротивляемостью, тогда я вам скажу, что такое мораль, — холодно произнес он. — А теперь, простите, я начинаю развертывание фронта.
— Доктор! Идемте! — громко произнес Гельм. — Доктор! Пора!
— Будем драться? — со счастливой улыбкой обернулся Штральгаузен. — Будем драться! — добавил он, подойдя ближе и одобрительно, вдруг, хлопнув по плечу вздрогнувшего от изумления Штрауса. — Что вам, Гельм? Мы друзья, — хитро подмигнул он главнокомандующему. — Я — Диктатор, он — мой помощник. А вас всех отправим на тот свет. К черту!
Произошло это поздней ночью. Еще на горизонте нет признаков первых островов Барбера. Но ближайший из них, Орс, уже почти в пределах дальнобойных орудий, на расстоянии 300 километров. Развернувшись гигантской дугою, застопорив машины, прекратив переговоры чуть заметными искрами, остановились суда, прильнув к темной груди океана, прячась в мглистых горизонтах безлунного неба.
Неподвижна вода. Недвижим воздух. Величава, торжественна океанийская пустыня. И вот на флагманском корабле — зеленая вспышка…
Бесшумная атака двадцати тысяч аппаратов, внезапно поднявшихся с воды, неожиданно ринувшихся в темноту… Только где-то вверху вздохнул воздух, пробудившийся от глубокого сна. Странный ветер, неизвестно откуда, зашелестел водною гладью.
Адмирал Штраус стоит у микрофотоскопа, дающего возможность наблюдать темные дали. Он смотрит… Ждет, пока аэропланы исчезнут совсем. И из груди — вдруг неожиданный бешеный крик:
— Падают!
Они перемешались. Столкнулись… Черным дождем, съедающим звезды, рушатся вниз, исчезая в воде. И в ярости ударяет адмирал педаль сигнала:
— Остров Орс! Готовиться к бою!
— Адмирал! — кричит, вскакивая в рубку, Гельм. — Мик-рофотоскоп! Мы открыты! Назад!
— Нет! Вперед!
Вторая педаль.
— Что вы делаете? Адмирал!
— Я — главнокомандующий!
Третья педаль.
— Пли!
И в телефон;
— Полный ход!
Замелькали красные искры… Пошли по всему горизонту. Взвыла от боли снарядов раненая тишина. Загудела.
— Сигнал: полный ход! Всем фронтом!
— Назад! Именем Республики!
— Всем фронтом!
— Назад!!!
На верхней палубе, на баке, где поручни срублены, стоит доктор Штральгаузен, качается от ударов мятущегося воздуха, опьяненный радостью, восклицает:
— Я победил!
А вокруг — дыбится океан, брызжет фонтанами, поднимает белые факелы. Приказом безумного адмирала, мстящего за гибель воздушных соратников, открытой атакой идут на остров суда. Исполосовано небо лучами прожекторов, режут тьму стрелы боевых молний, гигантскими арками стоят пути снарядов метеоритных орудий. Рычит, стонет развороченный воздух, пламенеет ночь, ярится водная глубь.
Но — вдруг — неверное движение машины… Хлест всплеснувшей волны… В языке измученного океана исчезает Штральгаузен.
И одно за другим стихают орудия. Гаснут арки на небе. Слепыми глазами застыли прожекторы… Прорвав невидимую шаровую завесу смерти, бессмысленно мчатся вперед, сжимая кольцо, одухотворенные одними машинами безжизненные стальные чудовища-кладбища.
XIII
Известие о гибели международного флота пришло в Европу только через несколько дней.
Верховный Совет объединенных правительств в Вольфганге, не получая 11-го августа донесений из Тихого океана, напрасно запрашивал поочередно всех морских комиссаров, всех отдельных командиров судов и воздушных эскадр. Ни одного ответного радио, ни одной ответной волны. Стали поступать, вместо этого, жуткие сообщения различных телеграфных агентств с Сандвичевых островов, с Филиппин, из Японии. В этих сообщениях говорилось о таинственных встречах с бешено мчавшимися по океану дредноутами, не отвечавшими на салюты, не уклонявшимися от прямой линии движения в местах, густо усеянных островами.
Десятки кораблей с мертвым экипажем были уже обнаружены выбросившимися на берега Минданао. Несколько сот найдены остановившимися за Гаваями, вдали от берегов Калифорнии. Несколько подошли к самой Аляске.
Катастрофа обнаружилась, наконец, во всех своих ужасающих размерах. Большинство кораблей исчезли. Вся воздушная армада стала добычею океана. В небывалой за всю историю европейской цивилизации экспедиции погибло около миллиона моряков и летчиков; несколько сот известных европейских и американских ученых, тайно отправленных на судах для участия в экспертных комиссиях, — приняли смерть вместе с моряками. Та же участь постигла политических деятелей, командированных в экспедицию Верховным Советом.
В России гибель могущественного чужого флота, как всегда это бывает, не произвела большого впечатления ввиду чрезмерной своей грандиозности. Но в Западной Европе и Америке поднялась буря негодования против правительств. Во всех крупных центрах начались уличные бои, представители власти умерщвлялись. Усмирявшие беспорядки войска всюду переходили на сторону восставших. Революция росла, ширилась.
И двадцатое августа стало историческим днем: радиостанция Вольфганга передала таинственным островам Барбера согласие великих республик беспрекословно подчиниться эдиктам Диктатора.
«Дети мои, любезные князья, короли, императоры! — говорилось в опубликованном 25 августа эдикте № 3. — Отныне, в дружном сотрудничестве с вами, приступаю я к оздоровлению общественной жизни на нашей планете.
Тяжела эта задача. Два миллиарда человеческих жизней вверено нашему попечению Волею Господа… Два миллиарда испорченных последними столетиями душ требуют очищения от вредных мыслей, пагубных чувств, извращенных желаний.
Но, без сомнения, в благодарность за снятую с их плеч заботу о приискании власти, все народы любовно пойдут нам навстречу, охотно откажутся от политических своих суеверий. Пусть они твердо знают отныне, что мы не посягнем на их суверенное стремление к порядку, никогда не бросим в пучину беспредметной свободы, в которой гибнут любовь к Небу, вера в Землю, просветленная надежда на приближение к Богу.
Мы не погребем их в гробах мертвого равенства. Освободим от рабской боязни быть честнее преступника, быть мудрее глупца. Мы не потребуем братства в соревновании жизни. Соединим всех — в братстве, свободе и равенстве перед Благодатью Всевышнего.
Тяжела наша задача, любезные князья, короли, императоры! А посему, предоставляя вам срок — с сего дня по 1 января 1951 года, — повелеваю осуществить на протяжении этого времени следующие первые благостные меры:
I. По регистрации лиц, принадлежащих к социалистическим партиям, принудить зарегистрированных немедленно покинуть пределы отечества. Местом поселений для всех социалистов мира назначаю Австралию. Австралийцы, несогласные с социализмом, переселяются на другие материки при поддержке специально организованного международного фонда. Эвакуация социалистов должна происходить планомерно. Частное имущество их конфискуется, передается лидерам для равномерного распределения no прибытии в Австралию. С первого января 1951 года австралийский материк, включая Новую Гвинею, оцепляется кордоном боевых сторожевых судов. Все попытки отдельных социалистов и социалистических групп покинуть Австралию должны нещадно подавляться. Виновные — расстреливаться.
Примечание. Все расходы по эвакуации и по снабжению социалистов инвентарем оплатить капиталами тех банкирских домов, в коих хоть один директор или член правления принадлежит к социалистической партии или сочувствует социализму.
II. К концу декабря сего 1950 года заменить рабочих во всех предприятиях мира новобранцами всеобщей трудовой повинности. Устав повинности разработать сообразно с местными условиями, представить на утверждение мне. Срок службы считаю достаточным не более года. Льготы — соответственно образовательным цензам.
Все уволенные профессионалы-рабочие переводятся на земледельческий труд. Государство отводит уволенным участки из особого земельного фонда. Уволенные снабжаются инвентарем.
П р и м е ч а н и е. Земельный фонд для переселенцев образовать из недвижимости тех землевладельцев, кои состоят членами социалистических партий или сочувствуют социализму.
III. Количество органов периодической печати сократить до наименьших размеров. Редакция одной газеты должна находиться от редакции другой на расстоянии не менее 300 километров. Издатель каждого печатного органа испрашиваете на свое дело благословенье духовного главы государства. Редактор и сотрудники утверждаются в своих правах, обязанностях и способностях высшим церковным учреждением страны, Академией наук, министерством внутренних дел и министерством народного здравоохранения. Редакторов журналов и авторов книг подчинить тому же порядку.
С верою в правоту своего дела, в Вашу помощь и в ликование народных толп, я обнародываю сей эдикт № 3, после которого наше общение будет происходить в частном порядке, без участия общественного мнения вселенной.
Дано в крепости Ар, 25 августа 1950 г.»
XIV
Конец октября… На аэровокзале в Коломягах Софья Ивановна и Ариадна ждут прилета Владимира. Поднявшись на лнфте, по ажурным мосткам под платформами они проходят туда, где останавливаются частные аппараты, по винтовой лестнице взбираются на перрон.
— А ты уверена, что здесь? — суетливо оглядывается Софья Ивановна. — Тут написано «Петербург — Нью-Йорк», Адик!
— Это соседняя, мама. А наша платформа № 12. Видишь, плакат: «Прибытие микст».
— Ага. Но я все-таки спрошу лучше служащего. Это будет вернее.
На перроне, огороженном высокой решеткой, мало народа. Нервно сжимая в руке букет, взад и вперед ходит мимо Софьи Ивановны какой-то взволнованный юноша, время от времени взглядывая на небо. Флегматично покуривая папиросу, сидит на пустой вагонетке носильщик, читает газету. Два господина южного типа стоят вблизи в грустных позах. Слышно, как один негодующе говорит:
— Нет, вы скажите мне, что это за порядок? Если сын социалист, так и отец обязан ехать в Австралию? Я буду жаловаться, Самуил Маркович! Я добровольно не поеду, Самуил Маркович!
— А кому вы будете жаловаться, Абрам Соломонович? Диктатору?
— Хотя бы Диктатору. Левинсон ведь посылал ему радио! Пристав приходит, понимаете, показывает: «По предписанию господина министра вся семья Абрама Каценель-богена подлежит отправлению с группой № 26, 3-го ноября»… Почему, спрашиваю я, с группой № 26? Почему, спрашиваю, 3-го ноября? И почему, спрашиваю, вообще семья? Ну, Миша, предположим, социалист. Допустим это, хотя у него плохое здоровье. Но Реввека? Соня? У Сони есть офи-циалыный билет, где прямо сказано, что она член партии полусоциалистов-индивидуалистов. Значит, она социалистка не полная? Значит, у нее есть половина, которая не подходит к условиям? Так что бы вы думали? Как дерево! Уперся! «Мы социалистическую половину обязаны выслать, а с другой вы делайте, что вам угодно». Что вам угодно! Как вам понравится эта постановка вопроса?
Софья Ивановна подходит к автоматическим креслам, опускает монету, садится. Ариадна идет вдоль перрона, останавливается у самого конца, где нет уже публики, оглядывается по сторонам, наклоняется к сумочке:
— Владимир!
— Я, Ади… Лечу!
— Где ты? Далеко еще? Милый!
— Над Ильменем, Ади. Уже внизу Новгород. Ты что: на вокзале?
— Да… Мама торопилась. Над Ильменем! Ужас!.. Это сколько? Час?
— Я дал всю скорость… Через 40 минут.
— Не нужно всей скорости, Владимир. Я боюсь!.. Почему-то мне страшно… Я не мешаю управлять? Я закрою телефон, хочешь?
— Нет, нет. Что с тобой! Нисколько. Вот Новгород — позади. Волхов уходить направо. Какое счастье, Ади! Еще сорок минут. Только сорок минут… И снова — глаза! Твои глаза!
Вблизи что-то зашумело. На перрон упала длинная тень. Величественно, медленно подходил к платформе № 11 прибывший из Нью-Йорка товаро-пассажирский «Илья Муромец». Засуетились носильщики, молодой человек с огромным букетом забегал мимо окон кают, вытягивая шею.
— Ади, это ты?
Ариадна смутилась, подняла голову.
— Здравствуй, Ната.
С конца июля, с того исторического дня, в который произошел роспуск Земского Собора, Ариадна не видела Наташи, считала, что та охладела к ней из-за несогласия в политических убеждениях.
Но Ната, хотя и невесела, однако, как всегда, разговорчива.
— Ты кого ждешь? Знакомых?
— Да… — Ариадна краснеет. — А ты?
— Я? Мужа. Какое безобразие, подумай: на весь город всего два аэровокзала! За границей где угодно можно спуститься. На каждом квартале к услугам публики площадки, зонты… А тут — отправляйся в Коломяги, чтобы встретить из Двинска. Остроумно? Воображаю, как ты задыхаешься здесь, в этой азиатчине, Ади! После Берлина, где все нарядно, где все культурно, где все изысканно, и вдруг… Погоди, он?
Наташа поднимает бинокль, внимательно смотрит. Ариадна бледнеет. Но нет, еще рано. Из аппарата выходит какой-то господин в котелке, берет у служащего квитанцию, сдает аэроплан на хранение в вокзальный ангар.
— А мы переезжаем на днях в Двинск, — продолжает с презрительной гримасой Наташа. — Сначала Митя хотел принять участие в этом глупейшем слиянии петербургских газет. Но на совместном заседании редакторов ему дали в общей газете только место второго хроникера. Ты понимаешь: второго хроникера! Мите! Ты, конечно, с Митей еще не знакома, не можешь судить. Но когда познакомишься, увидишь, как это предложение могло его оскорбить. Мы теперь открываем газету в Двинске, то есть, не открываем, а покупаем старую, местную. Разрешение от Патриаршего совета есть, от министерства здравоохранения есть, осталось только от внутренних дел и Академии наук. Ну, а Софья Ивановна? Дома? Здорова? Как ты себя чувствуешь?
Ариадна с радостью показывает Наташе, где сидит Софья Ивановна, идет по перрону вместе, возвращается затем одна.
— Владимир, меня прервали… Где ты?
— Вижу уже Петербург, Ади!
— Видишь?
Голос Ариадны дрожит.
— Близко… Близко… Исаакий! Смольный! Пять минут. Только! У меня дрожит в руке руль, Ади!
— Ради Бога! Владимир! Осторожней! Покажи… Где? Ты виден? Нет? Я могу заметить? В бинокль?
— Смотри к Царскому. Я поднимаюсь выше… Видишь?
Ариадна не говорит. Бьется в сердце смятенная кровь.
Дрожит бинокль в руке. Долго нет ничего, кроме осенней холодной прозрачности. Где-то стрелою вонзились в воздух птицы. Исчезли. На горизонте белое облако, поворачивает седую круглую голову, улыбается ласковыми золотыми морщинами.
Черный штрих! Наконец! Не обман? Не мираж? Будто — нет. Снова есть. Показался. Растаял. Есть, есть! Четкий, ясный, уверенный… На дрожащем слезами бесконечном нежном просторе…
— Владимир!
XV
Они в первый минуты почти не говорили друг с другом. Несколько отрывистых слов, долгие, немые, с болью отрывавшиеся взгляды. Но Софья Ивановна без умолку выражала свою радость, из всех — казалась самой счастливой.
— Как вы загорели! Как поздоровели! Что значит природа! Вы у нас сегодня обедаете… Непременно. И помолодели! Не потеряйте только квитанции… Похорошели, право, похорошели!
Владимир довез дам до дому, сам направился с вещами в ближайшую гостиницу, обещав быть через час. Ариадна, ничего не замечая вокруг, точно в забытьи, вошла в квартиру, направилась в гостиную, машинально взяла в руки первую попавшуюся книгу, стала перелистывать, положила. Взяла другую.
— Адик!
— А? Что?
— Я уже третий раз… Смотри: посылка из Берлина.
— Мне?
Ариадна даже обрадовалась. В самом деле: это развлечет… Скорее пройдет время. Целый час!
— От кого? А ну, покажи. Ого, как будто официальное! Судебное? Министерство… Да. Что же ты не распечатываешь? Ади!
Это было, действительно, от германского имперского министерства юстиции. Несколько бумаг с печатями, копий с протоколов. И внутри блестящий металлический ящичек. Какой-то странный небольшой аппарат, а на нем, сверху, письмо.
Оказалось — прислано согласно завещанию Штральгау-зена, найденному в лаборатории «Ars» после смерти владельца.
«Frau Ариадна! — начиналось написанное нервной неясной рукой. — Вы прочтете это только в том случае, если я погибну. А это может быть, легко может быть. Мы решили его уничтожить. Но он велик, он могуществен. Это величие было бы моим. Это могущество принадлежало бы мне. Но я шел не той дорогой. Я пробовал не те сочетания. Гелий не в силах. Водород жалок. Легче! Легче! Нужно найти эманацию!
…Я болен. Я сильно болен. Иногда бывают просветления… Сознаю ничтожество, ужас положения. А после — снова. Не я. Будто живу, но — другой. Который ходит, смеется надо мною. Лжет другим.
…Говорил я вам, что я — он? Тот самый? Не верьте, если было. Хочу перед вами быть честным. Я вас любил. Я буду спокоен там — где там? — если буду знать, что уважаете. Не презираете. Теперь знаю — да, знаю. Только душа. Душа — главное. Она взбунтовалась, она опрокинула мозг. Я смешон. Так нужно, был самовлюблен! Самодоволен! Как будто, чего-то достиг. Почет. Слава… Было мало, было мало. Ненасытность нового, жадность победы!
…Он меня опередил. Не знаю, кто. Все равно. Я работал над этим. Пять лет. Идея давила. Дразнила во сне. Если казался спокоен — неправда. Страдал, плакал. Мысли сплетались, как змеи. Я знал: распутать только — и кончено. Только распутать! В них все готово, все есть. Но как? Точно ядовитые — не мог подойти. Решался схватывать — выскальзывали. И другие накидывались… Борьба. Какая борьба!
…Болен, да. Давно болен. Всегда. И все это — болезнь. Это не то. Не человеческое. Не от Бога, Ариадна. Слышите: Штральгаузен сказал — Бог! Мне важно, чтобы слышали вы, слышал Он. Все равно — остальные. Я поклялся: я уничтожу его. Уничтожу «Ars», покончу со всем. Не будет больше болезни. Среди природы стану молиться. Выздоровлю. Из мозга уйдут тучи, небо появится. Голубое, ясное. Радость появится. Тихая, нежная. Оставит дьявол, сгинет. А я скажу Богу: прости. Я ведь не знал. Я не понимал, которое от Тебя, которое от него… Я пришел к Тебе, видишь!
…Ждет уже аппарат. Через час исчезну. Может быть, не вернусь. Я знаю: если он владеет такими расстояниями для сна, он может убивать вблизи. Нам не нужно только выдать себя. Нужна тайна, страшная тайна. Если подойдем на сто километров, попробую умертвить. У него волны, у меня новые молнии. Мне осталось немного: одна поправка, один коэффициент. Я получу через несколько дней. Опыты, опыты!.. Это последние, клянусь. Я сдержу, Бог поверил, на днях мы в тучах беседовали… Я обещал…
…Теперь прощайте. Не вспоминайте с насмешкой: я был несчастен. Я знаю теперь: вы не могли полюбить, вы не должны были любить. Душой вашей владел Бог, меня толкал дьявол. Это он кричал: еще, еще!.. Я боюсь только за мозг. Простил ли Господь? Вернет ли небо? Вот, сейчас, ясно, отчетливо… А завтра? Прощайте, Ариадна. Вы — единственный огонь во мраке. Но безразлично вам. Не нужно. Прощайте!..»
Прибор оказался стереопортретом Ариадны. К нему прилагалось подробное объяснение относительно получения снимков.
XVI
Это было и мило и трогательно, но, все-таки, не так уж необходимо. Софья Ивановна всецело завладела Владимиром, говорила о Петербурге, о последних событиях, о Диктаторе, высказывала мнение о характере волн, производящих паралич, рассказала подробности о выброшенном на японский берег дредноуте «Франц Меринг», на котором был найден труп доктора Штейна.
И иногда только, во время передышки, вспоминала о госте, удивленно произносила:
— Ну, а что же вы? Ничего не говорите о вашей Яве. Как там?
Так прошел весь обед. Приблизительно так же обстояло дело и после обеда, в гостиной. Ариадна и Владимир обменивались смущенными улыбками по адресу Софьи Ивановны; но приближался уже вечер, а старушка продолжала вспоминать Берлин и сравнивать: каким был генерал Горев тогда и каков он теперь. Только на несколько минут прервал этот монолог телефонный вызов Корельского. Но, по просьбе Ариадны, Софья Ивановна ответила, что никого дома нет, что Владимир еще не прибыл, замкнула аппарат и снова вернулась к своим воспоминаниям.
Софья Ивановна говорит, Владимир слушает, вставляет шутливые замечания. А Ариадна смотрит на него, следит за каждым движением. И чувствует: Не тот!
Все как будто по-прежнему. И знакомая любимая улыбка, и та же складка между бровями, и профиль такой же: четкий, строгий… Но глаза — другие. Иногда, вдруг, точно сверкнет в них далекий испуг, откликнется возле губ нервным сжатием, — и после какая-то усталость взгляда, скрытая подавленная грусть.
— Остаться в Петербурге? — улыбаясь, переспрашивает он. И в глазах опять — новое, затаенное, прикрытое внешней веселостью! — Нет, Софья Ивановна, у меня другой план. Мы лучше все улетим на Яву. Не правда ли?
Он смотрит на Ариадну, не зная, как называть ее при Софье Ивановне — просто по имени, или официально. Правда, Софья Ивановна уже из последних бесед по телефону знает главное об их решении. Хотя и не в прямых выражениях, но Владимир на днях говорил ей о будущем. Однако…
— На время я согласна, — краснеет Ариадна. — Вот только уговорите маму… Может быть, если не по воздуху, то по крайней мере на гидролиходе. Мамочка, хочешь?
— На гидролиходе? Господь с тобой. Чтобы тайфун захватил? Или отнесло к проклятому Барберу? Нет, нет, дети. Ни за что!
— На моем аэроплане я гарантирую полную безопасность, Софья Ивановна, — смеется Владимир. — У меня, во-первых, закрытая каюта. Есть спальня. Спустим шторы, задернем пол. Вы даже не будете чувствовать. А машина работает на медленном распаде урана. Можем держаться в воздухе при моем запасе целых три месяца. И никакой абсолютно опасности.
— Все равно… Не поеду. Да вы мне скажите: отчего вам самому не остаться? Если хочется жить в тепле, на берегу моря, пожалуйста: Кавказ у нас есть. Крым. Вот туда я бы с удовольствием поехала.
— Но у меня ведь имение… Хозяйство. Сад. Много рабочих.
— Ах, да! В таком случае, конечно. Вам виднее, голубчик, — изменяет вдруг тон Софья Ивановна, почувствовав неловкость от вмешательства в чужие дела. — Я ведь про себя только. Вы вот поезжайте лучше вдвоем. Поживите, а я подожду. У меня есть знакомые. Курочкины недавно переехали из Берлина. Наташа…
Голос Софьи Ивановны дрожит. Веки нервно подергиваются.
— Мама, — целует Софью Ивановну Ариадна. — Не надо, милая!
А Владимир смущенно целует руку, грустно смотрит в глаза.
— Мы что-нибудь придумаем, Софья Ивановна. Что-нибудь придумаем!
— Владимир… — говорит вечером Ариадна, когда Софья Ивановна, будто вспомнив о каком-то неотложном деле, ушла на короткое время к Горевым. — У тебя что-то новое…
Она всматривается в лицо. Нежно проводит рукой по его волосам.
— Что новое, милая?
Он отводить взгляд, улыбается.
— He знаю. Посмотри в глаза… Ты прежний? Правда?
— Прежний.
Он снова целует. Долго, мучительно. Затем вдруг ро-няег голову к ней на грудь. Молчит.
— Владимир!
— Ади…
Он произносит глухо, почти шепотом.
— Что-то есть, Владимир… Да. Я сразу почувствовала. Я знала раньше. Уже месяц. Еще не видела глаз, по одному голосу. Я так чувствую голос. Так ясно чувствую все… Что случилось, Владимир?
Со стоном он поднимает голову. Смотрит на нее пристально. Во взгляде страх. Страдание.
— Они… Ади… Они… Преследуют.
— Кто они?
Ариадна вздрагивает.
— Застывшие… Безжизненные… Я видел, Ади… Вокруг. Много. Со всех сторон… Каждую ночь… Казалось. Встают. Карабкаются на берег. Воют. Грозят. И в окно стучат. Бледные лица. Искривленные…
— Владимир!
— Одно… В дороге. Вчера. Ночью. В воздухе… Вдруг. Смотрит, смотрит, смотрит… Но ведь я хотел добра, Ади. Добра! Не для себя! Мне ничего не надо, Ади!
— Милый… Любимый… Успокойся… Что было? Владимир! Радость моя! Счастье! Ты мне расскажешь. Все… Будет легче. Будет хорошо. Я же люблю тебя. Я же твоя. Я с тобой. Владимир!
— Да, да. Я расскажу. Я все расскажу. Правда. Будет легче. Вдвоем. Будет легче… Ты поможешь… Успокоишь…
— Опять он!
Ариадна хмурится. У телефона — снова нежный орган. Что ему нужно?
— Не буду отвечать… — шепчет она. — Нас нет. Мы ушли, не двигайся.
Владимир поднимается.
— Глеб? Погоди. Он два дня не отвечал… Мне нужно спросить…
— Владимир, после! Он будет спрашивать. Я не выношу…
— Вы поссорились? Да?
Он пытливо смотрит. Лицо — бледное. И около губ — опять складки.
— Нет, не поссорились… Но все равно… Ты все-таки хочешь?
— Нужно, Ади. На одну минуту… Погоди.
Владимир подходит к аппарату. Берет в руки.
— Глеб?
— Я. Ты уже у них?
— У Софьи Ивановны? Да.
— Ариадна Сергеевна здесь?
— Да… А в чем дело?
— Софья Ивановна дома?
— Нет…
— Значит, вы вдвоем?
— А в чем дело? Какой у тебя странный тон, Глеб! Скажи: что говорит Нубу? Через три дня кончит?
— Хоронить твоих мертвецов? Ха-ха! В неделю хочешь! Сто тысяч трупов!
— Глеб!
Владимир вскрикивает, с ужасом бросается к аппарату, точно хочет его заслонить.
— Испугался? Раскроют? Не бойся, дорогой. Теперь ты не отвечаешь. Не ты Диктатор! И торопиться не надо: все равно не вырвешься. Ни один, ни с Ариадной. Я тебя заменил!
Корельский говорит торжествующе, нагло. В телефон звучит резкий, умышленно громкий голос.
— Не шути, Глеб, — устало произносит Владимир. — Не шути… Это глупо. Там ста тысяч деревьев нет. Всего несколько десятков. Но ты знаешь, что тайфун…
— Не тайфун! — кричит вдруг Корельский. — Не тайфун! Ты! Никаких деревьев! Никакого сада! Ариадна! Слышите? Скрывает! От вас скрывает! Это — любовь! Это — его дружба!
— Глеб! Ты не смеешь!
— Я смею! Я все смею! Ничтожество! Пыль! Таких, как ты — миллионы! Я над всеми, над ними! Я — повелитель! Ариадна! Теперь вы ответите: вам стыдно и больно? Да? За Диктатора мира? Сказали? Посмеялись? Ступайте прочь? Смотрите же — какая ложь! Смотрите, какой обман! Одно мое слово — вас бросят ко мне под ноги! Отыщут. На дне моря! На тучах! Будуть умолять, чтобы взял! Ариадна, за вами слово. Отвечайте! Отвечайте Диктатору мира: придете? Покоритесь. Я жду, Ариадна! Диктатор ждет!
Она подходит к телефону. Сломлены ужасом брови. От негодования участилось дыхание.
— Предатель! Никогда… Слышите?
— Объявляю, в таком случае, свою высочайшую волю. Если в продолжение часа по телефону не будет дано согласие, я опубликовываю эдикт № 4. Ариадну Штейн покорное человечество доставит Диктатору!
— Негодяй!
Владимир в исступлении бросается к телефону. Заносит руку.
— Ариадна! Женщина! Раба! Ты придешь!
Телефон жалобно стонет металлом. Раздавленный ударом, падает на пол.
Она стоит на коленях перед ним, хватает руки, целует, смотрит наверх, на страшное искаженное лицо.
— Он будет мстить… Бежим, Ади… Погибло все!..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Проходят черные ночи, синие и серые дни. Восходит солнце из-за туманных далей, гаснет на необъятных горизонтах запада.
Они летять.
Качаются созвездия, склоняясь на север, на юг. Поднимается Полярная к зениту, когда внизу снега и морозы. Мутно смотрит, прильнув к земле, когда внизу благоухание цветов, разрезная стрельчатость пальм. Южный Крест, точно в молчаливой борьбе со своей северной соперницей, взбирается на небо разбитым распятием, благословляет ширь водных пространств, снова вдруг падает, увлекая за собою Центавра.
Они летят.
Плывут леса, как зеленое море, проходят моря, как голубые леса. Туман и дождь, муть водяных пузырьков, кристаллы снега. И ясные пропасти воздуха, нежная ласка ветров, теплое дыхание океана.
Уже, должно быть, две недели. Владимир потерял точный счет. Он не хочет снижаться. Пока светло — даже не переводит на неподвижное парение эманомотор. Так незаметнее, так безопаснее: ведь деловые путешественники никогда не парят. А вообще — мало ли аппаратов бороздит воздух! Мало ли мирных людей, недовольных утомительной длиной земной окружности, снует взад и вперед, догоняя свое счастье и горе, ускоряя свои заботы и хлопоты.
Если Корельский привел в исполнение угрозу, издал эдикт, — все государства уже давно принялись за поиски. Охотятся, стерегут. На третий или четвертый день, например, над Южной Америкой… Целая эскадрилья почему-то поднялась, понеслась навстречу. Быть может, и не к нему. Но — если к нему?
Корельский хорошо знает аппарат: внешний вид — темно-синий, с серебряными краями крыльев. И внутреннее устройство может описать: на фабрике Беркли специально заказано… Каюта из двух отделений, кроме машинного. Изящно отделанный кабинет, спальня. Все на случай тропической жары, на случай морозного перелета в высотах: вентиляторы, калориферы, герметическая вторая прослойка стен с безвоздушным пространством между двумя рядами фанер. Был, конечно, и радиотелеграф. Но во время отлета с острова Владимир забыл принести из мастерской детектор.
Корельский, конечно, мог указать для успешности поисков все эти особенности аппарата. В таком случае, каждая встреча с таможенными дозорами или с международной воздушной полицией — гибель.
К счастью, шел дождь тогда. Небо клубилось, отклик равноденственных бурь гнал от Пернамбуко тяжелые тучи. Достаточно было войти в облака и вместе с ветром скрыться над океаном.
Эти первые дни… Ужасные дни! В тот же вечер, наспех, взяв, что можно, бежали на аэровокзал. Несколько слов в письме к матери… И с тех пор — ничего. Был ли эдикт? Не был? Если Корельский издал, — какой позор для престижа Диктатора! Но он мог, конечно. Владимир припомнил теперь — загадочные улыбки, когда тот прибыл на остров, осо-беную вкрадчивость, подчеркивание нежности в дружбе. Во время похорон жертв с вонзившихся в сушу кораблей — сколько проявил энергии! Собрал всех негритосов, сам следил за распоряжениями Нубу…
Ариадна больна. Неутихающая тревога, непрестанное движение, качание аппарата, иногда большая высота, редкий воздух… Все это надорвало силы, сломило энергию. Она второй день лежит.
— Сколько уже дней, Владимир?
— Не знаю точно. Двенадцать… Пятнадцать. Тебе не лучше, родная?
— Я так устала! Хоть бы на час. На два. Твердую почву под ногами… Землю. Как я хочу земли, Владимир! Как я хочу земли!..
Он стоит на коленях возле кровати, нежно целует, заботливо поправляет подушку.
— Хорошо, Ади. Мы спустимся. Скоро. Потерпи еще немного. Совсем немного.
— У нас консервы кончаются. Воды мало…
— Воды много, Ади. Я ведь недавно… позавчера в Енисее набрал.
— Все равно. Я не могу больше, Владимир! Я умру… Ведь он мог только пригрозить. Но не выполнить. Возможно, что никакого эдикта не было… Куда ты? Владимир!
— Погоди…
Он быстро встает, смотрит в зеркало, отражающее горизонт впереди аппарата.
— Опять кто-то!
Владимир выходит в машинное отделение, берется за рычаг, начинает забирать высоту. Встречный аппарат, идущий со стороны Северной Америки, быстро приближается. Он значительно ниже, ближе к океану, по крайней мере, на полкилометра. Но, вдруг, точно заметив маневр, тоже поднимается, выравнивает путь, тревожно ноет сиреной.
— Дозорный?
Владимиру известны таможенные и полицейские английские и американские аппараты. Со времен республики у них остались цвета — у англичан красные и белые полосы, у американцев — все голубое, с белыми звездами на крыльях. Но в бинокль видно: черный цвет, а на крыльях белые зигзаги. Кроме американцев и англичан, есть еще таможенные у японцев, но у них — белое с желтым. Кроме того, на Атлантическом они не дежурят. Быть может, испанский? Французский? Какие цвета у испанских?
Он стискивает зубы, снова нажимает рычаг. Аппарат вздрагивает, начинает вертикально идти вверх. Встречный уже близко. Видны без бинокля — черный остов и крылья с белыми молниями.
— Опять?
Из ящика появляется длинная ракетная трубка, кладется на аппаратный столик. К сожалению, с собою нет не-булина, приходится прибегать к удушливому газу. Но если понадобится — нельзя останавливаться ни перед чем.
— Любимый! Что там? Встречные? — слышен слабый голос Ариадны.
— Да, Ади. Сейчас разойдемся. Одну минуту.
— Остановитесь! — на английском языке кричит в рупор, наклонившись над бортом, кто-то в форме с блестящими пуговицами. — Именем закона!
— Какого закона? — цедит сквозь зубы бледный Владимир. — Какого закона? Я не знаю закона…
Рука сильнее давит рычаг. Но встречный уже приблизился. На плечах узкие плетеные погоны, на голове форменная фуражка с золотым околышем. Незнакомец выдвигает металлический шест, взмахивает красным флагом.
— Ни с места!
Владимир берет в руку трубку, прикладывает палец к приделанному у дна замыкателю. Еще мгновение… И слышит вдруг:
— Циклон идет! От берегов Гвианы зюйд-вест! Центр 748! Именем закона требую повернуть обратно!
Это быль аэроплан американской метеорологической инспекции.
II
Оба аппарата бегут на северо-восток, почти параллельно. Владимир не хочет показывать, что ему неприятно соседство. Осторожность, однако, не мешает: предательские серебряные оконечности крыльев! Сначала могли не обратить внимания. Но если будут долго видеть, вспомнят…
Приходит в голову мысль: спросить, нет ли газет. Хотя бы какой-нибудь старый номер, за последнюю неделю. Счастливый случай узнать, что происходит. И затем распрощаться. Повернуть на юг, к африканскому побережью.
— Алло!
— Слушаю?
— Нет у вас чего-нибудь для чтения, мсье?
— Есть. Могу дать пропагандную метеорологическую литературу. О происхождении циклонов, предвестниках, мерах предостережения.
— А газет нет? Сегодняшнего номера?
— Я посмотрю, мсье. А вы откуда?
— С Балканского полуострова. По торговым делам. Будьте любезны, мсье, дайте сегодняшний номер… Мне нужна биржа.
Служащий метеорологической инспекции оказывается обязательным господином. Не проходит и нескольких минут, как он появляется у борта, размахивает толстым пучком бумаги, привязанным к длинной тонкой металлической нити.
— Держите конец!
На борт аппарата падает свинцовая гирька. Владимир тянет нить, отвязывает «Washington Times», бросает гирю обратно.
— Благодарю вас, мсье. Прощайте. Иду на юго-восток!
Однако, говорить этого было не нужно. Вдали низко над океаном, со стороны Северной Европы показался шедший к Америке аппарат. Он был громоздкий, наверно, товаропассажирский. На нем, без сомнения, есть свое радио, изве-вестие о приближении бури он должен был получить непосредственно.
Но, по предписанию центра, инспекция предупреждает все без исключения аппараты. И, дав полный ход, добросовестный американец стремительно падает вниз, мчится к неосторожному новому гостю.
— Ну что: есть что-нибудь, Владимир? Есть?
Ариадна сидит, опираясь спиной на подушки. На щеках нервный румянец, в глазах больной блеск.
— Есть…
— Что? Читай! Читай все!
— Вот. «Официальное сообщение. От министерства юстиции».
— Ну?
— «Граждане!
Осталось только четыре дня до 10 ноября, когда истекает срок, данный Мировым Диктатором всем пяти частям света для отыскания леди Ариадны Штейн.
В случае ненахождения означенной леди, как известно, с воскресенья начинается паралич всех столиц, подобный тому, каковой имел место летом сего года. Так как срок окончания паралича не предуказан эдиктом № 4, то, согласно представлению министра финансов, Совет министров Севе-ро-Американской Соединенной Империи спешно постановил:
I. Все денежные обязательства, выданные частными лицами казенным предприятиям и обратно, пользуются мора-ториумом вплоть до 3 часов пополудни того числа, которое наступит через три полных дня после снятия с Вашингтона паралича.
Примечание. Если в этом трехдневном промежутке окажется неприсутственный день, срок увеличивается на одни сутки.
II. Договоры, заключенные между частными лицами на территории Соединенной Империи, подвергаются тем же условиям пролонгирования срока, а взыскания по обязательствам…
— Владимир… Дальше! Неофициальное!
— Сейчас… «Американец должен использовать в Вашингтоне загубленное параличом время»… «Граждане, сохраняйте спокойствие!..» «Какими способами бороться с отрастанием бороды во время каталепсии…» «Упадет ли доллар?» Вот, погоди… От петербургского корреспондента. О Софье Ивановне, Ади!
— О маме?
Ариадна хватает Владимира за руку. Дрожит.
— О маме?
— Успокойся. Сядь назад… Глубже…
— Жива? Ничего не сделали? Владимир!
— Конечно, жива. Написано: «Интервью с леди Мюллер, матерью леди Ариадны Штейн». Видишь, все благополучно.
— Господи… Господи… Наконец-то!..
— Ну, довольно, Ади, не плачь. Слушай:
«Мы посетили почтенную леди Мюллер в роскошной квартире, предоставленной ей петербургским городским самоуправлением в новом здании на Каменноостровском проспекте.
Несмотря на свой преклонный возраст, леди производить впечатление бодрой энергичной женщины, хотя исчезновение дочери и постоянное посещение официальных лиц и корреспондентов газет наложили, очевидно, на ее лицо отпечаток грусти и печали.
Когда ваш корреспондент прибыл в последний раз к леди Мюллер, у ее дома стояли несколько десятков автомобилей, принадлежавших представителям петербургского высшего света. Среди присутствовавших на приеме мы заметили: супругу товарища министра торговли и промышленности, Mrs Сидорову; директора Международного Аэробанка, мистера Цыпкина; председательницу благотворительного общества «Глаза — слепым, уши — глухим», графиню Северскую; широко известную своим политическим салоном, существовавшим до эдикта № 2, баронессу Гросс-михель и множество других лиц, ожидавших очереди в обширной гостиной.
Нам удалось беседовать с леди Мюллер всего несколько минут, так как, ссылаясь на нездоровье, почтенная собеседница категорически отказалась от всяких объяснений относительно исчезновения своей дочери.
— Каково, в таком случае, ваше отношение к Америке, миледи? — задали мы, все-таки, наводящий вопрос.
— Я люблю Америку, — отвечала леди с искренностью и трогательной простотой в голосе. — Если у России и был когда-нибудь действительный союзник, то это ваши бывшие Соединенные Штаты, ныне Соединенная Империя.
— Находите ли вы, миледи, что новый строй укрепит социальное благополучие американцев?
— Я думаю, да, — немного помолчав, ответила авторитетная собеседница. — Возможно, что количество долларов от нового строя у вас не увеличится. Но преступность в городах, без сомнения, уменьшится.
— Каково ваше мнение об наших взаимоотношениях с Мексикой?
— Я не терплю Мексику, — резко произнесла леди Мюллер. — За мою жизнь там произошло, по крайней мере, около ста революций. Если считать, что при каждой революции страна начинает идти не вперед, а назад, то, по моему мнению, Мексика скоро перешагнет обратно через Рождество Христово.
— Еще один вопрос, — сказали мы, — как вы смотрите на последние мировые события в связи с появлением Диктатора мира?
— Я не могу ответить вам на это, — уклончиво проговорила леди Мюллер.
Мы принуждены были, к сожалению, на этом закончить нашу беседу, из которой, несмотря на ее краткость, с несомненностью видно, однако, чуткое понимание леди Мюллер переживаемых ныне событий и глубокий анализ в разборе социально-политических проблем».
— Мама! Мама! — прильнула головой к плечу Владимира Ариадна, — как я рада! Как я рада! Теперь мне легче… Теперь мне легче, любимый мой!
Для спуска Владимир выбрал пустыню Такла-Макан, между Тянь-Шанем и Куэн-Лунем. Эта местность в стороне от воздушных дорог. Путь в Индию лежить западнее, через Персию и Белуджистан; воздушная магистраль на Пекин проходит через Алтай и Кобдо. Из всех пустынь мира эта пустыня в настоящее время самая глухая, заброшенная. Сахара и Аравия давно стали проезжими дорогами; вся русская центральная Азия за последние десять лет превратилась в цветущую оживленную страну; австралийский материк сейчас привлекает внимание переселением социалистов. Остаются нетронутыми пока полярные области, Такла-Макан, Гоби, некоторые острова Океании.
— Земля! Земля!
Ариадна стоит у берега Тарима, с наслаждением продавливает узкими туфельками лежащий под ногами песок. Вокруг тихо, безлюдно. Точно друзья-гиганты, защищают горизонт с севера обрывающееся в преддверье пустыни скалистые отроги Тянь-Шаня. Кое-где, в уходящих во мглу ущельях, пламенеет догорающий любовью к солнцу лиственный лес. От Тарима к востоку — блеклая степная трава дерисун. Серая галька. И холмы Курук-Тага вдали, черные круглые впадины в них, очевидно, пещеры.
Чист, недвижим воздух. Укрывшись от севера каменной крепостью, нежится на солнце Тарим, набравшись сил у предгорий, пересекая пустыню. По ночам, должно быть, холодно. Но день еще ласков. Задумчив прозрачными осенними далями.
— Какое счастье! — восклицает Ариадна, опускаясь на застывшие волны золотистых песчинок. — Никого, никого! Посмотри — и небо какое: строгое, мудрое. Не только людей… Ни одного облачка! Ни одной тучки! Мы здесь пробудем несколько дней, правда, Владимир?
— Хорошо… Если хочешь…
Владимир тоже рад спуску. Только теперь он чувствует, как устал за последнее время. Но нужно, кроме отдыха, воспользоваться случаем: снять немедленно серебряную кайму с крыльев аппарата. Если можно — счистить также синюю краску, как-нибудь изменить цвет.
Он стоит около аэроплана на приставленной к крылу тонкой металлической лестнице, отбивает края. И чувствует какое-то непонятное беспокойство. Время от времени взгляд невольно обращается в сторону холмов, где зияют пещеры, молоток бессильно опускается в руке.
— А тут нет змей? — быстро произносит Ариадна. Лицо, только что бывшее беззаботным, счастливым, вдруг становится строгим. Глаза тревожно оглядывают берег реки.
— Не знаю… — задумчиво отвечает Владимир. — Нам, во всяком случае, нужно днем держаться поближе к аппарату. А ночью лучше парить. Невысоко… Ну как? Голова уже не кружится?
Он подходит к ней, бросив на время работу, устало улыбается, садится рядом.
— Почти прошло… Только легкий туман. Поцелуй меня!
— Как я рад за тебя, мое дитя! Ты так измучилась. Побледнела. Я, сказать по правде, очень беспокоился, как бы ты серьезно не заболела. Слава Богу, теперь успокоишься, наберешься сил.
Он почему-то оглядывается, опускает голову.
— Да, мне здесь так чудесно… Посиди со мной, Владимир. Поговорим. Доскажи, кстати, то, что начал утром. Про генераторы.
— Про генераторы? Какие?
— У тебя же, на острове. Что с тобою? Ты так странно смотришь!
— Я? Нет. Ничего… Очевидно, просто реакция. От утомления. Да, ты спрашиваешь про генераторы. Да, да. Так вот, видишь ли… Первый из них, как я тебе говорил, давал для паралича нервов обыкновенную волну. Распространявшуюся, как обычно, в шаровой поверхности. Да… Им я пользовался для действия на весь земной шар. Напряжение было, конечно, градуировано. Согласно опытам: можно на час, можно на сутки… Больше 37 часов не действовало. Ади, посмотри, кстати, какая странная пещера… Самая ближайшая, у выступа. Будто не круг, а шестиугольник!
— А по-моему, круг. Ну, а второй? Владимир!
— Второй? Да, второй… Что касается второго, то он, видишь ли, был установлен раз навсегда. На постоянное расстояние. Этот генератор давал шаровую завесу вокруг Орса радиусом в 300 километров.
Владимир вздохнул, помолчал.
— Здесь у меня получалось особенно сильное напряжение. Достаточное, чтобы совершенно привести в негодность нервную ткань. Когда было нужно, конечно, я выключал эманационный конъюнктор… Выход или вход становился свободным. Между прочим, если предоставить этот аппарат самому себе, завеса смерти будет держаться около 200 лет. Пока не прекратится эманация. Наконец, третий генератор был комбинированным из двух. К генератору первому… К генератору первому…
— Владимир! Что?
— Ты не видишь? Правее солнца… На горизонте…
Ариадна поднимается. Смотрит.
— Господи! Да это птицы, Владимир!
— Птицы?
Он облегченно вздыхает, берет ее руку, целует.
— Извини… Напугал. Да, да, теперь только вижу, как у меня расшатались нервы! Две недели всего, а как будто я — и уже не я! Что-то надорвалось. Ушло. Если бы не ты, Ади, то…
— Не надо, милый! Не говори!..
— Все рухнуло. Да. Не только там, во внешнем проявлении, в призрачной власти. Нет! Внутри. Во всем. Во всех углах души. Опьянение достигнутым, самоудовлетворение, гордость… Даже то, что вообще казалось в мире значительным, — теперь все кажется детской забавой, недостойной игрой перед Богом, перед природой. Если бы мы освободились от Корельского, Ади, я бы, действительно, бросил все. Я бы не притронулся ни к одному аппарату, ни к одной машине. Я бы…
Владимир обернулся. Вздрогнул.
— Кто это?
Лицо исказилось страхом. В глазах появилось что-то детское, беспомощное.
— Ади… Кто-то посмотрел на меня! Ади!
— Владимир… Ради Бога!
— Посмотрел, Ади! Я чувствовал глаза!
— Милый… Успокойся… Я дам воды… Это нервы. Кто мог смотреть? Видишь: кругом пусто. Только горы. Далеко. Сядь сюда. Ко мне. Положи голову… Вот так… Так. Я буду гладить… Целовать. Это все с тех пор, мой любимый. С острова. Пройдет. Прекратится. Ты искупил уже… Посмотри, как хорошо вокруг. Тихо. Спокойно. Солнце — нежное, хорошее. Небо — ясное, ясное… Владимир! Летят! Летят! Вставай!
IV
Это, действительно, были не птицы. Целая эскадрилья международной полиции неожиданно выросла в воздухе. Часть ворвалась в пустыню со стороны Кашгара, часть обошла с севера Тянь-Шань, внезапно показалась над ближайшими горами.
Уже при перелете через Аравию Владимир заметил, как со стороны Басры поднялись с земли несколько аппаратов, стали идти следом за ним. Но вскоре все, кроме одного, ушли на север. Оставшийся мирно летел сзади, не стараясь нагнать, не делая никаких подозрительных попыток.
Он около Мерва тоже исчез, где-то снизился. Навстречу, вместо него, прошли два. Затем у Кашгара на горизонте показался какой-то громоздкий, Владимир думал, что торговый…
— Ади, внутрь!
Она уже на борту. Он стоит в аппаратной, держит руку на рычаге, быстрым взглядом окидывает небо, ища необходимого места для прорыва.
— Проклятие! Поздно!..
Подниматься бессмысленно. Около двадцати аппаратов парять вокруг, в два яруса — по десяти. Стрелять не будут, конечно, им нужно не уничтожить, а захватить. Но у каждого полицейского аэроплана есть омматин, производящий временную слепоту, асфиксион, при вдыхании которого теряется сознание на несколько часов. Они пустят все в ход. Кроме того, скорость движения у них не меньшая.
— Ну, как? Владимир!
— Бесполезно!
Видя, что беглецы не движутся с места, два аппарата начинают вертикально снижаться. Один белый, с красными полосами, — английский. Другой — с синими крыльями, белой каютой и красным остовом, очевидно, французский. Достигнув поверхности земли, они мягко ударяются буферами о песок, замирають. С борта каждого соскакивают по несколько солдат в серебряных кепи.
— Удушливым газом? — шепчет возле плеча Ариадна.
— Пусть подойдут ближе…
— Потом полетим?..
— Посмотрим…
Солдаты приблизились. Впереди каждого отряда идет полицейский чиновник. Один из них совсем недалеко. Поднимает руку, кричит:
— Сдавайтесь!
— Пора… — тихо произносит Владимир.
Он берет трубку, выдвигает вперед. И рука вдруг немеет. Будто внезапно превращенная в дерево, безжизненно падает на аппаратный столик, роняет трубку. Владимир наклоняется, делает усилие, старается схватить… Пальцы не повинуются.
— Именем закона! Вы — мадам Штейн?
Около аппарата стоит французский чиновник в сверкающей серебряным шитьем форме воздушной полиции. Он держить руку у козырька кепи, почтительно ждет.
— Да, я.
Ариадна наружно спокойна. Лицо только бледно. Расширены зрачки.
— Мерси, — любезно говорит француз. — Согласно предписанию правительства, мадам, должен сообщить, что вы подлежите задержанию Очень прошу только смотреть на эту меру не как на арест, а как на временное почетное лишение свободы. Разрешите попросить вас сойти с аэроплана, мадам?
— Владимир! — вздрагивает Ариадна. — Владимир!
Но Владимир неподвижен. Он стоит, прислонившись к тонкому столбу аппарата, закрыл глаза, молчит.
— Я не сойду, мсье, — спокойно произносит Ариадна. — Вы возьмете меня отсюда только силой.
— Я вас прошу, мадам!
— Только силой!
— Вы мне доставляете большое страдание, мадам. Но если иначе невозможно, то что же делать. Я принуждеи буду приказать вынести вас на руках. Вы не передумали, мадам?
Молчание.
— Берите!
Солдаты взобрались, окружили Ариадну кольцом. Осторожно обвивают талию веревкой. Один положил уже руки на плечи…
— Владимир! Я не могу!
Владимир не движется. Он не видит ничего. Какой-то яркий туман проходит перед ним, где-то раздается нежное пение. Ариадна… Диктаторы… Люди… Весь мир… Нет никого. Все исчезло. Покой, покой, покой…
— Воздух горит! — отступает вдруг солдат, пытавшийся поднять с пола лежавшую без сознания Ариадну. — Воздух! — дико озираясь, восклицают другие. — Воздух! Воздух! — слышен тревожный крик вокруг, среди обоих отрядов. В паническом страхе бегут солдаты. Одна минута, две — оба аэроплана бросаются вверх.
А там, в небе, смятение. Точно в бурю, разбегаются во все стороны аппараты, гонимые ужасом. Тих, недвижим голубой воздух, осенняя даль по-прежнему нежна и прозрачна… Но никого наверху, до далеких слияний с землею.
Владимир приходит в себя, проводит пальцами по глазам, изумленно оглядывает пустыню.
— Что здесь было, Ади? Что было?
— Не знаю… Не понимаю…
— Их нет?
— Ты видишь…
Владимир бросается к аппаратному столику. Взвивается кверху.
— Нет, нет. Это уловка… Обман… — шепчет он. — Они стерегут. Они наблюдают. В темноту! В темноту!
V
Было спокойно и безопасно там, за полярным кругом.
Правда, на западе, над Землей Франца Иосифа, круглый год дежурили несколько воздушных международных метеорологических станций; к ним раз в неделю из Европы приходили аппараты, привозившие новые смены наблюдателей, увозившие отбывших дежурство. На востоке, на таком же расстоянии, лежали острова Ново-Сибирские. На них работала арктическая физико-географическая комиссия петербургской Академии наук.
Но здесь, на долготе мыса Челюскина, — никого. Никакого движения, ни одного любопытного глаза. Была середина ноября, давно наступила полярная ночь. В первые дни после прибытия Ариадна с тоскою следила, как ежедневно, около того времени, когда должен быть полдень, южный небосклон вдруг озарялся зарей, над фиолетовым снежным полем протягивалась нежная полоса, вестник далекого солнца. И затем — заря гасла. С каждыми сутками полоса становилась слабее. Вместо солнца настойчиво, подолгу, небом начинала владеть луна.
Эта луна!.. После периода падения снега две недели из-за нее пришлось провести почти у самого полюса. Солнца нет, она царит над ледяными пространствами, превращает ночь в день, вырисовывает каждую глыбу, черня прорывы воды над струями теплых течений, бросая сизые тени. Только когда к новолунью она ушла под горизонту навстречу невидимому солнцу, — можно было вздохнуть, передвинуть аппарат на юг, к восьмидесятому градусу.
Ночь теперь ясна и безлунна. Наверху только звездное небо, почти у зенита Полярная. И внизу — все во мраке, погружено в ледяной мертвый сон. Но Владимир неспокоен. Переставив стрелку калорифера на максимум, гасит огни, опускает у окна кабинета тяжелую штору.
— Я был бы совсем счастливь, Ади, если бы не эти северные сияния, — говорит он, садясь к калориферу, в котором от атомного распада бария раскалено железо. — До сих пор были только небольшие лучи. А сегодня!..
Он хмурится, глядя на север. Там, действительно, какое-то нервное движение огней. Вырос сверкающий лук с тетивой у горизонта, прикрыл темным сегментом чью-то грозную руку. Одна за другой бегут к зениту яркие стрелы, бросаются вверх, уходят назад, не достигнув призрачной цели. Сквозь них еще видны звезды. Но ярче и ярче загорается небо. Отбросив в сторону лук, кто-то невидимый показывается в сияющей мантии, оправляет голубые и розовые воздушные складки, задергивает север пылающим занавесом.
— Опять придется уходить дальше! — в отчаянии произносит Владимир.
— Нам вообще нельзя больше оставаться здесь, — после долгого молчания говорит с дивана Ариадна. Она укрыла ноги подушками, закуталась вся в большой кожаный плед.
— Все равно: неделя, две, месяц. А потом? У тебя всего на пять недель осталось препарата урана. Консервы кончились, одни только пилюли. Придется, в конце концов, искать пристанища на земле.
— Да, это так… Но где?
— Все равно где, Владимир. Где угодно. Лишь бы в тепле. Неужели ты думаешь, что в воздухе легче скрываться? На земле — в пустыне, на острове, так удобно. Никто не заметит, никто не увидит. Спрячемся в пещере. Если нужно, будем жить в лесу… Я на все согласна. Я ко всему приготовилась. Но этот холод, Владимир! Это качание в воздухе!
Она смолкает. Владимир сидит, опустив голову, неподвижно смотрит на калорифер.
— Ты права. Да. Ты права, Ади, — говорит наконец он, поднимая на нее тоскливый взгляд. — Я что-нибудь придумаю. Непременно…
— Без пристанища, без убежища, видя в каждом человеке врага… — тихо продолжает Ариадна. — Как страшно! Ты тогда, помню, смеялся. Говорил о муравьях, строящих дом. О сифонофорах, создавших корабль… А как они счастливы, должно быть! И туг, внизу. Снег, льды, вечная ночь… И все-таки в глубине, где-то у дна, ходят рыбы. И у них — родной угол. И у них общая радость…
— Ади! Не надо!
Владимир нервно сжимает ручки кресла, встает.
— Будто нарочно! — шепчет он, глядя в окно. Северное сияние разрастается, ширится. Вот уже некоторые огни перебросились через зенит. Точно пугливые призраки, бегут с севера во все стороны, загораются на темных провалах звездного неба, гаснут, снова вспыхивают, сплетаются друг с другом в безмолвной огненной пляске.
— Это вроде луны… Этот яркий свет. Неизвестно когда, неизвестно, надолго ли… Да, Ади! Я согласен. Нужно куда-нибудь… На юг. На острова. Я выберу… Но нам придется держаться вдали. От всех, от всего. Это ужасно. Будет жизнь хуже первобытной. Хуже — последнего дикаря. Ади, как я тебя измучил! Ади, любимая, сколько из-за меня горя!
Он опускается у ее ног, не отрываясь, целует руку. На глазах при свете северного сияния блеск появившихся слез.
— Владимир, ты плачешь?
Она порывисто обнимает голову, осыпает поцелуями. Он тихо вздрагивает, скрыв лицо на ее груди.
— Не могу видеть… — слышен надломленный голос. — Не могу… Разрывается душа… Я вижу — терпишь. Не упрекаешь. Но разве не знаю? Я виноват. Я! Во всем! Ади: скажи. Скажи правду. Не бойся. Ади, ты, может быть, хочешь покориться? Ади… Ты хочешь уйти?
— Владимир!
— Ведь ты умрешь так, Ади. Я знаю. Еще немного — надломишься. Погибнешь. Я хочу тебе счастья, Ади. Я хочу, чтобы ты жила… Чтобы веселы были глаза… Чтобы не было этих мук страха…
— Владимир!
Отблеск радужного неба смешался с лучами горящих восторженных глаз. Она целует неудержно, бурно, сжимает в обятьях голову, давшую столько счастья, столько страданий.
— Только без тебя смерть!.. Только без тебя!.. До конца твоя. Вся твоя. Меня нет. Ты — один. Один ты!..
Он вышел в аппаратную. Сердце билось в утихающей радости, в душе стояла безотчетная ясность. Сквозь окна каюты и сквозь прозрачный пол лился отовсюду разноцветный огонь. Сияние уже охватило все небо, вместо звездного темного купола колыхался вокруг холодный пожар. Внизу, на мертвой равнине, отвечая огням, играл снег ковром самоцветных камней. Темные пятна океана между ледяными разрывами светились кровью и небесной лазурью. Бесшумно, прозрачно бушевала магнитная буря, завладев небом, оттолкнув испуганные поблекшия звезды.
— Еще на несколько дней… Только на несколько дней… — говорил Владимир, взявшись за рычаг, решив идти к полюсу.
Но рука почему-то двинулась вправо. И аппарат понесся на юг.
VI
Путь к острову Св. Пасхи, который Владимир выбрал для спуска, лежал через Восточную Сибирь и Японию. До Якутска морозный воздух был ясен, прозрачен, и это внушало тревогу. Но при подходе к Яблоновым горам пришли навстречу спасительные снежные тучи, с востока задул ветер, аппарат вошел в пронизанный кристаллами туман.
Если бы так до Кореи, и если бы дождь над Японией! Над океаном уже менее людно…
Вокруг белая мгла. Сверху, снизу, по сторонам — слепая стена, сверкающая иглами рождающегося снега. Вместо компаса у Владимира над столиком индикатор: карта с автоматически передвигающейся стрелкой, указывающей направление движения и местоположение над земною поверхностью. Над Яблоновым хребтом пришлось подняться выше, вынырнуть по ту сторону туч в прозрачность морозных высот. Затем опять спуск.
Ариадна стоит рядом, смотрит на белую пустыню вокруг, лицо радостно, спокойно. Это пустяки, что ветер качает, набрасывается. Никакой вихрь не может перевернуть аппарат системы Фурно: в буферах, заменивших старинные хрупкие колеса, огромная тяжесть свинца, центр тяжести почти в самом визу, аппарат при всяком качании возвращается в вертикальное положение.
— Над Японией будем ночью?
— Да, я соразмерил ход.
— А теперь где?
— Скоро Хайлар.
— Покажи-ка.
Ариадна наклоняется к индикатору, смотрит на стрелку. Поднимает затем на Владимира удивленные глаза.
— Как Хайлар? — произносит она. — Хайлар далеко налево. Мы над Кульджей, Владимир!
— Что ты говоришь, Ади? Посмотри: сзади Чита, впереди Цицивкар. А тут ясно напечатано: Хайлар.
— Это?
Она вздрагивает. Пытливо смотрит в лицо.
— Тут, по-твоему, напечатано — Хайлар?
— А что же?
— Кульджа.
— Будешь спорить со мною, Ади!
— Владимир! — испуганно восклицает Ариадна, переводя взгляд с карты на него и с него на карту. — Ты шутишь. Никакого Хайлара здесь нет. И стрелка показывает не на Японию, а на Тянь-Шань. Смотри!
Владимир улыбается. Улыбка уверенности в своей правоте, но в то же время какая-то странная, радостная. Он не смотрит на Ариадну, поворачивается к рычагу, начинает поднимать аппарат на большую высоту.
— Горы, — озабоченно говорит он.
— Горы? Какие?
Он не отвечает. Опять улыбается. И у нее внезапно страшная мысль: а вдруг — не выдержал? Долгое напряжение… Вечный страх… Ведь сам говорил утром, что не знает — почему взял курс на юг…
— Тянь-Шань, — дрожащим голосом читает Ариадна под стрелкой.
— Большой Хинган, — шепчет Владимир.
— Тянь-Шань, смотри! Видишь?
Он не смотрит, молчит. Молочное море вокруг валится в пропасть. Опускаются белые гребни, начинают ходить под аппаратом освещенные заходящим солнцем клубя-щикся золотые волны. Ариадна не говорит ничего, стоит рядом, с замиранием сердца ждет неизбежного, рокового. Он не выдержал, да. С каждым часом — все радостнее и радостнее улыбка, взгляд рассеян, внимание постепенно уходит вглубь, всецело поглощено чем-то.
— Мы прилетели, — говорит наконец Владимир после долгого жуткого молчания. — Я спускаюсь.
Ариадна дрожит, схватывает за руку, страдальчески смотрит в неузнаваемое любимое лицо.
— Куда? Куда спускаешься? Владимир!
— На остров Пасхи.
— На остров Пасхи? Да, да. Хорошо. На остров Пасхи. Мы только спустимся утром, когда будет светло. Правда? Останемся здесь. Успокоимся. Тебе нужен покой. Владимир! Любовь моя! Посмотри на меня! Ты любишь? Ты видишь меня? Владимир!
— Как хорошо, Ади… Как хорошо… Кончается все… Исчезает… Мы будем счастливы… Счастливы…
Он в забытьи. Заснул как будто. Вокруг непроницаемая холодная ночь. Ничего не видит глаз. Будто нет мира, исчез, растворился во мраке, оставил черный провал. Ариадна сидит рядом, не спит, смотрит на Владимира, мучительно думает.
…Утром нужно заставить спуститься, пойти вместе к пещерам. Может быть, львы там? Все равно… Есть две карманных митральезы. Удушливый газ. И, кроме того, если конец, то — пусть тут. Без скитаний. Без новых страданий. А может быть, никого? Они перенесут из аппарата все, что можно. Устроятся. Будет уютно… Он придет в себя. Это — временное. Ненадолго. Он так здоров. У него такой ясный, упорный мозг…
Что это? Как будто мелькнуло в воздухе за окном. Засветилось. Точно фигура человека, окруженного нежным сиянием, пронеслась сквозь мрак, ушла в глубь ночи, погасла вдали.
…У нее тоже нервы расстроены. Да. Но теперь надо крепиться. Думать за двоих. Бороться… Не нужно окна. Для больных нервов так ужасен непроглядный ночной мрак.
Она задергивает штору, встает, подходит к индикатору. Чтобы отогнать страх, повторяет, глядя на карту возле остановившейся стрелки:
— Такла-Макан… Курук-Таг… Тарим… Тарим…
VII
Аппарат опустился у самого берега реки. Напоенный осенними дождями, Тарим хмуро шевелил серыми водами, величественно плыл в берегах между щетинистыми зарослями дерисуна. В знойную летнюю пору здесь сплетаются на ложе песка и гальки узкие рукава, неизвестно где начинающееся, неизвестно где исчезающие, поглощенные раскаленной землею. Теперь нет рукавов — все слилось в одну стальную змеиную чешую. Далеко, к северу, стоят отроги Тянь-Шаня, вершины срезаны грузными тучами, хвойный лес под линией облаков сверкает снежным нарядом. Без конца на восток и на запад пустыня, притаившаяся, насупившаяся в ожидании зимы. И только холмы Ку-рук-Тага прерывают унылую даль, гребнями камня идут от реки вглубь, теряясь в пустынной мгле Гоби.
Ариадна стоить на палубе около Владимира, умоляюще смотрит на застывшее в спокойной уверенности лицо.
— Уничтожить аппарат? — с дрожью в голосе говорит она. — Это невозможно, Владимир. Это бессмысленно!.. Нужно сначала исследовать. Осмотреть местность. Если тут нельзя нигде укрыться, мы полетим дальше. В Океанию.
— Мы никуда не полетим, Ади. Наш путь окончен. Мы у цели.
— У какой цели?
Она беспомощным взглядом окидывает мутные воды Тарима. Переводит взор на пустыню, над которой повисло тяжелое снежное небо.
— Я не знаю. Но мы у цели. Нам ничего больше не нужно.
Он идет к борту, достает из ящика тот самый топор, которым сбивал в прошлый раз серебряный обод у крыльев, подходит к спущенной лестнице.
— Сойди на землю, Ади.
— Владимир!
— Сойди на землю, Ади.
Она не может понять до сих пор: что с ним. Иногда — обыкновенная разумная речь. Иногда забытье, чужой голос, чужие слова. Ей не верится, что он осуществит этот дикий, безрассудный план. Все еще не покидает надежда, что образумится, пожалеет ее, себя. Без аппарата здесь верная гибель.
Но Владимир уже в аппаратной. Остановился у столика, на мгновение замер, будто в раздумьи. И вдруг взмахнул топором.
Зазвенели стекла, рушась осколками на берег. Застонало дерево стен. Индикатор, рычаги, ключи, колеса, карты, трубки, калориферы, куски никеля, стали… Одну часть за другой, спокойной рукой, точно делал что-то обычное, естественное, Владимир выбрасывал, топил в реке. Затем, покончив с аппаратной, оставив только упорные трубы нагнетателя, производившего у кормы смену воздушных отталкиваний, спустился на песок.
— Погибли… — с ужасом шептала, стоя в стороне, Ариадна. — Теперь кончено… Кончено. Смерть…
Она успела кое-что вынести. Но не все ли равно? К чему? Какие-то мелочи, одежду… Что брала, сама не сознавала. Что попадалось под руку, необходимое, незначительное, полезное, дорогое по памяти о прошлом.
— Помоги, Ади!
— Нет, нет, нет…
Он налегает на аппарат плечом, желая столкнуть в реку. Но тяжелые буфера не поддаются. Вздрагивает остов от каждого упорного толчка, трепещут крылья. Владимир обходить аэроплан, становится у самой воды, начинает выбивать из-под двух крайних буферов отдельные камни. Немного только наклонить, переместить центр тяжести… И легко сбросить все в воду.
День тянется мучительной нитью. Будто начался когда-то давно, нет конца ему, каждый новый час наполнен бесконечностью отчаяния. Ночь в пустыне! В темноте, на земле, где змеи и звери, где может пойти снег, начаться метель! Одна надежда теперь на пещеры. Ариадна жадно смотрит, вглядывается… Расстояние — пятнадцать, двадцать километров. Хотя в пустыне расстояния обманчивы.
Одна из них, действительно, не круглая. Шестиугольная. Владимир прав… Разве бывают в природе такие симметричные формы? Над пещерой, как будто, утес наверху, одинокий и странный, точно башня, развалины крепости.
Ариадна роется в груде принесенных вещей, достает бинокль. Теперь это не праздное любопытство, не любознательность. Вопрос жизни и смерти. Да, утес. Никакой башни. Никакой крепости. На скале, гладко обточенной, совсем плоский камень. И наверху… Наверху что-то движется. Фигура! Человеческая фигура! Стоит. Одна рука поднята к небу. Двинулась. Идет… Переходит со скалы на скалу — будто перелетает по воздуху.
Спасены?
Ариадна дрожит. Хочет крикнуть Владимиру, побежать. Но рука прикована к биноклю.
— Что-то странное… Странное… — тихо шепчет она. — Человек?
VIII
Аппарат рухнул. Над серыми водами Тарима видны темные чашки буферов, под ними пенятся натолкнувшиеся на препятствие мутные струи. Из чешуйчатой ряби реки острым углом выдвигается в воздух колеблющийся обломок крыле.
— Человек! — задумчиво говорит Владимир, глядя в сторону холмов Курук-Тага. — Разве можно отсюда увидеть, Ади?
— Я смотрела в бинокль. Я ясно видела, Владимир! Посмотри сам… На скале. Выше пещеры… Возьми!
— Нет, нет…
Он как будто пугается. На лице — брезгливость. Осторожно берет из ее рук бинокль, неожиданно бросает в реку.
— Не надо.
— Что с тобой!
— Да, да, не надо. Мы скоро узнаем. Все. Идем, Ади. Я чувствую…
Был полдень. Но от хмурого неба пустыня казалась погруженною в сумерки. Тут, вблизи, у реки, из земли мертвенными иглами поднимались высокие пучки дерисуна. За ними — чахлые кустарники дзака. Скоро, однако, заросли кончились. Далеко позади Тарим, питающий их корни в солончаковой почве. Теперь — мелкие камни, точно дно опустошенного моря. Между камнями желто-серый песок. И наверху, когда зарослей нет, резкий, пронизывающий предснежный ветер.
— Тебе холодно, бедная… — нежно говорит он, поправляя соскользнувший с ее плеч кожаный плед. — Ничего… Ничего… Скоро кончится. Больно идти?
— Да…
— Потерпи. Хочешь, понесу? На руках?
— Нет, я сама. Я могу. Лишь бы только до темноты! До ночи! Эти люди спасут. Кто бы ни был. Даже разбойники…
— Спасут. Да. Странного вида… Что было странного, Ади? Ты мне не сказала.
— Человек? Ты же сам не хотел… Не знаю… Быть может, обман… Обман зрения… Но показалось, будто — без одежды. И не ходил, перелетал. Со скалы на скалу…
— Перелетал?
Владимир смолкает. Но на лице нет удивления во время этих слов Ариадны. Наоборот — больше спокойствия. И все та же улыбка. Непонятная, странная.
Уже скоро вечер. Сгустились тучи, солнце склоняется к горизонту. На юго-западе сквозь стрельчатый разрыв сверкает высокое перистое облако. Косой мутный луч упал вниз, вонзился в синий призрак далеких, чуть заметных изгибов Куэн-Луня. Половина пути от Тарима до Курук-Тага пройдена. Но камни изрезали туфли. С каждым шагом все сильнее и сильнее в ногах острая нестерпимая боль.
— Остановись, — говорит, изнемогая, Ариадна. — На минуту… Я не могу.
— Хорошо… Отдохни, — участливо соглашается он.
— Но мы успеем?
— Не знаю.
— Вдруг будет поздно… Темно…
— Все равно, Ади.
— Нет, нет… Нужно. Нужно. Идем! Я не буду обращать внимания… Еще час. Два. Я должна! Я иду!
Она, задыхаясь, делает несколько порывистых шагов. Почти бежит. И внезапно, вдруг, останавливается.
— Не можешь? Болит?
Ариадна не отвечает. Стоит, вытянув руки, со страхом перебирает в воздухе пальцами.
— Владимир!
— Сейчас, Ади… Что?
Он подходить.
— Не могу! Понимаешь… Нельзя дальше! Нельзя идти! Не пускает!..
Владимир не удивлен. Будто знал раньше. Стоит рядом, протягивает руку и чувствует: затвердел воздух. Точно что-то непреодолимое, нерушимое выросло впереди от земли к небу. И упираются в прозрачную стену бессильные пальцы, не может перешагнуть занесенная для шага нога.
— Мы будем ночевать здесь, — радостно опускается на землю Владимир. — Теперь нет опасности. Теперь нет никакой опасности, Ади. Будь спокойна. Нас охраняют.
— Кто?
— Не знаю.
И страх, и боль, и безысходный ужас — все побеждено мертвящей усталостью. В безразличии ко всему, потеряв к сопротивлению силы, Ариадна спит, уронив лицо на колени Владимира, заботливой рукой прикрытая пледом.
Кругом — холодная ночь, без просветов вверху, без одного огня во все стороны. Чуть бледнеют вблизи серые камни, неясный круг около ног переходит в черную бездну, нет горизонта, нет земли, нет неба. Ослепительное, грозное, невидимое Ничто.
Но Владимир ждет… Напряженно ждет. Обратив взгляд туда, где во мраке должны проходить холмы Курук-Тага, пристально вглядывается. И знает наверное: сейчас будет. Сейчас. В тишине ночи — глухота небытия. Даже шорохи не нарушают молчанья пустыни. Иногда только что-то вздохнет, больно ужалит покой. Но это песок под ногами… Дыхание сна Ариадны.
— Слышу! — поднимает вдруг голову Владимир. Глаза наполняются благоговейным восторгом. — Я слышу!
Он сидит — застыл, замер. И чувствует: чужая мысль вошла откуда-то в мозг. Разбудила слова, сама сплетает их в одно четкое целое, говорит помимо слуха, говорит внутри, где-то внутри:
«Немного нас на земле. Никому не известны имена наши. В странах мороза и зноя, в лесах и пустынях, на горах и в равнинах живут братья Арни. И только они знают тайну богатства, дарованного Божеством человеку.
От печали душ наших ввергаются в печаль не ведающие причины народы. От радости нашей ликуют слепые бессчетные толпы. Если гнев охватил кого-либо из Арни, или спорят Арни друг с другом, звенит тогда на земле оружие, льется кровь, вскипает борьба.
Но мы не жаждем власти над земным человечеством. Власть сама собою приходит. Мы не осуществляем власти в союзе с вещами, несущими страх, дающими блага земли. Ни тяжести камня в руке, ни сверкания золота, ни обещания суетных случайных даров.
Вы не знаете нас. И потому мы властители. Вы не призываете вас. И потому не восстаете против могущества нашего. Ни мы, ни вы — никто не ждет ничего, не идет навстречу, не борется. И это скрепляет. И это не разлучает вовеки.
Арни я, потомок древних динлинов. Безразличны для меня отдельные люди. Вся любовь уделена поровну каждому, расплавляется в любви к Божеству. Но был день, был странный день. Дрогнули Арни. Кто-то дерзкий, безумный, взял в руки мертвую вещь, сказал всему живущему на земле: усни.
То был ты, человек!
Жалкий, грешный, бессильный. Без мертвых вещей не умеющий бороться с морозом и зноем. Без мертвых вещей не слышащий голоса далекого ближнего. Без мертвых вещей не могущий преодолеть силы тяжести, победить пространство и время.
На короткий срок уснул мир по твоему повелению. Не спали одни мы, Арни, и мы увидели остров. И тебя, опьяненного. И проклятие ликующих, сотворенных тобою, мертвых предметов.
Мы увидели. Мы узнали. Ты желал только добра. Ты был чист, бескорыстен. Но невозможно стать Арни, заменив могущество духа могильной силой бездушия. Нельзя охранить себя, окутав убежище свое покровами смерти.
Мы люди сами. Мы смертные сами. Но другими путями идем к совершенству. От желания духа — изменяется тело. От измененного тела — крепнет величие духа. Все — у нас, все — только в нас. Все, всегда, сплетенное зовом природы и Бога, путь бесконечный к могуществу Ангелов.
Ты наказан за дерзость. Вместо Арни — червяк. Вместо повелителя — раб. Ты наказан, человек, но срок твой исчерпан. В мучениях совести, по велению нашему, освободил враг тебя, разрушил орудия, ушел в небытие. Возвращайся назад, в грешный мир. Ты свободен. Там по-прежнему будешь равен всем остальным. Но одним краем души ты поднялся до нас, до могущественных Арни. Ты отныне узнал то, чего не знают другие. Не в расцвете призрачной силы, в отрицании мертвого — просветление твое.
Иди же в свой мир, человек. Не греши больше!»
IX
Громоздкий аппарат состоящей при Лиге Наций «Комиссии по борьбе с мистицизмом» врезался буферами в мелкие камни, закачался на упругих рессорах.
По спущенному с палубы трапу сошли несколько человек охотничьей команды, взятой на случай нападения диких зверей. За охотниками стали медленно спускаться на землю, судорожно хватаясь за боковые веревки, ученые члены комиссии.
Профессор Жан Мартэн Леско, знаменитый французский психофизиолог, и известный немецкий физик профессор Гуго Мерц, — оба, в сопровождении французского полицейского чиновника Поля Куртэ, осторожно стали осматривать местность.
— Вы уверены, что это происходило с вами именно здесь? — спрашивал профессор Леско Поля Куртэ.
— Я не могу вам с точностью сказать, господин профессор, — нерешительно отвечал Куртэ, внимательно водя носом по всем сторонам горизонта. — Но, насколько мне помнится, это именно тот район.
— А как было? Все казалось охваченным огнем или только определенный участок? — угрюмо поправил свои очки профессор Мерц, исподлобья глядя на пустыню. — Если весь, то я бы рекомендовал физический отдел станций установить не здесь, а на этих холмах. Они — доминируют.
— По-моему, профессор, нам необходимо придерживаться именно того места, где происходило событие, — мягко возразил профессор Леско. — Психофизические приборы могут дать совершенно другую картину, если мы установим их не там, где пожар воздуха наблюдался свидетелями.
— Отсюда ведь до холмов всего несколько километров… — тяжело повернул короткую шею профессор Мерц.
— Все равно. И несколько километров для психических явлений имеют значение. Если мы установим психофизиологический отдел в другом месте, внешние условия без сомнения произведут аберрацию. Своего рода параллакс впечатлений.
— Хорошо. Мы обсудим это после обеда, — пробурчал профессор Мерц, не желая, стоя на неудобных камнях, начинать научного спора. — Во всяком случае, мы не будем выгружать пока ни железобетонных стен, ни всей обстановки.
Мерц поморщился от порыва холодного ветра, недовольно покосился на холмы Курук-Тага.
— Ваше дело, конечно, профессор, приписывать все происшедшее коллективной галлюцинации, — заговорил презрительно он. — Но я, со своей стороны, убежден, что здесь просто-напросто происходил тихий разряд электричества. Ничего необыкновенного Не так давно Фортлагер наблюдал подобный случай в Центральной Африке. Затем, если хотите, могу привести литературу вопроса. Роберт Кранц: «Vorlesungen uber den Blitz», Band II; Франц Мюринг: «Die Elektrizitaat in den Wussten». И, кроме того, Майер, Фишер, Локк.
— Тихий разряд? — недоверчиво повторил слова Мерца профессор Леско, садясь на камень. — Я не спорю, возможно. Но только почему, в таком случае, скажите, пожалуйста, находившиеся наверху полицейские, не спускавшиеся на землю, никакого огня нигде не видели? Почему они говорят только о каком-то неопределенном ужасе, заставившем их разлететься в разные стороны? Вы не читали, например, путешествия Дарвина по Кордильерам… А там ясно говорится о безотчетном страхе, который охватывает в горах путешественников. Прочитайте также работы исследователя Средней Азии Скасси. Он с таким же явлением столкнулся во время путешествия по Туркестану. Вообще, у нас, психологов, есть для подобных случаев специальные термины: орофобия — горный испуг, и эремофобия — пустынный страх. А это, как-никак, указывает, что вопрос уже поставлен на твердую почву. Погодите… Что там такое?
— Нашлись! Нашлись!
Поль Куртэ радостно машет рукой, поднявшись на каменный бугор. Затем спускается с камня, исчезает на время и появляется снова с двумя незнакомыми, медленно идущими спутниками.
— Frau Штейн? — переспрашивает профессор Мерц, изумленно выслушивая прерывистое объяснение подбежав-шого Куртэ. — Та самая знаменитая Штейн? Профессор, что вы скажете по данному неожиданному вопросу?
— Я думаю, нам нужно идти навстречу… Непременно. Мадам Штейн! После эдикта № 5 и отречения Диктатора она в Европе теперь самая модная женщина! Следовало бы, пожалуй, произвести и приветственную речь. Может быть, произнесете, профессор?
— Ну, нет, извините. Если говорить, то говорите вы. Вы француз.
Ариадна лежит на постели в каюте аппарата «Комиссии по борьбе с мистицизмом». Каюта просторная, уютная, отделанная с комфортом. Холодная ночь, проведенная в пустыне, не прошла безнаказанно. Состоящий при комиссии доктор нашел легкую простуду, прописал эманацион-ный массаж легких, полный покой, усиленное питание. Владимир утомлен, бледен, будто перенес долгую тяжелую болезнь. Но в глазах бодрость, обычный ясный, спокойный взгляд. Он сидит у постели, держит руку Ариадны, смотрит в счастливое любимое лицо.
— Обещали отвезти в Петербург? — радостно спрашивает она, сжимая руку Владимира. — Когда? Скоро? Скорее бы!..
— Когда установят станцию, наверно послезавтра. Усни, Ади. Тебе необходимо. Усни, любимая!
— А ты будешь здесь? Рядом?
— Да. Рядом. Вот так…
За тонкой стеной — служебная каюта комиссии. Чей-то громкий голос говорит:
— Профессор просит окончить передачу до вечера. У вас все готово?
— Пожалуйста.
— Тогда начнем. Пять барометров?
— Пять.
— Три барографа?
— Три.
— Два барометрографа?
— Два.
— Шесть термографов?
— Шесть.
— Четыре термометрографа?
— Четыре.
— Вы надеетесь, успеем мы к вечеру? Ну, я читаю, отмечайте у себя просто. Два психрометра, два электроскопа, три электрографа, три электрометрографа, два аэроэлектроконденсатора, тринадцать индукционных катушек, восемь электрорадиаторов, четыре громоотвода, девять фотометров…
— Усни и ты, милый!
— Нет, нет. Я — так.
— По психофизиологической секции: двадцать пять вращающихся барабанов для записей… Сфигмографов — восемь, сфигмоманометров — семь, иннервометрографов — один, кардиографов — один, тахистоскопов — два… А клеть с морскими свинками есть? Ах, да. Простите… Живой инвентарь отдельно. Читаю дальше!
Ариадна спит. Владимир, сидя у постели, под баюкающее чтение соседа уснул тоже. А на палубе в это время профессор Мерц, на правах председателя комиссии приказав одному из служащих созвать на аппарат всех участников экспедиции, начальническим тоном говорит машинисту:
— Выгрузки не будет, Herr Гомперц. Прошу вас немедленно взять маршрут: Петербург, Берлин, Женева.
— Не будет выгрузки? — изумленно восклицает стоящий рядом профессор Леско. — Позвольте, профессор! Как же так? Невозможно! Ведь на оснований постановлений общего собрания Комиссии…
— Я за все отвечаю! Местность не представляет никакого интереса! Негг Гомперц, прошу вас: немедленно.
— Но это самодурство, профессор!
— У меня есть свои убеждения!
Аппарат тихо оставляет пустыню, поднимается выше, выше, поворачивает к Тянь-Шаню, несется на северо-запад. А Мерц, не обращая внимания на громкое возмущение Леско, хмуро смотрит вниз, на исчезающие холмы Курук-Тага, тихо шепчет:
— Да, да… Никакого смысла — бороться здесь с мистицизмом. Никакого…

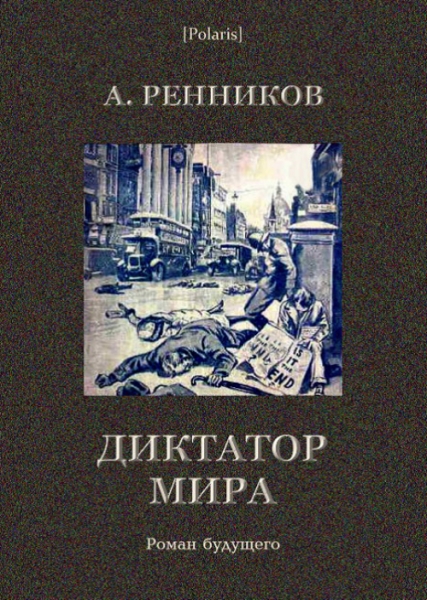

Комментарии к книге «Диктатор мира», Андрей Митрофанович Ренников
Всего 0 комментариев