Борис Письменный
Роковое окружение Эммауса
В апреле случилось редкое для наших мест сочетание зимней еще прохлады с неожиданным,по-летнему жарким ветром. Взять в меру от каждого из зол -- не таков ли кулинарный рецепт для замешивания счастья и для брожения жизни? Сейчас же стала выстреливать трава; начали лопаться бутоны; хотелось выпить до дна пьяный воздух с его льдинками весны и солнечным жаром. Хотелось декламировать дребезжащим распевом Качалова про "эт-т-и мал-ла-дые, эти клей-кие листочки..." Много чего хотелось.
Стоял будний день. Субурбия дремала. Только ошалелые белки прошивали волнистой строчкой сплетения соседних дубов, платанов и вязов; залетали малиновки и сойки проверить - как наливается соками шелковица; и случайный шмель уже кружился, жужжал в разноцветной пене кустов азалии. За потайным углом пряталась в затянувшемся перекуре желтополосая машина газовых работ или шоколадный фургон ЮПиЭс или Шевроле с зевающимв нем полицейским. Блаженная тишина только усиливалась от шебуршенья насекомых и птиц. Я лежал с закрытыми глазами. Поскрипывал старый гамак. Я старался и не мог сообразить - как рассказать о драматических событиях, почти невероятных в нашем бессобытийном, в нашем мирном деревенском краю. Я ворошил обрывки памяти, путаницу фактов, глаголы и междометия, звал на помощь музы, по воле которых, бывает, из ничего, ниоткуда может возникнуть неоспоримая, вырубленная четкими буквами история, которой только что еще не существовало в природе. Под скрип гамака, влево-вправо качались разрозненные впечатления, знаки и идеи. Что толку в бесплотных идеях! Идеи скучны, не летают без сюжетного хвоста. К знакам требуется подобрать ключ, сплести взаимосвязь событий в историю, о которой я как раз размышлял, когда подошел ко мне восьмилетний Бобби, скучающий по случаю школьных каникул. Ему надоело самому с собой играть в мяч, преставляя себя одномоментно пасующим и принимающим передачу. Утомительное это занятие. Таковы издержки обеспеченного образа жизни, когда у каждого имеется все свое; когда взрослым и детям недолго вообразить,будто никто никому не нужен - живи сам, играй сам по себе, у каждого дома торчит собственный баскетбольный щит.
Бобби подсел на гамак, растормошил меня и, видя исчерканный блокнот, спросил, что пишу. Он требовал прямого ответа и я не видел причин ему в этом отказывать. Я подумал -почему нет? Почему бы не оставить мои бумажные сомнения и не рассказать все как есть человеку, пусть маленькому, но очень отзывчивому. Если поймет даже ребенок, вот тогда, значит...
И я стал рассказывать. Скрипел гамак; свистели птицы. Бобби слушал внимательно, все более раскрывая рот, что немало меня воодушевляло. Сначала он спрашивал обычное - все ли тут правда в этой истории, и часто тут же, не дожидаясь моего ответа, сам согласно кивал головой - ему так хотелось. Потом, проглотив от нетерпения слюну, спросил свой главный вопрос: - А про меня будет? Когда будет про меня? Я пообещал, что обязательно будет. У меня не было другого выхода. Я говорил с ним, конечно, по-английски, запинаясь; говорил, что рассказываю ему схема... скима... сокращенно -"экросс-зе-лайнс" - между делом поправлял меня Бобби, великодушно подсказывая нужное слово. В паузе между главами он спросил меня, между прочим, не знаю ли я как будет уменьшительное имя для Ричарда (один из моих персонажей)? Пока я соображал Рич, Рик... быстрый Бобби нетерпеливо дыхнул мне в ухо -"Дик"; многозначительно посмотрел на меня и покраснел, довольный шуткой и своим соучастием в нашем с ним представлении.
В заключение, мой умудренный не по годам собеседник стал предлагать на выбор несколько названий для рассказа, упрочняя, тем самым, свое в нем участие. Насколько мне позволял мой английский, я витиевато дискутировал с Бобби, указывая на витиеватые облака, несущиеся над нами. Не сразу мы заметили стоящую неподалеку Эмму - маму Роберта, прекрасную героиню нашей истории. Она тоже предложила свой годами проверенный, отдающий классицизмом заголовок "3аписки Нью-Джерсийского Помещика". Было не удивительно слышать такое от человека, выросшего под петербургским небом, от выпускницы редакторского отделения ЛГУ и автора дипломной работы о поместном дворянстве в русской литературе. Титул помещика невероятно польстил мне, чего я не смог бы, к сожалению, объяснить по-английски не только малолетнему Бобби, но и взрослым американцам. Слова 'лендлорд', 'риэл-эстейт' не из русской классической оперы. Наш 'эстейт' скорее метафизический, не-реальный. В слове 'помещик' для русского слуха живет мир запущенных усадьб, уездных балов, может быть, и литературщины, не без того, но и аромат антикварной речи с егерями, батюшкой, аксельбантами, ворожбой... с каким-нибудь господином Головой Государственной Думы...
Весь тот мир кажется нам особенно пряным и романтичным после одноцветной вымученности советских лет. Даже сравнительно молодые мои приятели-иммигранты, когда они слишком стараются говорить красиво, снаряжают свой форсированный английский волапюк как бы староруссизмами - Ступай таперича, старина. Ежели сподобишься, гив-ми-э-кол... Один из замечательных сюрпризов для нашего иммигранта - это восстановление непрерывности течения времени из прошлых веков - в дни сегодняшние. Нам удивительнее не то, что США первыми шагнули в двадцать первый, а то, что мы нашли в Америке нетронутый, еще живущий, век девятнадцатый. Другое чудо для пришлого человека, некогда носившего красный галстук и комсомольский значок, возможность обладать куском Америки, а, значит, куском всего мира! Я воображал себе геометрический клин, идущий из центра Земли в бездонное небо, проходящий через контуры млего скромного землевладения. От одной такой мысли моя Голова Государственной Думы шла совершенно кругом; как это замечательно - иметь собственное место на Земле! Хоть ешь его с кашей.
Моим добрым соседом был отставной местный пожарник Джим. Белоголовый, кряжистый мужчина с добрым круглым лицом, совершенно похожий и видом и манерами на польского пана Войтылу, всем лучше известного под именем римского Папы Иоанна Павла Второго. Я привык к тому, что с восхода солнца восьмидесятилетний Джим что-то сваривает автогеном во дворе, ворочает глыбы и замешивает цемент, одним словом - прихорашивает свои владения и усадьбу. Мне полагалось бы от стыда сгореть, но я, при моей нерукодельности, и не мечтал равняться с соседом. Во всем графстве Берген не было более шелковистого безупречного газона, чем у Джима. Какой бы хитрый инструмент ни понадобился мне, Джим спешил мне его подыскать. С моим несравненным соседом я не страшился ни снежных заносов ни ураганов. Мы беседовали с ним через разделяющий нас штакетник про семена и удобрения, ругали политиканов.
Неизвестно почему, Джим настойчиво звал меня -Бруно. Я давно перестал поправлять - что за беда! - Бруно, - говорил мне Джим, - если к ночи я должен свалиться, пусть это будет от работы. Такую жизнь я понимаю. Каждый день у меня должен быть 'прожект'.
Как-то я приколачивал отстающую планку к косяку двери; Джим похвалил:
- Хороший прожект, Бруно!
Мне было приятно просыпаться; я знал - выгляну в окно - увижу работающего соседа, значит все в мире в порядке, как и должно быть.
В самые ранние часы утра он работал только бесшумные вещи, напоминая мне мать,ступающую на цыпочках, когда дети спят. Как-то спозаранку я увидел в окно передвижной кран, поднимающий медленно, как во сне, огромную бетонную плиту в центре Джимминова участка. Что там? Я пытался разглядеть, что за тайна там, под плитой, но не мог. Позже все было опять шито-крыто; земля и трава на месте, будто бы плита мне привиделась. Я собирался полюбопытствовать о ней у Джима, но тот пропал и надолго. Оказалось ложился в больницу, где врачи безуспешно искали неполадки с его здоровьем, ставили редкие диагнозы, потом отменяли: болезнь легионера, синдром Меньера...
Раз Джим подошел ко мне прямо в обход разделяющего нас забора.
- Бруно, у меня горе. Сын умер. Так обидно, несправедливо. Его... его только что повысили по службе, дали неплохие деньги... Джим назвал сумму, стал жестикулировать, не находя слов, заплакал.
С тех пор он пропадал все чаще и чаще. Появляясь, часами сидел недвижный на солнце,опустив большую голову в руки. Вылитый Папа Иоанн. Нетронутая газета валялась под стулом. Не сразу, я решился сам к нему подойти. Джим поднял голову, улыбнулся, сказал, что причину нашли. Он дал мне потрогать костистый желвак на боку размером с биллиардный шар. Рак. Лиха беда. Мы еще повоюем, Бруно...
Скоро дом опустел. На дожде мокла риэл-эстейтная табличка о продаже. Новыми соседями, купившими Джиммин дом, не без моего содействия, оказались свои, русские - Эмма и ее муж Мавродий. Я их немного знал еще с тех времен, когда приезжал в Сухуми, где за Мавродием ходила слава отчаянного джигита и денди. У него, отставного артиллерийского офицера, был светлый взгляд, аккуратно подстриженные усы и безупречный костюм в любую курортную жару. О природных анатомических данных Мавродия циркулировали упорные слуxи. Одним из его легендарных подвигов, передаваемых из уст в уста, была история со столичной певицей из академического Большого театра, приехавшей на гастроли в Сухуми. Мавродий, как открылось позже, заключил отчаянное пари и зашел прямо к ней в номер в гостинице Сакартвелло. Певица ахнула отнегодования, хотела выгнать, хлопнула дверью - отсыревшая дверь скрипела, не закрывалась. Мавродий вынул увесистую пачку денег и ею заклинил дверь насмерть. Он вышел из номера утром, душистый, гладковыбритый, как всегда. Пил турецкий кофе на набережной с товарищами; ни слова о бурной ночи, только посмеивался в усы.
Певица, естественно, добивалась новых встреч - все безуспешно.
Старик-почтальон, абхазец, таскал в гору полные сумки ее писем к Мавродию, но тот - ноль внимания. Эпизод был исчерпан.
Красавицу Эмму Мавродий увел практически из-под венца, когда она с женихом, очень уважаемым доктором экономических наук, и с его коллегами приехала отдыхать в Гагры. Говорят,то была ужасная драма, отчаянная любовь. Мавродия никогда не видели настолько ревнивым. В Эмму, конечно, были влюблены все. Все, кто ее знал. Я не вижу надобности исключать себя из этого почетного списка. Эмма неизменно была ренуаровской женщиной в полном смысле этого слова. Даже в девичестве, она не старалась имитировать распространенный теперь вертлявый, спортивный тип 'унисекса', девушки-подростка. Эмма всегда оставалась женщиной, ничуть не толстой, но,что называется - 'в теле', полнокровной и соблазнительной всем своим непередаваемым амбиянсом. Это - при полной корректности и строгом соблюдении норм приличия, как в одежде, так и в манерах.
В связи с ее обликом я сначала думал о ренуаровских портретах Жанны Самари из Комеди Франсез, но потом пришел к мысли, что лучшим Эмминым прототипом можно считать , скорее, мадам Нини Лопез, изображенную в картине "В ложе". Там с нею рядом изображен брат художника -Эдуард, глядящий вверх, на галерку в театральный бинокль. Более того, я готов заявить, что не будет большого преувеличения представить себе на минуту, что никто иной, как сама Эмма и Мавродий запечатлены на этой картине именитого мастера, знатока женских чар.
В Америке, на мой взгляд, Эмма и Мавродий выглядели все так же безупречно. Эмма преподавала русский язык в колледже. Мавродий держал страховой и бухгалтерский бизнес. Перед въездом в купленный дом Мавродий нанял мастеровых и выломал, вычистил, переделал все, что так кропотливо строил мой неутомимый сосед Джим. Из окон летели клочья перегородок и старые стены; грузовики увозили контейнеры со строительным мусором - с джимминовыми заботливыми пристройками и дополнениями, с обшивкой внутренностей. Так кончился дом, что построил Джим.
На месте зарослей боярышника поставили новую террасу; под каштаном повесили качели.
Вечером, по русскому обычаю, на террасе пили чай. Если не было гостей, мы беседовали с Мавродием. Эмма, уложив спать Бобби, задумчиво, одна в сумерках качалась на качелях. Мавродий - человек обычно немногословный, но, случалось, его прорывало. С бытности своей в дальнобойной артиллерии, он вынес склонность к математике и геометрическим построениям. С некоторых пор он любил говорить о вечном. Попробую передать кое-что из наших с ним любомудрий.
По выведенной нами теории, смерти не существует - лишь наше восприятие-воображение. Вообразим лучше, решили мы, следующее - мир во всех его немыслимых измерениях пронизан энергетическими линиями, находящимися в непрестанном хаотическом движении, которое зовут Временем, Магией или Богом... Для 'линии' - неплохой пример - световой луч. Как ни трудно поверить, любая светящаяся точка, которую мы видим, и от ручного фонарика, и от далекой звезды, есть материальный непрерывный луч света, попадающий прямиком нам в глаз. Так что линии - не выдумка, а простая реальная вещь. Из них сделана сеть, которая сама себя вяжет. Каждый ее узелок - перекрестие струн, в зависимости от множественности и сложности узла, создает для нашего восприятия тот или другой объект - улитку, кошку, человека. Две линии камень, миллиард - человек. В движении мирозданья развязываются одни узлы, завязываются новые. Сложному органическому клубку, конечно, труднее сохранить постоянство, чем мрамору, переживающему века. Не забудем, что эти видимости состояний важны только для глаза нашей конструкции. Ничто, по-существу, не рождается, не умирает - одни рекомбинации извечны...
Подходила Эмма, садилась мужу на колени, говорила: - Вчера в колледже я им объясняю, что мотор сам не вращается, крутится только ротор. Или, что в труде какого-то советского эпидемиолога сказано: - Благодаря токсическим эффектам вымирает все живое... Кого тут 'благодарить', спрашивается? Надо же немножко следить за своей речыо. Даже у Есенина клен 'опавший', думаю, опавшие - это листья; не клен, как вы считаете? Человек без одежд раздетый, но не опавший? Мавродий, дождавшись паузы, продолжал; - Помню, перед самым нашим отъездом, на Новодевичьем, на одном могильном камне читаю -'Чаша дел его полна и его душа чиста перед Богом'. Ужас какой! Выходит, что это Богу требуется от нас больше дел? Не мы ли сами стараемся заморочить себя работой, чтобы убежать от смерти? Говорим ей - чур меня, я занят, я тяжело работаю... Что скажешь на это, мой мудрый редактор?
- Нам, Маврик, нужно на той, на другой стороне побывать сначала, чтобы верно ответить.
- ...Вот я и хочу сказать, кажется, великий Гудини обещал, что он как-нибудь изловчится и подаст знак с другой стороны-. Мавродий крепче стискивал Эммины плечи. - Не знаю, что там Гудини, но, если я уйду первый, тебя, мой Эммаус, Минни Маус, сердце мое, запомни это покрепче, тебя я не оставлю без моего привета оттуда...
Я сидел и думал о 'чаше дел' и о вечном трудяге старике Джиме. Может быть, это он сейчас навел Мавродия на мысль вспомнить могильную надпись; может, то был Джиммов вариант знака, его лучик, отправленный мне, или тому, кто поймает и поймет?
Я рассказал супругам о загадочной плите Джима в центре их владений. Позже мы часто возвращались к этой теме; она их сильно заинтриговала - вдруг под землей клад! Или заготовленное убежище от советской ядерной атаки, какие строили в 50-х? Посоветовавшись со специалистами, Мавродий пришел к выводу, что под плитой в яме помещается старый бак, цистерна масляного отопления дома, которую после перехода на газовое обеспечение пора бы и удалить. Собирались, но было все недосуг.
Мавродий часто звонил мне, даже чаще,чем мы встречались лицом к лицу, как это ни парадоксально для близких соседей. Иногда мы рассказывали друг другу байки и редеющие русские анекдоты. Иногда Мавродий делился мыслями, почти исповедывался, объясняя, что именно по телефону хорошо это делать, так как происходит чисто ангельская коммуникация - бестелесное общение душ. Чувствуется, как звенит душа, - говорил он.
- По телефону внимательный слух может точнее уловить мельчайшие нюансы настроения и направление интереса собеседника .
С некоторых пор его собственные интересы сосредотачивались исключительно на здоровом образе жизни. Он стал мне объяснять какие-то заумные диеты, одна опровергающая другую.Сегодня, например, -что нельзя употреблять не то что масла, но и маргарина, а завтра - ешь в свое удовольствие сало и пей горькую. - Мы с Эммаусом, - объявлял он, - перешли на серебряную дистиллированную воду, шпинат, сельдерей и тофу обязательно два раза в день. Упоминал еще какие-то целительные упражнения для печенки, если не ошибаюсь. В то же время, при встречах я обращал внимание на его измененный, необычно пугливый взгляд, хотя, в общем и целом, он выглядел прекрасно, моложе своих пятидесяти. Меня настораживало, что Мавродий завел новый обычай вместо шуток рассказывать о газетных некрологах: кто где умер и, главное, от чего.
Эмма утверждала, что ее Мавродий 'чудит' и поддается разговорам его коллег по страховому бизнесу - 'этих одноклеточных пригородных идиотов'. Неуверенным голосом Эмма просила меня как-нибудь повлиять на мужа, образумить, и призналась, что ей временами делается страшно и за себя, и за него: - Он пугает меня!
Я видел, что ее действительно трясло. Одним словом, я не совсем удивился, когда ,вскоре, Мавродий позвонил мне из палаты госпиталя, кстати, того же самого, где недавно оставил мир мой прежний сосед Джим.
-Обычное обследование, - сказал мне Мавродий, когда я его навестил.
- Для порядка надо дать им проверить мой мотор вдоль и поперек.
Усевшись поудобнее в постели, он стал мне рассказывать, какой забавнейший курьез с ним приключился буквально на днях.
- Ты, конечно, помнишь тот международный конгресс страховых фирм в Монтевидео, на который я так и не поехал?
Я абсолютно не помнил, но, на всякий случай, согласно кивнул, чтобы не перебивать, и прилежно слушал.
Приснился Мавродию какой-то его любимый клетчатый пиджак, который ему достал за немалые деньги знакомый сочинский фарцовщик. Летний пиджак британского пошива из дерюжки осенних расцветок, из лучшей ткани индийского производства 'мадрас' - ткани, такого отборного хлопка, для которой дословный русский перевод 'хлопчатобумажная' ( или там, 'бумазея') незаслуженное оскорбление. Мавродий настаивал на подробном мне описании фасонной удлиненности пиджака, некоторой зауженности в плечах (настоящий джентельмен не пользуется ватными подплечниками). Упомянул он и о половинной шелковой подкладке для отражения нежного пота. Фирменную наклейку Мавродий, к своему огорчению, не мог вспомнить, но почему-то склонялся к тому, что там были стильным шрифтом вышитые слова, включая название города изготовления. Так или иначе, в его сне пиджак фигурировал как 'пиджак из Монтевидео'. Виделись Мавродию во сне рафинадные небоскребы, синейшие горы, латиноамериканская жара , короче -безусловное Монтевидео. Пиджак стягивал Мавродия с боков в нездешнюю аристократическую стройность; его руки болтались при ходьбе элегантными плетьми, как положено в высшем свете. Облаченный в свой пиджак, Мавродий чувствовал себя особенно стройным, но...
Но он стал замечать, что что-то неладное делается с его сердцем; оно вдруг начинало биться невпопад. Мавродий стал к себе прислушиваться, даже паниковать, ощущая пугающее набухание сердца, его отдельность, шебуршение, давление в грудном сплетении и тому подобные критические симптомы. В тоже время, Мавродий твердо помнил в своем текущем сне, что в Монтевидео происходит мировой конгресс врачей кардиологов. Туда Мавродий и отправился немедленно, почему-то вмесие с детской группой посетителей, цепочкой, взявшись с детьми за их потные ручки. Они поднимались по широким, солнцем залитым ступеням, входили под колоннаду и парфеноноподобный фриз античного здания. Мавродий шагал, не уставал восхищаться -какие там были интересные залы и интерьеры; он был переполнен нормальным туристическим любопытством. Он думал о том, как все это познавательно и интересно, что нужно будет обязательно рассказать Эмме и что, кстати, ему следует не упустить случай и проконсультироваться с кардиологами о том, почему барахлит его сердце.
Сели кто где - на задворках, на редких свободных местах. Идет заседание. Гулким эхом раздается речь очередного докладчика. Дети скучают, елозят в нетерпении. Рядом с Мавродием расположился, также скучая, кирпичнолицый толстяк в пенсне и пышных усах. Своей внешностью он внушал уважение, и Мавродий решил, что, поскольку в зале довольно жарко, неплохая идея разоблачиться и потихоньку показаться усатому кардиологу.
Мавродий стал снимать с себя свой тесный пиджак, но что-то там зацепилось; он стал разглядывать пиджак в полутьме на своих коленях, ощупывать свой внутренний карман пиджака и подкладку - что-то в ней бьется. В снятом пиджаке бьется его собственное сердце! Может такое быть? Сердце отдельное от него? Мавродий побежал домой. Разворачивает нетерпеливо пиджак - бьется! Все более там, в том месте, где кругом, шелковистым оверлоком прошита подкладка; как раз там и бьется.
Распарывает осторожно, только самый крайний уголок. Смотрит - там голубая мышь спит; ровно дышит шерстяной кулечек. Где зашили ее? В Монтевидео? Не могла же она сама через швы прокрасться? Что делать? Мышь все-таки, немного гадко, руками трогать не хочется. Мавродий задумал вынести куда-нибудь, разбудить мышь, подтолкнуть с угла - пусть бежит, куда хочет, на все четыре стороны. Глянул, а мышь - прямо в него уставилась бусинками своих красных глаз; скалит зубы и у нее будто бы его же собственное лицо. Лицо Мавродия, только в миниатюре. Тут сердце его оборвалось. Мавродий проснулся не в себе, напугал, разбудил Эмму и тотчас же позвонил, заказал аппойнтмент со своим лечащим врачом по поводу полного обследования организма.
Не скажу, что совершенно забыл о своих друзьях, но, как обычно, в чересполосице дней на какое-то время я отвлекся на другие проблемы и долго бы о соседях не вспомнил бы. Если бы не однажды, на полном ходу, из машины не заметил длинную колонну наших русских знакомых, которых видишь всех вместе разве что раз в год на именинах или на других застольях. И вдруг, вижу, как они идут и ни где-нибудь, а по нашим безлюдным аллеям, в нашей безлюдной субурбии. Пешком! Они плелись понуро в цепочку, один за другим, вдоль кромки газонов. Там были и Люсик с Томочкой и Фараоновы и оба Яшки Мямлик и Шустрик, и Зинуля...все, все, все. И такими они мне показались 'другими', незнакомыми со стороны, не бодрыми еще ровесниками, но совсем уже старыми, согбенными людьми, шаркающими ногами. Я на скорости проскочил. У меня не хватило духу остановиться. Чувствовал я себя скверно. Полный опасений, я машинально набрал номер соседского телефона.
Трубку сняла Эмма. Она смеялась, хохотала и сказала - 'Алло?', продолжая, при этом, с кем-то разговор. Продолжала прихохатывать; говоря со мной, хотела тут же рассказать какой-то отпадный анекдот. Сказала, что к ним случайно заскочили наши общие знакомые; у нее полная кухня народа; Маврик выдал этот потрясающий анекдот о богатой вдове. Люсик с Томочкой и Фараоновы, да, я не ошибся, они собрались сегодня на культпоход - ходили почему-то в наше местное кино. В кино! Слава Богу. У меня отлегло от сердца.
- Что тут особенного? Какая разница? Собрались люди; пошли за компанию, - сказалаЭмма, все еще шмыгая носом. - Заходи, если успеешь, если хочешь их всех застать.
...Не прошло месяца, как Люсик с Томочкой и все остальные опять толпились в Эммином доме. Эмма шмыгала покрасневшим носом; на этот раз в доме были завешаны зеркала. Только что похоронили Мавродия. Врачи его сначала хорошенько обследовали, прооперировали и -вот... Нашего бедного Маврика отнесли туда же, где покоится Джим.
- Грозил подать знак оттуда, - шептала Эмма, когда я приложился к ее мокрой щеке.
С тех пор, как Эмма осталась одна, она не сдавалась, не позволяла себе расклеиваться, даже с каким-то исступлением следила за собой. Говорила, что Мавродий любил жизнь, людей и веселье; что теперь она должна продолжать жить полной жизнью и увидеть -на что она сама способна.
Эмма, знающая себе цену, дополнительно хотела узнать, как она сможет котироваться по американской шкале; на что она способна в условиях открытого рынка неограниченных возможностей. Маврик был безусловно замечательный человек, но он несколько ее подавлял, заслонял ее, зовите это как угодно заботой, охраной. Эмма чувствовала, что с ее языком и данными она могла бы проявить себя гораздо заметнее.
Прошло полгода; теперь у Эммы, как никогда прежде активной и энергичной, появилось вытянутое выражение лица. По непонятным причинам ожидаемый шумный успех немного затягивался; ажиотажа вокруг нее все еще не наблюдалось. Жизнь шла чередом, как и прежде. Эмма особенно не унывала; она любила приглашать гостей самых разных категорий; обсуждала со мной, кого на кого позвать, ктос кем гармонирует. В виде эксперимента как-то она устроила у себя девичник, когда приехали, по чистой оказии, ее старые университетские знакомые из Парижа, две академические дамы.
В последнюю минуту Эмма решила немного разбавить девичник и допустить, в частности, меня, в виду множества напеченных пышек и вообще такой массы вкусной еды, что было бы жалко, если пропадет.
В окружении наших местных девушек, ленинградские парижанки Франсуаза и Ираида, женщины, так сказать, крайнего полусреднего возраста, сидели рядом. Сдержанные, молчаливые, чуть уже подсохшие и темноватые, как старые девы, они сидели, зябко кутаясь в русские наплечные платки в крупных красных, не то цветах, не то петухах. Выглядели, надо сказать, экзотично для нашего американизированного глаза, как дамы из начала века, из хождения по мукам или вроде Марины Цветаевой перед ее возвращением в трагическую Елабугу.
Когда я зашел, все молчали; с уважением смотрели на именитых гостей. Иногда только звякнет чайная ложечка или шепотом попросят передать блюдо с бисквитами. Наконец, кажется Франсуаза, даже не спросила, а небрежно уронила бесстрастным тоном: - Скажите, господа, Шварцкопф и Черномырдин, они что родственники или однофамильцы?
Выждав паузу для осмысления тонкости произнесенной тирады, следующей включилась Ираида, - Если можете, объясните, каков у вас, в Соединенных Штатах, читательский резонанс на работы Татьяны Толстой?
Мы не могли не оценить по достоинству широту интересов европейской интеллигенции; неудобно было говорить о погоде и бисквитах. Строгая тишина стояла, как на уроке с представителями из РОНО. Я решил разбавить оцепенение, поинтересовался про Париж - Как там наши?
- Вымерли. Вымирают. Все лучшие вымерли...
- Как - вымерли? Шутите!
- Увы, это факт. Посудите сами - и Долгорукие и Струве и Иловайские-Альберти...
- Нет, да что вы! Я имею в виду новых, союзных иммигрантов. Наших!
- Наши - Ваши, - зябко поежилась Франсуаза, переглянувшись с Ираидой.
- Не знаю. Они, по-моему, не кустятся.
- Пожалуй что так, - подтвердила Ираида. - У 'этих' - одно мельтешенье. Эти только друг с дружкой, узким кагалом... не знаем, право...
Наступившую новую, неловкую паузу спас сюрприз, подготовленный Эммой. Ей предложили пригласить на девичник бывшего однокашника новых парижанок некого Ричарда, который оказался в наших местах проездом из Вирджинии, где у него был брокерский бизнес.
- Ляльки! Закричал с порога Ричард. -Какими судьбами, Франька, Идочка...?
- Что за манеры, Рувим, - подняла бровь Ираида.
- Позволь сначала на тебя посмотреть.
Ричард был человеком уже не совсем первой свежести. Довольно лысый, нескладный, разведенный брокер-компьютерщик, но явно здоровый на вид, розовощекий еще и крепкий бутуз. Он сейчас же со всеми перезнакомился, целовал ручки Эмме; не сводил с нее глаз. Первым делом после тоста 'со свиданьицем', Ричард вознамерился рассказать анекдот о жадной даме, мечтающей стать богатой вдовой. Оказалось, что тот же самый, что совсем недавно рассказывал покойный Мавродий. Правда, у Ричарда текст выходил совсем иначе, как-то уже отъявленно непристойно. Не исключено, что это, как раз, входило в его намерения.
- 3ахомутала богатого старпера, значит; легла на койку, кушает бонбончики, размечталась - заведу себе трех полюбовников - первый животное...
Захлебываясь от собственного смеха, Ричард объяснял половые сношения, кто куда забирался, какие издавались звуки... Кто-то из гостей его еще бессовестно подначивал: - Давай, Дик, давай, не пропускай подробностей!
Вижу, что наши парижанки бледнеют, вздрагивают с каждым словом, от описаний немыслимых совокуплений, от тягостного, невыносимого косноязычия рассказчика. Они поднялись со своих мест, чтобы отправится посмотреть Эммин дом. Я вызвался провожатым. Однако, в какую бы комнату мы ни попадали -навстречу нам катился Ричард, что-то горячо пытаясь дорассказать. Когда мы остановились, в конце концов, в тишине, на террасе, разглядывая горку земли от строительных работ на Эммином бекярде, позади меня с шумом поднялась рама; раздался знакомый голос. Ричард сел у окна -- подышать свежим воздухом. Пришлось вернуться в гостиную.
Не тут то было. В действие вступает еще одна любительница фольклора, некая Маня Флик - Эммин агент по риэл-эстейту. На Мане был корпоративный костюм в полоску с искрой, миниюбка, открывающая блестящие толстые коленки и все остальное хозяйство, когда Маня движением ножниц перебрасывала ногу за ногу. Из ее крепкого рта в яркой губной помаде понеслась прямая матерщина, повалила сочно, без уловок:
- ...ать-двать... вот-те...уй...
Тут уже, сам Ричард побледнел, начал стонать, хвататься за сердце. Кто-то из женщин постарше сочувственно решил, что он - пациент-сердечник, ишемия и все такое... К нему бросаются помогать, предлагают 'самый настоящий русский валидол'...
- Да, нет же, - сквозь слезы морщится Ричард. - Не то... знал, что забуду!
- Забыли принять медикейшн?
- Да, нет, эти Манькины анекдоты забуду! Память - совсем никуда, дырявая стала!
На этом девичник резко пошел к завершению. Первыми, не принимая никаких уговоров, удалились Франсуаза с Ираидой. На улице стемнело. Хватит. Пора. Вслед за ними быстро потянулись все остальные. Только Ричард отказывался уходить. Он говорил Эмме, что она -мечта его жизни; что он остается; что она пойдет за него под суд, если разрешит выпившему драйвить в темноте; что он будет вести себя тихо как мышка в уголке...
-'Как мышка', - вспомнила и повторяла про себя Эмма, с большим трудом прогнав, наконец, невозможного гостя.
Через полчаса позвонили в дверь. Явился Ричард - забыл пресловутый зонтик. Эмма, полураздетая уже, не могла не открыть; Ричард набросился, тянулся поцеловать; последовала потасовка. Эмма, отчаявшись, ударила его в левый глаз статуэткой; только тогда он взвыл и удалился. Напоследок еще скулил за дверью, произносил страшные, памятные для Эммы слова:
- За что? Как же так, Эммаус, мышка, сердце мое.
В эту ночь Эмма совершенно не могла уснуть. Она выглянула в окно, убедилась, что машины Ричарда нет на драйвее, накинула халат и вышла на свой бекярд с сигаретой. В центре двора светился огонек. Она приблизилась к откинутой бетонной плите, к месту незавершенных работ, где высилась гора выкопанной земли и, на боку, старый маслоналивной бак. На самом краю разверстой ямы, спиною к плите сидел мужчина, курил трубку. Он был страшно перемазан землей; платье местами порваное и, само по себе, очень странного воинского фасона - плисовый голубой мундир, темносиние панталоны, на голове - плиплюснутый спереди картуз. В полнолунную ночь о цвете, впрочем, можно было судить только условно. Поблескивали золотом пуговицы в два ряда, штрипки на панталонах, бляха ремня...
Военный повернулся к ней. Эмма вскрикнула, плотнее запахнулась в халат, готовая убежать.
- Не пугайтесь меня, миледи. Я, кажется, не в расположении. Выгляжу скверно, как исчадие ада. Могло быть хуже. Мог бы остаться в этой могильной яме навечно.
У него были глубокие светлые глаза, выделяющиеся на темном красивом лице, рыжеватые усы и острая бородка. Голос был довольно мягкий и доверительный. Эмма приблизилась, заинтригованная.
- Вам нужна медицинская помощь?
- Мне угодили в голову. Наверное, конокрады из Акенсака или британские лазутчики; они с конфедератами заодно. Взгляните, мой левый - совершенно заплыл...
Верно, вокруг его глаза наливался синяк - на том же самом месте, куда Эмма ударила Ричарда. - Нет, нет, я должна идти... Эмма говорила и сама поражалась своей глупости. Она опасалась, что сходит с ума, если не понимает, что она, конечно же, во сне, видит и говорит и бредит. В то же время, пусть такой странный получается у нее сон; он чем-то начинал занимать ее; ей несколько даже нравилось поддаваться развлекающему забвению. Еще бы! Ночь, луна, незнакомый красавец-мужчина....Хотелось узнать, что будет дальше.
Она подошла и села на подножку экскаваторной машины. Офицер сидел на замаранном бушлате; там же лежала драгунская сабля, оловянная фляжка, коробка с рассыпанными патронными гильзами, кисет...
- Позвольте представиться, мое имя - Арпед Ларедо. Третья Нью-Джерсийская Кавалерия... Он указал на скрещенные сабли на эмблеме своего картуза. - Или, по новому, должен исправится - Первый Американский Полк, US --One. А, вы, как я слышал в перепалке у ваших дверей, - Эммаус? Спешу вам заметить-знаменательное имя.
- Нет, нет, меня зовут Эмма; то все перемены, игры слов...
- Вся жизнь - перемены. Кажется, вчера еще меня ожидали на юге, за Потомаком, а, может быть, уже-за Шенандоа. Интересно, где сейчас Грант; что слышно нового о Линкольне? У меня старая газета; я ее скурил... Покончим со старым! Прощай, кавалерия. Отныне я - капитан артиллерийской батареи, вот-с, ваш покорный слуга.
Арпед начал что-то беспокойно искать по карманам.
- Я, кстати, ваш сосед, хорошо знаком с Вестервельтами и семьей Де Марестов.
- Есть у нас такие улицы,- сказала Эмма.
- Зачем 'улицы'? Люди! Сам я живу ближе к Старой Кривой Дороге на переправу - Олд Хук Роуд. Не с вашей стороны, где - скобяная лавка, рессорная мастерская, потом куробойня...
-Там нет никакой куробойни.
- Не может быть! Убрали? Ну и прекрасно, я давно говорил, что ей тут не место. Невозможный запаx... Вы уверены? Вы здесь недавно? Ваш акцент, германский, я бы сказал, если бы не знал лучше. Я знаю про вас достаточно и хочу сделать приятное. Вы ведь не откажетесь отправиться в город, если его зовут Петербург? Родное для вас имя?
- Откуда вы знаете?
- Помилуйте, так это же сон. Во сне все возможно. Хотите, рядом с Петербургом я создам для вас город Эммаус? Неплохо звучит?
- Спасибо тебе, странный мой сон... Мне нравится этот мужчина и нравится его голос. Как хорошо влюбляться во сне, но я все-таки обязана спать, если я не хочу свихнуться, - сказала вслух себе Эмма.
- Интересно слышать ваше признание, миледи, должен заметить. Я не посмею далее нарушать ваш покой, однако, если позволите -последнее...
Он достал из раструба перчатки обрывок бумаги, карандаш и что-то написал быстро. Протянул Эмме.
Ночью Эмма металась и бредила, толком не зная, что ей чудится, а чтонет. Ей виделся впалощекий бородатый Линкольн в окружении похожих на него офицеров. Главное, ей виделся сам Арпед. Она сидела с ним верхом, млея и
наслаждаясь запахом его трубочного табака, теплом его груди на своей спине; его крепкие ноги следовали изгибам ее ног. Они вместе гарцевали на коне по пустынным улицам Нью-Джерсийских городков, и на каждой площади, где стоял монумент американским ветеранам, каждый солдатик позеленевшей бронзы, каждый увековеченный воин, неважно какой из войн, вдруг оживал, отдавал честь Арпеду и ей. В некоторых местах ветераны даже сбегали с пьедестала; собирались в отряд, маршировали какое-то время вслед за ними, распевали гимны... Арпед тоже подпевал - 'янки-дудль-кам-ту-таун-марчин-он-де-пони...' ,крутил над головой своей драгунской саблей и щекотно смеялся прямо в Эммину шею.
Утром Эмма проснулась, как ни в чем не бывало, отлично выспавшаяся, бодрая исчастливая. В кармане своего халата она нашла обрывок желтой газеты Армии Юнионистов. Угольным росчерком на ней значилось:
- Не пугайтесь судьбы. Авг. 24 жду в Вирджинии. Ваш Арпед.
Там же был набросок маршрута в г.Эммаус на побережье Атлантики, недалеко от Ричмонда и соседнего с ним города Петербурга.
Кончалось лето. Двадцать третьего августа мы неслись с Эммой на моем Додже вниз по карте, на юг. Горячий, как медузное желе, воздух, дрожал перед глазами над гудроном забитой траффиком девяносто пятой дороги. Август- самое время для отпусков. - Почему бы не поехать, не посмотреть южные штаты, давно уже подкатывалась ко мне Эмма. - В крайнем случае, можно завернуть позагорать на Вирджинию Бич. - Я не пытался спорить с Эммой, переубеждать ее. Все эти недели до конца августа она была невероятно возбужденной, до самого момента, когда Бобби, наконец, великодушно согласился провести несколько дней у родственников. И мы отправились.
По дороге Эмма спрашивала меня, верю ли я в приведения, в особенности в сигналы с того света; и сама же отвечала, не дожидаясь моего мнения, что в описанные явления мертвецов не очень-то верит, пока научно их не докажут, не исключат вероятность ловких фокусов и иллюзионизма. Что в ангелов-хранителей она немножечко верит и верит абсолютно в злой глаз; что больше всего она верит в намеренное злодейство; что вообще, она немало напугана нашими последними домашними событиями; что от природы она - человек храбрый, но ей немного страшновато, вот и все...
Не без труда я вклинился в паузу ее речи с предложением остановиться. Мы съехали с хайвея к ресторации Ховарда Джонсона, где заодно заправились бензином. И снова, уже в сумерках, замелькали штатные дорожные щиты с указанием развилок, с рекламой бизнесов придорожного сервиса, с предупреждениями - сколько миль предстоит ехать до следующей зоны отдыха или бензоколонки.
Уже в Вирджинии, в темноте мы проскочили свой съезд, сделали разворот, снова нашли развилку и остановились, чтобы размять ноги.
Нарастающим шорохом в качающихся лучах фар проскакивали редкие автомобили. Душно пахло асфальтом и полевыми цветами; губы уже солонил ветер недалекой Атлантики. Цепочкой стояли южные, длинноиглые сосны; придорожные кусты поблескивали плотными глянцевыми листьями. В казавшихся вечностью паузах наваливалась черная влажная ночь с крупными звездами над пустым широким хайвеем.
Эмма закинула голову, глядя на дымное, вращающееся над нами звездное небо: - Я вижу эту сеть, что вяжет сама себя. Я вижу, ты слышишь, Маврик?
Местная дорога, точно как на данной нам схеме, сама собой вывела нас к гостинице "Божий Приют". 'Имеются вакансии' - значилось на ее газосветной рекламе из гнутых стеклянных трубок. Мы зашли внутрь.
В креслах сидели несколько недавних приезжих, вроде нас, ждали администратора. Мне сказали, что гостиницу держат два брата-евангелиста, и на этой неделе командует младший - Бастер Джуниор.
Внутри гостиницы мебель была обита розовым плюшем, обшитым по краям витым шелковым канатом с кистями. Крупноформатные мореного дуба прилавки и столы тускло блестели, тщательно промазанные минеральным маслом. Было сумрачно и сыровато, когда мы шли по изъеденным дощатым ступеням в свои номера. Пахло чем-то слащавым и тошнотворным.
- Не обстановка, а театральный реквизит, - заметила мне Эмма.
- Как за сценой в каком-нибудь провинциальном театре Драмы и Комедии. Разобравшись с формальностями, мы спустились в ресторан в первом этаже; вышли на террасу - туда, где толпились люди и плескались голоса.
Дамы были в широких светлых платьях с буфами и кринолинами, обмахивались веерами. Мужчины - в клетчатых брюках и белых сорочках. Кто с галстуком-бабочкой, кто в рубашке апаш по причине довольно спертого воздуха и жары, будто перед дождем. Не было ни кондиционера, ни даже вентилятора. Назойливая мошкара отчаянно ударялась в оконные сетки.
- ...Послушаем теперь господина из Петербурга; он прояснит нам диспозицию на завтра, - воскликнула стоящая у рояля крупная дама. - Затем, кто хочет продолжать играть в вист, можете оставаться - кому, как угодно. Мы с Милтоном, еще пять минут и готовы ретироваться...
- Где мы с тобой очутились? Что тут за Гоголь с Салтыковым-Щедриным?
- Нечему удивляться. Ты сама видела на рисунке Арпеда - Эммаус - это за углом от Петербурга, который, в свою очередь, в получасе езды от Ричмонда их здешней столицы. Вполне в американском вкусе называть свои заштатные захолустья Римами, Берлинами, Стокгольмами... Сколько здесь Петербургов?
Эмма потянула меня за рукав в коридор, подальше от благородного собрания, сказала: - Вот-вот появится господин городничий и выскочат Добчинский с Бобчинским...
- Сейчас же , из-за этого дерева, - добавил я.
- Из-за какого дерева, почему?
- Так Гоголь любил выражаться, по утверждению Вересаева:
- 'Сейчас, глядите, из-за этого дерева выпрыгнут гусельники...'
- Конечно, это - моя профессия... что-то припоминаю... Там же, что Гоголь мог восхищаться, скажем, своими новыми штиблетами. Любил хорошую обувь, держал перед глазами на тумбочке у кровати - алиллуйничал,
- Ах, мои верные башмаки! Совершенно тем же, кстати, одиозным тоном, как и про Русь, птицу-тройку. Помните наши школьные зубрения?
Мы отправились с Эммой попетлять перед сном по городскому центру странного города, которого мы еще не смогли обнаружить на карте. Что может быть загадочнее, чем так оказаться в незнакомой местности, тем более в ночи, как это было с нами, когда все делается стократ таинственнее и ты, как ребенок, приготовился к чудесам.
По углам -стоят пузатые бочки под железными обручами. Неярко светятся фонари, типа каретных, то ли специально изготовленные в старомодном стиле, то ли, что было вполне вероятно, переделанные из угольных или газовых на электрические. Блестит после дождя торцевая мостовая из кирпичей, уложенных зигзагом, в паркетную елочку. Хрустят под ногами раздавленные ракушки. Дома колониальной застройки Новой Англии, в своей дощатой обшивке похожи на старые корабли и шхуны. Даже под навесами террас кое-где покоятся щербатые перевернутые лодки. Всюду преобладет голубая окраска, возможно, изначально бывшая синей, но теперь, выбеленная временем и сильно облупленная.
Нам казалось, что дома, весь город, необитаем. Его жители давно ушли в плавание и никогда не вернутся. Напрасными маяками веры высятся островерхие церкви. Зачем их так много? Читаем вывески - Епископальная Старая, Новая..., Молельный Дом Баптистов, Адвентисты... Потом пошла зона Старого Города, улица Стряпчих, Дом Судьи...
Куда мы попали? Где современная Америка? Час назад мы свернули со скоростного хайвея со станциями Мобил и Эксон, с неоном и радарами. Сначала оказались в гоголевском уездном захолустье. В пыльном, потном, тряпичном, с жирными пальцами в курином соку, с экзальтированными голосами. Теперь, ночью в городе - захолустье бристольское, где одна лишь бесцветная пуританская тоска со смертным запахом дезинфекции и, то ли пролитого рома, то ли заупокойного ладана.
Еще только светало как нас разбудили громовые раскаты и крики. Сразу стало ясно, что это не начавшийся шторм, скорее, салют. Выглянули в окно по полю перед гостиницей тянулись войска. Ощетиненные мушкетами со штыками наизготове. Везли снаряжение и пушки. В небе, то здесь, то там, вспыхивали дымные облачка и уплывали с ветром. Над горизонтом сверкали магниевые зарницы. Толпа собралась на широком балконе, опоясывающем гостиницу. Нам тут же объяснили, где - конфедераты (серые) и где - юнионисты (голубые). Говорили, что конфедераты на этот раз им покажут. Сквозь завесу растущего грохота и разрозненных воплей иногда прорывался хор, исполняющий снова и снова патриотический гимн - Дикси.
Из-за всех этих взрывов, разрозненных хлопков-выстрелов, из-за свиста трудно было слышать, о чем говорят кругом собравшиеся наблюдатели.
За колонной нашего угла балкона, у двери посудомойного помещения кухни сцепились два черных подростка. Один наступал: - Мен, ты библию читал? Ах, не читал! Тогда заткнись, ты желтый чикен-цыплак...
- Ага, теперь, говоришь, читал. Ну и что ты читал? И про то, как черный дым землю закроет? И про...? Не верю, что ты читал ПРО ЭТО??? ... Значит, ПЛОХО читал. Все равно ты - стинкер вонючий...
Вдруг, Эмма схватила меня за плечо, указывая недалеко вниз - туда, где в группе солдат Федеральной Армии северян, тянувших орудие, шел красавец-гренадер, белозубо смеялся, глядя в нашу сторону, манипулировал пушечным шомполом, как парадный тамбур-мажор.
- Арпед. Тот, о котором я говорила. ... Куда они?
- Идет окружение Эммауса; это - ключевой пункт для захвата Петербурга, - пояснил какой-то мистер Пиквик, всезнайка, в канареечном клетчатом сюртуке. - Отсюда всего не увидеть; события разворачиваются у старых арахисных складов, к югу от реки старика Джима...
- Какого-такого Джима? - Я так и подпрыгнул, услышав имя моего покойного соседа.
- Там, за холмами протекает знаменитая Джеймс- ривер...
Воодушевленная Эмма тащила меня вниз, пройти дальше за площадь, где торговые лавки. Правда, повсюду были заслоны, толпы народа; мы куда-то пробирались, петляли, оказывались снова по соседству с нашей гостиницей, только с обратной ее стороны. Эмма пела Янки-дудл; на нее косо поглядывали, шикали или отвечали пением - Дикси-дикси... еще более громкими голосами. Подавляющее большинство зрителей стояло на стороне южан. Кругом Вирджиния; это понятно. Сторонников федералистов было по пальцам пересчитать, похоже, почти все они собрались в нашем "Божьем Приюте". Только здесь конфедератов прямо называли смутьянами и повстанцами. Но даже здесь, когда южане брали верх, по силе
восторженных воплей было слышно насколько сильнее их поддержка
над головами тут же взлетали синекрестные флажки Южной Конфедерации. Дым висел слоями; но мы не замечали ни дыма, ни времени. Военные действия шли с переменным успехом.
Как говорится, когда уже дым рассеялся; выстрелы прекратились и день склонялся к вечеру, было объявлено через рупоры, что Эммаус пал.
Но дорогой ценой.
К центру города шла похоронная процессия с мерно бухающим в литавры оркестром. Солдаты шли без головных уборов. Везли телеги с убитыми; они лежали штабелями, один на другом. За телегами шли, голосили заплаканные женщины в черном крепе. Потом наступило гробовое молчание.
Задом наперед покатили длинноствольную пушку - эдакий дик-хуй на колесиках, содрогаясь,ехал по грубой булыжной дороге в сопровождении скорбных рядов пехотинцев. Таким откровенным было анатомическое подобие перевернутого орудия, что, не кривя душой, по другому не скажешь. На лафетев цветах, в красном гробу лежал красавец Арпед Ларедо. Люди шептались: Какая геройская смерть! Глядите - убит наповал капитан артиллерийской батареи US-One. Он, и никто другой, сломал оборону Эммауса.
Вскоре все разошлись. Опять - пустой город. Гостиница опустела. Эмма закрылась одна в своем номере, сославшись на сильную головную
Боль. Просила ее не беспокоить; сказала, что будет паковать чемоданы.
Утром, издалека, от лагеря островерхих палаток доносился рожок 'бьюгла', солдатской побудки. Я спустился пить кофе. В полупустом ресторанном зале обнаружил Эмму. В черном платье она сидела с Бастером Джуниором, совла-дельцем "Божьего Приюта". Во дворе гостиницы стояли полные людей туравтобусы с включенными моторами, готовые к отправке. Водитель, чертыхаясь, старался прихлопнуть дверцу нижнего багажного отсека. Отчаливали Мерседесы и Волво; за рулем сидели люди в униформах участников Гражданской войны. Бастер рассказывал Эмме, что почти каждый год в их окрестности, не всегда, но довольно часто, происходит 'реэнакция' - очередное воспроизведение сражений войны Севера и Юга.
В частности, воспроизводится один из эпизодов исторической осады Петербурга. Солдаты -- совсем не актеры, не какие-нибудь нанятые за деньги статисты; они, убежденные, влюбленные в свое дело люди, знающие регалии Гражданской войны до мелочей, до последнего ментика, до каждой лычки на офицерском рукаве.
В дверях стоял полураздетый пехотинец и два вчерашних негритенка. Они задирали штанины, мерялись с ним -- у кого больше комариных укусов.
- Взрослые люди, - восторженно говорил Бастер-Джуниор, - превращаются в совершенных детей. Сутками валяются в грязи, в окопных ямах, гордятся царапинами и ушибами. 'У нас, в Америке никогда не будет ничего интереснее Гражданской войны', - так, кажется, выразилась мадам Гертруда Стайн.
Я упомянул Бастеру о нашей гражданской войне, о российских увлечениях, перевел, как мог, соответствующие теме стихи о горячем желании пасть 'на той, на самой первой, на гражданской, чтоб коммиссары в пыльных шлемах склонились молча над тобой.'
- Коммиссары выиграли? - уточнил Бастер.
- Да, сначала победили красные. Теперь снова белые. Войны, особенно гражданские не кончаются никогда. Происходят, наверное, затишья и 'рекомбинации', - сказал я, вспомнив наше любимое с Мавродием слово.
- Кто это сказал?
- Не знаю. Думаю, кто-нибудь да сказал. Все было сказано.
- Окей, под этим я подпишусь, - заметил Бастер и хлопнул меня по плечу.
- Спрашиваете, кто такой из себя капитан? О, Арпед, он - находка, уникум, один из лучших. Не скажете по его виду, что это наш обычный средний американец, житель северного Нью-Джерси... Хороший, говорят, механик по отопительным установкам: газовые трубы, масляные баки, то да се. Рекомендую, если вам надо...
И Бастер назвал город в Нью-Джерси, следующий непосредственно за нашим.
Мы ехали по тому же хайвею назад; знакомая дорога домой кажется заметно короче. Мы опять обсуждали вопросы привидений и иллюзионизма; приходили к мысли, что, поскольку все так или иначе кончается идеями в голове, не так уж важно, что вызывает эффект - искусная постановка или реальность. Не говоря уже о том, что еще неизвестно - что за обман зрения представляет собой на самом деле эта пресловутая 'реальность'.
Я вспомнил нью-йоркский памятник герою Атланты - Вильяму Текумсею Шерману - золотому, верхом на золотом коне. Я как-то раз понял в один прекрасный солнечный день поразившую меня истину, что - тень от монумента точно такая же 'настоящая' - как если бы сам живой генерал сидел на настоящем коне!
Я помог занести чемоданы к соседнему Эмминому дому пока она разбирала накопившуюся почту. Из писем она выхватила один плотный конверт во многих печатях и почтовых исправлениях для пересыланий. Она читала, перечитывала, шевеля губами, потом протянула мне.
Это было письмо из Монтевидео, подписанное Мавродием. В конце письма, где была нарисована мышка Минни Маус, следовали приветы -скучаю и все такое... Почтовые штемпели и коррективы на конверте свидетельствовали о исходной отправке письма из Монтевидео, куда Мавродий действительно собирался, но, насколько мне было известно так и не поехал.
Недалеко от нас, на драйвее, стоял с велосипедом Эммин сын - Бобби. Он попросил посмотреть на нарисованного Минни Мауса.
- Откуда ты знаешь? - поразился я. Про такие интимные детали я ничего не рассказывал Бобби в тот день на гамаке, когда я набрасывал свой первый, приблизительный вариант истории, еще сам не уверенный,- буду ли я ее писать.
Бобби не удостоил меня ответом. Он оседлал велосипед и уехал кататься. Эмма извинялась за его поведение; стала вспоминать про всемирную сеть, сказала, что Бобби - как-никак сын Мавродия и это есть знак того, что и он...
Я поспешил записать настоящую историю, как она есть, опасаясь, что получаемые мной знаки, что ни день новые, запутают меня окончательно -так, что придется оставить тему. Так, например, на днях одна из наших знакомых, кокетка и взбалмошная поэтесса призналась мне вдруг, что Мавродий определенно погуливал от жены.
- Чем же он хуже нашего президента? -отшучивался я.
- Про Клинтона сказать не берусь; чего не знаю, не знаю, - мелко засмеялась она. - Только Мавродий наш был всем хорош, наш всадник-наездник, гусар-молодец...
Эмма, после всех вышеописанных событий чудесно преобразилась, как преображается женщина только в расцвете своего нового романа. Она поистине заболела гражданской войной между Севером и Югом; стала шить себе сарафаны по фасонам тех лет, мастерить пелерины, наколки сестер-милосердия... Так распорядилась судьба. На моих глазах судьба сплетала вокруг нее сеть и окружение оказалось роковым. Может быть "Эммаус" - есть лишь вымышленное укрепление в знаменитой осаде Петербурга времен конца Гражданской войны, но сама Эмма - человек живой, из плоти и крови. Она встречается с механиком из соседнего городка и по секрету призналась, что они собираются пожениться; что теперь они вместе примут участие в следующем, еще более грандиозном Вирджинском сражении на реке Джима.
1998

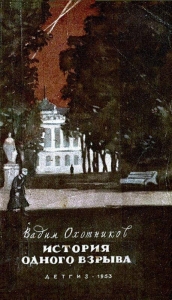




Комментарии к книге «Роковое окружение Эммауса», Борис Письменный
Всего 0 комментариев